Кленовый лист
Перевод с украинского Овсянниковой Любови Борисовны.
Иван Ле КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ 1
«Расти, расти, клен-дерево...» — пели матери, качая младенцев на сон. Пела ее и старая Дорошенчиха в Новоселках. Петь эту колыбельную ей было тем приятнее, что ее невестка, этот душистый, хоть и запоздалый цветок в жизни сына-генерала, в девичестве была Марией Кленовый. С легкой руки Дорошенчихи ребенка и прозвали Кленовым листом...
Замечательный май 1941 года. Благотворное тепло солнца в это время одинаково воспринимали, благословляя природу, и в Новоселках на Полтавщине, и в одном приграничном городке, название которого пусть будет спрятано от будущих поколений из уважения к военным тайнам, которые способствуют защите Отечества.
Еще не наступил день с его заботами, но уже кончилось утро. Даже по оврагам растаяли туманы, и в небе небольшие облака как-то стыдливо торопились к горизонту, чтобы очистить свод небес для мощного хозяина — для живительного пылающего солнца.
Генерал-майор Андрей Дорошенко вышел на балкон-веранду одноэтажного дома и залюбовался теми облаками. Естественно казалось, что генерал чувствовал себя настолько молодым, чтобы иметь право увлекаться поэзией природы, на минуту выбросив из головы сложные заботы военного пограничья. Не случайно и то, что в руках генерала была эмблема той запоздалой его молодой радости — широкий кленовый лист.
Высокий и статный, он не только чувствовал себя молодым, но и на вид для стороннего ока был еще совсем молодой как для генерала. На чисто выбритом лице не было ни одной морщины, и глаза играли живыми цветами, даже если и были повиты, как и небо в то утро, облаками раздумий, тревоги и печали.
Но молодость Андрея Дорошенко досрочно изведала капризное вмешательство седины. Она настойчиво засевала свой обильный посев в его роскошную чернявую шевелюру. Молодость, не измеряющая брода, не страшащаяся неизвестного и будущее оценивающая только с точки зрения его целесообразности, им безвозвратно пройдена. Андрей Дорошенко уже знал, что век человека имеет свои пределы и бесполезно потерянный хотя бы один из его красочного ожерелья день считал преступлением...
В руках, кроме кленового, он держал еще и другой, смятый лист. Держал как гремучую змею, зажал как врага, скомкав в кулаке, словно боялся, что он ненароком выпадет из рук и натворит горьких хлопот.
Когда открылась дверь за спиной, генерал не пошевелился. Провожая глазами облака, несущиеся по небу, с неописуемым усилием выдохнул:
— Ну? — словно продолжал старую, незаконченную мысль или незавершенный разговор.
Штабной офицер выпалил:
— Сведения подтвердились, товарищ генерал-майор.
Тогда Дорошенко, словно очнувшийся от забвения, не в меру стремительно повернулся к офицеру. Тот даже смутился, отстраняясь.
— Она?.. — не спрашивал, а подсказывал генерал, чтобы офицер скорее выложил все, что ему известно. Кленовый лист выскользнул из рук и круто упал под ноги.
— Она сосредотачивается у границы, как раз напротив войск нашей дивизии...
— Кто сосредотачивается, товарищ майор? — наклоняясь за листком, спросил Дорошенко. — Я спрашиваю не об армии, а о... — генерал благоговейно взял сиротливо упавший под ноги листок.
— Ах, вы о ней... Прошу простить, товарищ генерал-майор. Я говорю о шестой немецкой армии. Сведения разведки подтвердились окончательно. Фашисты готовятся к нападению. Вот ознакомьтесь сами. — Майор не торопясь развернул папку, чтобы передать генералу материалы разведки. — Мария Иосифовна, товарищ генерал, снова пришла. На этот раз категорически настаивает на разговоре с вами.
— Зовите! И... вы понимаете, что во время таких разговоров ваш командующий не нуждается в свидетелях.
— Есть, товарищ генерал-майор.
О мирном характере разговора нечего было и думать. Хотя прекрасные голубые глаза молодой женщины были сухие, мокрый, скомканный платок в руках свидетельствовал о том, что она плакала еще до разговора и, пожалуй, несколькими приступами.
Широкополая летняя шляпа положила тень на ее лицо, как будто разделила его: на сухие, воспаленные, большие, немного испуганные глаза с поднятыми ресницами и игривую, майским солнцем омытую ямочку на правой щеке.
Она держала в руках мокрый платок, мяла его, терзала, чтобы не выдавать дрожанием рук своего волнения.
— Я сказала все, что знаю. Мне нечего больше добавить. Но, в конце концов, пусть бы я была действительно немецкого происхождения. Только же происхождения, Андрей... Андрей Тихонович. Происхождение, которого я не знаю, не помню. Что из этого?
И все-таки закусила кромку платка мелкими белыми порфировыми зубами. Длинные черные ресницы невольно опустились вниз. Затем снова раскрылись, и на них радугой заискрились росинки.
— Что из этого, спрашиваете вы снова и снова? — генерал не скрывал своего волнения. — Из этого, конечно, я не делаю никакого жупела, чтобы пугаться, как воробей над конопляником. Но почему бы вам, Мария... Иосифовна, было не рассказать об этом еще до нашего брака? Ведь я имел возможность... Да что там... Я имел удовольствие, если хотите, счастье слушать, как искренне звучат слова из ваших уст, черт побери. Немка вы так немка... Любовь, знаете, дорогая моя... — генерал снова отвернулся к солнцу, облака исчезли совсем, и небо манило прозрачностью. — Любовь — это целый комплекс чувств, в том числе и патриотических. А Андрей не просто гражданин этой великой страны, он генерал ее войск! Он охраняет ее границы, за которыми сосредотачиваются немецко-фашистские войска!
Женщина все еще не выпускала из мелких порфировых зубов мокрый платок. И генерал не мог не чувствовать, что творится за этим жестом, если он — о горе! — если этот жест искренний...
— Да, генерал, командующий человеческими жизнями, которым угрожают вражеские танки. Вы должны понимать, что когда в этом комплексе чувств хоть один элемент по какой-то причине теряет свой цвет эмоций... то и весь комплекс... (что я плету? — укоряла глубокая совесть) да, весь комплекс теряет свою гармоничность. Гармонию любви портит фальшивый отголосок, затрагивающий еще и чувство патриотизма.
— Ради бога, не трудитесь такой мудростью доказывать мне, что нашей любви мешает мое происхождение. Собственно, и не оно, а какое-то роковое стечение обстоятельств... — прервала Мария нервную, осложненную философией речь генерала. Рукой поправила под шляпой золотистую косу.
— Да, мешает. Собственно, и не любви — это вопросы более глубокие, — а нашему брачному сожительству. — Кленовый лист лежал скомканный под ногами генерала. — Поэтому я и настаиваю, Мария Иосифовна, на немедленном разводе... прошу отдать мне нашу дочь Нину.
— Ни за что! Ты сошел с ума, Андрей...
— Вы еще совсем молодая и очень... красивая, Мария Иосифовна.
— Нет, говорю вам! — спокойнее и уже увереннее повторила женщина, не сводя с помятого листа испуганного взгляда больших круглых глаз, вновь мокрых от слез.
— Я привык, чтобы меня выслушали до конца и понимали, прежде чем так трагически протестовать, — чуть повысив голос, но с той же интонацией искренности сказал генерал. — Это анонимное письмо, которое, в конце концов, положит конец нашим отношениям, наверное именно на то и рассчитано, чтобы мы расстались навсегда. Я нисколько не жалею, что мы встретились, поженились и родили такое золотое дитя, Ниночку. Но...
— ...немку своей женой иметь не хочу... — с нотками сарказма закончила фразу женщина. — Но Ниночку я вам не отдам, товарищ командующий человеческими жизнями. Я мать Ниночки и не позволю вам командовать мной, пренебрегая самыми святыми чувствами моего сердца.
Генерал поймал себя на том, что нервничает, и попытался успокоиться. Держась в рамках приличий, он пытался доказать Марии Иосифовне, что для них обоих было бы лучше именно так — прервать многолетнее сожительство.
Ведь как бы она ни поворачивала его фразу, он же командует пограничным военным соединением. Ему государство доверило безопасность в таком сильно уязвимом месте. И вдруг эта безупречная женщина, мать его ребенка, оказывается сомнительной гражданкой... Она — немка... А некоторые немцы танки выстраивают на границе. Может, и на помощь генеральской жены рассчитывают. Спортсменка, дипломированный пловец и обладатель первой категории из военизированных учений Осоавиахима... Неужели вражеская разведка так ловко женила его на своем тренированном не только в спорте, но и в военных делах агенте? Ужас...
После этого, пусть и анонимного, письма генерал еще острее воспринимал малейшие намеки на угрозу войны, возникающей из вполне понятного поведения фашистско-немецких генералов на границе.
И именно теперь, когда Андрею Дорошенко стали известны недвусмысленные маневры фашистских танковых частей на советской границе в пределах подчиненной ему области, его все больше охватывали сомнения и подозрения.
Доведенный настойчивостью и слезами жены до предела нервотрепки, генерал искал возможность прекратить разговор. У него нет времени. Может, отложить где-то на день, другой...
В конце концов, надо подождать до полного выяснения коренной причины их разрыва.
— И как бы там ни было, время смутное, международная обстановка очень сложная, возможен взрыв — война с фашистами. Я должен забрать Ниночку.
Женщина встрепенулась, словно ее пробил электрический ток. Но не раскрыла сжатые губы, не произнесла ни слова.
Ведь без слов было понятно, что решения своего она не изменит. Женщина все время стояла на одном месте. Солнце поднялось выше, и игривая ямочка теперь скрылась в густой тени широкополой шляпы. Высоко поднималась грудь, время от времени срывались безнадежные вздохи.
Слушала ли она Андрея Тихоновича, копаясь свободной рукой в складке легкого летнего платья? Но абсолютно точно не видела, потому что слишком далеко по степным гонам и мечтательным теням бродил ее встревоженный взгляд. Ее Андрей так безжалостно топтал ногами эмблему их любви — широкий кленовый лист...
Ниночке исполнилось всего четыре года. Ребенок еще не мог понять страшного для него события — окончательного разрыва родителей. Несколько последних дней девочка нервничала, не приходил «отец Андрюша», не ласкал ее сильными руками, не называл Кленовым листом, не возил в лес в автомашине. Бывало, сидит без шапки, напряженный, за рулем, смотрит в пространство, а самую дорогую улыбку дарит ей. Машина открыта, ветер теребит его волосы, играет в шелковом, уже посеребренном руне.
Девочка что ни день, то ярче представляет себе эти путешествия и тем острее чувствует отсутствие отца.
Андрей Дорошенко и не собирался держать дочь при себе. Вопреки официальным данным он не сомневался, что война с гитлеровцами неизбежна. Речь шла только о времени, месяцах или, может, даже неделях отсрочки.
Думал Ниночку отправить на Полтавщину в Новоселки, к своей матери. Там ребенок должен был расти и воспитываться. О воспитании не беспокоился. Его мать, уже немолодая женщина, в прошлом году еще работала в колхозе звеньевой. Никто не мог упрекнуть ее за недостаточное прилежание в работе. В пятьдесят шесть лет Наталья Дорошенко поступила в ряды Коммунистической партии.
Андрей — единственный ее сын. Женщина закаливала одиночество трудом. Как только узнала о сближении: сына с Кленовой, настойчиво советовала, даже просила ускорить оформление брака. С невесткой впервые увиделась, когда той так была нужна помощь пожилой женщины. Андрей Тихонович, не спрашивая Марию, сам вызвал мать и привел ее на ту, еще девичью квартиру своей жены.
«Новоселки не такая уж глушь, — как-то писала мать в письме к сыну. — Здесь можно создать теплый уют для молодой женщины. Или работала бы где-то — ребенок имел бы уход. У нас две школы — начальная и средняя. Интеллигенции той полно. Одних учителей около трех десятков. А агрономы! Есть и у нас люди, пусть непременно приезжает с Ниночкой! Что ей с маленьким ребенком там делать? Могла бы и в госте к тебе ездить, роднее будет, конечно! А тут и кино каждый день есть... Потому что, говорят, такое творится на свете. А ты генерал...»
Так уговаривала мать Андрея Дорошенко. И он был уверен, что мать так же с дорогой душой примет теперь и саму Ниночку, его дитя, его взлелеянную мечтами любовь. Но одобрит ли их такой внезапный разрыв?
А как нужно было ему решить эту сложную проблему! Марию, значит, надо принудительно высылать из пограничья. Куда, с какими документами?
В анонимном письме не сказано, что Мария Кленова, будучи немкой по происхождению, как-то связана с Германией. Ни на родню, ни на другие связи в письме не было ни единого намека. Это успокаивало, если можно было назвать спокойствием обычное самоубеждение, что мать его любимого ребенка не замарана позорными намеками на шпионаж. Но само появление такого письма заставляло предположить самое худшее.
А что если Мария Кленова действительно виновата в загадочном исчезновении того пакета с мобилизационными документами командования округа и затем таком чудодейственном их «обнаружении» через тридцать часов лихорадочного потрясения в штабе?..
С очень большим трудом генералу удалось тогда доказать, что его жена к тому не причастна, ибо она ничего не могла знать о пакете, да и в штабе в те дни не была. А она ведь все-таки была... И не такая уж она наивная в международной политике. Что проявляла себя советской, искренней союзницей генерала — это могло быть только ловкой маскировкой.
Генерал не знал, радоваться или печалиться от того, что это анонимное письмо не пришло в то трудное время. Скрывающийся информатор знает слишком много, но не все. Он точно выписал цитаты из документов, которые можно будет проверить. Генерал и начал эту проверку. Поэтому и думал, что майор сообщал ему о результатах проверки.
В письме сообщалось, что бездомная Мария Иосифовна Кленова внебрачная и носит фамилию своей матери, судьба которой «пока что» не выяснена. «Мария Иосифовна Кленова, — гласила дальше зловещая анонимка — дочь немецкого гражданина, который находился на советской земле несколько лет, имея на то какие-то наскоро испеченные права». О моральном же праве... Какое там право, когда «наверное же, был агентом немецкой разведки...»
Анонимный информатор разбирался в законах этики и такта и хотя довольно уверенно, но вместе с тем скупо сообщал даты, когда появился немец в Советском Союзе и сколько прожил. Вместе с ним жила двухлетняя дочь без матери. В письме за выразительными точками и кавычками были также экономно выписаны отрывки из копии решения какой-то коллегии Ревтрибунала. Немец Жозеф Бердгавер жил в Советском Союзе, видимо, без всякого паспорта. Может, был каким-то политэмигрантом, а может, — ловко подброшенным немецким разведчиком. Последнее предположение можно подтвердить несколькими прозрачными намеками из писем немецкой разведки, оригиналы которых есть на руках у автора этого предупредительного письма. К тому же Бердгавер впоследствии удрал, избежав советского правосудия. Но заочно, наверное, был приговорен к высшей мере. Есть сведения, что после него осталась девочка, которая хорошо знала только свое имя и имя матери, советской гражданки, исчезнувшей неизвестно куда...
Все это звучало так реально, так как полностью перекликалось с детской биографией Марии Иосифовны Кленовой, и Дорошенко не мог дальше убеждать себя, что анонимка — это провокация. Было невероятно больно. Анонимка отравила ему жизнь.
Хотелось противопоставить этому всему свою советскую искренность, свою молодецкую грудь, широкие плечи и закаленные в боях военные знания и несгибаемую волю. А сознание тормозило на все тормоза, советовало осторожность и вдумчивость.
Для уверенности, чтобы как-то облегчить боль глубокой раны, нанесенной коварным врагом, генерал начал выяснять истину, разослал бумаги, запросы. А в глубине души чувствовал, что исправить это личное горе он уже не сможет. Слишком глубоко достал вражеский удар.
Немногие немцы на границе знали о решении гитлеровского рейха напасть на Советский Союз. Но верховное командование рейха не имело никаких сомнений, что война — неизбежна. Большое Советское государство непроходимой стеной стояло на пути к осуществлению завоевательных планов Гитлера.
— Не будем уточнять, герр Безрух, все это мне известно, — обдумано отвечал генерал на одном из рискованных свиданий с резидентом. — Задание есть задание, и его надо выполнять.
Адам Безрух выполнял, старался всего себя вложить в то страшное задание гитлеровских генералов. Козни и провокации — все было на вооружении. Но в штабах и канцеляриях Гитлера за закрытыми дверями разрабатывались другие, более действенные планы.
Безруха никто не предупреждал об этом, и он безупречно разрабатывал план выполнения своего задания. В приграничном городке, в каких-то восьми километрах от линии границы, он устроился бригадиром-дорожником. Никто не мог бы сказать, что он бездельник или добросовестный бригадир. В партийной ячейке лежало его заявление: Безрух готовился поступить в Коммунистическую партию.
Жил он на краю леса при трассе, у дорожного участка. Мимо дома, в котором жила Мария Иосифовна с дочерью, проходил много раз. Но никто никогда не видел, чтобы он слонялся без дела. Безрух всегда появлялся с бригадой дорожников, давал указания и отправлялся на другие участки дороги, где его присутствие и знания тоже были очень нужны.
В то утро Мария как-то поспешила выпустить девочку погулять, потому что снова собиралась навестить Андрея и таки покончить с этим делом. После вчерашнего разговора с ним в штабе она всю ночь не спала, но чувствовала, что Андрей все же не чужой ей.
Возилась по дому, готовила ребенку второй завтрак, потому что Дарья Максимовна еще со вчерашнего дня пошла где-то к родственникам на тот дальний край села. Условия ночных пропусков на этом пограничье в последнее время слишком усложнились, женщина там и заночевала.
— Нинуся! — крикнула с порога, как всегда делала. — Ниночка-а!
И не почувствовала какой-то тревоги от того, что ребенок не отозвалась сразу же. Шагнула за ворота, посмотрела из-под руки вдоль улицы в город, где гуляла детвора. Кричать — не услышат, лучше подойти и забрать дочь.
Шла, а мыслями снова была в той же комнате, в которой еще вчера так ни к чему и не договорилась с Андреем.
— Вы Ниночку ищете, тетя?
У нее екнуло что-то под грудью от этого детского вопроса.
— А она... поехала к отцу, к генералу Андрею Тихоновичу, — в несколько голосов сообщили дети.
Дорожная автомашина не была новостью на этих пограничных лесных дорогах. К тому же она ничем не отличалась от других, даже военных машин. Особенно по мнению детей, которые в это утро видели ее с генеральской Ниночкой на сиденье рядом с водителем.
Разве впервой им видеть счастливого от удовольствия генеральского ребенка в авто? Кто из водителей штабных машин не подвозил маленькую забавную генеральскую дочь? Не только дети, но и женщины-соседки, которые знали генеральшу, не сомневались, что Ниночку подвозил водитель какой-то штабной автомашины не только с разрешения, но и по приказу самого генерала.
Только Мария Иосифовна думала иначе. Она расценила это как кражу отцом своей дочери после неудачи по-доброму договориться с женой об отправке Ниночки к бабушке.
Грузовое авто дорожников с невероятной скоростью пронеслось лесом, поворачивая на какие-то просеки, выкручиваясь между вековыми деревьями. Такая езда увлекла ребенка. Машина вдруг остановилась где-то на краю леса, не выезжая из чащи.
— А где же папа, он охотится? — спросила девочка у шофера. Водитель хоть и остановил авто, но не выходил из него, выжидающе глядя вокруг.
— Папа будет там, Ниночка, — кивнул вперед. — Вон тот дядя поведет... на охоту.
— К папе? — допытывалась с детской настойчивостью.
Водитель не ответил, выскочил из авто.
— Чего же возиться? Я должен уже быть на базе. Забирайте, — обратился к мастеру Безруху, торопливо вышедшему из просеки.
— Успеем. А как она? — выразительно кивнул на девочку.
— К отцу торопится.
— Успеет на торг... Значит, так, Вадим: поставишь машину, а сам приходи. Тебя ждут.
— Может, посоветоваться сначала? Работаю же без замечаний... — выразил свои сомнения водитель.
— Все равно пропадешь. Забыл, чей ты сын, где отец? Две судимости у отца, чужой паспорт уже в кармане. Думаешь, не докопаются? Обязательно приходи...
Водитель нетерпеливо отмахнулся.
— Забирайте. Смотреть не могу, оно же верит нам...
Безрух воровато оглянулся, потрогал карман, где лежало оружие. Если бы не авто, которое очень нужно было отвести на участок, чтобы замести следы, он значительно проще договорился бы с этим водителем.
— Ладно, ладно, — сдерживая себя, почти спокойно сказал мастер и открыл дверцу машины. — Скажешь генералу, что мы с Ниночкой лодкой приедем на рыбалку.
— Скажете, дядя? — допытывалась девчушка, держась за руку Безруха.
Почти в тот момент авто заревело и, круто развернувшись между деревьями, быстро исчезло в чаще. Девочка еще несколько раз оглянулась на удаленный гул, но «дядя» спешил и тянул ее за ручку прочь между зарослями кустарника.
И на следующий день было такое же июньское утро. Генерал Дорошенко ночевал при штабе. В раннюю пору вышел на веранду подышать свежим воздухом перед началом ежедневного выслушивания информаций и рапортов военных начальников его соединения.
На этот раз еще держались по долине легкие туманы, воздух молчал, словно перед бурей. Генерал спустился по лестнице в небольшой сад, сорвал и пожевал вишневый свежий лист. Терпкий и горьковатый привкус заставил вздрогнуть всем телом. Оглянулся на стук.
Его адъютант соскочил прямо с балкона веранды и взволнованным голосом торопливо сообщил:
— По вашему приказанию я не пустил в штаб Марию Иосифовну. Она оскорбляла вас словами.
— Как именно? — резко перебил генерал.
— Из дому... исчезла ваша дочь, товарищ генерал.
— Что-о?! Исчезла Ниночка? — генерал грозно шагнул к адъютанту. Но тот стоял неподвижно и четко информировал дальше:
— Так точно, товарищ генерал. Мария Иосифовна обвиняет в этом вас и на правах матери требует вернуть девчушку. Пошла в особый отдел к полковому комиссару Дмитриеву.
— Машину! — велел мужественным, как всегда, уверенным и спокойным голосом.
В ту же минуту он покинул штаб. В голове молнией пронеслись мысли, обрывки воспоминаний о пяти лет такой трагической своим финалом, но искренней и красивой любви!
Полез рукой в карман, ища неизвестно чего. Может, анонимное письмо, чтобы порвать его, чтобы плюнуть в лицо тому злому информатору, выразив свое отношение к его тщательно выписанным кавычкам с точками, к его гнусным «фактам»? Почему это письмо написано именно сейчас... Что же это такое?..
Война!
Да, война! И ты, генерал Советской Армии, коварно атакован с тыла, в личной жизни. Враг уже начал свое наступление, деморализуя командующего, чтобы впоследствии пустить и танки...
Андрей Тихонович, сидя в авто, мчащее его в особый отдел частей, осмотрительно оглянулся. Может, хотел проверить, не подслушал ли кто мысли встревоженного человека в генеральском кителе.
Эта внезапная весть очень смутила его. Конечно же, он погорячился с тем разводом, не разобравшись, рубил узы семейного счастья. Исчезла дочь — это недоразумение. Спокойствие и рассудительность! Горе, разделенное на двоих, — только полгоря.
Бросить все силы, чтобы немедленно разыскать Ниночку! Игла это, что ли! Даже под землей найдет. Неужели начали с генерала, чтобы нарушить его равновесие в личной жизни... Но войска под его руководством все равно защитят тысячи жизней, если на границе действительно зашевелятся те фашистские танки...
Но эти муки и угрозы нервно возбужденного ума были приглушены, охлаждены мраморным спокойствием Марии. От ее отчуждения в глазах Дорошенко вдруг стало жутко.
— Вы забрали мою молодость, а теперь похитили еще и ребенка, убиваете душу человека, так неразумно полюбившего вас в свои восемнадцать лет! У меня не было детства, искала человека, а нашла... зверя! Отдайте мне дочь, я мать! — истерически зарыдала, утопив в слезах последние надежды и ожидания.
И не в первый раз в жизни Андрей Дорошенко на мгновение почти по-настоящему растерялся. Неужели Мария верит, что он способен на такое коварство?
Растерянность, как морская волна, болтнула, ошеломила. Но и освежила! Жена держится из последних сил, вот-вот потеряет сознание... В следующее мгновение генерал приказал адъютанту вызвать врача, а сам, не теряя времени, направился в кабинет полкового комиссара Дмитриева...
Оскорбленная Мария Кленовая в эту острейшую минуту отчаяния и горя не приняла дружеской руки, искренне протянутой Андреем Дорошенко. А через несколько часов после этого горького разторжения брака война застала их уже врагами.
2
На юге Советского Союза, в живописной местности приморья, жил полной жизнью пионерский лагерь. Морской берег здесь имел живописные кручи, отдельные грозные скалы были подмыты морской волной. С тех скал облаками взлетали птицы при малейшем приближении опасности и снова методично покрывали их, когда опасность оставалась позади. Были здесь и романтические заливы со спокойной гладью, которую крупные морские волны ритмично поднимали и опускали. А за утесами, где густой лес медленно поднимался и вдалеке переходил на крутой подъем горы, стелилась коса с прекрасным золотым пляжем.
Ежедневно, где-то после восьми часов, сюда на косу собирались пионеры и начиналось утреннее купание. Загоревшие юношеские тела занимали часть пляжа до самой кручи. Девушки наслаждались на ближайшей половине пляжа. Но мальчишки, пробившись через скалы из залива и распугав птиц, всегда шли к своему пути вблизи девушек.
Были ли девушки недовольны таким грубым нарушением лагерных порядков? Во всяком случае они выражали ребятам, таким узловато сильным, обнаглевшим, свое возмущение. И их протест всегда выливался в веселый гам, в девичий звенящий смех и приятные юношескому сердцу словесные состязания.
Иногда бывало и такое, когда в том шуме протеста, в брызгании водой зарождались, как цвет подснежника, первые ростки дружбы. И казалось ребятам, по крайней мере, мечтали они и видели во снах то, как каждый из них спасает в волнах моря или в бурях жизни свою юную подругу.
Долго с обоих пляжей неслись навстречу возгласы, иногда и ругательные, но духу юношескому такие нужные, легким такие полезные, будущему дорогие, как воспоминания о первых подснежниках.
Группами лежали в песке, жарились на солнце и вспоминали экскурсии в горы, спорили о природе того или иного камешка.
Роман, непоседливый строитель и «хулиган», как прозвали его в лагере, закрыв на минуту глаза, мечтал о том, как бы он спасал Любу Запорожец в непроходимых чащах лесов от нападения зверя или от разбойников, от страшных горных гроз. А когда юноша представлял, что опасность Любке Запорожец грозит в волнах бушующего моря, он с досадой открывал глаза. На весь лагерь Роман Гордейчук хуже всех плавал!
Зато Ваня Туляков занял первое место по плаванию. Свое искусство плавания он постоянно совершенствовал, мечтая о всесоюзных, а может, и международных рекордах. Так, как воду и плавание, любил он разве что музыку. За время пребывания в лагере на досуге смастерил себе балалайку и охотно играл на вечерах самодеятельности.
На пляже он в основном лежал одиноко. Но иногда любил пошутить, покувыркаться с товарищами. Коренастая фигура, сила и ловкость, необычные для пятнадцатилетнего парня, сделали его непобедимым. И каждый из мальчишек, на кого падал выбор Вани пошутить, считал это за высокую честь, хотя по возможности старался избежать ее.
Друзья Вани угодливо передавали, что девушки восхищаются его плаванием. Но Ваня каждый раз, когда начиналась такой разговор, грубо обрывал его, или молча уходил и одиноко ложился на песок.
Все ребята считали Ваню взрослым и завидовали ему. Он один на весь лагерь имел фотографию какой-то девочки с высоким лбом и шелковистыми волосами, с игривыми бантами на толстых коротких косичках. Девушка улыбалась ему с той фотографии дразнящей улыбкой. Ваня отвечал ей тем же и раз в неделю отсылал девушке открытку с видами Крымского побережья.
Кстати, уже пора упомянуть еще о двух близких друзьях в лагере — Олеге Павлюке и Юре Бахтадзе. Случай свел их в первый день прибытия в лагерь — их кровати стояли рядом.
Характер Олега питал эту дружбу, как питает животворный ручей роскошные каштаны на скалистых грунтах. Мечтательно погруженный в приключения своего неизвестного будущего, он нашел в лице Юры сочувствующего слушателя и сообщника. Юра у себя в Тбилиси был признанным лучшим среди школьников радиолюбителем — знатоком законов устройства приемников. Из нескольких кусков изолированного провода, обломков школьных магнитов и из картона Юра умудрялся конструировать «так называемый приемник», как он сам называл свое хитроумное изделие. А оно таки скрипело, прислоненное к уху, хлопало и даже подавало вполне отчетливые звуки музыки или человеческого голоса.
Увлеченный своим другом, Олег, вздохнув, уверял:
— Я, конечно, младше тебя, мне только чуть больше тринадцати лет, и я окончил еще только шестой класс. Но со временем я сам сконструирую автомотор и сделаю себе гоночную автомашину! Я уже знаю все моторы внутреннего сгорания. У отца есть свой автомобиль, и я... уже управляю им. Конечно, отец иногда садится рядом и... иногда сдерживает мой пыл...
Еще ничего не зная о начале войны, лагерь почти в полном составе с руководителями и воспитателями возвращался с многодневной экскурсии к горному озеру. Для руководителей и воспитателей это был нелегкий путь. Десяток километров горной дороги в одну и в другую сторону, обеды и ночевки в горных лесах сказывались.
А детвора не знала усталости. Ребята каждый раз находили что-то интересное кроме дороги. Порой за тем интересным камушком или каким-то ярким цветком надо было карабкаться на скалу или спускаться в пропасть. Девочки одобрительным смехом подбадривали ребят, а они наперебой, соревнуясь друг с другом, придумывали что-то захватывающее. И дорога в несколько километров становилась сплошным веселым гамом, шутками и состязанием.
Люба Запорожец, на год младше Романа, может и не вкладывала глубокого смысла в его дружеское отношение. То, что он почти все время вертелся около нее, она заметила и не скрывала удовольствия от этого. Не было такого цветка, чтобы Роман не достал для нее. Он становился посреди горных ручейков и ловко пересаживал Любочку с берега на берег.
В лесу, где-то перед последним переходом в лагерь, была дана команда на отдых. Группами расселись на свежей траве, на камнях, разукрашенных мхом. Шум не унимался и на отдыхе.
Коля Бондаренко был не такой находчивый и непоседливый, как Роман, и ничем не отличался от других подростков. А мальчишка он был развитый не хуже Романа, сильный и плавал хорошо, причем всегда с Любой Запорожец во весь опор. Эта плавание Роману не нравилось, а сделать он ничего не мог. Не нравилось ему и то, что Коля все время не отходил от Любки, и он своей неусыпной энергией старался парализовать попытки Коли как-то послужить любимице всего лагеря.
Во время отдыха Роман вылез на дерево и гонял белку на неописуемую радость девочек, и в первую очередь Любочки Запорожец.
Он не успел спуститься с дерева, когда увидел, как Коля разослал палатку и Любка с двумя подругами со смехом и криками села на нее. Коля сел рядом. И когда Роман констатировал это неожиданное «событие», девушка даже не заметила его, потому что как раз забирала у Коли из рук какой-то интересный камешек.
С этого все и началось. Расстроенный Роман отошел к сосне, одиноко лег на свою палатку. Он ни слова не сказал Любочке и тогда, когда отряд двинулся дальше. Не карабкался теперь по скале за цветком, не пересаживал девушку через ручьи.
А она чувствительной была, заметила перемену в отношении. Заметили это и другие. Не обошлось без того, чтобы кто-то из языкастых не посмеялся над Романом. Начали и девочки его задевать, на сосну за белкой кто-нибудь посылал...
Смех стоял вокруг — Романа он как иглами колол со всех сторон.
Все прошло бы хорошо, если бы Любка не поддержала этого общего настроения, не отшатнулась от парня.
— Ромка! — смеясь, крикнула она звонким голосом. Аж сердце от него задрожало у рассерженного мальчишки. — Ромка, у тебя живот заболел, что ли?
Дружный хохот снова поддержал Любку. Роман даже оторопел от такой неожиданности. Сама же виновата, послала белку погонять на сосне, а тем временем с Колей за камень состязаться начала — теперь еще и смеется.
— Чего там, Роман, стесняться! Я сейчас у Елены Максимовны английской соли попрошу. Принести? — поддал кто-то жару.
Так и пошло. Роман заупрямился и молчал. Попробовал отстать от этой группы, а группа тоже задерживалась. Хотел обогнать, но для этого надо было прыгнуть вниз, что означало — снова порадовать.
И огрызнулся. Огрызнулся не ко всем, а только к Любке. За словом он далеко не ходил, сказать умел так, что его насмешливое слово плотно прилипало, не отдерешь.
А Любке захотелось отодрать. Сказала и сама почувствовала, что не к месту. Сказать же что-то другое — сгоряча не нашлась и под насмешливый хохот крикнула:
— Одесский хулиган!
— Что? — совсем оторопев, растерянно воскликнул оскорбленный мальчишка.
— То же самое. Хулиган пучеглазый. Дерись на сосну, выверку белку, — разошлась Любка. А рядом шел Коля.
Покраснел Роман. Только миг что-то думал и решительно двинулся к группе. Все расступились, смех стих.
— Повтори, Любка, может я не расслышал, ошибся? — губы у парня дрожали, взгляд падал на землю.
— Хулиган одесский...
Больше всего его разозлила эта Одесса. Одесса — советское портовый город. Сама же хвасталась, что гостила там у тетки, замечательным городом называла. Он даже мечтал непременно побывать в нем во время каникул следующего года. К чему же здесь «одесский хулиган», когда они оба из одного и очень далекого от Одессы города? Наверное, это какие-то очень противные должны быть хулиганы, когда они еще и «одесские». Роман только сейчас в горячке вспомнил, как пел Коля: «С одесского кичмана урвали два уркана...»
— Я тебе покажу «одесского хулигана»!
Теперь уже совсем грозно двинулся к девушке. А когда Любка бросилась бежать из группы, парень выскочил ей наперерез. Как олень, метнулся между соснами, высоко подняв голову. Любка кричала больше для видимости — все так делают, убегая от сильного парня. А когда почувствовала, что не убежит и оглянулась, только тогда поняла свою ошибку.
— Ой Ромка, я шутила... Не буду!
Но Роману трудно было погасить вулкан, вызванный необдуманной девушкой. В этом зажигательном порыве была обида не только за прозвище «одесский хулиган», но и за насмешливый смех, за камешек в Любином кулаке, за плавание с Колей наперегонки.
Подскочил и за деревом поймал, как врага, любимую девчонку. Она сопротивлялась, но это был трепет пойманной рыбы, подогревающий и спортивный интерес рыбаков, и жажду удержать, пересилить в руках попытки более слабого.
Сначала взял за обе руки выше локтей, гневно взглянул в глаза. Так близко и глубоко еще никогда не смотрел.
«Рыба» сопротивлялась с еще большим рвением, чтобы вырваться, даже ногой хотела отбиться, неразумная, от сильного парня. И Роман не выдержал. Это уж было слишком!..
Схватил левой рукой за спиной, как перо поднял, перегнул на колене и хлестко отшлепал на позор и посмешище всего лагеря, как даже мать не шлепала капризную Любку, когда та была маленькой.
— А будешь... оскорблять? А будешь, будешь... — приговаривал вспыльчиво и с ликованием.
— Не буду, Ромка-а!.. — захлебываясь в плаче, просилась посрамленная Любка Запорожец.
...По предложению Коли Бондаренко, Романа тут же в лесу, в горах, и судили товарищеским судом. Любочка не переставала плакать, окруженная сочувствующими подругами. Сначала ей казалось, что Романа за такую выходку судить мало. Его надо так наказать, так.. Разве она знает как? Может, четвертовать, как гетман Жолкевский Наливайко!..
Но только начался суд, только выставили Романа, молчаливого, задумчивого и гордого, как девушка почувствовала стыд. Где-то в глубине сердца она уже оправдывала Романа. Разве она на его месте не сделала бы то же самое? Правда, позорный способ, каким он публично наказал ее, ранил девушке душу, гнал детскую слезу.
Судили жестоко, Коля предложил высшую меру наказания: немедленно отправить из лагеря и известить в его школу об этом недостойном пионера поступке.
— Не надо сообщать в школу, мы из одного города, — сквозь слезы воскликнула Любка и отвернулась.
Пионеры вернулись с экскурсии в испорченном неприятным событием настроении. А был уже вечер. Так и легли спать, подавленные решением товарищеского суда. Ведь его приговор надо немедленно выполнить!
А утром они узнали, что началась война. Известная детям из книг и рассказов старших, она сначала даже заинтересовала. Но руководство лагеря прекрасно знало, что такое война для страны. Послали запрос в центр, что делать с детьми.
Пошли разговоры, что пионеров надо немедленно отправить к родителям по домам. О решении товарищеского суда забыли. Если бы сам Роман не сказал Ване, возможно, никто бы и не вспомнил о том решении. Оно теперь звучало смешно, потому что все понимали, что надо немедленно выезжать по домам. А возможности для этого становились что ни день, то более малыми: поезда были загружены другим, автобусы до станции сначала начали ходить реже, потом совсем перестали курсировать.
А время, которое подгоняли такие события, мчалось, как в пропасть. Тревожащие сведения о боях уже под Одессой, о танковых клиньях — прорывы врага в глубь Отчизны — еще более усложняли эвакуацию детей.
— Сам останусь в лагере, чтобы уехать последним, — заявил как-то Роман в разговоре с Ваней.
— Э-э ... — неопределенно протянул Ваня. — Уехать теперь не так легко, Роман. Вон несколько девчонок из предыдущих отправок вернулись. Брось, Роман, этот фасон и при случае уезжай, — почти накричал Ваня.
Но Роман почувствовал в тоне приказа Вани товарищеское одобрение такой высокой дисциплинированности.
Тем временем бои с вражескими танковыми соединениями стали приближаться и к Крымскому полуострову. Администрация пионерлагеря осторожно объяснила детям, что ехать прямым путем теперь уже никому нельзя.
В таком положении заявление Романа о самонаказании воспринималась особенно неодобрительно — хвастается парень. А умиротворенная Любочка робко крикнула:
— Я прощаю Роману.
Но согласиться на такую амнистию Роман не мог. Скажут бог весть что о нем. Это почувствовали ближайшие его друзья.
— Остаюсь с Романом! — воскликнул неутомимый авиаконструктор Олег. Все его поведение свидетельствовало, что парень не шутит. То, что он и в Крыму ходил на занятия авиакружка в одном военном санатории, что даже поднимался на самолете с пилотом-инструктором, поднимало его в глазах друзей как героя. Поэтому заявление Олега не удивило.
— А я, Олег?.. Или я, думаешь, ишак дагестанский и стану терпеть такой неподходящий обстоятельствам позор друга? Остаюсь и я с Романом! — неожиданно заявил Юра Бахтадзе.
— Я тоже останусь, хоть я и согласна с судом, и тоже... не ишак дагестанский, — под еще более задорный смех, как успокоенный ребенок, сказала Любка Запорожец. Или жалко ей стало Романа? Нет, героем он теперь становится в такой угрожающей ситуации.
Ваня Туляков, до сих пор молчавший, не выдержал.
— Ты вот что, Люба, — обратился он как бы между прочим. — Лучше успокойся. Не зацепили тогда тебя за поведение, вот и не напрашивайся. Давно определена в первую очередь на выезд, почему не соблюла порядок? Сегодня еще отходит пароход на Одессу. Спеши к тетке. Что же касается меня, то я... тоже остаюсь с Романом, будем вместе выбираться из Крыма...
Далеко не всех пионеров удавалось отправить из лагеря в намеченные дни. Прошло уже больше месяца с начала войны. По несколько раз вырывались из лагеря смелые и снова возвращались. Как-то выехала Любка пароходом на Одессу.
Сводки с фронтов с каждым днем становились все более угрожающими. Усилия администрации лагеря отправить пионеров поездами не дали результатов. Более смелые ребята, нарушая все правила предосторожности, цеплялись на авто, на переполненные грузовые поезда.
В такой передряге наваждением подползла паника. Однажды ночью исчезли из лагеря шестеро ребят и с ними две девушки. Оставили записку, что они пошли пешком...
Тогда Ваня предложил выявить желающих идти домой пешком, образуя отряды во главе с воспитателями, и отправляться.
— Потому что так мы будем ждать попутный ветер и попадем в самое пекло…
В тот же день отправили две большие группы. Прощались, напутствовали и грустили. Однажды ночью удалось посадить на поезд нескольких более слабых, но никто не был уверен, что они успеют проскочить перед вражеским танковым клином... В лагере остались только Роман с тремя товарищами и десятка два боягузов, ждущих, пока за ними приедут родители.
Время от времени возвращался кто-то из отправленных ранее, кому не по силам были такие опасные путешествия. Бои с врагом угрожали перекрыть последние дороги.
Не представляя, что и как делать дальше, куда деваться от этого неприветливого теперь морского побережья, которое по ночам уже шумело эхом морских боев, несколько ребят снаряжали лодки, надеясь через пролив пробиться на Кубань.
Роман несколько раз искренне советовал Ване Тулякову забрать с собой Олега, самого младшего среди них, и идти пешком, пробиваться. Ваня только посмотрит на Романа задумчивым взглядом и ничего не говорит. Нетрудно было Роману понять в этом упрек друга. Но это все же давало повод к какому-то разговору в таком мрачном ожидании.
— Ну, Ваня, — оправдывается Роман, — честное пионерское, я считаю...
Что он считает, Ваня понимает. Роман под строгим взглядом товарища замолкает, так и не вызвав его на разговор.
3
Война разгоралась. Фашистское правительство Германии, не удовлетворяясь кровопролитием в Польше, на Балканах, во Франции, двинуло свои войска через советские границы. Двинуло, поправ международные конвенции и собственные обязательства. Советские границы были лицемерно нарушены танковыми армадами фашистских армий, сломаны без объявления войны на второй же день после прохода по тем границам эшелонов с советской пшеницей, поставляемой по международным соглашениям о торговле и товарообмене.
После жестоких боев с превосходящими силами фашистских танковых соединений, сосредоточенных на одном направлении, войскам генерала Дорошенко было приказано отойти на другой рубеж — за реку.
Это был первый приказ об отступлении в этой войне...
Конечно, отступление могло диктоваться и тактическими соображениями. Хотя танковые армады врага, их вероломное нападение убеждали в другом. Но некоторые солдаты наскоро закапывали личные вещи, рассчитывая вернуться сюда через каких-то три-пять дней. Такие настроения разделяли и некоторые командиры подразделений, даже частей. Но генерал Дорошенко понимал, что война затянется надолго.
В хлопотах многодневных боев, обеспокоенный упорным наступлением количественно превосходящих танковых соединений врага, он даже перевязку себе делал на ходу. Здесь же приказывал:
— Роты добровольцев с каждого батальона поддерживать артогнем дальнобойных! Любой ценой прикрыть отход основных сил. Бутылки с горючим!.. Освоить и доставить добровольцам бутылки с горючим.
Генерал пригнулся, чтобы медицинской сестре удобнее было перевязывать рану. В это время в блиндаж зашел шофер его штабного авто. Бледный, уставший, но решительный. Военная выправка очень шла его высокой, широкоплечей фигуре спортсмена. Если бы не оспа, которой болел в детстве, Витя бесспорно был бы красавцем.
— Товарищ генерал! Фашистские мотоциклисты уже прорываются сквозь оборону на окраины города... Моя машина здесь, за воротами. Придется уезжать уже через лес.
— Правильно. Машина готова?
— Так точно! Запасной мотор поставили ночью. Как зверь! Запас горючего... Полный порядок, товарищ генерал!
— Вот что, слушай внимательно! Умри, а вывези из города Марию Иосифовну! Понял? Давай... Через пять минут чтобы вас здесь не было. Отвечаешь за ее жизнь! В Луцк или во Владимир-Волынский — все равно, куда свободнее проезд. На железнодорожную станцию, понял? И пока не тронется ее поезд на восток, не показывайся мне на глаза.
— Есть! — глотая воздух, произнес Витя. Но не двинулся с места.
— Ну?
— Товарищ генерал, а вы?
— Марш!
Шофер по форме повернулся, но ушел нерешительно. В дверях еще раз обернулся и уж совсем не по-военному отозвался:
— Марию Иосифовну... А сами?
Генерал не только привык к своему шоферу Вите, он уважал его. На его реплику обернулся, не имея ни малейшей злости. Но двери, как выстрел, хлопнули. Только горькая улыбка отразилась на озабоченном лице генерала.
У одинокого дома, в овраге, за городком, стояли две женщины. Ни ожидания, ни покоя. Взгляды не встречались, только блуждали где-то, разминаясь... Чтобы не упрекать друг друга. Рядом с ними — чемоданчик с вещами и продукты в узелке. Одинокая избушка позади них прижалась к земле, словно пережидая удар. А две женщины, наскоро одетые, даже словом не перекинулись между собой. Только испуганно оглядывались на грузовые авто с боевой техникой, ранеными или пустые, что с одинаковой поспешностью бежали в обе стороны, несмотря на женщин, так неожиданно захваченных ужасами войны. Гул земли от взрывов, дрожание тверди под ногами внушали еще больший страх.
Старшая из них, хозяйка этого одинокого дома, одетая в обычное рабочее платье, наконец снова смогла произнести ту фразу, уговаривая Марию Иосифовну:
— Что же тут такого? Разве вам теперь до гордости... Пойдите к мужу, напомните. Легкое ли дело им теперь помнить еще и о наших проблемах. А у них машины, лошади. Слышите, что делается на свете? Он же генерал. А в таком положении мужчина нашей сестре ой как нужен...
— Нет, Дарья Семеновна, спасибо... — Мария Иосифовна подняла обе руки к шоферу авто, которое с сумасшедшей скоростью неслось навстречу. Но оно пронеслось мимо, обдав обоих пылью. — Этот мужчина уже не для нас, по сути — не для меня. Его милостью я не хочу пользоваться. Пешком пойду.
— Пешком в таком деле, моя родная, не ходят...
В этот момент так зарычали тормоза авто, что обе бросились к воротам. Около них с разгона остановился легковой автомобиль генерала. Из него, прямо в клубах пыли, выскочил Витя и сразу открыл заднюю дверь.
— Это хорошо, Мария Иосифовна, что вы уже наготове. Теперь я уложусь в свои пять минут! Садитесь.
— А я никуда не еду! Это так... — махнул рукой на вещи.
— Да вы что, никуда не еду? — воскликнула Дарья Семеновна.
— Да, никуда не еду, остаюсь. Передайте, Витя, вашему генералу, что я остаюсь. У немцев остаюсь.
Водитель на мгновение словно опешил, остро посмотрел на обеих. Затем, опомнившись, бросил взгляд на вражеские самолеты в небе, скупо обстреливаемые какой-то уцелевшей зениткой и из винтовок, и решительно шагнул к женщинам.
— Ну, Мария Иосифовна, вы меня даже рассмешили. Но я ведь боевой приказ выполняю, из пяти минут уже три потратил... Упрашивать вас, так тут и бомбами накроют, те драконы фашистские. Садитесь по-доброму? — ультимативно спросил.
— А то что? — насмешливо допытывалась.
— Да садитесь же, не подводите человека, — посоветовала Дарья Семеновна и слегка подтолкнула ее к машине.
А когда упрямая женщина обернулась, чтобы оттолкнуть хозяйку квартиры, Витя грубо схватил Марию за плечи и не совсем вежливо усадил в эмку.
— Будешь тут с вами возиться. Генерал раненый сражается, чтобы удержать врага, и в такой момент отправляет вам машину, а вы... «У немцев останусь!» Не деликатно получается... Это ваши вещи? Пожалуйста, подайте сюда, у меня дверцы не закрываются. Спасибо, все.
— Я не поеду, что тут... на силу надеетесь около слабой женщины!
— Ну, это уже ваше дело. Не хотите ехать, так идите себе! Я свидетеля вот имею. Вы понимаете, что такое боевой приказ генерала?! Не поеду...
— Пустите дверцы, вы слон! — истерически добивалась Мария.
— Хоть и мамонт, мне все равно. Поймите вы... А еще жена генерала. Я через четверть часа должен доложить генералу! Андрей Тихонович, посмотрите, как беспокоится, совестью, говорит, отвечаешь. А тут и головы может не хватит с таким бессознательным народом. Охота мне с вами возиться... Разве я не мог бы с добровольческими ротами фашистские танки поджигать? У немцев она останется... — бормотал взволнованный водитель командира, бросая чемодан на переднее сиденье.
За дорогой, на краю леса, разорвался фашистский снаряд. Водитель молниеносно опрокинул оторопелую хозяйку Марии на землю, сам упал возле машины. Кусок чугуна от разорванного снаряда просвистел где-то над ними, звякнули стекла в доме. Машину накрыло густой пылью с песком, падала выкорчеванная придорожная ботва, тогда водитель поднялся и стремительно вскочил в открытую дверь. Авто, как раненое животное, взревело и рвануло прочь.
— Мужчина в нашем положении — венец дела! — рассудительно подытожила Дарья Семеновна, переползая в свой дом.
— У немцев она останется!.. — еще раз сказал Витя, властно поворачивая руль, чтобы объехать метровую воронку от снаряда. И тут же свернул с дороги на лесную просеку, просто на восток.
В авто, на мягком, хотя и довольно потертом бархатном сидении, Мария Иосифовна уже не протестовала. Собственно, внутренний протест, перемешиваясь с сожалением и еще с какими-то неясными чувствами, и составлял в тот момент ее перемолотое страшной суматохой тяжелое настроение. В таком психологическом состоянии исчезновение дочери давало о себе знать только как острая рана. Опустив руки и ослабив нервы, Мария плакала.
А Витя тогда наверстывал упущенное.
Не глядя на спидометр, не прислушиваясь к надсадному вою мотора, он определял скорость движения по мельканию деревьев, стволы которых толпились бесконечной чередой, наперегонки мчались вдоль него, чтобы через мгновение прошмыгнуть мимо.
— Шестьдесят... Семьдесят... Детская скорость, — вслух думал Витя, регистрируя глазом надоедливые стволы деревьев. — Генерал сказал бы: по-рачьи ползешь...
И нажимал на педаль газа. Пересекали запруженные войсками дороги, куда-то поворачивали и снова гнали, как будто наперерез. Мария Иосифовна уже и не думала дальше протестовать. Даже выглянуть в окно не решалась: в машине сквозь гул мотора слышалась тяжелая поступь войны. Женщина чувствовала стыд за свое лихорадочное поведение. Из какого ада выхватил! Но... выхватил ли?
Вдруг, пересекая дорогу, по которой петляла автомашина Вити, в той же лесной просеке появились четыре фашистских танка. Расстояние до них было совсем незначительное, на выстрел из боевой пехотинской трехлинейки. Уже можно было разглядеть не только черно-белый паукообразный крест, но и то, как движется ствол пулемета в башне.
Одно было совершенно непонятно: почему они не стреляют по машине? Жалеют патроны, прячутся от тех, кто, может, там, на краю леса, лихорадочно готовит им минометную встречу?
Витя ехал из города за лесом, северо-восточным путем, считая его центральным направлением наступления фашистских войск. И действительно, обстоятельства в результате оборонительных боев сложились так, что путь этот еще утром был совершенно свободен. Об этом свидетельствовали многочисленные авто, проносившиеся здесь в обе стороны с невероятной скоростью. Видимо, враг, наконец, понял свою ошибку и бросил танки, чтобы перерезать и эту артерию армии.
Перед лесом дорога поворачивала на север и долгое время шла вдоль реки, протекающей позади линии границы. Теперь она становилась линией фронта, которую враг пытался перехватить и здесь.
Вражеские танки спешили, проскочив через лес, перерезать путь отступлению армии генерала Дорошенко. Витя неизбежно должен был встретиться с вражескими танками, еще не выехав из леса.
— Ах! — крикнула Мария Иосифовна, вцепившись руками за плечи Вити.
Панический жест женщины моментально отрезвил шофера, и он резко свернул с этого пути. И свернул не направо, чтобы бежать от вражеских танков, а налево, почти назад, чтобы проскочить позади них.
— Куда вы?
— К немцам!.. Вы же у них хотели остаться.
Конструктор этой автомашины даже представить не мог, каким ужасающим бездорожьем и с какой невероятной скоростью придется ей ехать. Иногда казалось, что колеса, чуть коснувшись какого-то бугорка, снова отрываются от земли. Машина клевала носом, маневрировала на двух колесах, как велосипед, наискось перескакивала глубокие рвы и неслась дальше вперед. Сначала показалось, что вражеские танки впереди, потом, когда справа закончился лес и авто вырвалось на дорогу вдоль леса, танки оказались позади. Мария Иосифовна не спускала глаз с врага.
Так и не поняла, когда они пересекли дорогу и целиной понеслись обратно в лес.
Едва заметила, как Витя будто нервно качнулся назад и снова прилег к штурвалу. Незначительный, какой-то игрушечный хлопок, а в окнах авто остались две бесформенные дыры.
«Стреляют по авто!..» — мелькнуло в уме.
В тот же миг Мария упала на дно машины. Полузакрытыми глазами ярко зафиксировала еще одно нервное движение плеч водителя.
«Может, его ранило?»
Поднялась, когда машину снова несло между густыми соснами и кустарниками. Теперь они ехали где-то в другом месте, потому что участки старого соснового леса здесь чередовались с посадками молодого дубняка с густой листвой.
На голой шее водителя за воротом гимнастерки с чистым белым воротничком увидела черную струйку крови. Кровь единственного возле нее человека заставила по-настоящему прийти в себя. Мария даже не ахнула больше, не вскрикнула, а только прошептала, как мать ребенку:
— Витя, вы ранены!
Собственным платком молниеносно взмахнула кровь. Пуля рванула шею водителю, пропахала неглубокую борозду в коже.
Мария Иосифовна придавила платок, зажала рану. Свободной рукой раскрыла сумочку, достала одеколон и чистый платок.
Молча промыла и перевязала водителю рану.
Иногда они останавливались, чтобы оглядеться вокруг, разобраться, где находятся, посоветоваться. Лес местами стал густым, труднопроходимым, а для автомашины и вовсе не проезжим. Приходилось объезжать мокрые низины, болота, озера. А объезды могли сбить их с направления и случалось, что-таки сбивали. Ведь надо было пробиться через лес к востоку и доскочить до какой-то железнодорожной станции.
Прислушались и слышали, как гудел лес эхом выстрелов. Пробовали выяснить, с какой стороны стреляют, и не могли. Казалось, что стреляют отовсюду, стрельба не прекращалась ни на минуту как днем, так и ночью и слилась в угрожающий общий гул.
Повязка на шее очень мешала Вите, особенно когда он возился возле машины. Шофер как-то по-медвежьи поворачивался всем корпусом, и было смешно смотреть на эти неуклюжие усилия.
Он время от времени должен был осмотреть машину, везде заглянуть.
— Может, я вам помогу, Витя? — спросила как-то невольно, даже недовольна была собой за такие сухие, бесцветные слова.
Витя хотел оглянуться, но не смог, только простонал и ничего не ответил. Но и в этом был красноречивый ответ: не мешай...
И снова ехали направо, огибали какое-то озеро, заросшее камышами и кугой. Объезд был тяжелый. Иногда попадали в овраги, размытые весенней водой, или забивались в такие кустарники, что едва выкарабкивались из них, изо всех сил толкая машину. Здесь уже Мария не ожидала, пока Витя скажет ей, — сама выходила и, натужившись, толкала машину, чтобы такими рывками выпихнуть ее, дать колесам зацепиться за твердую почву.
В первый день до самого вечера так и ехали густым диким лесом. Ни на миг не ослабевал гул стрельбы вокруг, и лес не подавал никаких признаков, что они приблизились к какой-то тыловой дороге.
— Нет бензина, — впервые заговорил Витя на одной из тяжелых остановок в непролазном кустарнике.
До этого они уже успели объехать еще одно такое же болото и вырвались на возвышенность. Здесь преобладал бук и дуб, а внизу — дикость зарослей, кустарники.
Нет бензина... Мария сначала восприняла это как обычную, даже пустую фразу. С большим трудом вышла из машины — густой кустарник не давал даже двери открыть. Молча взялась за машину и начала выталкивать ее, но равнодушный и немного растерянный вид Вити помог ей понять положение.
— Значит... — хотела спросить, но, поняв бессмысленность вопроса, умолкла. Шофер смотрел на нее и пытался улыбнуться, он догадывался, о чем хотела спросить Мария Иосифовна. Так и стояли некоторое время. Прислушались к шумам лесным и к собственным мыслям. Как будто и стрельба стихла, а может, удалилась так от них, что уже не раздражала нервов, не усиливала страх. Не заметили, что уже ночь заходила в лесу.
— Что же нам делать, Витя? — наконец, сам собой вырвался вопрос. — Как ваша шея?
Вполне мирный, даже дружеский вопрос, даже сама удивилась.
— Шея?.. Неважно, Мария Иосифовна, голова болит. А делать? Что же в таких случаях делают: буду нести ваши вещи.
— Нет, Витя! — решительно возразила Мария. — Мы не пойдем пешком. Уже ночь, надо остановиться, отдохнуть.
Хорошее летнее утро в лесу усыпило молодую женщину. Спала она в машине, как-то устроившись на заднем сиденье. Было немного душно, так как все окна закрыла. Зато ни один комар не беспокоил ее целую ночь.
Никаких шумов, происходящих не от леса, не слышала.
Где-то поблизости от ритмичного покачивания ветра скрипели перекрещенные березы. Не слышала и птиц до утра. Только утром заговорили какие-то мелкоголосые, словно охрипшие птицы. Разобраться в них она спросонья не могла.
Только теперь в одиночестве поняла весь ужас загадочного исчезновения дочери. Начинала чувствовать, как сомнение входило в душу: действительно ли Андрей Тихонович мог быть причастным к этому загадочного исчезновению Ниночки? Только отправить мог к своей матери. А отправил ли?
И холод касался самых болезненных мест души матери. А куда же могла деться Ниночка? Кто посмел бы ее красть и для чего?
Быстро вышла из машины.
Водитель спал около машины, простелив шинель. Собственно, он уже не спал — недомогая от ранения, просто отлеживался.
— Что же будем делать, Витя? Далеко мы заехали от дома?
— Если по прямой, так не менее ста километров. А вообще выгоняли лесом на юго-восток около трехсот. Бензина у меня было на триста.
— Сто километров, — сказала Мария Иосифовна. — Так где же мы находимся?
— А кто его знает, Мария Иосифовна. Этот лес идет вдоль границы очень далеко. Хотя мы его вроде пересекли на восток. Думаю, что мы где-то на юго-восточной оконечности этого большого лесного массива. Прислушивался я ночью. Здесь где-то должна быть железнодорожная станция. Но ни одного гудка паровоза я не услышал за ночь. Только какой-то отдаленный шум. Может, просто лес шумит, Мария Иосифовна?
Какое-то время помолчали оба. Витя слышал, как Мария Иосифовна ходила куда-то на разведку и снова вернулась. Что-то бормотала себе. Он лежал, почти не двигаясь.
— Мне придется сегодня полежать, Мария Иосифовна, — снова сказал, глядя вверх на вершину лесной чащи.
Мария забыла о его ранении. Стало стыдно. Должна была поинтересоваться сначала его здоровьем. Не ел же он вчера целый день.
Нашла бинт и йод. Молча сделала ему перевязку. Рана затянулась по шее, но каких-то угрожающих изменений Мария не заметила.
Собрала кое-что из продуктов в своем узелке. Для приличия и сама съела, а больше угощала его. Почувствовала запоздалую жалость и сострадание к солдату. Была уверена, что и молчаливость его, и настроение — все от этой раны.
— Что он обо мне подумает? Как я ему на глаза покажусь? Шляпа!.. — вдруг заговорил Витя.
Мария Иосифовна догадывалась, что речь о генерале. А что, действительно, мог большего сделать этот водитель, попав в такую ситуацию? Другой, возможно, повернул бы назад, увидев вражеские танки. Мороз по коже пошел. Это их бы уже захватили фашисты.
— Ничего, Витя. Я свидетель!
— Вы только скажите, Мария Иосифовна, что я и дома не задержался у вас, и в дороге тоже... Правда, генерал дал только пять минут, а мы целый день гнали. Но танки нам перерезали путь! Здесь уже объективные причины.
— Вполне объективные, Витя. Я так и скажу. А теперь лежите, а я пойду на разведку.
— Заблудитесь, это я знаю. Женщины всегда блуждают. Да еще в таком лесу.
Она пошла прямо на восток. Сначала оглядывалась, спускаясь в широкую прохладную долину. Летнее тепло даже днем едва пробивался сюда сквозь сплошные лиственные дебри крон. А к тому же утром здесь гуляла еще и густая свежесть прохлады. Затем Мария перестала оглядываться. Только замечала отдельные озера, то разбитое громом дерево, то какой-то бугор, поросший свежим кустарником.
Наткнулась на просеку, пересекающую ей путь. Сверилась по солнцу, запомнила место, где вышла из леса, и пошла справа по просеке.
Дикая лесная пустота пугала. Спустя время Мария наткнулась на другую дорогу. Эта уже вела на восток и была более уезженная. Внимательно присмотревшись, женщина заметила, что этой дорогой совсем недавно прошло немало автомашин. Куда, в какую сторону и что за машины — понять не смогла. Но несказанно обрадовалась наезженным колеям. Это же проехать пять-семь километров — и замечательная автодорога. А коль автомашины здесь прошли, то, наверное, и еще пройдут.
Она остановит одну из них, скажет, что генеральская машина в тяжелом состоянии и все выяснится.
Лес начинал редеть. Где-то впереди сначала залаяли собаки, затем затарахтели глухие автоматные выстрелы.
Прислушалась. Такие же выстрелы слышались и справа, и дальше впереди. Даже сотрясения земли от дальних пушечных взрывов почувствовала. Что же удивительного, война.
Пожала плечами. И таки шла вперед, спешила. Хоть бы тебе пискнула какая-то птица. Одина в лесу... Вдруг услышала неожиданный грохот нескольких автомашин позади себя. Торопливо соскочила с дороги в лес, упала в канаву, у толстого дубового пня. Не выбирала места, не примерялась, какой стороной падать. Все делала почти подсознательно. Если бы не услышала автоматный треск перед этим, не уловила отдаленные орудийные взрывы, возможно, и не толкнуло бы ее прятаться.
Мимо прошло шесть автобензоцистерн. На каждой из них красовался выразительный, как и на тех танках, фашистский крест, а рядом с ним — широкие оленьи рога.
«Фашисты! Неужели успели так быстро?»
Больше ни о чем не могла думать ошарашенная женщина. Лежала скорченная в канаве и провожала испуганным взглядом шесть бензоцистерн и два мотоцикла с пулеметами, ехавших за ними.
Затем вскочила и пошла в глубь леса, прячась за кустами и деревьями. Торопилась, думала. Что же дальше делать? Вполне очевидно, что за ночь гитлеровцы опередили их именно в этом районе. Если придется прорываться, то не просто на восток, а на юго-восток, а может, и вовсе на юг. Там, наверное, войска генерала Дорошенко сдерживают бешеный натиск фашистов.
Но... у Вити нет ни грамма бензина. Их «корабль» прочно сидит на безнадежной мели.
Женщина постояла у стройной березы, сама похожая на нее. Обе стройные и на красоту не жалуются, обе одинокие и опечаленные.
А чем же поедешь на тот юго-восток или на юг? Бензина нет, водитель раненый, есть нечего.
И отделилась от березы. Теперь к печали присоединился еще и гнев, а вместе это вылилось в непреодолимую решимость.
Мария Иосифовна лесом пошла не назад, к автомашине, а вперед, туда, где прошли шесть бензоцистерн.
Трудно сказать, сколько времени шла без отдыха, без еды. Отправилась из кустарника — как раз взошло солнце, а когда выбралась на опушку леса, солнце позади нее уже скрывалось за лесом.
На окраине леса, справа от дороги, расположились здания железнодорожного разъезда; вдоль путей стояли огромные штабеля дров, строительного леса. На опустевших путях несколько груженых и столько же пустых платформ. Все заброшенные, осиротевшие.
Но на лесном разъезде была жизнь. Именно это в первую минуту и отметила Мария.
У высоких штабелей дров выстроенные двумя рядами стоят двадцать четыре самоходных бензоцистерны и с десяток мотоциклов с пулеметами. Не густо гитлеровцев около них, но бродят. От станции по большой дороге справа от леса снуют автомашины.
На железной дороге ни паровоза, никакого движения, но разъезд жил какой-то не своей, тревожной жизнью.
Здесь, на окраине леса, отчетливо стало слышно войну. Мария попыталась определить, где именно фронт, далеко ли, но невоенный женщине понять это было трудно. На всем горизонте и даже позади гремели бои.
Последние сомнения исчезли. Они с Виктором остались в тылу фашистских войск. С этого момента они должны прятаться, выдумывать имя, историю появления здесь или в другом месте и в любой момент быть готовыми умереть...
Надо правду сказать: у Марии не было в тот момент каких-то широких, далеко идущих планов. Но в кустах оставаться не могла и в короткое мгновение оказалась у дороги.
Сначала испугалась такой своей активности. Дорогой хоть изредка, но все-таки проходили одиночные автомашины. Оказывается, эта дорога была лесной просекой, и фашисты попали на нее из каких-то боковых просек. А большая дорога проходила по ту сторону железнодорожного разъезда.
Мария быстро перебралась через просеку, и сама не заметила, как была уже у огромных штабелей дров и строительного леса на разъезде. Отсюда заметила, что возле каждой цистерны на раме авто были привязаны несколько достаточно удобных плоских бидончиков. Если бы Мария не видела, как мотоциклист отцеплял этот бидончик и наливал себе в него топливо, то, может, и не знала бы, для чего они. Автоцистерны стояли вплотную к штабелям дров. Тогда и разгорелось желание украсть один такой бидончик — наверное, этого хватило бы им с Витей, чтобы проскочить через фронт, пока он еще не имеет сплошной линии.
Легла на штабеле между дровами, замаскировавшись березовыми и дубовыми поленьями, и следила за жизнью полустанка до ночи.
Ночь была свежая. Небо совсем чистое, бездонное. Гуща звезд привлекала взор. Прямо перед Марией маячили силуэты бензоцистерн, мотоциклов, груженные лесом платформы, здания полустанка.
Около полуночи жизнь вокруг замерла. Даже война на дальних горизонтах будто отдыхала в это время.
Мария заметила часового. Он ходил между двумя рядами цистерн, останавливался перед тем, как повернуть назад, прислушивался. Видимо, не услышав в ночном окружающей шуме ничего подозрительного, возвращался и шел до другого края рядов. Автоцистерны стояли задом друг к другу с таким, очевидно, расчетом, чтобы, в случае тревоги, каждый водитель первого ряда сразу же мог бы свободно уезжать, освобождая дорогу второму ряду.
Несколько раз проведя глазами часового, Мария набралась смелости, осторожно спустилась на землю и прокралась под стационарной эстакадой до того места, где кончались высокие штабеля дров.
Лежала, скрытая тенью от эстакады и огромного мотка стального троса. Под боками давили костыли, планки. Но лежала, потому что часовой как раз шел в эту сторону.
На ходу он смотрит на эстакаду, где стоят две пустые повозки, пожалуй, брошенные еще при внезапном отступлении. Видит он, наверное же видит, и огромный моток троса, который, словно клубок змей, чуть серебрится искорками стали, перехватывая холодный свет звезд.
А видит ли он в темном уголке пару горящих глаз, следящих за ним? Если только увидит — это будет ее гибелью.
Мария дрожала не от холода, хотя и лежала на ржавом железе. Она дрожала от непосильного напряжения воли. Обеими руками взялась за холодную планку, попыталась поднять ее. Должна была не только защитить свою жизнь, но и добыть бензин, которого ей не даст по доброй воле этот вооруженный гитлеровец. Бензин надо взять хотя бы и ценой жизни часового! Они начали войну для смертоубийства, поэтому пусть погибают в ней, проклятые...
Часовой постоял — показалось, вечность — и повернул назад между двумя рядами машин. Мария прокралась за ним до первой цистерны.
Фашист еще шел туда, а Мария, приставив к колену железную планку, на ощупь отцепила один бидон с горючим. Только бы вынуть из гнезда и исчезнуть.
Но куда же исчезнешь? Солдат уже повернул обратно. Размеренной походкой идет между двумя рядами цистерн еще и песенку какую-то мурлычет, превозмогая сон.
Мария подошла к колесам, чтобы не заметил фашист ее ног на пустом месте под цистернами. Стояла, прижавшись пластырем к цистерне, слегка повернув голову в сторону часового. Он ритмично приближался, силуэт его увеличивался...
Слышала, что стук сердца эхом отражался от цистерны, и от этого она будто звенит звоном полной посудины. Не поняла, что это только кажется ей, настороженной. Решила, что и фашист услышал звон, недаром же он прервал свое сонное пение и нарочито идет совсем близко, именно возле этого ряда цистерн.
Конечно, это ей только показалось. Часовой был уверен, что кроме него возле цистерн ни одной живой души нет. Если бы хоть на миг он сомневался в том и пристально посмотрел на эту крайнюю цистерну, то заметил бы ее необычные очертания. А идя назад, наверное, узнал бы прижавшегося к цистерне человека...
Мария же не сомневалась, что фашист подкрадывается к ней, распределив последний метр расстояния между ними на каких-то три-четыре хищнических шага.
Железная планка свистнула в воздухе. Часовой на мгновение остановился и, подогнув колени, упал. Ни стона, ни крика...
Находясь под влиянием какого-то непонятного подъема, когда человек действует подсознательно, делает совсем не то, что хотел, Мария бросилась к убитому, чтобы оттянуть и спрятать его. Но в следующее мгновение провела руками по его карманам, схватила спички и перочинный нож. Нож напомнил об оружии. Молниеносно сняла с плеча гитлеровца тяжелый холодный автомат.
Только потом вспомнила, что пришла за бензином. Без малейшего звука вытащила тяжелый бидон и двинулась с ним к краю эстакады, за штабеля дров.
В руке держала и коробку спичек.
В каком-то болезненном трансе Мария поставила бидон под дровами и вернулась назад, к убитому врагу. Вокруг все было такое же тревожное, тихое, ожидающее, как и раньше. Теперь она уже знала, что делать дальше.
Мигом отскочила от последней цистерны туда, где лежал убитый часовой, трогала краны, пытаясь их открыть. Но они не повиновались руке без ключа. Вдруг наткнулась и на тот, с которого недавно брали бензин. Ключ не был снят. Повернула с такой силой, что брызги от струи обрызгали одежду. Отскочила и прислушалась. Шум из крана нарастал, как водопад в запруде у водяной мельницы. Воздух наполнился резким запахом бензина. У самого штабеля Мария сорвала с себя забрызганную юбку и бросила к цистерне. Туда же бросила и зажженную спичку, а сама с канистрой побежала прочь.
Убегать было бы легко, если бы не канистра с бензином. Когда Мария за дровами попала в первые кусты перелеска, на станции уже пылал огромный клубок огня. Верхушки деревьев золотились в его отблеске.
Только потом, когда она уже перешла дорогу, на полустанке послышались первые крики команд и встревоженный шум. Не оглядываясь, Мария бегом углубилась в лес, дальше и дальше, чтобы быстрее уйти от собственной тени. От пожара в лесу было светло, как днем. Позади горели огромные штабеля дров, бензин, груженные платформы...
Мария боялась, чтобы не сбиться со следа. Густой лес становился завесой, приходилось бежать медленнее, выбирая дорогу. Раза два, обессиленная, падала. Но удаленный шум возвращал ее в сознание, словно кнутом подгонял вперед, к машине.
Снова и снова стремилась бежать. Рука болела от тяжелой ноши, а вторая крепко сжимала автомат.
Начинало светать. Только тогда почувствовала острую усталость. Что если бы немного отдохнуть, где-то уютно спрятавшись? Такая душистая лесная трава, цветы!
Оглянулась. Густой кустарник не всегда хорошее укрытие, потому что чаще всего ищут именно там. Да уж если бы искали, то давно нашли бы ее.
Смело пошла к первым кустам. Почти качалась, как пьяная. И вдруг:
— Стой!.. — показалось, что из-под земли захрипел угрожающий голос.
Неожиданность должна парализовать ее волю. Но Мария только выпустила канистру из рук. Вся встрепенулась и мигом встала за толстой сосной. Только теперь поняла, что она же без юбки. От неловкости присела, пряча кружево белья.
В кустах лежали два вооруженных солдата. Не надо быть большим знатоком, чтобы по шинелям, оружию и по сумкам с противогазами узнать советских бойцов. Две советские трехлинейные винтовки были грозно направлены на Марию. Солдатам труднее было разобраться, что это за женщина — без юбки, но с немецкой канистрой в одной руке и с немецким автоматом в другой.
— Кто такие? Почему нападаете? — осмелилась спросить уже из-за сосны.
— Мы... свои. Нашей земли... люди. А нападем ли, посмотрим.
— Ну и ладно. Я тоже своя. Но... могу и автоматом расколоть кому-то голову. Что вам надо? Вы советские бойцы? — настойчиво спрашивала из-за сосны.
— Это наше дело, чьи мы бойцы. Божьи... — засмеялись. — Можете проваливать, гражданка, дальше. Ничего нам не надо. Только скажите: ушли уже немецкие танки с автострады? И... женщине следует надевать юбку даже и не в таких путешествиях.
— Танки сама обхожу, не вижу их. А юбка... Нет юбки! — Мария вдруг поняла, что эти ребята ничего плохого ей не сделают. Советские солдаты, которых тоже опередили фашистские танки, оказались в таком же положении, как и она. — Давайте проще! Я — советская женщина, прячусь от немцев. А вы?
Ответа не было. Но Мария увидела, что винтовки опустились на землю, один боец поднялся на ноги. Она набралась смелости и пошла к ним. Не голая же она, в самом деле.
— Ну вот и хорошо, договорились, — заговорила на ходу. Оба солдата при полной боевой стояли в кустах, втайне следя за молодой женщиной.
— Здравствуйте!
Солдаты что-то буркнули, не поняла и что. Стала около них за сосной, смотрела на обоих. Серые длинные шинели, пилотки, новые противогазы висели через плечо у каждого, на ремне через второе плечо — неизвестные ей ящики, за поясом — лопатки.
— Связные? Ну чего же вы хмуритесь? Я сказала, кто я. Положение у нас одинаковое. Вот и юбки лишилась...
— Женщина, да еще молодая, как вы, не может сама здесь оставаться. Разве что по собственной воле. К тому же автомат, — заговорил более высокий ростом, с черными кавалерскими усами. — Вот только одежда какая-то у вас странная...
Отложила оружие и села, а затем и прилегла под кустом. Потому что усталость снова с еще большей силой овладела ею.
— Мы саперы. Нас послали... Мы выполняем задание, а части, видите, отступили. Третий день обходим, чтобы выйти к тому пограничному райцентру на юге за этим проклятым лесом. Если вы гражданка... наш человек, то вот шинель возьмите. Женщине в таком костюме... — Это уже говорил другой, немного ниже ростом того, что был с кавалерскими усами, и, видно, младший. У него было широкое лицо и полная фигура, как обычно бывает у добряков, а говор свидетельствовал, что принадлежал он к надволжским русским. Он быстро расстегнул ремень, снял шинель и подал женщине.
— Я... подожгла двадцать четыре немецких бензоцистерны, убила фашистского солдата... — призналась Мария в поисках не похвалы, а тропинки к душе советского человека. Шинелью впопыхах прикрыла ноги. Теперь солдаты смелее подошли и уселись около женщины, более искренно заговорили. Смуглый, что в шинели, вскочил и принес бидон, брошенный у сосны. Поставил здесь же, в кустах.
Женщина была рада этой неожиданной встрече. С той радости просто и искренне призналась, кто она. Имя свое, как родным, назвала. Со скромных намеков бойцы поняли, что женщина была близка к генералу Дорошенко, их командующему армией. Это совсем успокоило их.
Мария уже не могла бороться с усталостью. Едва поняла спросонья, как они назвали и свои имена. Только повторила:
— Кость Старовойтенко, Лука Телегин. Саперы!..
И уснула... А солдаты принялись осматривать автомат.
4
Положение в пионерском лагере было катастрофическое. Через некоторое время вдруг перестало работать радио, последнее, что связывало детей с жизнью страны. Война пришла и на Черноморское побережье. Море сначала загорелось страшными боями, затем опустело, а затем на нем показались и вражеские корабли. Земля вокруг ревела и горела от адской стрельбы, бомб и воя обнаглевших вражеских самолетов.
Но вот на побережье, где находился пионерлагерь, появились фашистские вооруженные солдаты. В лагере еще осталось несколько десятков детей.
Ребята проснулись от грохота и хлопанья военной техники, наполнившей двор лагеря. Чужой грубый говор совсем разбудил ребят. Они живенько вскочили, оделись, но выйти не успели — гитлеровские солдаты ворвались в комнату. Фашисты рыскали по корпусам, сгоняли детей вниз, в спортивный зал. Солдаты хорошо понимали, что это за учреждение и с кем они имеют дело.
Два парня с другого корпуса попытались убежать от солдата, который подталкивал их, ведя к группе согнанных пионеров. Автоматной очередью гитлеровец остановил ребят, ранив в ноги. Теперь оба лежали без присмотра и сдержанно стонали. Офицер под угрозой смерти запретил оказывать им любую помощь, а тем более медицинскую.
— Где ваши старшие коммунисты? — спросил офицер, построив пионеров в зале. Для острастки он вынул из кобуры маузер, положил руку с ним за спину и сгорбившись пошел вдоль пионерских рядов. На рукаве френча скалил зубы противный череп на скрещенных костях.
Что фашист думал, ожидая ответа на свой грозный вопрос, трудно сказать. Как веретено, повернулся на одной ноге, услышав около себя четкий ответ Вани Тулякова:
— Я старший!
— Ты-ы? Я спрашиваю о коммунистах!
Ваня не терялся под назойливым взглядом фашистского вояка. Искоса следил за маузером в руке, но действовал подсознательно, возможно, выполняя один из продуманных за ночь вариантов поведения.
— Мы только пионеры, школьники. Коммунисты в Красную Армию пошли. А среди них я старший!
Конечно, никогда уже не придется встретить того гитлеровского офицера и получить от него правдивое признание: как он себя чувствовал в этом разговоре. На миг поставив себя в аналогичное положение пионера Тулякова, офицер не решился даже самого себя убедить, что и он поступил бы так дерзко перед врагом, как этот красный «молокосос».
Смотрел на него, мерил с головы до ног, револьвер перебрасывал из руки в руку и не находил слов, чтобы продолжить разговор на том же уровне дерзости и благородной силы, на который вызвало его заявление пионера.
— Я его помощник! — вдруг произнес Роман с другой стороны ряда.
И еще не успел присмотреться гестаповец к этому второму, кудрявому и задиристо улыбающемуся парня, как прямо около него откликнулись еще два голоса вместе.
— И мы тоже. Это наш штаб!
Это Олег и Юра Бахтадзе успели сговориться и решительно поддержали товарищей.
— Убрать этот... штаб! — словно уколотый шилом, крикнул офицер. Выпрямился и артистическим жестом сунул маузер в кобуру. — Штаб! У них везде штабы! Ненавижу большевистский штаб! Ганс! Передай их начальнику гидроэскадрильи. Скажешь, подарок от майора Гешке, он может выбросить в море этот... штаб.
Гешке презрительно скривил рожу, через плечо наблюдая, как солдаты торопливо и грубо выдергивали всех четырех из строя и, подталкивая автоматами, погнали к выходу.
Их повели через большой парк, где стояли автомашины, кухни, зенитные пулеметы. Солдаты группами и в одиночку спешили куда-то, переговаривались. На четырех мальчишек, которые шли в сопровождении двух автоматчиков, никто не обращал внимания.
— Может, убежим? — спросил Роман у Вани. И, не получив ответа, оглянулся на заднего конвоира. Тот что-то крикнул таким замогильным хриплым голосом, что Роман только плечами пожал.
За воротами лагеря на всем пути стояли автомашины, сидели на обочинах солдаты. В горах перекликались далекие одиночные выстрелы из пушек. Эхо гасилось в провалах и лесной чащобе на побережье моря.
— Об этом надо подумать всем, — только теперь ответил Ваня и, получив толчок в плечо, чуть не упал в придорожный кювет.
Больше ни слова не произнес ни один из них, пока не вышли на приморскую дорогу, пока не пришли снова на стоянку автомашин на берегу. В бухте на рейде колыхалось около двух десятков гидросамолетов.
Гул самолетных моторов, свертывание радиостанции на двух больших крытых автомашинах на время оторвали пионеров от их мыслей.
«Об этом надо подумать...» — сказал Ваня. Он сейчас у них вожак. И каждый думал.
Собственно, придумать что-то реальное о побеге — тяжело. Единственное, что всем приходило в голову — это напасть одному на конвоира, завязать с ним борьбу, чтобы остальные убежали, и погибнуть, потому что второй автоматчик, безусловно, бросится помогать товарищу.
Дальше уже начинались фантазии. Можно еще было неожиданно вырвать автомат и убить одного, а потом другого фашиста. Выстрелы бы услышали остиальные солдаты. Но у пионеров уже два автомата на четырех... С разгону наскочить на авто с пулеметом (это уже фантазия Олега), расстрелять прислугу, а самим — за руль и... Пулемет с кузова строчит вокруг, а машина мчится. Ее попробуют догонять на мотоциклах и спецмашинах. Но пулемет в умелых руках Вани обрывает погоню, загораживает подбитыми автомашинами дорогу, и путь к отступлению четырех героев свободен. Немцы, конечно, воспользуются к радиосвязью: ловите, мол, четырех коммунистов! Но где там их поймаешь, если машина в умелых руках Олега поворачивает туда, куда ему надо. Направо в горы, опять щукой выплывает где-то на дороге, как ледокол крушит все препятствия и мчится дальше… Могут по тревоге штурмовую авиацию поднять. Но в кузове ведь зенитный, а не черт знает какой пулемет…
— Стой! — грубо крикнул оккупант на замечтавшегося Олега.
Реальность, будничная и грозная, с болью отодвинула сладкие мечты подростка. Оторвала его от руля автомашины, которой он так сноровисто завладел в фантазиях.
Капитан гидроавиационного отряда Густав фон Пуффер сызмала воспитывался на море. Сначала отец, владелец одного из крупных доков на Везере, хотел, чтобы сын его был заместителем и наследником большого предприятия. Настойчиво учил в инженерно-морской военной школе. Но после 1933 года, когда предприятия фон Пуффера начали выпускать гидросамолеты и торпеды, он согласился, чтобы и сын специализировался на гидроавиации.
Будем справедливы и к Густаву — дитя большого достатка и неограниченной свободы. Учился как сам хотел, а в воспитании родители полностью полагались на новые юношеские отряды в школах — «гитлерюгенд». Там не в моде были сантименты, а вопросы совести, общечеловеческой морали считались отсталой и преступной «метафизикой». Шеф школы — морской волк, долго плавающий на подводных лодках, капитан первого ранга фон Бисмарк, дальний потомок бывшего канцлера Германии — изобрел оригинальный способ наказания для своих воспитанников. За то, что молодой Густав Пуффер в компании с другими воспитанниками фон Бисмарка раздели на улице канцеляристку своей же школы и одежду вернули только в баре за выкуп, — раздетая должна была выпить с Пуффером на брудершафт бокал крепкого вина, — шеф школы приказал в его присутствии перед всем классом повторить все от начала до конца...
Возможно, что такой метод воспитания должен был действовать по классическому постулату медицины: подобное лечится подобным. Но на Пуффера молодого он возымел совсем противоположное воздействие.
И, вырастая, он не каялся. А уже став командиром отряда гидроавиации особого назначения, очень часто охотно выполнял задания командования, выходящие за рамки обязанностей морской авиации.
Все это мы рассказали только для того, чтобы читателя не удивило внезапное решение Гешке послать «штаб» пионеров в качестве гостинца капитану фон Пуфферу.
Когда унтер-офицер докладывал ему об этом удивительном гостинце майора эсэсовского отряда, капитан стоял у стола, надевал перчатки какой-то излишне обесцвеченной пергидролем миниатюрной девушке. От того, что капитан умышленно надевал правую перчатку на левую, девушка раскатисто смеялась.
— Ну и что же? — спросил капитан унтер-офицера, ничего не поняв из-за смеха.
— Приказано отвести их к вам, господин капитан.
— Да, отвести. И что же?
— Не могу знать. Может, как-то... особенно утопите их в море?
Только тогда фон Пуффер посмотрел на унтер-офицера, смерил его взглядом, от которого у того закололо в пятах.
— Передайте вашему Гешке, что он дурак, а капитан фон Пуффер не акула и не функционер гестапо... Впрочем, давайте сюда этот штаб. Хотите, Жюли, я вам их подарю?
— Жюли, Жюли... Капитан хочет отвязаться от меня и дарит каких-то...
В этот момент тот же унтер впустил в комнату наших четырех героев. У Романа был синяк под глазом, у Вани на подбородке через губу засохли струйки крови.
Но ребята чувствовали себя достаточно бодро. Олег даже непринужденно улыбался, увидев девушку с такими испорченными пергидролем волосами.
Капитан рассмеялся. Его поддержала девушка, бесцеремонно подталкиваемая рукой своего кавалера.
— Ну и штаб! Все же передайте вашему трусу Гешке, что он дурак. Так это — штаб?
Пионеры оглянулись на конвоиров, понимая, что вопрос относится не к ним. Тем более, что немецкого языка ни один из них почти не знал.
Но и унтер-офицер воспринял реплику капитана не как вопрос, а просто как констатацию неприятного факта. И тоже не ответил.
Капитан и не настаивал. Он думал. Смотрел на пионеров, а думал неизвестно о чем. И если бы унтер не догадался спросить разрешения идти, капитан, видимо, еще долго не вернулся бы в действительность.
— Идти? Да, можете идти... Впрочем, позовите адъютанта. — И к пионерам: — Так вы штаб?
Ребята поняли слово «штаб» и тон вопроса. Утвердительно кивнули. Юра вышел вперед, чтобы заслонить собой Романа с подбитым глазом.
— Мы пионерский штаб, а не военный, — четко объяснял Юра с выразительным грузинским акцентом. Он и не думал оправдываться. Но возможные неточности в выяснении, кто они, беспокоили Юру, как беспокоит честного человека самая невинная неправда.
Офицер повернулся к девушке, вопросительно глядя на нее, и она тотчас же перевела эту фразу, безбожно переврав последние слова. Из того капитан понял, что «пионерский штаб — это то же самое, что и военная организация из детей советских офицеров».
— Вот как! Юные партизаны! — воскликнул капитан, как будто нашел именно то, чего ему так долго не хватало. Советские патриоты действительно начинали то в одном, то в другом месте донимать наступающие гитлеровские войска. Слово «партизаны» начинало все чаще появляться не только в штабной, но и общевойсковой речи гитлеровцев. Оно заставляло настораживаться и вызывало желчную злобу, особенно у офицеров.
Вошел адъютант. Короткие усики, торчащие под самым носом на молодом, почти юном лице обер-лейтенанта, свидетельствовали о его далекоидущих симпатиях к личности «фюрера».
— Самолеты готовы к старту, господин капитан гидроавиаслужбы! — отрапортовал адъютант, проскочив между пионерами.
— Да. Курту Веберу вести авиаэскадрилью. Вейгту — ее замыкать. Старт — зеленая ракета с моего самолета. Кстати, этот штаб, — показал на пионеров презрительным кивком головы, — нам не нужен... Впрочем, передайте об этом Вейгту. Простите, Жюли, может действительно подарить вам на память?
— О, нет, не надо, — отшатнулась Жюли.
Наши герои слышали этот разговор, догадывались, что говорят о них, но, кроме слова «штаб» и фамилии Вейгта, ничего не поняли. Послушно повернулись под толчками унтера, который пытался угодить расфранченному морскому летчику-офицеру, и вышли из кабинета.
Их повели к морю, туда, откуда доносился рев двигателей двух десятков тяжелых бомбардировщиков морской авиации. Бомбардировщикам вторило столько же заведенных моторов истребителей, которые должны были прикрывать неповоротливые, хотя и быстроходные, бомбардировщики.
Адъютант торопился, и каждый раз, когда он останавливался, ожидая, ребятам приходилось подбегать по его писклявым покрикиваниям. Конвоиры тоже старались быстрее избавиться своих арестантов и не жалели толчков и бранных угроз.
Ребята даже вспотели. Когда подошли к морю и адъютант что-то крикнул в пространство над волнами, показалось, что он кричит в гроб. Это было так называемое спокойное в бухте, а на самом деле глубокое и грозное море. Никакого ветра, а оно качается гонкими волнами, словно дышит от тяжелого труда. По тому, как конвоиры спешат, ребята поняли, что в этих грозных тяжелых волнах их ждет страшный конец.
Ваня подошел к Олегу и пожал ему руку. Как будто хотел сказать: держись, авиатор, видишь, гидросамолеты. Парень должен был бы улыбнуться в ответ на подбадривающий жест товарища. Но Олег страдал, как ребенок, неожиданно брошенный родителями. На глазах его блестели слезы.
Роман почему-то считал, что, надувшись и глядя исподлобья на всех летчиков и конвоиров, он умилостивит их или убедит в том, что в советских пионерских лагерях нет ничего плохого. Он тоже заметил те слезы у Олега, смешно подмигнул ему налитым кровью, подбитым глазом и мрачно произнес:
— Не дрейфь, авиатор! Мы пионеры... Слышал, партизанами назвал, собака!
К берегу, где они стояли, ожидая своей участи, подошла лодка с двумя летчиками, судя по униформе. Это их позвал адъютант командира своим писклявым голосом.
— Капитан передает их Вейгту, — лаконично сказал гитлеровец.
— Погоди! — властно крикнул сидевший на корме лодки. Ребята заметили, что у него на погонах такие же отметки, как и в адъютанта. — На какого дьявола нам эти шкеты? Мы берем большой запас горючего.
— А кто говорит их... брать? Капитан приказал передать их Вейгту.
Олег закусил губу, чтобы не заплакать. Но не мог. Ему показалось, что товарищи не понимают ситуации. Хотя немецкого языка он тоже не знал, но несколько слов понимал — его отец, инженер, прекрасно владеет этим языком.
И почему-то возникла уверенность, что уж это им конец. Теперь ничего не придумаешь. Гибель через каких-то несколько минут казалась для него неизбежной.
Их подтолкнули в лодку. На берегу остались конвоиры и адъютант.
Лодка тронулась. Морская влага напомнила Роману пляж пионерлагеря, скалы с птицами, щебечущие, нежные девичьи голоса, Любку Запорожец...
— Вы кто такие? — спросил с кормы летчик каким-то вроде бы и чужим, но вместе с тем знакомом языком. Пионеры не сразу ответили, хоть и поняли вопрос. Инстинкт велел разобраться, прислушиваться к тону, чтобы знать, кто именно говорит. Но суровое выражение лица летчика мало подходило к будничной фразе вопроса.
— Мы школьники, — ответил Роман. — В лагере были.
— А как же... тэн штаб? — спросил летчик, не меняя выражения глаз, лица.
На это уже ответил Ваня, которому казалось, что именно этому летчику надо сказать все, как оно есть на самом деле, без недомолвок.
— Никакой не штаб. Мы так, играя, штабом себя объявили.
— Угу... Значит, Вейгт утопит... — произнес летчик жестокое резюме и как бы от неловкости отвернулся.
Лодка подходила к большой двухмоторной машине. Она легко и величаво качалась на спокойной ряби моря. Винты мощными стропилами своих трех лопастей словно в дреме успокоились, нависая над водой.
— О чехах слышали, народ такой есть? — еще более тихо и грозно спросил летчик, снова остро глядя на ребят в вечернем миноре дня. Казалось, что и не увидит он их за внезапной мыслью о собственной судьбе...
— Мы хорошо знаем чешский народ. Это наши друзья!.. — подхватил Олег, словно услышав в этом спасение. Даже слезы вытер ладонью на щеках.
— Чех исем, — уже совсем тихо и, казалось, успокаивая нервы, произнес летчик, хватаясь за поплавки, на которых качался самолет. И подсаживал поочередно всех четырех, каждый раз шепотом произнося: «Саветници друзья...». Каждое слово хотел выговорить, как произнес Олег.
На борту авиакорабля крикнул толстому, как будто опухшему офицеру, показавшемуся в дверях:
— Герр Вейгт! Капитан фон Пуффер приказал взять их на борт!
Толстый Вейгт капризно провожал глазами каждого мальчишку и про себя выражал недовольство командованием:
— Запас горючего — до Вейгта. Замыкающий эскадрильи — тоже Вейгт. Игрушку для фон Пуффера, каких-то молокососов большевистских возить — опять Вейгт... Пранек! Распоряжайся ими сам, ну их к черту. Все равно в рейсе придется за борт выбрасывать.
— Есть, — с подчеркнутой обычностью в условиях службы ответил чех.
Совсем вечерело. Эскадрилья самолет за самолетом снялась с моря, взяв курс на запад.
Самолет лейтенанта Вейгта поднимался в воздух последним. Он дольше других разгонялся по морской глади и очень трудно, не с первого раза, оторвался от воды. Пилот Вейгт недовольно оглянулся с кабины, молча взглядом выразив свое недовольство перегруженностью самолета.
— Пранек! — крикнул он в трубку к бортмеханику машины, чеху. — Груз фон Пуффера привязать или пристрелить. Чтобы они не переходили с места на место.
— Есть!
Пранек в самолете был и за бортмеханика, и за стрелка на башенном пулемете, а в дальних рейсах подменял даже пилота. Наблюдательному Юре Бахтадзе сразу показалось, что чех — опытный и точный в вопросах выполнения службы человек. Однако немцы при первой же возможности пытаются бесцеремонно подчеркнуть свое арийское превосходство.
Даже в этом приказе о пионерах Вейгт мог бы не задевать чеха — он стоит у пулемета. Ведь известно, что ни один бортмеханик эскадрильи не стреляет так метко по вражеским самолетам, как Пранек. Именно из-за Пранека, как бортового стрелка, Вейгта всегда оставляют замыкающим в эскадрильи.
На борту самолета был еще один гитлеровец — штурман. Службу свою знал хорошо, добросовестно ее выполнял, но считал, что тем приносит большую жертву на алтарь нацизма. Не будучи графом, он не жаловался на нехватку друзей из графских сынков, которые плелись за ним, привороженные неограниченным богатством его отца. Среди членов экипажа штурман держался обособленно. В рейсе только он один никогда не расставался с парашютом и каждый раз на стоянках делал массаж плечам. Во время воздушных боев штурман хоть и брался за ручку своего нижнего пулемета, но еще ни разу им не воспользовался.
Проходя к верхнему пулемету, Пранек осмотрел всех четверых. Ребята сидели в разных местах, неудобно вцепившись кто за канистры с горючим, кто за трап башенного пулемета. Юра прикипел в уголке так, что его с первого раза и не увидишь, пока не привыкнешь к темноте.
К нему и подошел чех.
— Боишься?
— Боюсь? — переспросил Юра, гордо выпрямившись и отрицательно качнув головой.
Чех не видел этого жеста, пригнулся ближе к парню, осматривал.
— Я не первый раз лечу, господин... чех...
— Пранек я си зову. С Судет я, гражданский авиатор... — Юра почувствовал, как все его тело закололо иголками.
Не сводя глаз с летчика, до боли в голове смотрел, как тот отвернулся, затем, вспомнив, шагнул к трапу, на ходу вынимая из кобуры длинный маузер. Парень попытался прижаться плотнее в своем углу. О маузере он кое-что знал из рассказов руководителя стрелкового кружка. Намерения чеха ему показались угрожающими. Они никак не вязались с теми представлениями о друге, которым показался им чех с первого взгляда. Медленно расправлял правую ногу, чтобы, если бортмеханик захочет стрелять, толкнуть его в живот. Судетский чех в гитлеровскую авиацию попал...
Чех молча щелкнул предохранителем маузера и снова задумался. Красная лампочка под трапом, чуть моргнув, словно разбудила бортмеханика от тяжелой задумчивости. Он быстро положил револьвер около себя и схватил переговорную трубку, даже вытянулся по привычке, слушая какие-то приказы командира.
Потом решительно подошел к Ване, который стоял, согнувшись у обшивки в другом углу. Ваня почувствовал, как тяжело дышал чех, оказавшись совсем близко. Было уже темно, и тень в углу прятала Ваню от самого пристального взгляда. Что чех оставил и, видимо, забыл оружие — этого ни Ваня, ни другие ребята, кроме Юры, в темноте не заметили.
Летчик постоял возле парня, тяжело дыша, как после тяжелой работы. Вдруг нашел Ванину руку, дернул и показал второй рукой в круг серого света с верхнего люка на картонную коробку.
— Гладни есте? — отпустил руку пионера.
Ваня ничего не ответил, решал. Но сомнений не было, чех доброжелательно предлагал взять еду из этой коробки и поесть.
...Когда ребята быстро доедали какие-то бутерброды, Пранек вновь спустился к ним от пулемета. Ребятам показалось, что он одобрительно улыбнулся. На место, где оставил оружие, даже не посмотрел. Неужели забыл?.. Потом как-то болезненно посмотрел на всех и показал рукой на середину пола:
— Люк... — безнадежно махнул рукой.
По этому жесту Ваня безошибочно понял, что может ожидать их.
А чех вновь стал у пулемета, поднявшись на две ступеньки по трапу. Его голова и плечи были в целлулоидной круглой башне.
Летели долго, ребятам очень хотелось перекинуться хоть словом о своем трагическом положении. Олег несколько раз собирался подойти к чеху и просто спросить его обо всем. Неужели... их сбросят в этот люк? Но не решился не только сойти с места, а даже пошевелиться. Удивлялся Роману, рука которого все время касалась ноги чеха. Почему он не заговорит с чехом? Почему не спросит, что задумали сделать с ними?
Речь ведь шла об их судьбе, о жизни и смерти. Каждого из них неотступно преследовали страшные мысли. Юра несколько раз коснулся рукой холодной ручки маузера, думал, зачем чех оставил оружие. Может, это провокация? Наверное, именно так и начинаются фашистские провокации.
В самолете стало так темно, что только отверстие над головами, где стоял чех, чуть выделялось бледным пятном, усеянным звездами.
На циферблате у пилота стрелки показали двенадцать часов. Вейгт поочередно убирал с руля то одну, то другую руку, чтобы размять их. Слегка стучал ногтем по стеклу приборов, зевал. Вдруг штурман со стороны подал некий знак, Вейгт быстро накинул радионаушники.
— Вейгт, я — капитан Пуффер. Где вы? Вы отстали от эскадрильи. Летим со скоростью четыреста двадцать... Какая у вас?
— Четыреста, точнее — триста девяносто, господин капитан. У меня перегружена машина.
— Чем? У вас один комплект бомб. Каждая машина идет с двумя, господин Вейгт. Спите...
— Сорок канистр горючего, четверо ваших трофейных русских. Какие-то дети по приказу адъютанта, господин капитан.
— Дети? — Вейгт уловил злую нотку в голосе командира. — Какого дьявола вы взяли на борт эту шваль? Ответите потом... Сейчас же — за борт!
— Есть, господин капитан! Будут еще приказы?
— Мы прилетаем в Италию, через полчаса или через сорок минут снова будем над землей. Садимся, согласно маршруту, не ранее чем через полтора часа. Разрешаю в Средиземном море сбросить часть бомб, если, избавившись от большевистских детей, не сможете набрать нужную скорость... Выполнение доложить немедленно! Все...
Вейгт по медвежьем оглянулся. Нервно крикнул: «Пранек!» — хотя понимал, что бортмеханик не услышит. Затем нажал кнопку.
У верхнего отверстия дважды засветилась лампочка. Она тускло осветила живописным конусом обычный закрытый люк внизу. За пределами этого конуса стало еще темнее.
Заметив сигнал, Пранек быстро спустился и подошел к командиру. Так было всегда, и Пранека это не удивило. Как и всегда, Вейгт кивнул непокрытой головой на сектор руля и, сняв наушники, встал с сиденья пилота.
Для Пранека не новость — такая молчаливая беседа в рейсе. Даже уже выработалась профессиональная последовательность движений при замене пилота в рейсе. Пранек взял руль, протиснулся мимо Вейгта и сел на его место.
Стрелочки на приборах чуть шевельнулись и снова стали в свое нормальное положение. Только стрелка скорости нервно прыгала между отметками триста восемьдесят и триста девяносто.
Вейгт устало ткнул пальцем, указывая на эту нервную стрелку, вышел из кабины пилота, плотно прикрыв за собой стеклянные двери, и двинулся в глубь самолета.
Пилот привычным движением раскрыл люк, и страшный рев самолета ворвался внутрь. Разгибаясь, Вейгт начал загребать рукой позади себя, чтобы схватить Ваню. Но из такого неудобного положения не мог достать. Тогда передумал, оглянулся, посмотрел снизу вверх на Романа. Лицо фашиста в холодном зеленоватом свете было перекошено устрашающей гримасой: выражение звериного удовольствия, улыбка дьявола, подчеркнутой злости.
В эту напряженную минуту и выстрелил Юра Бахтадзе. Пилот согнулся, губы капризно дернулись ужасом. Шевельнулся, как сильный медведь на цепи, стараясь не упасть в люк, взмахнул обеими руками, чтобы уцепиться за что-то. Цеплялся за жизнь, уже навсегда оставляющую его.
Ваня толкнул гитлеровца ногой и тем довершил дело. Тяжелый Вейгт, окончательно потеряв равновесие, нырнул в люк. Падая, еще раз взглянул налитыми кровью глазами, за кого бы ухватиться. Цеплялся руками, неуклюжими ногами за борта люка. А внизу под ним дрожала гулом пустая пропасть ночи...
Роман оторвался одной рукой от трапа, дернул крышку и хлопнул ею, закрывая. Словно отсекся внешний шум — и самолет снова наполнился нормальным, привычным и успокаивающим гулом.
Ни один из четырех наших героев по-настоящему не понял всей глубины этого чрезвычайного происшествия. То, что в самолете на одного гитлеровца стало меньше, казалось каким-то призрачным сном. Хотя в то же время трое ребят ни на минуту не сомневались, что только что стрелял именно Юра, а не кто-то другой. Но откуда в его руках оказался боевой пистолет?
Почему остальной экипаж никак не реагирует на такое происшествие?
Олег первый осмелился подбежать к своему другу. Не сказав ни слова, бросился обнимать и целовать его.
— Юрочка! Какой же ты... мой! Наш... Ты, Юрочка, Герой Советского Союза! — приговаривал Олег, обцеловывая горячую голову Юры Бахтадзе.
— Это он... чех оставил, — прошептал Юра на ухо другу, как будто оправдывался.
— Чех? — вырвалось испуганное у Олега. Даже присел парень, пораженный таким известием.
Ваня тоже перестал держаться за обшивку, попытался устоять, по-матросски расставив ноги.
— А что, гадина! — сам себе сказал Ваня, оглянувшись на закрытый люк. Затем крикнул Роману, стоящему в фиолетовом конусе света: — Ромка! Роман, живем!..
Парень оторвался от трапа, шагнул навстречу Ване. Видимо, он ждал, надеялся, что Ваня будет подбадривать его на правах старшего. Может, догадывался даже, какой фразой начнет. Поэтому сам сказал навстречу Ване:
— Порядок, Ваня! Молодец, Юра.
Ваня с не свойственной ему нежностью обнял Романа, даже всхлипнул в тревожно радостном возбуждении над ухом друга.
— Это Юрочка Бахтадзе. Герой! — прошептал.
Юру хвалили, обнимали. Все беды, неизвестное и наверняка трагическое будущее затмила эта удивительная победа. Юра от волнения и слова не мог произнести.
Стояли вчетвером, крепко поддерживая друг друга, в этом теперь была их сила! Самолет грохотал, вздрагивал, словно падал в какие-то рытвины и вновь выравнивался. Они стояли как зачарованные, наивно радостные, на мгновение забыв, что летят неизвестно куда на вражеском боевом самолете, который должен же где-то приземлиться.
Юра уже не выпускал оружие, теперь ставшее для него милым и дорогим, как теплая и надежная рука матери.
Только теперь все четверо поняли, что чех не случайно оставил маузер, и изменили о нем мнение: Пранек был своим человеком!
— Где он? — в тревоге спохватился Олег.
— Ведет машину, — сообщил Ваня, единственный, кто видел через стеклянные двери, как Вейгт загадочно передавал руль лейтенанту Пранеку.
— Ура! — вырвалось у Олега. Но Роман закрыл ладонью рот возбужденному другу. Ведь они были в воздухе где-то над неизвестной землей или океаном. — Самолет ведет друг, но на нем еще есть и фашист. Малейшая его догадка о происшествии у люка, и он...
— Что же он? Один против пяти, в воздухе...
— Он пристрелит чеха за рулем, а сам выбросится на парашюте в люк под ногами.
Недаром Ваню признали главарем не только эти четверо, судьбой заброшенные путешествовать между небом и землей, но и весь пионерский лагерь. Как тонко и всеобъемлюще он понял положение.
— Ты, Юра, встань на мое место, у стены, и целься ему в голову. Целься хорошо, но не стреляй без надобности, пока я не узнаю у чеха, как надо себя вести, что делать.
Команду выполняли молниеносно. Юра стремглав бросился к стене. Из-за нее сквозь стекло двери, в скупом свете зеленых ламп, над многочисленными приборами силуэтом выделялась голова штурмана.
Ваня пошел в кабину пилота и остановился у стеклянных дверей, набирался смелости. Ведь этот третий гитлеровец, увидев около бортмеханика за рулем не пилота, а одного из четырех советских пионеров, поймет, что означал тот выстрел, прозвучавший несколько минут назад.
А штурман действительно мог услышать звук выстрела. Ведь чех Пранек его прекрасно слышал, находясь в кабине по соседству со штурманом. Правда, Пранек ждал этого выстрела! Но слышал и штурман. Он на мгновение оторвал взгляд от карты и приборов, слишком резко, вопросительно посмотрел на чеха. Их взгляды встретились, глаза засветились зеленым блеском, отраженным от приборов. И чех в этом тревожном взгляде штурмана понял стандартный вопрос:
— Что это?
Пранек игриво подмигнул штурману, слегка качнув головой назад. И штурман многозначительно кивнул головой в ответ — мол, все ясно. Он снова склонился над приборами и картами. Но Пранек тоже прекрасно играл свою игру. Уголком правого глаза он следил за штурманом. От его тревожного внимания не укрылось, как тот дрожащей рукой, вороватым движением выключил радионаушники Пранека.
— Послушайте, штурман. Вы случайно выключили мои наушники. Что случилось? — Крикнул чех в трубку.
— Вполне возможно, — поспешил штурман, тотчас включая наушники пилота.
— Герр бортмеханик, — обратился штурман к Пранеку. За время своего пребывания на корабле он вообще никого не называл по фамилии, как принято в эскадрильи по специальному приказу командира. — Послушайте, господин бортмеханик, куда делся пилот?
— Расправился с большевистскими детьми и, видимо, спит, — ответил Пранек.
— Сном праведника? Вы слышали выстрел? — снова спросил штурман, глядя на чеха.
— Вполне возможно, господин штурман, — ответил чех, заметив, что к нему в кабину проскочил старший из ребят. Теперь Пранек уже не сомневался, что тот единственный выстрел попал в цель.
— ...Вейгт! Вейгт! Я — капитан фон Пуффер... Вейгт!.. — услышал чех в наушниках, но не отвечал командиру эскадрильи. — Вейгт! Я — капитан фон Пуффер... Где вы? Готовимся к посадке, где вы, черт вас побери?
— Вейгт убит! На корабле партизаны...
Штурман уже успел закончить эту фразу, когда оторопелый чех спохватился и выключил своим аварийным выключателем его передатчик. Штурман понял: единственное спасение — это выпрыгнуть из самолета на парашюте. Но для того чтобы снять наушники, встать с сиденья и протянуть руку, чтобы дернуть на себя рычаг люка под ногами, ему надо потратить не менее полминуты времени.
Это целая вечность в его положении.
Внимательному Юре Бахтадзе нужно было только одно мгновение, чтобы понять намерение фашиста. А другого момента вполне хватило, чтобы нажать на гашетку маузера.
Штурман неуклюже упал поперек открытого люка. Судорожно схватился рукой за ножку кресла, на котором сидел, и... повис над пропастью.
— Алло, вы... как вас там. Пионеры, черт побери! Лечу в Америку, капитулировать буду. Кто из вас водит автомашину?
— Конечно же, Олег! Он и самолет уже изучал в авиакружке! Олег! — крикнул Ваня.
Олег не ждал повторения. Едва услышав свое имя среди невероятного шума, подошел и наклонился к чеху. Но внешний шум, врываясь в открытый штурманом люк, не давал возможности свободно говорить бортмеханику. Чех нажал на ручку сбоку, которая синхронно соединялась с ручкой штурмана. Но люк не закрывался. Удивленный Пранек приподнялся с места — хотел увидеть, что ему мешает.
Ваня ловко отскочил в сторону, ухватился за спинку кресла и ногой сбил с ножки задубевшую руку штурмана. В тот же миг люк, хлопнув, закрылся. А чех давал уже следующий приказ, четко выговаривая каждое слово:
— Открыть тот, внутренний люк, — кивнул головой назад, — и выбросить за борт все банки с горючим, все, что можно, — прочь, прочь! Снять дверь с петель, боковые скамейки с гнезд, брезент, вещи экипажа — все за борт! Нам нужен потолок... Олег! — крикнул, чуть передохнув, чувствуя, как все четверо бросились выполнять приказ командира.
Олег повернулся и стыдливо стал, едва прикоснувшись к локтю пилота, подумав, что тот не видит его со стороны.
— Оле-ег! — еще раз крикнул чех. В чрезвычайном покое Пранека Олег почувствовал высшую меру волнения. — Может быть воздушный бой... Это основные рычаги управления. Берись за мою руку сверху на штурвале. Если слегка, словно играючи, повести рукой сюда или туда, корабль послушно пойдет в ту же сторону. Но нам лететь только на запад. Эта стрелка указывает направление. Ясно?
Олег догадывался, к чему идет, и не совсем охотно кивнул.
— Садись! — неумолимо приказал чех. — На учебной машине летал? Садись и здесь.
Не отрывая руки от штурвала, Олег просунулся на освобожденное чехом место. Тот улыбнулся, чуть скрывая принужденность улыбки. Хотел таким образом успокоить парня.
— И помни: Пранек здесь всегда и автопилот я включил, равновесие будет держать сам, — успокоил мягким тоном, но уже крича, потому ребята открыли люк и внешний шум бурей ворвался внутрь. — Возьми себя в руки! Волноваться можно только на дне океана, над которым летим, или в желудке акулы... Ну вот, правильно! Теперь берем штурвал на себя. Корабль поднялся вверх. Браво, браво! Давай еще выше, Олег! Теперь выровняй. И еще выше, выровняй...
Олег почувствовал у себя на щеке нежный, родительский поцелуй. А может, только так показалось. Потому что в следующее мгновение возле него уже никого не было.
— Ой! — ахнул парень. И тут же смущенно притих.
Лейтенант Пранек стоял на расстоянии одного метра от парня и пристально следил за приборами и за вспотевшими руками парня. Затем обернулся на лязганье крышки люка.
— Выполнено, товарищ командир! — ответил Ваня, вложив в то смелое «товарищ» и любовь, и благодарность, и пионерское рвение.
После нескольких маневров рулем «на себя» машина достигла потолка. Почти раздетым ребятам становилось холодно. Кроме Олега, с которого от напряженной работы ручьями струился пот. Но и он понемногу успокоился, остыл.
Стрелка скорости все еще нервно качалась, но теперь уже между цифрами 410 и 470.
Пранек, стоя возле Олега, время от времени включал наушники, смотрел на приборы, увеличивал подачу газа в моторы. Корабль начинал слышнее стонать на неожиданных ямах, когда попадал в облака, которых в действительности не было. Чистое, черное небо серело над головой многочисленными звездами.
Вдруг Пранек услышал в наушниках слабый голос:
— Капитан Б, капитан Б. ...Пранека на курсе не нашли...
— Бараны! Пранек на километр выше вас... Высылаю Горна и Кюхельвейса.
Пранек качнулся. Горн и Кюхельвейс!.. Это же известные на всю гитлеровскую армию истребителей асы-ночники. Кто не помнит ночных операций этой смертоносной двойки! Работая в паре, каждый из них имеет свой облюбованным прием нападения. О горновском маневре перехода со «свечки» в атаку, когда машина еще идет в мертвой петле, говорила не только отечественная, но и мировая пресса. Прием знали, но противостоять ему не могли.
Пранек тоже хорошо знал эти смертельные приемы обоих своих нынешних соперников, и невольная дрожь прошла по его телу. Объединенные маневры этих двух асов были непреодолимы. Единственная надежда на ночь и непредвиденную нормами скорость его самолета. Чех медленно снял наушники, машинально надел их на голову Олега. Вслушивался или думал, неподвижно застыв на месте. Кюхельвейсовская лобовая атака!.. Вслушивался, думал. Может, работа какого-то из моторов заставляла его вслушиваться? Может, раскаяние за свой отчаянный поступок овладело им? Мечту перейти в армию больших союзников лейтенант Пранек лелеял давно. Он подробно обдумал план бегства еще с первого дня войны.
Лейтенант Пранек принимает воздушный бой с Горном и Кюхельвейсом!
— Ну-ка, экипаж! Господин стрелок пусть встанет за тамтым пулеметом штурмана, — обратился он к Юре. — Ты, — Пранек коснулся плеча Вани, — будешь стоять около меня на башне, если что — подменишь! Господин с одним глазом будет следить возле Олега. Господин Олег, браво, господин Олег! Если бы его друг или сам господин Олег заметил Кюхельвейса... впереди, в пространстве, пусть только возьмет его в тот пересеченный круг и нажмет на эти пуговицы. Малый пуговица — пулемет, большой — пушка. На Кюхельвейса не помешает нажать на оба вместе, господин Олег. Курс — на запад, по стрелке, и... девиз — победа!
Вдруг Пранек оборвал речь и в следующее мгновение уже был на башне около Вани. Олег только заметил, как стрелка одного из приборов внезапно зашевелилась, словно на нее влияли какие-то посторонние магнитные факторы.
Олег прочитал над прибором:
«Люфтахтунг»
«Люфт — воздух, ахтунг — внимание», — подбирал Олег, вспоминая свои скромные знания языка. И почувствовал радость, не похолодело ему от страха в груди, не задрожали руки.
В воздухе враг, с которым они будут сражаться. Здесь не так, как с конвоиром унтером, что толкал Ваню в кюветы, сапогом бил в зубы. И Роману залепил под глаз еще и автоматом пригрозил. Здесь пулемет, пушка. Малый пуговица, большой пуговица... Так и хотелось попробовать нажать их.
Глазами пытался проникнуть в темноту ночи. Даже жалел, что за стеклом была все та же пустота, жирная тьма, как густое сито, изрытая мириадами звезд.
На башне стояло начеку четыре глаза. И почти одновременно они заметили, как где-то справа, обходя их самолет, неслось чернее ночи пятно. Собственно, оно было таким же, как и ночь, только, проносясь, то закрывало собой звезды, то открывало, оставляя их позади.
Ваня тронул локтем бортмеханика. Пранек уже готовил свой пулемет. Только и сказал:
— Горн!.. Нас еще не заметил... — но через мгновение добавил: — Заметил, проклятый. Видимо, думает, что Пранек за штурвалом, потому что не решился бы так рисковать. Нет-нет... Пранек — бортовой механик, господин Горн!
Пятно уменьшилось — истребитель «Мессершмитт» пошел курсом самолета с беженцами. Стрелять по нему было еще рано, но истребитель шел на пули с катастрофической скоростью. Пранек мог рисковать. Единственное сдерживало: может, Горн повернул где в сторону. Выстрелишь — только себя выдашь.
Но ждать дальше было нельзя. Наступила критическая минута, когда и Горн мог начать бой. Горн хотя и знал смертельную точность стрельбы Пранека, но был уверен, что в самолете некому вести машину, кроме чеха, и выстрелы Пранека достанутся лишь Кюхельвейсу.
Но чех нажал кнопку. Несколько точных попаданий обозначились на истребителе яркими точками...
И в тот же миг с истребителя тоже сорвались кинжальные струи огня. Короткие, но нервные и неточные.
— Горн упился, как выражаются советские летчики, — сообщил спокойный чех. — Стреляет раненой рукой.
«Мессершмитт» на мгновение исчез, но сразу же снова вынырнул с той же стороны, набирая высоту. Это уже был классический горновский маневр, из которого только советские летчики ловко выходили живыми. Но... в одной части горновского самолета разгорался пожар. Именно он и был ориентиром во тьме для пулемета чеха. К тому же стрелял настоящий кавалер рокового выстрела — лейтенант Иржи Пранек!
Бортмеханик плавно повернул пулемет и, будто совсем не целясь, ударил врага короткой очередью в кульминационной точке его мертвой петли.
Машину Пранека тоже рвануло вправо вниз... Чех мигом оказался возле Олега за штурвалом. Но машина снова набирала высоту, выравнивала курс.
— Самолет стрелял... — коротко пояснил Роман.
— Браво, Олег! — крикнул Пранек и бросился на башню. — Они оба здесь.
— Кто? — спросил Ваня.
— Асы — Горн и Кюхельвейс.
— Но... только один. Потому что второй загорелся и взорвался... Сам видел!
— Браво, черт возьми! Промазал Горн. Теперь Кюхельвейс, этот более уравновешенный. Наш Олег хорошо держится... — в восторге или в нервном возбуждении говорил Пранек.
Машину снова бросило из стороны в сторону.
— Кюхельвейс здесь. Чувствую его почерк лобовой атаки. Дать бы штопор, Олег, штопор!.. — почти мечтательно воскликнул озабоченный боем бортмеханик.
Снизу послышались выстрелы Юриного пулемета. Две пули снизу продырявили обшивку корпуса машины и взорвались вверху. Осколком от второй пробило башню как раз над головой Пранека.
Ваня не знать с чего упал на пол самолета. Испугался или может действительно, как показалось, чех, спасая парня, изо всех сил толкнул его вниз. В это время Ваня услышал, как разом заговорили пушки и пулемет Олега.
Самолет снова бросило влево, вправо. Ваня услышал, как к нему с трапа сполз лейтенант Пранек. Он тяжело стонал и что-то неразборчиво повторял, затихая. Ване показалось, что чех говорил:
— На долину! На долину... — голос его оборвался вместе с жизнью.
Ваня обернулся. Возле Олега лежал Роман и что-то выкрикивал. Машину несло вниз, в пропасть. А впереди еще стремительнее летел вниз целый клубок огня.
«Самолет горит!» — понял Ваня, не зная, радоваться этому или грустить.
— Олег, это ты? — выкрикнул вопрос.
— Я, Ваня, я! Но и мы... горим! Вон... — кивнул он на правое крыло самолета.
Действительно, там прорывался снизу огонь, и только сильный встречный поток воздуха сбивал его. Сбивал, но не тушил...
И тут этот передний клубок огня вдруг будто ударился о какую-то твердую преграду, брызгами огня залил скалу и лес внизу. Олег инстинктивно дернул руль на себя. Послушная машина аж застонала, переломив гон вверх. Аэронавты неизбежно должны были врезаться в ту кручу какого-то материка или острова в океане, где огненными брызгами разлетелся сбитый Олегом ночной истребитель Кюхельвейса.
Огонь от разбитого самолета нырнул в бездну и исчез. Олег почувствовал, что его самолет, поднимаясь вверх, помимо его воли начал круто поворачивать влево. Пришлось выровнять подъем. А на горизонте уже загоралось утро. Только теперь как-то будто внезапно начали открываться неохватные просторы.
«Значит, мы повернули на восток», — догадался Олег и, помогая автомату выруливания, нажал влево руля, подав его еще от себя.
Перед глазами — безбрежный, еще черный океан. Он, как космический диск, вращался просто перед глазами, с катастрофической скоростью приближаясь к Олегу, к самолету.
— Ой, братцы! — панически закричал Олег, поняв неотвратимость гибели.
Справа уже полыхало все крыло. Вдруг правый мотор самолета затих. Через мгновение начал подозрительно чихать и левый мотор и… затих. Самолет как будто остановился в воздухе. Только свист остался из всех шумов, да и тот медленно снижался, уменьшался.
Ваня вскочил на крик Олега. Юра тоже бросился от своего пулемета. Самолет будто входил в океан, автопилот перестал действовать.
В последний момент Олег еще пытался управлять машиной. Он понимал, что самолет слушается уже не так, как раньше. Но инерция пике действовала с меньшей силой, чем моторы. Олег дернул руль на себя. Пытался делать это медленно, как показывал чех. Но какая тут медлительность, когда океан так катастрофически приближается космическим подвижным диском. Щемяще холодный страх подталкивал руки, торопил делать все молниеносно. А горящее чудовище словно через силу все же послушно рванулось, чтобы выйти из смертоносного пике, затрещало в ужасном бессилии. Всех троих ребят как ураганом сбило с ног, они попадали на пол...
Или поздно Олег понял положение, или огонь на крыле самолета, угрожая взрывом горючего, парализовал его сознание, только его отчаянный жест, который должен был вывести самолет из катастрофического пике над океаном, опоздал на несколько секунд!
Самолет стремительно нырнул в волнующуся пучину океана.
5
Паника охватила не только тех, кто остался в пионерском лагере. Она перекинулась на все побережье моря. Даже когда более счастливые из пионеров Лузановского лагеря возле Одессы, куда прибилась Любка Запорожец, отправились поездом из Одессы домой, тревога среди них разгоралась, как пламя на ветру. Где-то на узловой станции ночью их разбудили тревожные сирены и гудки паровозов. Дети растерялись, падали на пол и не заметили, как Люба выскочила из вагона. В тот же миг поезд тронулся и понесся на стрелках, мимо горящих вагонов. Земля содрогалась от взрывов бомб, занемевшие девочки лежали на полу вагона. Некоторые из них плакали, но это уже был не плачь, а какой-то полуживотный вой от отчаяния.
Таково было путешествие тех более счастливых. А что же у тех, кто остался еще в крымском лагере, ожидая родителей, или пошел пешком или поплыл морем?
Это все и вспомнила Любка Запорожец, когда от страха выскочила из вагона на той разбомбленной узловой станции. Она часто думала о своих друзьях из лагеря. Вспоминала Романа. Он остался в лагере, чтобы уехать последним. Правда, с ним осталось еще трое.
И все это из-за нее. Что подумает о ней Роман, который всегда бросал ей на пляже лесной цветочек и кричал: «Лю-боч-ка!»?
Что именно вкладывал он в тот возглас, может просто дразнил, но Любке казалось теперь, что это было дружеское, ласкательное любование ее именем.
В таких сомнениях девушка и решила...
Парень из-за нее остался в таком несчастье. Наказывать страшной опасностью гибели в водовороте войны — это слишком.
Поезд ушел без Любки. Немного поплакала, даже сожаление растревожило душу. Но осталась верна своим благородным намерениям.
Отсюда в Крым поезда не шли. Железнодорожная администрация ничего толком не смогла ей сказать и о возвращении в Одессу. Девушка решила пешком идти от станции к станции. Первую ночь переночевала в железнодорожной будке. Сторожиха рассказала, что гитлеровцы прорвались далеко на восток, даже и эту железнодорожную колею будто бы перехватили. Зря девушка пытается здесь пройти на юг.
— Я же должна, тетя. Там... мой брат!
— Разве что так. Жалко парня, — пожаловалась женщина. И снова шла Любочка вдоль железной дороги. Действительно — приблизилась к линии фронта. Собственно, какая там линия! Часто начали летать наши и вражеские самолеты. Вдоль путей появилось много страшных, рваных ям от бомб.
Занервничала девушка, потеряла равновесие. Как же была рада, когда у одного разрушенного моста встретила аж трех ребят из Лузановского лагеря! Ни одного из них не знала, а встречала так, словно все они были близкими ее друзьями. Витя Довженко, Боря Гольдин... Третий, молчаливый такой, назвался Аликом.
Это же просто счастье! Одинокая, нервничающая девушка уже терялась в путешествиях. И вдруг — аж трое товарищей! Навстречу Любе бросились. Тот Алик взял у нее корзину из рук.
Сели, наперебой расспрашивали друг друга, хвалились. Ребята искренне уговаривали Любу идти вместе с ними, потому что в Одессе уже поселились немцы... Люба колебалась. Здравый смысл подсказывал ей, что ребята правы. Через Одессу ей уже не попасть в Крым.
— Мы напишем твоему брату Роману, что ты, Люба... Что ты, — разогнался было Витя успокаивать девушку, но так и не нашел нужного слова.
Теперь уже вчетвером им не страшно было заночевать и в поле, под копной пырея. У Любочки еще были продукты, она поделилась ими с друзьями. Так и уснули, отгоняя комаров.
Ночью проснулся Алик, разбудил обоих парней. Впереди, куда они шли, слышалась стрельба, в небо взлетали ракеты. Это было грозным предостережением. Такие ракеты они уже знали — это фронт. Только теперь те ракеты и стрельба были не сзади них, а впереди. Да и не разберешь теперь, где это «впереди», а где «сзади». Земля кругом пошла, терялись пути, утрачивались надежды. Были родители, теплый покой и детские школьные прелести. Вдруг стало небытие, как сон в горячке...
Многие дни и ночи они шли, и им удавалось не попадать в руки врагов. По селам в основном было пусто. Женщины, бабушки охотно их принимали. Снабжали в дорогу продуктами, напутствовали чем и как могли. И друзья шли дальше. Разрушенные мосты обходили дальним бродом, обходили страшные пожарища.
Вражеские войска тем временем оседали на оккупированной ими советской земле, сажали комендантов, начинали свои гнусные тыловые дела. По селам из уст в уста передавалась ужасная весть: фашисты уничтожают советских людей, издеваются над женщинами, убивают коммунистов, советский актив и еврейское население.
И как ни старались обходить города, но как-то вечером на окраине одного из городов наших путешественников задержал военный патруль. Это были первые гитлеровцы, которых им довелось увидеть совсем близко.
Боря Гольдин хорошо понимал немецкий язык. Понимал он и то, что ему любой ценой надо прятаться. Хотя в одной деревне женщина и успокоила их, сказав, что Боре нечего бояться, — парень боялся.
Гитлеровские солдаты даже не спрашивали ни о чем. Накричали и повели к коменданту. Делали это с какой-то особой страстью. Как будто в этих четырех советских уставших путешествиями подростках были и залог их победы на фронтах, и благополучие целого фашистского рода.
Комендант сидел за школьной партой, перекладывал бумаги, то подписывал, то вчитывался. Своей внешностью не мог привлечь ничьего внимания и, видимо, зная об этом, пытался наверстать все действиями. Ибо внимание посторонних — то один из элементов, стимулирующих жизнь Фрица Дейка. Своей комендантской службой в Польше отличился как тщательный поборник расовой чистоты гитлеровского рейха. Коллеги и друзья даже завидовали его умению выкручиваться в сложных обстоятельствах. Он изобретательно умел «зачищать» неарийские народы и... прятать концы своего преступления. Какие-то представители Международного Красного Креста или экспедиция святого папы римского напали на него после ужасных оргий в городке с еврейским населением. Нагрянули где-то на третий день после «арийской чистки». Комиссия следа нарушений международной этики не выявила, никаких жалоб не только от мертвых, но и от живых не собрала.
Когда солдат патруля скороговоркой доложил о четверых задержанных детях, Фриц, не отрываясь от бумаг, спросил:
— Большевики?
Солдат, естественно, не знал, что сказать, и не ответил, только виновато оглянулся и пожал плечами. Затем по приказу коменданта подтолкнул всех четверых вперед, ближе к окну.
Грязные, босые и худые подростки робко сбились кучкой.
Комендант встал, выпихнул себя из-за парты. К детям шел, выставив вперед живот, хотя живота того не было — офицер был тонкий, как заноза. А тем, что заложил руки за спину, будто прогибал себя назад, — только делал из себя злую карикатуру. Ноги не успевали за животом.
— Кто ви, гебьята? — притворяясь совсем миролюбивым, спросил на ломаном языке.
Отвечала самая взрослая из них Любка Запорожец. Ей одной показалось вдруг, что этот перегнутый дядя совсем-таки миролюбивый человек. У него есть до черта своих военных дел, и детей ему навязали эти неразумные солдаты с патруля.
— Мы отдыхали на курорте. Школы посылали за отличные успехи в учебе.
— Угу... За отличные успехи? А сколько те есть лет, девишка?
— Мне? Одиннадцать, десять и один, господин офицер. Я с четвертого класса, — не колеблясь, солгала Любка.
— Угу. Одиннадцать лет. Родитель был комиссар?
— Я? Родители? Разве нам говорят? Я — Любка Запорожец. Мой отец — электромонтер в городе.
Гитлеровец не сразу понял такой ответ. Но для первого раза, очевидно, был вполне доволен. Чуть слышно пробормотал:
— Люпко Сапорошец... — и подошел к Боре. — Ти кто? Я вишу... твой отец не быль электромонтер.
Боря растерялся и молчал. Любка разогналась что-то сказать, стать на защиту Бори, но офицер грубо оттолкнул ее прочь рукой. Взял Борю за плечо, потянул ближе к свету. Как хищник, всматривался, не мигая глазами. Затем, чуть прищурив глаза, улыбнулся, расправляя гибкую фигуру.
— Отец быль комиссар! — коротко произнес в сторону патруля и отошел на свое место. Перед тем как сесть, махнул рукой. Этот жест можно было понять и просто: не мешайте, мол, уходите.
Но патруль понял его так, как приучил понимать свои жесты комендант. Схватив Борю за руку, плюгавый солдат грубо потянул его в открытую дверь на улицу. За Борей пошли и трое его друзей. Никто не задерживал их.
— Меня хотят расстрелять... Где-то на шоссе возле железнодорожного моста! — крикнул Боря уже на улице как прощание.
Друзья поняли, что Боря подслушал разговор своих палачей. Двое гитлеровцев безжалостно подталкивали его, держа автоматы наготове.
Тот мост они помнят. Сегодня же проходили мимо, долго и кропотливо минуя оврагами и лесами. Глубокий овраг с отвесными скалистыми стенами, а через него — железнодорожный мост. Он остался не поврежденным, и детей очень удивила это обстоятельство. Солдат ходил возле моста, как маятник, туда и обратно, напевая какой-то марш в такт своего хождения.
Наступал вечер. Трое подростков где огородами, а где глухой улицей замершего, настороженного города бежали за околицу. Они помнят, что близко к обрыву возле железнодорожного моста подходит густой высокий лес. Там есть где спрятаться от этого фашистского ужаса. Только... Как же Боря?
Наверное, и вид детей, и их плач привлекли внимание одинокой женщины, которая, притаившись среди руин железнодорожной будки, долго следила за ними. Друзья бежали оглядываясь, спотыкались, падали. И снова вскакивали, догоняя друг друга. Двое ребят каждый раз по-родственному поджидали девушку, тянули ее за руки, помогая бежать.
У женщины скатилась по щеке горячая слеза.
— Куда вы, дети? — спросила, высунувшись из укрытия.
Не сразу увидели они женщину. Но в том вопросе почувствовали мать.
Остановились на голос. Затем присмотрелись и опешили. Может ли быть женщина так одета? У нее, кажется, солдатские штаны выглядывают из-под юбки, аж на лодыжки сдвинулись. Правда, ни юбка поверх тех штанов, ни заложенная коса на голове под платком, ни туго застегнутая блузка не вызывали никакого сомнения. Однако длинные штанины тех штанов под юбкой произвели на подростков странное впечатление. Все трое замерли — прикидывая, кто она. И вдруг поняли — это друг.
— Тетя! Ой тетенька! Ваши солдатские штанины нас напугали! А Борю он ведут убивать тут над обрывом, у моста, — завопили наперебой. — Мы из пионерского лагеря! У моря были. Тетя, дорогая... Его убьют, он знает их язык. «Комиссар, комиссар», — дразнится фашист.
— У моста? — спросила женщина. Теперь только они увидели, что женщина молодая, обветренная, закаленная жизнью, что у нее большие круглые глаза. И поняли, что тетя тоже скрывается от гитлеровцев, так жестоко хозяйничающих в городе. Оглянулись, снова застонали, плача. Женщина отбросила кленовый лист, которым играла от нечего делать, ловко подтянула штаны.
Это была Мария Кленова. Она вышла разведать, как с автомашиной перебраться из большого леса через этот глубокий овраг. И ждала, пока стемнеет, чтобы вернуться к своей, теперь уже определенной жизнью партизанской группе в лесу, которая, спрятавшись с легковой автомашиной, ожидала ее, своего командира.
— Несчастные дети, мамочка моя! Чего же это вы? Да не плачьте! Этой лесной посадкой скорее бегите в тот лес. У берез над оврагом подождите. Я — тетя Маруся, фашистов не боюся, запомните это! А Борю... конечно, жаль парня.
Дети послушно исчезли в густой посадке. Тетя Маруся так с ними говорила, словно учительница или пионервожатая. Не поверить ей не могли! А женщина минуту стояла, вспоминая лицо и выражение глаз девушки.
«Такой уж я не увижу свою Ниночку...»
Затем выбралась из руин и рвами и посадкой прокрадывалась в направлении к мосту. Возле дороги, идущей из города, залегла в цементном желобе, заросшем бурьяном. Оглянувшись на городок, успела заметить в предвечерней темноте смертный кортеж неизвестного ей Бори. Представилась его мать. Как живая, упала перед ней на колени...
Ни на миг не раздумывала Мария над своим положением в этой случайной ситуации. Борю ведут двое вооруженных солдат. В полукилометре на железнодорожном мосту ходит еще один. Видимо, их у моста несколько человек. Видимо, должен быть и фашистский офицер.
А она одна-единственная женщина советская и имеет только пистолет. Как хорошо, что Виктор предостерегающе дал ей его. Шла сюда совсем легко, чтобы в разведке не вызывать ничьего подозрения. Затаив дыхание, следила за гитлеровцами.
Издалека услышала монотонный плач мальчика и отрывочные возгласы солдат. Видимо, фашисты еще и бьют его — не видела из своего укрытия. Только шептала:
— Хоть бы не застрелили, пока дойдут. Хоть бы...
А в воображении — заплаканная женщина, мать на коленях перед ней.
Вечерело. Гитлеровцы могут поторопиться и расстрелять парня, не доведя до оврага. Осторожно выглянула на дорогу. Солдаты гнали парня вперед не дорогой, а рвом сбоку. Боря иногда подбегал, резко оглядывался на удовольствие своим палачам.
Мария пролезла грязным желобом на другой его конец. Совсем близко от нее прошел Боря и его палачи. Маруся достала пистолет, прицелилась сквозь лебеду. Выстрела даже сама не слышала. Передний солдат как-то по-псиному прыгнул из канавы и упал, загребая руками землю. Второй, как кукла на шнурке, крутнулся на одной ноге. Выстрел неожиданно хлопнул и прозвучал в желобе, словно над самым ухом. И когда гитлеровец снова повернулся, Маруся уже в упор целилась ему в голову.
— Пропадай, гадово поколение, — обрекла и еще прицельнее пристрелила и этого. — Боря! Сынок, ко мне! — крикнула бедному парню, что упал, закрывая руками голову, как только грянул первый выстрел. Ему показалось, что стреляют в него и, только играя, не попали в голову.
Но голос матери, естественная теплота в слове «сынок» разбили все страхи, развеяли тысячи смертей по ветру и ласкали, обнадеживали.
Парень вскочил, ошалевший от радости. Только теперь увидел свою спасительницу.
— Мамочка, — крикнул первородное слово ребенка, не помня себя от радости и удивления.
Женщина властно вырвала автоматы из скорченных рук гитлеровцев.
— На, Боря! За мной, и как можно быстрее бежим в лес.
Боря схватил автомат и изо всех сил бросился за женщиной по канаве к развалинам железнодорожной будки. С моста выстрелил часовой. Затем заговорил ручной пулемет. Впервые услышал Боря, как звонко и грозно свистят пули. Но он весь был в сказочных чарах непобедимости этой родной, как мать, женщины.
Мария понимала, что мост от них достаточно далеко, и только случайная пуля могла им помешать.
Но в городке услышали стрельбу. В то время благородное партизанское движение еще только-только начиналось. Далеко не все гитлеровские коменданты знали, что это за советские партизаны. Сведения из штаба главного командования напоминали об этом, но их читали по долгу, невнимательно.
Но Фриц Дейк еще в Польше узнал, что такое красные партизаны. Услышав сквозь открытое окно спешную стрельбу возле моста, он поднял по тревоге весь свой гарнизон.
Когда Мария Кленова с запыхавшимся Борей добежали до березняка, где-то на окраине леса позади них уже лаяли овчарки, слышались тревожные голоса команды. Комендант оперативно организовал погоню на четырех грузовых автомашинах, подбросив в лес значительную часть гарнизона с собаками. Проскочив с солдатами в лес, Фриц чуть не перехватил Марию с мальчишкой.
Мария на бегу велела трем подросткам, которые в тревоге ждали ее в березняке, бежать за нею вдоль оврага до автомашины. Обрадованные спасением Бори и в то же время испуганные, да еще услышав угрожающий псиный лай в лесу, друзья не ожидали объяснений. Подхватив с собой Борю, бросились за женщиной. Витя Довженко молча взял из рук Бори тяжелый немецкий автомат, облегчив тем положение истерзанного парня.
До автомашины было не более километра. Но бежать становилось труднее — вверх, по бездорожью. Иногда кто-то спотыкался о корни на склоне и падал. Но вскакивал и снова все неслись вперед, не зная да и не расспрашивая, куда их ведет эта такая сильная в их глазах, такая дорогая тетя Маруся.
Угрожающий лай приближался. Напав на след, собаки рвались вперед, солдаты едва поспевали за ними. Комендант то и дело подгонял их бранью и угрозами.
Наконец, Мария подошла с детьми до автомашины. Витя с двумя саперами стояли наготове с оружием в руках: у обоих солдат — винтовки, у Вити — немецкий автомат. Мотор авто четко работал на малых оборотах. Даже двери открыты, чтобы ни одной лишней минуты не задерживаться. Ведь там... погоня!
Но их теперь не четыре, как было, а восемь! Пусть это и подростки. Их четверо, к тому же Алик и Довженко были весьма высокого роста. Поэтому Маруся уже набегу приняла решение.
— Детей в машину! Витя, проскочишь между болотами по старому следу… так, чтобы через тот мост на магистрали…
— Мост в городке, Мария Иосифовна, — поправил Виктор.
— Правда, мы же до сих пор с этой стороны. Тогда давай сначала за лес, а потом снова вдоль этого оврага — речкой! Где-то напротив железнодорожного моста в глубине леса маскируйся, пока мы будем водить погоню. Я с товарищами задержу их.
— Мария Иосифовна! Марш за руль! Сами везите их — вы же мать. Что я с этой ребятней буду делать? Смешно… садитесь за руль быстро! А мы — на дерево. Айда, парни!
И уже карабкаясь на высокий кудрявый дуб, Витя оправдывался.
— Хотел бы я видеть, как бы женщина на дерево вбиралась. Мария Иосифовна, бензин я залил весь, почти полный бак. Горку берите с третьей, возьмет… Без подсоса, а то…
Заревел мотор, и, выбросив клубок сизого дыма, авто рвануло между деревьями вперед.
Комендант с собаками гнал вовсю. На место стоянки автомобиля добежал, уже хватаясь руками за грудь против сердца. Он слышал урчание мотора, даже успел увидеть, как в просвете между деревьями блеснула искра солнца на лакированной поверхности кузова.
Псы прибежали и начали бегать на месте стоянки авто. Не прекращая озадаченно лаять, они кружили между деревьями, на которых сидели трое партизан.
— По следу авто! — приказал комендант. — Обер-ефрейтор! Немедленно возвращайтесь к остальным солдатам. Широким строем прочешите лес. Партизаны через овраг не переедут. А на другом конце леса — грязь. Живо!
Водитель Витя сидел в раскидистых ветвях и все время целился из автомата в голову коменданту. Один пес то и дело возвращался к дубу, обнюхивая его со всех сторон. Витя ждал. Если его заметят, он тотчас же пристрелит коменданта. Только бы его товарищи на соседних деревьях не дали маху. Тогда даже из этого затруднительного положения можно найти интересный и, безусловно, полезный в партизанском деле выход.
Увидев, что партизанская автомашина выскользнула из его рук, комендант потерял равновесие. Куда и делись его изобретательность и ловкость. Он с досады вспыльчиво пнул ногой пса, оттолкнув его прочь от дуба, направил разумное животное вперед и двинулся со своим отрядом по выразительному следу автомашины на примятой лесной растительности, на разворошенных сухих листьях, на цветочках между листвой.
...Маруся торопилась. На спидометре стрелка иногда показывала скорость восемьдесят километров в час. Местами, уворачиваясь между деревьями на такой скорости, колеса раздвигали листья до сырой земли. Машину бросало из стороны в сторону, задевало о стволы деревьев. Но водить Мария умела не хуже самого Виктора.
Перескочив через высокий гребень, авто понеслось вниз. Мария вспоминала, что должна проехать где-то там между озерками и болотами в долине. Вчера же как-то объезжал их Виктор. Правда, это было днем, а сейчас вот-вот зайдет солнце. Засветить же фары — значит неразумно выдать себя.
Проскочила просеку, идущую справа, очевидно где-то на дорогу в город, и вдруг, даже не подумав, повернула на ту просеку в лесу. В голове молниеносно пронеслось решение. Это может привести к полной гибели всех. Но смерть все равно катастрофически висит у них над головами. За несколько недель своей партизанской жизни Мария Иосифовна уже немного привыкла смертельно рисковать ею.
А решение возникло простое: городок небольшой, только железнодорожная станция с военными складами и два моста через глубокий скалистый овраг реки. Проскочить мост и на трассу. Наверное, комендант выслал весь гарнизон ловить партизан, оставив тот мост, как и весь город, на нескольких часовых. Проскочить мимо на полном ходу автомашиной — совсем легкое дело. Может, и выстрелит какой сгоряча. Но кто сгоряча попадает в цель!
И, давя на газ, понеслась ровной лесной просекой, не сбавляя скорости. Дети сбились в кучу, съежились в авто, ни одним звуком не мешая Марии.
Когда комендант почти за час интенсивной погони по следу добежал до просеки и уже с помощью фонарика изучил крутой поворот, а затем и выезд машины на дорогу, его обдало холодным потом. Ведь в городе осталось лишь несколько человек часовых и девушка-машинистка в штабе. Да и те солдаты разбросаны по всему городу. Двое — на складах вокзала, один за воротами штаба у школы. И только один на высоком бетонном мосту через овраг.
Только на него была надежда у коменданта. Должен же он задержать автомашину на мосту.
Эмка с разгона попала в городок и, сняв столб пыли, пронеслась мимо школы-десятилетки, где находилась фашистская комендатура. Даже выглянуть за ворота не успел комендантский часовой. Мария круто повернула на большак, который шел мимо железнодорожной станции на переезд, а за ним — на улицу, к величественной арки моста.
Переезд открыт. Маруся бросила взгляд на длинный железнодорожный пакгауз, доверху забитый коробами, плетенками... Но рассматривать не было времени.
Впереди, в конце улицы, мост. Она уже заметила часового солдата. Он стоял посередине, опершись на прогон арки. Появление автомашины советского производства было такой неожиданностью, что солдат встрепенулся и выскочил на середину проезда.
Исключительный случай! И этот да, пожалуй, и сотни, а может, и тысячи фашистских часовых на мостах в то время еще не знали о существовании партизанских командиров-женщин. Да и какие там партизаны! Сам комендант с гарнизоном где-то в лесу гоняет их и наверняка ликвидирует. Ведь это только несколько сельских колхозных активистов, коммунистов... Против вооруженного отряда регулярных войск СС это просто ничтожная кучка отчаянных большевиков.
Поэтому даже автомат с шеи не снял, только поддерживал его правой рукой. Левую же привычно поднял вверх, требуя остановиться.
Вскочив на мост, Мария действительно затормозила, что даже застонали, запищали тормоза. Часовой немного посторонился, чтобы дать остановиться разогнанной машине. Тогда Мария снова прибавила газу, набирая скорость, около самого часового крутанул руль. Послушная машина рванула влево и сбила часового крылом.
Клепаная арка удержала фашиста на мосту. Но сталь раскрошила неосторожному охраннику спину и голову. Как опустевший мешок, он упал на настил моста, когда машина уже проскочила на мостовую трассы и исчезла...
В полукилометре от моста Маруся свернула с дороги, вскочила в лес, снизила скорость и, привычно маневрируя, углублялась в него, петляла между густыми деревьями, ей трудно было ориентироваться, но чувствовала, что надо держаться примерно одного направления, чтобы не оторваться от магистрали. Машину бросало на ухабах, стволы деревьев обдирали и гнули крылья. А ей некогда было думать о безопасности крыльев. Безопасность детей была для нее главной в этот момент.
6
Кабина гидросамолета действительно нырнула в пучину океана. Но та пучина оказалась лишь пенным гребнем — остатками океанской волны, которая из последних сил выкатилась на берег.
Если бы не этот гребень, самолет на таком резком переломе руля мог бы не выдержать и взорваться. И люди в нем неизбежно потеряли бы сознание, а может, и не встали бы никогда живыми.
Волна затормозила резкий выход самолета из пике. Правда, самолет совсем вышел из строя. Правое крыло, охваченное пламенем, что в полете грозило взрывом баков с горючим, теперь от удара о волну деформировалось, приплюснулось к кабине, как неоперенное крылышко птенца. Пламя на нем погасило волной.
Левое крыло по страшной инерции оторвалось и упало в океан, а искривившаяся, покосившаяся кабина, рикошетом проскочив гребень волны, перевернулась и упала в воду.
Силой инерции самолет перескочил еще один гребень волны. Но это была последняя сила. Самолет лег в смертельный дрейф, безвольной щепкой закачался на мощных океанских волнах.
Сквозь трещины, которые произошли от первого удара о гребень волны, и верхний люк, где волной была совершенно снесена вся башня, кабину заливало водой.
Только этот факт привел в себя четырех парней-аэронавтов. Они осознали катастрофу и почувствовали, что... еще живы! Пока человек жив, пока бьется в его груди сердце, он защищается, борется. А эти ребята были к тому же еще и советскими пионерами!
Здесь, на погибающем самолете, после смерти чеха — бортмеханика и пилота — посреди океана они вчетвером составляют целый Советский Союз! Ваня Туляков, как старший среди них, понимал, что он отвечает за трех своих друзей. Надднепрянин Роман Гордиенко, Юра Бахтадзе, талантливый «летчик» Олег из Днепродзержинска — все они, как собственное тело, родные ему.
Что могло пообещать им жизнь в открытом океане, где напропалую гуляют раскачанные пенящиеся волны над зеленой толщей мертвой воды?
— Ребята, айда! — властно скомандовал Ваня, будто в гробу, что погружался на дно холодного, не обжитого человеком океана.
Слово «айда» в такой ситуации прозвучало необычно, не так, как воспринималось бы где-то на лугу, в душистых отавах или в родном, вдоль и поперек исхоженном лесу. Оно подстегнуло каждого, как электрическая искра. Даже Олег в пилотском кресле, больно ударившись о руль, подскочил к трапу на башню. Холодная вода лилась сверху, подступала снизу, бурлила вокруг.
Все выскочили наверх, оказались на обломке самолета. Страшная бездна океанской стихии парализовала живущую волю. Под ногами еще была какая-то опора. Она ежесекундно оседала, погружалась.
— Братцы! Как же я... Плывите без меня. Вон туда, видите, где горит самолет...
Трое оглянулись на Романа. Он плохо плавает, почти не умеет. Впереди темнел остров, там догорал сбитый ими «Мессершмитт». Справа поднималось из-за океана коричнево-красное, тлеющее солнце. А безбрежный океан стал зеленым мертвым пространством, покрытым подвижными пенно-белыми волнами. Они бежали от солнца, как будто бежали от его лучей, — ветер гнал их из зеленоватой тугой массы океана.
Ваня понял, что их ждет серьезное испытание, почувствовал на себе ответственность за друзей.
— Айда, Роман. Не бойся! — крикнул Ваня. Он уже вошел в свою роль старшего.
— Я не умею плавать. Да еще и волны какие...
А волна уже вырывала самолет из-под ног. Ваня со всей силы толкнул Романа за волной, мгновение задержался сам и нырнул вслед за ним.
Роман плюхнулся и поплыл, мелко перебирая руками. С обеих сторон его поддерживали Юра и Олег. Ваня знал, что минуту-две парень будет плыть, преодолевая какое-то необъятное бремя собственного тела. Но как ни старался Роман грести ногами и руками, тело его в воде становилось свинцовым и всем весом тянуло на дно.
«Только сейчас погиб... Но ребята плывут!». По-собачьи выгребался-таки на поверхность, отплевывался горкой зеленой водой и снова греб. Он уже хорошо видел впереди зеленые деревья на острове, острые скалы и дым из догорающего самолета. Но никого из товарищей возле себя не замечал. Неужели остался один? Испуганно оглянулся, еле вынырнув из очередного запененного гребня тяжелой волны.
Сбоку не спеша плыл Ваня Туляков.
— Ромка-а! Давай брассом, брассом! — подбадривал он. И вдруг, заметил, что Роман из последних сил барахтается, преодолевая собственный вес и захлебываясь водой.
— Ваня-я!.. Братцы, прощайте...
— Я тебя прошу, дурак! — закричал Ваня. — Хватайся за мои трусы, а одной рукой греби. Да. Отдохни немного, Ромка. Э-эх, ты!
Ване становилось все труднее волочить за собой почти безвольное тело товарища. И сказать об этом не смел. До острова же оставалось еще добрых два-три десятка метров. У берега гребни волн нарастали. Каждый из них, поднимая пловцов в самую высокую точку, окутывал их пеной и снова бросал в глубокую гибкую пропасть.
В одну из тяжелых минут обессиленный Ваня заметил, что Роман вот-вот ухватится за него обеими руками, теряя сознание, подсознательно спасаясь. Оглянулся вокруг. К ним во весь опор подплывали друзья — Юра и Олег.
— Не дрейфь, Ромка! Ложись на наши руки... — предложил Юра, поравнявшись с Туляковым и Романом. С другой стороны был Олег. Взяв друг друга за руки, они сделали мост, поддерживающий Романа под грудь, и поплыли.
— Греби, черт! — крикнул Юра.
Роман будто очнулся, снова начал быстро и беспорядочно грести, со всей силы бултыхая ногами. На такой удобной подпоре ему действительно стало значительно легче плыть.
Ваня почувствовал, что у него потекли слезы от радости, от чувства дружбы и благодарности. Он перевернулся на спину и мгновение отдыхал на волне. Затем несколькими упругими взмахами догнал друзей. Нетрудно было заметить, что Олег греб уже из последних сил.
— Ромка, держись! — снова крикнул Ваня, поравнявшись. — Ну, сам немного. Учись, какого черта! Лучшей школы плавания в жизни не получишь. Пускайте его, ребята, несколько метров осталось...
Роман прекрасно понимал все эти маневры друзей. Не раз молниеносно приходила мысль: «Сами погибнут, спасая меня...» Но был уверен, что верные друзья не оставят его одного в смертельных волнах. И прилагал все силы, временами почти теряя сознание, чтобы все-таки преодолеть колючую смертью щекотку волн.
И Ваня эти метры преодолевал из последних сил. Роман же вцепился в него обеими руками за талию, связывал движения, тянул на дно, как стопудовое бремя.
Юра первый выбрался на косу и сел, не в силах выйти дальше на берег. Волны то и дело сбивали его к подвижной гальке, больно били ею по уставшему телу. За ним совсем не по-человечески, на всех четырех, выбрался Олег, что-то несусветное бормоча про себя. Он надсадно кашлял и ревел, выплевывая не только воду.
И вдруг Юре стало душно: заметил, что Ваня в катастрофическом положении...
— Ваня-я, держись! — крикнул что есть силы, бросив на песок пистолет, который мешал ему за трусами. Как ошпаренный вскочил. Но тут же и упал, сбитый волной. И снова вскочил и побежал-таки, поплыл навстречу.
Ваня бессознательно, по какой-то сверхсильной инерции, еще махал руками, греб. Но уже ничего не видел, хотя с натуги глаза были широко открыты. В глазах ему почернело, ни на что окружающее он уже не реагировал.
Сбоку подплывал Юра и почти над ухом крикнул:
— За меня держись, Ваня!
Ваня молниеносно схватил обеими руками Юру за поясницу, как его самого схватил почти потерявший сознание Роман. И все трое камнем нырнули в воду...
Но это уже был берег. Рассыпавшись на гальке, волна пенисто зашипела и оставила мелкое спасательное дно, устланное движущейся, обточенной в течение тысячелетий галькой.
Юра изо всех сил волочил товарищей по гальке, все время еле крича:
— Ваня! Земля уже, земля, Ваня-я!..
Волна нагнала их и слегка ополаскивала, ласкала. Ваня открыл глаза. Попытался встать, но его все еще держал за талию Роман, тянул вниз своим весом.
— Роман! Да Ромка, черт! Уже земля! — закричал Ваня, к которому снова вернулись силы на твердом, надежном грунте.
Земля! В этот момент для ребят больше ничего не существовало ни перед глазами, ни в мыслях. Земля, о которой они недавно мечтали в ужасном полузабытьи, как о спасении, как о радостном ощущении жить, мыслить, работать, теперь была под ногами.
Утренняя жара разбудила-таки четверых ребят на высокой косе острова. Не так будили матери в недавнем детстве. Теплоты хватало и тут. Но она только пекла, но не ласкала напуганного душу.
Пылающее солнце поднялось над ними, словно в топленных голубых прозрачностях бесконечности, и уже начинало жарить своим почти отвесным лучом. Легкий приземистый ветерок не в силах был хотя бы освежить нагретый солнцем воздух. Лохматил Олегу вихры волос и в океане играл подвижными белыми гребешками волн.
А все вокруг было чудовищно молчаливое, потому что... шумел океан. Шумел без перерыва, без отдыха, напоминая этим вечность.
Ни один из четверых ребят еще не поднял головы, не проронил ни слова к товарищам. Каждый раскрывал глаза и снова закрывал, словно хотел удостовериться, что до сих пор все было только сном. Эсэсовец, гитлеровский капитан, унтер-офицер и его тяжелые удары, летчики, гидроплан, чех Пранек... Страшный сон!
Вот понятным языком волн говорит с берегами океан. Говор то нарастал, поднимаясь до мощного рева, то стихал, набираясь сил для нового удара о берег. И ребятам казалось, что они не на острове, а в пионерлагере на пляже. Волны каскадом белых гребешков обдают берег, мягко открывают промытую, обточенную гальку дна и пристыжено откатываются назад.
Ваня Туляков открыл глаза. Переждав излишне сильный разряд волн, с трудом поднялся на локоть, осмотрел белый свет. Впереди бесконечность где-то слилась с растопленным небом. Океан!
Бескрайняя подвижная масса с искристо-белыми гребнями, которые все время беспорядочно шевелятся, исчезают совсем, словно тают под зноем солнца, и снова появляются такие же неизменные. Казалось, будто они рождаются и существуют только для того, чтобы оживлять мертвую поверхность этого страшного водного пейзажа.
Сбоку отозвался Юра. И было приятно услышать живой голос друга, который, соревнуясь с шумом волн, окончательно утверждал и другую реальность.
— Приземлились, кацо? Какой сегодня день, Ваня, — понедельник, среда, воскресенье? — первые слова Юры зазвучали на этой дикой косе.
— По-моему, здесь еще только людоедов не хватает, — отозвался сбоку Олег.
Он лежал совсем близко от Юры. Услышав голос друга, Олег вскочил и сидел рядом, довольно испуганно оглядываясь вокруг. Лоскут песчаной земли, казалось, сжался перед гигантскими масштабами водной стихии.
Роман лежал в стороне, не отзывался, с наслаждением вслушиваясь в разговор друзей.
«Может, неживой...» — мелькнуло в голове Тулякова, и он, вскочив, подбежал к Роману. Мгновение настороженно вглядывался в него.
— Ромка! Ты что... ч-черт?
Роман даже не пошевелился, лежал с открытыми глазами и на слова Вани только тепло улыбнулся. Само солнце не улыбалось им теплее в жизни. Затем произнес, будто продолжал прерванный разговор:
— А молодец Олег! Как он блестяще справился с той фашистской посудиной, а! Горит гадская машина, пространство сверлит над океаном, стонет и гибелью грозит. А он... Вот, молодец, как посадил! На все точки! Качать Олега...
И действительно поднялся: даже не оглянувшись на этот измельченный океаном, забытый людьми кусок земли, направился к Олегу.
— Вставай, ас, качать тебя будем! Ну, ребята!
— Мне есть хочется, — как холодным душем отрезвил его Олег, вставая с толстого слоя поймы.
Головокружение от переживаемого события было настолько сильным, что в первый момент после пробуждения ребята только приходили в себя. Что голодные — об этом напомнил Олег. Но до еды ли здесь, когда неизвестно, где они и какая опасность подстерегает их на этом острове.
С косы отошли сначала подальше от надоедливо бурных волн. Песчаный берег широкими гонами стелился только здесь, а дальше, справа, обрывом нависал над океаном. Волны неистово атаковали тот скалистый обрыв, разбивались в брызги, чтобы блеснуть завораживающей радугой, и вновь откачивались, будто брали еще больший разгон.
Выбравшись из гальково-песчаной косы, ребята не осмелились углубиться в горы, покрытые лесными зарослями. Правда, горы те были невысокими. Самая большая из них была бы младенцем сравнительно с теми горами, что в пионерлагере.
Но все-таки гора! Кое-где между зелеными зарослями виднелись оголенные, местами поросшие мхом каменные хребты. Наверное, там есть и горные пропасти, и хищные звери… Хотя где им взяться на таком островке? Вокруг океан, эту безбрежную стихию наполняет непрестанных гомон волн. И никаких признаков привычной для подростков земной жизни.
Не сговариваясь, не планируя свои действия, они пошли вдоль берега, в обход горы, надеясь, что на ней возможно где-то найдут хоть какое-то поселение, жилище, пусть и дикарей.
— Держаться, парни, дружно! В случае фашисты… вырывайся из лап и в лес! Они для нас хуже дикарей.
Вдоль воды, где волны бешено разбивались о скалистый берег или промывали обтесанную гальку на косе, накрывая ее вихрами пенных волн, идти было опасно — мог настичь прибой. Если и не затянет в океан, так волной ударит о скалы.
Продирались по верху. И замечали, что они не первые проходят по этим скалистым косогорам. Правда, свежих следов не было, и это в равной степени и радовало, и огорчало. Кто, когда топтал эти убогие стежки, куда бежал, кого догонял, продираясь через заросли вдоль берега? Звери или человек?
Берег все время отклонялся влево, коса позади ребят скрылась за крутым поворотом. Даже жалко стало: это же было место спасения. Коса подобрала и усыпила их, как мать на рассвете, истощенных, полуживых.
Вскоре и эта давно не хоженая тропа человека внезапно оборвалась. Перед глазами разлился живописный пруд, окруженный скалистыми утесами. Где-то позади слышался шум океанских волн, напоминая о грозной силе не обузданной человеком стихии. У ребят до сих пор гудело в ушах, под ногами качалась земля.
— Будем считать, что путешествие наше завершилась великолепным результатом, — подчеркнуто иронично, разводя руками, сказал Олег.
— По-моему, путешествие еще не закончилась, — утешил Ваня. — Попробуем обойти пруд... и знаете, ребята, что мне показалось?
— Ванюшка, что? Не мучай! Село?
— Не село, а... вон в чаще, видите, какая-то развалюха?
— Вигвам, клянусь бородой...
Олег еще раз оглянулся, не увидит ли ту же косу с теплым слоем поймы. Но, кроме пространств океана, за береговыми утесами ничего уже не увидел.
— Может, и в самом деле какая-то лачуга людоедов, — сказал, плетясь сзади за товарищами.
Над головами рядом сплелись ветви каких-то неизвестных экзотических деревьев. Они приятно укрывали ребят от палящего солнца. Толстые, вековые деревья вонзались корнями в расщелины камня и тянулись вверх, приглушая другую растительность на каменном грунте. Только мхи зелеными лишаями прикрывали наготу потрескавшегося камня.
На подходе к краю пруда ребята заметили, как мелкими каскадами почти на доброй половине этого природного бассейна падает вода из неизвестного ручья. А слева, где кончались каскады, под защитой деревьев-великанов притаилась развалина какого-то шалаша. Развалиной она казалась только с первого взгляда. Настоящего строения здесь и не было. Обычный шалаш временного пользования, давно не присматриваемый хозяевами, разрушался. Осыпалась лиственная и травяная кровля, шалаш заилило дождевыми ливнями.
Ребята долго и тщательно рассматривали этот след пребывания на острове человека. Робко заглядывали внутрь, обходили снаружи. На обломанном сучку дерева висели какие-то обрывки рыболовных сетей с пробковыми поплавками. Рядом, в зарослях, лежало перебитое и выветренное, как выстиранная тряпка, весло. Несколько ржавых жестянок из-под консервов и всевозможный мусор, заросший сорняками.
— Значит, рыбаки, — равнодушно констатировал Роман. — Рыбаки. А это значит, что поблизости здесь никакого поселения нет. Рыбаки были на острове очень давно, еще перед началом войны на Западе, когда океан не кишел подводными лодками враждующих государств, — подробно определил Ваня Туляков.
— Ну и какие же, Ваня, выводы из этого мы должны сделать?
— Выводы? — задумчиво спросил Ваня, бросив взгляд сначала на пруд, а затем и на океан. Тогда взглянул на парней. — Мне кажется, что этот островок до сих пор был совсем безлюдным. Рыбаки приезжали сюда на целый рыболовный сезон или на какую-то путину просто с континента.
— С континента? — вырвалось почти одновременно у всех трех товарищей Вани. Это был скорее не вопрос, а восклицательный знак, в котором уже звучала ужасающая уверенность, что они оказались на необитаемом острове.
— Остается разыскать Пятницу и ламу Робинзона.
— Ох, лама была бы очень кстати!
Роман первый спустился вниз к потоку и, прилегши, попытался напиться. Тут же оторвался в восторге:
— Ура, ребята! Замечательная вода! Нарзан, боржоми... Жаль, бутылок у нас нет. Юра, давай скорей сюда. Боржом здесь, голова!
Вода в ручейке действительно порадовала ребят своим превосходным вкусом и прозрачностью.
— А знаете что? — сказал Ваня уже на другой стороне потока. — Если не найдем села, людей, то тут и поселимся, в этом шалаше. Никакой самолет не увидит, солнце не будет печь, и ветры не продуют.
— Главное, вода!
— И вода, — согласился Туляков.
Обойдя ставок, ребята оказались с другой его стороны и снова вышли на берег океана. Вдруг почти одновременно заметили слева дымок над островом.
— Село, — вырвалось из груди. Радость и в этом случае глушилась страхом. Кто эти люди и как отнесутся к ним?
Но уже взобравшись на первую прибрежную кручу, убедились, что это догорал лес на холме, где упал подбитый гитлеровский самолет. И разочарование и радость охватили мальчишек одновременно. Разочарование, потому что это не деревня, не человеческое жилье приветствовало их дымком. А радость — потому что снова же сами становятся хозяевами огня. У них будет костер, чтобы сварить рыбу, согреться ночью.
Самолет ударился торчком о каминную скалу и, сплющившись лепешкой, загорелся. Вполне возможно, что падал он вовсе не поврежденным, а только потому, что потерял управление, потому что летчик, получив ранение, скорее всего, выбросился на парашюте. Металл кое-где расплавился и потек, сплющился в какую-то бесформенную массу. Когда ребята добрались до места падения самолета, там еще тлели стволы вековых деревьев, но бесформенная куча металла уже остыла.
Осторожно обойдя это место, ребята разочарованно переглянулись. Каждый из них мысленно надеялся, что с самолета им удастся перенести к шалашу какие-то удобные детали, чтобы приспособить их в этом новом, таком ужасающем своим будущим быту. Стояли и грустно смотрели на бесформенные кучи расплавленного металла, на тлеющие охапки веток, стволы деревьев.
Ни облачка на небе, в воздухе угрожающий штиль. Печет солнце, донимают мысли, полные грусти и отчаяния. Со вчерашнего дня ребята ничего не ели и пока не было никакой перспективы что-то поесть и сегодня.
Трое ребят обернулись и посмотрели на Олега. В глазах друзей отразилось сочувствие, хотя их тоже мучил голод.
— По-моему, ты, Олег, разбаловался в лагере, — начал Юра. Хотя это, конечно, была шутка, но упрек очень искренне прозвучал в этих словах друга.
Роман кашлянул, словно точку поставил на этом разговоре, и Юра умолк, не закончив мысли. А Роман независимо обернулся, оглядывая окружающие зеленые горы, бесконечность океана за ними — может, пытался угадать судьбу товарищей, которые так горько поплатились за него. О своей судьбе имел мужество не думать, ведь сам виноват.
Вдруг вздрогнул:
— Олег, не дрейфь! Шоколад для тебя. Для тебя, Олежка, у меня есть шоколад! Ребята, ура! Клянусь, на том парашюте повис фашистский летчик! Ему шоколад уже не нужен, факт!
— Где, Рома, где он, проклятый?
— Айда за мной! Летчики берут с собой в полет аварийный запас. Сам Зевс не придумал бы более сытого чем шоколад аварийного запаса. Он фашисту теперь уже, как говорила моя бабушка, по барабану. Будем же благоразумными реалистами.
— Может, он жив, Рома?
Но Роман уже не прислушивался. Он стремглав спускался со скалы вниз к густому лесу, где белело на зеленом фоне выразительное пятно парашюта.
Летчик едва доставал ногами до земли, бессильно вися на стропах парашюта.
— Ого, друзья, это уже не куча расплавленного металла. Во-первых, парашют... — бодрился Роман, обходя неподвижного летчика.
— Пока что этот уже, кажется, не будет летать, — констатировал Ваня Туляков, осторожно беря летчика за руку.
— Горн или Кюхельвейс? Горна подстрелил чех, а я стрелял в Кюхельвейса, — гордо заговорил Олег.
— А я в Вейгта!
— Ты, Юрочка, в Вейгта. А сейчас иди вот отстегивай стропы. Я буду поддерживать, а ты... Давайте вместе — фриц еще жив... И без всяких, ребята, теперь он обезврежен, может, хоть теперь станет человеком, — приказал Ваня, хозяйничая около повисшего летчика.
Самым простым оказалось отстегнуть ремни и освободить летчика от парашюта. Раненого осторожно положили на землю, быстро расстегнули китель и сняли его. Подбадривая товарищей, каждый преодолевал предательское чувство то ли страха перед врагом, то ли жалости к человеку. Перекошенное в смертельных судорогах лицо, закрытые глаза, чуть слышное хриплое дыхание...
— Сквозная рана в правом боку, — определил Ваня. — Ищи, Юра, бинт в той сумке через плечо.
— А не умрет он у нас на руках? — пробормотал Юра, дрожащими руками раскрывая сумку.
— Вот так стрелял Олег. Сквозная рана! — восхищался Роман, умело и с достаточной осторожностью протирая на спине рану куском бинта.
Только один раз в школе они слушали короткую лекцию о первой помощи раненому. А как глубоко врезалась она им в память! Олег тут же вытер тампоном рану у входа и выхода пули, примотал сверху подушечки из марли. В консервной банке, которую вычистили песком и ополоснули, принесли раненому воды.
Летчик глубоко и громко вздохнул, открыл глаза. Но что мог он понять из окружения, потеряв столько крови. Ему дали воды, удобнее положили на подстилку из листьев и травы.
Только теперь вспомнили об оружии. Быстро сняли с пояса тяжелый пистолет. Ваня взвесил на руках, вызывая одобрение друзей.
— Кольт проклятый или парабеллум? — спросил неизвестно у кого.
— Пусть парабеллум, Ваня! Забирай и обоймы.
В следующее мгновение с руки летчика сняли часы. Ваня приложил к уху, улыбнулся:
— Работает черт! Ромка, айда на дерево, снимай парашют.
— Есть, товарищ командир, снять парашют! Клянусь бородой большого чародея...
На неизвестном, безлюдном, но таком уютном острове советские подростки не забыли о человеческих обязанности по отношению к раненому. Едва живой летчик был в этот момент для них только несчастным человеком, которому сильные должны помочь бороться со смертью.
За этими хлопотами ребята забыли даже о собственном голоде. Перенеся раненого к шалашу и умостив удобно на траве, еще раз напоили его и снова вспомнили о своем положении. Оно до сих пор было не блестящим, а теперь приобретало характер катастрофы. Заботы о раненом теперь становились на первом месте в их и без того ужасной жизни.
Оставив Юру около раненого, ребята пошли на поиски чего-то съедобного.
— Олег, держись, друг! Ты так мужественно сражался с его напарником, пока они нам угрожали. А теперь покажи в отношении к этому раненому наши советские обычаи помогать человеку! Я сам, брат, жалею, что наш добрый друг чех погиб, а этого, проклятого, только царапнул. Но теперь он ранен и нуждается в помощи... — говорил Ваня.
— Это — Горн. Я по документам убедился, что это он. Его наш Пранек посадил!
...Среди трофеев у ребят был большой шелковый парашют. Кроме того, они получили еще один пистолет с четырьмя полными обоймами патронов. А это много значило для полного завоевания жизни на необитаемом острове.
Найдены были и еще некоторые вещи, каждая из которых имела для «робинзонов» неоценимое значение. Замечательный портативный компас, почти не начатая записная книжка с карандашом, финка, зажигалка и, наконец, часы с заводом на восемь суток!
— Ты, Рома, говоришь, что фашистские летчики всегда берут аварийный запас шоколада в случае чего... Гостеприимство у гитлеровцев подгуляло.
— Это правда. Гостеприимство у гитлеровцев подгуляло еще в самолете, наверное, пожрал проклятый, гоняясь за нами.
— Некогда было. Наверное, гитлеровцы теперь и не нюхают того шоколада. Хотя бы хлеб брал с собой, несчастный. Летит, проклятый, как к тете в гости, за три дня изголодался... Накормишь его теперь... — бормотал недовольный Роман.
— А унывать из-за этого не следует, Робинзон. У нас еще так много неизвестного впереди, давайте не впадать в отчаяние. Пойдем к шалашу. Юра, наверное, там уже нашел общий язык с нашим пленным. Надо что-то придумывать, думать надо, ребята.
— Надо думать да гадать, как продукты здесь достать, — дополнил Тулякова задумчивый Роман.
Солнце немилосердно припекало на скалах.
Думать, гадать пионерам было о чем. На их руках раненый, которому не только уход, а главное — приличное питание нужно. И о себе, о своем питании позаботиться надо. И будущее их тоже остается такой же нерешенной проблемой.
Что по океану где-то ходят корабли союзников, в этом не было никаких сомнений. Надо только проследить, не ошибиться. А как им сообщить с такого расстояния о своем положении?
Да пока появится тот спасительный корабль (и захотят ли еще союзники возиться с какими-то там мальчишками?..), надо самим искать средства к жизни.
Вторым дежурным возле больного согласился остаться на ночь Ваня Туляков. Перебив голод какими-то субтропическими щавелями да съедобными стеблями, ребята улеглись спать в шалаше. Распорядок дня, согласно решению коллектива, вступил в действие в качестве общего при любых обстоятельствах закона. Неизвестный остров, раненый — все это высоко поднимало сознание каждого, повышало внимание. Олег торжественно записал распорядок дня в записную книжку летчика. Туда же записал и список дежурств. На отдельном листочке впервые заметили: "Раненый дважды открывал глаза и снова засыпал. Стонет только, когда теряет сознание или спит».
— Установили, значит, время и обязанности, — метко сказал Роман перед сном.
Трое друзей лежали в шалаше на перебранном ворохе пересохших сорняков и листьев. В углу положили летчика. Сложенное вдвое полотнище парашюта служило всем одновременно и простыней, и одеялом.
Ваня сидел на сухом бревне, притянутом из леса, вслушивался в сладкое, здоровое сопение спящих друзей и в болезненный бред раненого. Как жаль, что никто из них толком не знал немецкого языка, кроме разве десятка отдельных случайных слов. Можно было бы раненого расспросить о самочувствии, объяснить ему положение, потребовать соблюдения хоть какого-то лечебного режима...
Одетый во френч летчика, вооруженный пистолетом, из которого пришлось еще вечером выстрелить для проверки, Ваня чувствовал себя достаточно мужественно и воинственно.
Во время первых коротких поисков ребята наткнулись на живописную поляну среди гор. К ней привел ручей, протекавший около шалаша. Ручей вытекал из озера на поляне нежным ручейком, но глубокое русло свидетельствовало, что он бывает часто и бурной рекой. Все дождевые и весенние воды попадают отсюда в океан только одним этим глубоким руслом.
Озерцо это окутывала душистая зелень сорняков, травы, чернобыльника и роскошных молодых щавелей. Свежие сочные листья съедобных стеблей ломались в руках, хрустели на зубах. Лучшие из них оставляли для раненого. Даже два яйца выдрали из гнезда какой-то птицы и накормили ими больного.
Летчик впервые, как укладывали его уже в шалаше, осмотрел всех четверых вполне осмысленным взглядом.
— Что, господин Горн? Гам-гам? — заговорили кто как мог, жестикулируя руками в придачу.
Летчик едва нашел силы перевести взгляд на остальных и со стоном снова закрыл глаза.
— Кажется... напился и наелся господин Горн.
Ваня сдержал назойливую неприязнь товарищей.
Теперь вот они спят. Раненый, кажется, тоже. Завтра снова хлопоты с ним, все пойдут на тот щавель, а ему найдут яйцо. Послезавтра то же самое. Наверное, еще найдутся и какие-то ягоды. Лес полон всевозможных орехов, птицы. И все это — непрерывные, хлопотные проблемы, а не хоть бы какая-то перспектива выжить и добраться до родного края.
«Непременно надо починить эту рыбацкую сеть, — рассуждал Ваня. — Приладим парашютные стропы и завтра же затянем в этом самом пруду. Не может быть, чтобы в нем не водилась рыба. В консервных банках наварим ухи, щавелем и солью с той горы заправим. Ого, еще как можно роскошествовать! А жить будем по расписанию, изучать остров, выхаживать немца. А когда вернемся, напечатаем свои очерки об острове, назвав его островом Юных ленинцев! Наверное, здесь есть и какие-то ламы, кролики. Поймать, как Робинзон... А пятница?.. Неужели на острове нет никаких людей?.. Летчика окрестить Пятницей? Но человек имеет свое имя. Перевелись времена Пятниц, хотя робинзонад в мире еще хватает».
Свежая, темная, наполненная шумом океана ночь заставила часового сначала плотнее завернуться во френч летчика, а затем и сесть, опершись на шалаш. Вечером появились были какие-то комары или москиты, но скоро исчезли от прохлады.
И Ваня уснул. Далее мысли оформились в сны. Он гонялся с пистолетом за ламой, стрелял, чтобы добыть хотя бы мясо для раненого, потому что на молоко можно и не надеяться. А лама превратилась в страшного фашистского офицера, и, вместо догонять, Ване самому пришлось убегать от него...
От испуга он проснулся. Пистолет лежал у ног на земле, весь мокрый от росы. Ночь кончалась, наступало росистое, прохладное утро. Над прудом едва-едва поднимался туман.
— Ну вот, Олег, можешь записать в журнал: «Первые сутки на необитаемом острове прожиты». Теперь начинается наша новая жизнь.
Четверо друзей сидели на крутом берегу океана, открытом для восходящего солнца, грелись. Как часовой, Ваня предупредил, что, пока раненый спит, здесь состоится их «общее собрание», на которых они должны выработать основное направление деятельности на острове. Ждать им спасения с острова от англичан или от американцев — даже жалко времени. Островок необитаемый, для военных нужд непригодный. Вряд ли мимо прошел когда-нибудь хотя бы один из военных кораблей. Наверное, какие-то подводные рифы вокруг острова.
— Надежды, конечно, не надо терять, но и руки складывать не годится. В конце концов, когда-то кончится эта проклятая война, и к шалашу прибудут настоящие его хозяева — рыбаки. Тогда и освободимся все. А... от пленного язык немецкий выучим. Жить мы должны, ребята, жить!
Слова старшего товарища звучали убедительно, хотя, возможно, в них и слышалась грусть. И ребята больше внимания сосредотачивали на положительных перспективах, о которых говорил старший товарищ.
— Верно, Ваня, надо жить! Давай выкладывай программу. По-моему, так мы, собственно, как в экспедиции здесь; изучаем так называемую флору и фауну, контуры острова, ветры — пассаты и муссоны... вообще погоду. А наш пятница... Действительно, назовем его...
Юра не удержался, перебил расфантазировавшегося оратора:
— Ты, Рома, хоть и сын строителя, а рассуждаешь, как последний неприспособленный интеллигент. Взрослый немец с континента Европа, офицер, имеет имя, а ты — «Пятница». Сам ты Средой вскоре станешь. Да и вообще: так вот тебе все и удалось. Ходи, изучай, любуйся. А еду больному Пятнице Захар Иванович будет по радио присылать? Голова!.. Я предлагаю с этого и начинать наш разговор, с какого-то жизненного рациона, пусть и островного. Вот сеть нашли. Сегодня же надо ее починить.
— Чем? Шпагат тебе тоже Захар Иванович по радио пришлет?
— Отрежем немного строп, рассучим их, вот тебе и шпагат. По-моему, Ваня прав, не только же с океана, а именно из этого ставка рыбаки питались свежей рыбой во время океанской путины. В противном случае они бы не построили там свой шалаш.
— Ставок весенними водами сделан, это факт, я об этом еще ночью думал, — говорил более опытный Ваня. — Но рыба там есть. В самом деле, Юра прав, стропы сделаны из крепких мягких шпагатин. Для войны всегда все делается добросовестно. Это предложение принимаем. Стропы же нам тоже помогут тянуть невод с обоих берегов ставка. Консервные банки, огонь есть — значит, и уха сегодня будет. А вот как вы смотрите на то, чтобы наш шалаш перенести хотя бы вот сюда. Ночью он будет защищать от холода, а днем — от солнца. Зато будем иметь тут столько простора!
— Вот тут уж, Ваня, а не будет дела, — сказал Роман. — У нас же больной на руках. Не каждый же день таскать его с места на место от солнца. К тому же мы должны маскироваться здесь от авиации, сам же ты говорил, когда посылал меня снимать парашют с дерева. Это уже два. А третье — мы же должны поддерживать наш священный очаг.
— В-четвертых, еще наступит и зима. В лесу хоть уютнее будет.
— Верно, Олег, еще и зима. Я просто ставлю на обсуждение нашу жилищную проблему. Получается, что шалаш должен оставаться там же.
— И вот что, Ваня: давайте построим каменный дом. С печкой, с дверью и с окном! Нам нужно хорошо защищаться, потому что у нас, как у тех господ, на пятерых — одни штаны. Один костюм летчика только для часового и то... Придется же его возвращать.
— Только для часового! Выздоровеет летчик, сам поймет все, так сказать, выгоды трусов на курорте.
Ребята впервые захохотали, как и в лагере в Крыму, — непринужденно, искренне. Ваня подтвердил:
— Да, Юрочка, для часового. Он же и санитар, и медсестра, и врач для больного. Камня тут хватит, времени у нас тоже, кажется мне, вполне достаточно. А глину будем приносить с той стороны озера. Так одобряем, ребята?
Предложения принимались единогласно и дружно. Одобрили также и первую рекомендацию Романа — изучить остров. Это, в конце концов, было необходимо для них, чтобы точно знать, сколько здесь орехов, какая птица и зверь живет. Последним пунктом «протокола» Олег слово в слово записал лаконичную фразу Вани как приказ старшего: «Ежедневно по утрам, пока спит раненый, вместо физзарядки, учить Романа плавать...»
Олег экономно, но достаточно полно изложил свой «протокол» на трех страницах блокнотика, и ребята вернулись в хижину выполнять решения. Ваня распорядился:
— Юра будет дежурить возле больного и чинить со мной сетку. Роман с Олегом пойдут на поиски приличных консервных банок.
— Ви есть совиецьки пионири, с самолета Вейгта? Ви спа-саль моя жизен?.. — с тяжелыми передышками вдруг сказал раненый летчик.
— Таков закон советских людей: раненому, пусть и врагу, у нас не мстят. Но... судить еще будем, после того, как... выпишем с этого, — Ваня показал рукой на плохонький шалаш, — с этого госпиталя.
Немец несколько раз закрывал и открывал глаза, будто пытаясь понять что-то сложное и непонятное для него.
7
Только после долгих мытарств и нервотрепки Адаму Безруху удалось добиться до генерала. Генерал был слишком занят, это видел и понимал Безрух. Но он, как агент рейха, выполнял задачи именно этого генерала. Правда, он опоздал. Но кто же знал, что так внезапно начнется долгожданная война!
— Ваш приказ выполнен, господин генерал, дочь генерала Дорошенко со всеми надлежащими документами с некоторых пор находится на моих руках! — отрапортовал Безрух.
Генерал только самовлюбленно улыбнулся. Без какой-либо потребности схватился за оружие на добротных ремнях с блестящими латунными пряжками.
— На руках? — переспросил, почти смеясь.
— На руках. Конечно, не в буквальном смысле, господин Яуге. Кормят, нянчатся по моему приказу. А война же и к Гамбургскому порту добиралась уже несколько раз...
— Хватит! Вы преступно опоздали с выполнением приказа, — резко перебил генерал. — Теперь можете выбросить эту уродку хоть псам голодным, не то время.
— Но ведь...
— Не то время! Ребенок нужен был тогда, потому что... нам нужен был генерал Дорошенко. Понятно? Выбросить! Понятно или нет? Впрочем... удочерите этого щенка советского генерала... Может, оно пригодится другим органам рейха... — генерал уже нервничал. То и дело открывалась дверь, высовывалась голова адъютанта, но тут же исчезала по энергичному взмаху руки генерала: «Нет». Безрух понял, что проиграл в этой операции. А ведь можно было еще в первый день войны вернуть Дорошенко ребенка, получить ценное вознаграждение и работать «на троих богов». Теперь же все три «боги» не нуждаются в его старательных молитвах.
«Почти все», — чуть не вслух спохватился. Потому что архангелы третьего, наиболее спрятанного божества, и сегодня платят Безруху деньги, требуют работы.
К представителям этого третьего «бога» и пошел Безрух, выйдя, собственно выскочив, от пресыщенного первыми военными успехами генерала.
По документам это были обыкновенные корреспонденты нейтральной испанской прессы, на самом деле... специальные сотрудники соответствующего департамента на заокеанском континенте. Что именно им было нужно, обер-лейтенант Адам Безрух мог только догадываться. Но, по старинному правилу шпиона, не выяснял о тех нуждах заокеанских информаторов. Даже то, что настоящим испанцем был только один из них, а двое других — из штата Бискайя, Безруха мало волновало. Сам он был «принципиальный интернационалист».
— О-о! Сеньор Безрух в отличном настроении. Сколько? — воскликнул долговязый «испанец» со штата Бискайя, имитируя пучками подсчет денег.
— Отложил разговор, — выдохнул Безрух. Он не хотел откровенно высказывать свое «недовольство» решением генерала.
Долговязый понимающе присвистнул. Переждал, пока запыхавшийся от быстрой ходьбы Адам Безрух сядет за стол на скамье в этом советском доме «будущего коммунизма», как, иронизируя, называли они дом пожилой колхозницы на окраине села, под лесом.
— Отложил генерал разговор, но я... Я так ему и сказал, что няней этому генеральскому щенку не буду!
— Ого! Такого героического поступка я от вас не ожидал, но будем считать, что вы его сделали. Верно, сеньор Адам? А еще вернее будет, если сеньор прародитель человечества так же мудро поведет себя и в дальнейшем. Ребенок — действительно лишние хлопоты для обер-лейтенанта такой армии! Боевой успех за успехом. На какого дьявола, скажите пожалуйста, ему эта уродка?
— Вам она, честно говоря, тоже на такого же дьявола нужна, — перебил скучным голосом Безрух.
— Нам тоже, — охотно согласился высокий «испанец». — Но наши хозяева работают не только на себя и не только ради сегодняшнего дня, но и ради завтра. Для завтра, поймите, Безрух! У них — бизнес...
Высокий замолчал, набивая табак в толстую обгоревшую трубку с изогнутым чубуком. После того как посмотрел на него Безрух, он безошибочно понял, что торг с Адамом уже состоялся. Осталось только — сколько и... разве что некоторые формальности.
— Сколько? — спросил вполголоса уже спокойный Безрух.
— Как и вчера. Спрос на такой товар небольшой, но наше слово — закон! Как и вчера.
— А формальности? — спросил Безрух, как делец, давая тем понять, что он согласен.
Где-то около печи с пола для спанья поднялся второй «испанец» и, немного покопавшись во внутреннем кармане, протянул Безруху бумажку — заготовленную для отправки телеграмму.
— Только подписать и отправить по штабному телетайпу эту телеграмму, — сказал на английском языке.
Телеграмма была короткая, отпечатанная на машинке. Безрух быстро перебежал ее глазами и, как тарелку, протянул эту бумажку высокому — мол, кладите.
— Сразу же после подписания и отправки телеграммы получаете половину, но... приличными немецкими марками. Вторую половину, долларами, получите на соседней железнодорожной станции, как только отправите нас обоих поездом, а еще лучше — авто до передовых частей наступающих войск фюрера.
Безрух все еще держал протянутой руку с бумажкой. Губы расплылись в едкой улыбке неверия.
— «Расскажите вы ей, цветы мои...» Ах, вы не понимаете наших благородных романсов. Короче говоря: первая половина кладется на стол при торжественном подписании этой хартии будущей судьбы генеральской дочери. Валюта... Собственно, валюта на территории рейха пусть будет и в марках. Но в порту мне нужны доллары! Я еду туда, значит, вы понимаете, как мне нужна международная валюта!..
Высокий немного поколебался, и то больше для формы, затем решительно подал руку. Согласие, полное согласие, хотя уважаемый Адам... шкуру дерет со своей же брата, тайного сотрудника.
Адам Безрух положил бумажку на стол, погладил ее мизинцем правой руки, еще раз перечитал и в двух местах показательно исправил текст. Высокий отсчитал ему фашистские марки, выкладывая их стопками рядом с телеграммой. Безрух переписывал исправленную депешу на военный бланк, но украдкой с наслаждением следил за руками «корреспондента», которые с натренированной ритмичностью отсчитывали кредитки. И когда «покупатель» с размахом азартно ударил по стопке последней кредиткой, Безрух пригнулся и добросовестно подписал своим привычным росчерком телеграмму:
«...Дочь советского генерала Андрея Дорошенко немедленно переправить надежным средством нейтральный порт Сетубал сдать мисс Гревс Катабанья три обер-лейтенант Адам Безрух».
Подписал и отодвинул мизинцем. Не останавливая движения, тяжко положил ладонь на кучу денег. Безудержная улыбка удовлетворения, как в зеркале, отразилась такой же улыбкой победы на лице его щедрого покупателя.
Хозяйка дома, пожилая женщина, еще с прошлого вечера и всю ночь решала свою судьбу, судьбу дома, хозяйства под лесом в деревне, судьбу какого-то жизненного уюта. Вслушивалась в непонятные ей горячие разговоры и по окончании торга тщательно убрала, подмела дом. Только тогда тихо вышла на улицу.
Постояльцы прифронтовой линии будто и не замечали ее. Только видели, как она потом возилась во дворе, но... к ночи не вернулась в дом. Обер-лейтенант Безрух, единственный из четырех постояльцев, прекрасно говорил на родном ей языке. Или такую натуру безудержную имел, щеголяя перед чужой женщиной, или по каким-то другим соображениям проговорился о какой-то генеральской дочке, которую он якобы для безопасности в первый день войны вывез из пограничной зоны к своим знакомым в один портовый город.
— Сирота. Почти беспризорный ребенок, а тут такая война! Едва выхватил, спас... — хвастался обер-лейтенант добротой сердечной.
Даже поверила женщина: чего не бывает на свете. Вполне возможно, что фашист что-то имеет в сердце, если так заботится о ребенке. О том, кто тот жестокий генерал, даже кто мать, безоглядная женщина не выспрашивала, потому что решила бросить дом, хозяйство и пойти где-то пересиживать войну вдвоем с невесткой-солдаткой.
Фашистские солдаты, ее жильцы, поздно вернулись на квартиру и, хоть поняли, что остались одни на хозяйстве, не придали этому особого значения. Все равно должны были уезжать.
На другой день отправились обратно по трассе до ближайшей железнодорожной станции. Документы у всех были, как говорится, в полном ажуре. Военная подчиненность для корреспондента была на войне скорее условностью, а в такой лихорадочной поспешности победителей, у кого там будет время интересоваться еще и ими.
Каких-то два десятка километров будет безопаснее им пройти пешком. Теперь тут столько ходит их брата. Дорогу ни у кого не спрашивали, чтобы не вызывать подозрения. Где-то ночью в лесу их и застал страшный грозовой ливень. Ни назад вернуться, ни идти в такую погоду дальше не было смысла. Пришлось прятаться под самые густые деревья, ютиться под ними, пережидать...
Всю ночь шел проливной дождь. Молния сверкала почти по всему небесному своду. Облака неожиданно закрыли небо, звезды, обломок луны, и ночь, еще с вечера светлая, сразу превратилась в непроглядную темень.
Мария Иосифовна остановила автомашину с детьми в непролазном лесу. Дождевой ливень сейчас был ей на руку, способствовал партизанским действиям, но вместе с тем лишал возможности маневрировать автомашиной. Даже в такой чаще и зарослях было опасно оставаться на одном месте с автомашиной, когда где-то рядом проходил магистральный путь. С этой точки зрения ночной ливень был очень кстати. Даже с собаками теперь не найдешь следа — дождь окончательно забил его. Полегшие под колесами травинки поднимутся от дождя. А просто от дороги сюда не прорваться через чащобу зарослей. Но как теперь найти остальную партизанскую группу?
— Кто из вас старший? — спросила она, при тусклом свете вглядываясь в авто к пионерам. Дети переглянулись, не решаясь даже отозваться. Только когда погас свет, ответила Любочка Запорожец:
— Мы все... пионеры, тетя Мария. Мне уже тринадцатый. Вот Витя... Виталий Довженко такой же. Алик тоже, наверное, наших лет. Ну, а Боря на год младше.
Мария задумалась, прислушиваясь к шуму ночной магистрали за чащобой леса. Вспомнила дочь. До сих пор еще в себя не могла прийти, так таинственно потеряв дочь. Неужели... он таки похитил и втайне успел вывезти Ниночку к своей матери?
Как бы то ни было, хорошо если бы это было так! А что если Ниночка заблудилась где-то в пограничных лесах, сбилась с дороги и...
За сердце схватилась, застонала женщина. Но в тот же миг взяла себя в руки. Не время и не место так терзаться теми устрашающими мыслями. Ведь сейчас главное — пробиться через линию гитлеровских войск, вывезти этих детей.
Вывезти детей... Наверное же Ниночка у матери генерала! Даже легче, спокойнее становится от такого предположения.
Надо действовать! Разыскать в этих дебрях автомашину, конечно, можно. Но кто ее будет искать в такую погоду?
— Ну вот, дети: Боря остается первым часовым у авто, а Люба идет со мной. Виталий сменит Борю, когда тот начнет дремать, а Виталия — Алик. Это уже где-то утром. Все ясно? — спросила и насторожилась, ожидая ответа.
— Не все, тетя Мария, — сказал Боря.
— Что же еще, Боря?
— Что нам делать, если вдруг... — начал Боря.
— Если вдруг... машину заметят фашисты? Это невозможно, Боря, невозможно. Чтобы сюда зайти, хотя бы и по нашему следу, надо идти целый день. А с дороги... Нет здесь даже тропинки.
— И нашего следа уже нет, — скорее себя успокоил Алик.
— И то правда, Алик. А за день мы успеем воротиться к вам и уедем подальше. Ну, теперь все ясно? — допытывалась, взглянув на часы, на которых фосфорическим светом отсвечивали цифры и стрелки.
Дети промолчали. Мария понимала, что оставаться им у машины хоть и втроем очень опасно. Ведь рядом проходит дорога, грохочут фашистские авто, перебрасывая войска. Лучше бы куда кусты, подальше от дороги.
Еще раз остановилась на этой мысли и вышла из авто. Почувствовала, что действительно в машине как-то страшнее, чем на улице. Не торопясь, взяла автомат, словно жнец серп за пояс, две заряженные обоймы положила в удобные карманы в юбке.
— Пойдем, Любочка. Видишь, ребята остаются охранять автомобиль. Лучше будет, Боря, действительно дежурить не в машине, а возле нее. Дальше видно. Кажется, у тех кустов будет удобнее.
— Действительно, чего нам сидеть в авто, когда в лесу так хорошо, — прервал молчание Витя Довженко.
— Айда в кусты, а то... — разогнался Боря и первым вышел из авто.
За ним вышли и те двое. Оглядывались в темноте предрассветной. Но на улице им показалось даже нисколько не лучше, чем в авто, которое имеет-таки стены, кровлю, замки.
Дождь перестал, начало вроде бы светать, потому что исчезали в небе облака. Лесная свежесть после дождя заставляла ежиться.
— Пойдем к тем толстым деревьям, — предложил Боря.
И ребята отправились к тем соснам. Позже, когда глаза привыкли к темноте, становилось виднее. Роса приятно щекотала ноги.
— А как вы думаете, ребята?..
— Тс-с! — предупредил Боря.
Все вдруг остановились. Но, кроме удаленного громыхания с дороги и тяжелого движения в верхушках деревьев — отголоска войны, вокруг ничего не было слышно, еще царила ночь. Но что-то побудило ребят спрятаться, и они без слов пошли еще дальше к соснам.
— Сядем вокруг этой, самой толстой, чтобы видеть со всех сторон, — снова зашептал Витя, потому что молчать было еще страшнее. Ведь каждый маленький шелест в лесу пугал их. Так уж лучше самим говорить!
Возле сосны остановились и впервые оглянулись на авто. Отсюда его видно как на ладони, хотя ночь еще только собиралась повернуть на рассвет. Боря посоветовал:
— Давайте пойдем дальше, чтобы нас не увидели фашисты, если вдруг наведаются к машине.
Пошли дальше, минуя толстые стволы деревьев. Такие сосны им больше не попадались, а с тонкой — какое убежище? К тому же эмку все еще было достаточно хорошо видно. Так и пробирались дальше, иногда оглядываясь.
Наконец, натолкнулись на густые кусты орешника. Молча пробирались в гущу, держась друг друга. Отсюда не видели своего авто и даже потеряли направление, где должны его искать утром. Захлебнулся в шуме лесном и мощный грохот дороги.
— Как рассветет, тогда и посмотрим, — рассудительно размышлял Витя Довженко, усаживаясь на полянке между густым кустарником орешника.
И уселись спина к спине, тесно прижимаясь друг к другу. Автомат Боря поставил между густыми ветками, плотнее прижался к теплым спинам друзей. Даже не успели как следует устроиться, а сон уже смыкал им глаза, голова у каждого стала тяжелой, так и клонилась на плечо товарища...
Показалось обер-лейтенанту Безруху, что он услышал снизу, где-то в лесных чащах за плечами, какие-то отдаленные то ли девичьи, то ли детские голоса. Может, ему показалось. Но сколько ни прислушивался потом Безрух, ни звука больше не услышал. Лес шумел только своим шумом, едва отражая далекое дыхание войны.
Признался об этом и своим спутникам, так как у самого возникали какие-то опасливые предположения. Больше всех отрицал эту весть только корреспондент фашистской прессы. Оба «испанца», которые прятались от дождя отдельно под сосной, глубже в лесу, вдруг, будто сговорившись, засвидетельствовали, что и им послышался из того низового буерака то ли человеческий, то ли совиный голос. Они даже посоветовали Безруху выйти на трассу, остановить какое-то авто, чтобы оно довезло их на станцию. Кстати, и ливень прекратился.
Безрух согласился. Но для собственной уверенности все же настоял на том, чтобы углубиться на какую-то сотню метров, спуститься в эти лесные пропасти и проверить. Не дожидаясь согласия компаньонов, двинулся вниз, раздвигая росяные ветви.
Эмка Марии Иосифовны стояла, удобно скрытая, за теми крутыми оврагами. Спустившись скользкими зарослями словно в пропасть в уютную густоту орешника и колючего боярышника, почти все вместе увидели в предрассветной мгле силуэт машины за деревьями. Каких-то человеческих звуков от нее слышно не было, хоть как внимательно ни прислушивались все вчетвером, готовые к любым неожиданностям. Только отдельные тяжелый капли, срывающиеся с высоких веток, стучало по авто.
— Вам, сеньор Безрух, придется первому рискнуть. Ведь язык большевиков знаете только вы! — предложил высокий, считая себя старшим в этом рейде военных корреспондентов.
— Ладно. Но будем считать, что и этот первый трофей будет принадлежать мне, — торговался опытный лавочник Безрух.
И, не дождавшись ответа, двинулся. Позже тихо свистнул, хотя надобности в этом не было. Все втроем уже и сами осторожно приближались к авто.
— Советская эмка! — радовался Безрух. — Я даже знаю ее. Генеральская эмка. Неужели и он где-то здесь убегает с фронта? Навряд ли.
— Так осторожнее! — предупредил высокий.
— Неважно. Мог быть только водитель Витя, который, очевидно, убегает от фронта, бросив генерала. Значит, моя?
Открыл водительские дверцы, нагнул голову, чтобы заглянуть в авто. На сиденье рядом с шофером лежал немецкий автомат. Безрух схватил его, пожав плечами, торопился. Звякнул ключом, неблагоразумно оставленным на своем месте, даже дух захватило.
— Никого нет. Полбака топлива, автомат...
И высунулся из машины, не чувствуя желаемой поддержки у компаньонов. Темная ночь, с деревьев все еще падали капли, стекающие по веткам. Своих спутников Безрух различал только по силуэтам, не разбираясь, кто из них ближе к нему. Что-то подозрительное показалось ему в молчании этих двух «испанцев».
— Что такое, вы не согласны? Но я первый обнаружил здесь авто. Вы же отрицали... — и от подсознательного предупреждения поднял оружие, готов стрелять.
Но в этот момент и произошел первый выстрел. Но стрелял не Безрух, хотя воинственно держал оружие, а тот высокий и сразу же отскочил в сторону.
Обер-лейтенант Безрух сгоряча еще нажал на гашетку своего автомата, но в тот же миг он упал. Наверное, он успел услышать еще несколько очередей выстрелов. Но отстреливаться уже не мог. Труп немца-корреспондента упал чуть дальше. Адам Безрух этого уже не видел.
Он еще был жив, когда эмка натужно заревела и тронулась с места, чуть не переехав ему голову. Какое-то время лежал в беспамятстве, потом очнулся и заговорил, высказывал. Но кому — соснам?
Настоящие хозяева авто застали его уже почти мертвым. Адам Безрух закончил свою бесславную карьеру. Даже деньги, полученные за генеральскую дочь Ниночку, не смог уже защищать. Долговязый корреспондент ловко опорожнил его карманы с деньгами и документами.
В такую темную ночь идти лесом не так просто. Мария с Любой ориентировались по грохоту с трассы в поисках места, где вечером вошли в лес. Сначала Мария Иосифовна сама шла впереди, продираясь сквозь заросли, обходя озера. Потом обратила внимание, что девушка начинает отставать, не попадает в ее след. Тогда пустила Любу вперед, указывая направление. Продвижение стало более медленным, но теперь девушка была спокойная.
До вялого рассвета дважды отдыхали на поваленных деревьях. Мария Иосифовна каждый раз пристально и теплее смотрела на девушку. В разговорах узнала и о пионерском лагере, обо всех Любиных лишения.
Понемногу становился громче предутренний грохот машин на трассе — пришлось осторожно держаться вблизи нее. Автомашины в основном шли от того районного центра за высоким мостом над пропастью, с которого вчера вечером бежала Мария Иосифовна с детьми. Никакой суеты солдат, каких поисков с комендантскими собаками не заметила в этих местах.
Несколько раз ловила себя на мысли: расспросить у водителей, туда ли идут, далеко ли до того районного центра. И сама над собой смеялась за столь легкомысленные намерения. Продираясь ночью вдоль дороги сквозь густые кустарники, заметила, что автомашины, шедшие рейсом из райцентра, были всегда нагружены ящиками с боеприпасами, а встречные — с ранеными солдатами.
Вспомнила, что в городке еще тогда видела железнодорожную станцию с огромными зернохранилищами. Теперь эти зернохранилища оккупанты превратили в пристанционные склады боеприпасов, может, и для целого фронта. Ее обдало морозом.
Постояла, ожидая Любочку, мысли переводила на реальность.
— Устала, Люба? — спросила, только чтобы взбодрить уставшую ночными переходами в лесу девушку.
— Немного, тетя. Но...
— Ничего. Сейчас дольше отдохнем напротив вон того придорожного столба. Можно было бы и не идти нам в такую даль, но наши люди остались где-то, будут искать нас.
— Где вы видели, тетя, не идти... Может, лучше звать вас мамой. Пусть думают, что мы отходит от линии фронта.
Вполне уместное предложение. Все равно документов никаких нет ни у детей, ни у нее. Грязная, почерневшая, кто узнает в ней молодую женщину?
Натолкнулись на густой кустарник недалеко от дороги. Сели в нем с таким расчетом, чтобы в случае опасности на рассвете можно было вскочить и незамеченными исчезнуть под прикрытием кустов. Но стоило девушке сесть, как чрезмерная усталость сморила ее, бросила в сон. Очень скоро глаза сами сомкнулись.
...Трассой на это время уже в обе стороны густо пошли автомашины. Мария Иосифовна так следила, что и сон перемогла. Груженные боеприпасами автомашины проходили целыми колоннами. Каждую из них сопровождал только один солдат. Очень легко можно было бы выстрелить из автомата, убить водителя, устроить аварию. А потом прикончить в сумятице фашиста на машине. Надо препятствовать им, проклятым, надо тормозить темп их наступления!
Но сделать это можно только с последним в колонне авто. Да и то очень осторожно, потому что каждый раз идут встречные авто, даже легковые, наверное, с начальством.
Вдруг... Что это, галлюцинация? В кузове грузовика — оба ее сапера... Авто пронеслось с невероятной скоростью, но сомнений не было: это саперы из партизанской группы!
Как на фотопленке, в сером рассвете отразилось в глазах: Телегин полулежит, опершись на борт в переднем углу кузова. Руками будто повис на борту, едва держится на таком бешеном ходу. Вместо головного убора — широкая окровавленная повязка. Около него, на том же борту; вцепившись руками и рискуя сорваться вниз, сидел второй сапер — Старовойтенко. Он тоже без шинели, надо думать, и не ранен, если может удерживаться на борту при такой головокружительной скорости авто.
В кузове больше никого нет. Даже сопровождающий гитлеровец сел, очевидно, в кабину рядом с водителем. А где же Витя? Убит? Сбежал?
Схватилась на ноги, выскочила из-за кустов. Но фашистская автомашина пронеслась, подняв тучу брызг после дождя, и исчезла в утреннем сумраке. Что в кузове сидели оба сапера из ее отряда, в этом была уверенна. Так стоит ли рисковать ей, проверяя этот факт в условленном с Виктором месте встречи возле желоба? Ведь Виктор мог тоже лежать на дне кузова, если он ранен. За бортом его увидеть с земли не смогли бы, даже стоя у дороги.
Что же делать дальше? Обстоятельства так неожиданно меняются и так непредсказуемо, что голова кругом идет. Вернуть Любочку к авто и оставить с остальными детьми, а самой в следующую ночь пробиться, проверить условленную связь?
Долго еще сидела, решая эту сложную проблему. Вслушивалась, как спала девушка, тревожно вскидываясь во сне. Несколько раз вспоминала, как договаривались с Виктором.
— В расщелине, между первым и вторым кольцами желоба, должна быть наша записка! — в последний раз сказал он при том лихорадочном расставании.
Должна быть! А если Виктора просто с сосны сняли автоматными выстрелами?.. Страшная проблема.
Пришло свежее безгрешное утро. Любочка проснулась.
Стоя в густом кустарнике, советовались. Мария Иосифовна теперь уже никаких сомнений не имела, что в кузове гитлеровского авто проехали двое ее саперов. Один из них ранен, а это значит, что они вели бой. Наверное, и Виктор был с ними, руководил этой неравной схваткой, и...
— Мог погибнуть наш дядя Виктор, Любочка. А без мужчины в нашем сложном положении, да еще с авто, очень трудно, — говорила Мария Иосифовна, все еще решая эту сложную проблему. И спохватилась: — Мы же стоим, нас издалека видно. Пойдем, Любочка. — Как-то автоматически коснулась плеча девушки, и двинулись. Только когда углубились в лес на безопасное расстояние, сориентировавшись, повернула назад, к авто.
— Может, мне сходить к тому желобу? Ведь я его знаю, и это безопаснее, чем вдвоем, — тихо предложила девушка.
— Тебе, Любочка? — спросила, испугавшись, женщина. И задумалась, остановилась.
— Что же здесь такого, мне! Прошла бы за город и к желобу.
Тр-рах-тах-ах... Услышали отдаленную перестрелку в лесу. Мария Иосифовна припала ухом к земле, вслушалась. Девушка замерла, наблюдая за женщиной. Вновь послышались еще более отдаленные отзвуки выстрелов.
— Любочка, там что-то случилось! Я должна поспешить туда... Но не нарваться бы и нам на опасность. Ох, дети, дети... Бежать можешь?
— Могу! Ого, я так бегаю! Но ведь...
— Тогда бежим. Только не ступай на веточки, обходи их, чтобы не трещали, проклятые... А? Что такое?
Бросились вперед: те выстрелы и грохот авто предвещали что-то плохое. И вдруг остановилась.
— Ты что-то сказала, Любочка?
— Я могу сбегать к желобу!
Едва поняла Любочкины слова и покачала головой.
— Ладно, девочка, беги! Но будь осторожной и… умной. Будешь?
— Буду, как же.
Оторвалась и побежала к дороге. Женщина чуть провела ее глазами, держа руку на груди. Затем повернулась и снова побежала к тем трем, которым ее защита теперь, наверное, больше всего нужна была. Иногда останавливалась, чтобы отдохнуть, и снова бежала к месту стоянки своего авто. Несколько раз припадала к земле и, ничего не услышав, кроме грохота с трассы, шла дальше. В одном месте, на поляне у озера, наконец наткнулась на свои же ночные следы. Значит, недалеко уже и до места стоянки авто.
Внезапный выстрел, раздавшийся, казалось, где-то здесь, словно над ухом, как ветром сдул с ребят сон. Но не схватились, даже не вскрикнул ни один из троих. Только еще плотнее притиснулись к земле.
И снова выстрел, снова и снова... Ребята жались к земле, старались тише дышать. Слышались какие-то отчаянные крики, тяжелый стон.
Затем надсадно взревел мотор и словно из последних сил вздохнул, затих, угомонившись. Машина тронулась, затрещали ветки.
Первым заговорил Боря.
— Ой, что же нам теперь будет? — у него зуб на зуб не попал.
— Да замолчи! — подтолкнул его в бок Алик.
Рев мотора замер, удаляясь за лесными чащобами и смешиваясь с гулом машин на трассе. Что же теперь остается им делать, как действовать? Тетя Мария вооружила их автоматом и велела стеречь машину. Для чего же она давала им оружие в руки!
День зашел уже даже в лес. Плотность зарослей, где мальчишки спрятались и уснули, теперь значительно поредела. Молча, не сговариваясь, вышли из кустов и пошли искать машину.
Авто на месте уже не было. Это все же не сон им приснился, как до сих пор хотелось верить. На пустом утоптанном месте, где стоял автомобиль, лежали двое убитых фашистских офицеров.
— Гитлеровцы! — почти одновременно выдохнули, робко обходя убитых.
Но неподвижный был только один. Присмотревшись к другому, ребята заметили, что у него кулак отброшенной руки медленно то сжимался, то разжимался. Ребята поняли, что это уже смертельные судороги. Следовательно, и этот гитлеровский офицер им уже не страшен. У него сбоку лежал автомат. Первый убитый лежал без оружия, неестественно скрюченный. Здесь произошла баталия, а может, и целая боевая расправа.
Витя Довженко первым бросился к автомату. Но, когда нагнулся, чтобы взять автомат, услышал только два вполне понятных слова, которые раз за разом натужно пытался произнести смертельно раненый. И понял Витя, что это были последние слова несчастного.
— ...Банда заокеанская ...Банда заокеанская... — шептал умирающий, с каждым словом затихая.
— Это его не наши, а такие же, как и он сам, фашисты убили! — произнес Витя, поднимаясь. — Он говорит: «Банда заокеанская», а тот, что рядом с ним лежит, убит, кажется, немец. — Взял автомат из рук, как что-то отвратительное.
Гитлеровец, наконец, замолчал, рука замерла. Ребята отвернулись, потом прошлись по следу машины. Она сначала задним ходом вырулила на бугорок, и затем, круто развернувшись, ушла куда-то в совершенно противоположную сторону от их ночного направления. Ведь недалеко проходила большая трасса.
— Ну, вот и попались, ребята. Большая трасса опять. Это та, с которой мы бежали, скрываясь от гитлеровцев, — предостерег Алик. — Нам надо идти где-то там, навстречу тети Марии.
— А машина? — снова забеспокоился Боря.
И все вместе остановились, еще раз оглянулись на мертвых фашистов. Они неподвижно лежали, зажав в руках какие-то стебли, листья. Молчали деревья в утренней дреме, вслушивалась земля в шумное рождение дня.
Вооруженные двумя автоматами, мальчишки прошли еще каких-то полтора-два километра в направлении, которое казался им наиболее вероятным, чтобы встретиться с Марией Иосифовной. Однообразные деревья леса, закрытое вершинами небо и лесное одиночество. Только трасса беспрерывно гудела где-то за стеной деревьев.
— А я думаю, что лучше ее подождать где-то здесь. Мы же разминемся и заблудимся в лесу, — сказал Боря, останавливаясь. Ни под ногами у них не было хотя бы какого-то следа авто, ни деревья по бокам не напоминали им здешнего ночного путешествия.
— Ожидаем здесь, Боря, — согласился и Алик.
А когда остановились, то в тот же миг все трое услышали ритмичное шуршание сухих листьев у кого-то под ногами. Что шел именно человек, не сомневались, так как под ногами зверя шелест был бы не такой выдержанно ритмичный. Но если и человек, то только один. А тетя Мария не одна.
Присели у толстой сосны. Шорох иногда то затихал, а то и вовсе замирал, то еще с большей силой возникал где-то именно с того направления, куда направлялись ребята.
— А это же запросто могут быть гитлеровцы. Отвели нашу машину, теперь ищут нас, — забеспокоился Боря.
И схватились, резко двинулись прочь в сторону, в долинку, где гуще кустился орешник. Убегание придавало страху, дети бежали еще быстрее. И вдруг... Автоматная очередь!
Пули надоедливо хлопали где-то над головами, сбивали с деревьев ветки и листья. А это еще больше усиливало страх, словно подогнало ребят. И они рванули уже изо всех сил, почти натыкаясь на деревья. На их счастье, внизу, в долине, протекал ручей, и вода заилила песком ветви. На песке затихал шум от бега, и мальчишки теперь лучше могли прислушиваться к посторонним звукам.
Но их уже не было слышно. Значит, враг тоже прислушивается. Может, боится так же, как и они.
— Может, враг считает нас стадом диких коз? — действительно, мнение Бори в какой-то степени успокаивало.
Стрелец прислушается и, не услышав шелеста под ногами беглецов, уйдет своей дорогой.
Остановились под густым кустарником боярышника. В глаза друг другу не смотрели, чтобы не прочитать в них собственного страха. До боли в голове прислушались, но ничего больше не услышали. Незаметно для себя улеглись в кустарнике и затихли, ожидая развертывания каких-то загадочных и страшных событий. Удобство тайника в равной степени успокаивало их и пугало. Ведь враг может и случайно наткнуться на них, а Мария Иосифовна никогда не догадается искать их в этих зарослях. Она может подумать, что пионеры сами как-то поехали машиной.
Автоматная очередь снова, на этот раз совсем близко, обеспокоила ребят. Долго ли ждали в боярышнике, не знали. Вскочили и совсем четко услышали человеческое:
— А-го-го-о-ов!..
«Ов... ов...» — катилось, затихая где-то далеко.
— Га-га-га! — крикнул Боря, узнав в том «агов» женский голос. И тут же выбрался из кустарника, направился на холмы.
За ним последовали и те двое. Боря еще раз крикнул:
— Га-га-а!
И все трое услышали совсем близко женский голос. Теперь уже сомнений не оставалось, их разыскивала Мария Иосифовна. Ребята повернули на тот спасительный голос.
Мария Иосифовна остановилась, чтобы передохнуть, потому что видела, что трое друзей заметили ее, наперегонки бегут навстречу. Села под сосной, тяжело дыша, но уста расцвели улыбкой.
— Нашу машину фашисты... — начал кто-то с плачем.
— Знаю, знаю, дети. Заметила ее на дороге. Какие-то солдаты в чужинской форме поехали на ней в районный центр. Теперь на мостике, думая, что это мы, их схватит комендантский патруль. Но туда пошла наша Любочка!
— Куда? К фашистам, тетя?
— К фашистам? Нет, Боря. Она пошла к тому желобу, где мы...
— Где вы спасли меня... — закончил за нее парень.
Ее обступили, как дети мать. Мария Иосифовна только сейчас заметила еще один автомат в руках Вити Довженко.
— Вооружился, Витя!? Нашел в лесу? — спросила.
— Эти солдаты отбили у гитлеровцев нашу машину и застрелили обоих. А я взял автомат.
— Здорово! Теперь мы снова отряд! С тремя автоматами!
И встала. Надо действовать, ведь эти шесть глаз заглядывают в душу.
— Ну, что же, отряд мой боевой. Пусть тех гитлеровцев комендатура хоронит, а мы уйдем отсюда. Как хорошо, что мне удалось найти вас.
— А первый раз, тетя, тоже вы стреляли? — спросил молчаливый Алик.
— Я стреляла, Алик. Наткнулась на тех убитых, а наше авто я видела уже на трассе. Вот и начала кружить вокруг стоянки, наконец-то выстрелила.
— А вы знали, что мы испугаемся выстрелов? — снова спросил Боря.
— Знала. Выстрелила, чтобы услышать голос хотя бы и испуганных. И таки услышала. Только не голос, а... приглушенный шелест побега.
Посмотрела между ветками вверх и двинулась, ни слова больше не сказав. Она знала, что детям теперь уже все понятно: идут вместе на условленное место встречи с Любой Запорожец.
Провожаемая взглядом Марии Иосифовны, девушка аж на дороге огляделась. Несколько авто обогнали ее, не остановились. Не замечали ее и встречные авто. Любочка спокойно шла, даже подбегала, когда на дороге было пусто. На каждое авто оборачивалась и провожала его глазами, изображая глупую крестьянскую девушку, как научила ее Мария Иосифовна.
Почти перед самым мостом, над обрывом реки, Любу обогнала эмка. Девушка испугано оглянулась, словно надеясь, что за этим авто должна же как-то гнаться и тетя Мария. Успела заметить, что в авто сидело двое военных. Даже у того, что за рулем сидел, висел на шее автомат.
Внезапная стрельба на мосту заставила девушку отшатнуться. Но только оглянулась вокруг, не бросилась бежать. Затем упала, ловко растянулась на земле — стреляли навстречу авто. Услышала шум на мосту, даже крики и стоны. Подняла голову и увидела, как приседали солдаты, охраняющие мост, стремительно стреляя вслед черной эмке. Авто неистово неслось, виляя по мосту и за мостом. Вдруг аж на повороте улицы машину подбросило, и она взялась клубком огня и черного дыма...
Солдаты с моста вскочили с колен, побежали туда, где за углом над домами поднялось черное пламя, кричали люди.
«Не везет нашему отряду с авто», — подумала девушка и, не задерживаясь, побежала следом за солдатами через мост. Кто тут станет задерживать ее, когда к подбитому авто побежали солдаты, охраняющие мост. Перебежала через мост, присоединилась к толпе женщин и детей городка и потерялась в их панической суете.
Когда гитлеровские солдаты спохватились, начали отгонять людей от горящей «партизанской» машины, Любка Запорожец выходила уже из последнего переулка на дорогу к желаемому желобу.
Еще долго слышала крики и стрельбу, несшиеся с улицы, где догорало их авто.
Не так легко было найти и достать коротенькую записочку Виктора. Он ее запихнул в расщелину, удобно замаскировал твердым комком глины. Как предусмотрительна их Мария Иосифовна: «Смотри, говорит, не в расщелину, а на забитую в ней глину...»
Еще в желобе прочитала:
«На грузовом авто проскочим через мост до хутора возле смолокурни. Не ищите, а проезжайте себе, мы остановим. Виктор».
Как велела Мария Иосифовна, Люба прочитала эти несколько строк, может, и сотню раз, отдыхая от бега до встревоженного событием города. Наконец, скомкала мелкие куски бумаги в руке и по одному выбрасывала незаметно, проходя между испуганными людьми в городе.
В сгоревших обломках советской эмки обеспокоенная комендатура не нашла ничего особенного, только два трупа.
Удивительная изобретательность у этих советских партизан. На этом же авто они бежали с того леса за городком, где комендантские войска делали облаву на них. Часового убили. А теперь возвращались на той же машине обратно.
В такой версии и доложил комендант об этом событии, завершив тем «партизанскую эпопею» возле городка со стратегической железнодорожной станцией и армейскими складами боеприпасов.
Люба этого не знала. Мария Иосифовна приказала ей «строить из себя дурочку», которая ищет своих родителей. Она отстала от поезда и... сама идет «домой, аж за Днепр».
У обгоревшей автомашины до сих пор толпились люди, ругались солдаты. Девушка смешалась с ними, прислушивалась, о чем говорят люди, пыталась угадать среди них самых лояльных к «тем партизанам». Грузовые авто останавливались у места происшествия и через минуту отправлялись дальше через мост. «Если бы это было ночью, — размышляла девушка, — можно было бы как-то уцепиться и проехать этот мост. А днем, да еще при таком военном внимании и бдительности на трассе, на мосту...»
Но надо попробовать с кем-то поговорить, чтобы при случае расспросить, нет ли какого-то другого прохода через реку. Для начала попросила кусочек хлеба:
— Вот уже второй день не ела, бабушка, — всплакнула Люба, обратившись к старой женщине, которая как раз что-то с жаром рассказывала в группе других женщин.
— Чья же ты? — заинтересовалась девушкой.
— Нездешняя я. Мы из-за Днепра. В Одессе с родителями отдыхали. Мой отец... священник.
На старую женщину не так повлияло то, что дочь священника осталась без родителей, как то, что священник по курортам ездит с целой семьей.
— Богатое же у вас село, дочка, балуют своего священника. А он... рясу на плечи и давай бог ноги. Дочку не уберег... — почти со злом выговаривала женщина.
Любочка почувствовала и поняла, что на этой версии она «горит». Наверное, женщина лучше бы отнеслась, если бы отец был каким-то агрономом или лесником.
— Он... отрекся, — снова придумала Люба.
— От кого, от дочки?
— Нет, от поповства, бабушка. Счетоводом уже работал в колхозе. А мама — учительница. Они хорошие, — убеждала девушка, понимая, что от реноме родителей зависит отношение людей и к ней.
— Кристина, — крикнула женщина в группу. — Пойди отрежь вот для малышки кусок от моей лепешки. Родителей потеряла, пешком за Днепр добирается.
— Сама? — поинтересовалась молодица. — Так пойдем в дом. Наделала проклятая война, и дети не находят теплого места в своей стране. А с каких же мест родом, знаешь, где Днепр?
— А чего бы я не знала, в школе же училась.
Женщина завела девушку в дом, посадила за стол и дала поесть. Затем налила в миску теплой воды, велела, как своей, помыть ноги, кое-что и переодеть дала девушке. Люба почувствовала искренность такой материнской теплоты и осмелилась, не притворствуя перед женщиной, расспросить обо всем. Те более что на жерди увидела красную, словно пионерскую, косыночку.
— Это ваша была?
Женщина оглянулась на косынку, улыбнулась.
— Моей дочери Нади. Девятиклассница уже. Вывезли наших школьников где-то на Восток...
— Счастливые! Я, тетенька, тоже пионерка. Я... придумала, что отец — священник. Он инженер.
— А я и знала, что... ты придумала. Попы, девочка, по курортам не ездят. Но в эту пургу не только ты, но и никто им, проклятым, правды не говорит. Как тебя зовут?
И снова девушка почувствовала мать. Какой же искренней является наша советская женщина!
Только теперь Люба поняла, что может сказать здесь значительно больше, хотя и не все. Что она идет из пионерлагеря, это была истинная правда, с этим нечего таиться перед такой тетей. Но идет не одна, и перед этим мостом они растерялись. Видимо, те трое уже прошли.
— Только боюсь я вырываться через этот мост. Могут задержать и не известно, как поступят, еще убьют. А обойти... не знаю, где можно его обойти. Так и слоняюсь тут у вас. В желобе ночевала, за мостом.
— Убьют, проклятые, как есть могут убить, девочка. Может, переждала бы у нас эту страшную войну? Потом... снова пойдут поезда.
— А как же те трое? Я так не могу. Сама останусь здесь, еда, уют, а они?
— Похоже, не обманываешь, Любочка. Нет, предавать друзей нельзя! Верно, хвалю!
Молодая женщина как-то внезапно умолкла, задумалась. Чуть позже тихо, как заговорщица, заговорила:
— Вместе, вдвоем пойдем. Вот только вернется свекровь. Она только вчера вечером пришла ко мне тоже оттуда, из-за моста. Выведу тебя к своим, а там... видно будет. Потому что здесь уже допрашивают активистов.
— А эта бабушка, ваша свекровь, пустит?
— Чего бы ей не пустить, она умная женщина... Вчера пришла пересидеть это время. Там у них много военных нашло, а село маленькое, теснота... Вот и она. Я сейчас... — выскочила из дома, говорили со старой в сенях. Затем вошли, мрачные обе, словно поссорились.
— Ну что же, сама себе хозяйка, делай, как лучше. Девушку провести надо. Поведешь через луга. Хотя и дальше немного, зато дорога своя. А о том и не выдумывай, что я здесь сама буду делать. Свое оставила, черт с ним. А если и за вашим не присмотрю… вот что началось на белом свете! Да и нужно ли оно кому-то из наших людей, такое творится. Смотри, как знаешь, дочка. Я уже старая, а то бы... и, не посоветовавшись, пошла, как в восемнадцатом году!
Женщина даже улыбнулась при этих словах свекрови. Заспешила, переодеваясь. Хлеб, несколько пирожков завязала в платок. Собиралась только отвести девушку, а уже чувствовала какие-то более важные порывы.
— Пойдем, Любочка! Прощайте, мама.
Где-то за городком, когда вышли из последнего двора, остановились передохнуть. Ведь больше приходилось подбегать, прячась за домами. Пробирались, чтобы не встретить живой души. Через сколько заборов перелезли, дворов перешли.
Глухой уголок городка словно притаился под перелеском. Выйдя из того двора, который будто в перелесок вскочить разогнался, они выбрались из города. Где-то позади, в прилегающей к железнодорожной станции улице, до сих пор еще перекликались взволнованные псы, иногда раздавались одиночные выстрелы. А здесь, в перелеске, таинственная тишина и какая-то приятно заговорщическая солидарность кустарника, молодых деревьев и еще каких-то распуганных войной птиц.
— Теперь отдохнем, Любочка, съедим по пирожку с капустой, и пойдем дальше! А то если найдут...
— Как мне вас звать, тетя, — заговорила Люба. — Вы учительница?
— Кристиной зовут, тетя Христя буду тебе, — улыбнулась, как родная. — Учительницей не была, а на станции работала багажной кладовщицей.
— Тетя Христя. Хорошее имя! У нас в школе был один парень, Романом зовут... Его мама тоже тетя Христя.
Женщина, как мать, смотрела девушке в глаза, когда та говорила. И прочитала в них тревогу, что-то большее, чем память о том парне по имени Роман.
— Тот Роман не был вместе с тобой в Крыму? — между прочим спросила.
Любочка почему-то вспыхнула, смущенно опустила глаза. Как эти тети прислушиваются не к словам, а к трепету души!
— Был, тетя Кристина. Он... остался еще там... из-за меня остался... Я так поступила... а он хороший.
И пока сжевали по одному большому крестьянскому пирожку, Люба рассказала все.
Потом долго без передышки шли лесными дебрями, пока вышли из леса. Спустились в низину и оказались на лугах со стожками сена. А солнце хоть и скатилось на западе до горизонта над лесной полосой, все еще было такое же щедрое на тепло. За лугами, там, где падало к горизонту солнце, виднелась под лесом рыжевато-черная полоса кручи, как будто прогибающейся под весом леса. Ах, какой лес!
Люба оглянулась, чтобы сравнить его с тем перелеском, которым они прошли на эти широкие луга. Теперь услышала отдаленный гул войны. Но где она, с какой стороны отзывалась теми тяжелыми отзвуками, никак понять не могла.
Несколько раз приходилось ложиться, просто падать на колючую стерню сенокосов или переходить под стог, когда где-то из-за лесной полосы вырывалось сначала неистовое гудение, а потом появлялась стая самолетов. Однажды, услышав такое гудение где-то позади себя, Люба внезапно упала на стерню. Кристина улыбнулась и сказала:
— Наши, Любочка, вставай!
Сколько было теплоты в этих словах, гордости, веры!.. Девушка вместе с тетей провела глазами тройку советских самолетов. Там, в этом мощном движении, пронеслась часть их покоренного врагом края, пронеслись смутные, но радостные надежды!
Только когда солнце скрылось за густой стеной леса, они подошли к спокойной реке. Достаточно широкая водная преграда покрывалась рябью от низового ветерка. Даже захотелось девушке во весь опор переплыть эту реку. Но в тот же миг пришлось упасть под кусты лозы, потому что где-то за лесом, на том крутом берегу, послышалось тяжелое гудение фашистских самолетов. Над лесом с той стороны реки низко летели несколькими группами бомбардировщики.
Когда пролетели самолеты, осторожно поднялись. Женщина посмотрела по сторонам вдоль реки.
— Беда мне, Любочка, плавать смолоду не научилась. Придется подождать, пока совсем стемнеет, и поискать лодку. Косари всегда держали здесь лодки, чтобы рыбачить.
...Когда девушка проснулась от легоньких толчков женщины, было уже совсем темно. Война как будто разворачивалась в это время где-то вокруг, сотрясала воздух и землю.
— Задремала? — тепло допытывалась женщина, как мать дочку. — Я боялась, что проснешься, а меня нет.
— Но почему это, тетя, все наши советские женщины такие хорошие, как мама? — с чувством детской теплой благодарности, как к родной, сказала девушка.
— Такова наша материнская стать... Ну-ка не медлим теперича. Давай пошли, пока луны еще нет. Должны затемно перебраться через реку.
— В тот страшный лес?
— В тот самый. Но лес, дитя мое, колыбелью был еще первому человеку на земле. Идем!
Лодка чуть-чуть покачивалась на воде. Люба проследила за полосой в тине между лозой. Теперь только поняла, почему ее тетя не уснула, как она, чтобы отдохнуть от усталости. Какое счастье, встретить хорошую женщину-мать!
Одним веслом оттолкнулась, а затем стоя принялась грести двумя руками, ни разу не ударив о борт такой шаткой на волнах посудины.
«Буду уговаривать тетю Кристину остаться с нами», — думала тем временем Люба.
Долго потом пробирались густым диким лесом, то удаляясь от крутого берега реки, то снова приближаясь к нему. Девушка иногда хваталась за рукав женщины, боялась, чтобы не отстать в таких глухоманях лесных. А когда чувствовала, что рядом эта полная человеческой искренности и материнской теплоты женщина, не страшны были те огромные грохотания войны.
На расстоянии какого-то километра от большой дороги терпеливо ожидала Мария Иосифовна своего боевого посланника. Зашла уже и глухая ночь, голодные мальчишки то засыпали в кустах, то снова просыпались, хватаясь за автоматы. «Чем и как их покормить?» — мучила проблема. Мария Иосифовна своим автоматом вооружила и третьего из пионеров. Чтобы не проспать возвращения девушки, она не приседала, даже не останавливалась. Так и ходила то к дороге, то снова к месту, где разместила своих голодных «автоматчиков».
Где-то после полуночи услышала шуршание валежника под чьими-то ногами. О, она была эту ночь излишне внимательна к любым звукам вокруг в лесу. Наверное, животное какое-то. Потому что слышится шелест под четырьмя ногами, причем идет очень быстро. На дороге в это время движение заметно замерло. Неудивительно, что и зверь выбрался из глубоких чащоб на поиски пищи.
Но зверь вдруг остановился, замер, вслушиваясь. Мария Иосифовна жалела, что не взяла с собой автомат. Осторожно прокрадывалась в кусты, где спали голодные ребята.
И снова остановилась, чтобы прислушаться. Зверь уже пошел только на двух ногах. Так только медведь подкрадывается, встав на задние лапы. Надо спешить к автомату!
Уже возле кустов, под которыми спали ребята, — даже услышала сонное бормотание кого-то, — прислушалась снова. Животное шло сюда. Любочка?!
И только повернулась, чтобы идти навстречу, — услышала тихое, как шелест листьев под ногами:
— Тетечка!
Стремглав бросилась навстречу, еле минуя деревья.
— Любочка! — произнесла, словно аж из глубины сердца. И сжали друг друга в объятиях. Здесь же и сели. Едва видели что-то в темноте, только глубоко чувствовали.
— «На грузовом авто проскочим через мост до хутора у смолокурни. Не ищите, а проезжайте себе, мы остановим. Виктор», — залпом передала Люба заученное содержание записки. — Вот такое было в записке. Я уничтожила.
— Очень хорошо, девочка. «Проезжайте себе, мы остановим»... Но ехать нечем, придется идти.
— Наша машина сгорела в селе. Там такое... Людей много, фашисты стреляли.
— Герой ты, девочка, герой! Пойдем расскажешь нашим автоматчикам. Ты хоть ела сегодня? Наши ребята голодные, но терпят!
Поднялась Мария Иосифовна, помогая и Любе встать на ноги. Но почувствовала, какой усталостью налилось тело девушки. Близкий свет сходить! Без сна, без еды, в тревоге.
— Пойдем, моя разведчица дорогая, возле ребят отдохнем.
— Подождите, я же не одна, — вдруг вспомнила Люба.
Схватив за руку Марию Иосифовну, потащила ее туда, откуда только что пришла.
«Так вот почему топали четыре ноги» — вспомнила Мария Иосифовна.
— Да кто же там еще, колхозники? — тихо спросила.
— Тетя Кристина. Железнодорожница. Дочь-комсомолку отправила на восток.
...Так стала членом их отряда еще одна советская патриотка, которая окончательно решила не возвращаться домой, пока там командуют фашисты. Добраться до фронта, где-то же он есть, и помогать раненым, защищать Родину, воевать, как воюет ее муж!
Углубившись в лесные пущи, они решили отдохнуть. Вся ночь была хлопотно-тревожной, и, когда после возвращения Любы не стало этой тревоги, дети почти сразу же уснули.
Навевала прохладу предрассветная пора, дети сбились в кучку на душистом лесном сене. Коль есть у них взрослые, а взрослых теперь стало двое, им нечего беспокоиться о завтрашнем дне, даже голод так не досаждал, и пищу со скромных запасов тети Христи принимали сдержанно. Теперь им только бы поспать!
А женщинам, двум матерям, не в первый раз такое недосыпание. Немного в стороне от детей послали тоже сухого лесного сена, найденного где-то на луговине. А разговоры не утихали с первой минуты встречи, когда Люба привела к Христе Марию Иосифовну. Темная лесная ночь, все вещи вокруг становятся сказочными, даже те, о которых говорится, как о чем-то обычном.
Но совершенно неожиданно, от одного, может, случайно сказанного слова, Мария Иосифовна насторожилась. Какое-то время внимательно вслушивалась в выразительный шепот железнодорожницы и, не услышав больше того, что ей почудилось, спросила:
— О каких провокациях с помощью детей вы говорите, Кристина? Военные провокации — и дети... К чему же здесь дети?
Допытывалась и сама прислушивалась к своим словам: не изменяет ли она своей осторожности? Глубокое убеждение, что их дочь Нину Андрей Тихонович отправил к своей матери, почувствовав тревогу на пограничье, начинало входить в ее сознание как непреложный и — куда правду деть — приятный в этой ситуации факт! Поэтому и свое резкое поведение на прощании с мужем теперь больно переживала и искренне осуждала.
— Ой, милая моя! Такое делают, проклятые, что и сама себе порой не веришь.
— Фашисты? — еще раз переспросила, чтобы напомнить женщине именно ту нить в рассказе, которая ее почему-то особенно обеспокоила.
— Они, проклятые. — Кристина промолчала, тяжело вздохнула, будто трудно и самой было возвращаться к тому, что так задело эту удивительно смелую женщину. Мало ли ей хлопот с этими четырьмя несчастными детьми? — Так вот, говорите, фашисты! Действительно, как-то и не назовешь их более благопристойно. Фашисты! Свекровь моя от дома своего отреклась из-за них, проклятых. Ко мне прибилась на днях. А вот вчера одного из ее квартирантов, какого-то вроде испанца, узнала старуха в обгоревшей советской машине. Любочка тоже уверяет, что это было ваше авто.
— Только одного узнала свекровь? — нетерпеливо спросила Мария Иосифовна, будто подгоняла ту рассказ.
— Второй совсем обгорел, на человека не похож.
Мария Иосифовна тяжело вздохнула и почти прошептала:
— А третий и четвертый застреленные лежат в лесу. Видимо, воевали между собой за наше авто.
— Возможно. Словом, тех фашистов было как будто трое, а четвертый с ними, похоже, из наших, перебежчик какой-то. Он знал наш язык и как-то намекнул свекрови...
— О чем, о детях?
— А разве знаешь. Похоже, что уговаривали, успокаивали того нашего. Он и проговорился свекрови о той девушке пограничной.
— О пограничной девчушке?.. — с ужасом спрашивала Мария Иосифовна, вставая. — На что же они склоняли его?
— Говорит старуха, что не поняла. А тот о девчонке проговорился...
— О Боже! — застонала Мария Йосифовна. — Я должна поговорить с ней, с вашей свекровью... У меня же дочь исчезла на пограничье, Кристина! Муж мой — генерал пограничных войск... Я должна идти расспросить, искать! Я ведь мать...
— Но, Мария Иосифовна, успокойтесь. Почему вы думаете, что именно ваша дочь попала к ним? — удивлялась железнодорожница и тоже приподнялась на локте.
Сбиваясь, впопыхах рассказала Мария Иосифовна о своем несчастье с дочерью. Это страшное событие разлучило их, а сейчас рассказ Кристины внес еще и смятение в ее душу. Ведь ее дочь в самом деле могли выкрасть гитлеровские контрразведчики в провокационных целях.
— Как жаль, Кристина, что ваша свекровь не расспросила гитлеровца, о какой девчонке он говорил, — застонала Мария. А может, расспросила, но не успела все рассказать невестке? Уже сквозь тяжелые слезы нервно заговорила, умоляюще хватаясь за женщину. Молодая, ненамного старше, эта женщина, как никто, могла понять горе матери.
— Тот гитлеровец прекрасно говорил по-нашему. А свекровь любит поговорить с каждым встречным. Если б же знать…
Кристина и сама почувствовала, что надо расспросить старуху о том несчастном ребенке.
— Что я должна сейчас сделать, говорите, советуйте» Я же мать… — Мария со стоном встряхнула женщину за плечи.
— Вы же говорите, что эти фашисты убили двух других, а сами сгорели в вашем авто. Там разговоров всяких пошло среди людей.
Мария Иосифовна вскочила на ноги, занервничала.
— Пойду туда, к трупам. Может, найду что-то.
Вслед за Марией побежала и Кристина. Молча обыскали убитых, пересмотрели еще раз вывернутые карманы. Ничего не нашли. Если и было что-то в карманах, то наверняка их товарищи и ограбили.
Светя спичкой как можно осторожнее, чтобы незаметно было с дороги, Мария случайно глянул в лицо покойника.
— Ой матушки! Да это же дорожный мастер... — воскликнула и пошатнулась. Кристина едва успела подхватить ее под руки.
— Что с вами? Успокойтесь.
— Дорожный мастер! Наш дорожный мастер Безрух! — воскликнула Мария и обмякла на руках у Кристины. Женщина положила ее на землю, растерянно оглянулась, помахала платком над лицом. Страдания матери терзали душу Кристине.
К детям женщины вернулись только на рассвете. На трассе уже начинался многоголосый гон автомашин.
Так и не уснула в то утро встревоженная известием мать. Лежала, не смыкая глаз, смотрела сквозь густые ветви деревьев, где медленно таяла ночь, пробивались мощные ростки дня. Забывать начала, как радуются люди утру, чувствуя в том и свое ежедневное рождение после сна. Ее тяжелый сон не уходил…
— Я должна поговорить с вашей свекровью, — твердо решила и сказала об этом Христе, когда та зашевелилась, открывая глаза. — Любу пошлем по дороге разыскивать наших, а сама...
— Я пойду с Любочкой, я здешняя, — охотно одобряла Кристина решение Марии.
— Найду ли я без вас ту женщину? Поверит ли она, расскажет?
— Тогда подождите меня. Найдем с Любой ваших людей, посоветуемся в группе. Конечно, без меня трудно найти, если там сейчас такое... Узловая станция, какие-то стратегические грузы.
— Стратегические грузы? — переспросила Мария и как будто изменилась. — Там... стратегические грузы. Верно, Кристина, идите и быстро возвращайтесь все. Там стратегические грузы...
8
Судьба соединила двух саперов при выполнении их боевой задачи с водителем генеральского авто. Счастливо соединила. Саперы теперь будут смелее выполнять ту задачу в ужасных условиях военного тыла. Виктор умел прекрасно чувствовать окружение и хорошо ориентироваться на местности. Боевое задание генерала касалось именно этого районного городка и его мостов. Даже ценой собственной жизни, приказывал генерал, эта задача должна быть выполнена!
Неожиданные темпы войны чрезмерно усложнили саперам выполнения боевой задачи. Начались бурные, полные тревог и опасности военные приключения.
Когда комендант городка погнал своих солдат вслед за советской эмкой, Витя, выткнувшись из густых ветвей, шепотом произнес к саперам:
— Внимание! Немедленно менять позицию!
Комендантские солдаты бегом удалялись в овражек. Саперы, как встряхнутые груши, соскочили с деревьев и, передохнув, осторожно оглядываясь вокруг, молча побежали дальше, будто пытались напрямик опередить автомашину. Виктор не спешил слезать с дуба. Он слышал натужный рев мотора, который, затихая на расстоянии, словно рассказывал ему о настроениях беглецов.
«Боевая» — коротко охарактеризовал Марию Иосифовну, кивнув головой. Спустился по толстому стволу на землю, снял автомат с шеи, притаился возле дуба. Глазами следил за комендантской погоней, вслушивался в собачьи старания угодить злому коменданту.
А мотора эмки уже не слышал. Пробежал к саперам, которые послушно ожидали его.
— Ложись, — скомандовал им и еще раз внимательно огляделся.
Далеко по трассе, которой проехали и они в этот городок, шла колонна немецких грузовых автомашин. Водители дисциплинированно держали дистанцию, двойные задние колеса поднимали хвосты пыли. Один за другим проходили грузовики, вызывая шоферскую зависть Виктора, оставшегося без машины, как говорится, на произвол судьбы.
По какой-то интуиции Виктор считал выстроившиеся грузовики. Считал автоматически, потому что в то же время напряженно перебегал с одной мысли на другую, искал разгадку своего положения, стремился как-то помочь и саперам выполнить их боевую задачу. Что-то изменить в своем положении к лучшему пока не мог. Не знал, надо ли беспокоиться, что отпустил ту отчаянную, оскорбленную жену генерала с авто, в котором полно советской детворы?
Детей жалко! Наши, советские дети, несчастливо выброшенные судьбой на распутье опасной, ужасной войны, начатой неслыханным беззаконием — нарушением межгосударственного соглашения о ненападении. Но когда нарушено одно соглашение, то можно ли ожидать от такого нарушителя какого-то соблюдения международной этики в отношении мирных, несчастных детей? Хищник законов не признает.
Замер, удалившись, комендантский шум. Только гул войны слышно впереди. Переключив внимание, Виктор услышал значительно более близкие звуки от колонны фашистских автомашин и выразительные шумы железнодорожной станции за лесом. Виктор забрал саперов, и они бегом направились в глубь леса. Как своих хозяев радушно принимал их советский лес. Словно призывал, приглушая удаленный шум войны. Партизаны обходили отдельные деревья, группы деревьев, кусты боярышника. И не заметили, как отклонялись от своего направления, приближались к большой трассе. Трудно было бежать вверх в лесу, каждый раз натыкаясь на преграды, огибая их.
Виктор оглянулся на саперов. Под грудью у обоих проступали выразительные пятна пота. Каждый из них в одной руке держал винтовку, а другой поддерживал тяжелую сумку боевого вооружения подрывников. Теперь у них в этой сложной ситуации есть и командир — шофер самого генерала. А при командире выполнять свою боевую задачу каждому бойцу свободнее. От того он становился вдвое сильнее и отважнее.
Бежали долго, настойчиво. Надо было как можно быстрее изменить местоположение, чтобы сбить врагов со следа. Ночью они должны были наведаться к желобам для связи с Марией Иосифовной.
"Не устали ли они в этом беге?» — невольно мелькнула мысль как отклик на увиденные мокрые от пота гимнастерки.
Однако ни сомнений, ни колебаний на лицах саперов Виктор не заметил.
И не заметили, как снова приблизились к той же большой дороге. Правда, были значительно дальше от райцентра, но при том же шоссе. По нему-то и они так неожиданно проскочили эмкой почти до привокзальной опушки, нужной саперам. Едва успели тогда юркнуть в лес, заметая следы.
Трассой шла одиночная машина, — наверное, последний немецкий грузовик отстал от колонны. Но, присмотревшись, увидели, что это советский ЗИС с на скорую руку нарисованным черепом и военным номером. Но это не так ошеломило Виктора: ЗИСов советских было немало в колхозах и учреждениях. Виктору показалось, что он узнал водителя за рулем. Вздрогнул от каких-то смешанных чувств. Поруганное фашистскими знаками советское авто, водитель с дорожного участка...
Может, водитель заметил их, советских бойцов, в гуще лесной, что так вдруг замедлил ход? Поворот дороги не дал проследить за ним дальше. Но не было сомнения, что ЗИС замедлил ход и около густого придорожного кустарника будто повернул в лес. Значит, заметил! Почти возле первых кустов кустарника с авто послышался приглушенный выстрел. Возможно, это был взрыв газов в выхлопной трубе. Но Виктор внезапно остановил саперов и повернул с ними в балку, возле которой они только что пробежали.
— Выхлоп газов или выстрел, товарищи? — спросил он, переводя дух.
— Какой там выхлоп! — уверенно возразил Константин Старовойтенко.
Его в тон дополнил Телегин:
— Без сомнения, выстрел из советского нагана! Дурак играет, или какое-то недоразумение.
Виктор бросил заинтересованный взгляд на младшего сапера, который так уверенно определил не только выстрел и марку оружия, но и свое мнение по поводу характера выстрела. Даже встрепенулся от какого-то подсознательного предположения. Но оно было такое неопределенное, мимолетное: мелькнуло и исчезло.
— С советского нагана? Но ведь это фашистское авто, — пытался хоть так оспорить утверждение саперов.
— Мало ли их захвачено теперь ими в таком бешеном и неожиданном нападении? А выстрелить из трофейного... Может, и я не удержался бы этого, если бы впервые схватил в руки какой-то парабеллум?
Рассуждения Телегина окончательно успокоили возбужденного Виктора. Он осмотрел дорогу и лес вокруг. На каких-то пять или шесть километров отбежали они назад, подальше от того районного центра с гитлеровской комендатурой. К нему так рвались оба саперы, так как нужно было выполнить боевое задание генерала.
Опять выстрел с той же стороны леса. ЗИС, видимо, вырвался из кустарника и, петляя между деревьями, понесся прямо в гущу, выехал на холм, с которого только что сбежали наши герои. Невольно присели за кустом боярышника перед овражком, напряженно вслушиваясь. Авто неслось вперед, углубляясь в лес дальше от дороги. Рев мотора удалялся, медленно затихая. Слышно было, как после первой растерянности от выстрела или по другой причине водитель безопаснее выбирал путь в чаще.
«Что же это такое?» — разгадывали все трое. Мало им своих забот, на тебе еще и какого-то заблудившегося водителя на авто советской марки. Кроме того, Виктор невольно поймал себя на мысли, что один водитель, пусть и фашист, не страшен им троим. А в положении беженцев им очень бы пригодилось это авто с фашистскими знаками. Они смогли бы свободно проехать мимо вражеской комендатуры в городке, догоняя эмку Марии Иосифовны.
— Знаете, друзья, по-моему, неплохо бы... — размышляя, сказал Виктор саперам.
— Справимся ли мы с… грузовой техникой в фашистском аду? — почти не думая, спросил Старовойтенко в том же тоне. Он удивил Виктора не так сомнениями в водительских способностях генеральского водителя, как необычным проникновением в его молниеносную идею. Генерал знал, каких саперов посылать на ответственное задание!
— Как ты догадался? — искренне поинтересовался у сапера.
— В нашем положении иного мнения быть не могло, — сказал и Телегин. — Авто, да еще и с фашистскими знаками, это же абсолютная гарантия выполнения нашей задачи!
— Совершенно верно, товарищи, — абсолютная гарантия выполнения приказа генерала! А кроме того, так хочется отомстить им, особенно этому проклятому гитлеровском коменданту. Пошли следом!
Идти было не близко, пришлось немало потратить времени. Загадочный ЗИС прорвался прямо в необжитые глубины леса, очевидно пытаясь скрыться подальше от людских глаз. Зачем, с какой целью? Искать партизан и ловить их на приманку в виде ЗИСа?..
Даже в груди похолодело.
— Стойте, товарищи! Не ловушку ли придумали нам гитлеровцы! — остановился Виктор.
— Какую ловушку, кому? Вроде бы пустое авто.
— Пустое, — сказал и Телегин. — Хотя борта в ЗИСа высокие.
— Правильно. Добрый десяток автоматчиков ляжет в кузове, и ничего с дороги не заметишь. Слышали же: забеспокоились эсэсовские комендатуры, отряды по борьбе с партизанами объединяют в прифронтовых тылах.
Молчали мгновение, лежа в лесном кустарнике. Ни дорожного шума, ни железнодорожных гудков уже не было слышно даже при внимательном прислушивании. Увлекшись преследованием, они и не заметили, как далеко углубились в эти дебри. Шумел-гудел только лес вокруг, будто эхом повторяя выразительный шум отдаленной войны.
— Что же будем делать? — как-то подчеркнуто не по-своему отозвался молодой сапер Лука Телегин. — Надо же как-то и нам выполнять задание. Гоняем, носимся по этим чащам лесным, а мосты стоят себе, служат гитлеровцам, будь они прокляты.
— Служат, чертовы мосты, — подтвердил и Старовойтенко.
А генерал, возможно, проклинает своих неискусных саперов-подрывников, трусами обзывает... Потому что на этом направлении уцелели мосты, они забиты так войсками и техникой врага.
Да и что теперь делать в такой ситуации, когда в том советском авто, скажем, проехало с десяток эсэсовских автоматчиков.
— Давайте, товарищи, выберем более удобную позицию. Надо иметь за спиной густой лес, хоть бы какую-то защиту нашего тыла.
— Все равно... живыми не дадимся! — сказал Старовойтенко. И первый же встал искать ту удобную позицию.
По всем правилам безопасности пробирались в самые густые заросли в поисках хоть каких-то оврагов. И вдруг одновременно припали к земле, замерли в кустарнике. Все трое отчетливо услышали треск веток.
Виктор осторожно поднял голову и осмотрел местность, сколько можно было видеть сквозь густые ветви. Никакой тропы, даже звериной, не было. Внимательно прислушивался, и показалось ему, что слышит чье-то тяжелое дыхание. Тихо отвел предохранитель автомата.
Опять треснули ветки. Еще и еще затрещали. Виктор осмотрел обоих саперов: их винтовки заметно дрожали в напряженных руках, головы прилегли к прицелам.
Кто-то идет густой кустарниковой балкой. Не идет, а крадется, как к своей жертве, приближается к партизанам. Неужели с дерева фашист видел их и дал направление автоматчикам?
Действительно — автоматчик. Серая фашистская форма на нем, полная сумка через плечо и в руках автомат наизготовку.
Но он только один и смотрит куда-то на другие кустарники. Значит, их не заметил до сих пор. Пропустить, чтобы выстрелом не выдать себя остальным, которые продвигаются вслед за ним на определенной дистанции.
Виктор молниеносно рисовал себе план действий фашистского отряда автоматчиков: веером разошлись на какое-то расстояние от авто, пощупают один круг, перейдут к другому... Решил: потрогал одного, другого сапера и пальцем дал знак наклониться, прислушиваться, но не стрелять. В голове уже созрел молниеносный план. Сам будет защищаться, завяжет бой, а их отошлет. У них такая задача...
Автоматчик тоже, видно, что-то услышал, потому что с предосторожностью смотрел вокруг, поводя автоматом. Ясно, что он не уверен, откуда услышал те угрожающие звуки. Оглядывался ли бы так автоматчик, если бы знал, что по первому зову сюда бросится целый отряд его товарищей?
— Бросай автомат, стреляю! — почти шепотом крикнул Виктор, отводя ладонью звук. Ему важно было испытать врага на звуковую реакцию, ведь гитлеровец наверняка не знает языка. Все равно отбиваться придется на жизнь или смерть.
Удивительно: фашист тотчас отбросил, автомат и поднял руки вверх. Оглянулся, показал Виктору свое лицо, взволнованное, растерянное, но не воинственное. Виктор удивленно раскрыл глаза...
Еще в то утро накануне гитлеровского нападения на приграничье, где стояли войска генерала Дорошенко, водитель дорожного отдела не находил себе места от грызущего раскаяния. Такую девочку, дочь генерала, предательски вывез и отдал в грязные лапы дорожного техника. Чувствовал же, что в этом деле кроется нечто постыдное для него и страшное для невинного ребенка. Сколько раз ему приходилось подвозить девочку. Не ее ли мать защищала Вадима, когда его, сына жестокого кулака Шестопалько, чуть не сняли с работы? Защитила. Оправдает, мол, доверие...
«Что она думала, странная женщина? Ведь знала... Мать! Если водитель охотно подвозил иногда ее ребенка, кленовым листком забавлял, то готова была собой поручиться. Таковы матери! У меня тоже осталась мама...» — горько думал Вадим Шестопалько.
Но не хватило ему времени додумать все до конца. Тяжкий проступок камнем лег на душу. Ночью, перед рассветом, фашистские танки прорвались где-то слева. Войска генерала Дорошенко с боями отошли в глубь страны.
На следующий день гитлеровцы застали Шестопалько при машине в дорожном отделе... Застали безоружного, как и других водителей. Но некоторых из тех других сразу же сняли с машин, куда-то грубо повели как преступников. А его нет! Вадиму Шестопалько открыта дорога в жизнь. Ему даже улыбались, заглядывая в свой список. Сразу же заговорили с ним на немецком языке: «Гут, гут!» Хорошо или плохо поступил, настойчиво изучая еще и вне школы этот иностранный язык! Мать советовала, на учителя растила, оставшись без хозяина-кулака.
«Измена!» — еще в то утро пришло безошибочное определение своей роли и положения в этой ужасной для родного края войне. А измена кончается смертью. Позорной, черной смертью бешеного пса... И это в каких-то двадцать два года! Другие — герои, а ты — червяк. Сын кулака, потомок позора...
Удивительно, что эти мысли отчетливо проступили в голове Вадима только после того, как он по приказу техника отвез генеральское дитя далеко в чащи пограничного леса. Проступив, царапнув совесть парня, они тлели без затухания, даже когда спал, и превратились в рану. Волком раненым выть требовала совесть юноши. И... решил лечить рану молодой души этим отчаянным актом.
Сначала прокрадывалась какая-то надежда. Пан или пропал! А если и пропадать, так с музыкой, которую услышал хоть бы один советский человек. О, та музыка!
И, поехав в авто как гитлеровский солдат, увозя с собой на сиденье офицера-гестаповца со свастикой и адамовыми костями на рукавах, окончательно решился.
Отправились с автобазы вместе с обозом грузовиков, предназначенных для доставки снарядов на передовую. Вывозить должны были где-то с железнодорожной станции. Значит, будет время продумать свое намерение до конца. Специально открыл даже переднее стекло, угождая гестаповцу, потому что в кабине стояла жара. Офицер не понял, что это преднамеренный жест. Кашлянув несколько раз от пыли, эсэсовец приказал отстать от автомобильной колонны. Даже пояс, на котором висела кобура с маузером, расстегнул для удобства, положил на сиденье.
«Удивительно, как же они доверяют кулакам, если даже кулак-водитель его нисколько не беспокоит! Свой...» — придавило стопудовое убеждение, ледяной глыбой упало на разогретые раскаяния и стремления юноши.
А лес с обеих сторон, а день сменялся прохладным вечером. На сон потянуло самоуверенного эсэсовца, повисшего горбатым носом. Водитель заглянул в закрытые глаза гестаповца. Вдруг вспомнилось, что где-то за этим районным центром, где как раз грохочет война, живет в селе его тетя-вдова — материна сестра. Никогда у нее не был, потому что она не признавала родства, родную сестру называла кулачкой. А мать же бывало «такой хорошей тетей» называла ее, все в гости к ней посылала. «Признаешься, — говорила, — тетей назовешь…» Неужели и в эти страшные для края дни тетка будет такой же жестокой с племянником, сыном кулаков? Только бы найти дом.
Только искоса еще раз глянул на гестаповца, расквасившегося на сиденье в сладкой дреме. И, словно молнией, его больно резануло непоседливое решение: «Умирать, так с музыкой!»
Резко повернул руль влево, влетел в первые кусты придорожных зарослей. На впадине заиленного дождями кювета авто подпрыгнуло, офицер моргнул глазами. В тот же миг лихорадочно ощупал левой рукой место, где должен был лежать маузер. Но… кобура была пустая. Взмахнул рукой, едва осознав страшную реальность. Авто углублялось в лесные чащи.
— Вас ист… — только и успел промолвить эсэсовец.
Вадим Шестопалько выстрелил из офицерского маузера просто ему в лицо. Авто в это мгновение хоть и сбавило ход, но не стояло, целиться было сложно. Да и сосну, стоящую по ходу, надо было объехать.
Выстрел не был точным, окровавил щеку, напугал. Эсэсовец сгоряча схватился за ручку двери, дернул ее. Мог бы выскочить, если бы действовал более решительно. А он после первого испуга, почувствовав, что живой, успел прийти в себя, решил сопротивляться. Залитый кровью, оставил дверь, повернулся к шоферу. Тогда и прозвучали те два выстрела, которые услышал Витя и его саперы…
— Ну вот вам и весь мой рассказ, товарищи партизаны.
Вадим, одетый в гитлеровский мундир, умолк, давяще глотал слюну. Опустил голову, ждал приговора партизан, потому что обе винтовки были нацелены прямо ему в грудь, готовые ежеминутно приковать гитлеровца к толстой сосне. Маузер был в руках Виктора.
— Та-а-ак… А ты знаешь, что Мария Иосифовна здесь вместе с нами партизанит? Командир отряда она! — сказал Виктор, как-то болезненно ломая в голове перепутанные мысли, симпатии, разочарования и ярость.
— Тогда... стреляйте! Я сын жестокого кулака, врага советского народа. Но я... советский гражданин, я...
— Ты тоже враг.
— Нет! — решительно покачал головой Шестопалько. — Я не враг. Я скрыл автомашину, чтобы вернуть нашим. Убил фашиста. И теперь пойду...
— Куда?
— К черту в зубы! Буду убивать их, гадов, чтобы намостить с их трупов эту пирамиду Хеопсову. Может, тогда наше советское правосудие... помилует меня!
Шестопалько, как наказанный ребенок, долго держался, сжимал зубы и все-таки заплакал. Просто отвернулся, дал волю слезам, не закрывая ладонями глаза, не ударяя себя в грудь кулаками. Только округлились глаза, взгляд перескакивал с Виктора на саперов. А щеки расписывались унизительными полосами слез, как у младенца.
И опустились винтовки саперов. Этот убедительный плач не показался им игрой врага.
— Пропасть бы тебе, подлому! — брезгливо сказал старший в этой группе сапер Кость Старовойтенко. — Может, и правда, товарищи, проверим? Если это правда...
— Нам ли здесь разбираться самим? — сомневался Телегин. — Если он по-человечески, то и мы... Пригодился бы такой и нам в отряде.
— Ладно. Пойдем, покажешь...
— Покажу. ЗИС я загнал в овражек, чтобы только самому найти после войны.
— Найдешь и для войны... Пойдем показывай, пока не вечер. Идти будешь впереди. Если приведешь на гестаповцев, первая пуля тебе.
— Один он. На убитого приведу.
Под двумя направленными на него винтовками повернулся и повел. Где-то глубоко родилась надежда, шершавая и колючая, как судьба проклятого. Но — надежда!
Совсем стемнело, заходила летняя ночь. Теми же нетоптаными тропами в гуще лесной Виктор и двое саперов отправили Шестопалько на отчаянное испытательное для него боевое задание.
Переждали группу авто на дороге, осторожно вышли из спасительного кустарника. Рискуя жизнью, решили проверить преданность Вадима Шестопалько. Настороженно вслушивались, спешили на дорогу к цементному желобу, условленному пункту встречи с Шестопалько.
Пробегая, наткнулись на два трупа гитлеровцев. Вспомнили, оглядываясь на убитых, и поняли только сейчас те два выстрела Марии Иосифовны в разведке, после которых ей пришлось так рискованно убегать с детьми. А убежала ли?..
Добежали и нырнули в метровый желоб под высокой насыпью рокадной автомагистрали. Может, именно по ней и отступали с боями войска генерала Дорошенко? Но если бы действительно отступали именно здесь, то, видимо, сделали бы все, что следует с теми мостами. А мосты стоят.
Что здесь промаршировала война, видно было из червоточин в земле от авиабомб и снарядов. Но это была война гонки: кто кого опередит. Дав тяжелый, непосильный для пограничных войск бой вражеским танковым частям, стремительно наступавшим, Дорошенко должен был вывести свои войска в другие места для соединения с регулярными силами линии фронта. Но здесь ли проходил генерал, имея на плечах врага, или где-то вброд перебирались его войска, маневрируя в лесах по бездорожью? Мосты остались целыми.
Рокадная магистраль повреждений почти не претерпела.
По ней все время неслись в обе стороны военные машины с солдатами, а больше — с боевой техникой врага.
— Да-а, братья-саперы, генерал надеялся на вашу помощь! А мосты целые стоят... — жаловался Виктор.
В обе стороны то и дело мчались авто.
— Здесь совсем удобно поджидать нашего Шестопалько, — продолжал Виктор уже в желобе. — И все же придется сделать разведку до тех ваших объектов. Вы уверены, что там было заложено все необходимое?
— За каким бы чертом нас посылали сюда, если бы той уверенности не было у командования! Я же сам и закладывал с ротным. Под шоссейным мостом закладывал старшина.
— И я со старшиной там орудовал. Это за селом, перед самым лесом, — сказал и Телегин.
— Генерал знал, кого посылать на это боевое задание... Ну вот что, минеры: оружие надо оставить в том кустарнике. Особенно винтовки.
— Как же без оружия воевать?
— Хитростью. В случае какой-то неожиданной угрозы это не так уж и плохо. Отступаем! Ведь мы же в тылу врага.
— Воевать все равно должны!
— Воевать должны, это правда, — соглашался Виктор с мнением Телегина. — Но в этих условиях воевать надо разумно. Слышал, Вадим говорил, что у них приказ — уничтожать на месте советских партизан?
— Если бы разобраться разумному фашисту, то мы и не партизаны, а армейские саперы. Боевые саперы, товарищ командир! Задача еще не выполнена.
— А выполним любой ценой!
— И все же теперь мы — партизанская группа. Отрезанные от своих частей... Мы должны воевать в любых условиях! — продолжал Виктор.
— Отнеся оружие в перелесок?
— Да, Костя. В этом случае, отнеся. Партизан действует так, как велят условия.
— Так, может, лучше караулить по одному в этой дыре, а остальные будут сидеть где-то в перелеске, — предложил Старовойтенко.
На том и сошлись. По предложению Старовойтенко померялись на штыке, кому первому оставаться в желобе. Пришлось самому младшему из них — Луке Телегину. Итак, он остается в желобе, а двое с оружием при первой возможности уходят к густому кустарнику. Тот кустарник тянулся вдоль дороги, ведущей на железнодорожную станцию. Заодно решили следить за движением на станцию. К тому же той дорогой можно было дойти и до крутых берегов реки, через которую перекинут железнодорожный мост!
То, что гестаповцы могут искать здесь партизан, выпало из головы. Большой, типично партизанский лес лежал по другую сторону дороги. Бескрайний и густой, он опирался на реку, за которой на десятки километров тянулся дальше до границы. Именно в этом лесу и будут искать фашисты.
Партизаны проскочили в перелесок, неся винтовку и минное снаряжение Телегина. Меняться условились через каждый час, пока не появится Шестопалько.
— А если он и вовсе не появится? — высказал мнение Старовойтенко.
— Не может быть!.. — нервно возбужденным голосом возразил Виктор. И только через минуту спокойнее добавил: — Черт их разберет, этих кулаков, которые умеют так искренне каяться.
— И клясться.
— Да, и клясться жизнью. Но не будем себя терзать плохим. Отдохните, товарищ Старовойтенко. Вам идти вторым на пост.
Сапер только вздохнул и лег, не головой под куст, а ногами. Виктор молча одобрил эту предусмотрительность. Партизаны! Странное и не совсем привычное слово. А сколько в нем содержания — тревожного и героического, сколько опасности и ярости!
«Пар-ти-заны» — чуть ли не вслух сказал Виктор еще раз. И тоже присел за кустом так, чтобы все время не спускать глаз с части дороги с желобом. Ночь сгущалась, победив предвечерние сумерки. Затухали и отдаленные выстрелы пушек. То ли это все еще удаляется фронт, то ли войска обеих сторон сделали передышку перед следующим, еще более горячим боем.
Только дорога все еще не стихала, была забита машинами, мотоциклами, пушками, даже танками. Виктор вздрогнул от внезапного упоминания о боевой задаче саперов: перекрыть эту военную артерию врага. Перекрыть, зажать в кулаке и наслать на него нашу авиацию. Но пересечешь ли? Видимо, по неразрушенной железной дороге сюда подвозят технику, боеприпасы. Недаром же дорогой от станции особенно густо идет на автомагистраль тяжелая военная техника.
Посмотрел на часы. Стрелки четко светились, приближалась пора смены.
— Товарищ боец! — тихо сказал, как условились они, не называя имени. — Товарищ боец, на пост.
Старовойтенко поднялся спросонья.
— Значит, все-таки без оружия? — спросил он, зевнув.
— Без оружия. Скажите, пусть быстро скрывается в первых кустах, а я встречу.
— Есть, капитан! — откозырял Старовойтенко. Это была дружеская шутка, Виктор хорошо это понял. А как мобилизует эта фраза! «Есть, капитан!» — сказал Старовойтенко и, словно сам ободренный этой фразой, встал на ноги, двинулся на пост. За ним прошел и Виктор к краю кустарника. Все их вооружие: две большие сумки саперного снаряжения для выполнения боевой задачи, винтовки, автомат, даже противогазы — все осталось в густом кустарнике.
Маленький перерыв в движении на магистрали. Старовойтенко рванул и без остановки добежал до желоба, который даже ночью чернел, как разинутая пасть зверя. Сапер упал и ловко пополз бороздой к желобу, скрываясь от ярких лучей из фар новой группы авто.
Пересекся свет встречных автомашин именно на желобе. Но как ни всматривался Виктор, сапера не увидел в борозде.
— Ну, повезло! Кажется, проскочил... — не совсем уверенный в этом, вслух успокаивал себя Виктор.
И вдруг оборвал мысль.
Грузовое авто, которое шло откуда-то из райцентра, остановилось, немного не доехав до желоба. Снопы света из фар убийственно застыли вдоль дороги, освещая место над желобом. Виктору показалось, что гитлеровцы в последний момент заметили, как Старовойтенко вползал в его отверстие.
Из кузова выскочили шестеро солдат с автоматами наготове, из кабины шофера вышел, видно, старший, офицер или нет, трудно было понять. Что-то скомандовал солдатам и посветил фонариком вниз по насыпи. Туда и бросились солдаты.
Вот они вышли из света, разбрелись за насыпью. Виктор напряженно следил за солдатами, пока мог их видеть. Кого-то ищут. Кого же?.. Неужели?
Страшная догадка, что водитель Шестопалько все же наслал на них гестаповцев, бросила Виктора в ужасный холод и в жар одновременно.
А солдаты рыскали с другой стороны насыпи, Виктору их не видно было. Да и офицер с фонариком спустился вниз, но уже по эту сторону насыпи, и направился к желобу. Вот фонарик бросил свет в желоб, светящееся пятно на мгновение остановилась и нырнуло в отверстие...
Офицер замахнулся револьвером, что-то крикнул. К желобу прибежали еще трое солдат. Почему же не убегают саперы в то отверстие на противоположной стороне? Там же лес, не освещенный фарами.
Окружены!
С позорно поднятыми руками медленно вышли из желоба оба советских сапера. Бессильная ярость сковала волю Виктора. Что сделать, как спасти товарищей, так предательски выданных кулаком. Их забрали без оружия, без сопротивления, как трусов, скрывающихся во время опасности.
— Ну, мразь, за эту измену ты заплатишь жизнью! — в яростном замешательстве похвалялся Виктор. И ужаснулся: при том же подлому кулаке они говорили и о боевом задании саперов.
Не мог отвести глаз от своих несчастных друзей. Первые шаги пересекла страшная измена. И все из-за отсутствия боевого опыта, неосторожной жалости и малодушия.
Саперов провели под насыпью ближе к авто. Ослепительно светили фары. Что-то кричал офицер, угрожая револьвером, саперов толкали солдаты. Виктор напрягал слух, а услышать ничего не мог. Только видел, как привязался к ним фашист, как размахивал кольтом. А когда гитлеровец ударил-таки Телегина револьвером в лицо и сапер упал, Виктор побежал к оружию, не думая о том, что его могут услышать, бросятся в перелесок, обнаружат оружие...
Лихорадочно рылся, готовя оружие, и бежал назад, к своему наблюдательному пункту. Никаких других соображений — только месть гитлеровцам. На мгновение остановился на том же месте, осмотрел все вокруг.
Оба сапера лежали уже на земле, офицер толкал носком ботинка кого-то в бок... Виктор дальше не мог терпеть, поднял оружие, прицелился, искал голову врага на пропавшей в темноте мушке автомата. Решительный, яростный...
В этот момент к месту происшествия подошел встречный «Оппель» и, не разминаясь, остановился, ярко светя фарами.
Немецкий офицер выскочил уже из этого «Оппеля», стройный, надменный, энергичный. Что-то крикнул просто в группу разгоряченных неистовством палачей, и они внезапно вытянулись перед старшим офицером-штурмовиком. Он прибыл так неожиданно, действовал решительно.
Виктор опустил автомат, вынужден был переждать, чтобы хоть немного понять, что же там происходит, к чему идет. Ведь этот старший офицер прекратил пытки саперов, что-то велел солдатам. Те послушно и быстро подняли саперов с земли и поставили на ноги. Забинтовали Телегину голову, вытерли Старовойтенко. Ясно, что этот второй эсэсовец решил забрать саперов и повезти с собой. Абсолютно логичны для разумного офицерского действия.
«Повезет в военный штаб», — мелькнула мысль у Виктора. К лучшему ли это? Повезут, все равно допрос начнут вести из-под нагайки.
А на трассе раздавались приказы старшего офицера. В скрещенном свете фар двух машин саперов подвели к этому второму «Оппелю», велели садиться в кузов. Старовойтенко первым схватился за борт и, встав на заднее колесо, полез в машину. Телегина подсадили.
А первый «Оппель» быстро развернулся, взял солдат, которые уже положили в кузов два трупа — застреленных Марией Иосифовной конвоиров Бори, офицер сел в кабину и, козырнув этому старшему, быстро двинулся прочь.
Так что же это такое? Вдруг потух свет в этом втором «Оппеле». Напрягая зрение, Виктор едва различил, что из кабины вышел и водитель. Что-то сказал в кузов к саперам. Виктор чувствовал, что лопается его запредельное напряжение, начинается какое-то безумие. Хоть бы слово услышать! Стрелять? Куда, в кого?
Трассой прошло еще несколько авто с пушками на прицепе. В снопах света выкупали «Оппель», саперов, офицера и скрылись с такой же скоростью, как и появились. Одинокий «Оппель» остался на дороге. Ни света, ни шума.
Виктор напряг привыкшие к темноте глаза, едва различил, как Старовойтенко соскочил с кузова авто и быстро спустился с насыпи, побежал к перелеску. «Измена?» — Снова бросило в жар Виктора. Смело выступил с перелеска навстречу саперу.
— Виктор, забирай снаряжение, едем, — полушепотом крикнул сапер.
— Что это, измена?
— Сам черт не разберет, что это. Едем скорей! Вадим с гестаповцем...
— Таки с гестаповцем? Проклятый.
— Поехали, говорю! Потом, потом... Он как бы свой.
Грудой сгребли свое оружие, сумки с минами, шинели. Полуночная пора наступала, уменьшалось движение автомашин на трассе. На мгновение притих и шум войны впереди. Офицер-эсэсовец встретил обоих на гребне насыпи, протянул руку и подхватил сапера под плечи, помог Виктору.
— Скорее в лес, там разберемся, — велел гестаповец на достаточно неплохом русском языке.
Даже подсадил обоих в кузов. Полушепотом уже из кабины посоветовал Виктору лечь, и почти в тот же миг авто тронулось с неосвещенными фарами.
В сером и каком-то невероятно чужом рассвете проскочил «Оппель» по лесной автомагистрали. Сколько их проходит здесь почти каждую минуту! Мария Иосифовна едва узнала сапера. Он сидел на высоком борту и пристально вглядывался в лесные заросли, чтобы не упустить своих людей. Ведь их там набралось уже немало.
Но лес в ту горячую военную пору притаился в утренней мгле.
Авто с бешеной скоростью пронеслось мимо сожженного, разрушенного поселка за лесом. Только кое-где под лесом еще стояли уцелевшие, обгорелые дома. Там уже шевелились гитлеровцы, которыми были забиты развалины бывшего села.
— Прифронтовая зона, — шепнул Шестопалько Виктору, кивнув головой в сторону развалин.
Узнать Виктора в кабине рядом с водителем было почти невозможно. Эсэсовский френч, как на него шит, высокая эсэсовская фуражка делали его похожим на типичного гестаповского офицера.
— При первой же возможности сворачиваем с трассы. Дальше будет еще больше этой гитлеровской нечисти, — будто советовался Виктор с водителем. Шестопалько кивнул.
«Оппель» резко повернул направо в какой-то перелесок и нырнул прямо в чащу. Густой кустистый лес был замечательным убежищем для человека. Но большому трехтонному «Оппелю» пробираться по нему было трудно.
Пришлось остановиться. Командовал Виктор. Он быстро выскочил из кабины.
— «Оппеля» придется здесь заминировать. Если уцелеет — наше счастье. А если нагрянут немцы и захотят прокатиться, как мы...
— Прокатятся! Просто к отцу Саваофу в объятия. Давай, Костя, готовь. Мне же хорошо баки забил гитлеровец тем спортсменским ударом в желобе.
Телегин подал Старовойтенко мину, а сам отошел и сел под сосной, держась рукой за голову. Пожилой сапер, не раздумывая, полез под авто. Ни слова, никакого колебания. Только посмотрел на Виктора, который поспешно снял гитлеровский китель и положил его в кабину, где только что сидел.
— Если авто взорвется, от кителя останутся только пуговицы. Если бы положить сюда еще и какого-то завалящего гитлеровца, все было бы в ажуре... — бормотал Виктор, одергивая на себе свою родную военную гимнастерку.
— Как там наш Станислав выкручивается без этого кителя? Поверят ли, гады? — Сказал из-под авто Старовойтенко.
— Поверят, — подтвердил Виктор, подсознательно подбадривая не только себя. — Боевой поляк, рискует отчаянно! А как себе синяк наварил, черт! Я думал, что и глаз у него выскочит. Перестарался Стась. Со всего размаха удариться так о сосну, это, товарищи, надо какую силу воли иметь!
Из-под сосны отозвался и Телегин:
— Наш Шестопалько на такое не решился бы.
— Вадим тоже боевой товарищ. Теперь я уже окончательно поверил: свой Вадим Шестопалько, наш! Скажи, Вадим, где ты подхватил такого боевого поляка?
— Спасибо, Виктор. За дружбу с тобой я...
— Не надо, Вадим, — остановил Виктор. — Давай рассказывай. Интересно же, в самом деле, знать и нам...
— Почти случайно. Пошел, значит, я от вас и чуть не влип в автобатальоне на... остром желании привести для партизанской группы настоящее гитлеровское авто. Пришлось молниеносно маневрировать. На попутной машине доскочил до бывшей границы и забежал на всякий случай в дорожный отряд. А там полно нашего брата, военнопленных. Наскочил на нескольких из них у туалета. В этом полевом лагере среди военнопленных были и беженцы из эсэсовских лагерей, были и предатели. Ну, конечно, стервозный народец лагеря не нуждался в особой бдительности со стороны фашистской комендатуры. Сами же и следили. Мне в гитлеровской военной форме просто завидовали, заискивали передо мной. Поэтому один посоветовал: «Полячка, — говорит, — приблудного забрал бы отсюда. Не наш он, замаскированный коммунист, попался где-то. Из подпольных интернационалистов, кажется, пройдоха, видать...» Это и напомнило мне еще раз, что я же водитель без подозрения у них. Почему бы и не воспользоваться мне этим, выполняя нашу боевую договоренность. Ведь я пошел по авто для партизанской группы! Ну... сильнее заинтересовался тем коммунистом, как и полагалось. Кулаки и привели мне Станислава, злые, готовые убить его в окруженном дежурными дворе. Вижу, что среди пленных, где много уже шатается нашей братии всякой, этот полячек — другого полета птица. Иду с ним к уборным, довольно воинственно настроенный — я же с оружием! Сразу же и говорю ему, никто нас не слышит: айда, мол, в Польшу! И совсем незаметно при этом моргнул ему глазом. Мог предполагать, что, вооруженный, издеваюсь над ним, безоружным, идя в скрытый угол лагеря. А он оглянулся, еще раз посмотрел мне в глаза и... как-то не совсем естественно, словно бы деланно, согласился. «Айда, — говорит, ты, наверное, кулак, а я именно с таким бы охотно перекинулся на территорию пана Пилсудского...» Отошли мы в подлесок там же в отряде, поляк напомнил, между прочим, что знает джиу-джитсу... Словом, при необходимости может защищаться. Но я тотчас же открыл и свои карты. Джиу-джитсу, говорю, не изучал, а вот жить, как и он, очень хочу! Поладили мы. Но для такого деликатного дельца не было у нас авто!.. Понял без объяснений. «Есть, — говорит, — авто. Поведешь?» — и еще раз словно просверлил меня своим изучающим взглядом. Я ответил утвердительно. Он улыбнулся впервые со времени нашего знакомства и... исчез в той плотной изгороди. Думаю себе, если провоцирует, то я же не мальчишка какой-нибудь, вооружен, к тому же кулак. Посмотрим еще, кому гестаповцы больше поверят... Вскоре поляк появился, и уже не один, а в сопровождении эсэсовца. «Не ошибся ли, — говорит, — я? Кажется, вы водитель автобазы?» Да, настораживаюсь я, водитель автобазы. «Ну вот, — говорит поляк гестаповцу, — я же помню, что он и привез меня с той облавы... Везите в лагерь, куда угодно — не хочу погибать от самосуда». Конечно, нелегкое это дело обманывать бдительность гестапо. Ну, повел гестаповец нас к авто, поручил мне арестанта, а сам где-то разыскал офицера, и мы поехали. Затем, когда в кузове началась стрельба, я свернул в лес. Офицер, конечно, успел выстрелить, высунувшись из кабины, немного царапнул поляка, но я тут... Вот и вся недолга. Офицера мы раздели, конечно, документы поляк приспособил при свете фар. Мы-таки заехали далеко от трассы. «Теперь я, — говорит, — капитан Браге», — и надел эту паучью одежду.
Выбравшись из леса на дорогу, я выразил обеспокоенность, что наши не успели подорвать мосты, станция действует, служит гитлеровцам. Саперы, говорю ему, ищут возможность подорвать-таки мосты. Словом, договорились, и вот он согласился на эту отчаянную операцию с разведкой. Хотя есть какие-то еще и свои задачи интернациональной борьбы, как он говорит. На юг Франции стремится... Ранен в левую руку в нашей операции, но пуля наспех была направлена, только царапнула. К чему же боевой подпольщик! Ну, вот и все. Кажется, ясно?
— Яснее некуда! Теперь, Вадим, будем измерять нашу искренность и дружбу действиями всего отряда. Должны найти нашего командира. Помнишь Марию Иосифовну?.. Будем вредить гитлеровцам, уничтожать, проклятых!..
— Готово! — крикнул из-под авто Старовойтенко. Сошлись у сосны, где сидел Телегин. Над головами были сплошные лесное своды из крон.
— Значит, начинаем действовать, товарищи партизаны! Мое решение такое: разворачиваемся на прочесывание леса. Где-то же мы найдем Марию Иосифовну, — сказал Виктор.
— А связь с поляком? — спросил Шестопалько. — Может, вы мне позволите идти крайним при дороге?
— Давай, Вадим, иди крайним. Ведь он тебе все свои планы изложил. Повезет ли ему в этой слишком рискованной для нас разведке? Боевой поляк.
— Ему бы только побывать на вокзале. Языком владеет прекрасно.
— А как вырваться потом из лап эсэсовской комендатуры? — вздохнул Виктор, понимая положение партизанского разведчика на первом их боевом объекте.
Еще помолчали все, чувствуя серьезность положения.
— И вот что, Вадим: о генеральской девчушке матери — ни слова! Позже попробуем разыскать ее. А сейчас план ясен — найти командира. Расходимся по перелеску, сбор — два протяженных свистки, тревога — три отрывочных. Если опасность, лучше молчать, чтобы не выдавать остальных.
На железнодорожную станцию день и ночь прибывали военные грузы. В этом чувствовалась какая-то лихорадка, хотя, на первый взгляд, казалось, что жизнь на железной дороге нормализовалось. Начинали возвращаться на работу отдельные работники станции, поднятые бешеной пропагандой нацистов, которая уже с первых недель войны клала окончательный крест на возвращение Советской власти.
И вдруг комендант станции получил срочный приказ командования армией, трижды тайный, страшный...
«...Итак, предписывается немедленно выставить бдительный отряд для охраны территории вокзала. В лесу вокруг — партизаны!..»
Что такое партизаны, комендант станции представлял себе смутно. Штаб командования сообщал о выделении крупного подразделения войск СС специального назначения для самой пристальной охраны железной дороги. В том же письме коменданту давалось понять, что из многих железнодорожных станций, расположенных по советской границе, только эта осталась вполне невредимой. Надо было любой ценой сохранить станцию и мосты в этом городе.
Так вот оно что такое партизаны! Комендант станции немедленно связался с комендантом города и убедил его, что отныне их покой будет полностью зависеть от бдительности вооруженных отрядов. Транспортные линии вблизи города отныне должны особенно внимательно охраняться. Ведь готовится второй сильнейший удар немецких танковых войск, которым нужны будут эти линии сообщения.
На высоком шоссейном мосту, после убийства часового советской эмкой, вместо одного часового с автоматом на шее была поставлена целая охрана — по несколько человек с обеих сторон. Появился пулемет с бронебойными снарядами, замаскированный недалеко от моста.
Именно об этом и доложила Мария Иосифовна бойцам, когда они соединились в единый боевой отряд «Кленовый лист». Ожидая Виктора с саперами, Мария согласилась отпустить домой Кристину. Находчивая женщина на следующий день вернулась в отряд только ей известными тропами. Местечковые новости не так встревожили партизан, как порадовали и насторожили.
— Если они так паникуют только от нашего появления, то что же будет, когда мы...
— Тихо, Витя. Пока мы ничего не делаем, надо держать язык за зубами! — остановила Мария Виктора. — Действительно, подождем того нашего друга — поляка. Что-то же он разведает, если самому удастся выбраться. Связь с ним имеешь?
— Нет, к сожалению. Наверное, Вадим как-то связан. А у нас — все тот же самый желоб.
— Тот же желоб под носом усиленной пристанционной охраны! Додумались же вы... Вадим, так какая же договоренность у вас с тем поляком? Где ждать, охранять?
— Я своей жизнью поклялся за его безопасность... Да, собственно, договоренность какая-то есть. Мы с ним...
— Не надо, выполняй!
Раздетого, избитого, изуродованного Станислава с документами капитана Браге спас пристанционный патруль. К счастью, «партизаны» забрали только его китель, а все документы остались в карманах брюк. Патруль торопился, и на рассвете капитан Браге был уже в станционном медицинском пункте. На его синяки от «побоев» и на раны, особенно от веревок, которыми был зверски связан, врачи положили повязки, компрессы. Сам комендант делал ему первый, небрежно замаскированный допрос.
— Думаю, что господин капитан мог бы внимательнее присмотреться к тому водителю-украинцу и не доверяться вслепую.
— В самом деле так... — прерывая стон и тяжело дыша, ответил Станислав Лужинский, — но известный приказ фюрера обязывает нас доверчиво относиться к так называемым «репрессированным кулакам». К тому же актуальность задачи и эти... русские дезертиры из войск генерала Дорошенко. Согласитесь, господин комендант, что я не мог бросить их, не доставить оперативном отделу армии такой материал разведки.
— Да, но должны были бы, капитан Браге, поставить охрану к ним!
— Это правда, должен был бы. Но эти местечковые идиоты из комендатуры готовы были скорее убить их, чем молниеносно доставить оперативным органам армии! — энергично отстаивал капитан Браге свои действия.
Их разговор был внезапно прерван: коменданта срочно вызвали к прямому проводу. Тот «прямой» будто потряс всю службу пристанционной комендатуры. Раненого оставили одного. Только через час вернулся обеспокоенный комендант, и окончание допроса вылилось в своеобразный товарищеский приказ:
— Придется вам, капитан, уехать в тыловой госпиталь. Наша пристанционная комендатура превращается сейчас в оперативный дорожный отдел по борьбе с этой удивительной настойчивостью «совиетских Иванов». Какие-то партизаны, активисты... Сам дьявол не разберет этой красной стратегии! Вы же знаете, что значит наша железная дорога и железнодорожный мост — единственный неповрежденный на весь фронт, что значат именно наши склады. То, что железнодорожный мост остался целым, слишком порадовало наше командование. Тем временем мои люди имеют данные, что под обоими мостами совиеты заложили мощные мины с замедленными механизмами и...
— О Боже! — воскликнул раненый офицер разведки. — Почему же вы... Ведь готовим...
— Знаю. Готовится такая операция! Трасса танкового рейда Гудериана. Да что говорить. Я уже вызвал опытных минеров из штаба фронта! Через два-три дня мы должны пропустить грузы наступающей армии Гудериана!
— Капитан, об этом можно и не говорить так громко, — предупредил Браге, выслушав коменданта. Этим предупреждением окончательно выбил любую настороженность коменданта к раненому.
— Хайль Гитлер, господин капитан! Вполне понятно. Но мины мы должны обезвредить еще до начала. Только бы минеров нам скорее.
— Позабочусь, непременно подгоню минеров. Ну что же, капитан, если я не пригожусь вам здесь, извините. Но стоило бы, конечно, связаться со штабом армии именно в плане. Я ведь работник отдела разведки.
Непринужденность и тон этого разговора не оставляли у коменданта никаких сомнений в искренности слов и намерений Браге. У коменданта не было особой охоты возиться со штабным капитаном и с перепиской о нем.
Он лишь на мгновение задумался и будто даже обрадовался, найдя гениальное решение проблемы.
— Ладно. Не станем записывать вас в наши рапорты! Один-два дня отлежаться вам придется в нашем медпункте, небольшое дело. Затем подкину...
— Вполне достаточно, капитан, один-два дня, и отправите меня в штаб фронта.
— Есть. Хайль Гитлер!
— Хайль!..
А уже на следующий день к коменданту городка Фрицу Дейку прибыл посыльный с пакетом от штаба армии. Дейк проверял документ посыльного, а думал, очевидно, о чем-то другом, потому что имя посыльного ему уже встречалось в каких-то документах по комендантской службе еще в первые дни перехода немецких войск через границу. Только когда посыльный вышел, Дейк что-то вспомнил. Выглянул в окно, но посыльный уже вскочил в кузов авто и вскоре исчез. Останавливать его не решился, махнул рукой.
И засомневался, разрывать ли пакет. Лучше позвонить коменданту станции, посоветоваться. С этими разведчиками армии лучше не связываться. Вполне достаточно будет поговорить по телефону с комендантом станции.
Тогда и состоялся такой добрососедский разговор по телефону:
— Алло, капитан! Есть пакет из армии, адресован раненому капитану, находящемуся у вас.
— Пакет из армии? Читали?
— Нет. Ну как бы я мог? Точно написано: «Срочно. А. Т.» Совершенно секретно... «Капитану Браге, немедленно!» Случайно узнал от ваших людей, что капитан у вас (о том, что узнал он только от вестового, Дейк умолчал).
— Да, да, у нас. Хайль Гитлер! Капитан немедленно будет у вас, вы — маршрутная комендатура. Вручите пакет ему.
— Есть. Хайль Гитлер!
— ... Вам пакет из штаба армии, — просто с дверей сообщил комендант.
— Мне? Вы сообщали в штаб о моем ранении?
— Нет, конечно. Просто, вас, очевидно, разыскивают уже через коменданта города. Вы же, наверное...
— Ах, да: моя зона деятельности. Могли бы вы, капитан, узнать по телефону о содержании пакета? Был бы очень признателен.
— О нет, пожалуйста. Оперативный документ штаба действующей армии! Что вы, что вы... Можно послать вестового, но такой пакет ему не дадут.
Капитан Браге серьезно задумался. Затем поднялся и сел на топчане. Тяжеловато ему, это видит и понимает комендант станции, который был бы счастлив как-то избавиться этого оперативника из армейской разведки. Он напряженно ждал, что же решит сам капитан.
— Да, только так. Если бы у капитана была какая-то возможность подбросить меня в комендатуру города. Другого решения не нахожу, да его и быть не может. Армия... перед серьезными событиями. Гудериан...
— Абсолютно точно, — спохватился комендант, искренне веря в реальность капитана Браге. С трудом скрываемая ирония Лужинского только подчеркивала усилия болеющего от ранений. — Действительно, готовится второй, еще более мощный удар танковых соединений. Наши коммуникации... Да, собственно, капитану разведки это совершенно понятно: железная дорога, два таких моста... Хайль Гитлер! Авто ждет у комендатуры. Если потребуется моя помощь, прошу позвонить от коменданта Дейка.
Фриц Дейк ждал капитана армейской разведки, играя пакетом. Даже на порог здания вышел, ожидая. Впервые ему пришлось иметь дело с теми пронырливыми офицерами оперативной службы действующей армии и хотелось как можно больше сократить эту случайную встречу. Тыловая служба — тоже не сахар, но в ней заложена полная гарантия уцелеть еще на земле. А этот капитан Браге, — комендант мельком посмотрел на конверт, чтобы только прочитать первую часть фамилии — этот капитан Браге появился здесь как упрек тыловикам. Скорее бы от него избавиться.
В голове словно колом кто-то забил еще и ту украинскую фамилию — Шестопалько... Какой-то Шестопалько, где он встречался уже с этой фамилией? Лес, путевой отряд, водитель авто...
Что-то подсказало ему снова, что с тем посыльным следовало бы подробнее поговорить. Но... Вот и капитан разведки! Рука рванулась под козырек, губы в улыбке.
Взяв пакет, капитан лишь слегка отвернулся от Фрица Дейка, разорвал недавно еще раз закрытый пакет капитану Браге и, скомкав его, положил в карман нового кителя, полученного у вокзального коменданта. На ту же срочную бумагу капитану Браге, которую уже читали с Шестопалько в лесу, когда договаривались об этой операции, посмотрел с такой серьезностью, что Фриц Дейк невольно вытянулся. Лужинский, как следовало разведчику, достаточно подозрительно посмотрел на коменданта. Затем еще раз сосредоточено перечитал знакомый документ, в душе проникнувшись восхищением такой «чистой» работой Шестопалько, и сначала сунул его в карман, но тут же вытащил и вместе с конвертом разорвал на мелкие клочки. Только на мгновение остановил взгляд на застывшей фигуре коменданта, козырнул ему забинтованной рукой и пошел к авто.
Только когда авто резко двинулось в направлении моста, Фриц Дейк глубоко и облегченно вздохнул. С этими оперативниками лучше не встречаться так близко — насквозь видят, проклятые.
Комендантское авто вернулось на вокзал только через час. Водитель доложил коменданту вокзала, что отвез капитана к разрушенному селу за лесом, где он вышел из машины и велел ему возвращаться. Все это показалось настолько обычным в такой бешеной войне, что оба коменданта стратегического городка даже на миг не задумались над поведением раненого оперативника. У каждого свои заботы перед этим мощным наступлением.
Капитан только провел глазами авто, из которого только что вышел, и сразу же нырнул в лес, вернулся назад вдоль дороги и встретил Виктора, а потом и Шестопалько.
— Фу-у, матка боска... Ну, все в порядке, спасибо, господин Вадим! Мы должны если не этой же, то следующей ночью пустить на воздух оба моста — гитлеровскому командованию известно, что они заминированы. Пакгауз станционный стоило бы только поджечь, брызнув в нескольких местах бензином. Оперативные склады!..
— Задача серьезная. Сможем ли выполнить ее с такой малочисленной группой людей? А суметь должны! — задумался Виктор.
— Должны! Речь идет о нашем характере. Слишком легко им удалось захватить всю Польшу, почти всю Западную Европу. Комендантские медики успели все разболтать за эти несколько часов моего пребывания у них. Надо только найти верного местного человека.
— Есть такой человек, товарищ!.. — спохватился Виктор. — На вокзале работала, сейчас у нас.
— Прекрасно! А зовут меня Стась. Я беглец из гестаповской тюрьмы, Станислав Лужинский, пожалуйста. Господин Вадим нарядил меня в капитана Браге из оперативной разведки гитлеровской армии, теперь покойника... Полностью согласен, что мы должны тотчас же идти к командиру партизанского отряда и действовать.
Следующей ночью наши саперы выполняли приказ генерала Дорошенко. Зловещей и напряженной выпала та ночь!
Кристина целый день была в селе, наведывалась на станцию, мудровала со станционной администрацией, привлекла к этому и свекровь. Комендантская охрана станции и моста дважды прогоняла женщину с территории станции. О своей «службе» в багажной конторе все пыталась узнать настырная молодица. Едва на ногах держалась, возвратившись в отряд под вечер, невозможно пахла керосином…
Маруся держала связь со всеми, детей отвела дальше в лесные заросли. Виктора послала в какой-то хутор за продуктами и людей в отряд завербовать. Изрядно их осталось в селах, мобилизация опоздала, а самим выехать в глубокий тыл не удалось, война внезапно захватила всех.
В укромном месте окружили командира, лихорадочно советовались, мудрствовали, ждали ночи. Она и настала, облачная, мокрая. Быстрые облака время от времени плотно закрывали неполную луну и звезды. Тогда под быками моста становилось темно как в погребе. Где-то наверху, на мосту, навстречу друг другу проходили вооруженные автоматами дежурные. Изредка скрипели настланные на шпалах доски от ритмичных шагов дежурных.
Оба сапера еще днем незаметно проползли между кустами, рискованно подбираясь к береговой опоре на противолежащей от станции стороне моста. За ними следом с гранатами и автоматом продирался «отряд прикрытия» — Вадим Шестопалько и Стас Лужинский.
В густых зарослях боярышника, специально высаженных над заложенными минами с обеих сторон опоры, Старовойтенко искал свои концы.
Старательно снял с них изоляцию, зачистил и прикрепил сначала к одному заряду, потом, лучив удобный момент, прополз и к другому. Работая, саперы как будто слышали дыхание своих прикрывающих, что шло от ближайших лесных чащоб на обрывистом берегу. Детонаторы, принесенные с собой, Старовойтенко присоединял с такой хозяйской любовью, что Телегин даже начал нервничать.
— Лизни вдобавок! Словно теще угождаешь… — шептал самому себе, все время прислушиваясь, чтобы не пропустить какого-нибудь сигнала от своих прикрывающих.
Где-то забрехал пес на комендантском дворе. В овраге ответило эхо, словно этот пес откликнулся вот здесь, почти над обрывом за спинами саперов. Слышно было, что на станцию прибыл поезд с двумя паровозами. Лучше всего было бы саперам отходить из-под моста под шум поездов.
Снова загремел поезд на станции раз, второй раз и двинулся.
Прыгнув с обрыва на скалу, заросшую колючим боярышником, саперы полезли наискосок от реки. На последнем выступе береговых камней услышали:
— Дай руку, сапер! — Шестопалько поддержал Старовойтенко за руку и помог выбраться на скалу. Телегина уже подсаживал Стас, схватив его просто за шинель.
Черным провалом маячила под ними река, позади чернело кружево моста. Где-то через два километра река поворачивает налево, в райцентр. Там возвышается и второй объект саперов — шоссейный мост. Но это уже на другой раз. Телегин уверяет, что под тем мостом достаточно будет подвязать на пролете пару «сережек», и мост окажется на дне реки.
— Да черт с ними, с твоими «сережками», давай скорее.
Телегин включил ток от батареи. Зрение резанула светящаяся молния над глубоким руслом реки. Как на ладони осветила брюхо реки, острые, нависшие камни, кустарники боярышника.
— Господи благослови!.. — во весь голос произнес Старовойтенко свою саперную шутку. Ужасный двойной взрыв, потрясший воздух и землю, положил всех в кусты. А в следующее мгновение вся группа была уже на ногах и изо всех сил неслась прочь в дебри лесные, подальше от места взрыва. Позади уже щелкали ветки, падали камни, комья земли.
Первая операция партизанского отряда «Кленовый лист» закончилась успешно.
9
Прошли первые полтора месяца пребывания четырех пионеров и раненого фашистского летчика на необитаемом острове Юных ленинцев. За это время пленный немного поправился, он уже поднимался и мог часами высиживать в ожидании своих спасителей, которые упорно работали на строительстве дома. Олег смастерил из дерева «вечный календарь» и пристально следил за днями, переставляя цифры. По тому же календарю отметил Горн время своего пребывания в этом не лучшем из существующих в мире «госпитале».
Летчик прекрасно изучил за это время каждого из своих четырех спасителей и не мог отдать кому-то предпочтение в части бдительности и ухода. Разве что Ваня Туляков, будучи постарше, строже других обращался с пленным. Но Горн и сам ни на минуту не забывал о своем положении пленного, которого выхаживают враги, следуя международным правилам обращения с ранеными. Он помнил твердое обещание спасателей, что после возвращения на родную землю они сдадут его органам, которым предоставлено в стране право разбираться с пленными. О том, как ребята смогут сделать это, находясь на острове и не имея какой-либо перспективы спастись с него, пленный не думал. Обходил в мыслях и то обстоятельство, что эти четверо — только мальчишки. Он, взрослый человек, опытный военный летчик, легко мог выйти из их подчинения. При других обстоятельствах, наверное, так и поступил бы Горн, но по отношению к своим спасителям летчик не хотел этого делать. Голодные, заброшенные несчастной судьбой и злой волей его же соотечественников, советские дети не оставили его умирать. От своего рта отрывали ту рыбу или орех, возились с перевязками, переносили раненого с места на место, спасая ему жизнь. Зачем? За что? Спасти назло себе убийцу?
Он закрыл глаза от таких пронзительных мыслей. Не-ет! Законы жизни на том сумасшедшем континенте, животные законы он должен забыть здесь. Забыть и не вспоминать.
Он хорошо помнит их обещание перевоспитать его, «человеком сделать». А это звучало уже какой-то перспективой! На этих острых мыслях и застали его мальчишки. Прибежали веселые, запыхавшиеся после напряженной работы на строительстве дома.
— О! Болящий наш кацо уже и без врачебного разрешения встает, — сказал Юра, первый подбежавший к шалашу.
— Пусть прощайт мине товарищ дежурный. Я уже сибе могу ходил, — вполне серьезно сказал раненый.
— Прекрасно! Это облегчит и наши заботы, герр Горн, — сказал Ваня.
— Не нада герр! Хочу... имя! Товарищ.
— Нет, это надо заслужить! Как, ребята, позволим пленному называть нас по имени? — Спросил Ваня.
— А по-моему... Как ответственный за пленного, — размышляя, начал Олег, — я бы позволил… Конечно, в том случае, если он искренне...
— Я сын шахтен работник есть, отец пролетариат. Моя служба — военски дисциплин... Но я шахтен работник сын. Рур...
— Так что же, друзья, позволим? Даже покраснел человек...
— Может, от неискренности?
— Да позволим, один черт. Ты разве знаешь, когда ему можно верить, а когда нет? — первым согласился Роман.
— Все равно позволять придется. А может, и действительно он... искренне! Я — за! — Поддержал Олег.
— И я!
— Это не означает полной амнистии, — обратился Ваня к пленному.
— Я вооль, генозе, товарищ! Амнистия биль уже. Ви жизен мне дали, ето есть колоссальни амнистия! А суд... суд я сам сибе уже виносил. Я не фашист. Я немецких летчик. А русски польшефик... сам приди ему на суд. Прошу верите мине... За Гитлер воевать уже нет, никагда! Умирайт готов, но не за Гитлер, — и сам испугался таких горячих своих заверений.
— Даже слезой проняло. Если врет, то... он артист! — шепнул Юра Туляков.
Пленный разволновался, упал на свою постель, вымощенную сухим сеном.
— Давайте говорить серьезно, — снова начал Ваня по паузе. — Жизнь сложна, непрерывная борьба за ту жизнь! Поддерживать раненого — наша обязанность, потому что мы советские люди. Но содержать врага, согласитесь, не стоит. Итак, договор: работаем все на условиях островной коммуны. Согласны, будете искренне придерживаться той сделки и никогда не хвататься за оружие, никогда — значит, полное перемирие между нами. А по возвращении в Советский Союз сдадим вас как пленного... Да, ребята?
— Да, Ваня. Там разберутся.
— А оружие мы все же спрячем, — добавил Юра.
— Да есть, товарищ Юра. Автомат етой рука не коснуться в мой жизен на остров, клянусь! Хочу работаю цузамен, вместе.
В тот день, когда прошло два месяца их пребывания на острове, ребята перебирали в памяти всю свою жизнь за это время. Они не жаловались на трудности островной жизни. Робинзоны... Ваня отдал должное отваге товарищей, хотя, говоря о ней, ни словом не намекнул о том, как он сам отважно спасал Романа в океане.
Потом уже спасением становилась вся их жизни. Это была борьба за жизнь: сгнила рыболовная сеть, разлезлась при первом же использовании, едва удержав запутавшуюся в бахроме одну рыбину. Пришлось самим, не умея вязать какое-то подобие рыболовной снасти, распускать стропы немецкого парашюта, учиться несложному искусству плетения сети...
Теперь, кроме вареной рыбы, они уже имели ежевику, дикую вишню и даже недозрелые орехи. Юра уверял, что через месяц дальнейшей упорной борьбы и труда у них будет настоящее ореховое масло! Большой дуб-пресс накатили, приспособили клинья, жаровню склепали из кусков жести...
Ежедневно все усердно работали на строительстве дома. Осталось только наложить потолок, укрыть, сделать какие-то двери. Соорудили даже нары и печку с замысловатым выводом дыма, чтобы маскировать костры.
Каждый из них познал все ежедневные заботы со строительством, рыбной ловлей, раненым. А получение соли из рапы, найденной в горах! А обучение Романа плаванию! Этим они заботятся каждое утро. На волны океанские вытаскивают длинное тяжелое сухое дерево, которое бросают Роману далеко от берега. Сначала было трудно ученику. Высокие волны иногда захлебывали Романа, едва успевающего схватиться за спасительное дерево. Но настойчиво, ежедневно по несколько раз болтался в неугомонных волнах океана.
А вчера впервые Роман сам сделал достаточно смелый заплыв без бревна. Итак, победа!
На острове, по всей видимости, в мирное время бывают только рыбаки с континента. Несколько видов мелких птиц, наверное, случайно забрались сюда и акклиматизировались в условиях строгой островной природы. Никакого зверя в лесу, кроме ящериц и мышей.
Правда, ребята единодушно сошлись во мнении, что на острове таки есть полоз. Он живет с той стороны острова, видимо, ловит рыбу в заливе и далеко не уползает. Никто его не видел. Но, увидев над заливом дерево с на удивление вытертые стволом, друзья пришли к выводу, что это и есть следы полоза, который охотится с дерева за рыбой.
Там же рядом нашли и вторую стоянку рыбаков. Весло, топор, мотки проволоки, котелок. Но эта находка не изменила мнения ребят. Они были убеждены, что у залива таки есть логово полоза, пытались пока что обходить это место.
Наступила осень. Горн уже ходил, без устали работал на стройке вместе с мальчишками, зарабатывал их доверие. Вечером был в том же независимом, в некоторой степени побратимском настроении и долго развлекал Олега на дежурстве. Ведь парень — тоже авиатор, вел самолет, когда Горн пытался его расстрелять. В том смертельном состязании не было победителя, они сравнялись...
Опыт взрослого ребятам очень пригодился. Теперь они спали в собственном доме. Для ночного сторожа снаружи сделали удобную скамейку, на которой так приятно, по-домашнему сиделось в минуты отдыха. Дверей еще не было, для них только приготовили камыш и разложили его сохнуть на сучковатых подставках. Это тоже деловой совет пленного немца.
Этой ночью дежурил Олег. Он не сидел на скамейке. Как только в доме затих шум, Олег встал и, исполненный мыслей, начал ходить вокруг. В руке наготове держал пистолет, на ремне — финка. Ничего не боялся. Да и привыкли уже к тому, что на острове сейчас их должны бояться, кто из робких. Даже мысль о полозе медленно отходила прочь, совершенно ничем не волнуя часового.
И вдруг услышал глухой отзвук грома. Неужели же пойдет дождь на не покрытый крышей дом? За все время их пребывания на острове здесь выпало лишь несколько небольших дождей. Собственно, в горах они, видимо, были более обильные, если судить по ручью. Он набухал, превращался в полную горную реку, даже выкатывал из их плотины камни, унося в своем бурном потоке. Но это было летом. Наверное, в этих широтах именно осенние и зимние месяцы должны быть богаты дождями.
За время пребывания на этом островке два или три раза слышали ребята грозу. В этих внезапных громах почувствовалась неизбежная смена времени года. Но странно — на небе ни облачка! Сквозь чащу деревьев мерцали звезды. Часовой пошел на край пруда, где ветки деревьев расходились и можно было увидеть широкий горизонт неба.
Гром то затихал, то снова отзывался откуда-то издалека. Когда Олег дошел до берега океана, страшная догадка мелькнула у него: бой... Большой океанский бой продолжается где-то в бескрайних водах!
Парень оглянулся в сторону своего жилища. Там спят товарищи и не слышат этого сражения... И немец, видимо, также спит. Поговорить бы, поинтересоваться, как он относится к тем вздохам заряженной войной родной земли.
Немец, может, только и ждет, что вот-вот выбросится на остров какой-нибудь десант с фашистского корабля. Мстительные гитлеровцы могут не поверить Горну о мирном характере пионерской стоянки на острове, даже если он попытается их уговаривать.
Фашисты захотят узнать, как эти советские ребята оказались на острове. Да и будет ли Горн защищать их, хоть они и спасли ему жизнь? Возможно, и сам поспешит рассказать о чехе, о гибели своего лучшего партнера, ночного аса.
Возбужденный Олег быстро пошел к стоянке. И снова послышались словно залпы орудий, тяжелые минные взрывы, которые катились вместе с океанскими волнами. В воображении рисовалось, что и твердь островка уже шевелится под ногами.
Разбудить товарищей? Зачем? Чтобы посмеялись над его трусостью? Покажет и Горну, как далеко ему, юноше, до той черты взрослости, которой он достиг случайно во время воздушного боя. А за той чертой отдаленные громы уже кажутся ему фантастическими пушечными залпами...
Нет, не будет он тревожить сон товарищей. Пусть спят.
Вскоре все стихло. Как ни прислушивался мальчишка, к земле ухом ни припадал — даже отдаленного грома уже не услышал. Только шумел океан.
«Вполне возможно, — рассуждал Олег, мобилизуя все свои знания о морских боях, — что в океане был-таки тот далекий бой. Может, и сейчас он продолжается, только уже рукопашный. Сошлись корабли, матросы баграми уцепились за борта».
И засмеялся. Это все видел в кино. Какой-то пиратский корабль напал на торговый. Берданки, багры, безоружные пассажиры... А в океане теперь сходятся бронированные крейсеры. Какие там багры, рукопашный бой? Огромные снаряды, убийственные торпеды, тонные авиабомбы. Тут тебе близкий и дальний бой.
В этих мыслях проходили минуты, часы, короткая летняя ночь. От мыслей о фугасах, о торпедах Олег незаметно перекинулся на село Новоселки за Днепром. Береза во дворе за домом. Березу видно издалека. Ее сажал Олегов отец. С соседом Андреем Дорошенко они посадили в тот день, когда шли в восьмой класс школы, два деревца. Отец — березу, а Дорошенко — дубка. Береза отца большой уже выросла, а дуб Дорошенко в корень ушел и до сих пор никак не укроет дом раскидистыми ветвями...
И в том мать видит символическую связь с судьбой обоих садовников. Андрей Дорошенко по военной линии пошел, корнем окреп, генералом стал. А отец... Отец — инженер-механизатор, до директора МТС дорос, а потом тяжело заболел воспалением легких. Теперь постоянно с врачами имеет дело, на курорты ездит. Как эта береза вспыхнул: высокий, стройный мужчина, с умными глазами. Когда болел, всегда говорил: «Олег, сынок, мы с тобой разве такие дела будем творить...»
Если бы он теперь знал, что его Олег стоит вот на необитаемом острове, в грозе ночной ощущает океанские бои. Если бы знал это его хороший отец.
Но отец теперь тоже воюет... Что с ним? Если бы его сын... взрослее был. Олег даже не заметил, что те мысли высказывает уже вслух.
Вспомнил и генерала Дорошенко. Еще прошлой зимой заезжал он в Новоселок, гостил у отца. Боевой генерал. Олегу посоветовал хорошо учиться в школе, «как отец твой учился».
Все мысли почему-то были сосредоточены вокруг личности отца. Но мать! Она, видимо, плачет, не зная судьбы сына.
Тут, на островке, дни и ночи менялись почти внезапно. Не было долгого замечтавшегося вечера с дымком из дымохода или с очага, который едва-едва терялся в вечерней темноте. Не было здесь и росистой зари, когда прозрачные туманы поднимаются над гладью Днепра перед восходом солнца. Здесь, как только солнце пряталось где-то в волнах океана, бросив последний луч на прощание, темнота неумолимо спешила воцариться, и свежесть ночи заставляла искать тепла. А чуть загорится утро в затухании звезд, лесом потянет ветерок, упадет роса, — стремительными прядями лучей пропишется небосвод и, словно выхваченное за те пряди, выскочит ополосканное океаном, багровое солнце.
В такое время сладкие сны убаюкивают наших робинзонов. В такое время засыпает иногда даже часовой.
Но в это утро Олег не сел напротив солнышка, пробивающегося между стволами деревьев.
Через час оно уже должно было спрятаться в густых шапках деревьев. Чтобы отогреться на утреннем солнышке, мальчишки всегда выходят из леса на то место, где Ваня предлагал строить хижину. Взглянув на стремительные пряди по небосводу, Олег пошел на берег и направился к пляжу, чтобы раньше всех принять утреннюю освежающую океанскую ванну. Это стало у них привычкой, которой все придерживались, несмотря на погоду. Прошел до бревна, с помощью которого Роман учился когда-то плавать, и, раздевшись, положил на него китель. Снял часы с руки, оглянулся налево, потом перевел глаза направо, далеко туда, где за поворотом стлалась коса. Та самая коса, на которую они выбрались после ночного боя в воздухе. Оглянулся и замер. Интуитивно схватил с дерева только что положенный китель, едва часы не выронил из рук. Дух ему захватило. Так и замер, как парализованный.
У косы, чуть покачиваясь, — видно, застрял на мели, — стоял корабль. До него, по-видимому, было с километр, но волны сокращали это расстояние. Утреннее солнце ярко осветило какие-то общие контуры. Но какие это были контуры!..
Олег в этот момент понимал, что его острые от неожиданности ощущения фиксируют слишком подчеркнуто каждую деталь. Может, никакого корабля и нет на волнах, а только мираж — следствие ночных фантазий и грез. Не было на океане никакого боя, только громы, обычные атмосферные явления! Ведь корабль должен был бы стоять себе ровно на якорях или на мели. А этот стоит как-то почти торчком, погрузившись носом. Да корабль ли это? Наверное, просто большая лодка, баржа или катер. Пожалуй, катер.
Стоит, погрузившись носом в воду, высоко подняв вторую свою половину крутым наклоном, что даже винты торчат сверху. Как будто посудина летела из небесных пространств да так и замерла, воткнувшись в океан.
И ни одного живого существа на нем не видно. Олег оглянулся. Может, люди высадились на берег.
Невольно закрыл пряжку часов на руке, положил китель и, крепко зажав пистолет в руке, украдкой пошел ближе к косе. Ведь он теперь хозяин на острове, кто знает, что это за люди. Тоже, видимо, войной заброшенные сюда, на необитаемый остров. А может, враги?
— Надо бы побежать и разбудить ребят, — рассуждал вслух. — А этот океанский прилив? Поднимет воду, сорвет с мели, понесет! И скажут ребята — хвастаешь, выдумываешь... — с какой-то молниеносной решительностью и отвагой оглянулся на остров, на широкую песчаную косу.
Коса оставалась пустой. Ни одного следа на песке. Людей на этом корабле, наверное, уже не было, когда его волнами вынесло на мель. Значит, все-таки не гром, а пушки гремели ночью. Там, в океанских просторах был бой, погибли люди, оставив после себя только этот жалкий обломок.
«Обломок» покачивался на волнах, стоя почти торчком, погрузившись в волны океана, которые заливали даже рулевую будку. Два винта еще четче выделялись, освещенные солнцем. Пребывали в мертвом покое, словно на посмешище прицепленные под охвостьем лодки. От ударов волн катер покачивался, словно завинчивался в мель. Ежеутренний океанский прилив должен был вот-вот начаться. Раненый катер снимется с мели и исчезнет в океане. И не поверят мальчишки, что их часовой видел катер…
Надо плыть к катеру, все осмотреть, тогда к мальчишкам. А что если не доплыву? Не доплыву?.. Он, Олег, не доплывет?! Еще раз оглянулся, не подслушал ли кто его хвастовство. Но… вздор! Вот и Роман уже как плавает. А ведь Олег его учил.
Так, отбросив все сомнения и колебания, подталкиваемый юношеским любопытством, Олег отважно отправился в волны океана. Одежду, оружие и часы отнес подальше, куда не достают ежедневные приливы.
Не оглядываясь на берег, Олег энергично добирался до катера. Иногда высокая волна закрывала от него этот трофей. Зато, когда мальчишка взбирался на нее, катер вставал перед глазами как на ладони. Да ведь это не катер, а целый… дредноут! Волны, омывая берег острова, резали наискось, как птица крылом. Надо думать, что разбитый в ночном бою катер где-то всю ночь гнало этими волнами, пока не посадило на мель. Могло бы пронести мимо, если бы шел на какую-то сотню метров дальше от острова.
Олег успел пронаблюдать за эти минуты за всем ночным сражением. Проспал его, проклятье! Но все равно будет о чем рассказать друзьям, будет! В ночном бою где-то далеко в океане — он теперь представлял это полностью — катер не выдержал. Команда оставила его. Может, какое-то другое судно подобрало ее. Конечно, были и убитые, им волны стали последним пристанищем… А катер подхватила волна и погнала его, перекошенного, от места сражения.
«А может, там кто-то есть? — мелькнула пугающая мысль. — Может, катер будут искать днем?» Но поворачивать на берег от этой мысли означало бы упасть в глазах друзей, и Олег еще с большим воодушевлением поплыл к катеру.
Теперь перед ним совсем близко качался действительно целый корабль. Черные круги иллюминаторов по бортам сверкали, отражая яркое солнце, ослепляли парня.
Начинался прилив. Олег заметил, что раненый катер качается свободнее. Вода поднимется на добрых полтора метра. В такое время ребята старались не оказываться в волнах океана.
Подплыв сбоку к погруженному в воду кораблю, Олег едва ухватился за капитанскую будку. Волны в этом месте каким-то удивительным сосанием угрожающе засасывали мальчишку, не позволяя ему выбраться на будку.
Но забрался! Только теперь почувствовал, что теряет сознание от перенапряжения.
Очнулся от слишком сильных толчков и качания катера. Казалось, корабль сорвался с какой-то привязи, держащей его на мели. Олег впервые оглянулся на остров. Холодный страх сжал его сердце. Отсюда до острова было дальше, чем казалось, когда смотрел с берега.
Вода уже понемногу заливала нижнюю полосу длинной косы острова. Олег почувствовал, что катер не опирается на твердую подошву океана, бессильно качается на волнах, задрав корму.
Волны подталкивали его наискось к берегу. Однако Олег понимал, что этого мало, на таком курсе катер к островку не попадет. Надо, чтобы его подвигало волной прямо на остров. Иначе прилив только поможет ему перекинуться через мель косы, и тогда волны понесут мимо острова на расстоянии трех-четырех сотен метров и унесут на океанские просторы.
В ближайшем к острову месте Олег сможет соскочить и выплыть, но этого мало. Надо удержать эту посудину! Но как?
В этот хлопотный момент и услышал, а может, опять показалось, как и все утро: где-то как будто над головой то ли заскрипела обшивка, то ли действительно застонал, надрывая силы, раненый человек. Волны так свободно играют немощным катером — наверное, скрипит посудина. Олег встал на наклонную палубу. Подтянувшись на руках, выбрался аж на будку. Стон или скрип то затихал, то снова будто бы повторялся. Так стонет человек только из последних сил, умирая. А катер бросало волной, подталкивало то в направлении острова, то совсем в противоположную сторону...
«Зацепиться бы за что-то, хотя бы за скалистое дно... Кинуть якорь и закрепить катер на мели, пока кончится отлив, пока прибегут ребята, придет Горн!..».
Но, на свою беду, Олег констатировал, что катер так и не попадет на косу. Прилив только поможет ему перекатится через песчаный перекат, и тогда волны быстро пронесут катер мимо острова.
Оглянулся вокруг. Низкие перила из толстых прутьев были погнуты. Зенитный пулемет, как клещ, впился в палубу, направил изуродованное смертоносное дуло не вверх, а в сторону. А якоря, кажется, всегда должны были бы быть прилажены на корме. Или у катеров они на носу?
О, опять стон! Теперь Олег ясно услышал не скрипит, а как бы человеческие обессиленные вздохи... В этот момент катер бросило волной, и мальчишка увидел впереди пушку, а за ней — трос, намотанный на вал. Трос, а не цепь! Якоря же цепляют на цепях...
Чуть дальше заметил на палубе плотно закрытый круглый люк.
«Люки задраены» — вспомнил целую «морскую» фразу из кино. Но вентили люка были сверху.
Брызги волн не доставали до люка. Попробовать открыть? Возможно, там умирают люди.
И теперь уже отчетливо услышал стон, как писк отчаяния...
Но надо что-то сделать с катером. Еще десять-пятнадцать минут его будет нести к берегу, а дальше силой начнет относить дальше от острова. Наскочит ли катер еще раз на мель, или вынесет его мимо косы на глубинные пространства? Хотя бы скорей просыпались уже мальчишки! Наверное, пойдут его искать. Тогда заметили бы катер и своего часового на нем...
Но берег оставался пустым. Подростки спокойно спали.
«А что если бы дойти по воде до носовой части?.. Может, у таких кораблей якорей и вовсе нет?»
Рассуждать было некогда. Держась за пушку, потом за лебедку с тросом, Олег спускался в носовую часть корабля. Глубоко вдохнув воздух, как можно быстрее погрузился в воду, перебирал руками, хватаясь за погнутые прутья перил. Неожиданно наткнулся ногой внизу у борта на какую-то растопыренную вещь. Больно поранил ногу... И уже захлебывался без воздуха. От сознания, что вернуться назад тем же путем у него не хватит времени, стало страшно. Тогда изо всех сил оттолкнулся ногами, ушел вверх, чтобы быстрее выскочить на воздух. Волна еще раз бросила его, чуть не захлебнулся водой. Но успел уже глотнуть воздуха.
И снова выплыл к борту, пополз к капитанской будке. Надо бы отдохнуть, но отчаяние охватывало парня. Катер вот-вот проплывет мимо косы, вырвется на глубину и помчится в океан.
Через разбитое окно заглянул в капитанскую будку, потом залез внутрь. Приборы, манометры, блестящий никель, рычаги. Олег, как автомат, бессознательно хватался за всяческие рычаги, дергал ручки. Даже большие часы дернул, словно хотел отцепить. Часы показывали девять минут четвертого утра.
«Стоят, или еще настолько рано?» — и оглянулся налево на солнце над самим островом. Стоят часы...
В этот момент большая волна качнула катер с такой силой, что Олег оторвался от будки и почти булькнул спиной в океан. Падая, инстинктивно ухватился рукой за какой-то рычаг с бронзовой ручкой и так дернул, что он сдвинулся с места и двинулся в щели с одной стороны щитка к другому.
Мертвый катер будто шевельнулся, что-то глухо загромыхало под ногами. Парень испугано оглянулся. Но все было на своем месте. Только палуба дрожала мелкой грохочущей дрожью. Найдя равновесие, Олег потянул рычаг назад. Дрожание исчезло. Вновь дернул на себя — зарычало. Значит, действует какая-то деталь корабля. Может, запасной мотор на аккумуляторном электричестве?
Немедленно прекратить! Аккумулятор, электричество... Где же ребята, сони несчастные?
Но когда снова поставил рычаг на место, весь катер так дернуло, что парень чуть не упал. Какая-то догадка о том, что этот рычаг может дать большой желаемый эффект, мелькнула у парня.
На щитке, в обоих конечных точках щели, по которой двигался рычаг, большими буквами были выгравированы слова: «Анкер +! Анкер —».
— Анкер — якорь! — радостно воскликнул Олег, для верности еще раз подвинул рычаг до точки с плюсом. Катер, покачиваясь, едва выбирался из волн, но не отходил дальше. Олег даже констатировал, что катер в этот момент находится на добрую сотню метров ближе к острову, чем раньше, когда он стоял на мели.
Океанские волны штурмовали его, перекатылись с носа вдоль корпуса корабля. И слышно было, как катер то срывался вместе с якорем, то снова останавливался, будто зацепившись за мель. Казалось, что под напором волн он даже выпрямился. Еще бы выровнять его немного, на какие-то считанные градусы, и тогда можно смело карабкаться по палубе до задраенного люка, откуда Олегу еще в первые минуты его появления на борту послышался человеческий стон.
Но стоило упомянуть о том стоне, как парень, не раздумывая дальше, полез-таки к люку. Теперь Олегом руководило двойственное чувство — любопытство и страх. Грудь распирало от неописуемой радости, что он все-таки застопорил якорем этот корабль. Хотя утренний холод в океане немного донимал парня, но руки дрожали от волнения, когда ухватился ими за один из вентилей задраенного люка.
Пришлось лечь на холодный металл палубы, плечом помогать, чтобы вентиль послушался его слабоватых детских рук. Со скрипом таки сдвинулся первый вентиль. Дальше он пошел крутиться значительно свободнее, даже сам с разгона прокручивался на целый полукруг.
А катер еще выше поднимало на волнах, начало чаще срывать с якоря. Теперь Олегу уже нетрудно было догадаться, что надо удлинить цепь якоря. Парень вернулся к будке, просто подвинувшись по палубе вниз. Только мгновение нужно было, чтобы отвести рычаг к себе на «плюс». Опять загрохотало, задрожала палуба: где-то разматывалась цепь. Катер медленно двинулся за волной, почувствовав свободу. Олег еще раз повернул рычаг, грохот цепи стих, катер ощутимо дернулся, как сом на удочке, и остановился теперь уже намертво привязанный на удлиненной цепи якоря.
Наконец снова добрался до люка. Открутил все вентили. О холоде забыл, душно ему становилось. К тому же и солнце пригревало сверху. Легкий ветерок наносил брызги из волн воздушной росой.
Олег слегка дернул люк на себя. Он шевельнулся, но опять лег на свое укатанное место.
— Тяжеловато, вижу, и матросам возиться возле этого хозяйства, — произнес и чуть не упал, рванув его со всей силы. Люк был на петлях.
Только теперь по-настоящему услышал безнадежно горький плач или стон. Не рассуждая дальше, опустил люк, хлопнув им о палубу, и опрометью бросился по трапу, едва осознавая, что это он спускается в трюм корабля.
Мамочка моя! Какие тут хоромы, по сравнению с их каменным строением имени Романа Гордейчука. Повсюду, в основном по углам, валялась матросская одежда, сбитая непрерывной болтанкой корабля. Между нею — расстрелянные гильзы, консервные банки, оружие.
А стон умолк. Олег оглянулся вокруг, чуть ориентируясь в этом наклонном помещении. За трапом качалась на петлях открытая дверь то и дело, покачиваясь, жалобно скрипя.
Вот кто «плакал», — сделалось даже стыдно, что обычный скрип обвисших дверей он принял за жалостный плач.
Осторожно, замирая от волнения, заглянул в эту дверь. Там была одежда, консервы, книги, посуда, оружие...
И снова тот стон. Не скрип, так как он не прекращался, а человеческий стон. Бросился к другой двери, что приютилась сбоку. Никого. Напротив — еще одна дверь.
Так где же живет то, что так жалобно подает свой голос о спасении?
Пугающая тишина за ними. Только эхо от ударов волн о железо катера заполняло все вокруг. Лихорадочно, уже со знанием дела, взялся откручивать задраенные двери. Время от времени прикладывал ухо, прислушивался. И, все время дрожа от волнующего нетерпения, бесстрашно открывал дверь...
Чуть не упал, пораженный удивительным зрелищем. Мог предполагать все: матросы задраили здесь африканского тигра, выводок орангутангов, гремучую змею, заряженную мину-автомат, что взрывается при внезапном раскрытии двери. Но того, что увидел, не предполагал.
10
Группа Марии Иосифовны выросла в целый партизанский отряд. Но кроме бойцов в отряде были еще и дети. В том же лесу пришлось обосноваться на дольше. Разыскали удобное, почти неприступное место на стыке двух рек.
Кончались августовские дни, отцветало благодатное лето, прокрадывалось время желтеющих листьев, пора журавлиных ключей.
Крепко встали лагерем. Это связывало боевитость отряда Марии Иосифовны.
— Я согласна, — с трудом отрываясь от собственных мыслей, сказала Мария на предложение Виктора. — Но задерживаться дольше на этом месте не надо. Наступает осень, пойдут дожди. В этих землянках с детьми не усидеть. И фронт отходит все дальше, уже около Днепра. После ликвидации обоих мостов гитлеровцы притихли здесь, куда-то перебазировались. Даже железнодорожная комендатура уехала. Может, поискать их надо, не давать покоя в тылах.
— Справедливая мысль, — соглашался Виктор. — А детей надо поселить у Христининой свекрови, чтобы самим свободно оперировать. Конечно же, вредить им, проклятым немцам, на каждом шагу уничтожать!
Мария Иосифовна словно проснулась от какого-то тревожного сна. Глаза загорелись упорством, тем самым, которое помогло ей еще в первые дни обезвредить часового на железнодорожной станции, поджечь фашистские бензоцистерны.
— Да, да, Виктор. Уничтожать, проклятых... Что слышно об операции «Автобаза»?
— Сегодня получим известия. Да я целиком полагаюсь на Вадима, оперативный парень! Кстати, сейчас должен зайти Станислав, есть серьезный разговор. Он вернулся с глубинной разведки и уже собирается покидать нас.
Упоминание о Лужинском вновь вернуло Марию Иосифовну к ее болезненной мысли о ребенке. Ведь Лужинский так искренне обещал еще серьезно заняться этим вопросом.
Из-за деревьев появился, как всегда, выбритый, аккуратный Станислав Лужинский. Он торопился. Но не забыл, увидев командира отряда, выхватить из губ сигарету, потушить ее и спрятать в карман. В лесу ведь и на территории расположения отряда никто не имел права оставлять какие-то следы пребывания здесь людей.
— Ну, рассказывайте, товарищ Станислав. Мы так беспокоились.
— И напрасно.
— Задача же у вас...
— Как и всякое боевое задание, прошу. Словом, операция Вадима вполне уместна. Я еще не знаю, что именно он там натворил, потому что должен был и сам... Но танковый парк в лесу горит, четыре танка и несколько штурмовых машин подорваны. А главное, предприимчивый гитлеровец, командир отряда, убит!
— Молодец Вадим! — не удержался Виктор.
— Замечательный партизан! Наградить бы... — увлекалась Мария.
Лужинский переждал эти реплики, оглянулся вокруг, как будто боялся, что их разговор подслушивают. Мария уловила эту настороженность партизанского разведчика.
— Что случилось, что-то неприятное? — спросила.
— Да ничего такого... Давайте подождем, пока вернется Вадим с отрядом. Кажется, старший сапер в этой операции подвергся опасности... А тут вот что... Позвольте, мы сейчас только втроем... Побывал я у Христининой свекрови...
— Ну что? Она согласилась принять детей?
— Постойте, Мария Иосифовна. Конечно же, согласилась. Здесь, знаете, совсем другое... — Лужинский покопался в каких-то вещах в кармане и, наконец, достал небольшую скомканную бумажку. Развернул ее и, немного поколебавшись, подал Марии. — На английском читаете? — спросил при этом.
— Что это? — испуганно переспросила. — Увы... только на немецком и то — по слогам, как говорится. Что же здесь, товарищ Станислав? О Ниночке что-то?
И оперлась на ствол сосны. Глазами пробежала с помятой бумажки на Лужинского и Виктора. Мир пошел кругом. Пришлось плотнее прижаться к стволу, чтобы удержаться на ногах, не упасть от этого головокружения.
— Замечательную свекровь имеете, Кристина! Такую бы в разведчики вам взять. Бумажку подобрала и сохранила! Негодяй, бездельник... Переписал с нее на чистовик, а эту беспечно забыл. А старуха, пусть и с женского любопытства: за что же такие деньги охватил мерзавец, — подобрала... Копия телеграммы об одном из гнусных его дел, за которое, наверное, выторговал кучу денег.
— О Ниночке что-то? — снова спросила, сдерживая дрожь губ. Понимала, что Станислав подробно объясняет тот ужасных документ о ее несчастной дочери.
— Да, Мария Иосифовна. Про Ниночку....
— Что же... что там написано?.. — разрыдалась, умоляюще переводя взгляд с одного на другого.
— Спокойствие, товарищ командир! Спокойствие и рассудительность. Ваша дочь жива, а это не мелочь в таком деле. Здесь написано, чтобы девушку бережно присмотрели в нейтральной стране.
— Читайте, прошу вас... Я же мать!
— Написано так. — Поляк взял из рук Марии Иосифовны бумажку и не торопясь прочитал: — «...Дочь советского генерала Андрея Дорошенко немедленно переправить надежным средством...» Слышите? Надежным средством! «Нейтральный порт Сетубал»… Это Португалия, прошу покорно, соседка Испании. Помню его, проклятый порт. Заокеанские миротворцы оружие для генерала Франко привозили в этот «нейтральный» порт. Знам его, бардзо добже знам...
— Значит... — только и произнесла Мария и еще больше залилась неутешительным плачем.
— Спокойствие, говорю, спокойствие, уважаемый командир! Главное известно: девочка жива! А об остальном еще попробуем узнать. Между тем кончится война...
Где-то сбоку в лесу послышался сдержанный гул. В штаб отряда возвращались с операции партизаны. Это была диверсионная группа Вадима Шестопалько.
А когда группа возвращается с боевой операции, жди всего: и счастливой удачи, и тяжелого поражения... И в обоих случаях готовься принять раненых, услышать тяжелую весть об убитых...
Впереди группы с опущенной головой шел Лука Телегин. Двое партизан за ним вели под руки раненого Вадима Шестопалько. Наскоро забинтована голова, один глаз чуть виднелся из-под повязки. Обмотанная левая рука висела на куске сорочки, порванной для перевязки. Засохшие подтеки крови на плечах и груди.
Вадим еле шел, поддерживаемый двумя партизанами. Автомат его висел на плече сапера. Внимательный взгляд Марии Иосифовны успел заметить, что в группе нет двух партизан, в том числе и младшего сержанта Старовойтенко.
— Черт возьми, прибыли! — стараясь не показывать своих переживаний, первым сказал Телегин.
— Правильно, Мария Иосифовна. Тянуть, конечно, тянет... Докладываю, потому что, наверное, усну.
— А может, потом доложишь? — опять предостерегла командир отряда.
— И то правда, простите, товарищ... товарищ...
Шестопалько заснул. Во сне тяжело стонал, скрежетал зубами, его отнесли в землянку Виктора. Мария Иосифовна осторожно взялась менять повязки. Засветили ночник из гильзы фашистского снаряда. В землянку вошла Кристина. Молча, со знанием дела взялась помогать командиру отряда.
— Ага, ага... фашисты проклятые... Мама, не жалей его и не плачь. Мы сами... сами справимся. Ах, ключи от ЗИСа... — Вадим открыл глаза, оглядел присутствующих. — Мария Иосифовна, ключи в машине. Пусть Виктор...
И снова заснул, что-то бормоча, пока не затих совсем.
— Никуда он не поедет, — как бы про себя сказала Мария Иосифовна:
— Да куда ему. Подлечим, тогда уж... — в тон ей полушепотом сказала Кристина.
Мария оглянулась на нее, знаками показала молчать и вышла из землянки. Кристина села у постели раненого.
Опершись плечами на сосны, стояли Виктор и Станислав Лужинский. Молчали, когда из землянки к ним вышла Мария. Где-то в стороне тихо говорили партизаны. Мария услышала те разговоры, постояла, прислушиваясь, и пошла под сосны к Виктору и Лужинскому.
— Грустите? — спросила. — Обещали же рассказать, Станислав, что выведали там у них.
Виктор первым качнулся от сосны, погасил серьезность в глазах, улыбнулся.
— Да тут, Мария Иосифовна, мы вот советуемся со Станиславом.
— О чем? Давайте будем взрослыми, Виктор, давайте ни о чем не советоваться под соснами. Нас так немного здесь. Вадиму плохо, серьезное ранение.
— Рука? — спросил Лужинский, чтобы как-то утаить то, о чем только что так горячо спорил с Виктором. Но Виктор понял, махнул ему рукой. — Тут, Мария Иосифовна, другое… Вадима, наверное, придется положить в селе, уговорить какого-то надежного врача. Это мы так и сделаем. Но… товарищу Лужинскому надо уже уходить с отряда по своему партийному поручению, сорванному арестом. Может, он попутно поинтересуется тем адресом, что… Ниночка…
— В Португалии? Что ты, Витя… Время ли теперь? У матери болит сердце, но… товарищ Лужинский имеет свои дела. Спасибо ему за дружескую помощь. И… пусть уходит на свое задание.
— Он сам себе хозяин в своем партийном обязательстве.
— Не надо его впутывать в мои личные дела… Не время теперь даже говорить об этом… Если уже известно, что жива, то…
— То надо проверить что и как, — встрял Лужинский, отталкиваясь от сосны. — Я в самом деле буду где-то там и, как только будет возможность, наведаюсь.
Он понимал Марию Иосифовну. Есть ли мать, которая не согласилась бы на какие угодно трудности, даже на пытку ради спасения своего ребенка! Когда Мария застала их за разговором, Виктор уже успел рассказать Станиславу о ее сложной судьбе. Лужинский хорошо сознавал, что кроме него в отряде нет никого, кто мог бы помочь командиру в этом болезненном вопросе. И он решил обязательно помочь.
— Завтра отправляюсь! — сказал Станислав. — За сегодня отдохну, план продумаю...
— Конечно. А командир... — добавил Виктор, когда Мария отошла.
— Она мать, Виктор. В этом вопросе Мария нам не командир.
На рассвете третьего дня лесом пробирались несколько вооруженных партизан. Холодная изморозь хрустела под ногами. Высокий, стройный поляк отчетливо выделялся между бойцами, которые его окружали. Лужинский был одет теперь уже в какую-то лихую то ли венгерку, то ли в благородный однобортный пиджак со смушевой оторочкой, который достали в том же селе с помощью Христининой свекрови. На голове была какая-то фуражка — Виктор советовал непременно заменить ее, чтобы не привлекать внимания.
— Я ее просто выброшу в критическую минуту, — буркнул задумчивый Лужинский.
Шли в основном молча, определяя путь по звездам. О фуражке на голове Лужинского вспомнили как-то между прочим. Но чувствовалось, что она беспокоила всю группу с самого начала, как только партизаны решили сопровождать поляка в такой хлопотной, как назвала ее Мария Иосифовна, дороге.
Партизан, шедший впереди группы, немного постоял, копаясь где-то во внутреннем кармане, под шинелью.
— А эта штуковина вам не пригодится? — сказал знакомым голосом... Это был сапер Лука Телегин. Он подал Лужинскому черный берет. Развернул на кулаке, будто и сам залюбовался.
— Берет? Замечательно, товарищ! — обрадованно воскликнул Лужинский, принимая берет с руки сапера.
Поляка обступили, примеряли берет, отбросив фуражку.
— Ну что же, товарищи... Слышите шум авто? Возвращайтесь, а мы с Лукой пойдем дальше. Если надо будет — инсценируем мое бегство. Капитана упустили, и он убежал! Итак... Дальше мы идем только с Лукой. Вы возвращайтесь.
В франтоватом черном берете Лужинский теперь походил на типичного интеллигента средней Европы.
Прощался, как с родными. Виктору дольше жал руку, будто молча разговаривая с ним.
— Обязательно постараюсь дать о себе знать. Будьте уверены, товарищи, я всегда буду помнить и чувствовать вашу горячую жажду счастья и успехов в нашей общей борьбе. Если же... — Лужинский замолчал, махнул рукой и бегом догнал Луку Телегина, который должен завершить его отрыв от партизанской группы.
— Как будто в могилу снарядили человека... — высказался кто-то из группы.
Тихо откашлялся другой. Немного постояли, прислушиваясь. К каждому бойцу в отряде привыкали, как к родному. Да и боец из Станислава особый. Боролся в Испании, знает языки. Из его совершенных разведок партизаны всегда знали, чем дышит враг.
Над головами тихо шелестели верхушки деревьев и далеко, как стихающая гроза, раздавались громы войны.
Четыре ночи шли, каждый раз сильнее спеша. Днем, если не спали, то «мудровали», как выражался Лужинский, себе пропитание. Даже привыкли, что идут вдвоем по бушующему миру. За эти дни ни разу не вспомнили, что сапер должен же где-то инсценировать тот побег «польского беженца».
Только на пятый день, во время завтрака, у населенного пункта за рекой, на открытой дороге прощался Станислав Лужинский с Телегиным.
— Ну что же, друг… Спасибо за товарищеское проводы, за дружеские предостережения. Марии Иосифовне передайте мой привет и непременно успокойте. Скажете, пошел бодрый, уверенный, хотя сами видите, как далеко мне до такого покоя. Сколько разных дел переделать надо, скрываясь от этих иродов, да каких дел! Мне бы это где-то здесь, на родине. Но моя родина, как и ее сыновья, в тылу...
— Ради дела идете, — рассудительно сказал русский.
— Конечно, — развел руками. — Каждый из нас должен выполнять свои обязанности гражданина.
Лука дольше задержал руку поляка. Что-то думал или по-своему толковал сказанное Лужинским.
— А знаете, давайте... не прощаться. Пойду я с вами дальше, — наконец досказал свою мысль партизан.
— Со мной? А дисциплина? Что могут подумать в отряде... о нас обоих? — забеспокоился поляк.
— Что бы ни думали. О таких делах надо хорошо рассуждать... Пойдем дальше. Только давайте обходить эти проклятые пристани. Вы же туда, в город?
Лужинский лишь на мгновение постоял, пожал плечами. Затем взял бойца за руку и изо всех сил сжал ее. Молча двинулись дальше, обходя на рассвете поселок у пристани.
Где-то с другой стороны поселка перешли кладкой ручей, выскочивший из перелеска, он проткнул очеретища и кугу и пересек тот поселок пополам.
— А может, оккупантов здесь нет, а, сапер? — тихо спросил Лужинский уже с другой стороны ручья.
— Сейчас побегу разведаю, — тотчас предложил Телегин, уже готовый идти на разведку.
— Не надо, друг. Помните условие: тихо отойти от партизанской группы, чтобы скрыть мою связь с нею?
— Помню, — согласился Лука, поднимаясь на крутой берег с другой стороны. — Почти неделю идем тихо, к Польше подошли...
— Куда же вы, погодите, — крикнул Лужинский, почувствовав, как вдруг оборвалась речь сапера. Обернулся, заговорил, не веря сам в необходимость тех уговоров. — Нам же надо в лес, отдохнуть. Давайте вдоль ручья, под обрывом...
И замолчал, провожая сапера уставшим взглядом. Телегин пошел не оглядываясь. Вот и попрощались... Дальнейшая помощь Телегина в его сложной жизни не реальна, а риск увеличивает вдвое.
Почувствовал, как теплым чувством окутывается душа от этих последних слов партизана: «К Польше подошли».
Ручей круто свернул в лес. Обрывистый берег медленно опадал, расширялась долина ручья. Начинался жидкий, истоптанный скотиной ольшаник, березняк. Зашелестела пожелтевшая копеечная листва осины под ногами. Лужинский зашел в чащу лесную, разыскивал удобный угол для отдыха до ночи, которая уже окутывала его одинокого...
Зима догоняла Станислава Лужинского, но так и не догнала. Зайдя в тот первый польский город ночью, он ночью же и оставил его несколькими днями позже. Оставил уже и не Лужинский, которым назывался когда-то в Испании, в интернациональной бригаде, и не Станиславом. На этот раз ему опять повезло встретить своих людей в оккупированной и терроризируемой гитлеровцами Польше. Рискуя жизнью, они своим патриотическим долгом считали достать «безупречные, хотя и абсолютно липовые», как сказал один из них, дорожные документы. Под тем новым именем «сотрудника личной канцелярии Эриха Коха», Лужинский и отправился в путешествие в Рим, через Грац в Австрии. Товарищам удалось сфабриковать Станиславу документ, согласно которому он выполнял слишком «ответственное задание гауляйтера Польши». Конечная цель этого задания — личная связь с дуче в Риме в очень ограниченное время! Так звучал его документ из... Варшавы!
— Так будь же, Станислав, расторопнее самого ловкого коховца и... не попадись, упаси боже, с этими документами! Жги, глотай... Нас же здесь целая организация, такие дела... — советовали друзья.
Замечательное берлинское произношение у «лично командированного» гауляйтером не могла вызвать подозрения. И практику подпольщика хорошую имел при жизни в условиях жестокой борьбы в Европе, дважды из когтей полиции вырывался! Не связывался нигде с мелочью — комендантами, всегда стремился к главному и непременно — в большом городе.
Только в Милане не уследил, пришлось отбрехиваться, почему «обходил» Рим. А разве он руководит этими военными поездами?..
Посланнику Коха следовало держать достоинство на высоте! Действительно, железнодорожное движение военного времени было столь запутанным, что такому объяснению и не удивились. Даже вместе с ним посокрушались сложностью военного времени и помогли попасть на первый же поезд на Рим. Спешит ведь посланник. Поезд тронулся. Посланник благодарил комендантскому проводнику, приветливо помахивая ему беретом из окна вагона. Где-то в Пьяченце пересел и уже с другими документами, с другим именем добрался на рассвете в Ниццу.
Ницца! Уже только потому, что этот город родил и вырастил такого народного гиганта, как Джузеппе Гарибальди, Лужинский еще во время своих первых посещений поверил в его свободолюбивость. Искал друга — Каспара Луджино, с которым вместе боролся за испанскую революцию!
Но именно здесь, в конечном месте своего путешествия, казалось бы, в совершенно не военному порту, впервые встретил наибольшие трудности. Немного легкомысленно отнесся к конспирации.
В одно тихое утро, наконец, попал в квартиру друга, с которым отступили тогда из Испании. Ведь в знак боевого братства в Испании Станислав с тех пор и стал Лужинским. Друг Каспар должен был связать Лужинского с кем следует для выполнения его задания...
Утро было туманным. Улицы почти пусты, даже полиции не видно. Держась берега, прошел марсельский пароход с войсками, едва прорывая густую завесу утреннего тумана над морем. Еще с тех далеких дней не забыл ни калитки, ни дверей в дом. Живая изгородь отгораживала двор от уютного сада из десяти оливковых деревьев. На спокойный звонок вышла девушка на выданье, вылитая копия Анжелы. Значит, все как надо!
По-немецки обратился к девушке. Она шелохнулась испугано, покачала головой и исчезла. Пришлось сесть под живоплотом на скамье, защищенной со стороны морского бульвара кустом роз. Не было сомнения, что семья Каспара Луджино до сих пор живет здесь. Но почему так долго никто не выходит? Война!
Наконец вышла женщина в белом халате врача. Хотелось узнать в ней Анжелу, но нет, не она. Поднялся, заговорил сложной смесью из испано-французских слов, так что женщина улыбнулась.
— Я говорю по-немецки, — откликнулась. — Если вы к хозяину, то его нет.
— Мобилизован... — спохватился Лужинский, перебив медленную немецкую речь женщины, и умолк.
— Да. И пропал без вести. Пожалуйста, зайдем. Я врач, его жена больна. Вы что-то должны ей сказать? Может, от мужа?
— О, нет-нет. Прошу прощения. Мы старые друзья с Каспаром, но... Я не знал. Если больная... — отмахнулся Лужинский, соблюдая конспирацию.
— Зайдем, пожалуйста. Анжела, как вы ласково назвали хозяйку, будет рада. Успокойте ее. Скажите, что-то, придумайте о муже, это так ей нужно. Его послали на тот советский фронт... Насильно погнали.
— Я знал его летчиком, — вспомнил Лужинский.
— Верно. Но он француз, а многих французских летчиков погнали на... танках.
— И пропал без вести... Понимаю. Сам такой, тоже «пропал без вести». А естэм поляк, пожалуйста, — вырвалось и польское слово в восторге искренности.
Но оказалось, что и эта традиционно нейтральная благословенная земля Джузеппе Гарибальди теперь воюет. По крайней мере со всякими чужаками. Лужинский сидел уже у постели больной, едва успел что-то спросить, искренне пытаясь разыскать Каспара. И не слышал звонка снаружи, слишком уж в спокойно-мирной обстановке почувствовал себя.
— О вас там спрашивают, — прошептала ему на ухо врач, войдя из сеней. — Кажется, из полиции. Я сказала, что никого нет.
— О боже, — простонала больная. — Мы не предупредили вас, за нами следят... Мое окно! Здесь низко, прыгайте! Через сад только во двор казино... Скорее же! — почти приказала больная, через силу поднимаясь.
Привычный в подобных случаях действовать решительно, не мешкая, Лужинский открыл окно и выпрыгнул в сад. Когда закрывалось окно, еще услышал голос больной:
— Просите, кто там. Ведь тот врач... недавно ушел.
По-зимнему голые деревья, опавшая листья под ногами.
Туман густым облаком поднялся над городом, над Лигурийским морем. Уже шумел город, шумело и море. Не закрытая садовая калитка, заросшие сорняками тропинки. Пытался незаметно, не оставляя следов, пробраться этим забытым уголком. Как-то проскочил в калитку; только теперь надел берет и вышел мимо казино за угол, в переулок. Даже закурил. Немного постоял, вспоминая план набережных улиц города, а тревожащий вопрос, как молотом стучал: куда теперь, среди белого дня нащупан полицией? У Каспара Луджино тогда было еще несколько друзей. Но где они, как разыскать их, установить ту прерванную теперь связь?
Медленно шел, будто прогуливаясь. Рядом, за квартал, уже грохотал приморский бульвар, а здесь в этот ранний час только одинокие, как и он, прохожие. Не обращал внимания на них.
Кому он нужен? Где-то через два квартала услышал быстрые женские шаги, тяжелое дыхание. Оглянулся.
Улыбающиеся уста той же девушки, видимо дочери хозяев, говорили, что она его догоняет. Остановился, подождал. Папиросу потушил и выбросил.
Девушка ничего не сказала. Но, видимо, говорит же она у них на каком-то языке. Едва поравнялась с Лужинским, быстрым движением сунула в руку записку и побежала дальше. Лишь издалека обернулась и показала рецепт в руке.
«За лекарствами для больной матери побежала», — подумал, успокаиваясь. Оглянулся вокруг, прочитал бумажку.
«Наша квартира на заметке в полиции. Вы врач! Но... спрячьтесь у капитана мореходной компании «Ницца» Карла Даниэля Пока. Это брат моего врача Зельды. Анжела».
Капитан мореходной компании «Ницца»! Кто он, этот Карл Даниэль, какие роли, кроме капитанских, в компании «Ницца» выполняет? Ведь он только брат врача. Только брат. Каспар ни разу не вспоминал о нем.
И, миновав еще несколько переулков, Лужинский на всякий случай снял берет и вышел на приморский бульвар. Это была улица с вдвое более узким тротуаром и не окаймленной гранитом набережной Лигурийского моря. Пароходная компания «Ницца» имела свою пристань где-то посреди города, в центре подковы набережного бульвара — с финиковыми пальмами, с пляжем и многочисленными полицейскими в форме и без формы, больше без нее.
Пляж в это время был почти пуст. Повторяя в мыслях имя капитана мореходной компании, Лужинский, наконец, скомкал шариком записочку и, как карамельку, игриво бросил в рот. Прожевав бумажку, вежливо выплюнул ее в урну. Окончательно ушли тучи, солнце уже ощутимо прогревало утро. Задумчиво гуляя по набережной, Лужинский бросал внимательные взгляды на каждого встречного. Шел медленно, было время между прочим оглянуться. Как жаль, что пароходная компания «Ницца» расположена в центре города.
Оглянувшись, заметил еще одного гуляющего, который шагал за ним по тому же приморскому бульвару. Лужинский посмотрел на часы и ускорил шаг. Только поворачивая в здание пароходной пристани с эффектной рекламной надписью «Ницца», увидел, что и тот прохожий позади ускорил шаг.
— Капитан Пока? — на ходу бросил Лужинский вопрос какому-то мальчишке, пробегающему мимо. Парень вежливо улыбнулся, остановился.
— Капитан Карло Даниэль Пока! — повторил юнга. — Прего, синьор! Прошу, господин! — повернулся и, пересекая узкую улочку пристани, показал на маленький трап вниз, где у причала качался на волнах пассажирский пароход.
С именем капитана Лужинскому нетрудно было пройти по трапу на пароход, который только сегодня прибыл с рейса. Его мыли, натирали, заправляли. Какой-то матрос охотно провел Лужинского сначала по палубе парохода, затем вниз по трапу, завел в каюту и исчез.
«Авторитет» — мысленно определил поляк.
— Позвольте? — спросил в дверях каюты на том же немецком языке, хотя прилично владел и английским.
Из-за стола к нему обернулось трое. Но двое из них сразу же встали и вышли — офицеры флота. Третий не поднялся, а только с полуоборота головы кивнул: заходите. И ждал, повернувшись, как сидел, спиной к входу.
Гарибальди! Заросший густой бородой, крепкий, с проницательным взглядом больших глаз. Когда Лужинский встал, поклонившись, выискивая слова для знакомства или изложения своего срочного дела, только тогда «Гарибальди» как-то нейтрально, даже холодно обратился крайне выхолощенным, но мужественным голосом морского волка:
— Друг Каспара Луджино? Прошу, — показал рукой на кресло в центре за столом, которое и было, очевидно, его капитанским креслом. И в тот же миг встал, кивнул головой как бы на прощание. В дверях между прочим оглянулся, пробормотал:
— Только что о вас звонили от сестры... Момент.
Рукой сделал успокаивающий жест и исчез за дверью. Хлопнул замок в дверях, повторившись эхом как раз в самой болезненной точке сердца.
Лужинский сидел в кабинете неразговорчивого и мало симпатичного в обхождении морского волка, которому уже известно отношение Станислава к Каспару. Кабинет корабельного капитана не так поражал своей обусловленной миниатюрностью, как высоким вкусом, стремлением морского волка к гражданскому уюту. Даже несколько произвольно подобранных картин были развешаны по стенам, хотя удобных мест в каюте для этого было мало. В центре, в раме, полированной под стиль кабинета, была выгодно выставлена безупречная копия украшения Лувра — «Цыганки» Франса Гальса. Такое совпадение: несколько лет уже вспоминает Лужинский это полотно после посещения французского музея. Думал ли встретить «Цыганку» еще и здесь, в кабинете морского волка!
Невольно потеплели чувства к этому замкнутому «Гарибальди». Бежать отсюда, встретившись вновь с зовущей улыбкой цыганки, не только бессмысленно. При большом желании, даже необходимости, это невозможно — он же заперт в кабинете капитана.
Когда услышал, что по трапу спускается не один человек, невольно прислушался. Такова его судьба — прислушивание является самым действенным элементом бдительности! За дверью говорят на немецком языке. Что именно сказал незнакомый, какой-то писклявый голос, Лужинский не разобрал. В ответ прозвучало слишком четко, даже показалось, что говорилось подчеркнуто четко, словно сказанное адресовалось и ему, Станиславу Лужинскому:
— Мне незачем вас убеждать. Не в гардеробе же я его, как неверная жена, прячу…
Если бы клацнул ключ в дверях, Лужинский бы не тронулся с места, даже опять сел бы в то же самое кресло. Ведь ключ вынул сам капитан, когда закрывал дверь, выходя. А тут слышит его голос:
— Юнга! Ключ мне от каюты!
— Есть ключ! — послышался бодрый, молодой голос юнги.
«Маневры для затягивания времени! — мелькнуло молнией в голове. — Маневр, чтобы дать мне возможность спрятаться в… том-таки гардеробе». Мигом по-кошачьи шагнул и раскрыл шкаф. Дверь без скрипа открылась и закрылась за Лужинским. Пальто, гражданский плащ-дождевик, запах резины, плесени…
В шкафу четко отзывались окружающие шумы. По ступеням быстро семенил юнга, спускаясь с ключом. Слышно, как звякнуло кольцо на ключе — капитан взял ключ из рук юнги… Невольно провел рукой в шкафу: плотно и добротно сделано. Может, под ногами спрятан какой-нибудь тайный люк?
Но услышал, как открылась входная дверь и капитан вежливо пригласил того, другого, входить. Последним за капитаном, наверное, вошел и юнга. Входная дверь не закрыта. Осторожные шаги пантеры по комнате. Время — как вечность!
«Если отворят двери шкафа — ударить ногой и сразу же, мгновенно выскочить из каюты!»
Потом... вышли и за дверью по несколько слов произнесли оба. Юнга засеменил, выбегая наверх. Отдалился и приглушенный шепот двух. Наверное, пошли по лестнице наверх.
Остро вслушивался в шаги на корабле. Они смешались с другими звуками, с гулом улицы, с шумом моря.
Что делать дальше? Ждать капитана, выйти самому, не дожидаясь? Тихо отодвинул дверцу, выглянул. Дверь была уже закрыта, хотя щель свидетельствовала, что ее только притворили. Ведь она, видимо, захлопывается автоматически.
Вдруг вернулась к Лужинскому его характерная особенность подпольного бойца. Он уже не боялся. Решительно вышел из шкафа, закрыв дверцу. Осмотрел себя, беретом ударил об руку и, успокоенный, сел в том же кресле. Будто именно этого и ждал капитан. Дверь резко распахнулась и с хлопаньем закрылись.
— Ну, теперь можете идти. Идите, — бескомпромиссно предложил капитан, открывая дверь. Иллюзия образа Гарибальди, как тень от облака, растаяла.
— Но... позвольте, господин капитан. Мне советовали поговорить, — разогнался было Лужинский что-то объяснить странному капитану.
— Поговорить? Не о чем нам говорить. Мне все известно, но я... только брат врача, что вас спасает, и... капитан судна, которое через четыре часа возьмет на борт батальон минеров флота, отдаст швартовые.
— В направлении? — осмелился Лужинский.
— Направление у офицера саперов.
— Все? — как-то неуверенно, удивленно спросил Лужинский, лелея какую-то надежду на искреннее понимание. Надо немедленно выходить и исчезать. Капитан безразлично пожал плечами, не меняя выжидательной позы.
— Да. Сестра просила дочь вашего друга позвонить из аптеки о вас и о немедленной помощи в тот момент. Я все выполнил точно. Можете идти. Сестра не имеет оснований быть недовольной братом.
Проходя мимо капитана, Лужинский кивнул головой в знак благодарности. Капитан действительно добросовестно выполнил просьбу сестры. Не получив на свой поклон ответа, Лужинский выпрямился и пошел к двери. Даже взялся за ручку, когда услышал скрипящий, словно насильно выдавленный тихий голос капитана:
— Остальное может сделать юнга, ему разрешено... Но не все, что вам хотелось бы.
Что именно мог сделать юнга? Что имел в виду капитан, говоря это «не всё»? Ведь о том, что хотелось бы Лужинскому, здесь никто не знает. Но приходилось уходить из каюты такого странного, как улитка скрытого в витом панцире, капитана. «Остальное может сделать юнга...» Связь?
Вспомнилась больная жена Каспара Луджино, ее врач и молчаливая дочь. Какой искренностью звучали не только все их слова, но и взгляды, даже каждый вздох.
Уже у выхода из парохода неизвестно откуда действительно вынырнул тот же юнга. Юноша, почти ребенок, вся искренность которого сейчас поставлена на службу чьей-то невидимой воли. Жена Каспара? Врач?..
— Прего, синьор, — тихо предложил и ушел, не оглядываясь. «Ну и школа!» — невольно восхищался Лужинский, едва поспевая за юнгой.
Вышли с корабля по тем же ступенькам наверх. Лужинский предусмотрительно остановился и предусмотрительно оглянулся. Юнга подождал его, даже показалось, заколебался, решал. Затем едва заметным кивком головы пригласил следовать за ним. Прошли вдоль здания почти по какому-то карнизу над водой. Тот карниз имел железные перила — значит, здесь ходят. Спустились по трапу к воде, на которой качалось множество лодок. Юнга вскочил в одну из них и оглянулся, кивком головы показал, чтобы Лужинский подождал в тени стены, а сам поскакал вдоль того же причала с лодки на лодку. На некоторых лодках возились захлопотанные гондольеры. Им никакого дела не было до тех, кто здесь проходил. Да и вряд ли кто-то из них заметил у стены невоенного человека в берете. Лужинский снова содрал его с головы, зажал в руке. «Если бы какая-то другая одежда!..» — вертелось в уме.
Юнга тихо свистнул. На свист оглянулся какой-то гондольер, вычерпывающий воду из лодки. Он вскочил на борт, с него на другую лодку и встретился с юношей. Встреча показалась Лужинскому больше семейной, чем служебной. Мужчина тепло улыбнулся, сразу же сел на борт лодки. Лодка качнулась, парень схватил за плечи гондольера, придержал, и они оба рассмеялись. Отец или брат?
Что они говорили, Лужинский не слышал. Но хотелось верить, что капитан, искренне выполняя просьбу сестры, ничего плохого ему не сделает.
Наконец, гондольер поднялся с борта и слегка кивнул головой на Лужинского. Показалось, что при этом он совсем другим взглядом огляделся. Нетрудно было опытному подпольщику понять этот взгляд. Мужчина вернулся на лодку. Юнга постоял, пока Лужинский прошел вдоль лодки мимо, и, пролепетав «Ариведерчи...» — попрыгал с лодки на лодку тем же путем, каким добирался сюда.
В лодке гондольер и Лужинский с минутку осматривали друг друга. Мужчина молчал и отворачивался, чувствуя на себе пристальный взгляд.
— Вам уже что-то сказали обо мне? — тихо спросил Лужинский мешаниной из французских и испанских слов, обращаясь к молчаливому гондольеру. Тот кивнул головой и, повернувшись к чужаку, заговорил:
— Речь идет о том, чтобы укрыть вас от... полиции. Это так?
Что ответить человеку, не зная его, не зная, что сказал парень от имени капитана или от себя?
— Видимо, так, если капитан велел это сказать.
— Не знаю, велел ли бы это капитан. Так сказал мой сын Педро, приведя вас сюда. Но... ваше произношение и вообще это... такое появление с моим парнем...
Это не было похоже на допрос, но естественно, что гондольер интересовался, кого ему на руки сдал сын. Лужинскому не оставалось ничего другого, как признаться. Ведь он уверен, что жена Каспара связывает его с надежными людьми.
— Я друг Каспара Луджино по интернациональной бригаде в Испании. Прибыл к нему по делу, но...
Удивительная реакция — гондольер повернулся к Лужинскому и медленно сел на борт лодки.
— С интернациональной бригады? — будто даже с испугом спросил и, не дожидаясь ответа, тихо продолжал: — А его, капитана Пока, вы давно знаете?
— Нет, нет, — отрекся Лужинский. — Его сестра врач...
— Ага, — тотчас же перебил гондольер. — Вы коммунист и попали к... нему! Но вы знаете, кто такой капитан Карло Даниэль Пока?
— Нет, говорю вам, нет! — торопился поляк. — В квартире Каспара меня выследила полиция. Пришлось спасаться, как посоветовала мне врач.
— Сестра капитана...— гондольер махнул рукой Лужинскому, чтобы тоже сел на борт. Может, для равновесия лодки, а возможно, предостерегая его. — Сестра капитана, Зельда, замечательный врач и друг наших людей.
Слово «наших» гондольер сказал с особой интонацией, которая никогда не изменяла искренности.
— Да, это правда, — подтвердил Лужинский, заполнив паузу в разговоре. — Она так горячо восприняла мою беду и подключила к укрытию своего брата.
Гондольер не сдержал горькой улыбки.
— Он искренне служит и в тайной полиции, тот браток хорошей сестры!
Удивление и страх на мгновение даже язык отобрали у Лужинского. Обернуться, чтобы осмотреть место и пути к бегству, уже и не решился. Не было сомнения, что гондольер вполне его понял.
— Мой сын привел вас сюда не по приказу капитана. У моего Педро не было другого выхода, хороший парень! А полицейский агент ждет его с вами на бульваре. Дождется, Педро пойдет к нему... Значит, мы вместе в интернациональной бригаде были?
Гондольер умолк, о чем-то размышлял и вдруг начал сбрасывать с себя одежду.
— Кажется, мы с вами одного роста? — сказал, отдавая свою гондольерскую робу. — Сейчас же переоденьтесь. С лодкой справитесь? Вам нужно будет, словно гуляя, выбраться далеко туда, за мыс. Там оставьте лодку, хотя бы немного прикрыв, если сможете. Имейте в виду, что тот агент будет ждать вас только в улице, куда его заведет мой Педро. Те ребята терпеливые, будут ждать! А вы идите дальше по берегу, где-то до тридцать шестого километра. Даже лучше было бы лодкой проехать туда. Там, наверное, встретите меня или... другого. Вас надо на время спрятать. Не мешкайте же...
Гондольер положил одежду гостя в лодку, а сам в одной рубашке, прихватив какую-то рыбацкую утварь, быстро поскакал с лодки на лодку к берегу. Только один раз оглянулся, когда Лужинский вывел лодку со стоянки. Не оглядывался больше и Лужинский, старательно делая вид, что прогуливается в этой причудливой, послушной лодке, только бросал взгляды на берег.
Берег, где, наконец, пристал Лужинский, был действительно совсем пустой. Пожалуй, полиции не так уж и нужно было знать, что за врач навещал больную жену Каспара Луджино. Такой удивительно мирный берег Лигурийского моря, теплый предзимний денек. Где-то дальше по дороге слышался грохот авто. Автострада жила своей жизнью.
Только образ капитана, образ холодного замкнутого человека, шпика, который только формально угождал сестре, теперь не выходил из головы. К чему же там «Цыганка» в стильной раме? Удивительная «честность» по отношению к сестре-демократке...
Только переодевшись, выбрался на берег и сразу же почувствовал свое положение человека, преследуемого полицией.
Стремительно и со вкусом сплюнул, оглядываясь вокруг. Встречные авто его нисколько не беспокоили. К счастью, утром авто спешили только в Ниццу. Настороженный, шел на тридцать шестой километр, ожидая встречи с гондольером.
Тот поднялся с набережной кручи, где сидело их двое. Поднялся, сбрасывая с себя верхнюю одежду. В руке держал фетровую шляпу. Его приятель был одет в робу гондольера.
— Педро все еще водит полицейского, — смеясь, сказал знакомый гондольер. Его друг тоже улыбнулся, поддерживая тем спокойное настроение.
Когда Лужинский послушно переоделся в сброшенную с плеч гондольера одежду, надел широкополую шляпу, немного сбив ее на бок, гондольеры уже совсем весело засмеялись.
— Брависсимо! — заверил отец Педро, беря под руку Лужинского. — Этот мой друг проведет вас в одно место. Вам непременно нужно сейчас спрятаться на время, пока угомонится полиция.
Даже имя своего друга не назвал. Повернулся и исчез, спрыгнув с береговой кручи к морю.
Углубившись в придорожную поросль, шли быстро. Молчали, потому что, действительно, о чем говорить с незнакомым человеком, который только выполняет просьбу своего друга — спрятать друга Каспара Луджино. Позже повернули дорожкой дальше от моря. Даже шумы морские начинали теряться в шелесте перелеска.
— Приятель сказал, что вы интересуетесь городом Сетубал? — наконец, спросил гондольер.
— Да. Может, случайно найду ребенка одной хорошей матери. Его преступно похитили для шантажа родителей накануне этой войны с Советским Союзом, — пояснил Лужинский.
— Вы имеете знакомых в Сетубале?
— Никого. Только адрес женщины, к которой отослали ребенка. Но теперь война, уцелело ли то агентство преступников?
— Если американка, то уцелела — они сейчас увеличивают количество своих аборигенов на этом континенте. Американка уцелеет... Мой друг советовал помочь вам. А как? Чем? Здесь или в Португалии? Продолжается война. Вы летаете?
— Только как пассажир. Но...
— Самолеты теперь... в основном только военные. Мой брат летчик. После ранения на африканском плацдарме переведен в гражданскую авиацию. Был... — гондольер понизил голос, оглянулся, — был французским и коммунистом.
— А воевал на стороне Гитлера? — удивился Лужинский.
— Не удивляйтесь, друг, — гондольер по-приятельски хлопнул рукой по плечу Лужинского. — Не все коммунисты в подполье. Брат, видимо, потерял связи с партией. Такое кругом... Думаете, что в армии Гитлера нет коммунистов? Ого! А где же им быть, если открутились и не попали в концлагеря.
— Думаете, летают? — многозначительно спросил Лужинский, невольно поддерживая этот рискованный разговор. Ведь ему необходима связь.
Гондольер только кивнул. Вышли из леса на пустую дорогу в поле. Она круто поворачивала и спускалась в долину. Там, прижимаясь к оврагам, расположился небольшой поселок. За ним просто по долине извивалась спокойная река.
— Тут, в крайнем доме, остановитесь. Хорошие люди, тоже рыбаки, родственники брата. Хозяин уже инвалид этой войны, протез ожидает от государства, а сам деревяшку себе смастерил и даже на рыбалку ходит с нею. Вот увидите, хороший человек.
— А мы не повредит людям?
— Ого, еще как! — воскликнул гондольер. — Но мы зайдем к нему не с дороги. Давайте вот сюда, перепрыгнем овраг и проберемся от усадьбы.
Инвалида на неуклюжей деревяшке встретили еще во дворе. По-родственному поздоровался с гондольером, подал руку и Лужинскому.
— Брат в полете, не знаешь? — спросил гондольер. Инвалид тотчас осмотрел Лужинского с ног до головы и улыбнулся себе в усы.
— Кажется, сегодня отдыхает. Вся авиация теперь перебрасывает войска. Не усидели наши на африканском побережье... Но он, кажется, вновь при фирме.
Какое-то и свое слово хотелось бы сказать Лужинскому о тех авантюрных операциях фашистских десантов на африканском побережье. Но из осторожности и предусмотрительности промолчал.
Когда эти двое отошли, Лужинский вошел в тень сарайчика. Приятели не стояли на одном месте, что-то горячо доказывали друг другу. Только когда возвращались от сарая, Лужинский услышал, как хозяин в последний раз с упреком сказал: «Он мне будет рассказывать!..»
— А французский язык вы знаете? — спросил инвалид, а не окончив ту фразу.
— Совсем плохо. Знаю немного английский.
— Английский... — рассуждал инвалид. — Английский Дук тоже немного знает, но он... Но хорошо, что и так.
— Все же я вполне пойму и француза, — торопился Лужинский как-то угодить людям, имеющим с ним столько хлопот.
— Словом, заходите в дом. Скоро обед. А я пошлю мальчишку. Лаверна обещал мне трубочного табака. Может, привез.
Что и когда говорили эти люди с тем летчиком, Лужинский не знал. Терпеливо и настороженно пересиживал эти несколько дней. О связи пока и не заикался, когда так охотно берутся люди перебросить его в Сетубал. Его только скупо информировали, что летчика не пришлось долго уговаривать. Лаверна охотно согласился, но вылететь с ним Лужинскому повезло только на девятый день тоскливого укрытия у его родственника и друга-инвалида.
— Ситуация сложная! — уверял инвалид. — Почти ежедневно какие-то тревоги, иногда обыски.
Наконец, Лаверна зашел накануне дня вылета и забрал Лужинского к себе.
— За нами придет авто этой компании.
— Авиакомпании? — спросил Лужинский, ориентируясь.
— Компания ресторанов Ниццы вновь наняла наш самолет... — летчик немного помолчал, что-то обдумывая. Затем достал из кармана бумаги. — Итак... — еще немного помолчал, остро вглядываясь в Лужинского. — Брат заверил, что... я могу довериться. Здесь все с бумагами. Вы же боец интернациональной бригады?
— Да. Один из младших офицеров интернациональной бригады, как и Каспар Луджино.
— Ясно. Отныне вы служащий компании ресторанов Ниццы и называетесь... Как тут, — развернул бумаги, прочитал: — Вольдемар Зитцмайер. Помните: вы немец Зитцмайер, говорите исключительно на немецком языке. Как он у вас, не выдаст? — засмеялся, отдавая документы.
— О-о! Битте зеер, майн либе фройнд!
Летчик удовлетворенно улыбнулся от такого натурально картавого похищения отдельных звуков в произношении.
— Прекрасно! Только на немецком, помните. Другими языками не пользуйтесь, хотя бы и знали. Значит, компания ресторанов Ниццы отправляет вас в Опорто, провинция Дору в Португалии. Воздушный корабль берет на борт две тысячи условноконьячных и ликерных бутылок. Понятно? О приеме на самолет груза расписываетесь вы. Можете покапризничать, потому что груз уже на самолете. Но... расписывайтесь, я сам его считал, принимая, и вас поносил последними словами за неявку на прием груза. Что там везем, вы уже и не интересуйтесь, коньячные бутылки... В Опорто усердно сдаете груз, деретесь за каждый ящик. И принимаете на борт коньяки, теперь уже настоящие коньяки, ликеры для треста.
— Потом?
— Потом меня и компанию уже не будет интересовать, что вы с собой сделаете. Конечно же, эти документы вам в дальнейшем вряд ли пригодятся — немец не у дел вызывает всякие подозрения. Но смотрите сами. Мы пойдем с вами в ресторан, как только примем груз на самолет. А из ресторана я уже вернусь на самолет сам. Вы готовы и полностью меня поняли?
— Да, — коротко бросил поляк.
На частный аэродром они прибыли заранее. Экипаж самолета отрапортовал пилоту о готовности к вылету.
— Должен проверить груз, — резко вмешался Лужинский подчеркнуто берлинским произношением.
— Но мы... Мы приняли точно по акту сдачи, — оправдывался бортмеханик самолета.
— Да, господин Зитцмайер. Я лично все проверял при приеме груза. Вот акт, пожалуйста.
Бортмеханик достал из кармана акт и подал Лужинскому. Тот молча закурил сигарету, Лаверна даже не сдержал довольной улыбки.
— Зер гут! — сказал «немец», не беря в руки тот акт и читая его из рук бортмеханика. Затем кивнул: с формальностями покончено.
Пока прокручивали и прогревали моторы, он докуривал сигарету. В самолет, как полагалось, зашел почти последним. Какое-то время серьезно осматривал груз, а когда самолет отрывался от земли, не мог удержаться, чтобы не моргнуть на взгляд летчика. Лаверна одобрительно кивнул, он тоже был доволен поведением поляка.
На горной границе между Испанией и Португалией летчик сделал низкий облет, два раза обернувшись над пунктом перелета — таков был пароль на этот день. Заметив сигнал белым флагом, Лаверна выровнялся и лег на курс уже на португальской земле.
Лаверна мастерски посадил самолет в конце аэродрома и подрулил к дебаркадеру. В Опорто еще не было комфортабельного аэропорта. Обыкновенная временная посадочная площадка, военные патрули — матросы. К самолету вышли только мужчины — чиновники, грузчики, матросы, вооруженные неуклюжими немецкими маузерами на длинных ремешках. Летчика сразу же узнали, здоровались как со старым знакомым.
Лужинский почувствовал, что его берлинский выговор немедленно насторожил всех. Какое-то легкомысленное панибратство при первой встрече с пилотом вмиг исчезло. Деловая атмосфера захватила всех. Приемщик взбежал по трапу в самолет и быстро возвратился оттуда — полный порядок!
Долго и скучно тянулась сначала выгрузка ящиков. Автокарами их отвозили куда-то далеко за дебаркадер. Оттуда привозили такие же ящики, но уже с полными бутылками. Предупредили, что это лучший португальский ром — «Портокал», и пять-таки, как и в Ницце, многозначительно улыбались. Лужинский деловито осматривал эти ящики, что-то даже записывал себе в блокнот. Пилот был восхищен таким конспиратором.
Только когда и эти ящики были загружены в самолет и Лужинский, кропотливо проверив накладную, торжественно расписался в ней несколько раз, капитан громко предложил ему пообедать не в порту, а в ближайшем городском ресторане.
— Зер гут! — опять лаконично согласился Лужинский, пряча в карман документы на груз.
Выйдя за ворота аэродрома, летчик облегченно вздохнул и принял от Лужинского те документы.
— Ну, вот теперь вы уже в Португалии, товарищ! Передаю вас под покровительство судьбы. Если она у вас счастливая — все пойдет хорошо. До сих пор вы заставляли меня восхищаться вашими способностями конспиратора. Но прошу учесть, что в этих двух «нейтральных» странах, Португалии и Испании, немцев очень много, не советую наталкиваться на них.
— Тайная полиция?
— Да, будьте бдительны! Испанский язык, говорите, с грехом пополам знаете?
— К сожалению, больше греха, чем языка. Но мне здесь, пожалуй, лучше быть только польским эмигрантом. Ведь, говорите, многие из них здесь оказалось, обжегшись на «свободе» в Польше?
— Так мне показано. Сам я не видел, вы первый поляк, которого я встретил. Но вам особенно бояться нечего, скажу вам в похвалу — опытный конспиратор!
В городе не чувствовалось покоя мирной жизни нейтральной страны. Напряженный темп движения на улице невольно внушал тревогу. Без какой-либо причины прохожие смотрели на небо, оглядывались. Но и ко всякому прохожему здесь не было никому дела. Все куда-то спешили. В продуктовых магазинах — теснота. Везде преобладали военные, толпилось женщины.
Ровно через полчаса Лаверни попрощался с Лужинским, крепко пожав ему сильную руку.
— Хороший вы народ, коммунисты, черт побери! Кончится война, непременно возобновлюсь! Нам надо всем быть совершенными марксистами! Ага, подождите. Товарищи собрали вот немного денег для вас. Здесь есть и португальские эскудо... Адью!
Предупрежденный летчиком, Станислав Лужинский был максимально предусмотрительным. Только в Опорто во время пересадки с поезда на поезд заметил чьи-то зоркие глаза. Мелькнули и пропали. Стоит ли из-за этого избавляться от таких замечательных документов виноторговой компании. Могло же просто показаться. Но в вагоне опять совершенно неожиданно встретил те же глаза. Может, случайный взгляд, совпадение? Но те же глаза...
От самого Опорто Лужинский уже был мобилизован, хотя за все трехдневное путешествие в Сетубал ни разу больше не встретил тех бдительных глаз. В отношении полиции был спокоен. Эскудо, которые были в кармане, могли блестяще заменить ему даже язык.
Наконец, Сетубал! Настороженно выходил из вагона, внимательно осматривал новые места. Все шло удивительно хорошо. Прибыл в этот город поздней ночи. Но прибыл! Волнуясь, ждал на вокзале утра. Ждал с тревогой, потому что не знал, что готовит ему встреча с мисс Гревс. Найдет он у нее то несчастное дитя?
Но в «нейтральной» стране тоже вошли во вкус ночной проверки документов — пришлось тихо выйти в город. Пустой и холодный ночью, удивительно неприветливый, неуютный этот портовый город. Ночные улицы подчеркнуто гостеприимны.
Посмотрел на часы, до утра еще было несколько часов. Во время тех испанских событий они с Луджино были моложе и смелее! Хозяевами были. Как жаль, что у него нет никаких связей, хотя бы случайных знакомых...
Идти сейчас на поиски мисс Гревс было бы безрассудством. Завязать разговор со случайным встречным тоже не лучше. А пристанище в отеле вообще остается только мечтой, о нем не надо и думать. Малейшая неприятность в гостинице — и вся хлопотное путешествие станет бесполезным.
Пришлось сократить прогулку и снова вернуться на вокзал. Ведь у него еще остался билет после прибытия. В голове родился другой план: приобрести билет на поезд, хотя бы и до Лиссабона, и ждать в здании вокзала. Так шел, задумчивый, и оказался снова перед входом в вокзал, предусмотрительно огляделся. Несколько пассажиров с вещами подходили к надворным кассам. Молодая женщина с двумя детьми копалась в сумочке.
— Позвольте вам помочь, — на английском языке обратился Лужинский, не думая о сокрытии акцента чужака. Подобная помощь женщине — достаточно привычное явление. О шпике он прекратил и думать: наверное же, оторвался от него. Во всяком случае, поблизости на привокзальной площади никого подозрительного не заметил. Женщина почти страшно бросила на него взгляд, невнятно покачала головой.
— Говорю только по-французски из чужих языков, — сказала, медленно подбирая слова.
Набором французских и испанских слов еще раз сказал свое предложение. Женщина нерешительно кивнула, добавив:
— До Мадрида, пожалуйста. Вот деньги... Очень вам благодарна.
Это была причина маячить на вокзальной площади на глазах у единственного полицейского. Лужинский деликатно взял деньги, подошел к кассе, даже успел уже заказать билеты, когда почувствовал на плече чью-то руку. Сделал вид озабоченного, объясняя кассиру, что нужны места для пассажирки с детьми. Какие эти кассиры бестолковые! А рука ждала на плече. «Откуда мог взяться полицейский, когда у касс было так пусто?» — Лихорадочно терялся в догадках.
Но сколько можно! Лужинский резко выпрямился и с достоинством оглянулся. Неосторожная рука мертво упала с плеча: перед глазами стоял немолодой уже, если судить по небритой бороде, человек в берете. Смело, но и не без упрека всматривался в лицо, убеждался. Тревожная, язвительные пауза словно рассыпалась от неожиданно чистого польского произношения:
— Господин Станислав... если не ошибаюсь? — незнакомец говорил не колеблясь, но сдерживал голос и до сих пор еще присматривался.
Кто это, переодетый шпик? Или такой же, как и он, польский эмигрант? Откуда этот человек знает его испанский псевдоним?
— Да, пожалуйста, Станислав Лужинский. С кем имею честь?
Лужинскому нужно было время, чтобы вспомнить этого человека и сориентироваться. Из окошка заговорил кассир, подавая билеты и сдачу. Какой благодарностью к нему проникся Лужинский за такую возможность еще протянуть время, вспомнить, решить.
— А господин меня мог и забыть. Только две встречи, — услышал ответ. Было что-то знакомое в интонации. Неужели полицейский тайной полиции Португалии, специальность которого — польские эмигранты? — Естем только недавний абориген этих спасенных уголков.
— Так кто же вы, откуда меня знаете? Ведь появление политэмигранта в этих уютных краях — такая понятная вещь. Но «абориген», извините, не совсем понятная для меня рекомендация.
— Если вы не маневрируете, так сказать, извините, господин... Лужинский, напомню. Обстоятельствами вынужден, как, видимо, и вы, покинуть родину... и, конечно же, служу.
— В полиции?
— А что делали бы вы, появившись в этих краях, когда там горят все ваши причалы? Вы же коммунист, насколько мне не изменяет память. Из интернациональной бригады, очевидно, здесь и застряли? Ну что же, будем знакомы. Здесь мы только поляки, прошу прощения.
— Только поляки. Минутку, я помогу даме.
— Пожалуйста. Бежать вам от меня нет никакого смысла, и не советую. Здесь мы только поляки!
Лужинского вбросило в пот. Значит, это действительно шпик. Но с ним еще можно говорить. Ручной шпик португальской полиции, в какой-то степени изгнанник из Польши — сообщники. Это он следил еще с Опорто. Глаза знакомые... да, да. Помнится, эти же льстивые глаза видел во время ареста еще в Кракове. Потом... снова же в варшавском поезде... как же его?
— Рачинский, Рубашевич?
— Феноменальная память! Вам бы дорого заплатили в нашем ведомстве. Рашевич, прошу покорно. Признаюсь, я вас только дважды видел. Ну, там фотографии в политических делах. Но, представьте себе, узнал! На это у нас собачья память вырабатывается. Вы закончили с дамой?
«Ударить и бежать! — возникло молниеносное решение. — А куда убежишь? Опять полиция будет поставлена на ноги, сорвется дело».
— Да, господин Рашевич, политэмигрант — такова уж наша судьба. Но, извините, вовсе не потому, что коммунист, — решил идти напрямик. — Польши, знаете, сейчас нет даже той, которая удерживала такую опытную тайную полицию.
Рашевич засмеялся, чиркнул зажигалкой и дал Лужинскому прикурить.
— Полиция есть полиция, господин Лужинский, если сказать о нашей родной польской земле. В самом деле, там бы я был особенно благодарен счастливой возможности взять вас. Вы же, кажется, были осуждены?.. Да мы успокоились на том, что вы погибли в Испании. Вижу, ошиблись.
— И рады бы здесь закончить еще те свои старания, господин Рашевич?
— Бруно Рашевич, — энергично дополнил агент. — Но если вы только политэмигрант в Португалии, позвольте вас числить за мной только как... поляка. Ибо на дружбу коммунисты слишком скупы.
— Что же, пожалуйста! Но дружба даже в эмиграции, да еще, как вы смело определили, по собачьей памяти, — согласитесь, господин Рашевич, обязывает к чему-то большему, чем только числить за собой и требовать регулярно явок на регистрацию.
— Абсолютно правильно. Правда, я с вами проехал поездом аж от Кримбры. Зачем вы мне здесь? Но проклятая привычка.
— Сочувствую.
— Нет, серьезно: недоедал, недосыпал. В этом городе встретить поляка это же счастье, согласитесь. Если же, вижу, не имеете, где остановиться, трижды рад. Живу... одиноко, жена с дочерью остались в Кракове. Живы ли...
— Понимаю вас. Многие поляки сейчас не досчитаются ни жен, ни детей, — посочувствовал Лужинский. — Что касается квартиры спасибо, не хочу мешать.
— Глупости, извините, — совсем просто заговорил Рашевич. — До утра еще успеем заснуть. Затем давайте заключим джентльменское соглашение!
— Какое именно? — насторожился Лужинский. У него уже совсем отлегло на души. Не будет же этот Рашевич арестовывать его в чужой стране. Да и не было за что.
— По истечении войны пан Станислав... посетит меня в Польше. Ну хотя бы в Кракове, где мы и договоримся о наших взаимоотношениях. Согласны?
— И вы меня как коммуниста тогда отдадите в руки закона, собственно беззакония?
— Необязательно. Кондиции послевоенные нам сейчас неизвестны. Во всяком случае...
— Господин Рашевич будет иметь на мне очко?
— Абсолютно правильно.
Это избитое «абсолютно правильно» в языке полицейского не говорило о солидном уме. Но в условиях этой встречи Станиславу было не до тонкостей.
— Ладно. Пожалуйста, я согласен. Это очко господин Рашевич будет иметь. Только условие, пока мы оба эмигранты, быть только поляками. Обещаю не доставлять хлопот господину Рашевичу своим пребыванием здесь. А в Польше, в первый же день возвращения в Краков, напомню вашей... той памяти о себе.
На том бы и закончили. Пожали друг другу руки. Но ночь еще не прошла, и Лужинский должен был снова ходить по улицам чужого города, дожидаясь утра.
— Господин Станислав не имеет же в этом городе пристанища. На условиях абсолютного доверия предлагаю отдохнуть у меня.
— В полиции? Однако господин Рашевич не совсем полагается на свою ту... память.
— Абсолютно искренне... и для вас совершенно безопасно. Есть здесь пристанище. Нас, поляков, так мало в Сетубале, такая скука. В Кримбри нас несколько, приживаемся, привыкаем. Кстати, пан Станислав будет туда ласково давать нам о себе знать.
Да он достаточно самоуверенный нахал. Но... что выберешь лучше в этих критических условиях?
— Открыткой или как?
— Абсолютно можно и открыткой. Да мы еще договоримся здесь. Зайдем... — указал на здание полиции порта Сетубал.
Молниеносные мысли на какой-то миг даже вскружили были голову. Лужинский решал: бить или просто повернуться и скрыться за углом? Немного неуклюжий от жира Рашевич не успеет достать револьвер — видимо же, он у него есть.
— К сожалению, как видите, — перебил те намерения Рашевич, — наша контора находится здесь, при полиции. Служу в пароходстве. Кельнером в ресторане.
— Хе-е! — вздохнул Лужинский. — Почему бы сразу не сказать, уважаемый господин Рашевич, я думал, что вы, как рыбак, выводите щуку из глубины.
— Ха-ха-ха! Щуку из глубины! Но и официанты ресторанов в нейтральных странах...
— Тоже шпионят?
— Абсолютно нет, но... работать так работать!
Он собственным ключом открыл дверь рядом с парадным входом в полицию и, посторонившись, ввел своего гостя в небольшую, довольно заброшенную комнату. Мигнул свет. Лужинский осматривал комнату, стоя на одном месте. При свете она показалась почти не обжитой. Старый диван с латаной кожей, напротив под стеной — кровать, застеленная только одеялом. Икона Богоматери в почерневшем золоте, старый стол, накрытый новенькой клеенкой.
— Ужинать ничего нет, — сказал хозяин. — Будем закрываться или нет?
Почему он об этом спрашивает? Неужели до сих пор убеждает в своей искренности к мирному земляку-политэмигранту. Лужинский только махнул рукой. Это могло означать, что ему все равно! Кому здесь нужны двое незаметных поляков?..
И сел на диван, задумавшись. Покоя не было. Если этот Рашевич работает здесь, в соседнем помещении портовой полиции, то он гениальность! Даже Лужинский, битый конспиратор, готов был поверить в безвредность этого перемолотого эмиграцией человека.
— Делайте, как всегда. Вы же здесь хозяин, — только и сказал, почувствовав страшную усталость.
Лужинский еще спал, когда хозяин комнаты проснулся и, не залеживаясь, начал одеваться. Услышав это, вскочил и Лужинский.
— А чего вы, отдыхайте. Мне на роботу. — И чуть позже, увидев, что Лужинский не ложится, добавил: — Крепко спите, завидую. Для конспиратора это опасно, но... тут нейтральная страна. Ключ, пожалуйста, занесите в портовый ресторан. Там же и... позавтракаете. Только ключ положите, пожалуйста, прямо на столе во время завтрака. И плюньте вы на свои подозрения. У нас есть джентльменское соглашение, прошу покорно. Позвольте уж мне бояться вас в этой стране.
И ушел. Что он за человек, на каких ролях живет здесь, ездя из Сетубала в Кримбры и обратно? Разобраться в этом было трудно, теперь уже совсем запутался Лужинский. Слышал, как за дверью, в сенях, хозяин одевался, возился и ушел, загремев выходными дверями.
В соседнем помещении полицейского участка начиналась жизнь. Слышны были голоса начальников и подчиненных.
Скорее бы отсюда. И как можно дальше. На дворе уже было позднее утро. Какой-то полицейский на крыльце окинул взглядом Лужинского. Поляк хозяйственно закрыл дверь и повернул ключ в замке. Полицейскому, очевидно, этого было вполне достаточно — отвернулся и пошел с крыльца.
Лужинский, следовательно, теперь мог уйти, забрав с собой и ключ. Наверное, удивится хозяин, поиски начнет. Портовый ресторан был совсем рядом. Пора — самое время завтрака. В ресторан спешили моряки, женщины. «Зайду», — решил Лужинский и, смело пройдя мимо полицейского, нырнул в стеклянные двери ресторана.
Попытался рассмотреть, найти своего «приятеля» хотя бы для того, чтобы отдать ему ключ. Тут было как в улье.
Чужие лица, равнодушные взгляды. Сел за ближайший пустой столик и почти игриво положил руку с ключом на чистую, еще не загрязненную объедками клеенку стола.
Заказал только кофе с бутербродами, зачитался меню. Услышал, как прошел он сзади, качнулась рука, поймал со стола ключ. Лужинский поднял голову, огляделся. Едва узнал дородную спину своего земляка, Рашевича. Черный пиджак типа смокинга, блестящие штаны, в правом кармане четко выделялся браунинг. Даже и хотел бы ошибиться, да трудно. Слишком колоритная эта фигура.
Так и не подошел больше, не отозвался, где-то затерявшись в ресторанной суете. Маневр с ключом ему вполне удался — значит, «привязал» земляка к себе, убедил и уверен, что, где бы тот ни ходил, ночевать вернется в его полицейскую комнату! Станислав Лужинский теперь уже наверняка был предоставлен самому себе и своей судьбе.
«Давайте заключим джентльменское соглашение!» — вспомнил уже на улице.
— Давайте! — громко согласился, ибо был почему-то уверен, что и здесь услышит его слова этот опытный шпик. Вспомнилась родная страна, над которой издевается оголтелая гитлеровская банда. А тут какая-то сытая гнида курсирует между Кримброй и Сетубалом, отслеживает поляков в эмиграции, надеется на встречи и там, на родине. К счастью, рашевичи — единицы, лишь единицы, на израненном теле польского народа!..
Большой портовый город сразу поглотил Лужинского. Выполняя свою основную задачу, Станислав не забывал и о дочери Марии Иосифовны. Спрашивать об улице Катабанья не решался. Должен разыскать мисс Гревс без посторонней помощи, потому что в каждом прохожему видел шпика. Ведь именно они такие быстрые на всяческую «помощь» чужаку.
Надо пройти по улицам от набережной вверх, — может, где-то же найдет ту Катабанью. Что это — улица или целый район? Катабанья, 3... Видимо, таки улица.
Немалый опыт подпольщика не обманул интуицию. Катабанья — это была небольшая площадь на холме, с которого живописной панорамой открывался залив океана. Дом 3, наверное, хорошо виден далеко с океана, а из дома, с фасадных окон третьего этажа, да еще, скажем, с хорошим биноклем — залив и порт были как на ладони.
В списке жильцов этой тихой пристани мисс Гревс стояла последней и дописана была позже, почти совсем свежими чернилами. Докуривая в вестибюле сигарету, Лужинский внимательно оглянулся. «Хвост» был чистый. Никаких подозрительных гуляк, прохожих поблизости не увидел через широкие окна вестибюля. На лестнице тоже не встретил никого, потому что считать шпиком девчонку с корзиной, которая ему встретилась, он не мог.
Нежный звонок едва послышался на лестнице, когда нажал красную кнопку. Почему красная, когда на всех дверях второго и первого этажей были белые?.. Открыла пожилая женщина. Молча выслушала вопрос, дома ли мисс Гревс, покачала головой. То, что женщина не пошла спрашивать разрешения принять посетителя, немного дезориентировало гостя. Кто она: служанка или мать, сестра?
— К вашим услугам, — только в передней комнате с диваном и тяжелыми портьерами, чуть раздвинутыми на окнах, сказала эта самая женщина.
Трудно было сразу заговорить. Осматривал комнату и... хозяйку, подчеркнуто просто одетую. «Резидент!» — безошибочно определил Лужинский. Женщина в затененной комнате показалась не такой старой. Старательно причесанная голова, плотно закрытое платье и слегка тронутые улыбкой, как положено хозяйке, губы совсем преобразили ее.
Садясь на предложенный жестом руки стул, Лужинский начал с рекомендации:
— Прошу извинить, я не есть ваш знакомый. Моя фамилия Крашевский, Ян Крашевский — политэмигрант.
Женщина наклонила голову, мол, буру во внимание. Обошла столик и села с другой стороны. Рассудительный гость констатировал для себя, что женщина в своей жизни достаточно принимала визитеров. Она и не пытается как-то скрыть свою роль резидента. Ведь она, мол, резидент не какого-то там второстепенного государства…
— Вас я посетил по совету… знакомых. Собственно, хочу просить хотя бы совета, как попасть мне на счастливый, избавленный этих ужасов войны заокеанский континент. Буду очень благодарен, мисс Гревс, за этот дружеский совет и помощь.
Лужинскому не впервой было говорить всякую чепуху, навязывая разговор. Иногда с первых же слов он ловил малейшие движения брови, губ, глаз собеседника и по ним знал, верят ему или нет. Эта женщина, не моргнув глазом, не меняя позы, смотрела ему прямо в глаза. Чувствовал, что не хватит его в этом поединке, но ведь и она не каменная. Где-то же настанет ее очередь сказать хотя бы одну фразу.
— Как вам известно, Европа сейчас пылает в огне войны. А что будет потом, трудно себе даже представить...
— Потом... могут быть коммунисты, что же тут думать, — изрекла достаточно тихо и удивительно нежно. Осуждает она такую перспективу или радуется ей?
— Господи! — искренне воскликнул Лужинский, выискивая самую дипломатичную середину. — Вы, видимо, шутите или, может, пугаете. Ведь польский народ...
— Нация, а не народ! — самоуверенно возразил тот же нежный голосок женщины. — И показалось Лужинскому, что в результате проверки посетителя хозяйка осталась довольна. Верит ли словам, трудно понять. Но худшего не предполагает.
— Народ, нация... Знаете, в наше время, извините, трудно уже различать эти понятия. Гитлеровские войска, к сожалению, не очень доискиваются, скажем, крайних элементов, а обижают всех подряд. Даже искренних поляков.
— К сожалению, к сожалению. Это правда. Но что же могу я, обычная женщина?
— С другого континента, — подсказал Лужинский, почувствовав силу, как боец в поединке, побеждая сопротивление врага.
Улыбнулась. Энергично встала и, достав сигареты и принадлежности для курения, подала это все на стол. Гость с благодарностью принял сигарету. Не зажигая ее, ждал.
— Что бы вы хотели? Инженер, ученый, литератор?
— Инженер, прошу покорно. В Кракове оставил незаконченный проект одной заводской... да это, собственно, не имеет значения. Мне бы надо лишь какой-то зацепки, — Лужинский тоже пристально всматривался в глаза хозяйки. — Только бы зацепки. Кстати, мистер Адам Безрух посоветовал мне...
Хозяйка вскочила со стула, подошла почти вплотную к поляку.
— Вы знаете Адама Безруха?
— Отлично знаю. Это один из моих закадычных друзей. Он остался там... Такие люди пока что нужны именно там, — чуть не вздыхая, мечтательно грустил гость. Слово «там» он произносил столь определенно, что хозяйка и не спрашивала, что же посоветовал ему Безрух.
Повернулась, заламывая одной рукой пальцы на другой.
— Давно вы видели Адама Безруха? — спросила уже совсем другим тоном. «Безрух» прозвучало для нее как пароль, и Лужинский почувствовал еще больше уверенности в себе: с этим именем он может тут говорить, расспрашивать, даже требовать.
— В день передачи одной радиограммы на ваше имя я попрощался с Адамом, а потом... как видите.
— И больше?
— Ни разу. Он же, наверное, вернулся туда... Те его друзья были при нем. Именно благодаря им я и попал в эти благословенные края.
Таки зажег сигарету и тоже поднялся со стула. Он здесь уже не случайный проситель. Имя Безруха оказалось неотразимым ходом в этой сложной игре. Но игра еще только начиналась. Чувствовал внутреннюю дрожь. Ниночка, вот-вот вынырнет на поверхность из такой ужасных бездны.
— Но это было давно, мой милый мистер Рашевский. И телеграмма, к сожалению, была последней.
— Как последней? А ребенок генерала Андрея Дорошенко? — ответил гость, оставив обходные маневры.
Собеседница не торопилась с ответом. Только и заметил по побледневшим устам, как она пыталась пересилить впечатление. Только когда гость подошел к задумавшейся в очевидном упадке резидентке, она, до сих пор как-то проверяя гостя, решилась:
— Короче говоря, эта запутанная игра Адама сошла на нет. Ребенок требовался до войны, пока велось дело о генерале, отце девушки, и живой был Жозеф Бердгавер. Война началась почти одновременно с выполнением этого предварительного плана разведки. Ребенок стал не нужным, как и сам Бердгавер...
— Так он умер? — Лужинский едва вспоминает это имя, единственный раз услышанное из уст Марии Иосифовны.
— Умер ли уже, или еще жив — это дела не меняет. Он в Дахау, а оттуда разве что его пепел ветром выдует из крематория. Итак, ребенок, как видите, не нужен. Гестапо, может, и нуждалось в нем для... допросов и своих профессиональных дел с Бердгавером в Дахау. Теперь уже идет война. Правда, у ребенка есть еще его родная мать — жена советского генерала, которым теперь могут интересоваться уже другие круги обоих континентов...
— Значит, ребенок...
— Да, нашей разведке ребенок влиятельного генерала советов пригодилось бы в далеко идущих планах. Это понятно. Но он погиб в океане. Товар, как видите, не стоит разговоров...
И встала словно отягощенная неприятными воспоминаниями. Ни слова больше не сказав, вышла в другую комнату.
Усидеть и Лужинскому стало трудно. Свободно прошелся по комнате, как будто в собственном помещении на Воевудской в Кракове. Когда хозяйка ветром вернулась в комнату, Лужинский с предосторожностью посмотрел на улицу в окно. Чего-то опасного для себя там не заметил.
— Пожалуйста, итальянской читаете или прочитать? — предложила, садясь на свое место за столом.
— О, сделайте одолжение. Кроме английского и то, как слышите, с горем пополам, знаю только родной язык.
— Бардзо проше пана, естэм полячка из эмигрантов на том заокеанском континенте... — и, обратив внимание на очевидный эффект, заторопилась. — Прошу слушать: «Капитан Ганс Горн за несколько месяцев пребывания на острове успел с лучшими успехами повторить легендарного Робинзона. Замечательный гитлеровский ас, он даже удивился, что его сбил какой-то шестой английский истребитель. Правда, шестой рисковал повторить трагическую судьбу своих предшественников. Но все-таки сбил. Капитан Горн упал в пучину бушующего океана и чудом спасся на торпедированном, полузатопленном катере своего же, немецкого производства. Тем катером, как ничтожной щепкой, позорно поиграл океан и выплюнул к берегам острова...» — Слышали? Полузатопленный катер немецкого производства. На таком же и был отправлен сюда ребенок... Ну, с того острова нейтральные рыбаки вывезли несчастного героя на континент.
— Слышу, мисс Гревс. Надо думать...
— Тщетно думать, господин Ян. Под тем флагом шел наш катер, это ясно. Катер, как видите, не дошел до нейтрального порта.
— Затонул, такой ужас! Просто не верится, что это те же джентльмены. — Лужинскому не надо было притворяться, его в самом деле остро, горячо поразило известие. Ведь с катером, наверное, вяжутся нити и его дела.
— Господин мог бы узнать больше о катере у того летчика гитлеровской морской авиации.
— Он здесь? — спохватился Лужинский, поднимаясь.
— В Испании. Военная испанский лодка забрала у рыбаков летчика уже в нейтральных водах Испании. Романтический герой, скажу вам, сенсация для нейтралов. Ежедневно в прессе такие мудреные интервью. Но я... женщина! В Испании потерпела провал и вынуждена была перебазироваться сюда. Если бы господин...
— С дорогой душой, сударыня, — залепетал гость, поддерживая взятый хозяйкой тон. И вдруг замер: — Это... почти невозможно.
— Господин тоже потерпел провал? — спросила.
Лужинский никак не мог понять, что же подразумевает заокеанская резидентка в Португалии под этим «тоже».
— Собственно-о... — замялся неловко. — Я еще не был в этой стране средневековых рыцарей и современного мира.
— Мир, извините, вы напрасно так патетически приписываете Испании. Но ничего. Что же вам мешает стать таким же польским эмигрантом в Испании, какой вы здесь?
Лужинский сначала еще больше смутился, на этот раз уже сноровисто доигрывая роль. С этой «землячкой» надо идеально играть в искренность, убеждать каждым движением, каждой интонацией в речах. А речь может подвести! И он фигурально вывернул оба кармана своих брюк, смутился при том, чем вызвал искренний смех хозяйки.
...Пришлось почти тем же маршрутом проехать в поезде, в котором его на первых же шагах выследил Бруно Рашевич. Повидаться с ним еще раз, объясниться, имея рейсовый билет на Мадрид? Могла же и женщина с детьми быть его какой-то знакомой, может и родной, которую он должен был инкогнито отправить из Сетубала в Испанию. Вполне возможно и то, что коммунист Лужинский хотел вместе с нею выскользнуть из Португалии, если бы этому не помешал тщательный служитель полиции нейтральной страны.
Неужели же погиб с тем катером и ребенок Марии Иосифовны? Вооружившись газетами, Лужинский перечитывал все, что писалось про эсэсовца-летчика. Много было написано, а как мало сказано! Так, может, и версия мисс Гревс только манящее совпадение, катеров немало плавает в океане...
Проницательным умом Лужинскому повезло докопаться, что тот летчик еще ни разу не сказал ничего больше о подбитом в океане катере под нейтральным флагом. Случайность?
Именно это и поддерживало искорку надежды. Что же это за катер и куда он делся?.. Документы, полученные усилиями мисс Гревс, помогли Лужинскому проехать границу без каких-либо неприятностей. То, что в документах было все так ясно написано, начиная от имени Яна Крашевского и кончая целью — свидание с родными в Мадриде, не вызывало никакого подозрения. Только поинтересовались, почему на то свидание он едет из Португалии, а не с какой-то другой страны?
— Кажется, это так понятно, — спокойно объяснял Лужинский. — Польскому беженцу вряд ли можно было бы осесть где-то в другой, не в нейтральной стране, когда идет такая война. Сетубал, извините, для меня такой же случайный порт, но кораблем с беженцами командовал не я.
В одно обычное серое утро Лужинский прибыл в Мадрид. Госпиталь, в котором лечился после такой океанской «купели» отважный летчик, находился в живописном пригороде Мадрида — Карабинель-Бахо. С центрального вокзала Лужинский сначала прошелся пешком. Прошло много лет так называемой мирной жизни столицы после сдачи его интернациональными бригадами генералу Франко. А как мало изменилось здесь. В нейтральной стране и сейчас было полно войск. Жизнь города регулировалась многочисленными гарнизонами в отдельных районах. На улицах обыватель терялся среди выразительного хаки, причем не только национальной испанской армии.
«О-о, здесь легче будет утолить свое любопытство и сманеврировать где-то на периферию города», — холодком прокралась уверенность.
Пересев с трамвая на автобус и снова в трамвай, Лужинский, наконец, прибыл к гражданскому госпиталю, в котором, по данным мисс Гревс, «восстанавливал свое здоровье» фашистский летчик капитан Горн. Благородные порывы немедленно узнать у аса о судьбе злополучного катера толкали Лужинского сразу с поезда зайти в больницу. Кто знает, какая судьба постигнет его в этой «нейтральной» стране. А сейчас он, что называется, «чистый», день только начался.
Но были и другие голоса, которые напоминали о предусмотрительности, об обеспечении тыла. И он покорился им, пошел искать надежную в таких случаях базу. Документы, с которыми прошел португало-испанскую границу, немедленно уничтожил и снова стал Станиславом Лужинским, польским беженцем, эмигрантом.
Карабинель-Бахо в дни испанской революции был одним из горячих пригородов. Один раз и Станиславу еще тогда пришлось побывать в нем. Он получал на складе, где-то возле громоздких вокзалов железнодорожного узла, остатки боеприпасов для своего батальона. Ни одного знакомого сейчас, ни одной зацепки.
Отелей здесь хватало, но Лужинский попытался найти частную комнату, предчувствуя, что свидание с тем гитлеровцем-асом растянется может и не на одну неделю. Основное же заключалось в мисс Гревс. Ведь она наверняка заинтересуется своим протеже «Яном Крашевским».
Капитан Горн прогуливался перед обедом в тесном саду госпиталя. Так по крайней мере надзирательница сообщила Лужинскому. Когда Станислав вышел на веранду, ведущую в сад, увидел толпу молодых людей возле высокого, немного похудевшего человека в госпитальном халате. Добротная сигара, скажем, прекрасно могла бы дополнить вид этого самовлюбленного Джованни Казакова нашего времени, когда он, не торопясь, словно милостыней наделял фразами то одного, то другого газетчика. Однако летчик курил обычную фронтовую сигарету.
Скромность, скупость или действительно ему нравится только то курево и он отдавал ему предпочтение перед сигаретами лучших испанских фирм? Лужинский заранее составил себе соответствующий образ боевого, а от этого и высокомерного гитлеровского аса, сбитого шестым английским истребителем из «Кобры», и теперь должен был кардинально скорректировать его. Летчик был лишен надменного хвастовства своим романтическим появлением в этом обществе создателей сенсационного чтива. Он бросал откровенный вызов высокомерному аристократизму нейтральной страны — прародины сказочного рыцарства и авантюризма.
И вдруг замечательная идея осенила Лужинского: подойти и себе как репортер — гениальная идея! Уважаемая мисс наверное же поинтересуется, был ли на свидании с героем ее протеже, «инженер Ян Рашевский». А кто его выделит из такой толпы газетчиков?
В руке оказался блокнот, во второй — паркер. Подошел к толпе и втиснулся в нее. Ни один из экзальтированных газетчиков не обратил внимания на появление еще одного «собкора». Все были слишком заняты, излишне мобилизованы, чтобы как-то прорваться со своим вопросом к легендарному асу.
Но Горн с какой-то странной интуицией почувствовал новичка.
— Кажется, впервые видимся, — как-то свободно и почти интимно то ли спросил, то ли просто констатировал он.
— Несомненно! Только что с поезда, — ответил Лужинский, собираясь записать следующую фразу.
— По произношению слышу соотечественника. Так это или нет, но приятно, наконец, услышать и здесь по-настоящему родное берлинское слово. Давно прибыли, откуда? — спросил заинтересованный ас.
— Только сегодня утром, но... не из Берлина, а... из Варшавы, — сориентировался и выпалил Лужинский. Ведь корреспондент варшавской прессы наверное больше значит, чем какой-то засидевшийся в тесном Берлине. Именно в Варшаву, оккупированную гитлеровской армией, фашистская пресса бросила ловких газетчиков.
Эффект чрезвычайный. Лужинский надеялся на него, но это превзошло его ожидания. Горн бросил сигарету в урну и подошел к Лужинскому, расталкивая газетчиков. Обнять почему-то не решился, но как-то по-панибратски схватил за обе руки выше локтей.
— Давно из Варшавы, как там?.. — забрасывал вопросами скучающий «герой». Даже ответов не ожидал. Наскоро как-то огрызнулся от толпы газетчиков, махнув им рукой, и обратился только к Лужинскому. — Знаете что: сегодня меня выписывают отсюда. Переезжаю в номер отеля, потому что на родину в строй пока не могу вернуться — надо хлопотать: я же интернированный. А им, — летчик оглянулся на газетчиков, которые пытались сфотографировать его, — я уже столько всего наговорил, что и сам не пойму, где кончается правда и начинаются приключения Гулливера.
Смех аса подхватили газетчики, толпясь на выходе. Засмеялся и «капитан Лужинский», как представил он себя летчику. Когда проходили через веранду, Лужинский попросился встретиться «солидно», чем вызвал искреннюю улыбку летчика. Искренее рукопожатие подтвердило эту дружескую договоренность.
«Очень хорошо!» — констатировал в мыслях Лужинский. Фразу Горна: «где кончается правда и начинаются приключения Гулливера...» — несколько раз повторил, идя уже на вечернее свидание с асом. Внутренний голос подсказывал, что и правда кончалась именно там, где ее нужно было скрыть летчику от постороннего любопытства. Не так уж прилично для солидного аса участвовать в похищении детей у матерей!
И почувствовал, что от этого подозрения вздрогнул. А что если это только фантазия отчаявшегося в успехе искателя? Какие горькие, на этот раз уже катастрофические разочарования!
Так и зашел в гостиницу, задумавшийся в разгадывании аса. Впервые на этой земле здесь внимательно проверили у него документы. Как хорошо, что не фальшивые документы мисс Гревс, а в какой-то степени свои он использовал в этом случае. Несколько раз клерк, очевидно переодетый полицейский, сам себе сказал: «Станислав Лужинский-Браге». Чувствовалось, что фамилия его вполне устраивала, но при ней «Станислав» никак не укладывалось в натренированной на фамилиях чужаков голове полицейского.
— А-а, — наконец, осенило полицейского, и он улыбнулся: — Поляк, эмигрант?
— Польский немец, пожалуйста. Но теперь только эмигрант, вы правы, — засмеялся Лужинский, принимая документы из рук полицейского.
Даже сам не совсем был уверен, что обязательно надо было добавлять так интимно это «сейчас». К счастью, полицейского вполне удовлетворила и случайная фраза. Он пропустил Лужинского в пятьдесят шестой номер, бережно записав против номера в справочнике «Польский немец Лужинский».
Летчик Ганс Горн показался ему на этот раз каким-то задумчивым красавцем. Серая в едва заметную крапинку, хорошо сшитая пара подчеркивала не только широкие плечи мужественной фигуры, но и манеры воспитанного, абсолютно гражданского человека. Только какая-то болезненная худощавость до сих пор оставалась от потери крови еще при ранении, когда был сбит в воздушном бою. И сам он, неизвестно по какой причине, смутился, даже зарумянились его бледные, похудевшие скулы, когда посмотрел в глаза гостю.
— Простите, господин Горн, мою назойливость, но должен кое-что...
— А мне все ясно: вы не корреспондент, не газетчик. Я это понял еще с вчерашней короткой встречи, — перебил Горн, достаточно гостеприимно здороваясь посреди комнаты.
Что ему ответить, как поступить? Такой встречи Лужинский не предусматривал. Не так встречала его мисс Гревс, и легче ему было лукавить с ней.
— Что надо сказать, господин Горн, мне трудно что-то скрывать от вас, потому что пришел на эту встречу я с чистыми помыслами. Конечно же, в той ситуации вчера меня захлестнула, как говорится, волна импровизаций, — оправдывался Лужинский, выискивая какие-то средние формы между правдой и требованиями предосторожности для дела.
— Майн гот! — дружно и, казалось, совершенно искренне воскликнул Горн. — Оставим это, будем считать, что мы квиты! Вы уже завтракали, выпили наше традиционное берлинское кофе?
— Благодарю. В этом случае, если быть точнее: должен был бы выпить наше краковское, прошу покорно.
Какое-то озорство вдруг подтолкнуло Лужинского на такую вызывающую откровенность. Тут бы можно было назваться и варшавянином. Но это произвело впечатление. Ведь теперь летчик не мог предполагать, что это простое свидание земляков. Его гость прибыл из Варшавы или даже из Кракова специально для этой встречи по какому-то интригующему делу.
— Но… Пусть вас не беспокоит такой пуританизм гостя. В самом деле, я имею серьезные дела… касающиеся Испании, вернее, океана, который ее омывает. Трудно было бы мне разминуться с таким сенсационным событием, как летчик в волнах того океана…
— Тогда давайте еще раз познакомимся, — произнес он. — Ганс Горн, летчик-истребитель немецких воздушных сил, был сбил в ночном бою над океаном не менее опытным в таких делах противником.
— Искренне сочувствую, — пристукнул каблуками и Станислав. — Польский политэмигрант Лужинский, заброшенный на это побережье океана… трагедией одной матери… Уважаю вашу благородную искренность, она более всего отвечает причине моего визита.
Летчик качнул головой, не гася той же заинтересованной улыбки. Садясь напротив, совсем смягчившимся тоном добавил:
— Надеюсь, что эта трагедия не помешает нам по-человечески объясниться. Курите?
— Достаточно редко, спасибо.
— Что вы польский немец — меня убеждает ваше замечательное произношение. Коммунист?
Лужинский пожал плечами, покачал головой, прикуривая сигарету от собственной зажигалки. Повредит ли это или вовсе испортит дело, теперь уже трудно было бы маневрировать и дальше. Визит приобретал слишком напряженный, достаточно официальный характер. Немец умолк, и гость почувствовал, как он лихорадочно мечется, выискивая самого себя в таком обществе. Даже встал и прошел к окну. Но опытный подпольщик Станислав Лужинский теперь был уверен, что этот «Казанова» уже не позовет полицию.
Горн только посмотрел сквозь стекло, но вряд ли что-то видел, застигнутый врасплох такой неотразимой искренностью коммуниста. Как сон, прошло многомесячное пребывание на острове, где советские пионеры — потомки коммунистов, спасли ему жизнь. Ганс Горн уже безошибочно понял, что это посещение поляка связано с судьбой тех детей.
— Слушаю вас, товарищ Лужинский, — наконец, торжественно сказал, садясь снова в свое кресло.
Даже в этой фразе, с каким-то не совсем дружественным нервозным подчеркиванием слова «товарищ», Лужинский еще раз почувствовал не нападение, а скорее оборону. Сделав вид, что этого «товарищ» даже не заметил, он достал из кармана черновик злополучной телеграммы и подал хозяину.
Летчик только пробежал глазами эту бумажку и, как ужаленный, вскочил.
— Ниночка? — вырвалось из уст.
— Да. Ниночка.
Вскочил и Лужинский, подошел к немцу. «Ниночка» в устах летчика прозвучало как пароль искренности, даже дружбы. Горн глубоко вздохнул, еще раз оглянулся на окна комнаты.
— Сядем, прошу вас... — Горн кивнул на кресло. — Знаете, коммунисты еще в юношеские годы тревожили мне душу. Зачем вы так назойливы? Да, я сын рурского горняка!.. Но... я же ас авиации гитлеровского вермахта! В этот момент я еще меньше знаю, что же преобладает в моем человеческом достоинстве... Ах, отец, отец! — неожиданно завершил каким-то трагическим пафосом печали.
11
В комнате их было только двое. Немецкий летчик Ганс Горн, интернированный в этой нейтральной стране, чувствовал себя в какой-то степени хозяином. Но гость не был смущен таким не совсем определенным в чужой стране посещением. Он безошибочно почувствовал чуть заметную растерянность летчика, будто какую-то вину перед гостем и не отказался принять расплату за нее.
Ганс Горн, наконец, последний раз победил себя и начал рассказ. Беспокойство все еще сверлило, раздражало нервы, летчик курил сигару за сигарой и, расхаживая по комнате, рассказывал. Невольно увлекся, говоря о своих способностях летчика. Последний ночной бой он изобразил с таким волнующим подъемом, что Лужинский искренне отдавал должное мужеству и исключительным способностям аса.
Оба они излишне курили, в комнате стояло облако сизого дыма. Иногда забывали о месте и времени разговора. Летчик не заботился о своей роли в событиях, о которых рассказывал с такой мечтательной искренностью. События его увлекали, перебросив из этого отеля нейтрального государства в водоворот пережитого...
— ...Итак, окруженный искренней заботой моих врагов и спасителей, я лечился. Пионеры, что называется, воскресили меня из мертвых, зная при этом — учтите это! — что лечат фашиста, своего злейшего врага в открытом бою. Ведь понятно, что они все четверо вместе физически не представляли для меня чего-то, с чем я должен был считаться, когда выздоровел... Словом, человечность, общечеловеческая чуткость в том спасении моей жизни, таки победили меня. Я стал маленьким, приспосабливался к ним, увечил — да, да! — увечил свою натуру. Ведь я, летчик фашистской армии, порой вполне искренне восхищался этими советскими юношами.
И вдруг... Вдруг этот катер! Конечно, я тоже ничего не знал, что он собой представляет, чей он. Катер как катер. Но, оказалось, он был нашего отечественного производства... Корреспондентам, в окружении которых вы встретили меня, я сказал, что был сбит в бою английским истребителем.
Прошу простить, я просто... щеголял, отбрехивался! Борясь сам с собой, не имел мужества признаться, что сбил меня бортмеханик нашего же воздушного корабля, чех по национальности. И сбил, спасая советских пионеров! Именно какая-то особая сила тех пионеров, их искренность и человечность и побудили меня к выдумкам в своих рассказах. Потому что о тех подростках рассказывать надо было не этим корреспондентам!..
И я должен был врать. Да что там говорить! Итак, о том катере. Представляете себе величественную и страшную картину бескрайнего волнующегося океана! И вот на нем, на его волнах — жалкие остатки нашего немецкого катера. Качается, утонувший почти до половины носом, словно сушит оба гребных винта и рулевую лопасть. А волны им словно щепкой играют, вот-вот захлестнут, засосут. И на катере...
...На катере, в задраенной каюте, в беспорядке наваленных одежд, одеял, закутавшись в них, замерла притаилась девочка четырех, а может, пять лет. Глазам своим не поверил Олег, открыв дверь. Увидев мальчишку, девочка страшно вскрикнула, словно перед смертью, и зарылась в кучу одеял.
— Смотри-ка, девочка!.. Что ты здесь делаешь, девчонка? Чья ты? Как тебя зовут, моя хорошая?! — говорил к ней парень, понимая при том, что в этих широтах его родной язык может показаться ребенку даже щенячьим лаем. Как жаль, что он не владеет мадагаскарским, зулусским каким-то языком!
А девочка, словно разбуженная словами мальчишки, вдруг отбросила одеяло, губы болезненно задергались в сдерживаемом горьком плаче; глазами, что вот-вот выскочат из орбит, напряженно смотрела на неизвестного мальчишку. Мокрый, в одних трусах, обыкновеннейший парень.
— Я Ниночка... Мамы нет, не-ет. Мама-а!.. — и снова заплакала, теперь уже словно жалуясь этому неизвестному, но такому близкому ей и сильному парню.
— Ниночка? — в первый момент его ошеломили такие понятные и родные слова. Но больше никакого значения пока что не предал им. — Ниночка? — еще раз тепло спросил Олег.
И приблизился, сел в неудобной позе прямо на одеяла, погладил белокурую головку со всей юношеской искренностью. А сам тоже готов был заплакать и безнадежно закричать: «Мама-а». Но ведь им, пионерам, не подобает теряться! К тому же он спаситель.
— Сейчас, Ниночка, сейчас... Потом будет и мама! Мы вот... только заберем тебя. Нас здесь аж четверо пионеров и один пленный летчик-немец живет с нами. Ого, мы такие сильные! Ваня Туляков старший. И Юрка и Роман, все ребята сильные, хорошие ребята, летчика, пленного Ганса Горна, вылечили! Вот я их позову. Меня Олегом зовут.
И тут же двинулся прочь. А девочка страшно ухватилась за холодную мокрую шею парня обеими руками.
— Не надо, Олежка, боюсь. Я не хочу здесь. Они... чужие здесь, страшные.
— Нет, Ниночка, никаких чужаков. Один он у нас, да и тот теперь уже свой, мирный. Здесь мы, советские!
Взял еще раз на руки девочку, широко ставя ноги, чтобы не упасть от качания корабля. Прижимал к себе, чувствовал, как дрожит малышка, крепко держась за шею парня. Пять ли ей, или только четыре года? Похудевшая девочка слишком легкой показалась парню. И пошел он с ней из каюты, переступая через беспорядочно разбросанные вещи. С невероятным трудом вынес девочку по наклонному трапу через отверстие люка наверх. Только тогда опомнился, понял: проплыть с девочкой к острову он не сможет. А Ниночка так крепко вцепилась в его шею, на плечо головку положила, чуть всхлипывала. Думала ли о том, кто этот парень, куда ее несет...
— Видишь, Ниночка, океан! Ты же плавать не умеешь, а здесь лодки нет. Я пойду к нашим, вместе приедем! А ты посиди здесь, смотри, как я плаваю. Только оставайся на лестнице, не вылезай. Хорошо?.. Мы сейчас и вернемся с лодкой…
Девочка вцепилась в люк и, не переставая дрожать, плакала. Но не протестовала больше. Только страшно оглядывалась на трюм, словно опасалась кого-то оттуда.
Парень уже вынырнул из первых волн и оглянулся. Едва заметил, как ветер трепал белокурые косички Ниночки над люком. Невероятно родной и дорогой стала парню эта несчастная детская жизнь.
Пионеры уже не спали, но до сих пор не выходили из уютного дома, вылеживаясь в тепле под новой кровлей. Летчик нетерпеливо лез в разговор, ему охотно отвечали наперебой. За это время привыкли к нему, да и ему каждый из них казался в такое погожее утро добрым другом.
Вдруг в дверях появился Олег. Его практически сразу все заметили и как искрой прониклись чем-то тревожным. Вскочили на нарах, на своего часового глазами уставились. «Что-то случилось», — с ужасом думал каждый.
— Олег, что с тобой, браток? — первым спросил его Ваня.
А парень ухватился за косяк, не может слова произнести. Тревожно билось сердце от быстрого бега, не хватало воздуха, исчезли слова.
— А где же оружие? Тебя... — угадывал Роман, предполагая что-то страшное. И сожаление, и сострадание, и тревога ощущались в словах друга.
— Друзья!.. Все, все отлично! Ниночка!..
— Что-о! — вместе воскликнули все. Даже пленник поднял брови.
— Какая Ниночка, Олег? Ты не болен?
— Он болен, Ваня. Слышишь, как бьется сердце в груди?
Олег едва сумел дружески улыбнуться, и его товарищи вместе взорвались энергичным «ура-а!». Даже летчик присоединил свой басовитый голос к общему восторгу.
— Тихо, чудаки робинзоны! — остановил Олег друзей. — В волнах океана... настоящий морской катер! Настоящий! Рубка, лебедка, якорь... Ночью был морской бой. Айда немедленно на катер! Там Ниночка.
Наперебой друг у друга еще спрашивали: что он сказал, не больной ли он в самом деле?
Олег, уже на бегу, рассказывал, как мог, об утренних своих приключениях, о трофее, консервах, одеялах и о Ниночке. Когда спустились к берегу, Ваня остановился, задержал Романа и Юру.
— Оставайтесь и вместе с Горном примотайте проволокой к бревну Романа еще те три, что остались у нас от наката. Без плота Ниночку нам не вывезти из океана!
— И трофеи же, говорил Олег, — рассудительно добавил Роман.
— И трофеи, точно. Катай, ребята, не медлите.
Олег и Ваня добежали до косы быстрым аллюром.
Перед вел Олег. Ему казалось, что все это вдруг превратится в сон. Или волны сорвут корабль с якоря, и ребята увидят только пустой океан и услышат его издевательский хохот.
Но катер покачиваясь стоял дыбом на том же месте. И белокурую головку девочки лохматил легкий океанский бриз. Девочка заметила, как по берегу бежало двое ребят, и одного из них, Олега, узнала.
— Олег-ег!.. — услышали оба на берегу тонкий нечеловеческий крик.
Ребята приветливо замахали девочке руками, утешали словами, которых, наверное, она и не слышала. Ваня уже у самой воды остановился. Рукой задержал и Олега:
— Отдохни перед плаванием.
— Вода теплая, Ваня.
— Но мы так бежали, надо передохнуть. И поплывёшь сам, а я вернусь к нашим. Надо скорее сделать плот.
Без единого слова, только кивнув головой, согласился Олег. Ему было приятно, что Ваня не его посылает на помощь ребятам, а сам идет, чтобы он, Олег, скорее добрался до спасенной девчонки.
Вязать плот помогал уже и Горн. Летчику, который имел большой жизненный опыт, это было гораздо легче делать, чем пионерам, в которых пыл преобладал над всем. Четыре толстых и длинных бревна, связанные проволокой, свободно держались на воде сами и почти не оседали, выдерживая на себе троих ребят и Горна. Длинными шестами оттолкнулись, и плот закачался на волнах, быстро продвигаясь к катеру.
— Катер немецкого рейха! — воскликнул Горн на подъезде к судну.
Трое пионеров почувствовали в той реплике столько печального сожаления, что невольно переглянулись. Намного лучше было бы оставить пленного на берегу. Но поздно уже перерешать, подплывали к катеру. Горн собрался первым стартовать на борт с концом проволоки.
— Да, геноссе Горн, катер был немецким, а теперь стал собственностью Советского государства! Ведь так? — сказал Ваня, сообщая своим словам вполне серьезный тон...
— Да есть, товарищ Ваня... Теперь он есть блахародний трофей совиетськи Робинзона!
— И государства, — добавил Юра.
— Да... он есть трофей Совиетськи государство, — поспешно согласился Горн, с концом в руке карабкаясь на наклонную палубу катера. Ваня подал ему руку, помог.
На палубе у люка товарищей встречал Олег. Он тоже подал руку летчику, помог удержаться в первый момент на шаткой палубе. Высматривая плот, парень часто выскакивал на палубу. Девочку пока перевел в ту же каюту, где и нашел ее. За время ожидания ребят успел побывать в нескольких полузатопленных помещениях и каютах катера. Вооружился новым биноклем и осматривал пространства океанские. Теперь торопливо информировал товарищей, что с сегодняшнего дня они станут настоящими путешественниками, — с картами, с биноклем, с компасом! На корабле он нашел немало и не намокшей бумаги, тетрадей. А в каюте Ниночки осталась целая папка каких-то документов, деловых бумаг.
— Это уже будем просить товарища Горна разобраться и доложить, — закончил свою скоропалительную информацию, улыбаясь Горну.
Обратил Олег внимание и на инструменты. Их вполне хватило бы не только на их бригаду: молотки, ключи, напильники. Даже гвозди... В одном из незатопленных помещений лежали огромные мотки стального троса, проволоки, кожаные ремни, машинные детали.
— Это же трофей, друзья! — не мог не выразить своего восхищения.
Товарищей Олег встретил, как хозяин, как морской волк-капитан, с биноклем на шее. Когда зашли в почти единственную, совсем не затопленную каюту, от Олега ни на шаг не отходила девочка, все время крутилась около него, хватаясь за ноги, чтобы не упасть на качающейся посудине. Завистливые многозначительные взгляды, которые бросали товарищи на бинокль, воспринимал без надменности. Здесь же доверительно сообщил:
— Видимо, здесь есть еще и не такие вещи. Задраены все, затоплены. Даже радиорубка... Печатная машинка, консервированное молоко. Правда, на машинке разве что только Горн сможет печатать, не на наш язык настроена!
Ребята степенно здоровались с Ниночкой, как со взрослой. Каждый пытался как-то успокоить ее, хотя девочка уже и не жаловалась. Даже страх в глазах погас, и вместо этого они загорелись детским любопытством к новым, таким своим людям. Только улыбку Горна восприняла с нескрываемым предубеждением. Детская интуиция подсказывала, что только те четверо пионеров могут заменить ей в этих пространствах океана маму, папу и родной дом. А этот дядя летчик, как рекомендовали ей Горна, к сожалению, был похож на тех, которые еще недавно так грубо обращались с нею.
Первым рейсом на плоту везли девочку, одеяла и другие нужные вещи из каюты. Олег на руках держал уже тяжеленькую для него Ниночку, а Юра стерег все то тряпье, держа его в охапке, чтобы не промокло на плоту. Роман был лоцманом, отталкиваясь длинным шестом. Только Ваня с Горном остались на корабле. Олег по-хозяйски посоветовал им куда зайти, чтобы осмотреть хотя бы трофеи. Горн только улыбался на те советы.
— Просим, пусть не безпокоисть товарищ. На етом скоростной катер мы десят миесяца морской служба стажировал в Бремен, пока переходить на гидроавиация.
— Отлично, геноссе Горн! Я хочу быть первым вашим учеником. Капитаны морфлота — моя мечта! Вперед, полный...
Приподнятое настроение пионера понял и Горн. Он подал руки Олегу и Ване в знак полного согласия со всеми.
Вторым рейсом отвезли на берег ящик сухарей и несколько десятков банок всевозможных консервов. Олег захватил и пачку бумаги и несколько тетрадей. Все это богатство отнесли только к первым кустам.
Девочку тоже посадили под кустом в тени, чтобы охраняла трофеи. Напуганная, все время между чужими людьми, она внимательно следила за суетой ребят, и особенно за Олегом. Это были уже свои!
С третьим рейсом Ваня предложил подождать. Грузить тросы и прочее не первой необходимости имущество не было смысла.
— Ведь это и не по-хозяйски. Ну перевезли, где-то, допустим, сложили под кустом. И что же, пусть лежит? К тому же я так думаю, этот катер тут, на косе, может привлечь и нежелательное нам внимание со стороны тех, кто в горькую минуту вынужден был оставить его на волю океана. Он же не пустой, как видим. Видимо, его попытаются разыскать с помощью авиации.
— Да потому же и возимся с ним, проклятым, чтобы как можно быстрее вывезти все на берег. Потом можно и вовсе затопить его.
Ваня переждал замечание Юры. Но, когда он предложил затопить катер, перехватил его.
— Такую морскую посудину затопить?
Олег тоже не выдержал. Не он ли столько трудился возле него, а теперь затопить!
— Пользоваться морским или военным трофеем — законное право победителя. Катер мы не похитили, а с какими трудностями в океане добыли! Топить не будем!
— Пойдешь с ними договариваться, законно или нет мы присвоили трофей. Гитлер воспитал... вы, геноссе Горн, а не обижайтесь. Ведь речь о тех ...
— Я всьо понимайт. Гитлер имеется, есть остров, есть закон большинства!
— Так вот и я говорю, — снова заговорил Роман, степенно рассуждая. — Если брать весь катер, то надо быть готовыми его защищать. Я думаю, что Ваня прав. А как вы смотрите, геноссе Горн? Заберем катер где-то хоть и в ту протоку у нас. Раскопаем устье... — Роман заметил, что Горн что-то пытается сказать еще, потому что его перебили тогда не дали до конца высказаться. — Давайте, геноссе Горн.
— Именно так и мыслим. Катер дольшен бить рихтунг, готов... на плавания к берегам родина... Совиетская Россия!
— Правильно, в Советскую страну! Давай, Ваня, твой проект.
Все замолчали. Дело становилось яснее: катер надо забрать. Но где его спрячешь так быстро? Возможная ли вещь, немедленно провести его в тот залив под густые деревья? Сколько это займет времени!
— Времени не хватает, а план на сегодня таков, — снова начал Ваня. — Снять корабль с мели — это забота Олега и Горна, они у нас механики, пусть думают, а мы исполним — и подвести трофей вон туда к нам, под каменный обрыв.
— Почему бы не попробовать сразу в залив? Там и деревья нависают над берегами. А тут и не подойдешь к берегу, скала выступает из-под воды, — добавил свое энергичный Юра.
— Деревья, это правда. Но протащишь ли его такого нашими силами в тот залив? А оттуда мы просто в наш домик или в тот рыбацкий шалаш это все и выгрузили бы. А позже привели бы в порядок и катер. А нет, столкнули бы его снова в океан, — выразил свое мнение Ваня.
— Или затопили бы где-то поблизости, как черноморцы свой флот в восемнадцатом году!..
Чувствовалось чрезмерное воодушевление робинзонов от такой неожиданной добычи. В упоении не задумывались глубже, подробно не обсуждали ни одно из предложений, насколько оно реально для осуществления их силами. Ведь чтобы ехать на катере через океан, по предложению Горна, нужно не только починить — залатать катер. Нужно горючее, если силовая установка, допустим, уцелела. Предложения поступали одно за другим, чувствовалось, что в рассуждениях об освоении катера совещание заходит в канительный тупик.
И одобрили первое, такое простое предложение Вани: катер дальше не разгружать, а подвести ближе к жилью и при помощи Горна максимально освоить его. Гордый высокой аттестацией своих технических возможностей, Олег не испугался задачи — снять корабль с мели! Десять месяцев службы Горна на таком катере вполне гарантировали выполнение этого ответственного задания.
— А как здесь якорь извлекается, геноссе Горн, наверное, механической силой?
— Да, битте, лебьодка есть, от сжатого воздуха работайт.
— Вот видите, — сжатый воздух. А где он? — торжествующе спросил Олег. — Никакие механизмы не действуют, затоплены. И нос корабля погружен в воду, как ты к тем лебедкам подступишься. Разве что... Подождите, товарищи: кажется, где-то там есть, правда в воде, небольшой якорец. Конечно, он тоже нам не по силе, но вместе бы как-то...
— Да есть, товарищ Олег. От ручной лебьодка.
— Вот уже дело, геноссе Горн! Я тоже видел его, когда взбирался на катер, — подтвердил Ваня. — Начали, ребята!
— Не надо такой план, — сказал Горн. — В отсек имеется полшой длина трос для дальний аварийный буксир. Мы можем его доставайт. Конец трос берьем на плот, два товарищ будет его здесь... — Горн не находил слов и крутил рукой.
Олег понял и помог:
— Разматывать.
— Да есть, розмотайт, пока другие на плота везут его конец туда, и крепим давай на берег за дерева. Потом всьо накручивай его на лебьодка издесь.
— Прекрасно!
— Товарищ Ваня! Сейчас наш интерес есть же только катер!
— Решили. Олег, давай команду, твоя посудина, — заключил Ваня.
— Горн и я остаемся на тросе, если достанем его в том затопленном тайнике. Ваня командует плотом, на котором увозят конец троса. Геноссе Горн, начали! Как даем трос?
— Берьем из отсек и... даем, канешно. — Он не совсем понимал вопросы и внимательно всматривался в Олега. Наконец, догадался: — Ах, так есть: ну, канешно же, даем через етот единственного люк. Немножко поцарапает бронза от люк, но ето ничево.
Летчик быстро подошел к совершенно незаметной с первого взгляда металлической двери, окрашенной под цвет стены. Быстро нашел отверстие для ключа и какой-то скобой начал настойчиво ковыряться, пока не открыл ту дверь. За нею было помещение специально для троса с дыркой для него через стену борта, теперь задраенную. Ребята увидели огромную кипу каната, удобно намотанного на вал лебедки. Даже зааплодировал кто-то:
— Красота!..
Ваня принял от летчика кольцо троса, который еще ни разу не был в действии на катере. Большой моток легко шевельнулся вдоль борта, трос ушел с Ваней в люк. С плота мальчишки приняли от Вани конец с кольцом, обмотали за бревно на плоту и, когда на плот вскочил Ваня, оттолкнулись от катера.
Ребята гордились своим изобретательным механиком Олегом. И все же не могли не отметить, что Горн в этой ситуации очень им пригодился. Это радовало пионеров. Летчик теперь уже полностью выздоровел. Все же он благодарен им, советским пионерам, в этом сомнений не было. А что будет дальше? Ведь намекал уже, чтобы и его ставили в очередь на ночные дежурства. Оружие, одежда теперь... Юра Бахтадзе не удержался при том разговоре:
— Искренне уважая ваши порывы работать и нести вахту наравне с нами, кацо Горн, давайте все же заранее договоримся...
— Я уже всьо понимайт, товарищ Юра. Не надо оружия. Я без оружия. И будем начинайт ето... ну... через цвай вохе — два неделя.
Разговор этот каждый помнил, он произошел не так давно.
— По-моему, — сказал Юра на плоту, — троса хватит до берега.
— Конечно, — поспешно согласился Ваня, вполне понимая, что Юра хотел сказать что-то совсем не о тросе. — За первый же пень или куст зацепим. Думаю, что хватит.
— А он, проклятый немец, с головой, многое понимает. На катере как у себя дома, — определил Роман.
— Что же ты хочешь, такой летчик! Да и возраст у него... Ему уже лет тридцать... — заметил Ваня.
— А здорово ему Юра напомнил. Корректный и не глупый немец.
— Ничего, Ромка, справимся как-то и с ним. А что оружия до черта на корабле... Не дрейф, ребята! Давай, Юра, заводи свой край, пристаем к косе. Так, так. А какая дисциплинированная маленькая девочка: молчит, ждет.
— Олега слушается. Он сухарь ей дал.
Троса едва хватило только до середины косы. Ребята суетились, чтобы как-то заякорить его в песке. Ваня послал Юру на плоту к катеру, а Роману пришлось держать трос, упершись ногами в песок. Ваня же лихорадочно решал проблему прикола.
Недалеко, почти на берегу, куда не доставали волны, возвышался засыпанный песком и галькой обломок каменной скалы. Ваня выбрал его в качестве опоры для привязи. Кол-весло обрубил и затесал лопаткой, чтобы удобнее было выгребать песок вокруг камня. Чем глубже вкапывался, тем больше убеждался, что он на верном пути. Глыба сидела прочно и достаточно глубоко в песчаном иле берега. Ваня даже был уверен, что она является одним из выступов прибрежной каменной гряды, засыпанной песком и галькой.
— Ну, давай трави, Ромка.
Трос привязали за выступ скалы глубоко в песке, заклинили тем же веслом кольцо и присыпали толстым слоем сырого песка.
— Айда, Олег, давай лебедку! — крикнул Ваня на катер.
А на катере Горн готовился наматывать трос и понимал, что он, идя в натяжку, будет наматываться не так хорошо, как разматывался. Тереть бронзовое отверстие люка, на катушке будет ложиться только одной стороной. Но выбирать было не из чего.
— Один раз будем так идти наш трос нах лебедка. Дальше... будем переделать, — советовался Горн с Олегом.
В это время прибыл и Юра, которого летчик начал опасаться. Юра не таился от пленного со своими чувствами обычной предусмотрительности, предосторожности. И это чувствовал пленный.
— Ну, как, кацо, готово, берайт?
— Яволь, иммер берайт! Только сигнал от берег ждем, — в том же тоне серьезности и игривости ответил Горн.
— Дава-а-ай! — эхом раздалось с берега. Юра подбежал к группе и встал на помощь Горну.
— Геноссе Горн, давай вдвоем!
Ухватился за кордиль возле рук пленного. Даже расчувствовался летчик от такого искреннего сочувствия юноши. Пустил Юру, чтобы удобнее было парню взяться и стоять, опираясь ногой при натяжении.
— Дава-ай! Дава-ай! — приговаривал, нажимая на кордиль. Почувствовал, как уместна была помощь Юры — трудновато еще приниматься ему за физический труд. Помощь Юры и его искреннее внимание даже сняли тот предыдущий налет антипатии.
Нелегко было крутить лебедку. Но застопоренный на мели катер шевельнулся, как больной, поворачивался задранной половиной к острову. Будто увечье свое демонстрировал этим. После нескольких оборотов лебедки начал даже выравниваться по горизонтали, но не поднимал из воды затопленный нос, только опускал и корму вниз. От этого еще глубже затапливалась капитанская рубка, вода волнами приближалась к люку.
— Стоп! — энергично скомандовал Горн. — Будем посмотреть.
Застопорил лебедку и вылез в люк на палубу. От крена катера лестницы теперь приближались к их нормальному положению. Волны захлестывали теперь даже в люк.
Когда оба парня тоже выбрались на палубу, Горн шел уже им навстречу. Мокрый, даже майка и трусы словно процеживали через себя морскую прозрачную воду.
— Готов, есть. Можем давать лебеодка впереод.
— Что же произошло?
— А ничево нет произошло, товарищ Олег. Большой якорь биль спущен етвас, немного. Ми совсем отпустиль теперь якорной связь. Только не можем прозевайт конец якорной цепь. Будем стеречь ето, а с берега просим еще один села. Просим Ваня.
— Ваня-я! Давай на аврал! — крикнул Юра.
Ваня лишь оглянулся, что-то сказал Роману и с разгона влетел в волны океана, поплыл к катеру.
Ниночка сладко заснула в тени на одеялах. Тревожные дни перед этим выбили девчушку со сна. И не слышала, когда мальчишки с тем же рвением, с «ура-а» закрепляли совсем выровнявшийся катер на близкой от берега мели, теперь уже аж двумя тросами, занеся один из них далеко вперед, куда должны перемещать вдоль берега это свое неоценимое достояние. Катер медленно качало прибрежной волной, словно пододвигая туда же вперед, куда ребята натягивали второй длинный конец троса.
— Теперь-то он уже на-аш! — стремительно воскликнул Ваня, работая у троса.
— Цс-с! Малая спит, — предупредил Олег.
Даже ходить начали по шелестящему песку и гальке так осторожно, что девчушка, проснувшись, засмеялась, наблюдая то, как в спортивной игре, передвижение пионеров...
Лужинский внимательно слушал этот увлекательный, полный удивительных ситуаций и героизма рассказ. Иногда казалось ему, что и сам он в одних трусах гоняет по косе вдоль океана, выводит тот катер. Несколько отдельных реплик, в которых попутно упоминалась девчушка, каждый раз вызывали желание переспросить, убедиться, действительно ли это и есть она, многострадальная дочь генерала и Марии Иосифовны?
— Думаю, что вы, Станислав, можете, если и не вполне понять меня, то во всяком случае представить состояние капитана немецкой военной авиации, принужденного исключительными обстоятельствами к чрезмерной лояльности, даже к истинной услужливости...
— Я целиком восхищен вашим благородством...
— Подождите... Благородства хватило только на девяносто два дня, мой уважаемый гость! Только на девяносто два дня, которые окончательно ликвидировали последствия моего ранения. Я был сильный, а в таком состоянии, как говорят, сытый голодного не разумеет! Где-то тридцать два дня без передышки, не заглядывая в будущее, я руководил мальчишками, которые с детским энтузиазмом и энергией осваивали морской катер немецкого производства. Это были дети враждебного мне государства... За это время мы едва завели трофей только в первый сектор нашего будем говорить «шлюза», планируя-таки завести и в «док»! Чтобы представить себе этот длящийся более месяца труд четырех юношей и летчика-аса немецкого вермахта в качестве главного технического организатора и функционера этого дела, не надо иметь специальных навыков к фантазированию. Пока катер был на морских волнах, его так торчком и тащили двумя тросами посменно вдоль берега, пока не привели в русло нашего ручья с пресной водой. Несколько дней, даже ночей работали, используя приливы океана. Поднятый почти на целый метр уровень воды позволял подвести наш трофей до крутого берега. Русло ручья прорезало здесь глубокое устье, берега которого в самой высокой точке достигали около четырех метров. Устье узкое, это же просто горло хищника, пробитое в скале. Правда — скала потрескавшаяся, но в отдельных местах достаточно устойчивая. И мы ломали, запруживали русло, каторжно работали, чтобы поднять наш корабль, тянули тросами на блоках...
Затем перекрывали плотиной ручей позади в катера, чтобы поднять его поднявшейся водой и протягивали на какие-то метры дальше. А протягивать надо было еще очень далеко в проливе, чтобы достичь тех густых веток деревьев. Планировалось там привязать его тросами к столетним деревьям. Лучшие стапели бременских доков не держали удобнее корабля, как держали бы наш катер эти тросы на деревьях! Собственно, тросы мы-таки прицепили...
— Представляю себе, как боготворили вас пионеры за такую замечательную школу, — отозвался Лужинский, воспользовавшись паузой в рассказе.
— Не могу пожаловаться. Кроме того, что перестали меня охранять как пленника, они уважали, ублажали. Это была, я бы сказал, замечательная, в высшем смысле дисциплинированная четверка юношей!
— Девочка, конечно, совсем была без дела, даже, пожалуй, мешала мальчишкам. Четырех, пяти лет ребенок.
Летчик умолк, задумался. Фраза Лужинского, как взмах неосторожного крыла домашней птицы, задела, встревожила. Затем слегка улыбнулся на какие-то свои мысли:
— Догадываюсь, вас особенно интересует эта девочка. Терпение! О девушке я еще скажу. Мало того, что это...
— Она дочь советского генерала, — спохватился Лужинский.
— Не намерен вас разочаровывать. Но в данном случае играло доминирующую роль в моих настроениях то, что она была внучка коммуниста Бердгавера, а им, как оказалось из бумаг, очень интересовалось берлинское гестапо. Итак, потратив дни и ночи, с невероятным напряжением провели мы катер через первый наш шлюз, спрятали от случайного глаза. Он еще был не на наших стапелях, спустить с катера воду мы еще не могли. Конечно же, скрывать не буду — это целое состояние не только для четырех юношей и той несчастной девочки. Высушив каюты, они наверняка перешли бы все в них жить. Это, скажу вам, робинзоны абсолютно на современном этапе! В каютах, безусловно же, никакие дожди, ветры, пресмыкающиеся, даже москиты, мошки их не донимали бы.
Но я забегаю наперед, прошу прощения. Первое, чем мы особенно заинтересовались — это моторы, вся силовая система катера. Даже беглый осмотр еще и не высушенного катера дал очень оптимистические надежды. Силовая система никаких повреждений не имела, а катер был совсем новый. Топливо пока было под водой, задраено. Торпедированный катер начал интенсивно тонуть носом, вода захлестнула его, потому что пробоина оказалась достаточно большой. Команда в панике, не сориентировавшись, сразу же спустила шлюпки и оставила его тонуть. Оставила и, видимо, была немедленно подобрана, думаю, одним из кораблей противника. О девочке, может, и вспомнил кто-то, но... как вспоминают о покойниках. Это нормально для пиратов, взявшихся за такое дело неприкрытого шантажа. В течение девяноста двух дней моего пребывания на острове я не почувствовал, чтобы о катере кто-то вспомнил на континенте. Может, и искали где-то там, где он затонул. Мы же на острове этого не чувствовали. Но вас интересует девочка?.. — Летчик снова умолк и задумался. Несколько минут пристально вглядывался в Лужинского, прищурив глаза.
— Что вас беспокоит, Горн? — спросил Лужинский, вставая из-за стола. — С первого мгновения нашей встречи я был искренен и откровенен с вами. Судьба тех замечательных пионеров теперь уже общая с судьбой несчастной девочки. Из вашего рассказа я делаю вывод, что та судьба теперь зависит только от вас, уважаемый господин капитан.
— Островок находится в океане, заполненном подводными лодками британской коалиции. Я сам несколько раз наблюдал, правда где-то на горизонте, целые подразделения морской авиации над океаном.
Лужинский даже растерялся: что случилось с Горном? Он сидит задумчивый, словно тревожно копается в мыслях.
— Да, авиации моих врагов. Вы знаете, Станислав, я вновь почувствовал сомнение, стоило ли признаваться перед вами. Вот уже какое-то время я держал эту тайну с собой, при своей совести, колебался. Будем считать нас честными людьми в обращении с тайнами. Как человек, я благодарен тем пионерам России и ничем их не обидел. Девяносто два дня инструктировал, честно наставлял. Каждый из них теперь может заменить первого попавшегося матроса!
Итак, как вы, наверное, и чувствуете, меня начали терзать муки патриотического раскаяния. Как-то проснувшись ночью, терзаемый той патриотической бедой, я вышел на улицу и прошел к катеру, наконец закрепленному на тросах. На острове мы были одни и уже не выставляли часовых на ночь...
Здесь, у катера, меня снова охватили муки патриота. Хотелось портить, вредить, сорвать катер с тросов... Но чувства человека, которого спасли эти пионеры, всегда преследовало меня. Я был благодарен им за жизнь, как благодарны мы своим матерям за рождение...
Я ушел от катера на берег, чтобы как-то заглушить те предательские голоса разрушения. Прилив убывал, но наш плот из шести толстых бревен, привязанный на берегу, еще качался на волнах. Провода, которыми был привязан, натянулись, как струны. И я, отцепив их, сошел на плот. Словно искра сверкнула и зажглась решительность: вон отсюда, с острова! До каких же пор тут быть? Я не опозорю пионеров, не предам человеческую благодарность… Пусть живут, пусть...
Волны отлива, как перо, понесли меня с плотом. На первых же десятках метров от берега океанские волны злобно карали меня, заплескивая за тот безрассудный поступок. А я до сих пор еще не уверен, что совершил преступление.
Ну, вот так я до утра уже не видел нашего островка. Утро и солнце дали мне направление, а весло и решимость приближали к континенту. Уже на второй день вечером я его увидел, как мечту, в туманных далях над волнами. Радость, и раскаяние, и жажда жить разом овладели мной. Но в океане сильнейшим становится последнее — жажда жить!
Когда где-то на рассвете третьего дня меня подобрали португальские рыбаки, я еще не потерял ни сознания, ни свободы. Но это была еще большая пытка! Голодный, обессиленный трехсуточной борьбой за жизнь, я соврал своим спасителям: сбит в бою, спасаюсь с какого-то острова. Я не хотел быть неблагодарным по отношению к своим человечным врагам. Я врал и, как видите, до сих пор всем вру, не сознался никому о пионерах.
Но сколько можно? До каких пор я должен мучиться совестью за подаренную мне жизнь? Неужели за девяносто два дня я не проявил той благодарности в сизифовом труде по перетаскиванию им катера? Катера моего же государства!..
Итак, как патриот, я, наконец, решил: должен заявить о катере, выполнить свой долг перед государством!..
— Вы уверены в том? Кому заявить? Властям этой... «нейтральной» страны?
— Лужинский не упомянул о моем праве сказать это своему немецкому правительству, — наконец, признался летчик.
Теперь уже задумался Лужинский. Рассказ был нервный, но и увлекательный. Все было сказано вполне откровенно, без скрытничанья. Сначала, увлеченный и встревоженный, стоял, не спуская глаз с немца. Затем оттолкнулся от стола, пошел вокруг него. А летчик, как жертва под взглядом полоза, поднялся со стула. Ситуация, что и говорить, значительно усложнилась. Но будет ли этот польский эмигрант, коммунист настолько опрометчивым, что пойдет на скандал?
— Вы вооружены? — спросил немец, болезненно улыбаясь.
— Боже сохрани! Вооружаются против врага. Мы с вами — двое случайных встречных, герр Горн. Понимая ваши патриотические порывы, предупреждаю: заявить о тех детях мы можем только вместе и то в консульстве страны, не враждебной Советскому Союзу! Надеюсь, этого повторять на надо. Имеете возможность идти немедленно со мной к?..
— Пока что некуда. Прошу дать время, я должен все обдумать, посоветоваться.
— Советоваться… только со мной. Лучшего советчика вы не имеете в вашем положении. Вас, видимо, интересует гонорар?
— Вы с ума сошли, Лужинский!.. Делаете предположения, которые только оскорбляют.
— Что же вы должны обдумать, с кем? Ведь дело ясное: детей надо отдать их родителям! — Лужинский словно подкрадывался к летчику. Ощущалось напряжение нервов у обоих.
— Вы ничего не сделаете, герр коммунист. Дело даже не в катере немецкого производства. Еще вначале своего рассказа я упомянул, что при девочке в катере найден целый ворох бумаг. А они оказались очень интересными. Те ваши «ростки коммунизма», хоть и просмотрели их, но не могли прочитать. Равнодушно отложили и забыли о них. А я все прочитал. Оказывается, девочку хоть и отослали заокеанскому резиденту на временное содержание, но на нее имели свои права и некоторые органы моей страны. Короче говоря, девочку с некоторой целью еще до войны должны были показать тому немецкому коммунисту Бердгаверу. А потом на нее, как на крючок, взять и советского генерала…
— Шантаж, насколько я понимаю. Мне это было известно еще до того, как отправиться в это сложное путешествие.
— Шантаж? Возможно. Для гестапо это было средство. Ведь она внучка немецкого коммуниста? Из-за нее, как видно из документов, тот старый коммунист и порывался бежать в Советский Союз. А птица он высокого полета! Но, наверное, не убежал, если органам пришлось прибегать к такому средству, заставить коммуниста быть сговорчивее. Война, правда, отодвинула эти хлопоты гестапо дальше.
— И вы решили приблизить то время? Это жестокость...
Но Горн уже овладел собой. Резко махнул рукой и пошел от стула. Прохаживаясь, словно сам себе говорил:
— Ничего с ребенком не случится, не расстраивайтесь. Тот Бердгавер для нее чужой и физически далекий человек. Понимаете, чужой человек, которого для ребенка сейчас не существует. А для правосудия это...
— Какое-то безумие! Так вы считаете это гестапо правосудием?
— Это органы моего государства!
— Мало же вы побыли в коллективе пионеров, мало.
— Вполне достаточно, чтобы отблагодарить их за свое спасение от смерти.
Лужинский стоял, как на раскаленной сковороде. Руки сводило в нервном порыве схватить фашиста за горло, покончить с ним и ехать самому искать этот остров. Но не терял здравого смысла. Ведь война в таком разгаре. Фашистские войска рвутся к Волге. Ситуация на свете как раз в данный момент складывается больше в пользу этого жалкого приспособленца...
«Но здесь... сам буду творить правду человеческую!..» — мелькнула уверенность.
3има сузила пространства, на которых действовала группа Марии Иосифовны. В лесах оставались следы, по которым гитлеровцы выискивали партизан и угрожали существованию отдельного отряда. Пришлось несколько раз перебазироваться.
И везде, куда ни приходила Мария Иосифовна со своим разросшимся за это время отрядом, ему было что делать. Войска Гитлера пьянели с удивительных, даже для них самих, побед, раздутых продажной пропагандой. Железнодорожные станции, особенно узловые, всегда были перегружены поездами с боевой техникой, снарядами. В городах и селах вокруг таких узлов сходили с ума карательные отряды гестапо.
Леса тоже не раз прочесывались гестаповцами. И пришлось отряду Маруси расположиться в городе. Небольшой районный городок над рекой. Гестаповцы почти ежедневно выезжали в ближайший лес выслеживать партизан. Вадим Шестопалько время от времени ночью тоже выходил с кучкой смелых бойцов в те же леса и каждый раз в совершенно другом месте ловко нападал на напыщенных эсэсовцев. В каждом нападении пытался как можно ощутимее навредить им.
Другую деятельность выбрал себе Виктор. С группой подрывников он заходил дальше от этого районного пункта и валил под откос фашистские эшелоны, спешившие с боеприпасами на восток. Возвращался в город иногда и через две недели, заставляя беспокоиться своих товарищей.
Однажды зимой Марусю посетил секретарь подпольной партийной группы города. Несколько раз Мария Иосифовна встречалась с ним еще в лесу. В разговорах был всегда лаконичным, не любил многословия, говорил фразы, которые повторять не приходилось в его конспиративной жизни.
— Есть разговор, товарищ Маруся, — заговорил едва поздоровавшись.
— Так будет и дело, товарищ Арсений. Что у вас за разговор, давайте, говорите сразу. Мои люди, кажется, «тихие, смирные», ничем не вредят городу.
— Другое дело, Маруся. В субботу трассой должны пройти автомашины с заключенными в сопровождении нескольких «Оппелей» с охраной. Все это как на ваш отряд не такая уж и сложная операция... Постойте, постойте, сейчас будет суть дела. В одном из легковых авто будут везти на очную ставку свидетеля, от которого потребуют узнать одного узника Освенцима... Кто такой этот свидетель, какому богу верит, ничего неизвестно. Был когда-то пограничным чиновником. Для нас главное, чтобы он все-таки узнал того узника в Освенциме. Да, да, узнал, но подтвердил бы то, что нам нужно.
— А кто же на самом деле этот узник?
— Немецкий коммунист. Его обвиняют в измене, в том, что он, как коммунист, давно перешел в подданство в СССР, а действовал в немецком тылу. На этом хотят, видимо, сделать какой-то пропагандистский эффект. Значит, надо снять с него измену, а это сможет сделать только этот пограничный чиновник, узнав коммуниста и категорически заверив, что он, хотя и переходил границу, но переходил ее все-таки как немецкий подданный с документами рабочего бременской судоверфи.
— Все ясно, но... почти невозможно. И если тот свидетель единственный, то не лучше ли для нашего дела — уничтожить его?
— Я еще не все сказал. Среди сопровождения едет наш человек!
— Наш человек? Коммунист? — все серьезнее воспринимая сказанное, допытывалась Маруся.
— Коммунист ли — неизвестно, но подпольщик немецких демократических сил. Знает русский язык. Ему надо передать пароль: «Бременский Сергей велел». Он должен передать его тому, несчастному, в лагере. Пароль там очень нужен нашим!.. Вот в этом и есть самая большая сложность, дорогой наш командир! Тот демократ-подпольщик обязательно должен попасть в Освенцим не расшифрованным!
— Все понятно.
Оба умолкли, словно прислушиваясь к надворным шумам. Но они были обычные для периферийного и совсем «не боевого» города. Мария Иосифовна почувствовала, как ее морозом обдало от осознания такого сложного узла, который вязала им судьба.
— Заключенные — не коммунисты, или и это неизвестно? Дезертируют с гитлеровской армии не только прогрессивные немцы. Конечно же, среди них могут быть и коммунисты.
— Ничего неизвестно. Еще знаем, что двое заключенных закованы в кандалы, но всех их везут по двое в легковых авто и еще нескольких насыпью в грузовых автомашинах в сопровождении автоматчиков-эсэсовцев. В легковых, конечно, не возят обычную мелочь. Однако в какой из автомашин тот бывший чиновник из приграничья, в каком качестве едет тыловик — неизвестно.
— Сколько легковых авто?
— Семь или восемь. И четыре грузовые с эсэсовцами и впереди вездеход с пулеметами во все стороны. По крайней мере так они проехали до последнего перед нами ночного отдыха. Это примерно сто семьдесят километров по трассе от того первого моста на шоссе, который вы собираетесь взорвать. Будут ли ехать и ночью — неизвестно. Перед выездом колонны за целый час из города никого не выпускают на дорогу. Видимо, и после выезда так...
— Все?
— Теперь уже все, товарищ командир. Около моста есть наш наблюдатель. Он должен дать сигнал, чтобы в леску перед тем вторым мостом мы... А что — мы? В какой машине едет подпольщик, а в какой эта гнида, простите, из приграничья — сам черт ногу сломит.
— Подумаем. Только никому больше ни слова о том... подпольщике! И давайте подумаем эту ночь. Не проедут же они ночью. Я пошлю людей за нашими.
— А если проедут ночью?
— Ночью их может еще там встретить группа Вадима Шестопалько. Ну, и задачку вы подогнали к нашему выезду отсюда.
Автомобили вынырнули из-за поворота друг за другом, сверкая на солнце только стеклом фар. Лобовое стекло во всех машинах было отклонено вперед, и оттуда явственно торчали дула станковых кольтов. Трудно было на такой скорости рассмотреть хотя бы одно лицо. Короткого мгновения не хватало, чтобы рассмотреть лицо даже тех гестаповцев, которые ехали в широких штампованного железа кузовах «Оппелей». Машины мчались со скоростью около восьмидесяти километров в час.
В кустах орешника стоял ловко замаскированный Виктор, заложив за пояс немецкий автомат. Поднятую руку видели связные с одной и с другой стороны трассы. Сигнальный выстрел от первого моста едва услышали в лесу. До моста было все же более четырех километров, а лес приглушил тот сухой на морозе звук выстрела. Но на него надеялись, ждали в лесу и услышали.
Правая рука Виктора резко махнула вниз, но левая все еще была поднята: «Внимание, внимание!» Насторожившись, и сам услышал гул машин. Вот они въехали на первый мост.
Внезапный взрыв на том мосту встряхнул воздух, словно бурелом прокатилось лесом эхо. А вторую руку Виктор все еще держал наверху, требовал внимания!
Мимо него прошел передний внедорожник. Скорость его еще была солидная, но уже снижена. Легковые машины сбились, почти наседали друг на друга. Вот они по одной прошли мимо Виктора в кустах. Показались уже и специальные «Оппель бенцы» с вооруженным сопровождением штурмовиков: с бронебортов в обе стороны торчали дула тяжелых штурмовых пулеметов.
Виктор только теперь махнул второй рукой и тихо нырнул в кусты. Почти в тот же миг сначала раздался выстрел где-то впереди, но его покрыл взрыв мины, на которую попал передний внедорожник, не дойдя до второго моста. Мина небольшая, и затронул ее только краешком заднего колеса. Машина, как строптивая лошадь, кинула задом, с разгона забежала в сторону, ударилась о придорожные бетонные столбцы и остановилась! Остановилась и вся колонна.
Как только вторая Викторова рука резко опустилась вниз, из леса выскочил крестьянин — Вадим Шестопалько с узелком в руках и бросился бежать в сторону моста навстречу колонне машин. Выстрел сзади него еще больше подстегнул беглеца. Крестьянин поднял свободную руку и изо всех сил закричал:
— Стойте, стойте! Мины...
Машины уже остановились, из напуганного внедорожника выскочили штурмовики, сняли двух контуженных арестантов. Тем временем одиночные выстрелы настойчиво догоняли крестьянина. Он отчаянно кричал свое: «Стойте, мины!». Наконец, после очередного выстрела, крестьянин уронил мешок, а сам потерял равновесие и упал на первом пролете деревянного моста. Беспорядочной стрельбой из автоматов откликнулись на это событие гестаповцы. К пострадавшему на мосту бросились несколько автоматчиков. Крестьянин Шестопалько качался, хватаясь окровавленной рукой за ногу, и не переставал кричать: «Стойте, мины!» — только глаза ловко следили за каждым движением фашистов, которые соскакивали с машин.
Они обступили раненого, направляя на него автоматы. На ломаном польском языке спросил один:
— Кто стрелял, в чем дело?
— Ой, спасите Душу, — еще громче завопил, будто и не слышал польского языка переводчика. — Партизаны, большевики!.. Здесь мины. Ой, они же поймали меня задержали, а сами...
Все это Вадим выкрикивал подчеркнуто на русском языке, совсем будто и не понимая польского. Ведь «тот» тыловик говорит по-русски — единственный признак для этой рискованной связи. А что если найдется и другой, кто знает русский язык, тогда что? Провал и смерть... Офицер нервно крикнул в сторону машин только одну фамилию:
— Шютц!
От легковых автомашин по-служебному трусцой четко оторвался не молодой уже эсэсовец с нашивками фельдфебеля, еще и не остановившись, козырнул. Шютц — фамилия ничего не сказала Вадиму.
Офицер только кивнул, показал на раненого крестьянина. И фельдфебель тотчас понял. Превозмогая трудности произношения, обратился к Шестопалько ломанными русскими словами. Обратился и сразу же почти слово в слово бросал ответ крестьянина на немецком языке офицеру, который подошел, держа маузер наготове. Вадим заметил точность перевода. Но является ли это гарантией для такой рискованного связи?
— Сколько их и где они? — спросил офицер.
Вадим чуть не вырвался ответить ему на немецком языке, да вовремя спохватился. Переводчик не задержал перевод вопроса, подойдя ближе к Шестопалько. А тот хватаясь разрезал ножом штанину брюк, зажимал пальцами рану. Сквозь пальцы сочилась кровь.
— Мины здесь, на мосту, — торопился объяснить, бросая острые взгляды на фельдфебеля. — Партизаны с обеих сторон моста все утро возились. Расстрелять меня обещали, но за хлопотами с этим не справились. А я услышал спасительный грохот машин, вырвался. Но гад же догнал.
Офицер крикнул на тех, кто был ближе, чтобы позвали минеров с задней машины, а остальные заняли боевую позицию, окружив всю колонну машин. Раненого крестьянина офицер велел оттянуть с проезда на обочину.
— Убрать? — бросил фельдфебель вопрос.
— На дьявола... Морочиться? Тоже, видимо, партизан, не помирились в дележе. Шнель, шнель!
— Ой братцы, не бросайте с откоса. Тут у столбцов положите. Тех здесь... несчастная горсть. Ой, спасибо, я посижу так, опершись на столбик. Что же они со мной теперь сделают.
Шютц не прислушивался, безразлично посадил раненого крестьянина к столбцу. «Свой или нет?..» — ловил Вадим даже дыхание.
Действительно, ни одного выстрела больше не было слышно из лесу. Партизаны исчезли или затаились. Штурмовики дисциплинированно с автоматами наготове выстроились жидкой цепью с обеих сторон трассы. Даже водители дополняли те боевые ряды.
Минеры, вооруженные искателями, легко нашли слегка замаскированные четыре подрывных прибора и возле каждого из них поставили водителя легкового авто. Офицер осторожно обошел эти места и вновь приблизился с пожилым переводчиком к раненому крестьянину.
— Кто ты? — перевел фельдфебель безразличный вопрос офицера.
— Вообще человек, а они считают, что кулак, что тут непонятного. Вот и документы... Братцы, родные. Может, подвезете хоть до первого села? Они меня здесь разорвут. Родные-е...
Теперь переводчик просмотрел документы крестьянина — старый паспорт, какую-то справку. В голове все еще переваривал для себя этот цинизм кулака. Не будучи сам никаким передовым элементом, не говоря уже коммунистом, Шютц имел свои взгляды на истребительную войну, называл ее звериной. А это диктовало ему, по крайней мере наедине с совестью, некоторые симпатии к коммунистам. Чуть не пострадал на передовой за неосторожное слово об ужасах кровопролития, с трудом вывернулся и перешел со знанием русского языка на переводческую службу. Кулак в его глазах сначала справедливо показался врагом коммунистов. Фельдфебель невольно поверил в те жалкие крики и почувствовал антипатию к этому «типу».
— Паспорт недействителен. Старый, — таки выбилось наверх чувство отвращения к кулаку.
— А как бы вы хотели, родные! Думаете, что они дали бы мне на этот побег новенькую путевку? Спасибо войне, вырвался с Донбасса. Еще бы чуть-чуть, и... спасение — во взятом тоне продолжал «тип».
Офицеру надоели эти слезливые причитания, перестал слушать услужливый перевод фельдфебеля. Повернулся на какую-то реплику минеров и ушел. Эсэсовец все еще просматривал документы. Как бы про себя грубо выругался, и в том Вадим почувствовал попытку сказать что-то существенное. Что не свой, это уже тревогой продиралось в мятущееся сознание. А может, все это маскировка? Надо решаться, лучшего случая не будет.
— Счастливый ты, браток! И их и наш язык знаешь. А здесь...
— Такому гаду язык не нужен. Будешь шипеть и так. Посоветую автоматчикам... — пробормотал, не сдержавшись, фельдфебель.
Это уже было другое дело! Он возмущен поведением кулака, значит...
— Погоди советовать, Сергей. За что погибаю? Все мы... люди.
— Человек, — еще откровеннее произнес эсэсовец, не поняв смысла, но насторожившись от того «Сергей». Понимал, что как на приманку ловят его тем «Сергеем». Бросил в лицо документы и ухватился за маузер на боку. Это не был конспиративный жест. Вадим почувствовал серьезность момента, закачалась под ним почва. И решился: второго случая не будет.
— Ой, люди... Я же тебя ищу! Притворяюсь, жизнью рискую... — почти шепотом старался Вадим. — Бременский Сергей велел. Песня есть такая — слышал? Конечно же, не слышал. Где вам! Так будь же человеком, фельдфебель! Пойми, что не зря поется: «Бременский Сергей велел!»
Эсэсовец резче повернулся на тот шепот. По какой-то инерции еще замахнулся кольтом, но только толкнул тяжелым сапогом в здоровую ногу.
— Что ты мелешь, сумасшедший! — посмотрел в глаза. Жест был излишне злобный, слова тоже не обещали мира. Но глаза!..
Вадиму вдруг показалось, потому что именно этого и хотелось, что фельдфебель догадался о его намерениях найти конспиративную связь. С кем, зачем? Не провокация ли, спрашивали глаза. Чуть не выскочат из орбит, озабоченные. Пот у Вадима выступил по телу от догадки о тех колебаниях фельдфебеля. Ошибка или успех? Разумеется, что фельдфебель, сомневаясь, принимает доверие партизана, готов помочь.
— Стреляй, урод! — закричал Вадим. И тут же на немецком языке прошептал скороговоркой: — Скажи тому гаду, пограничному чиновнику, чтобы он обязательно узнал коммуниста на свидании в лагере. Слышишь? Бременский Сергей велел! Чтобы он узнал и подтвердил, что видел у того коммуниста немецкий, а не советский паспорт! Пусть говорит правду, а не то, что надо фашистам. И не забудь передать: «Бременский Сергей велел». Так и скажешь: «Бременский Сергей велел» — понял? Для того же и комедию эту устроили. А то бы не доехать вам... Итак, немецкий паспорт и «Бременский Сергей велел». Теперь стреляй, только же мимо, друг! И столкнешь под откос... Ой гады! — Закричал уже на русском языке. И с радостью заметил, как блеснули другие огни в глазах за стеклами очков у эсэсовца, как заговорщицки моргнули оба глаза, а губы прошептали: «Бременский Сергей велел...»
— Людоньки, за что погибаю! — кричал Вадим, сдерживая смех радости.
Прозвучали два выстрела из пистолета, прыснули снежные брызги рядом, и сильным толчком ногой в плечо спихнул Шестопалько с высокого откоса. Действия эсэсовца окончательно убедили, что тайна попала не к врагу. В самом низу колючий куст боярышника сдержал падение Вадима. Шестопалько застыл, доигрывая эту рискованную роль. Едва видел щелками «мертвых» глаз, как минеры сняли с моста зажигалки мин и прорегулировали проезд автомашинам через мост. Автоматчики буксиром задели подбитый авто, последними пробежали через мост к своим машинам. Взревели моторы. Через мгновение, заглушив все шумы автоматными очередями с задних машин, эсэсовцы двинулись дальше. Вереница машин скрылась за поворотом автотрассы.
Виктор прибежал к Вадиму из леса, схватил за плечи, чтобы поднять с земли. Но Вадим в тот же миг упруго поднялся и сел.
— Порядок! Полный порядок!
— Значит, полный порядок, Вадя?
— Прекрасный народ, эти подпольщики, только… какие-то странные!
— Старый, молодой?
— Такого возраста, как Станислав. Он таки немец, наверное… А трудно же ему, бедняге, уродовать язык! И школы еще нет… Не перепутал ли я пароль: «Бременский Сергей велел»?
— На этот раз Бременский, Вадим, Бременский!
Ошеломленный такой встречей, фельдфебель Шютце почувствовал, как будто закачалась под ним почва насыпи, в глазах замелькали солдаты, офицер. Невольно посмотрел вниз, куда беспорядочно, как труп, падал крестьянин. «Бременский Сергей велел! Теперь стреляй, только же мимо, друг!» Какое безукоризненное произношение у советского партизана!
Фельдфебелю теперь-то уже приходилось играть — ему доверили такую тайну! Но кому она адресована, попавшая к нему только на время? Офицер приказал двигаться дальше, минеры закончили свои дела. Шютце пробежал мимо легковых авто к своему внедорожнику, в котором ехал и офицер рядом с водителем. На заднем сидении сидел и польский переводчик. «Может, он?» — возникло предположение. Но, пробегая мимо машин, Шютце заметил в одной из них и того пограничного чиновника, одетого в свою казенную форму. Невыразительное лицо отупевшего, заплесневелого человека. Попробуй договориться с таким… «Бременский Сергей велел!..»
Колонна машин неслась уже по территории Польши. Комендатура, где они ночевали, предупредила, что на польской земле партизанских набегов можно ждать даже днем. Шютц даже шевельнулся от внезапной мысли, что сейчас партизанское нападение было бы таким удобным моментом для разговора и, может, для сведения счетов с тем чиновником.
Но поговорить с чиновником так и не удалось до самого Освенцима. Хотя бы знать, не того ли самого майора-коммуниста должны допрашивать, из-за которого и его отправили в такое сложное путешествие.
Жозеф Бердгавер — вспомнил фамилию коммуниста, о котором говорил офицер с чиновником на предыдущей ночевке. Жозеф Бердгавер — типичное немецкое имя. Вряд ли нуждались бы для разговора с ним в переводчике — знатоке русского языка. Жозеф Бердгавер «Бременский Сергей велел...»
В помещении комендатуры Освенцима встретился на мгновение с пограничником в приемной перед кабинетом, куда зашел офицер прибывшей группы. Здесь было полно офицеров, штурмовиков, эсэсовцев. Чиновник, зайдя вместе с офицером в приемную коменданта, сразу же сел в кресло. Его привезли сюда только на очную ставку с Бердгавером.
— Хайль Гитлер! Поздравляю вас. Кажется, мы с вами вместе ехали эти двое последних суток, — как бы нехотя обратился фельдфебель, остановившись около чиновника в кресле.
Чиновник что-то пробормотал себе под нос, схватившись с кресла. «Напуганный, кажется, и тупой...» — констатировал мысленно Шютце. Второго случая для встречи трудно здесь ждать, в таком ужасном заведении. К тому же решается судьба человека. Видимо, немцев они не будут сжигать в тех адских печах...
— Действительно до сих пор помните того бременского коммуниста? Ведь прошло столько времени! — спросил между прочим, будто бы сочувствуя мужчине.
— Бременского? — спохватился чиновник. — Вы уверены, что он был бременский?
— Дьявол их разберет, этих коммунистов. Помню, что и наш особый отдел армии имел дело с каким-то коммунистом Бердга...
— Бердгавер! Действительно, фамилия этого Бердгавер. Это не... Варшава?..
Фельдфебель почувствовал что-то новое в человеке, чиновник тоже выискивает повод для разговора.
— Какая там Варшава? Типичный бременский. Удивительно немецкая фамилия, — поспешил ответить. — Где-то, по-видимому, с севера Германии. Рабочий судоверфи, портовик. А вам и не сказали еще? А... «Бременский Сергей велел», это точно. Смеха было: все восхищались этой единственной российской фразой...
В это время качнулась дверь, мог выйти офицер, с которым пришли сюда.
— Хайль... — откозырял Шютце, спеша в ту же дверь на явку к коменданту. Но успел заметить, как чиновник спохватился придержать его еще у себя. Уста, на удивление, по-идиотски скандировали шепотом: «Бременский Сергей велел!» Сколько хлопот доставил человеку. Наверное, это не ему адресовалось.
Из дверей действительно вышел тот офицер, который привез этого на очную ставку. Вышел не один, а с молодым, в адъютантских аксельбантах эсэсовцем. «Молодой, а какой битый этот эсэсовский щенок» — невольно подумал. «Щенок» окинула взглядом приемную, будто неожиданно встретился глазами с чиновником. И показалось тому несчастному, что у адъютанта на устах, как и у него, звучит какая-то фраза — тоже связь ищет или провоцирует? Подошли к чиновнику, остановились. Он тяжело вздохнул, словно и не заметил тех спазматических подергиваний губ у адъютанта.
— Вам придется пройти с адъютантом. Там скажут... Советую хорошо рассмотреть и вспомнить, какого государства паспорт был у коммуниста.
Шютц мог бы еще и не идти к коменданту. Но повернуться к чиновнику еще раз не решился: можно вызвать подозрение по крайней мере у него же. Решительно зашел на прием к коменданту. К тому же внезапная мысль, наконец, нашла какой-то выход. Скорее бы к коменданту!
Полковник войск СС встретил его из-за стола любознательным взглядом прищуренных глаз. «Человек очень уставший», — констатировал Шютце. Счастливый признак.
— Хайль Гитлер! — четко отрезал фельдфебель, дополнив ту четкость сильным пристукиванием каблуков. — Фельдфебель Шютце, отобранный по спецприказу из переводчиков особого отдела штаба!
— Язык? — едва выдавил из себя полковник.
— Русский! — также торжественно отрезал фельдфебель. — Три года мюнхенской спецшколы русского языка, два года работы в государственной комиссии разведки при...
— Довольно! Отдых только до утра. Работа в группе Норд-Ост! Завтра вам надлежит явиться к капитану Брюнне. Все... — полковник ударил ладонью по распухшей папке с бумагами.
— Разрешите? — спросил Шютце, пересилив сомнения.
Полковник только поднял голову, но глаза не разлепил сильнее.
— Вместе со мной привезено этого... на очную ставку с каким-то коммунистом.
— Ну?
— Он может... не узнать, засомневаться.
— Что же посоветует фельдфебель? — немного раскрылись глаза у коменданта, внимательно осмотрел фельдфебеля.
— Пусть бы свидетель посидел в укрытии во время допроса того врага. Наверное, вспомнит, давно ведь не виделись.
Полковник отвел взгляд, еще больше прищурился. Толстым красным карандашом озабоченно стучал по столу. Думал или просто играл?
— Фельдфебель давно работает переводчиком на допросах?
Шютце считал самым дипломатичным скромно пожать плечами и ничего не сказать. Это же так понятно, что он не новичок в этом деле.
— Отлично, фельдфебель. Вернуть ко мне адъютанта. Молодое, учиться ему еще и учиться!
— Есть позвать адъютанта! Хайль Гитлер!
Фельдфебель четко повернулся и, как пуля, выскочил из дверей в приемную. Адъютант уже откозырял офицеру, который вышел вместе с ним от коменданта и обратился к чиновнику.
— Момент! — тихо позвал Шютце к адъютанту. — Герр полковник приказал спрятать свидетеля и дать ему возможность послушать допрос того коммуниста. Но так, чтобы свидетель мог видеть его, рассмотреть и... вспомнить. Понятно?
— Целиком. Хайль... — откозырял адъютант, резко оборвав разговор с пограничником.
Как и следовало, в этом ужасном учреждении, допрос Жозефа Бердгавера на следующий день вели почти ночью. На этот раз допрашивали не в той камере следователя, обставленной приборами для кровавых допросов, а в соседней комнате одного из помощников коменданта — капитана Брюнне. В широкой комнате рядом с портретом Гитлера висела проволочная плеть, почерневшая от человеческой крови. Комната была обжита: стулья, даже диван, высокая спинка которого почти закрывала окошко в соседнюю комнату. Допрашиваемый помнит и ту соседнюю комнату, и окошко в ней. Несколько раз и его допрашивали палачи через это окошко. Потому что за ним в комнате были все ужасных приборы зверских методов допроса.
Сегодня окошко небрежно закрыто диваном, над спинкой которого зияет черная пропасть неосвещенной комнаты. Арестант сразу понял, что из того черного провала за ним следят такие же кровожадные палачи.
А за стеной на этот раз в глубине комнаты за арестантом следили двое. Молодой адъютант, как тщательный службист, должен был сопроводить свидетеля на эти тайные смотрины. Сделано действительно изобретательно: из темной комнате было хорошо слышно и через окошко хорошо видно арестованного, сидевшего боком, освещенного сильными лампами.
В этой комнате допрашивают в последний раз — это знал и Бердгавер. А дальше, если не «лаборатория», где делаются ужасных эксперименты с кровью арестанта, то крематорий. Бердгавера долгое время вообще допрашивали как-то по-особенному. Обвинение в измене родине было записано только в первой карточке ареста. Но ни одного факта той измены приведено не было. Старый и давнишний подпольщик, коммунист, он имел безупречные документы. Еще задолго до испанских событий его разыскивали по всей Германии как предателя, который якобы сменил гражданство на советское. Во время испанских событий стало известно, что он — солдат Интернациональной бригады. И снова исчез бесследно. Оставалось только одно — убедиться в измене, в переходе в подданство «русского коммунизма». Но именно это лишь намеком звучало на том доносе и ни одним фактом не было подтверждено. Бердгавера арестовали в действующей армии, где-то на Киевском направлении, когда он особенно проявлял охоту пойти в индивидуальную разведку. Самым удивительным было то, что в армии он служил под собственным именем. Никому и в голову не приходило, чтобы под настоящим именем мог скрываться неуловимый подпольщик-коммунист. После ареста, когда пересмотрели его вещи, нашли в них только какую-то мятую партизанскую открытку с подписью «Маруся». Нашли какую-то упаковочную бумагу в вещах. В листовке было несколько подчеркиваний. Это давало какие-то основания заподозрить в намерениях дезертировать. И только...
А как бы пригодился им этот Бердгавер с его советским подданством, с партийным стажем и таким безупречным русским произношением!
Допрашивал сам помощник коменданта капитан Брюнне. Он сидел не за столом, где были все кнопки сигнализации, а рядом. За его столом сидел новый переводчик, фельдфебель Шютце. Всматривался в болезненное, измученное лицо пожилого человека. «Бременский Сергей велел» — не выходило из головы. Что это даст несчастному, если этот допрос у него последний.
Капитан ставил вопрос нарочито громче, чем это было нужно. Старому подпольщику нетрудно было понять, что этот допрос делается «за диван». Да, он действительно старый коммунист, но немецкой, а не какой-то другой компартии. Компартия существует еще с 1918 года. Ничего удивительного в том, что и он, молодой рабочий бременской судоверфи, через два года тоже стал членом той рабочей партии... В забастовках? Конечно же, участвовал и в забастовках наравне с другими работниками. И в испанских событиях тоже принимал участие вместе с несколькими сотнями немецких коммунистов, конечно! Солидарность... Почему переходил границу? Бердгавер ни на секунду не задумывался, четко отвечая на каждый вопрос. Все тогда бежали в эмиграцию, потому что на родине было гонение на коммунистов. Франция тоже выселяла. Надо было куда-то деваться, где-то пересидеть тревожное время. Но уже через несколько месяцев он вернулся на родину, сначала в Рур, в Кельн, потом снова, в Бремен и, наконец, в глубокое подполье.
Арестованному показали несколько фото. Капитан уже который раз вытирал обильный нервный пот на лбу. А Бердгавер спокойно любовался снимками. Вот женщина с ребенком — для Шютце тоже были интересны те фото, охотно их рассматривал. Затем та же девчонка в форме воспитанницы детского дома, студентка, взрослая женщина, похожая на свою мать...
Помощник коменданта всматривался в лицо, особенно в глаза коммуниста. Хотел уловить хотя бы какое-то движение, трепет век, брови, перемену в глазах. Коммунист просматривал фото, долго останавливаясь на каждом из них. Иногда казалось, что и забывал, где он, что с ним. Но ни капитан, ни Шютце не поймали ни одного предательского дрожания в нерве глаза, из чего можно было бы сделать какие-то выводы. Только когда с последнего фото на коммуниста глянуло веселое дитя в коротенькой сорочке, он резче перевернул его, прочитал почти вслух: «Ниночка». Что-то вроде предало его. Бердгавер шелохнулся. Но только чтобы спросить:
— Это что же, та самая девушка в детстве?
— Нет, это... «Варшава, сила Сергея», или твоя внучка, предатель! — не выдержал капитан.
Бердгавер раскатисто засмеялся, положив все фото на стол.
— Спасибо за культурное развлечение, — спокойно сказал. То, что палачи до сих пор не знали нового пароля, пользовались старым, особенно его порадовало.
Чиновник пограничной службы в смежной комнате только внутренне шевельнулся, когда Брюнне так четко произнес тот старый пароль. Рукой вытер пот со лба, чувствовал, как млеют ноги, как заныло в груди от напряжения, когда слушал тот прекрасно заученный для многочисленных допросов рассказ старого коммуниста, наблюдал его спокойствие и уверенность. Все так несомненно и так просто! Бесспорно, следователи тоже понимают его спокойную уверенность. Но это же подсказало, что именно очная ставка с ним, пограничником, должна кардинально решить судьбу Жозефа Бердгавера.
До самого утра Шютце так и не мог заснуть, вернувшись после допроса. Голова трещала от тысячи проблем, так неожиданно надвинувшихся за эти несколько дней. Возвращаясь с допроса в общежитие, где должен был временно поселиться, неожиданно встретил того же адъютанта.
— Конечно же, узнали бременца?
Адъютант внезапно оглянулся на него — теперь его взгляд был живым, а не мертво служебным, как до этого. Двое эсэсовцев при нем козырнули Шютце и поспешили в другом направлении. Только отходя, адъютант повернул голову, тихо по-заговорщицки сказал:
— Конечно же, узнал Бердгавера, как Сергей велел, прошу не беспокоиться... — и исчез в сером мраке.
...Предутренняя тревога в лагере не показалась чем-то ненормальным для такого заведения. Шютце заставлял себя же заснуть. Но разве заснешь, когда голову тревожила та сакраментальная фраза, которую услышал уже из уст молодого комендантского адъютанта. Проснулись все в комнате, заговорили, чертыхались себе в кулак.
— Алярм! — проорал часовой, отклонив двери и сразу стремительно хлопнув ими. В следующее мгновение дверь бурей растворились и в комнату вскочили несколько вооруженных часовых концлагеря.
— Шютце! — крикнул старший еще с порога.
— Хайгитл... — проорал встревоженный старший.
— Алярм! К коменданту!
— Что случилось? — спросил он, надевая на ходу шинель.
Старший часовой полушепотом сообщил:
— Заключенный Жозеф Бердгавер исчез! Капитан Брюнне застрелился.
— Бердгавер исчез, как исчез? Может, сожгли в камере?..
Это была неосторожность. Часовой окинул фельдфебеля испуганным взглядом.
— Исчез, ушел! На том же авто, в котором прибыл пограничный свидетель и вместе с ним исчезли два эсэсовцы. Свидетель тоже с ними. Они свои. Адъютанта, раненого при попытке побега, прихватили в авто. Чистая работа! Фельдфебель, к коменданту!
Вдруг подскочил к Шютце красный, потный от бега, растрепанный, как будто только что с драки, эсэсовец и с разгона щелкнул наручными цепями, заковывая в них фельдфебеля. Присутствующим показалось, что фельдфебель будто ждал этого, услужливо протянул руки.
«Вот это конспираторы!» — до сих пор восхищался фельдфебель, вспоминая молодого адъютанта и невзрачного, молчаливого чиновника, что устроили побег такому узнику.
Только в камере узнал от дежурного, что этот побег готовился давно и должен был произойти на день позже. Их старый пароль расшифрован арестантом-провокатором. его несколько дней назад нашли в камере мертвым. Яд. До последнего дня доискивались соучастников. А они бежали на день раньше через прорезанную заранее колючую проволоку. Тот же водитель авто, который вез чиновника, те же эсэсовцы из его охраны...
Через несколько часов бешеной гонки по лесной чаще и бездорожью авто остановили вооруженные лесники. Они окружили машину, направив на нее автоматы. Шофер открыл дверцу, выглянул.
— В чем дело, партизаны? — спросил, не уверенный, что действительно наткнулся на тот интернациональный отряд партизан в Польше, что был ему нужен. — Бременский Сергей велел, — словно начал разговор.
— Го-го! Вылезай, браток, — на русском языке сказал партизан, по привычке протерев пальцем юношеские усики.
— Партизаны? — спохватился Бердгавер с авто. — У нас раненый.
Лука Телегин обернулся к группе своих. Несколько человек бросились к авто. Раненого молодого адъютанта осторожно вынесли из машины, положили на землю за кустом. Кто-то посветил фонарем из-под полы. Телегин продрался сквозь группу к раненому.
— Раненый, еще час потерпишь? Наш врач там... — отозвался на русском языке.
Бердгавер быстро перевел адъютанту эту фразу партизана.
— Потерплю. Только бы завязать, я рукой держу все время рану, — перевел Бердгавер фразу адъютанта.
— Завязать? Костя, ты у нас запасливый, бинт есть? Перевяжи товарищу плечо. Ну, как операция? Кстати, с этой минуты бременский пароль отменяется... Так вы и есть товарищ Бердгавер? — спросил Телегин у старика, что до сих пор был в арестантской одежде.
— Да, спасибо красно. Я и есть Жозеф Бердгавер. А вы русский?
Бердгавер подошел поздороваться и обнял молодого партизана, на плечо ему положил свою голову. Жаловался или просто успокаивал чувства, встретив по-настоящему свободного и сильного той волей человека? За минуту успокоился, снова обратился к партизану русском языке:
— Нам очень нужно перебросить товарища пограничного чиновника к французским партизанам. Ему бы только приличные документы и надежное сопровождение хотя бы до чехов.
— Может, переждал бы у нас? Фронты сейчас очень подвижные, приближаются. Можно и на неожиданность налететь.
— Фронты приближаются? А партизанка... Маруся?
— Вы, папаша, и нашу Марусю знаете? Нас двое здесь, саперы с ее отряда.
— Я — Марусин отец... — едва выговорил старый коммунист, снова опираясь на надежное плечо молодого, сильного русского партизана.
12
До того, как разыгралась та комедия в полицейском участке Мадрида, капитан Горн и Лужинский были сначала только интернированными в Испании иностранцами. Ганс Горн, немецкий военный летчик, имел какие-то объективное основание оказаться в этой нейтральной стране. Но Станислав Лужинский должен был выкручиваться, называя причины своего эмигрантского приезда в эту страну.
Летчик Горн так изложил свои признания в полиции Мадрида:
— Встретился я с ним как с корреспондентом прессы, еще находясь в госпитале. Нравился, интересный! Тогда и пригласил его к себе в отель. Но в гостинице...
— Выпили при встрече... — как-то совсем неуместно подсказал полицейский.
И Горну вдруг стало противно участвовать в этом деле. Показалась позорной его роль доносчика полиции, хотя полиция и нейтрального государства. «Кому доносишь?» — спрашивали назойливые нотки совести. Вот бился человек сюда за столько земель с благородным стремлением помочь матери разыскать ее ребенка, но наткнулся на него и провалился...
— Ну, конечно же, выпили, — почти издевательски улыбнулся Горн, что хорошее дело таки победило. — Выпили и договорились.
— Поскандалили? — подсказал дальше полицейский, только бы скорее покончить с этим всем.
— Как положено в таких случаях… («Откуда у него такое убеждение?»)
— Не припоминаете ли, каким именно политическим моментом руководствовались вы? Потому что вчера вы только намекнули об этом.
— Намекнул? — летчик молниеносно вспомнил те «намеки». Как кипятком обожгли они совесть человека. — Припоминаю единственное, что же тут непонятного: он упрекал меня в несовершенстве, телегой называл наши лучшие в мире истребители «Мессершмитты».
— Вас это оскорбило?
— Мало сказать оскорбило. Да за это…
— Все ясно, можно дальше не говорить. Вы первым ударили, а он?
«Неужели в самом деле этой тупице все так ясно?» — удивлялся летчик. Но надо же отвечать.
— Он? Да я уж и не помню… В каком состоянии он сейчас, извините? Можно с ним увидеться?
— Вполне нормальное состояние. Уверяет, что если бы вы первым не ударили его, то он побил бы на вашей голове стул. Упорный! Уверяет, что именно вы должны были защищаться и, на свое счастье, первым ударили. Собственно, после его допроса полиция не имеет права держать вас дальше под арестом.
— А его?
— Он… — полицейский вопросительно посмотрел на Горна. — Он коммунист. Вы знали об этом? К тому же хоть и коммунист европейского континента, но как-то то связан с тем государством... Удивительное государство: все коммунисты мира связывают свою судьбу именно с ним!
— Это бессмыслица, что вы... говорите? — вдруг заявил Горн, едва удержавшись, чтобы не сказать какой-то грубости. Ему стало стыдно перед коммунистом. Молниеносно представились новые ужасы, которые угрожали коммунисту за пределами этой нейтральной страны, хоть она поспешила уже заковать его в железо. Пока только в железо, а потом и... огонь, нелепая смерть в «стерилизационной общества»... Хотя сейчас Горн чувствовал только стыд, но почему же так старался сознанием переубеждать себя, что именно эти, а не другие, может, и более сильные для патриота чувства затрагивали его. Что-то принципиально большее отрицал. Словами же убеждал полицейского.
— Это бессмыслица, прошу поверить мне. Мы оба немцы, немного выпили, разумеется, сами и помиримся.
— Постойте, постойте. В том и беда, что он категорически отрицает пьянку.
— Идиот! Прошу очной ставки и... прекращения этой комедии.
Полицейский не совсем дружественно отреагировал на это смелое заявление, но так уж повелось в этой стране: к выходкам немецких подданных относиться снисходительно. Ведь это... немцы! Вот и Россию побеждают! Сталинград, Москва... Курск!..
Все эти города почему-то давно уже выпали из ежедневных информаций. Да и сами информации стали удивительно скромными: «Без изменений...» Но это же... гитлеровцы!
— Минутку. Сейчас спрошу у опера.
И вышел. Горна мучили угрызения совести, преодолевая какие-то другие чувства чести капитана вооруженных сил Германии. В голове страшным калейдоскопом мелькнула эта последняя беседа в номере отеля, скандал и арест, скучное бесконечное следствие, допросы. Как горячей краской обдало всего, когда вспомнились первые встречи с полицией и пылкие заверения поляка, что он немец. Как бесчеловечно обошелся тогда капитан Горн, резко отрицая это утверждение коммуниста. Ведь это человек почти вечного подполья! Какое имел право сын рурского горняка Ганс Горн топить этого человека?
По привычке ударил кулаком в ладонь другой руки, прошелся по грязной полицейской комнате. Остро почувствовал специфически полицейский дух этого учреждения, пропахшие дымом табака комнаты, стулья, бумаги. Открылась дверь, первым вошел Лужинский. За ним — знакомый следователь и двое часовых. Руки Лужинского были заложены за спину, на них стыдливо звякали металлические наручники.
— Здравствуйте, Станислав, — обратился летчик, ища разрядки своим подавленным чувством.
— Приветствую, — в тон ему отозвался Лужинский, остро вглядываясь в глаза. Нетрудно понять тот вопросительный взгляд. Горн выдержал его, чем заверил, что он до сих пор словом еще не обмолвился об острове и детях. По тому, как облегченно вздохнул Лужинский, даже улыбнулся, понял, что именно этого больше всего боялся коммунист.
— Я хочу выразить вам благодарность и сердечно прошу простить меня. Вы из благородных намерений даже не признались, что сначала я споил вас в ресторане, напился сам и потом в своем номере еще и оскорбил...
— Пустяки, господин Горн. Если бы вы с целью обороны не парализовали своим ударом мой размах стулом, то было бы гораздо хуже. Мелочи. Вот только меня почему-то даже заковали в наручники. Это совсем не похоже на добропорядочное отношение к политэмигрантам.
Капитан Горн энергично запротестовал. Это, в конце концов, дело его чести, дело достоинства капитана воздушных сил немецкой армии!
Этот энергичный протест сделал свое дело. Ведь протестовал ас воздушных сил армии Гитлера! Для полиции нейтральной Испании это имя не было нейтральным.
С Лужинского сняли наручники и обоих отпустили в гостиницу. Правда, взяли подписку о невыезде, пока не решатся окончательно дело Лужинского. А его следовало решать в Берлине, к которому в эти военные времена добраться становилось все труднее.
В таком благородном порыве капитана Горна не было чего-то наигранного, неискреннего. Он и наедине с собой признавал, что эта встреча и сближение его с польским коммунистом Лужинским влияла позитивно на его общечеловеческие настроения. Он чаще стал вспоминать Рур, где его отец, видимо, до сих пор работает на шахте. Как жаль, что детские и юношеские годы прожиты не вместе с ним. Возможно, конфликтом между матерью и отцом до сих пор объясняются его, Ганса Горна, идейные дороги, которые только тут стали вдруг такими понятными...
До поздней весны жили в Мадриде на учете в полиции. Никуда не появлялись, но и не выпадали из того ежедневного внимания. Наконец, обоих позвали в центральную канцелярию, где вручили документы о высылке из Испании в Берлин! Радоваться или грустить? Как-то и не смогли за неотложными заботами разобраться во всем. Для капитана это был почти идеальный выход из такого неопределенного положения. А для коммуниста Лужинского?
Единственное, за что ухватился в первый момент: высылают без полицейского сопровождения! Без полицейского сопровождения до первого пункта межрайонной гестаповской комендатуры в Перпиньяне!
— Можете положиться на меня, — чуть самовлюбленно заверил Горн Лужинского в поезде. Летчик все еще не знал о побеге коммуниста из концентрационного лагеря, о том, что легальное возвращение его в Берлин равнозначно смерти.
— Спасибо, — тихо сказал подпольщик. — У русских на такой случай есть замечательная пословица. «На бога надейся, а сам не плошай!» Мудрая пословица, да?
Летчик аккуратно сложил документы на обоих и спрятал во внутренний карман. Их только что проверили в последний раз испанские пограничники, выбросив тем самым обоих эмигрантов из своей головы. Лужинский сидел в купе напротив Горна и пробовал понять настроение летчика. Аккуратность — это не единственный типичный признак воспитанного нацистами немца. Но и этот признак важен.
Совершенно безразлично полез в карман за куревом. Когда Горн обратил внимание на те хлопоты своего спутника, Лужинский уже держал сигарету в зубах, медлительно добывая из какого-то кармана зажигалку. «Неужели закурит?» — забеспокоился Горн, оглянувшись на купе. Оно пустовало, потому что даже тот полицейский, сопровождавший их до границы, попрощался во время последней проверки документов.
— Давай выйдем, я тоже закурю, — не выдержал летчик, чтобы предотвратить неизбежное нарушение железных правил немецкой аккуратности: в купе поезда не курят.
— Ах, простите. Да, да, давайте выйдем. Я, знаете, немного возбужден. Такая неизвестность, угрожающая неизвестность.
— Не советую вам нервничать, Станислав, вы же... со мной!
— Спасибо, господин капитан. Вполне полагаюсь на вашу добропорядочность. А это действительно хорошо, что мы вышли из купе. Такой замечательный вечер. Вам хорошо известны эти благословенные края?
Капитан через плечо оглянулся на «благословенные» края за окном вагона. Поезд словно разгонялся, чтобы засветло проскочить какую-то беспорядочно заросшую перелесками полугористую местность.
— Восточные Пиренеи!.. Чтобы хорошо известны, так не похвастаюсь. Когда летишь через них, рельеф нивелируется. Да и не смотрим мы на него... На границе мы обязаны явиться в комендатуру в Перпиньяне. Поезд не остановится до той станции, можно еще и вздремнуть бы.
— По опыту знаете или сообщил тот, на границе? — переспросил Лужинский, тоже почти равнодушно осматривая заросшие лесами холмы.
— Сообщил. Я слово дал.
Летчик выбросил в окно совсем потухшую сигарету. Говорить не хотелось, да и не о чем. Действительно, тот Перпиньян с его комендатурой становился такой загадкой, а на совести летчика был коммунист, подпольный борец против фашизма. Говорить сейчас о чем-то было очень трудно.
— Капитан Горн, вы прыгаете первым! — вдруг почти скомандовал Лужинский, резко открыв входные двери вагона. Шум и вихревой ветер словно поглотили эту фразу, произнесенную сквозь зубы.
— Герр... — что-то хотел возразить капитан.
В тот же миг рука Лужинского метнулась к глубокому карману брюк, и Горн безошибочно определил в ней типичный офицерский кольт.
— Н-ну! — поторопил коммунист. — Прыгайте вперед и не падайте! Я за вами.
Ни что-то решить, ни возразить летчик уже не успел. Где-то в вагоне шаркнуло окно, опустившись или поднявшись. Но это с другой стороны. Сильный толчок, и Горн полетел, направляя вытянутые ноги просто в откос насыпи. Почти одновременно с ним прыгнул и Лужинский. Летчик едва успел заметить, как мелькнул в его руке черный, блестящий пистолет. Поезд, словно глотая время, надсадно прогремел над самими их головами.
— Надо полагать, что моя жизнь в опасности, господин коммунист? — наконец спросил Горн, послушно шагая впереди Лужинского. Ни оглядываться, ни останавливаться ему Лужинский не советовал, как не советовал и пробовать бежать.
— Гарантирую полную безопасность только при условии: не оказывать никакого сопротивления и молчать.
Так и углубились в горные чащи. Лунная ночь превратила лесные холмы в чудовища, которые затаенно ждали в серебристом свете месяца. Вот-вот бросятся на этих двух смельчаков и проглотят их. Ни дорог, ни звериных троп в эту ночную пору не увидишь. Изменялись только скалы, утесы, лесные овраги. Два человека молча спешили, не выбирая направления. Собственно, Горн, который шел впереди, как-то выбирал направление, а Лужинский неотступно шел за ним.
За это довольно долгое и сложное время их сближения и невольного или вольного сожительства была возможность хорошо изучить, узнать друг друга. Что сделает с ним этот онемеченный поляк или полонизированный немец? Горн не мог сказать с уверенностью. Но в обещание за малейшее неповиновение расстрелять его — верил.
— Стойте, Горн. Садитесь... Отлично!
За несколько часов такой напряженной, нервной ходьбы летчик почувствовал страшную усталость. Даже не взглянул под ноги, внезапно сел на какую-то хрящеватую глыбу, что спадала укосом с холма. Глубоко вздохнул, но ни словом не выразил какой-то мысли, которая, несомненно, сопровождала этот вздох. Минуту молчали. Капитан, словно зачарованный, смотрел только перед собой в тусклый мрак внизу. Окружающий мир был исключен из его внимания. Свежая, но теплая ночь, безлюдье вокруг...
— Предлагаю объясниться, — услышал сзади себя. — Вы можете обернуться и... Вообще давайте найдем общий язык, Горн.
Обернуться или продемонстрировать свое чувство оскорбленного в лучших намерениях? Демонстрация под направленным на твою голову кольтом!
— Обернуться мне позволяют или... — капитан искал слова, но клубки возмущения так завихрились, что именно то, самое убедительное для этого случая слово, исчезло. — Вы... вы хам!
Наконец вырвалось, взорвалось возмущение. Это не то, далеко не то слово, которым бы хотелось назвать поляка за такое ужасное поведение с приятелем. И таки обернулся. Резко, чтобы не перехватил случайно кто-то его взгляд, обернулся. И уже готов был взорваться вторым словом возмущения, да так и застыл. Перед ним сидел очень расстроенный, уставший человек. Обеими руками, опертыми в локтях на колени, поддерживал взъерошенную голову. Ни оружия, ни какого-то воинственного остережения! Видел ли он своего «арестанта» глубоко задумчивыми глазами, Горн не был уверен. А ночь, словно прислушивалась к тяжелой задумчивости поляка, молчала тем тяжелым молчанием, которое на фронтах могли разбудить только безумные огненные шквалы артиллерии.
В первый момент Горн вскочил на ноги, хотя и был утомлен этим переходом в несколько часов по бездорожью с холма на холм. Даже сделал шаг к поляку. Обе руки пустые, глубокая задумчивость и полная беспечность.
— Где же ваше оружие, черт возьми? — вырвалось возмущение, стихая.
— А, оружие? Пожалуйста, — ответил, словно возвращаясь в действительность. Рукой полез в глубокий потайной карман. Чтобы извлечь оружие, пришлось для удобства вытянуть ногу.
Наконец, вороний глянец металла едва мигнул на изломе скупых ночных лучей луны где-то за деревьями.
— Пожалуйста, — подал кольт летчику.
— Заряженный?
— Конечно. Но... пуля не дослана. На предохранителе... — отдал и снова подпер голову обеими руками.
Горн почувствовал себя, как в невыносимом чаду. Что это? Демонстрация или действительно человек в том напряжении истратил себя, обессилел до предела. Привычным движением военного извлек обойму из пистолета и, повинуясь каким-то непонятным законам товарищеской солидарности, отдал ту обойму поляку. Лужинский машинально взял ее и опустил в бездну кармана.
Так что же произошло? Еще больше нервничал Горн. Подошел и тихо сел рядом с Лужинским. Мгновение помолчал, подумал, играя пистолетом.
— Давайте найдем общий язык. Эта мистификация ничего мне не объясняет. Для чего вы это сделали, черт побери?
— Что именно: высадку из вагона или эти... вооруженные манипуляции?
— Все это, а особенно — манипуляции.
Капитан только теперь глубоко вздохнул, бешенство, наконец, прошло. И тоже подпер голову рукой, пытаясь понять все, что случилось за эти несколько часов.
— Очень просто, дорогой капитан. Вы должны знать, что я коммунист, который бежал из гитлеровского концлагеря. Если бы я действительно не дорожил своей жизнью, которая принадлежит больше партии, чем мне, поверьте, — и пальцем бы не пошевелил, чтобы бежать с поезда. А между тем, судьба тех детей теперь на моей совести. Вы же так легко решили сообщить о них властям! Не просто властям, прошу прощения, а властям враждебным для этих детей. Ну, разве я мог поступить иначе?
— Вы сходите с ума, господин коммунист. Типичный шок безумия...
— Нет, капитан, не то, — перебил Лужинский.
— На какого же черта вы сделали этот сумасшедший трюк, почему не договорились еще в вагоне? В вагоне у нас какие-то вещи, еда. Можно же было договориться и...
— Подождите. Так вы считаете безумием именно этот акт побега или попытки спасти детей? Э-э, нет: прошу трезво ценить тот акт и понять, что второго выхода у меня не было. В Перпиньяне действует фашистская комендатура, и именно — гитлеровская. Для вас — это нормально, вы не коммунист и их же ас. А для меня, беглеца из гестапо...
— Вы со мной... В чем дело, почему вы хохочете, Станислав? Да, да, вы со мной! И будьте уверены, я не дойду до такого безумия, чтобы водить вас под нацеленным пистолетом.
— Это сделали бы без вас. Даже словом не спросили. Какой же вы наивный в этих вопросах! Но одному я рад: вы правильно поняли мою решимость, или, по-вашему, грубость. Это была крайняя мера... — Лужинский неожиданно занервничал. — Все же я восхищен вашей выдержкой, господин Горн! Простите мне ту крайнюю меру.
Немец убрал несколько камней, удобно устроился и лег. Из-за леса, наконец, вышел словно надкушенный диск луны. Холодный, мертвый свет еще больше деформировал окружающий мир, блеснул на металле кольта, отданного Горном Лужинскому.
— Ну, хорошо. Все это, в конце концов, уже в прошлом. Но я предпочел бы иметь какую-то гарантию, что не повторится больше ничего подобного, — заговорил с удивительным спокойствием.
Лужинский обернулся, подняв голову с рук.
— Подобного не будет, обещаю. Но давайте действительно договоримся, как честные люди! Обещайте мне, что в своих дальнейших действиях не будете вредить мне в одном: в возвращении тех детей на родину.
— Ха-ха-ха! Да вы действительно сошли с ума, господин коммунист! На дьявола мне те ваши дети! Ну, забирайте их, целуйтесь, воспитывайте из них таких, как сами, коммунистов. К чему же здесь эти мои мытарства, эта... романтика! Романтика с кольтом на затылке. Черт знает что... — немного помолчал, посмотрел на поляка. — Что я должен сделать, чтобы уверить вас в этом, герр Лужинский?
— Я верю вам. Пообещайте только, что в ущерб тем советским детям ничего не сделаете. Если же ваше сердце позволит вам еще и помочь мне снять несчастных с того якоря, вы оставите в моей душе неизгладимую память.
— И все?
— Только и всего.
— Бог мой! Надо было такую комедию ломать... Почему мы не поговорили так раньше?
Теперь немец снова поднялся и сел рядом. Рукой почти грубо оторвал подпертую руку Лужинского и, зажав ее, крепко и торжественно сотрясая, поднял вверх, как для присяги.
— Клянусь! Ни богом, ни дьяволом, а совестью человеческой, отцом своим — рурским шахтером...
— Достаточно, верю! Этого вполне хватит! С этого времени я полюбил вашего отца и большой честью буду считать встречу с ним!
— Ох, и чудной же вы, товарищ коммунист. Но сила! Этого не отнять. Почему же сразу было не рассказать всего? Теперь даю слово, сам буду прилагать усилия, чтобы сообщить Москве о тех детях...
— Отлично, Ганс! И мы пойдем каждый своей дорогой к человеческому счастью. Какое будет, зато — свое счастье!
Через несколько минут они оба лежали на том же холме голова к голове, а ноги в противоположные стороны и крепко спали. Ночь укачала их, как мать, приласкав своим безграничным спокойствием.
А стежки у обоих теперь стали одинаковы. Обойдя Перпиньян, они углубились на территорию Франции. Повсюду встречались какие-то возбужденные вооруженные солдаты. Их приходилось остерегаться, но впоследствии оказалось, что это были партизаны, которые боролись не только против оккупантов, но и против капитулянтского правительства Виши.
Это радовало Лужинского. Не до них было сейчас разгромленной внутренним фашизмом, растерзанной гитлеровцами, обессиленной Франции. Проходя замершими виноградными плантациями Лангедока, Лужинский и Горн по крайней мере не опасались нападения фашистских патрулей.
Их здесь не было. Французское население на каждом шагу возбуждено обсуждало трагедии своего государства, так неожиданно и позорно положенного под кнут фашистской диктатуры, оккупационной и своей. Кое-как подкрепившись где-то в незаметном углу, Лужинский и Горн задними дворами и заброшенными виноградниками, придорожными перелесками продвигались к Роне, в Авиньон. Надежды на тот Авиньон очень призрачны. Будучи в Англии на стажировке, Горн подружился там с авиаинженером-французом, таким же, как и сам, военным стажером. Вместе с ним и покинули Англию по окончании срока стажировки. Очень жаль, что не подружились крепче. Даже переписываться как друзья не смогли, расставшись. А как бы это пригодилось!
Какая-то новостройка в Авиньоне очень пригодилась им. Здесь и остановились, потому что Горн надеялся отыскать того француза-авиаинженера.
— Как же его фамилия, постой, — копался Горн в памяти. — Имя Ален, это хорошо помню. Да разве сыщешь его в городе среди тысяч Аленов? Крюшо... Кроне... Ален Крюшо. Черт его знает, может, и Крюшо.
— А стоит ли его искать? Война! Если и уцелел до сих пор, то разве будет сидеть в Авиньоне? Пойдем дальше, поищем лучше моих друзей, — убеждал Лужинский уже в городе.
— Это правда, твои друзья, Станислав, в эту сложную пору нам бы больше подошли. Но куда идти? Я и так уже до черта устал. Надо что-то придумать, чтобы не только идти на собственных, но и... подъезжать. Все же я предлагаю программу-максимум.
— Какую именно? Швейцария? Это не меньше, чем месяц пути, около тысячи километров наберется. Но не они определяют успешность такого марша. Придется проходить через центральные районы Франции. Нет, Ганс, давай лучше прибиваться к моим знакомым. Это каких-то двести километров, дороги периферийные, люди абсолютно надежные. Кроме того, у меня есть дела к ним.
— Коммунисты? — почти равнодушно поинтересовался летчик.
— Наверное.
— Ладно. Пойдем затем к коммунистам. На опыте убеждаюсь, что с этим народом легче преодолевать житейские трудности... Но позволь и мне попробовать свои общечеловеческие каналы? Устроились мы замечательно: к этой новостройке французы вернутся не раньше, чем через пять лет, ручаюсь. Еды тоже имеем на добрые сутки. Позволяешь?
— Ладно. Только условие: тише воды, ниже травы!
Горн искренне засмеялся, пожимая на прощание руку. Посоветовал спокойно отдыхать и не разыскивать его.
В первые часы одиночества Лужинский действительно задремал. Затем попытался начертить на цементном полу подвального перекрытия карту дальнейшего путешествия. Очень хорошо, что им удалось незаметно перейти уцелевшим до сих пор мостом через полноводную Рону. На их счастье, через мост в Тараскон проходили французские полицейские части. Вместе с ними прошли и Горн с Лужинским.
Лужинский встал, теперь на досуге еще раз перебрал в памяти то слишком счастливое форсирование реки. Могло быть гораздо сложнее. Чем дальше в глубь страны, тем больше становилось гитлеровских оккупационных войск. В Авиньоне их было полно. Может, разумнее и надежнее было бы обойти этот город... Где тот Крюшо теперь, когда вся Франция распята на штыках гитлеровских солдат.
Так и просидел почти целый день. К вечеру забеспокоился. Ведь прошло добрых шесть часов, а Горн не возвращался. Лужинский осторожно обошел строительные провалы, вышел на улицу. Летчик пошел направо, вероятно, и возвращения его следует ждать именно оттуда.
Решил пройтись в обе стороны улицы. Неужели могло случиться что-то плохое с Горном в городе, где жизнь регулируется сейчас его же соотечественниками? Выбирал то один, то другой тротуар, зашел и в небольшой городской сад, побродил по загрязненным, заброшенным аллеям, не сводя глаз с улицы.
Когда заметил, что начинает темнеть, опять вышел на тротуары. Как будто чувствовал, что именно сейчас и будет возвращаться летчик после посещения старого друга.
Он таки возвращался... Но не сам и не по доброй воле. Двое солдат крепко держали Горна, вывернув руки, как полиция водит преступников. Полоса крови перечеркивала его щеку. Кровь текла не изо рта, а из разбитого носа.
«Ну, увиделся Ганс» — тревожно подумал Лужинский, буквально окаменев от такой встречи. Откуда и куда его ведут? Собственно, куда — дело было ясное. Это и подсказало решение Лужинскому.
С трудом оттолкнулся руками от забора, мазнул грязной пятерней себя по лицу и пьяно пошатнулся навстречу конвою с Горном.
— Да-а! Таки попа-ался, голубчик...
В первый момент Горн будто обалдел от такой встречи: неужели его приятель действительно пьян?..
А приятель встал на раскоряченные ноги, голова клонится.
— Куда вы его? Отдайте мне, я его, голубчика, очищу!
— Проходи, проходи, друг, не мешай.
И в тот момент, когда конвоир коснулся поляка автоматом, чтобы отодвинуть его с тротуара, Лужинский молниеносным ударом кулака сбил солдата с ног. Автомат эсэсовца оказался в руках «пьяного». Событие произошло так внезапно, что даже Горн в первое мгновение растерялся.
И заметив, что второй конвоир мгновенно ухватился за автомат, Горн классическим ударом ноги подкосил его, и очередь выстрелов из автомата прописала небо. Лужинский молниеносно повернул свой автомат и в упор дал очередь по эсэсовцу.
— За мной! — скомандовал, хватая Горна рукой и ныряя в первые ворота, гостеприимно распахнутые перед ними каким-то французом.
— Через двор и переулком за город! Там ваши... — прошептал француз, мгновенно закрывая за ними ворота. Он не сомневался, что эти двое — переодетые французы — участники Сопротивления.
Шум, стрельба остались где-то позади. Горн бежал впереди, все время оглядываясь на Лужинского. Где-то в закутках дворов крепко пожал ему руку.
— Давай мне автомат, беги! — прошептал.
Лужинский ткнул ему в руки оружие. Но не побежал панически вперед. Схватил и повернул Горна, даже подтолкнул:
— Валяй, валяй, летчик! На высоких скоростях давай лети за город!
Наступала темнота. Это помогало укрываться, но и затрудняло побег. «Через двор и переулком за город! Там ваши...» — не забывали доброжелательный совет француза. Кто эти «ваши»? Неужели отряды Сопротивления?
В переулке бежать было свободнее. Несколько раз замечали, как случайный встречный дисциплинированно проскакивал во двор, чтобы не мешать беглецам. Позже поредели здания, слева чернел лес. «Есть смысл бежать именно в лес?» — молниеносно решал Лужинский, чувствуя, как подкашиваются ноги. Даже стрельбу в городе слышали уже как во сне.
— Ну как, Ганс? — спросил он, оглянувшись.
— Железо! Только ноги, ой ноги! И надо бы промыть рот. Давай к первому ручейку.
И уже не бежали, а, прислушиваясь, шли дальше. Не забивались далеко от дороги, чтобы не заблудиться в ночном лесу без дорожек. Тяжелое дыхание вырывалось из груди, Горн иногда отплевывается. Шум города заметно удалялся, а вместе с ним удалялась и угрожающая опасность. Повернули к ручейку...
— Сам дьявол их поймет, этих французов, — рассказывал Горн, проснувшись в лесу. — Дважды я проходил по той же улице, где жил когда-то мой приятель. А в третий раз пристал ко мне какой-то глупый патруль. Скучно, наверное, им слоняться без дела по тем улицам, дуреет голова. Сначала вроде поверили в искренность моих дружеских побуждений, вместе искали моего Алена. А потом как взбесились: подозрительной им показалась дружба немца и француза. «Зачем тебе, немцу, сдался этот Ален? Ведь он француз...» Действительно, вопрос стопроцентно немецкий: для чего немцу связываться с каким-то французом?.. Ну, вот так и поговорили. Не очень мирно, но вразумительно. Пока до драки не дошло. Драться они по-человечески не умеют, северные пруссаки — живодеры! Выбили мне зуб, но не благодарить же их за такую честь! Превозмогая силы скрутил одному голову, нас же когда-то в Англии обучали джиу-джитсу. Тогда и набросились. «Большевик, коммунист», — визжат. А я и не отрицаю. Повели меня в комендатуру. А я потребовал зайти переодеться, оружие, говорю, заберу. Хотел покуролесить еще с ними, черт бы их побрал, да и тебе дать знать о моей вынужденной посадке.
— Вот как увиделся с французским другом... А ты ничего себе товарищ, сообразительный. Только «пьяного» меня не узнал.
— Ну, брат, такой пьяный! Я чуть сам не сошел с ума от той картины.
Какое-то время полежали молча. Солнце уже нагревало уголки в лесу. Где-то гремели эха отдельных выстрелов, раздирая лесные чащи.
Затем перебрели через ручей. Справа на автостраде уже громыхали авто. Несколько раз Лужинский и Горн собирались выйти на автостраду, даже пробирались на нее. По трассе шли в основном военные авто. Оба тоскливо провожали их взглядами, переглядывались и вновь углублялись в лесные чащи.
Только где-то на двенадцатый день голода и лишений вдоль дорог Лужинский, наконец, узнал ту из них, что пересекала лесные чащи дальше в сторону от Лигурийского моря, выводя снова в лесные чащи. Внимательно огляделся, присматриваясь к той дороге.
— Сейчас мы с тобой попробуем связаться с хорошими людьми, — дорожная просека действительно все больше казалась знакомой. Когда же прошли и овраг, всякие сомнения развеялись: — План будет такой: ляжешь он в том березняке, подальше от посторонних глаз, и будешь ждать...
— День, два ждать? А еды подбросишь? — пошутил Горн.
Когда зашел той же тропой в знакомый двор, почему-то не облегчение, а какой-то страх почувствовал. Пусто, не видно инвалида во дворе, гостеприимная женщина не выскочила из дома. Стал посреди двора, оглянулся.
— А-а, приятель! Опять посуду будете сдавать в Португалии? — услышал позади себя и резко обернулся.
Ничего не изменилось. Все как было раньше. Мужчина на той же деревяшке подошел и искренне поздоровался, забирая гостя с середины двора куда-то в тень.
— Ну, как ваши дела? Нашли ребенка?
Приятно обогрел душу этот благожелательный интерес к судьбе ребенка. Вспомнились еще те искренние заботы о его счастливом путешествии в Португалию. Должником себя почувствовал перед этими людьми.
Лужинский коротко рассказал обо всем. Войне не видно конца.
— Ничего! Советские генералы он Крым отобрали, на Балканы уже вышли! Такое творится, брат ... А гитлеровцы бесятся. Наши воины домой бегут.
И нетрудно было понять Лужинскому радость в этих словах инвалида. Такой же уверенный, жизнерадостный, глазами улыбается, а уста — как глыбы камней ворочают.
— Как же с протезом, так и не сделали вам еще? — поинтересовался гость.
Хозяин махнул рукой и приглушенно сообщил:
— Разве им теперь до них. Помните капитана пароходной компании, Карла Даниэля Пока? Расстреляли эсэсовцы...
Это действительно удивило и напугало Лужинского. Капитан Пока, исправный информатор полиции, злейший враг коммунистов, которым столько добра желала его сестра-врач.
— Какое-то недоразумение?
— Отказался вывезти на пароходе осужденных за дезертирство итальянских солдат. Их должны были по одному топить в океане. Офицеры и эсэсовцы пьяные, все как с ума посходили возле этих осужденных. А капитан сказал: не повезу людей на такое наказание ни за что! Повернулся и ушел с корабельного причала. Его настигла пуля. Сестру его, врача, знаете? Не смогла спасти, хотя и застала еще живого.
— Несчастная сестра! Как она?
— Сидит до сих пор. Будто ждет суда. Здесь такого произошло за это время. Так, говорите, девочка еще на острове?
— Да. И забрать ее оттуда в войну очень трудно. Дети сидят на острове, сами без всякой надежды.
Разговор завязался серьезный, внимание хозяина поощряло. Рассказывать о летчике Лужинский сначала не хотел — ведь он гитлеровский ас, каких здесь не столько боятся, сколько ненавидят. Но потом все же сказал, что Горн прибыл с острова в поисках средств для спасения детей.
Наступала тревожная ночь. В доме инвалида собралось более десятка французских патриотов, участников Сопротивления. Хозяин предупредил, что на собрании будут присутствовать гости — поляк и немец — друзья борцов «Свободная Франция».
— За этих людей ручаюсь совестью и жизнью, — заявил напоследок.
Гостей усадили за столом, чтобы всем было их видно. Некоторые улыбались к Лужинскому, узнав его еще с той первой встречи. Горн себе оглядывался, склонившись к поляку.
— Вы коммунисты? — спросил кто-то из группы.
— Да... Собственно, я коммунист, участник испанских событий, друг Каспара Луджино из Ниццы. А это мой друг, сын рурского шахтера, бывший летчик. Потерпел поражение и теперь... надежный боевой товарищ. На острове его те советские дети спасли и вылечили.
Все это своей простотой и таким неоспоримо истинным звучанием вызвало дружные аплодисменты. Люди почувствовали полное доверие коммуниста Лужинского к этому летчику немецкой армии, что волей правды человеческой стал их сообщником. Язык понимали не все. Приходилось переводить. Но все чувствовали, что этот поляк не первый раз говорит перед аудиторией, а это еще больше убеждало. Да и Лужинский почувствовал, что его слова не идут на ветер, они трогают слушателей за растревоженную мировыми событиями душу.
— Если говорить и о ваших неотложных делах, то... врача надо немедленно освободить из лап полицейских! Но у нас есть еще одно, может и значительно мельче, но неотложное дело. Нам очень нужно передать одну радиограмму в Советский Союз. Сложность этой задачи состоит в том, что все радиограммы перехватываются врагами. А сообщить мы должны о детях, о советских детях, которым угрожает опасность. Поэтому и просим помочь в этом сложном деле.
После минутной тишины сначала зашептал сосед соседу на ухо, второй, третий. И снова заговорили так, что разобрать уже что-то в этом мог только сосед. К Лужинскому пробился человек. Знакомое лицо, плотная фигура, летная форма.
— Лаверни? — обрадовался Лужинский. Двумя руками здоровался с летчиком. — Очень рад, что вы с нами, друг!
— Спасибо... А какое у вас сообщение? Нельзя передать его каким-то человеком?
— Нет, передавать человеком — это слишком долго и ненадежно. Надо по радио. Детям ежеминутно грозит опасность.
— Радио, конечно, лучше. Но все радио теперь под пристальным контролем. Наш военный радист изучал и русский язык. Кое-что интересное и нам пересказывает. На днях большой указ о награждениях снова передавали. О советских героях рассказывали.
— Как жаль, что о награждении партизан не оглашают, — сказал Лужинский.
— Группу летчиков снова наградили. А также о какой-то боевой группе «Кленовый лист» передавали. Мы все восхищались.
— «Кленовый лист»? — воскликнул Лужинский. — Подождите, друзья. А далеко тот ваш радист? «Кленовый лист» интересует и меня.
Радист был тоже на этом конспиративном собрании патриотов. Лужинский расспросил его, что именно передавали о «Кленовом листе». В тылу врага воюют... В рассказе об их героических поступках упоминались имена Виктор... Вадим... И женщина какая-то — Маруся.
— Маруся... Виктор... Вадим... «Кленовый лист»! — громко рассуждал Лужинский. — Какие могут быть сомнения!.. Товарищи, эти имена мне хорошо известны. Это выдающиеся бойцы народной мести!.. Для них... для них тоже нужно наше сообщение о тех советских детях. И особенно о судьбе девочки!..
— Значит, должны передать! Только открытая радиограмма всем доступна. А шифровка... Какая тут шифровка, когда никто не знает их кода! — с грустью жаловался летчик.
— Да, в этом и заключается самая большая сложность. Можно бы сообщить только о самом факте: скажем, дети живы, но в опасности. И договориться о каком-то коде. Словом, это таки сложность, а известить надо.
Летчик встретился взглядом с радистом, оглянулся на ночь, словно искал в темноте простых путей помощи этим людям. Наконец, Лаверни тихо обратился к Лужинскому:
— Составьте ваш лаконичный текст, мы передадим. Только на каком языке?
— Очевидно, на немецком. Но это не основное препятствие...
— Лучше по-французски. Составляйте текст.
И пошел с радистом в группу людей. Горн шептался с несколькими молодыми солдатами, договаривался о том, как спасти из-под ареста врача, сестру убитого капитана пароходной компании. Ведь она сидела не в тюрьме, а в управе коменданта города.
Ганс Горн глубоко пережил свой арест в Авиньоне. Он все еще горел жаждой мести этим тыловым «воинам», как презрительно называл теперь комендантские гарнизоны.
Но в тех нынешних настроениях летчика слышалось уже и нечто более устойчивое, чем только месть за обиду. Его увлекала и убеждала искренность и самопожертвование коммуниста Лужинского. От того все вокруг становилось значительно яснее, ближе и его человеческому достоинству. Та несчастная женщина-врач, сестра казненного капитана, как будто становилась уже и его сестрой...
Сбив набок берет, Горн горячо отрицал или одобрял радикальные предложения.
Лужинский вышел с Лаверни на улицу. Его немного беспокоило то, что о деле теперь знает около десятка человек. Не проболтается ли кто-то из них?
— Будьте спокойны, товарищ. Здесь были только такие люди, которых предупреждать об осторожности в разговорах не приходится.
— Спасибо. Это очень важно...
И задумался, идя по двору, как он задумывался каждый раз, решая сложные проблемы. По селу уже начинали свою предутреннюю перекличку петухи. Отдаленно шумели морские волны, и изредка раздавалось гудение ночного самолета.
— Должен передать текст радиограммы. Собственно, у меня их целых два. Если действительно тот радист надежный человек, можно было бы посоветоваться и с ним.
— Абсолютно наш человек! Все мы здесь свои... Давайте ваш текст.
— Подождите. Подумаем вместе. Представим себе, что мы посылаем в эфир телеграмму, где укажем точный адрес детей. Чего ждать дальше? — и загреб пятерней и без того взъерошенного волосы.
— Трудно что-то представить. Наверное, там захотят проверить. Вполне возможно, что пришлют дипломатические письма, а может, и... самолеты.
— Верно, товарищ Лаверни. Могут послать самолеты и забрать детей. Теперь возникает вопрос сложнее: государство может послать самолеты?
Летчик молчал, задумчивый. Действительно, предполагать в этих условиях можно что угодно. Но он не видел какой-то причины бояться этого.
— Представим себе, что прибыли самолеты другого государства. Какого именно? Если это самолеты союзников России — это очень хорошо! Возможно, конечно, что полетят и вражеские.
— Это нас и беспокоит, чтобы не поспешили вражеские самолеты, — тоже задумчиво сказал Лужинский.
Лаверни сразу же возразил.
— Вражеские, это надо понимать, — немецкие, итальянские, так как японских здесь быть не может.
— Именно немецкие, гитлеровские.
— Могу вас успокоить, я же летчик. Только на собственной территории они достаточно свободны и активны. Вне ее господствует авиация союзников. Не знаю, где дети, но...
— Дети на острове в океане. Вам я полностью доверяю.
— Там господствует авиация союзников, в основном английцы, уверяю вас.
Лужинский снова взял за руку летчика, притянул его ближе к себе, чтобы только прошептать:
— Умоляю вас, никому об этом ни слова. Действительно, вы правы. На тех островах гитлеровцам не светит летать. Так, значит, осмелимся?
— Давайте ваш полный текст.
Лужинский ткнул в руку летчика текст радиограммы на немецком языке. Рука дрожала, он глубоко переживал, как будто рисковал государственной тайной большого значения. Летчик посветил фонариком под полой, вслух, но тихо прочитал текст радиограммы:
— «SOS! Четверо советских пионеров и девочка Нина находятся на острове в океане. Координаты... Посадка самолета возможна на косе юго-запада острова. Коса — песок, галька, Лужинский».
— Есть, товарищ! Радиограмма будет передана в двадцать один ноль-ноль по московскому времени. Будьте уверены!
На этом и распрощались. Во дворе Лужинского поджидал Горн. Увидев, быстро подошел. Был радостно взволнован, дух ему захватывало от восторга.
— Договорились, друг! Через полчаса на рассвете операция... Врач будет спасена и доставлена куда-то сюда, в горы, в безопасное место! — Горн схватил руку приятеля и крепко пожал ее. — Благодарность за хорошую школу! Я, кажется, нашел ту надежную тропу, которую долго искал для сближения с отцом!.. А врач сегодня же будет в полной безопасности. — И Ганс побежал догонять своих товарищей по предстоящей операции.
Традиции Ниццы как курортного города значительно нарушились с приходом гитлеровских войск. Почти целые сутки не утихали шум, стрельба на широком дворе и в домах комендатуры. Но постепенно гестаповцы утолили свою первую жажду «деятельности»: были расстреляны многие граждане города. В конце концов, влияло и то, что дела Гитлера на фронтах катастрофически ухудшались. После двенадцати часов ночи дом комендатуры замирал, как и в этот день. Во дворе стояли только ночные сторожа.
В то предутреннее время в комендатуре Ниццы еще было спокойно и тихо. К парадному входу, где, подремывая, сидел часовой, подошли двое эсэсовцев, держа под руки третьего — совсем слабого капитана-летчика. Голова его свисала на грудь, ноги волочились по земле.
Один из эсэсовцев обратился к часовому:
— Старшего!
Часовой вскочил, откозырял. Перед ним был молодой офицер с многочисленными орденами на груди и с пистолетом в руке. Второй рукой он поддерживал ослабевшего летчика. Часовой только обернулся, чтобы нажать кнопку. Кнопка, очевидно, была бдительно охраняема. Тотчас же застучали несколько ног, хлопнул замок, и на дверях встали двое вооруженных эсэсовцев. Часовой только указал головой на офицеров с больным или раненым летчиком.
— Капитану срочно нужна врачебная помощь, — ответил офицер, поддерживая Горна.
Ни форма на всех трех, ни оружие, ни поведение или речь не вызвали никаких подозрений. — Я сейчас позвоню в роту...
— Это будет поздно. Ему нужна немедленная помощь! — сказал офицер с орденами.
— Так, может, помогла бы та арестованная врач? — напомнил эсэсовец-часовой.
— Давайте ее сюда! — приказал офицер.
В хлопотах и спешке ни один из трех дежурных даже не подумал о какой-то проверке документов.
— Лейтенант, вы остаетесь здесь, а мы с часовыми и без вас справимся. Пойдем скорее.
Часовой пошел по коридорам впереди, за ним один из прибывших повел «чуть живого» капитана Горна, еще один часовой замыкал этот кортеж. Передний заскочил в какие-то двери и быстро вышел с ключом. Его снова пропустили вперед, и, пока дошли, он уже успел открыть дверь арестантской, включил свет.
Комната ярко осветилась большой лампой. Почти в тот же миг с дивана встала пожилая, седая женщина.
— Вы врач? — спросил тот, что ввел больного капитана.
— Я арестант, а не врач, — тихо ответила женщина, вздохнув. Но встала с дивана, потому что на него уже сажали больного. Он упал головой на смятую подушку.
— Капитан! Капитан Горн! Вот врач. Сейчас она осмотрит... Немедленно осмотрите больного! — распоряжался эсэсовец. И еще раз обратился к еле живому капитану: — Капитан, можете сказать врачу, что там у вас?
Больной открыл глаза и выразительно моргнул веками. Он может говорить с врачом. Эсэсовец отошел. Повернувшись, жестом отправил обоих эсэсовцев и сам вышел за ними, плотно прикрыв дверь. Врач вздохнула, взяла стул и подсела к больному.
— Что с вами, больной? Я же арестованный и, кажется, осужденный вашими... врач.
— Мы знаем об этом, — прошептал больной, поднимая голову. — Простите, с вами говорили не совсем вежливо. Это маневр...
Врач даже отшатнулась от неожиданности. Даже на двери обернулась — машинальный жест, потому что на какую-то помощь или разъяснения оттуда не надеялась. К тому же там, за дверью, в коридоре, что-то случилось страшное. Ахнул и упал на пол человек, неуклюже гикнув. А больной уже сидел, даже улыбался:
— Простите, госпожа врач... В ваших же интересах ни на что не обращать внимания! Вы должны повиноваться нам: вас освобождают отсюда друзья. Повинуйтесь малейшим движениям руки. Никакой я не больной. Как только откроется дверь, немедленно выходите отсюда. Вам покажут, куда идти. На стрельбу и ни на что не обращайте внимания. За углом справа, в переулке, будет наше авто. Слушайте внимательно: мы знаем, что вы умеете водить. Садитесь и — полный газ! Выезжайте на Набережное шоссе. Там тоже ни на что не обращайте внимания. Выезжайте на тридцать шестой километр, возле дороги справа в лес, и остановите машину. Немедленно выходите на ту боковую лесную дорогу. Вам помогут ваши хорошие друзья. Вы готовы?
— Просто не пойму. Если это та же шутка, что и с братом...
— Госпожа врач, с такими делами нам не до шуток! Итак, полный газ и на тридцать шестой, не забудьте, на тридцать шестом километре.
Резко распахнулась дверь. Капитан Горн вскочил с дивана, в руках уже был кольт. Врач тоже встала со стула и, заметив кивок головы капитана, пошла к двери. В коридоре лежал труп одного из дежурных эсэсовцев. Где-то за закрытыми дверями снова слышалось кряхтенье, тяжелый стон, падение. Врач переступила через труп и оглянулась на капитана. Он перехватил ее взгляд — кивнул головой.
Подойдя к выходу, врач еще раз для верности оглянулась. Увидев такой же успокаивающий кивок капитана, открыла дверь. Сначала отшатнулась, но пересилила страх, перешагнула еще через один труп и прошла мимо часового эсэсовца, который на коленях стоял с поднятыми перед маузером руками, с кляпом в зубах.
Не слушая и не замечая больше ничего, врач быстро сбежала по ступенькам, повернула за угол. Через минуту хлопнули автомобильные дверцы, загудел стартер, затарахтел мотор. Авто сорвалось с места и понеслась по улице. Мгновение, и оно уже мчалось по набережной. Вскоре машина исчезла в предрассветном мраке.
— Прикончить и этого или... — спросил офицер у капитана Горна.
— Оставь. Будет кому рассказывать... — махнул рукой капитан Горн.
И быстро сошли по ступеням. Вскоре во дворе комендатуры раздался выстрел, послышались тревожные крики, шум...
А капитан Горн и его товарищи в тот миг уже были за углом, где только что стояло авто.
— За мной и тихо: мы патруль... Стрелять только в крайнем случае. Возьмите, капитан, свой берет. Отлично действовали! Доведешь капитана до Ричардо. А сам... на службу! Ни минуты опоздания!
Капитан Горн даже оглянуться не успел, как лейтенант исчез. Невольно взялся за того, что остался.
— Может, мне вернуться туда? — напомнил о себе лейтенанту СС.
— Нет, только на следующую ночь и... только со мной. Тот помилованный нами, наверное, же узнает вас.
Где-то на побережье вновь прозвучало несколько выстрелов.
— Не в авто с врачом стреляют ли там? Давай, капитан, быстрее! За мной в переулок и не жалейте ног! В комендатуре началось.
Врач внимательно следила за километражными тумбами на трассе. Показалось, что слышала какие-то выстрелы сзади. После тридцать пятого километра сбавила газ, притормозила. Только теперь поверила, что все это не игра. Какие-то выстрелы далеко слышала, когда заглушала мотор, но вокруг все молчало. На тридцать шестом километре должна быть просека и дорога направо. Вот и столб, а затем и просека. Авто уже катилось по инерции. Врач только тронула педаль тормоза, оно и остановилось. Вышла из машины, огляделась. Направилась по дороге уверенной походкой. Стрельба в городе немного беспокоила. Где-то там ее отчаянный спаситель-капитан... Вдруг услышала, как кто-то включил мотор. Невольно оглянулась, хотя и ждала чего-то подобного: это авто должны немедленно отвести отсюда. Авто взревело натужно и двинулось дальше по дороге. На его месте стоял мужчина. Заметив женщину, бросился догонять ее
— Доброе утро, мадам Зельда. У нас все в порядке! — сказал на бегу.
— Доброе утро. Спасибо, не жалуюсь. Только не понимаю. А где тот немецкий летчик, мой спаситель? Там такая стрельба началась.
— Мы ждали той стрельбы значительно раньше. А с капитаном вы увидитесь завтра, если... ничто не помешает. Вот сюда, пожалуйста, лесом пройдем. Вы не устали?
— О, нет, спасибо. Все это так загадочно.
— Не так загадочно, как четко. Хорошо подготовились. Пока вроде все в порядке. Могу вам сказать и остальные планы. Сейчас мы идем к леснику на участок. Он поселит вас на две-трое суток в одном из своих охотничьих домиков. Это вполне безопасно. Вас присмотрят там... Потом переведут ночью к одному летчику, где и поселят на длительное время. Возможно, со временем вывезем куда-то дальше. Во всяком случае фашистам уже вас не достать.
— А кто же тот капитан, если это не секрет?
— Бывший гитлеровский летчик. Замечательный и верный товарищ. Вы, кажется, должны были бы помнить одного поляка, друга Каспара Луджино по испанским событиям.
— Как же, помню. Где он?
— Он организатор вашего освобождения из гестапо и друг этого летчика! Теперь борется вместе с нами в отряде «Свободная Франция».
Молочная занавеса чуть шевелилась под дуновением легкого ветерка над островом. Сквозь утренний туман кое-где просматривались густые ветви деревьев, обрывы. Океан словно подкрадывался к той кисейной пелене и обессилено ревел волнами. Туман медленно отступал в заросли, снимался облаком вверх. На побережье широкая песчаная коса действительно огибала почти половину острова прекрасным пляжным поясом. Повернув раз и примерившись, самолет зашел на посадку и мастерски приземлился. Не выходя из кабины, летчик осмотрел место посадки, прикинул в уме, как будет взлетать, потом подошел к радисту, который уже включил радиоаппаратуру.
— Алло, говорит Адамсон. Самолет «Эфир 47», «Эфир 47»! Да, да, Адамсон. Прекрасно приземлились. О'кей! Пионеры? Записывайте, да, да записывайте: четверо советских мальчишек и девочка... категорически отказались вернуться на коммунистическую родину! Да, отказались, это я вас уверяю. Сняли красные пионерские галстуки и в слезах умоляют забрать их, спасти от коммунизма! Да, да, четверо ребят и девочка. О'кей, все как один отказались возвращаться в Советы. Везу их на базу «Корсар»! Подготовьте корреспондентов. Адамсон. О'кей!
Сбросил наушники и, наконец, пошел к двери. С них уже свисал трап. Члены экипажа осматривали самолет, осторожно поглядывая на волны океана.
— Видели их? — спросил он, спускаясь по трапу на приглаженную волнами приливов шлифованную гальку.
Механик неуверенно оглянулся вокруг, пожал плечами. Туман брался лепешками, поднимаясь над островом.
— Не видно, наверное, там... — показал кивком головы на лес и горы острова. Адамсон потянулся на чистом воздухе, сделал несколько гимнастических упражнений.
Всходило солнце. Окинув взглядом побережье, Адамсон повернулся и пошел вдоль берега к крутым лесистым берегам. За ним двинулись еще двое из экипажа.
Песчаная коса понемногу шла вверх, острые большое скалы высились над лесом. Показалась и недавно утоптанная тропинка. Адамсон довольно улыбнулся. Тропинка то карабкалась на кручу, то спускалась в долинку, заросшую свежей растительностью.
Пилот спешил. Вышел еще на один холм и вдруг увидел... Закрытый со всех сторон вековечной растительностью, на зеркальной поверхности небольшого залива стоял военный немецкий катер производства бременских заводов. С обрыва на борт катера были переброшены деревянные лестницы.
— Видимо, пионеры еще спят в каюте, — насмешливо сказал Адамсон к своим спутникам.
Летчик оглянулся и заметил мазанку, стоявшую поодаль. Экзотика, робинзонада! Показал рукой на постройку. Торопясь, ступил на лестницу. Раскрытые люки — и ни одного человеческого звука вокруг.
Где-то глубоко в сознание проникло подозрение, что здесь никого нет. А радиограмма ведь уже передана, собираются корреспонденты!..
— Хэл-ло-о! — крикнул в открытый люк катера. Пустым эхом откликнулось тревожное «ло-о»
Потом он повернулся к хижине, послал туда бортмеханика.
— Что они там, товарищи? — спросил летчик, иронически подчеркивая слово «товарищи».
— Нет и духа! Недавно еще, видно, спали здесь, но...
Адамсон бросился по лестнице вниз, в трюм катера. Повсюду открыты двери. Были — и нет их!
Тогда вспомнил о своей поспешной радиограмме. Какая неосторожность, безрассудство, кокетство политической акцией: «...Категорически отказались вернуться на коммунистическую родину...»
Пионеров и в помине нет на острове. Может, англичане перехватили? У них здесь ближе есть базы. Адамсон терялся в догадках, не знал, что же делать дальше. А может, может, немцы? Постой, постой — на берегу, кажется, действительно видны были следы колес самолета...
Адамсон пулей выскочил наверх, сбежал по трапу на берег и поспешил на песчаную косу, к своему самолету. За ним едва успевал бортмеханик и второй пилот. Так и есть. Здесь уже был самолет.
— Какой же я дурак! А все это туман. Вот же гады, какая несолидарнисть! Таки перехватили! Что же теперь? Еще одну радиограмму посылать: сбежали, мол, передумали?
— Мистер Адамсон, видно, кто-то опередил нас. Ширина колес, как и у нашего, — крикнул второй пилот.
— Знаю, англичане с островов... Самолет готовить к вылету!
— Есть к вылету!
Через несколько минут моторы мощно взревели, и самолет пошел по песку, набирая разгон. Пронесся вдоль берега, на краю косы, подмытой волнами, оторвался, взлетая уже над бурными волнами океана.
Генерал Армии прочитал поданную ему перехваченную радиограмму летчика Адамсона и расхохотался. Адъютант едва сдерживался, чтобы и себе не рассмеяться.
— Летчик Каспар Луджини читал это? — спросил генерал, тяжело дыша от безудержного хохота.
— Еще нет. Дать прочитать? — спросил адъютант.
— Подождите. Надо полагать, что эту радиограмму Адамсона перехватили другие станции?
— Так точно... Даже гитлеровская пропаганда уже подхватила сообщение Адамсона, бросила в эфир с крикливым шумом:
«Группа советских юношей и с ними дочь известного советского генерала отказались от коммунистического рая».
— Позовите ко мне майора Луджини, — велел генерал, поднимаясь из-за стола. — А что ответил генерал Дорошенко?
— «Радиограмму принял, через час прибуду самолетом».
— Мария Иосифовна?
— «Радиограмму получила. Сердечная материнская благодарность». Больше ничего, товарищ командующий. У нее же нет своего самолета.
— Почему наш не послали? Немедленно свяжитесь с партизанкой и пошлите за ней самолет. Кстати, и тех детей, в отряде, пусть вывезут. Им же учиться надо.
— Есть послать самолета. Майор Луджини прибыл, ждет в комнате.
Командующий вышел в ту комнату, поздоровался с разогретым от быстрой ходьбы майором Луджини:
— Слышали, летчик Адамсон радирует с острова, наши пионеры сорвали с себя красные галстуки? А вы привезли их оттуда в одних трусах. Где же галстуки? Пионеры, хвастается Адамсон, потребовали вывезти их в тот капиталистический «свободный мир». Естественно, что Адамсон охотно исполнил их волю. Даже гитлеровское радио подхватило эту чванливый похвальбу... — командующий повернулся и взял из рук адъютанта бумажку: — Вот, товарищ майор, есть радиограмма о награждении вас еще одним орденом за удачную операцию по вывозу ночью пионеров с острова!
— Прибыл генерал-полковник Дорошенко! — доложил адъютант.
— Заходи, заходи, Андрей Тихонович. Здесь как раз и майор Луджини...
— Позвольте мне, как отцу спасенной дочери, не по-военному поблагодарить летчиков, — и Андрей Тихонович крепко обнял Каспара Луджини.
— Адъютант, связались с Марией Иосифовной?
— Так точно, самолет послан. Она прибывает с пионерами.
— Ну, что же, товарищи! Наступаем на всех фронтах, наступаем... И эта операция, которую так героически подготовили и провели наши друзья, в том числе Станислав Лужинский и майор Каспар Луджини, равна почетной победе! Советское правительство высоко награждает вас, товарищи, за прекрасно проведенную операцию по спасению наших робинзонов. О летчике Горне обещал Лужинский дать какие-то дополнительные сведения... Они оба борются в отряде французских патриотов.
В комнату вошли четверо загорелых, возмужалых юношей в новых костюмах, красных пионерских галстуках. Один из них вел за руку шестилетнюю девочку. Такая же загорелая, немного будто испуганная от неожиданности. Осмотрела генералов, перебегая глазами по комнате.
— Папа-а! — крикнула. Робко оторвалась от руки Олега.
Генерал подхватил ее на сильные руки, крепко прижал к груди. Затем, обессиленный радостью, оперся на стол.
— Ниночка, Нинуся! Мой Кленовый листочек, сорванный такой сумятицей! — произносил, ничего не видя и не слыша.
— Адъютант, — приказал командующий, — немедленно передайте в эфир официальное сообщение!
Генерал Дорошенко поставил дочь рядом с ребятами и сам вытянулся, будто замыкая тот ряд робинзонов.
— Группа советских детей, — начал командующий, — заброшенных войной на необитаемый остров Атлантического океана, сегодня вывезена с острова на родину самолетом под пилотированием Героя Советского Союза майора Н. Дети здоровы и чувствуют себя хорошо.
Командование группы советских войск...
...С текстом этой радиограммы одной ночью и зашел Станислав Лужинский с бойцами отряда в семью Каспара Луджини в Ницце — он знал уже, кто такой этот Герой Советского Союза майор Н. С ними же была и врач Зельда Пока и летчик Лаверни. Он побывал в лапах гестапо, но герои Сопротивления вырвали его. Забинтована голова, на марле подвешена рука. Но уста улыбающиеся, в воспалительных глазах радость. Его старший коллега, летчик-коммунист, — прекрасный пример для них, молодых!..



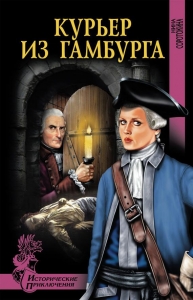
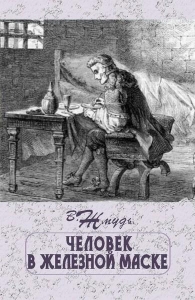

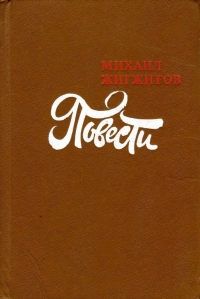
Комментарии к книге «Кленовый лист», Иван Леонтьевич Ле
Всего 0 комментариев