Николай Николаевич Каразин Погоня за наживой Роман в 3-х частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I Чуть-чуть не застрелился
Дмитрий Ледоколов, опершись локтями о письменный стол, сидел в покойных креслах и пристально рассматривал окурок сигары, дымившийся в одной из бронзовых пепельниц. Этот окурок, должно быть, не очень занимал его, хотя вот уже с полчаса, как он не спускал с него глаз; окурок перестал уже тлеть, уже похолодел совсем, а Ледоколов все на него смотрел и смотрел, он даже пальцем его потрогал, отнял руку, вздохнул тяжело, болезненно и уставился в ту же точку каким-то апатичным, почти бессмысленным взглядом.
Ворот рубахи его был надорван; видно было, что его расстегивала нетерпеливая, озлобленная рука; галстук валялся на ручке кресла, а смятый сюртук лежал на полу, и холодный ветер, врываясь в отворенную форточку окна, шевелил рукава его рубашки. Впрочем, Ледоколову не было холодно, несмотря на то, что вместе с ветром в комнату влетали мелкие снежинки и белыми блестками оседали на широких, вырезных листьях какого-то экзотического растения.
На большом письменном столе и внутри его царствовал полнейший беспорядок: письменный прибор разбросан, подсвечники сдвинуты к одной стороне, две фарфоровых статуэтки игривого свойства лежали на полу, у одной из них недоставало уже головы, отбитой упавшей на нее крышкой от чернильницы; бумага писанная и неписанная разбросана была по всей поверхности стола, ящики выдвинуты наполовину, и все, что там находилось, было взрыто и исковеркано. Из одного ящика торчала рукоятка револьвера, и над всем этим возвышался большой фотографический портрет красивой женщины с роскошными пепельными волосами, освещенный мигающим светом пылавшей лампы, пламя которой давно уже облизывало треснувшее стекло, покрывая его черной, густой копотью.
Тоску наводящий полумрак царствовал в дальних углах комнаты, откуда выдвигались только массивные карнизы шкафов, и виднелись на стенах неясные очертания какого-то оружия, развешанного в симметричных группах.
Стрелки на циферблате больших стенных часов показывали половину первого; на тротуаре противоположной стороны улицы давно уже стоял, должно быть, чрезвычайно любопытный городовой, которому совершенно ясно было видно все, что делалось в комнате Ледоколова.
Этот городовой положительно недоумевал: что такое делается с этим чудным барином? То он прежде неистово рылся и разбрасывал все, что ни попадалось под руку; пистолет вынимал зачем-то, разглядывал его долго, опять спрятал в ящик; сигару закурил было, сломал и на пол бросил, закурил опять и почти сгрыз ее зубами; а вот уже с час, как сидит и не шелохнется, не погладит даже большого серого кота, что взобрался на спинку кресел, оттуда к нему на плечо и, мурлыча на ухо, трется у него за щекой мягким, усатым рыльцем.
— Гляди, пожару как бы не наделал! — думает городовой вслух. — Ишь, ты, полымя как из лампы прет!..
— Выпимши, может, али так блажит! — замечает дворник, ежась от холода и зевая во весь рот, плотно кутаясь в свой овчинный тулуп, от которого за версту несет кислым запахом дубленой кожи.
— О, Боже мой! — не то простонал, не то тяжело вздохнул Ледоколов, быстро поднялся, загремел креслами и взглянул на портрет.
И вот рот его скривился, как будто под влиянием невыносимых внутренних страданий, на лбу у него протянулись болезненные складки, сухим, горячечным жаром сверкнули глаза, и со звоном полетела на пол какая-то безделушка, опрокинутая конвульсивным движением руки, протянувшейся к портрету.
Фыркнул кот, далеко отпрыгнул назад и исчез где-то между шкафами.
— Важно! — произнес дворник и подтолкнул локтем городового.
— Погоди, что дальше будет! — отвечал городовой. — Проезжай ты, желтоглазый! — крикнул он извозчику, загородившему было своей лошадью окно, над которым производились наблюдения.
Неровной, шатающейся походкой принялся Ледоколов ходить по своему кабинету, натыкаясь на этажерки и отдельные столики; ходил долго и снова остановился перед портретом, ероша ожесточенно волосы. Потом он схватил портрет обеими руками, поднес его к самому лицу и жадно впился в стекло своими сухими, горячими губами... Послышалось глухое, прерывистое рыдание, рыдание страшное, без слез, рыдание, от которого болит и ноет грудь, и замирает сердце, стиснутое словно железными щипцами.
Медленно опустил Ледоколов портрет, поставил его на прежнее место и лег с ничком на кушетку. Перед его закрытыми глазами с адской точностью, со всеми мелочными подробностями стали проходить мучительные картины. Тихонько выполз серый кот из своего темного угла, вспрыгнул на спину Ледоколова и свернулся клубком, как раз между его лопатками.
Два года тому назад он встретился в первый раз с ней. Его охватило какое-то странное чувство: ему казалось, что они давно уже знакомы, что они давно уже так хорошо знают, так понимают друг друга; тепло, дружески отнесся он к ней с первых минут знакомства. Она так близко подходила к тому идеалу, который давно уже сформировался в его сердце.
Он полюбил ее. Это была почти не любовь, это было тихое, благоговейное боготворение...
Яркие потоки света льются сверху, охватывают со всех сторон, уничтожая, скрадывая тени. Вся в белом, с длинным шлейфом, стоит она посреди церкви; чудные, золотисто-дымчатые волосы чуть прикрыты цветами и прозрачным газом; матовой белизной сверкает упругое, молодое тело... Она вся кажется лучезарной, прозрачной... У него дух захватывает при одном взгляде на это чудное видение... Он подойти не решается... Ему кажется, что всякий шаг к ней — святотатство. Однако, он подходит. На него так ласково, так приветливо смотрят дивные глаза...
— Пожалуйте-с! — приятным старческим тенором приглашает его священник в новой парчовой ризе с разводами, прихватывает их за руки и подводит к аналою.
Свечи им сунули в руки, к горячему лбу прикасается какой-то металлический обруч...
— Дмитрий, милый мой Дмитрий, — лепечут ему на ухо дорогие губки. — Как мы будем счастливы...
Сидя в карете, они плотно прижались друг к другу, они словно срослись вместе.
— Ведь ты меня очень любишь?
Его шею охватывают нежные руки.
— Люби меня, — я стою этого. Ну, скажи, будешь любить меня, да?..
— Люблю ли я тебя…
Слезы перехватывают звуки в его горле. Он задыхается от наплыва страстных, томительных иллюзий...
— Дмитрий, милый мой, я счастлива, я точно в раю. Ты плачешь?..
— Ангел, радость моя!..
— Налево к подъезду... стой! — командует кто-то на козлах.
— Пошли, пошли прочь! — распоряжается у ворот хриплый, начальнический бас...
Музыка, шампанское, говор, фраки, мундиры, шлейфы, шиньоны... все так светло и торжественно... Затем туман, туман...
И вот, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, светлой полосой потянулась жизнь. Огорчений, скуки, грусти, как будто и не существовало.
Один взгляд дорогих глаз разгонял надвигающиеся тучи.
В мозгу так ясно, он так славно работает, он, казалось, не знает устали; то, перед чем задумался бы Ледоколов в прежнее время, теперь одолевается шутя, под живым влиянием электризующей, чудотворной силы участия любящей женщины.
Труд получил двойное, тройное, увеличенное до бесконечности значение. Результаты этого труда так необходимы для нее...
— Дмитрий, помнишь брошь звездочками, что мы видели в окне у Зефтигена на Морской?..
— Помню, моя крошка, помню... В середине розетка, в шесть лучей, кажется...
Он кладет на стол циркуль, которым работал, оборачивается и целует тонкие розовые пальчики, особенно тот из них, на котором виднеется золотой обручек.
— Ну да, — говорит она, — эта брошь стоит только сто двадцатью рублями дороже моей, только сто двадцатью рублями; и если обменять мою...
— Ребенок милый, игрушечку тебе нужно... Ну, это мы устроим...
— Это расход лишний, дорогой мой; мне так совестно; мы и так уже в этом месяце...
— Тсс!..
Прелестный ротик умолкает, зажатый самым страстным, самым жгучим поцелуем.
— Ты и так много работаешь! — лепечет она, и наскоро вытирает украдкой свои розовые губки.
— Пойдем гулять сегодня, ну, и зайдем...
Она становится у него за креслом, гладит его но голове, расправляет волосы, особенно заботясь о том месте, где довольно ясно видны зачатки будущей лысины. Он погружается в какое-то вычисление...
— Ты, кажется, ревнуешь меня?.. — спросила она его как-то раз на одном из вечеров, оставив, наконец, своего мундирного кавалера, с которым проходила чуть не весь вечер.
— Ну, что за вздор!..
— Что же ты такой пасмурный? Пойдем!
Она повисла у него на руке, — ему стало необыкновенно весело: он сразу забыл то мучительное чувство, с которым он следил глазами за ними, беснуясь, когда кавалер слишком уж близко наклонялся к своей даме, и в жестах его проявлялась воинственно-страстная энергия.
— Я люблю тебя, я верю тебе; ревность тут неуместна...
Он сам хочет уверить себя, что он не ревнует.
— Смотри!..
Она прижимается к нему еще плотнее и грозит пальчиком.
— Ревновать ту, которую любишь, это значит потерять, к ней уважение, перестать ей верить... Я сейчас, Дмитрий...
Она быстро вырывает руку из-под его локтя; перед ней стоит джентльмен высокого роста, в самой почтительной и скромной позе. В выражении его лица, в движении его рук видно не простое желание вальсировать — нет, это молчаливая мольба о жизни...
— Гм... — кряхтит Ледоколов, натянуто улыбается и чувствует, что в его сердце опять ворочается что-то весьма нехорошее...
Иногда ему казалось, что она становится холоднее, безучастнее к его ласкам.
«Пустяки, — думает он, — нельзя же, в самом деле, вечно лизаться; это не в порядке вещей».
А раз, когда они шли вместе по Невскому, он до крови укусил свою губу в досаде на то, что она все время глядела на окна магазинов, отвернувшись от него и едва касаясь своей перчаткой рукава его бобрового пальто.
— И что ты там находишь занимательного...
— Ну, это еще что!
— Кто это тебе поклонился сейчас?
— Не помню фамилии... как-то мек или дек, что-то в этом роде начинается...
— А теперь это с кем ты раскланиваешься?
— Что это тебя так интересует?..
Она подозрительно смотрит на него и холодно улыбается.
— Да почему же не сказать?..
— Уж ты опять не вздумал ли ревновать меня?
— Гм, что это значить «опять»? Наконец, я же говорил тебе, что ревновать — это недостойно... всякого...
Он почувствовал, что становится смешон, и вдруг, ни с того, ни с сего, поклонился какой-то пестро одетой, совершенно ему незнакомой даме... Та улыбнулась и ответила ему.
— Ну, вот видишь, — говорит ему она, — я же не спрашиваю тебя: кто это?..
Она готова расхохотаться; Ледоколов покраснел до ушей.
— Поедем домой лучше, кстати пора и обедать, — зевает она, прикрывшись муфтой. — Мне так есть хочется!
Дорогой она немного приласкала его, и опять у него хорошо стало на сердце.
«Но это все такие мелочи, такой ничтожный вздор, — бравировал Ледоколов, перебирая в своей памяти все малейшие эпизоды прошедшего дня. — Это все такие булавочные уколы, за которые нельзя даже и посердиться». Однако, он чувствует, что хотя эти булавочные уколы и очень ничтожны, каждый отдельно, но зачем их так много?..
«Вот опять, ну, чего этот барин так от нее шарахнулся, когда я вошел? Я его спрашиваю, в котором часу поезд отходит, а он отвечает совсем неподходящее, я даже не понял ничего, — видимо, человек потерялся...»
— Дмитрий, можно к тебе?.. — слышен за дверью ее голос.
— Конечно, конечно, войди... что за вопрос!..
— Я хочу посидеть около тебя; будь уверен, я тебе мешать не буду!..
Она поцеловала его в лоб и села рядом в другие кресла.
— Можешь ли ты когда-нибудь мешать мне?.. Жизнь моя... Дай я тебе подложу подушку за спину... Васька, пошел, барыню беспокоишь!.. — гонит он серого кота, который тоже взобрался на кресло.
— Нет, оставь его. Ну, работай, работай...
Она еще раз целует его и треплет по плечу. Все сомнения разлетаются прахом, о булавочных уколах нет и помину...
«Не верить этому светлому ангелу — Господи! Да это надо совсем с ума сойти, — это более, чем святотатство», — думает он и начинает подводить какие-то бесконечно-длинные итоги.
***
Целых три недели пришлось ему не видать своей жены, — ему надо было уехать по делу. Эти недели тянулись бесконечно. «Разве телеграфировать о выезде?» — подумал он, садясь в вагон по окончании своих дел, но тут же решил не уведомлять об этом, рассчитывая на сладкие минуты неожиданного приезда.
«Как она обрадуется, дорогая моя, — думал он, поглядывая в окно. — Вот озадачится; ведь она не ждет меня раньше десятого, а тут вдруг тремя днями раньше — бац! А что, разве...»
Он вырвал из бумажника листик, написал карандашом несколько слов и на первой же станции подошел к конторке телеграфиста.
«А, нет, не надо», — решил он, направился к буфету и выпил водки.
В одном из вагонов что-то лопнуло, — поправляли с час, — там снег задержал на два часа, еще что-то случилось. Поезд опоздал. Поздно ночью, почти перед рассветом, слез Ледоколов с извозчика и постучался в ворота; быстро взбежал он но лестнице, чуть не разбил себе носа в потемках, и остановился перед своей дверью.
«Она спит...» — подумал он и, затаив дыхание, чуть дотронулся до ручки звонка.
Все тихо, ничего не слышно.
Он позвонил еще раз, громче.
— Кто там? — послышался за дверью испуганный голос горничной.
— Отвори, это я... — тихо произнес он.
Но, вероятно, горничная приняла его за другого.
— Ты что же звонишь, Ванька-дьявол... входи тише, — барыню разбудишь...
Ледоколов начал раздеваться, девушка торопливо зажигала свечу; она догадалась, что это не ее Ванька.
Ярко вспыхнул огонь и осветил испуганное лицо горничной; глаза ее широко раскрылись, она вскрикнула и выронила свечку из рук.
Ледоколова как обухом ударило в голову. Как ни мгновенно блеснул свет, но он успел увидать, он видел... Да, то, что он видел, было ужасно!
Он видел на вешалке чужую шинель, он ясно ее разглядел, с капюшоном, с военным воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчетливо блестели на сине-сером сукне.
— Огонь зажги! — прохрипел он.
Послышалась торопливая возня и шорох; спички не загорались; наконец, снова была зажжена свеча... Шинели не было...
— Что же это, я сам видел, вот тут — где она? Или это мне почудилось?..
Ледоколов быстро прошел через все комнаты и остановился перед дверью спальни, — дверь была заперта.
— Это ты, Дмитрий? — раздался голос жены. Что-то холодное, сухое звучало в этом вопросе; Ледоколову даже показалось, что это говорит другая женщина, вовсе ему незнакомая.
— Отвори, отвори, отворите!
Он в исступлении принялся трясти дверную ручку.
— Послушай, Дмитрий, — говорила она ему, подойдя к самой двери, — иди в свой кабинет, затворись там и не делай глупейшего скандала; это самое лучшее, что я могу тебе посоветовать!
Опустив голову, схватившись за сердце обеими руками, он пошел в кабинет; у него сил не хватило дотащиться до своей двери, — он прислонился к стене и судорожно вцепился в какую-то драпировку.
Замок щелкнул. Чьи-то шаги, гремя шпорами быстро прошли к передней.
С этой ночи он уже не видал более своего ангела.
Вот уже несколько дней прошло, — страшных дней. Он уже думал, что мозг его не выдержит страшного удара, — однако, выдержал: он не сошел с ума. На него нашло какое-то странное опьянение. Он ничего не ел, а, может быть, и ел, — он ничего не помнил; это был тяжелый кошмар, который, мало-помалу, проходил, уступая место другому, худшему состоянию.
Жизнь потеряла для него всякое значение, она ему была противна. Он ощущал тупую пустоту в сердце, в голове, во всем организме.
Для него все было потеряно.
А серому коту Ваське, вероятно, надоело лежать на спине хозяина: он спрыгнул на пол, выгнул спину горбом, поднял хвост колом и зашагал к письменному столу; потом он забрался на кресло, оттуда на ящик с револьвером, затем на самый стол. Здесь он покойно уселся, насторожил уши и углубился в созерцание нескольких исписанных листков.
Если бы Васька умел читать, то он прочел бы следующее:
«Я прошу никого не обвинять в моей смерти...»
Строка эта была зачеркнута; вероятно, начало показалось слишком избитым; затем разгонистым, крупным почерком значилось:
«Прошу исполнить мое предсмертное желание; оно слишком просто и удобоисполнимо и заключается только в том, что бы не доискивались причин моего самоубийства.
Мне просто надоело жить: а так как никто ничего не теряет оттого, что меня не будет состоять между живыми, то я и прибегаю к услугам моего револьвера.
Прощайте».
Чернила давно уже высохли, и даже поверх письма карандашом начерчены какие-то зигзаги. Видно было, что с исполнением самоприговора не торопились, хотя револьвер был в полнейшей готовности, и под взведенным курком краснела головка металлического патрона.
Вдруг в углу, под ворохом газет, на нижней полке этажерки заскреблась мышь. Васька кинулся со стола, опрокинул подсвечник, перелетел через лежавшего Ледоколова и зарылся в газетах.
Ледоколов вздрогнул, вскочил, испуганно осмотрелся кругом, точно он спал до этой минуты и внезапно был разбужен непонятным шумом; он начал прислушиваться.
Мелодично, серебристо звякали и гудели бесчисленные бубенчики разукрашенной ямской тройки. Усталые кони, покрытые пеной, шли шагом, окруженные парным облаком. В санях сидело четверо катающихся: три кавалера и одна дама. Двое из них были совершенно пьяны, и их цилиндры глупо кивали из-за поднятых воротников. Дама положила свою голову на плечо третьего, трезвого кавалера, а тот, приложив два пальца к козырьку своей форменной фуражки, весьма вежливо раскланивался по направлению, где, как поясной портрет в раме, видна была фигура Ледоколова.
Между портретом, стоявшим на столе, и дамой в санях было поразительное сходство; те же пепельно-золотистые волосы, те же глаза, выразительные, смеющиеся, оттененные длинными ресницами, тот же ротик, сочный, задорно-улыбающийся... Не было, не могло быть никакого сомнения: в санях сидел оригинал того портрета, на стекле которого ясно видны были следы поцелуев Ледоколова.
Им овладело неудержимое бешенство... он схватил револьвер.
«Вам весело, вы наслаждаетесь!.. Я вам испорчу вашу прогулку...» — мелькнуло у него в голове. Ему сейчас же представилось, какой эффект произведет выстрел в эту минуту... Как вздрогнет она, как зашевелится раскаяние в ее сердце, когда она увидит результаты своей злой шутки... Всю жизнь ее можно отравить одной этой минутой; во сне, наяву, вечно будет носиться перед ее глазами кровавый образ; этот страшный призрак с простреленным черепом не даст ей ни минуты покоя... И он тоже... Ну, господа, любуйтесь!..
Ледоколов приложил дуло револьвера к своему виску.
На улице послышался слабый женский крик. Ямщик почувствовал у себя на шее изрядный побудительный толчок.
— Эй, вы, други!.. — махнул кнут ямщика по всем трем конским спинам.
Тройка унеслась. Ледоколов не успел выстрелить. Он не успел потому... потому что... спусковой крючок как-то особенно туго спускался, вероятно, был плохо смазан, или... вообще что-то случилось с оружием.
***
— Да, положительно тебе надо уехать куда-нибудь отсюда; это самое лучшее! — говорил Ледоколову на другой день один из его друзей, складывая лодочку из его предсмертного письма.
Он сидел у стола, а Ледоколов, закутанный в халат и с компрессом на лбу, лежал на диване; кот Васька переходил от одного к другому; то потрется боком около ноги друга, то поиграет кисточками хозяйского халата.
— Под влиянием свежих впечатлений все рассеется мало-помалу, пройдет хандра... (из лодочки начал формироваться кораблик) ну, и все прочее...
— Да куда поехать? Я бы готов, — говорил Ледоколов слабым, болезненным голосом.
— Поезжай в Африку... Тропическое солнце, негры, истоки Нила, новые открытия...
— Для этого нужны большие средства...
— Ну, конечно... А то в Эмс валяй, в Висбаден, там рулетка, Гретхены, Минхены, Каролинхены, воды разные целительные!
Предсмертное письмо окончательно сформировалось в петуха; петух был поставлен на видном месте, лицом к портрету красавицы.
— Да, действительно, дальше отсюда, — Ледоколов приподнялся на локоть, — тут невыносимо, тут каждый предмет так живо напоминает мне о ней... Слухи доходят; вон, вчера еще письмо анонимное получил, — нашлись непрошеные агенты!
— Свиньи... — пробормотал друг, — и кто бы это мог быть? Ты по почерку не узнал?
— Вот портрет этот... каждый раз, как я взгляну на него...
— А вот мы его уберем...
Друг начал завертывать портрет в газетную бумагу.
— Конечно, я убежден, что время возьмет свое, оно излечит...
— А у тебя нет еще... там этих медальонов, групп, отдельных карточек?..
— Много есть!
— То-то, я помню; вы ведь частенько заходили в фотографию...
Друг принялся рыться по ящикам.
— Европа не манит меня вовсе, — продолжал Ледоколов. — Мне надоели люди, мне...
— «Мне душно здесь, я в лес хочу»... — продекламировал друг.
— Старший дворник пришел! — доложил через несколько комнат женский голос.
— Пусть войдет. Что тебе?..
— Насчет квартиры; хозяин спрашивал: так как ежели, как, значит, по условию, вперед по-третно... Прикажете получить?
— Скажи хозяину, что может наклеивать на окна билеты. Так, что ли? — обратился друг к Ледоколову.
Тот кивнул головой.
— В отъезд изволите-с? — полюбопытствовал старший дворник.
— В отъезд!
На другой же день на всех окнах квартиры Ледоколова красовались белые четырехугольники.
— Если бы ты знал, как меня самого туда тянет! — говорил друг, помогая Ледоколову укладываться.
— Что же тебе мешает?
— Как что? Ну, это, как бишь его, — дела!
— Ну, какие у тебя дела?
— Всякие, а ты вот что: как приедешь, пиши, обо всем пиши: все, что как там есть, насчет жизненных удобств и все прочее. Не может же быть, в самом деле, чтобы там только одна баранина?
Ледоколов улыбнулся.
— А я, как с делами покончу, сейчас же и сам к тебе. Это возьмешь с собой?
Друг протянул какой-то сверток.
Во всех комнатах пыль стояла густым туманом, в этом тумане копошились, покрикивали и пыхтели несколько полосатых фуфаек, надсаживаясь над каким-то комодом. Черный длиннополый сюртук купеческого покроя поверял мебель по штучке, просматривая по реестру.
— Диван-угольник, обит голубым репсом в стежку!.. — произносил он отчетливо и с некоторой внушительностью.
— Есть! — вскрикивал кто-то из другой комнаты.
Ледоколов со своим другом оставили большой чемодан, над укладкой которого хлопотали, и принялись завтракать.
— Поверишь ли, — говорил Ледоколов, разрезывая сочную, красную, как кровь, котлету, — сегодня в первый раз я чувствую что-то похожее на аппетит!
— И прекрасно. Итак, — друг налил в стакан красного вина, — скатертью дорога!
— Благодарю...
Ледоколов пожал дружескую руку и чокнулся своим стаканом.
— Дюжина стульев гнутых, два ломберных стола, шифоньер рококо... буфет! — доносились возгласы из дальних комнат.
II Письма издалека
Вдова генерал-майора Фридерика Казимировна Брозе и дочь ее Адель получили каждая по письму. Оба эти письма принесены были в одно время, одним почтальоном, в одной и той же сумке; оба были с адресами, написанными одним и тем же почерком, и оба конверта носили на себе следы далекой и многотрудной дороги. Видно было, что письма эти и подмокали, и высыхали не один раз; пожелтели они, кое-где расплылись побуревшие чернила, протерлись местами углы конвертов, и растрескались смятые сургучные печати.
Рыженькая горничная в веснушках, принявшая письма от почтальона, положила их на подносик и поднесла барыне, которая в эту минуту сидела в гостиной и, положив на диване обе ноги, наблюдала, насколько рельефно обрисовываются под белым кружевным пеньюаром ее пышные, округленные формы.
— Вот письма-с! — доложила горничная.
— Это отнеси к барышне в комнату! — распорядилась Фридерика Казимировна, посмотрев адресы и изобразив на своем, весьма еще красивом, хотя и сильно реставрированном лице сперва некоторое удивление, потом нескрываемую радость.
Она распечатала торопливо конверт и перешла на кресло, поближе к окну, так как было уже около трех часов, и в комнате начинало темнеть, особенно благодаря жардиньеркам и массивным драпировкам на окнах.
— Ну, можешь и отправляться! — отнеслась вдова к горничной, все чего-то дожидавшейся, и принялась читать.
— Я так и ожидала, я так и ожидала, — произносила она по временам и снова погружалась в чтение. — Да, это было видно по всему, по всем-м-му, — протянула она, перевертывая страницу. — Как неразборчиво... Что это? Гм! Однако, в такую даль, в такую глушь!..
Еще раз перечитала Фридерика Казимировна письмо, положила его в карман, подняла конверт, разорванный надвое, спрятала его и подошла к зеркалу. Долго присматривалась она к какому-то прыщику над бровью, повернулась потом, посмотрела назад через плечо, грациозно передернула лопатками, вздохнула глубоко-глубоко, позвонила и велела зажигать лампы.
***
— Благодарю вас за прогулку со мной! — говорила красивая, стройная брюнетка, раскланиваясь у подъезда дома с молодым человеком в соболях, стоявшим перед ней с приподнятым цилиндром.
— Мне было так приятно... Маменьке прошу передать мой поклон!
— Merci, до свиданья!
Девушка побежала вверх по лестнице, а молодой человек посмотрел направо, посмотрел налево и стал осторожно переходить улицу.
***
Адель была действительно очень красивая девушка, особенно в эту минуту, когда мороз так усердно подрумянил ее щечки. Черная бархатная кофточка с меховой опушкой и хвостиками и кокетливо приподнятое платьице так кокетливо обрисовывали ее молодую фигурку, она так грациозно перепрыгивала со ступеньки на ступеньку, засунув ручки в муфту, изображавшую какого-то зверька, так симпатично, весело напевала при этом, что старик швейцар, наблюдавший за ней снизу, крякнул, обошелся без помощи платка и произнес:
— Ну, коза-барышня!
«Молодой друг мой, Адель Богдановна, — читала девушка, запершись у себя в комнате. — Надеюсь, вы простите старику эту маленькую фамильярность; положим, что, хотя я и не совсем еще старик, но... да, впрочем, это вовсе нейдет к делу.
Захотелось мне шибко побеседовать с вами письменно, рассчитывая, что если у вас и не хватало терпения поговорить со мной хоть полчаса лично, то, может быть, вы будете снисходительнее к моему письмецу и дочитаете его до конца.
Вот уже полгода, как я расстался с вами. Я теперь поселился в совершенно новом краю, при самой оригинальной и новой обстановке, и успел уже настолько приглядеться и привыкнуть к моему новому положению, что решился даже поселиться здесь надолго, если не навсегда. Одно только, с чем я не в состоянии примириться, это невозможность видеть моего молодого, хорошенького друга... Ну, ну, не сердитесь, я уже вижу, как вы надули ваши розовые губки и собираетесь рвать на клочки мое бедное послание... Ну, больше не буду; на меня грех сердиться; я такой добрый, и постараюсь доказать это сейчас же на деле.
Говорили вы мне как-то, что хотите жить независимо, своим трудом, хотите работать, да только в одном находили затруднение, а именно: куда вы ни обращались, вам нигде не давали никакой работы, а если и давали, то с таким ничтожным вознаграждением, что не стоило и ручек ваших марать, как вы выражались сами, помните, в клубе, когда вы весь вечер бегали от меня, и только за ужином удалось мне поболтать с вами, и то благодаря посредничеству вашей уважаемой мамаши. Ну-с, так вот видите ли, теперь я вам нашел работу. Извольте слушать и соображать внимательнее. Здесь очень нуждаются в гувернантках, и я вам подыщу такое местечко, что чудо. Что, вот вы опять лобик наморщили, думаете, что за невидаль в гувернантки, какие-нибудь пять-шесть сот рублей в год, а вам ведь надо много, очень много надо, я знаю, — нет, найдем такое местечко, что хоть пять, хоть шесть тысяч, а не сотен, преподнесут вам за ваши труды, — довольно-с или мало? А то можно и больше, вы только не церемоньтесь, говорите прямо.
Но такие выгодные места находятся только здесь, и потому вам надо собираться в дорогу. Что, испугались? Шутка ли: пять тысяч верст, киргизы, тигры, тарантулы, разбойники... Не бойтесь, — довезут вас бережно и сохранно, как царицу сказочную. Об этих подробностях я уже писал вашей маменьке, и вам надо во всем на нее положиться.
Приедете к нам, остановитесь пока прямо у меня, на всем готовом; лошадки к вашим услугам и верховые, и всякие; ведь вы, я знаю, любите кататься; комната ваша вся в цветочках, персики и виноград прямо в окошечки сами лезут; фонтан, купальни в самом восточном вкусе, и будете вы купаться и нежиться.
А я буду вас нежить да холить, и будете вы кататься, как сыр в масле, а то и лучше.
Делишки ваши, я знаю, теперь совсем плоховаты, да это, впрочем, вам подробно расскажет сама Фридерика Казимировна, я же только предупрежу вас, что кроме долгов, и довольно крупных, у вас с маменькой ничего нет, а этого очень и очень мало, особенно для вас, моя пичужечка, — виноват, тысячу раз виноват; что же делать, — прямо от сердца идет. Захотите вы, например, покататься в коляске по Невскому, а у вас и гривенника нет на простого извозчика; захотите куда-нибудь потанцевать поехать — хвать! Ни платьица, ни веера, ни перчаточек, — эх, совсем скверно; да что, кушать захотите, и то нету. Ну, не плачьте, не портите ваших прелестных глазок, приезжайте ко мне, и все устроится: будете вы жить, как хотели, своим трудом, и всего у вас будет вдоволь.
Пока высылаю вам по почте две тысячи на кое-какие дорожные приготовления, а там на пути встретит вас доверенный мой, хороший человек, Иван Демьяныч Катушкин, и докатит вас этот самый Катушкин с полнейшим комфортом.
С нетерпением буду ожидать вашего приезда и, стоя на крыше моего дома (у нас тут все плоские крыши, как пол, и на них палатки поставлены, цветы посажены, кустарнички, как у Семирамиды в Вавилоне, — чай, учили в институте об этом), буду день и ночь поглядывать на дорогу: не покажется ли пыль, поднятая колесами вашего экипажа?
Крепко, крепко целую ваши ручки и ножки, мамаши вашей тоже, и остаюсь беспредельно и пламенно любящий вас,
Иван Лопатин».
— Вот уж чего я никак не ожидала! — произнесла Адель, прочтя это длинное послание, и вдруг расплакалась.
Она не поняла и половины письма, не поняла, то есть, его настоящего значения, но инстинктивно почувствовала, что дело как-то неладно, что ей бы не следовало получать таких писем, что в этом письме есть что-то обидное, более того — оскорбительное, вызвавшее из ее глаз эти невольные слезы.
«Зачем тут так часто, он о маменьке говорить? — подумала она. — Разве пойти показать ей это письмо, поговорить с ней — пусть она объяснит мне, что же это такое!»
И с этим решением Адель утерла глаза и вошла в гостиную к Фридерике Казимировне.
Маменька сидела за книгой и сделала вид, что не заметила, как вошла Адель; она даже отвернулась немного от двери, как только услышала шаги дочери.
— Мама... — начала Адель и остановилась.
— Ах, Адочка, ты уже вернулась? — удивилась и обрадовалась Фридерика Казимировна.
— Вот, мама, я письмо получила, и письмо такое странное...
Вдова бегло взглянула в глаза дочери.
«Заплаканы, — подумала она, — это ничего»...
— Письмо, от кого? — спросила она вслух.
— От Лопатина!
— Скажите! Что же это он тебе пишет? Это интересно... Покажи!
Адель протянула ей письмо.
— Он такой славный, такой добрый и честный человек, — говорила маменька как бы про себя. — Это очень мило, очень мило с его стороны: не забывать своих хороших друзей!
— Однако, мама, мы вовсе не так коротко знакомы с ним. Он был у нас всего три или четыре раза; положим, что в обществе мы встречались довольно часто...
— Ах, какой шутник, ах, какой шутник! — произнесла вслух Фридерика Казимировна, прочитывая письмо. — Ба, ба, ба, да это прелестно... гм... Как, только две тысячи на дорожные приготовления!.. Что же ты стоишь, Адочка? Садись вот тут, поближе ко мне... «Катушкин докатит!» Ха, ха, ха! Какой балагур... Ну, сказочная царица, — она взглянула на Адель нежно-нежно и даже пожала ей руку, — тебе это нравится?
— Мама, ты довольна, ты не шутишь? — удивилась Адель.
— Конечно, нет; чего же тебе еще желать лучшего? Да это просто находка, клад, особенно в такое время, когда дела наши так плохи!
— Значит, это правда, что пишет Иван Илларионович о наших делах?
— Правда, более, чем правда! — вздохнула Фридерика Казимировна и поднесла к глазам платок с кружевным углом.
Задумалась Адель и замолчала; замолчала и маменька, наблюдая из-под платка за теми складочками, которые то набегали, то расплывались снова на высоком, красивом лбу задумавшейся девушки.
— Мама, да скажите мне, наконец: что это за гувернантки, которым платят по шести тысяч в год и обставляют, как сказочных цариц? Я об этом прежде никогда и не слыхала, это что-то очень странно!
— Есть такие гувернантки, есть! — решительным авторитетным тоном произнесла Фридерика Казимировна. — Особенно там, где так мало женщин... воспитательниц-женщин, — поправилась она. — Притом и другие условия; трудность путешествия, некоторые лишения... Все это оценивается...
— Это что-то подозрительно!
— Ты, наконец, начинаешь мне надоедать!
— Мама, да скажи же ты мне: о чем же хлопочет тут Лопатин, из-за чего? Ну, положим, кому нужна гувернантка, тот и пиши, и приглашай, а Лопатин?..
— По дружбе ко мне и по любви к тебе!
— По любви?
— Да!
— Мама…
— Ты разве не заметила, скажите! А я так давно, давно все заметила... Прекрасный человек, миллионер... Конечно, одна беда, что женат, но если бы, ах, если бы!..
— Так он женат?.. Я этого не знала!
— Но это такой вздор... — Фридерика Казимировна немного смутилась. — Жена его совсем умирающая, больная женщина, она живет где-то на юге в провинции, и час-от-часу Лопатин ждет известия о ее смерти... Они разошлись уже лет десять; это почти забытая, старая история. Разве он не говорил тебе об этом?
— Нет, мама!
— Ах, как он тебя любит! Нежно, сильно, как дочь, как... Когда он раскрыл передо мной свое сердце, я не могла удержаться от слез, я и теперь готова заплакать, как только вспомню его трогательное прощание!
Адель передернула плечами.
— Ты просто камень, просто камень! Я уже сто раз говорила тебе это. Молодая девушка, только что из института, а такое черствое сердце!
— Да ведь он не к себе же приглашает меня в гувернантки; у него нет ведь детей?
— Это все равно; может быть, он хлопочет для какого-нибудь там семейства, а сам рассчитывает только на счастье тебя видеть, быть к тебе поближе. Это очень просто!
— Просто... Нет, мама, я отсюда не поеду!
— Что?
— Я отсюда не поеду: я не хочу ехать, я не могу…
Адель приготовилась было плакать.
— А, — протянула Фридерика Казимировна. — Вот как... Ну-с, так извольте слушать!
Фридерика Казимировна встала и начала порывисто ходить по комнате.
— Сегодня утром, когда тебя не было дома, приходил сюда пристав описывать все, что только у нас есть... Еще вчера я разменяла последние десять рублей; пойми ты: последние; у нас с тобой ничего нет, ничего, кроме наших гардеробов, и на те, пойди, посмотри, — ты, верно, не успела заметить, — этот скверный пристав понаклеивал красные печати!
— А мое платье, черное, новое? Мне оно так сегодня нужно! — испуганно спросила Адель.
— Твое черное платье тоже под печатью.
— Это ужасно! Это ужасно!
— Более, чем ужасно. Но этого мало. Векселя поданы ко взысканию, и меня хотят посадить в тюрьму!
— Мама, да не шути так страшно!
— Я не шучу, дитя мое!
— Что же нам делать? Что же нам делать?..
— Сегодня утром я тоже получила письмо от Лопатина; оно воскресило меня, оно так много дало мне надежд... Я его покажу тебе после, пока надо приготовляться к отъезду. Тут остается один, адвокат, что ли, я не знаю, ему Иван Илларионович поручил хлопотать по моим векселям, а мы через неделю, много через две, должны выехать из Петербурга!
— Я, мама, не могу ехать!
— Да ты с ума сошла!
— Поезжай одна, если хочешь...
Адель решительно взглянула на свою мать; та принялась что-то соображать.
— Ах да, — произнесла она, — вчера был у меня Хлопушин; он встретил Жоржа...
Адель вдруг покраснела до ушей; маменька лукаво улыбнулась.
— И, представь себе, Хлопушин говорил мне, что Жорж тоже туда едет, и не позже, как этой же весной!
— Мама, ведь это очень далеко!
— Нет, не так чтобы очень...
— Мы поедем в коляске или все по железной дороге?..
— Это, дорогое дитя мое, не наша забота. У нас будет господин Катушкин, который нас отлично докатит прямо на крышу к Ивану Илларионовичу!
Фридерика Казимировна засмеялась и нежно прижала свою Адель к материнскому сердцу.
III Груз баржи №9, под литерами И.Л.
Был прекрасный весенний день. Все кругом смотрело как-то особенно весело и празднично. Все казалось не тем, что есть на самом деле. Все, до сих пор серое, бесцветное, однообразное, играло и пестрело, залитое яркими лучами апрельского солнца, самыми блестящими красками; далее казенные пакгаузы и склады соли, глинистый обрыв, круто спускающийся в реку, топкая грязь у пристани, через которую вели дощатые настилки для проходов, черная дорога, поднимающаяся извилиной на гору, с засевшими по ступицу тяжелыми возами, — все было такое красивое с виду, чистенькое... Серые суконные армяки, заплатанные до последней возможности, бараньи полушубки, засаленные купеческие кафтаны казались какими-то театральными костюмами. А Волга, широкая, голубая, с золотистыми песчаными отмелями, была чудно хороша!.. Золотые верхушки церквей, выглядывающие из-за обрыва, красные и зеленые крыши домов, пожарная каланча с вилообразным шестом и с десятком ворон, поместившихся на его вершине, прозрачные кружевные группы деревьев, едва только покрытых нераспустившимися почками, — все это так отчетливо, резко рисовалось на синем фоне весеннего неба, точно ловко написанная театральная декорация, освещенная и с боков, и снизу, и сверху, и сзади, и спереди...
— Оченно прекрасно! — произнес парень в одной рубахе, приноравливаясь, как бы присесть половчее на опрокинутый бочонок с выбитым донцем.
— Особливо с устатку, на вольном воздухе! — согласился другой парень. Этот совсем был без рубахи, а в какой-то синей куртке, надетой прямо на голое тело.
— Подрядчик сказывал, что ежели к ночи все перетаскаем с баржи, еще четверть на нашу артель пожертвует! — сообщил третий.
— Перетаскаем! Нешто мы лошади!
— Отчего не перетаскать: коли ежели путем взяться...
— Гляди: до свету таскали, а все не видать убыли; самый махонький уголок отобрали...
— Кому наливать... Дядя Кондратий где?
— Побежал за селедками!
— Садись, ребята, сюда на кули...
— Желаем здравствовать. Господи, благослови!
— ...Как я, значит, коленкой да об угол... ну, и шабаш!
— А дядю Павла краном по лбу-то... инда загудело!..
Рабочая артель принялась завтракать.
Пароход «Соликамец» вчера вечером пришел на самарскую пристань; он привел на буксире две баржи с грузом. Едва только начало рассветать, как на палубах обеих барж собрались заранее нанятые артели для выгрузки товаров, и началась кипучая работа. Сперва все бочки таскали какие-то; на поворотных кранах вытягивали их снизу и скатывали по наклонным подмосткам; потом за ящики принялись; а больше всего возни было с паровым котлом и еще какими-то машинами, разобранными по частям и тщательно завернутыми в рогожи.
— Ну, еще, ну, разом!.. — кричал один из десятников артели.
— Навались, ребята, навались! — вопил другой.
— Маленечко бы еще, он бы сейчас и пошел! — убеждал третий.
Но, несмотря на эти возгласы, паровик только покачивался под натиском нескольких десятков рук и никак не хотел удержаться на толстых катках, по которым ему предстояло опуститься на платформу пристани.
— Вот с этим самым дьяволом мы в Нижнем как возились: двоим ноги отдавило совсем, а у одного внутри лопнула жила с надсаду! — сообщал матрос, сидя на канатном свертке и равнодушно поглядывая на толпящихся вокруг паровика работников.
— Э, послушайте, это надо так! — подошел к пристани господин в костюме туриста, с сумочкой через плечо и с пледом, небрежно перекинутым через руку.
— Чего-с?.. — остановился один из десятников.
— Я сам немного механик и понимаю... Вы веревками опутайте так, потом перетяните эдак и потом тащите сюда!
— Ребята, слышь, немец сказывает путай так, тяни эдак, а опосля вытягивай сюда...
— Ну, его к дьяволу!
— Это немца-то?
— А ну-ка вдруг...
Эх, дубинушка, ухни,
Эх, зеленая сама пойдет, сама пойдет. Ух!
— Стой!
— То есть, ни Боже мой, ни на полпальца!
— Взопрели страсть, ребята, шабаш! Гляди, меркуловские водку лопают!
— Ты вот гляди, какие такие слова?
— Где?
— Вот на боку, красной краской обозначены!
Рабочие принялись рассматривать значки и буквы, начерченные бойкими мазками на паровике и на тюках с машинами.
— Одно слово будет тебе «иже», — прочел отставной солдат, водя пальцем, — другое, значит, «люди»!
— Клеймо! — сообщил матрос.
— Иже и люди! — в раздумье повторял солдат.
— И на всяком-то тюку это клеймо обозначено! — произнес один из работников, надевая в рукава какую-то синюю ветошь.
— Позвольте-ка, друг любезный, мне пройти, посторонись, голубчик, землячек, подайся маленько вправо... ну-ка, ты!.. — пробирался сквозь толпу пожилой человек, одетый, как ходят средней руки торговцы из казанских татар.
— Вчерашнего числа прибыть изволили?.. — обратился он к матросу.
—- Чего-с? — отозвался тот.
— Пароход «Соликамец» прибыл вчерашнего числа? — повторил вопрос пожилой человек.
— Вчера вечером…
— Так, а ежели... Да позвольте спросить, вы при барже-с состояли, или где в другом месте?
— При барже № 9. Вот при этой самой!
— Желательно бы мне знать было... Вот я вижу, тут машины идут, опять и другой товар — все одной фирмы; и так как фирма эта мне доподлинно известна, то позвольте спросить, кто при машинах и прочем приставлен был, и где мне их можно видеть?
— А я почем знаю...
Матрос сплюнул, переменил позу, надавил пальцем табак в своей трубочке и отвернулся.
— Как же вам не знать: столько дней вместе шли; верно, видели-с?
— Мое дело особенное, мне что!
— Совсем я не такой человек, чтоб не знать своего дела, и ежели вам можно отлучиться на полчасика, то мы-бы...
— Давай просто двугривенный, я ужо вечером сам забегу!
— И самое лучшее; на-ка, братец, да говори проворней; мне отыскать его нужно: дело есть!
— Вот ежели палубу вымыть, опять когда на якорь становимся, воду выкачивать, а до всего прочего... В синей чуйке немецкого покроя, надо полагать, не из русских, однако, говорит понятно, Богдан Карлычем кликали, с капитанским помощником вон по той дороге на гору пошли; когда будут назад, ничего не сказали!
— Гм... — произнес любопытный господин в татарском бешмете и принялся рассматривать клейма.
Эти клейма и его заняли так же, как и рабочих, но только те посмотрели, пальцами потрогали, узнали от солдата, что эти слова означают, и пошли завтракать, а он долго и внимательно осмотрел все тюки, на которых только краснели буквы И. и Л., обратил внимание на количество пудов, выставленное на паровике и машинных частях, вынул записную книжечку и карандашом что-то наметил, еще раз обошел вокруг паровика, кивнул головой матросу, поглядывавшему на него искоса, и медленно, степенно стал переходить по доскам с палубы баржи на пристань.
А на мостике парохода «Солзкамец», сидя верхом на складном стуле и положив на колени газету, которую только что читал так усердно, капитан с английской рыжей бородкой, в куцем пиджаке и ботфортах, наблюдал в бинокль белую струю дыма, чуть поднимавшуюся над горизонтом.
— «Самолетский»! — произнес другой господин, поднимаясь на мостик и тоже присматриваясь в даль.
— «Царевич»; идет ходко, однако по расчету опоздает на два с половиной! — произнес капитан.
— Как даль обманывает глаз ведь вот, кажется, и близко, а поди ж ты!
— Оптический обман!
— Я думаю, в открытом море... Вы там плавали, капитан?
— Нет, я из речных.
Чуть слышно донесся по ветру гул парового свистка. На пассажирской пристани поднялась суматоха. Десятка два извозчичьих дрожек, так называемых долгушек, которые только и можно встретить в степных местах и в поволжских городах, разбрызгивая колесами дорожную грязь, во весь карьер катили с горы, обгоняя друг друга и стараясь занять места поближе к пристани.
Над самым обрывом, обнесенный тесовым желтым забором, стоял одноэтажный старый дом с покосившимся мезонином; над всеми окнами этого дома тянулась надпись, по красному фону белыми буквами: «Трактир златокрылого лебедя», а на фронтоне мезонина изображен был и самый лебедь, кольцом перегнувший длинную, тонкую шею. В первой комнате этого трактира, в так называемой «общей», все столы были заняты рабочими, матросами и всяким сереньким людом; в чистой же половине, у самых окошек, сидели только две группы: одна, состоящая из четырех татар-купцов в лисьих бешметах и шитых золотом шапочках, другая — из двух только собеседников: капитанского помощника с парохода «Соликамец» и другого господина, весьма близко подходящего к описанию матроса на барже № 9. Татары, все в поту, расстегнувши широкие вороты шелковых рубах, засучив длинные рукава бешметов, пили чай, доканчивая шестой чайник солидной вместимости; те же двое дожидались селянки из живых стерлядей, а пока пили английскую померанцевую, закусывая солеными грибами.
— И отсюда сухим путем! — произнес господин, описанный матросом с баржи № 9.
— Далеко, — ух, далеко! — вздохнул капитанский помощник.
— Очень далеко! — согласился его собеседник.
Действительно, иностранный акцент ясно слышался в говоре этого господина, хотя видно было также, что он хорошо усвоил себе русский язык и даже знаком был с некоторыми особенностями народной речи.
— Я полагаю, что везти этакую тяжесть на колесах чуть не четыре тысячи верст придется не менее года?
— По нашим расчетам, в укрепление «Уральское» транспорт прибудет около половины июля; а там...
— Ты, родной, пожалуй-ка мне сюда порцию ветчины с хренком и полынной графинчик; вот к этому столику!
В комнату вошел новый посетитель, в гороховом пальто, в картузе с наушниками, с дорожным мешком в руках и с большим дождевым зонтиком. Господин этот, не обращая никакого внимания на своих соседей, уселся за столик, поставил около себя мешок, отдал трактирному мальчику зонтик с картузом и, потирая руки, крякнул в ожидании ветчины с хренком.
— Слышь, Павлуха, — шепнул один из рабочих другому, когда господин этот проходил через общую комнату, — чтобы мне с этого места не встать, если я его не видал нонче у нас на барже!
— Может, и он; нам што...
— Нет, только чудно, что с рожи как есть он, одежа не та!
— Да тебе-то што?
— А мне наплевать! Кипяточку бы... парень!
— Огурцов соленых кто требовал? — звонко кричал мальчишка в красной рубашке, помахивая над головой тарелкой с огурцами.
— Ну, а из «Уральскаго»? — спрашивал капитанский помощник.
— Там уже подряжены киргизы везти до Казалы на верблюдах; а там по Сыр-Дарье на пароходе. В первых числах сентября должны быть на месте!
— Должно быть, богатый человек этот господин Лопатин?
— Не знаю; я с ним незнаком вовсе; нанят я по переписке, через наше агентство; должен доставить машины, установить их на месте, а затем, ежели не захочу оставаться у него на службе, обратный проезд мне гарантирован. Деньги, впрочем, господин Лопатин пока платит очень хорошо!
— Извините, если я позволю вас перебить...
Господин в гороховом пальто пододвинул свой стул поближе.
— Так как я сам оттуда, и мне господин Лопатин весьма известен...
— Вы из Ташкента?
— Так точно... Позвольте представиться: Сладков, Филипп Петрович!
— Эдуард Симсон! — приподнялся со стула господин с иностранным акцентом.
— Весьма любопытная сторона! — произнес капитанский помощник.
— Еще бы-с! — с некоторым умилением произнес Сладков, Филипп Петрович.
— Так вы господина Лопатина хорошо знаете? — спросил Эдуард Симсон.
— Господи Боже мой! Да вы спросите, кто из тамошних его не знает? Мальчишка какой-нибудь, сартенок, от земли не видать, а спросите его: где живет Иван Илларионович? Сейчас, бестия, вас за полу и к самим воротам ихнего дома предоставит. Человек оборотистый, торговый; деловой человек, голова!
— С капиталом? — полюбопытствовал капитанский помощник.
— Сила, а со временем миллионами будет ворочать!
Сладков совсем пододвинулся к столу и даже перенес с собой тарелку с ветчиной. Трактирный мальчик переставил полынную по соседству с английской-померанцевой.
— Ну, да и край же, я вам доложу, золотой край для всяких торговых предприятий; то есть, за что ни возьмись, и ежели при этом еще деньги — ффа! Все это внове, нетронутое, запускай руки по самые локти, греби знай... ну, да вот вы сами увидите...
— Меня, признаться, это все очень интересует!
— Ну, понятно. Тут вам навстречу еще выслан от Ивана Илларионовича Катушкин, не видались еще?
— А вы знаете и господина Катушкина?
— Ивана Демьяныча то? Ха, ха... Еще бы, — друзья: водой не разольешь. Бывало, вместе...
— Вот не едет что-то. Должен был еще вчера быть в Самаре, — нет; что-нибудь задержало, видно, в дороге!
— Ничего-с, это случается; настоящих почтовых трактов нет пока, то есть, они и есть, но, знаете, еще в таком сыром виде.
— А этот Катушкин с транспортом тоже пойдет через степи?
— Не знаю; наем киргизов в «Уральском» и расчет с казаками, что взяли доставку до «Уральского», поручены ему!
— Так-с; человек бывалый: он все это знает!
— Прикажете? — Эдуард Симсон поднес Сладкову портсигар из желтой кожи.
— Сигарочку-с? Позвольте-с. Много-с у вас грузу, много-с!
— Да, порядочно; особенно этот паровик. На пристанях у вас все как-то не приспособлено!
— Ну, а эти вот, что в рогожах... досками обделаны?
— Это новая машина для размотки шелка, тоже с паровым приводом; очень полезное применение!
— До всего доходит человек! — еще раз умилился Филипп Петрович. — Ящики вот опять у вас, штук двести будет; ну те не так чтоб тяжелы!
— Это товары: галантерейный и ткани — не по моей части; при них особо есть приказчик!
— В одном караване пойдете или порознь?
— В одном, если паровик не очень затруднять будет!
— И прекрасно сделаете; верьте моей опытности: исходил я эту степь вдоль и поперек, знаю я ее, все одно вот как свои ладони! — Сладков вытянул обе руки ладонями кверху. — Да-с, самое лучшее не разбиваться: несколькими днями позже, за то вернее!
— Впрочем, это будет зависеть от господина Катушкина!
— Еще-бы: «Катушкин туда, Катушкин сюда» — доверенное лицо, первый агент у Ивана Илларионовича!
— Я слышал, — начал капитанский помощник, — что у вас в степи не совсем покойно нынче?
— Пустяки-с, «косоглазые» пошаливают, однако, все это при должных мерах, одни пустые страхи!
— Но однако? — вставил Эдуард Симсон.
— Мне ли не знать... Весьма-с, весьма-с приятно познакомиться; позвольте для такого случая бутылочку «тенерифцу», а то шипучего. Эй, мальчик!
— Кроме водки и пива ничего...
— И прекрасно... Любезный, портеру лекоковского четыре бутылки! — скомандовал Филипп Петрович.
Капитанскій помощник вытер усы салфеткой; Эдуард Симсон слегка пожал плечами. Мальчишка в красной рубашке, заложив между ног бутылку, неистовствовал ломаным штопором над осмоленной пробкой.
— Здравия желаем-с... Извините, господа, ежели я теперь немного выпивши! — На пороге показался тот самый матрос, что сидел на канатах баржи № 9.
— Ну, ступай, ступай! — вцепился в него трактирный мальчишка. — Сюда нельзя!
— Нет, ты оставь, потому я говорю с барином, с господином то есть. Так как...
Матрос сильно качнулся в сторону, где сидел Сладков.
— Лево на борт! — кричал из соседней комнаты товарищ его, тоже матрос с «Соликамца».
— Потрафлю! — огрызнулся первый. — Ежели я, сударь, был супротив вашей милости свиньей, то потому больше, что по одежде…
— Ну, однако, ступай, любезный, тебе здесь не место!
— А вот я его, подлеца!
Капитанский помощник, сжав кулаки, поднялся со стула.
— Виноват, я, значит, больше... я уйду, — смутился матрос: он только сейчас заметил присутствие начальства.
— Ваше здоровье! — провозгласил Филипп Нетрович, поспешив замять неприятную сцену.
Все трое слегка чокнулись стаканами.
IV Обитательницы №26 гостиницы под фирмой «Отель Европа»
Большой двухэтажный дом, с надписью под самой крышей «Отель Европа», заметнее всего красовался на городской площади, бросаясь в глаза своей светло-желтой массой. Дом этот смотрел на площадь сорока шестью окнами, и в каждом почти окне поминутно показывались и исчезали столько же, если не больше, самых разнообразных лиц, населявших «номера отеля».
Да, это было хорошее время для мещанина Антошкина, хозяина «Отель Европа»; давно он не помнит такого времени. Прежде, бывало, по целым неделям, даже месяцам, пустуют заново отделанные номера; ключи успеют приржаветь к замкам, пыль накопится вершковая на клеенчатой мебели, пауки заплетут все углы, протянут нити от зеркала к камину, от камина через канделябр на ширмы, с ширм на шляпу алебастрового рыцаря на угольной тумбе, оттуда опять куда-нибудь в темный угол; а теперь...
— Ну, времена... — вздыхает сам хозяин, мещанин Антошкин, сидя у ворот на крашеной лавочке; не грустно вздыхает, а этак полной грудью, с некоторым довольством; так вздыхают после очень сытного обеда, как бы сожалея, что уже больше «некуда». — Да-с, ну, времена, что делать, и рад бы, да все, все, то есть, занято до последней конуры; ну, и не взыщите!..
И, прищурив глаза от ярких лучей весеннего солнышка, смотрит он вслед отъезжающему, тяжелому, как верблюд навьюченному, тарантасу казанской работы, увозящему какого-нибудь самарского землевладельца, приехавшего в город по тяжебному делу.
— Наплыв? — произносит господин в военной шинели, показываясь на крыльце.
— Так точно-с! — приподнимает картузик мещанин Антошкин.
— Да, много наехало, — говорит военная шинель. — Вот я вчера прямо с парохода в «Милан» — занято, в «Москву» — битком набито, в «Арзамас» к Малинину — тоже; фу, ты, думаю, положение; приезжаю сюда — только-только один свободный...
— Минуточку опоздали бы, и того не нашли бы. Генерал спрашивал с парохода «Царевич»...
— Извозчик!
Несколько долгушек и две пролетки подлетают к подъезду.
— Куда бы?! Вези по городу! — произносит военная шинель и садится верхом на ближайшие дрожки.
— Обозревать едете-с? — раскланивается мещанин Антошкин.
— Да, посмотреть поехать: как, что тут у вас!
— Номерок не дороже двух с полтиной, — подходит матрос с парохода. — Барыня просила приказать...
— А этого хочешь?
Мещанин Антошкин придает своему протянутому кулаку несколько оскорбительно-игривую форму.
— Что так? — удивляется матрос.
— Занято! — коротко отвечает хозяин и даже отворачивается.
На лестнице, уставленной чахлыми растениями, по коридорам, устланным полосатыми ковриками, во всех номерах, двери которых большей частью были растворены, то до половины, то совсем уже настеж, царствовали самые разнообразные шум и движение. Только дверь с цифрой «26» была заперта изнутри, и там было так тихо, что можно было подумать, что или спят по целым дням обитатели номера «26», или же там совсем нет никаких обитателей.
Номер этот был занят по письменному уведомлению и долго стоял пустым в ожидании приезда нанявших. Дня четыре тому назад приехали две дамы, показали в конторе какую-то карточку, и их провели в этот номер, который был самый парадный и комфортабельный во всей гостинице. За номер этот было заплачено столько, сколько запросил мещанин Антошкин, а запросил он так, не руководствуясь никакими соображениями, по наитию свыше, должно быть, и потом весьма жалел, что запросил мало.
Несколько раз в день в 26-й номер приносились подносы с чаем, завтраком, обедом, ужином; судя по пустой посуде, выносимой обратно, видно было, что дамы обладали здоровыми желудками и очень хорошим аппетитом. Багаж обеих путешественниц был уважительных размеров, и все, начиная от массивных венских сундуков, оклеенных суровым полотном, до самых миниатюрных несессеров с ногтевым и туалетным приборами, было крайне изящно и ценно.
Дамы эти были очень чистоплотны, потому что умывались по нескольку раз в день, и нарочно приставленная к их номеру горничная то и дело приносила в кувшинах свежую воду и выносила обратно все, что оказывалось лишним.
Дамы эти были крайне нелюбопытны, потому что решительно не хотели высунуть носа из своего номера, не подходили слишком близко к окнам; и когда отворялась дверь, чтобы пропустить человека с подносом или горничную, то случайно мимопроходящие (а их каждый раз было по нескольку человек разом) никак не могли видеть в комнатах ничего, кроме чего-то шелкового, светло-лилового, перекинутого через спинку одного из кресел, да угла плетеных ширм, на котором висела маленькая дорожная сумочка.
А между тем в номере 26-м, в антрактах между завтраками, обедами, ужинами и чаями, велись следующие разговоры:
— Мама, да ведь это, наконец, ужасно скучно... — чуть не плакала хорошенькая Адель, тоскливо бродя из угла в угол и щелкая по паркету каблучками своих изящных шелковых туфель.
— Что же делать? Надо ждать! — спокойно произносила Фридерика Казимировна, сидя с ногами на диване, что было любимой ее позой.
— Эти четыре дня тянулись для меня бесконечно. Мне кажется, что это было так давно, давно, как мы оставили каюту парохода. Шутка ли: четыре дня!..
— Терпение, — это все, что я могу посоветовать!
— Я умру со скуки!
— Не умрешь!
— Ах, Боже мой, Боже мой! Этот проклятый Катушкин не едет... свинья, дурак, рябая рожа!..
— Почему ты думаешь, что у него рябая рожа; ведь ты его никогда не видала?..
— Я сама не знаю; мне так кажется...
Несколько минут молчание. Фридерика Казимировна сидит, не меняя позы; Адель ложится на кровать.
— Мама!
— Что, дитя мое?
— Разве мы не можем сами ехать дальше?..
— Нет!
— Это почему?
— Ты знаешь, что у нас нет почти ни копейки; если заплатить по тому счету, что сегодня прислал наш хозяин, то у нас... впрочем, что же я говорю, даже и половины счета мы заплатить не в состоянии!
— А если Катушкин не приедет?.. — понизив голос, спрашивает Адель и даже на локте приподнимается.
— Тогда... Ах, Ада, какие ты глупости говоришь!
— А если Катушкин не приедет?.. — настойчиво повторяет Адель.
Фридерика Казимировна, в свою очередь, начинает тоскливо пожиматься на диване.
— Не съесть ли нам чего-нибудь? — спрашивает она и протягивает руку к столовой карте.
— Нет, ты мне скажи: что, если Катушкин не приедет?
— Этого быть не может, не может, не может! Ах, да не расстраивай меня, Ада: мне и без того...
— Что?..
— Конечно, сомнения быть не может никакого. Иван Илларионович не такой человек; ну, что-нибудь задержало... вот и все. Надо ждать и ждать...
— Разве котлетку из телячьих мозгов?.. — говорит Адель.
— Позвони! — говорит Фридерика Казимировна.
— И что мы все сидим взаперти, что мы прячемся? — опять начинает волноваться Адель.
— Вероятно, так нужно!
— Странно: мы едем по приглашению Ивана Илларионовича в Ташкент; мне там предлагают место... Разве в этом есть что-нибудь предосудительное?..
— О, помилуй, что за глупости. Но вот видишь; Лопатин писал мне (ведь я показывала тебе это письмо), он писал мне, чтобы мы... как это он выразился так, очень эдак... — Фридерика Казимировна сделала какой-то округленный жест своей пухлой рукой.
— Чтобы мы «дорогой не очень кидались всем в глаза!» — напомнила Адель.
— Да, вот ты сама видишь. Я не знаю, почему это нужно Ивану Илларионовичу, но отчего же в угоду ему не соблюсти этого инкогнито. Это даже довольно интересно; знаешь, в романах это случается довольно часто: какая-нибудь герцогиня или...
— Удивительно интересно: тоска эдакая!
— Ты просто хандришь!
— Да, да, да, да… — расходилась Адель.
— Да тише же!
— Мама, пойдем вниз к общему столу!
— Что ты! Ни за что!..
— Там так весело; шумят так, разговаривают!
— Но ты забыла, что там неудобно быть дамам?
— Неправда: соседки наши обедают там, из номера напротив тоже, из нижнего этажа целое семейство, только мы одни...
— Инкогнито! — протянула Фридерика Казимировна.
— Ну, ты, мама, и сиди со своим «инкогнито», а я пойду одна...
— Адель, ты ужасно можешь напортить!
— Это еще почему?
— Ах, Адель, как я могу объяснить тебе это понятно? Ну, вот видишь ли... Да что же это, в самом деле, Катушкин не едет?
Фридерика Казимировна чуть не заплакала.
— Знаешь, мама, каждый раз, как отворяют нашу дверь, я смотрю в щелку, сквозь ширмы, и вижу всегда одного и того же господина... Он меня начинает немного занимать...
— Удивительно интересно торчать перед дверью: должно быть, делать больше нечего...
— Василий ли входит, Дуняша ли, каждый раз, чуть приотворится дверь, он уже тут!
— Шалопай какой-нибудь. Их много теперь туда едет!
— Он немного похож на Жоржа, только значительно старше!
— Ого, ты успела рассмотреть!
— Тут еще одного я заметила, блондин с длинными усами: у него четыре собаки, и он их все дрессирует в коридоре.
— Ах, этот Катушкин, эта неизвестность!..
— Терпение — это все, что я могу посоветовать! — передразнила свою мать Адель.
Василий, трактирный слуга, внес поднос с порцией мозговых котлет. Адель кинулась к ширмам и приложила глаза к щелке.
— Адель, mais finissеz donс! — крикнула Фридерика Казимировна. — Дверь зачем оставляешь открытой? — обратилась она к Василию.
— Потому с подносом, никак невозможно; я было толкнул ногой...
— Мама, смотри, он опять там стоит!
Ледоколов стоял почти в самых дверях; его отлично видела Адель со своего наблюдательного поста; его успела заметить Фридерика Казимировна, выглянув из-за высокой спинки дивана; только он ничего не мог видеть, кроме угла ширм с висевшим на нем саквояжем и шелкового капота г-жи Брозе, все еще неубранного со спинки кресел.
Положение Фридерики Казимировны с дочерью было действительно несколько затруднительно. До сих пор все шло превосходно. Из Петербурга выехала она, не очень беспокоясь о состоянии своего бумажника, и вынимала оттуда столько, сколько ей нужно было в данную минуту, не справляясь, сколько там оставалось. Семейный, спокойный вагон, отдельная, прекрасная, комфортабельная каюта на пароходе, предупредительность и внимание кондукторов, капитана и пароходной прислуги; это почтительное любопытство, которое видно было в глазах всех спутников, когда ей приходилось выходить из каюты и показываться на палубе парохода, что, впрочем, делалось только в виду крайней необходимости; наконец, то обстоятельство, что едва только пароход пристал к берегу, как явился слуга из гостиницы Антошкина сообщить, что комната для г-жи Брозе с дочерью готова, — все это сильно тешило воображение Фридерики Казимировны, и если дочь ее довольно безучастно относилась к этим явлениям, зато маменька ее строила самые фантастические планы, и в голове ее бродили, беспрерывно сменяясь, все эффектнейшие страницы прочитанных ею романов, в героинях которых она видела то себя, то свою прелестную Аду. Но вдруг как-то пришлось заглянуть в бумажник, и... Фридерика Казимировна даже похолодела вся, и в глазах у нее заплясали фарфоровые божки, спокойно стоявшие на каминной полке.
— Ада, у нас так мало денег! — тихо, с некоторым дрожанием в голосе произнесла Фридерика Казимировна.
— Ну, так что же?
— У нас почти нет вовсе денег!
Адель слегка вздохнула и ничего не отвечала, а Фридерика Казимировна поплакала немного, позвонила, спросила чего-то поесть и успокоилась.
Теперь вся надежда ее была на Катушкина, который, по последнему письму Лопатина, должен был встретить их в Самаре; а между тем вот уже четыре дня прошло, а его нет, как нет. Вчера хозяин счет прислал, — вот он лежит на столике; счет этот весьма солидный; послезавтра надо ждать еще такого же. А если Катушкин еще несколько дней не приедет, — если он совсем не приедет? Разве она знает, что его задерживает? Да и существует ли еще этот Катушкин, о котором она и знала только из писем Ивана Илларионовича? Может быть, это просто миф? А если хозяин потребует денег и скажет, что он ждать не хочет и что он знать не знает никакого Катушкина... Фу!.. Опять холодный пот обдал ожиревшие формы Фридерики Казимировны; она даже есть перестала и отодвинула от себя тарелку со стерлядкой, залитой каким-то лимонным соусом с грибками, каперсами и всякой всячиной.
Когда Фридерика Казимировна показывала своей дочери письма Лопатина, она многое успела скрыть от нее, что, по ее мнению, касалось только ее одной; она, например, скрыла следующее место письма: «Зная впечатлительность Адели, мне весьма приятно было бы, если бы дорогой случаи к развлечению представлялись как можно реже („случаи к развлечению“ было подчеркнуто). Говорю с вами откровенно, уважаемая Фридерика Казимировна, ибо вы женщина опытная и поймете сами, в чем дело. Много теперь едет к нам всякого народа, и молодого, и старого; найдутся непрошеные провожатые, попутчики; дорогой знакомство сводится быстро: люди в день, много два, становятся на короткую ногу; в дружбу лезут, а там... эх! Да вы, как я уже сказал, сами понимаете... не велика мне радость будет, если Адочка приедет ко мне с запятым сердчишком, а то, пожалуй, и еще того хуже. Вы не можете представить себе, что со мной делается; сплю и во сне вижу ее, наяву в глазах представляется... Эх, кабы я связан не был!.. Катушкину приказано от меня...»
Дальше уже шло все такое, что читала и Адель, а когда Адель занималась перечитыванием дозволенных материнской цензурой мест, то Фридерика Казимировна в это время обыкновенно глубоко вздыхала и произносила с особенным чувством:
— Ах, что это за человек, что это за удивительная душа, и как красив еще, несмотря на свои лета; впрочем, что же это и за лета в самом деле: каких-нибудь... и т. д.
А в бельэтаже за общим столом собралось большое общество; Адель была права, когда говорила; «там так весело; шумят, разговаривают».. Там, действительно, очень много шумели и разговаривали.
— Трезор, иси, подлец! Диана, сюда. О-го-го-го! Э, послушайте; там внизу, турните кто-нибудь Минерву, вон она, шельма, под ларь забилась: ну, иси, ну, иси, на, на!.. — кричал, стоя на площадке лестницы, блондин с длинными усами.
— С целой псарней вояжируете... — обратился к нему весьма пожилой чиновник, только что собственноручно выбравший из садка пару живых и вертлявых стерлядок.
— Со всей семьей!
— Так-с!
— Нельзя же; там, говорят, фазанов и разной дичи столько, сколько у нас в Рязани ворон. А та-та-та! Так ее, так ее! Да берите прямо за ошейник; она не кусается!
— Породистые?
— Настоящие аристократы собачьей породы... Ну, ну, ты что! Теперь лизаться? То-то!
— Господа обижаются, что собак с тарелок кормите, а потом энти самые тарелки... — начал один из прислуживающих за столом лакеев.
— А ну их, твоих господ!..
— Тс!.. Тс!.. — послышалось в разных местах.
— Мне небольшую рюмку простой водки! — подошел к буфету мальчик в кучерской поддевке и в лакированных сапожках. У этого мальчика были необыкновенно развиты бедра, и высокая грудь волновалась и сильно вытягивалась из-под красной кумачной рубашки.
— Манюся, ты это уже третью? — предупреждал кучеренка тощий зеленолицый господин в полувоенном костюме, около которого, рядом с прибором, лежал туго набитый портфель с медными оковами.
— Я маленькую! — пропищал кучеренок.
— Костюм для путешествия, особенно продолжительного, весьма удобный! — заметил сосед зеленоватого господина. — Знаете ли: из экипажа ли вылезть, в экипаж ли вскочить; опять пройти пешком прекрасно... с юбками это все не так способно!
— Если бы она была еще хорошо сложена, ну, это я понимаю, — наклоняется к уху своего супруга худенькая дама, — а то этот противный жир, фи, даже смотреть неприлично!
— Э, гм! — соглашается супруг, откашливая рыбью косточку и впиваясь глазами в этот противный жир.
— Смотри лучше себе в тарелку, тогда не будешь давиться костями! — язвительно замечает ему супруга.
А на другом конце длинного стола самое видное место занимал господин с громадными русыми бакенбардами с проседью. Он громко и энергично рассказывал; соседи внимательно слушали.
— Я туда вот уже третий раз еду, и мне эта дорога вот как известна!
Господин с бакенбардами вытянул кулак и разом распустил все пять пальцев.
— Эх, как бы приятно было иметь вас своим попутчиком! — вздохнул тот самый старичок, что справлялся о породе собак на лестнице.
— И эти все фаланги, тарантулы и скорпионы действительно очень опасны? — спрашивал сосед справа.
— Ну да, смотря, как придется, — многозначительно произнес оратор, — как придется!
— Это неутешительно!
— Надо привыкать: меня вот раз двести кусали; ничего, обтерпелся!
— Самое ужасное, говорят, это когда придется проезжать через Кара-Кумы? — спрашивает сосед слева.
— Да, да, вот я вам расскажу. Приезжаете вы на станцию. Стой — где станция?.. Ни следа; там колеса кусок валяется; тут головешка какая-то чернеет, и лежат только одиноко на раскаленном песке, в рамке с выбитым стеклом, почтовые правила о взимании прогонов и непричинении никаких обид и увечий ямщикам и смотрителю!
— Только-то? — удивляются со всех сторон.
— Только. Ямщик, этот косоглазый дьявол, сейчас лошадей выпрягает и марш-марш в степи, только вы его и видели; и остаетесь вы одни на произвол судьбе, пескам и всем четырем ветрам, и сидите день, сидите ночь, еще день, еще ночь, там неделя за неделей, месяц за месяцем...
— Ну, что вы говорите!.. Это невероятно!
— Отчего невероятно? Понятно, кто-нибудь поопытней подъедет и выручит, а там вы и сами наберетесь ума-разума и других будете выручать в свою очередь!
— Ну, вот видите ли, все-таки есть исход!
— А позвольте полюбопытствовать: в чем собственно состоит эта спасительная опытность?
— В чем?
— Да-с?
— А вот в чем-с!
Господин с бакенбардами встал, подошел к столу, где лежала его фуражка и еще что-то, взял это «что-то» и положил его на стол перед своим прибором.
— Нагайка?
— Она самая. Вот вам альфа и омега путевой премудрости!
Господин с собаками подошел к столу и стал за стулом: его очень заинтересовал рассказ опытного путешественника.
— Я делаю так, — начал рассказчик: — приезжаю на станцию или, правильнее сказать, в место, где предполагается станция, и с ямщика глаз не спускаю, сторожу его, как кот сторожит мышь, что высунула в щель свою голову. Ну-с, тот, конечно, сейчас лошадей выпрягать торопится, бестия, так что сбрую рвет зубами, а я тем временем из тарантаса вон; киргиз на лошадь, а я на него; сгреб за шиворот: стой! «Эй, тюра, кой!» — значит: оставь, пусти! — «Нет, врешь, не уйдешь: лошадей!» «Ат берды», каналья! «Где я лошадей возьму? — плачет мошенник: — Мои совсем пристали, дальше не пойдут, а других нет; где они — я не знаю, я с той станции, не мое дело!» А я сейчас бац! Вот этим самым инструментом! — Оратор приподнял нагайку. — Вой, вой! Я сейчас опять бац! А за воротник крепко держу; не вырвется. Благим матом визжит киргиз, на всю степь заливается, а туте сейчас и благие результаты этого концерта: из-за одного бугра лошадей ведут, из-за другого хомуты несут; колеса у вашего тарантаса снимают, салом мажут, лошадей вам запрягают, прогонов не берут, разве сами что-нибудь дадите, и с поклонами вас провожают. На следующей станции опять та же история...
— Но я не понимаю одного только, позвольте вас перебить, — обращается к рассказчику усатый блондин. — Ведь дело происходит в степи — их много?
— Много; человек десять набежит, а то и больше!
— Вы одни?
— Один!
— Не понимаю, воля ваша, не понимаю!
— А вот поймете, если испытаете. Таких трусов, как эта поганая орда, вы и во сне не видали!
— Да, полно, трусость ли это?
— А то что же?
— За последствия боятся, вот что!
— Гм, за последствия... какие там последствия!.. А вот еще один случай; приезжаю я на станцию «Джалавлы» — тут сейчас перед Кара-Кумами станция такая есть. Ну-с, приезжаю я в Джалавлы…
В зал быстро входят, почти вбегают, два молодых офицера в линейных мундирах; подпоручик Душкин и поручик Милашкин.
— А я увидал! — возглашает поручик Душкин.
— Я тоже видел! — сообщает также во всеуслышание поручик Милашкин.
— Кого, кого? — послышались вопросы.
— Обитательниц двадцать шестого номера! — в один голос произнесли вбежавшие. — Они теперь обе ходят по коридору: одна по своей охоте прогуливается, а другая уговаривает ее опять уйти в комнату, — потеха!
Несколько человек быстро встали из-за стола, задвигав стульями.
— Ты постой, братец, не убирай, — обратился к слуге зеленоватый господин, подхватывая портфель под мышку. — Ты, Манюся, подожди меня здесь!
Но его Манюся уже давно выскочила в коридор, дружески кивнув головой подпоручику Душкину и толкая слегка под локоть поручика Милашкина.
— Так вот приезжаю я в Джалавлы... — говорил господин с бакенбардами. — Э, да что там такое?
Его уже никто не слушал.
— Адель, mais flnissеz... это скандал! Посмотри, сколько их набралось... — уговаривала свою дочь Фридерика Казимировна, стоя в отворенных дверях своего номера.
Действительно, целая толпа, плотно притиснувшись друг к другу, заняла весь выход из коридора. Передние, несколько смущенные, мяли в руках захваченные со стола салфетки, задние напирали на передних. Каждый хотел, будто бы нечаянно, пройти по коридору мимо наших барынь, но маневр этот положительно не удался вследствие многочисленности маневрирующих.
— Ах, мама, да мне-то что за дело! — огрызалась Адель.
— Но это скандал! — шептала Фридерика Казимировна.
— Ай — невольно вскрикнула Адель, обернувшись: она только что сейчас заметила сборище при входе в коридор.
— Ну, что я говорила!.. Ты забываешь, что мы не в Петербурге, где никому нет ни до кого дела! — язвительно упрекнула ее г-жа Брозе, захлопывая дверь,
— Да это звери какие-то: я даже перепугалась, — говорила Адель. — А этот, что похож на Жоржа, он живет как раз напротив, дверь в дверь. Я видела, он сидел за письменным столом и что-то писал, а когда я вышла, он подошел к двери и все время стоял на пороге!
— Какие глупости тебя занимают!
— Он мне даже поклонился слегка!
— Ах, Ада, вот видишь, до чего доводят твои шалости!
— Я ему поклонилась тоже!
— Проклятый Катушкин!
— Господин тут вас один спрашивает! — доложил коридорный Василий, входя в номер и протягивая г-же Брозе маленькую бумажку.
— Кто такой? — спросила Фридерика Казимировна и сердце у ней ёкнуло.
— Господин, приезжий из степи; они там-с, в конторе; приказали записку отдать и ответ чтобы сейчас!
— Мама, это Катушкин! — произнесла Адель, пробежав записку и передавая ее матери.
— Проси! — произнесла Фридерика Казимировна, села на диван и приняла позу.
Коридорный Василий скрылся за дверью, и слышны были его торопливые шаги, когда он пробежал по коридору и начал спускаться по лестнице.
Адель встала спиной к окну и не спускала глаз с двери. И мать, и дочь сосредоточились на ожидании.
V В Губерлях
— Какая гроза нынче ночью будет, страсть! — произнес ямщик из местных казаков и стал тянуть из-под себя запасной халат.
— Да, что-то подозрительно солнце садится! — заметил Ледоколов — Чу! Гром никак?!
— Ветер из Чумного ущелья рвется; вот оно и гремит по горам; завсегда так, — объяснил казак происхождение глухого грохота, доносившегося до слуха путешественников. — Эй, вы, дьяволы, пошевеливайтесь, что ли!..
Он подобрал вожжи и подхлестнул пристяжную; та наддала задом и шарахнулась вбок, нажавши на оглобли; какой-то угловатый черный камень торчал у самой дороги и встревожил подозрительного коня.
— Испужалась!.. Нам бы только до станции добраться, а там ночевать будете, потому — в эту пору никто вас Губерлями не повезет!
— Опасно, что ли?
— Косогоры, обрывы, дорога чистый камень — скользко; опять не видать ничего. Долго ли до греха!
Сильный порыв ветра, налетевший совершенно неожиданно, чуть было не сорвал шапку с головы Ледоколова; тот уже почти налету прихватил ее рукой.
— Надо верх поднять. Подержи лошадей!
Звон колокольчика и стук колес по каменистой дороге замолкли, когда ямщик остановил лошадей. Глухой, заунывный вой доносился снизу из ущелий, затянутых темно-сизым туманом. Солнце село за громадную черную тучу, медленно поднимавшуюся из-за горизонта. Ярко-красный, багровый свет пылал из-за этой тучи, и, словно раскаленные, рисовались на вечернем небе отдельно разбросанные, скалистые вершины. Дорога шла по уступам каменистых холмов, беспрестанно поднимаясь и опускаясь. Направо и налево чернели местами глубокие трещины; жалкие кустарники цеплялись кое-где по откосам.
В стороне, на высоком косогоре, наискось торчала одинокая полувысохшая сосна; вершина дерева, расщепленная громовым ударом, высоко поднималась, упираясь в самое небо своим занозистым, обуглившимся острием, и вот-вот собиралась прорвать грозно надвигавшуюся тучу.
— Видели?.. — таинственно произнес ямщик.
— Что?
— Сосну. Вон на энтой-то самой сосне в ину пору, ночью, огонь стоит на самой вершине. Словно свечка теплится...
— Ты сам видел? — спросил Ледоколов, поглядывая на оригинальное, так высоко забравшееся, изуродованное дерево.
— Нет, самому не приходилось; наши сказывали. Урядник станционный в прошлом году видал; говорил: страсть! Пылает, ровно пакел (факел), а это, около, словно кто в колокол бьет, таково протяжно. Подъехал ближе; ничего, все, как следовает!
— Может, он пьян был?
— У березинского старшины на крестинах был, точно!
— Ну, вот!
— Казначей тут, сказывают, ехал, — давно это было, еще о ту пору, как наши казаки от царицы первые льготы получали... Ну, вот, ехал казначей... Эй вы, что ли!..
— Легче под гору!
— Ничего, кони привычные. Ехал это казначей и около самого эвтого места остановился; надобность, может, какая была; хвать-похвать — сумки нету. А в сумке-то у него деньжищ казенных было... Тп-р-ру!..
— Что там?
— Развожжалась!
— Ну, нам от грозы не уйти!
— Может, поспеем. Эй, вы, потрогивай!..
Крупные капли дождя с глухим стуком забарабанили по туго натянутой коже экипажного верха. Стемнело. Тучи заволокли последние отблески вечерней зари, и только в одном месте, около резко очерченного края, сверкала одинокая звезда. Вот и она исчезла. Исчезли очертания скалистых кряжей; исчезло все, поглощенное густым мраком; и только на несколько шагов от экипажа чуть-чуть блестела мокрая от дождя кремнистая дорога.
Вдруг полнеба вспыхнуло разом... В этом красном, пожарном свете промелькнула змееобразная, голубоватая, ослепительная борозда. Громовой удар треснул, словно пушечный выстрел, у самого уха... На секунду все затихло... и глухо зарокотали по горам и ущельям громовые перекаты, то затихая, то раздаваясь с новой силой, то где-то далеко-далеко, то почти над самыми головами путешественников.
— Гляди, барин, с нами крестная сила! — наклонился с козел ямщик. — Вот оно, вот!..
— Что там?
— Назад гляди: оно самое. Да воскреснет Бог и расточатся...
Ледоколов выглянул. Он высунулся из экипажа, его обдало холодным дождем; он закрылся полой непромокаемого плаща и повторил попытку взглянуть по указанию ямщика.
Высоко, в том месте, где стояла сосна, теплилась небольшая огненная точка, и этот фосфорический, мигающий свет, казалось, находился в постоянном движении. Он прыгал по ветвям дерева, взбирался на самую верхушку и там исчезал на мгновение, и снова показывался, и снова исчезал...
— Это душа казначейская томится, — шептал ямщик. — Удавился он в ту пору, сердечный...
— Поосторожней!
Тарантас сильно качнуло. Снизу доносился шум воды и всплески; какая-то громадная черная масса загромоздила дорогу.
— Что это, станция? — снросил Ледоколов.
— Какая станция... Что за диковина?! До станции еще верст пять будет!
— Окно светится... Да это дормез, кажется, на боку лежит. Придержи лошадей!
Еще раз осветилось грозное небо; опять зарокотали горы. При блеске молнии ясно можно было разобрать внизу на дороге большой дормез, стоящий наклонно на трех только колесах. Внутри этого дормеза было освещено, и слышались голоса. Лошади с отстегнутыми постромками стояли около экипажа и, опустив головы, повернулись задами к ветру, жались и вздрагивали при каждом громовом ударе. Ямщика не было; он, вероятно, уехал на уносных лошадях, и намокшие веревочные уносы вместе с вальками висели на конце экипажного дышла.
— Боже мой! Я готова умереть: я не выдержу более!.. — взвизгнула Фридерика Казимировна, когда молния ярко осветила экипажное окно, и жалкой, грязноватой точкой показалось в это мгновение крохотное пламя внутреннего фонаря. — Это ужасно...
Она уткнулась носом в подушку и тяжело дышала, так как в наглухо, со всех сторон закрытом экипаже было душно и невыносимо жарко.
— Мама, я отворю окна. Это невыносимо, я задыхаюсь! — говорила Адель и рванулась привести в исполнение свое намерение.
— Ада... пощади. Ты знаешь, как это опасно, — стонала маменька. — Ты отворишь, молния влетит, и все мы погибнем!
— Но мне дышать нечем... Мне дурно...
— Лучше перетерпеть...
— Это насчет молнии вы, Фридерика Казимировна, напрасно беспокоитесь, — начал Катушкин. — Вот разве дождем помочит, это точно!
Он сидел на передней лавочке, подобрав под себя ноги и боясь пошевелиться. Ему было страшно неловко, ноги у него затекли, и в коленях бегали мурашки, но он стоически выносил свое стесненное положение, боясь потревожить дам.
— Какую ужасную ночь мы должны будем провести! — стонала Фридерика Казимировна.
— Ничего-с; может, скоро ямщик подъедет! — утешал ее Катушкин.
— Иван Демьянович...
— Что прикажете-с?
— У вас есть пистолеты?
— Как же-с; мы в степь без оружия никогда не ездим, только теперь пока не требуется, они в чемодане уложены...
— А что, здесь есть бандиты?..
— Нет, бандитов не водится!
— Да ведь это горы; мы ведь в горах?
— Так точно, Губерли прозываются, отрог Уральского хребта, а там дальше пойдет...
— Мама, как хочешь, а я отворю!
Адель взялась за тесьму.
Опять вспыхнула яркая молния, опять взвизгнула на все Губерли Фридерика Казимировна. На этот раз струсила и сама Адель; она быстро отодвинулась от окна и смотрела в него широко раскрытыми, испуганными глазами.
Чье-то бледное, бородатое лицо мелькнуло за напотевшими стеклами окна. Свет молнии словно голубоватым бенгальским огнем осветил высокую фигуру в плаще, в башлыке, стоявшую у самой экипажной подножки.
— Что я видела... — шептала Адель.
— Ада, не пугай! — волновалась госпожа Брозе.
— Ямщик, ты, что ли ? — громко окликнул Катушкин. — Фридерика Казимировна, позвольте, я выйду; может: помочь что нужно...
— Ах, нет, сидите; не пущу, в такую критическую минуту мы будет одни!
Рука без перчатки показалась у самого стекла и легко постучала в окно. Адель заметила блестящий перстень на одном из пальцев таинственной руки.
— Я — проезжающий. С вами случилась одна из дорожных неприятностей. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
— Это он, мама, — тихо произнесла Адель, — наш самарский vis-à-vis!
— До станции недалеко; вы, вероятно, скоро доедете. Нельзя ли вам поторопить нашего ямщика? — поспешил произнести Катушкин.
— Ради Бога. Мы здесь задыхаемся! — крикнула Адель.
— Отворите окно...
— Ни за что... Ах!.. — крикнула в свою очередь Фридерика Казимировна.
Даже Ледоколов вздрогнул от страшного громового удара, прервавшего переговоры.
— Это где-нибудь близко в скалу ударило! — говорил ямщик с козел ледоколовского тарантаса.
— Мой экипаж к вашим услугам, и я довезу вас до станции, если вам угодно! — предложил Ледоколов.
— Ах, как это хорошо; маменька, дайте мне мой большой платок! — обрадовалась Адель.
— Э, гм... — замялся Иван Демьянович.
— Я не поеду ни за что, я не решусь! — говорила госпожа Брозе.
— В таком случае я поеду одна! — объявила Адель.
— Ада...
— Тяните к себе дверцу, у меня не хватает силы! — крикнула девушка Ледоколову.
— Ада... Ада...
Сильный порыв ветра обдал мелкими брызгами дождя всех пассажиров, когда Ледоколов распахнул дверцу дормеза.
— Я вас перенесу на руках!
Он протянул руки.
— Ада, Ада, дитя мое!..
— Как хорошо, как свежо!
Тарантас Ледоколова стоял шагах в трех, не более, от дормеза; на одно только мгновение почувствовала Адель, как две сильные руки подняли ее на воздух; затем она уже сидела в тарантасе, прижавшись в угол и смеясь во все горло: ей вдруг стало почему-то необыкновенно весело.
— Мама, мама, скорее! — кричала Адель.
— Пожалуйте! — протягивал вторично руки Ледоколов.
— Ни за что!
— Мама, да идите!
— Что же, Фридерика Казимировна, теперь уж все одно-с: пожалуйте! — вздохнул Катушкин и добавил как бы про себя: — Своенравная барышня!
— Ай! — ступила было на подножку г-жа Брозе и опять попятилась назад.
— Смелее! — ободрительно говорил Ледоколов.
— Я уж при экипаже останусь; так вы уж похлопочите там на станции, чтобы насчет колеса... станционному скажите: от Лопатина, Ивана Илларионовича, он знает! — обратился Катушкин к Ледоколову.
— Непременно. Пошел!
Через минуту звон колокольчика под дугой ледоколовской тройки чуть слышался в вое ветра и глухом шуме проливного дождя.
Иван Демьянович завернулся в шинель, вытянулся во всю длину дормеза, подсунул себе под голову подушку, под бок другую, закурил папиросу и стоически принялся ожидать результатов своего поручения.
«Гувернантка — ха, ха! Несдобровать Ивану Илларионовичу с этакой гувернанткой, да-с! — начал он свои размышления. — При таком, так сказать, оживлении нашего тракта народу едет всякого много... гм! Глаза молодые, разбегутся... услужливость эта проклятая, — ну, и шабаш! Да мне-то что? Только бы довести да сдать»...
Он опустил стекло и выбросил окурок.
«Симсон сказывал, — продолжал думать вслух Иван Демьянович, — что за леший такой? Меня знает, Лопатина знает, всех знает. Расспрашивал, что и как, — подозрительно! Да ведь приметы какие — ничего не разберешь! Всех перебрал — подходящего нет... Что за черт, право, в самом деле? Тс! Едут никак»...
Ему послышался как будто топот конских ног по дороге; прислушался — ничего не слыхать.
Ивовый пень, подмытый дождевыми потоками, сполз со своего места, навис над обрывом и — рухнул в воду. Кони, привязанные к дышлу, шарахнулись и стали рваться; тяжелый дормез заскрипел и покачнулся.
— Тпру, вы, дьяволы! — крикнул Катушкин, высунулся из окна и посвистал успокоительным образом, как обыкновенно свистят ямщики во время водопоя. Лошади перестали биться. Катушкин начал дремать.
На просторном дворе станционного дома уже стояло несколько экипажей, задвинутых до половины под окружающие двор навесы. Подслеповатый фонарь со стеклами, заклеенными бумагой, мигал у столба, в воротах двора. Другой фонарь, поменьше, чуть-чуть освещал покосившееся крыльцо. Если свет этих двух фонарей не был достаточен для того, чтобы въехавший в отворенные ворота тарантас Ледоколова не наткнулся бы на другие экипажи, зато яркие, широкие световые полосы, направляясь из окон, тянулись через весь двор и достигали даже самой глубины навесов, где виднелись серые, вороные, рыжие, гнедые, пегие и всех прочих мастей почтовые лошади, стоявшие тесными рядами у кормовой колоды.
Окна станционного дома были отворены, и оттуда неслись самые разнообразные звуки: брякала посуда, слышались возгласы: «ну, шельма, иси, подлец, ну, иси!» — «На пе... дана... угол от трех красных!» — «Тубо, Трезор, тубо, каналья!» — «Манюся, ты уже шестую никак?» и т. п.
— Боже мой, сколько народу! — испугалась Фридерика Казимировна.
— Да, съезд большой! — говорил Ледоколов, слезая с козел.
Он сидел вместе с ямщиком и с его непромокаемого плаща вода текла, как с крыши.
— Дальше дорога очень опасна в горах, и в такую погоду до утра никого не повезут! — сообщал он, помогая дамам поочередно выбраться из экипажа.
— Что-то делает теперь наш Иван Демьянович? — произнесла Адель, взбираясь на ступеньки крыльца. — Мама, осторожней!
— Ничего, идите смелее! — говорила сверху толстая, краснощекая баба-казачка, вышедшая в сени посветить приезжим, загораживая от ветра своей пухлой рукой сильно колеблющееся пламя сального огарка.
— Самовары доливай, Авдотья! — кричал голос из вторых сеней. — Скажи Борьке, чтобы еще две бутылки водки спросил у дьячка: проезжие требовают!
— Ах, черт меня съешь и назад не верни! — долетело из открытого окна.
— Мама... — немного струсила Адель.
— Как же мы, что же мы: здесь и так уже много! — замялась на пороге Фридерика Казимировна.
Дверь отворилась. Десятки глаз смотрели на новых приезжих. Кучеренок с сильно развитыми бедрами не донес рюмки до своих свеженьких, розовых губок да так и остановился на полдороге. Усатый блондин собирался положить кусочек колбасы на нос Трезору и держал этот кусочек двумя пальцами. Спелохватов приостановился метать и, на всякий случай, прикрыл кучку скомканных ассигнаций своей широкой ладонью; около него сидела довольно красивая блондинка с громаднейшим, почти вертикально укрепленным шиньоном, несмотря на дорожный костюм, сильно напудренным, и грызла ногти на своих пальчиках, сверкавших чуть не полудюжиной разнообразных перстеньков. За ними виднелись: плечо в кителе со штаб-офицерским погоном, спина в казачьем мундире и пара ботфортов со шпорами, принадлежащая кому-то, должно быть, лежащему на диване и, несмотря на шум, похрапывающему с носовым присвистом.
Для приезжих дам отвели следующую комнату, поменьше, отделенную от первой только тоненькой перегородкой, не доходящей даже до потолка. Г-жа Брозе и ее дочка, потупив глаза и подобрав свои шлейфы, прошмыгнули через первую комнату под перекрестными взглядами всего общества; даже Трезор, не спускавший сначала глаз с куска колбасы, и тот обратил внимание на Фридерику Казимировну, обнюхав полу ее щегольского бурнуса.
Ледоколов притворил дверь за дамами и остался в первой комнате, все проезжие оказались более или менее знакомыми ему: со всеми приходилось встречаться на пути; то на пароходе, то в Самаре, то в Оренбурге, или же просто на станциях.
— Господа, мы продолжаем? — объявил Спелохватов.
— Э-э, позвольте! — протянула спина в казачьем мундире. — Это все насмарку, и это тоже, и это тоже!
— Просто дух захватываете! — произнес штаб-офицер и разобрал пальцами свои густые, черные бакенбарды.
— Что так? — спросил зеленоватый чиновник, сидевший в углу и упрекавший перед этим «Манюсю» в неумеренности.
— Барыня хороша!
— Дочка?
— Маменька, то есть — фах! Шик-особа. Глазами так и работает. Вы с ними знакомы? — обратился он к Ледоколову.
— Почти нет! — отвечал тот.
— Э, да это все равно; отрекомендуйте меня, представьте... ну, пожалуйста!
— Отрекомендуйтесь сами, коли хотите. Нельзя ли чаю или чего-нибудь горячего? — спросил он казака-смотрителя.
— Сию минуту закипает. Авдотья, скоро, что ли?
— Что же вы? — говорила спина в казачьем мундире, опершись обеими руками на стол для поддержания равновесия и пытливо глядя на банкомета.
— У меня готово, — произнес тот. — Верочка, отойди подальше: дышит в самое ухо...
— Eh bien! — Понтер сделал нетерпеливый жест рукой. — Мечите, что же вы?
— Деньги на стол!
— Что?
— Деньги. Ваша ставка так велика. Вы хотите отыграться на одной карте...
— Что же, вы мне не верите, вы мне не верите?..
— Это мое правило!
Блондин с усами оставил в покое своих собак и подсел к столу; подошел и штаб-офицер бакенбардист и начал рыться и пересчитывать в своем бумажнике.
— У меня денег много... Я не знаю, выдержит ли ваш банк, а денег у меня много... Миронов... Миронов, черт... скотина!
В двери стремительно ворвался молодой казак-драбант, по всем признакам только что проснувшийся.
— Шкатулку мою сюда... живо! Денег у меня нет, ха, ха, ха!
— Это мое правило! — пожал плечами Спелохватов.
Миронов принес шкатулку. Шкатулку отперли. У Верочки заблистали глазки, заблистали ярче, чем розетки на ее пальчиках, она даже покраснела немножко и нежно взглянула на обладателя такой ценной шкатулки.
— Мечите...
Спина в казачьем мундире была, что называется, далеко на втором взводе, и потому в ее манерах проявлялась необыкновенная размашистость и развязность, между тем как язык словно распух и с трудом ворочался во рту.
— Вы в Ташкент едете? — спросил кто-то у Ледоколова, скромно приютившегося у другого столика в стороне и разбиравшего чайный погребец.
— Вы меня спрашиваете? — он поднял голову.
К его столу подошел господин, которого он не заметил с первого раза. Вероятно, его скрывала громадная, изразцовая печь, выдвинувшаяся чуть не на средину комнаты. Это был худощавый брюнет довольно высокого роста, с длинными усами, с добрыми, веселыми глазами, несколько рябоватый, и в голосе его ясно слышался малороссийский акцент.
— Да, в Ташкент! — отвечал Ледоколов и невольно подвинулся, как бы предлагая подле себя место подошедшему.
Есть натуры, которые располагают к себе с первого взгляда. Это была одна из тех симпатичных натур, и Ледоколову вдруг очень захотелось разговориться и познакомиться покороче с малороссом.
— Скука такая, право, сидишь здесь всю ночь, — пробовал заснуть, не мог; шумят очень... Вы в первый раз едете?
— В первый!
— А я так вот уже третий. Каждый раз давал себе слово не возвращаться более, а поживешь годик в России и опять потянет...
— Вы служить едете?
— Нет, я уже послужил довольно там, будет с меня. Так собираюсь поработать частным человеком... Я, знаете, немного горное дело маракую, так вот хочу попытать счастья!
— В самом деле? — обрадовался Ледоколов! — Так мы по специальности товарищи; я тоже горный инженер!
— Вот и прекрасно, может, вместе работать будем!
Минут через пять они совершенно сошлись и разговаривали, как самые старые знакомые, почти приятели.
Доски тонкой перегородки не совсем плотно приходились одна к другой. Фридерика Казимировиа смотрела в одну щелку, Адель в другую. Усатый блондин, пробравшись по заваленке к окну из комнаты, смотрел в стекло, хотя и сильно затаившее изнутри, но все-таки позволявшее рассмотреть все, что происходило в комнате. Впрочем, он ничего не видел, кроме широких форм госпожи Брозе и менее широких, но не менее грациозных форм ее дочери.
— Смотрителя березинской станции видели? — спрашивал бакенбардист зеленоватого чиновника.
— Видел, это пятая станция от города, кажется?
— Уж там какая она счетом, не знаю. А глаз у него левый видели? Хорош?
— Подбит сильно!
— Моих рук работа... Приезжаю, — лошадей не дает: кроме курьерских, все в разгоне... Ну, понятно, результаты известные: он получил в рыло, а я, вследствие этого, получил лошадей. Позвольте-с!
Он сложил вчетверо бумажку, прикрыл ее девяткой и протянул к банкомету.
— Вот этот тоже второй раз едет, — малоросс кивнул головой на Спелохватова. — Барыню его я не знаю; это он в Петербурге себе раздобыл, я с ним прежде встречался; он там пообчистил публику... С Батоговым, покойником, приятели были. Вы не слыхали про Батогова?
— Нет, не слыхал!
Ледоколов с любопытством наблюдал изящные манеры Спелохватова.
— Хорошо играет. Смотрите: рукава немного засучены, как у фокусников, колода словно святым духом вертится между пальцами; а пальцы-то, пальцы также играют... Музыкальные руки. Что это за барыни с вами едут?
— А, право, не могу вам сказать определительно; я их захватил по дороге; у них экипаж сломался в овраге, верст пять отсюда... Едут в Ташкент. Обстановка роскошная, по всем признакам — авантюристки!
— Хлебные персоны; коли не глупы, в убытке не останутся. Эки пальцы... эки пальцы!.. Смотрите-ка, в Петербурге случалось мне наблюдать подобные манеры в домах у Неплюйцына и Брулева, там у них собираются в ночки темные, осенние этого ремесла художники... Вот и этот барин той же школы... Ловко!..
Малоросс заметил что-то уже очень замысловатое в движении рук игрока и даже крякнул от удовольствия.
— Однако, это вы бьете подряд уже пятую карту! — протянула спина в казачьем мундире.
Спелохватов пожал плечами.
— Вы имеете! — он пододвинул ставку к бакенбардисту.
— Ага, заполучил малую толику. А ну-ко уголок опять...
— Ах, черт меня съешь... опять!
— Одиннадцатую тысячу пропирает! — шептал кучеренок зеленоватому чиновнику.
— И не оставит... хоть бы его попридержать; а то, что толку. Вот ты с ним с самого Бузулука возишься... и останешься с носом!
— Ведь я же тебе уже передала шестьсот!
— Гм! Шестьсот, — тут большим пахнет...
— Ва-банк со всяким чертом... идет... — горячилась спина в казачьем мундире.
— Позвольте, я сочту! — остановился Спелохватов.
— Пойти поглядеть, это интересно. Пойдемте! — пригласил малоросс Ледоколова.
Приятели встали и подошли к столу.
— Ипполит Карлович... — нежно произнес кучеренок.
— Madamе?.. — отозвался казак.
— На два слова...
Спина в казачьем мундире, шатаясь подошла к кучеренку; тот стал шептать ему что-то на ухо.
— Гм!.. Буду глядеть в оба! — произнес Ипполит Карлович и вернулся к столу.
Ледоколов и его новый знакомый не спускали глаз с пальцев банкомета; Верочка незаметно толкнула его в бок. Брови Спелохватова немного сдвинулись.
Карта была весьма крупная. Целая гора бумажек лежала у банкомета под локтем; такая же гора лежала прикрытая сверху надорванной двойкой.
Медленно, с расстановкой ложились карты направо и налево.
Верочка вышла из-за стола и начала прохаживаться по комнате.
— Теперь он готов бы послать к самому сатане всех трезвых наблюдателей! — шепнул малоросс Ледоколову.
— Ай! — во все горло завизжала Верочка.
Все обернулись.
— Какой большой паук, какой страшный... — хныкала блондинка, указывая со страхом на крохотного паука, мирно притаившегося в трещине стенной штукатурки.
— Бита! — отчетливо произнес Спелохватов.
Малоросс расхохотался, махнул рукой и пошел на свое прежнее место, Ледоколов пошел за ним.
— Ах, сколько он денег потянул к себе. Ах, сколько денег! — томно шептала Фридерика Казимировна и вдруг воспылала непримиримой злобой к обладательнице напудренного шиньона.
— Кокотка какая-нибудь, — ядовито прошептала госпожа Брозе и добавила: — Чего бы нам поесть, Адочка?
В воротах блеснул неожиданно знакомый рефлектор лопатинского дормеза. Иван Демьянович дождался-таки ямщиков с колесом и прибыл, наконец, благополучно на станцию.
Гроза понемногу стихала. На прочистившемся небе кое-где замигали звездочки, и только вдали чуть слышались в горах громовые перекаты, да на самом почти горизонте вспыхивали по временам отблески молнии.
С прибытием Катушкина все оживилось за перегородкой.
Явились разнообразные спиртовые приборы, всевозможные консервы и закуски, запахло свежезаваренным чаем, и жесткие станционные диваны покрыты были ковром и чистыми простынями, да как покрыты! Все ехидное население бесчисленных трещин старой мебели могло целую ночь безуспешно блуждать под полотном, и самый маленький клопик, будь он самых микроскопических размеров, не нашел бы себе лазейки, чтобы выбраться на поверхность и попробовать прогуляться по жирному, розовому телу Фридерики Казимировны или по стройным формам ее прелестной дочки.
Мало-помалу разошлось и остальное общество по своим экипажам. В большой комнате остались только: Катушкин, Цербером расположившийся на диване, у самых дверей дамской комнаты, Ледоколов с малороссом, нашедшие себе бесконечные темы для разговора, и пара ботфорт, так и не просыпавшаяся с тех пор, как завалилась с вечера, только теперь эти ботфорты были согнуты под прямым углом, грозя всем близко проходившим своими ржавыми шпорами, и виднелись еще широко натянутые, вытертые от давнего употребления кавалерийские рейтузы и развороченные полы такого же сюртука, из кармана которого висел конец бумажного цветного платка и блестела стальная окова портсигара.
— Да, капитальные залежи, такие, что стоит над ними повозиться, — рассказывал малоросс. — А в каменном угле нужда предстоит великая, такая, что без него, пожалуй, ничего не пойдет...
— Лесов мало?
— Какие леса, все сады, не станет же сарт рубить на дрова деревья, которые рассаживал поштучно, ну, валит он только те, что попорчены, их на небольшой обиход хватает... Ну, а заводская деятельность — это совсем другая статья...
— Мы с вами, кажется, уже имеем удовольствие быть знакомыми? — приподнялся Катушкин со своего дивана.
Он присмотрелся к говорившему и узнал его.
— Да-с, припоминаю. Вы у Хмурова прежде служили, потом у Перловича, потом у... кого, бишь, это еще?..
— Да мало ли у кого, вот у Федорова, потом сам по себе пробовал; к Перловичу опять перешел, да мы не поладили... Во многих местах...
— Теперь у кого?
— У Лопатина, Ивана Илларионовича; вы еще их не изволите знать? Из новых негоциантов!
— Слыхал проездом в Самаре, потом в Оренбурге!
— Помогите, помогите! — раздался вопль за перегородкой. Это был голос госпожи Брозе. Катушкин рванулся на призыв.
— Что случилось, что?.. — спрашивал он.
Холодный, предрассветный ветер врывался в открытое окно. Фридерика Казимировна закрылась с головой под одеяло и оттуда только слышалось сперва громко, потом все тише и тише: — «Помогите... ах, помогите... помогите»... Адель приподнялась и испуганно смотрела на открытое окно; рука ее держалась за медный подсвечник, готовая к защите. В комнате было почти темно, потому что ветер затушил свечу.
— Что случилось? — спрашивал Катушкии, целомудренно отворачиваясь от полуоткрытого бюста Адели.
— Я сама не понимаю, — говорила девушка. — Окно распахнулось, кто-то ввалился, упал, опрокинул вон тот стол и опять ушел через окно. Я не понимаю что это такое?..
— Разбойники, это разбойники... — стонала госпожа Брозе.
Катушкин сообразил кое-что. Он подошел к окну, заглянул в него, захлопнул и запер задвижки, улыбнулся и собирался уходить.
— Ну, спите спокойно; теперь к вам никто больше не ввалится, я принял меры!
— Иван Демьянович! — Фридерика Казимировна выглянула немного из-под одеяла.
— Что прикажете?
— Спите здесь с нами...
— Мама, это что за глупости?.. — произнесла Адель.
— Ада, молчи. Ну, или вот что, возьмите пистолет и ходите под окном...
— Не беспокойтесь больше; я за вашу безопасность ручаюсь. Прошенья просим-с, приятного сна-с. Ну, народ! — вздохнул Иван Демьянович, выходя опять в общую комнату.
Ледоколов и малоросс вышли на крыльцо, намереваясь тоже провести остаток ночи в экипажах.
Все тарантасы, не смотря на то, что лошади, привезшие их, спокойно и совершенно отдельно от них жевали овес у колоды, поскрипывали и покачивались; это в них возились, укладываясь на покой, их владельцы. Везде слышались шепот, вздохи, сопение и даже иногда легкое чмоканье...
У одного тарантаса, засунувши голову под экипажный фартук и привстав на подножку, виднелась спина в казачьем мундире.
— Маня... — шептала спина.
— Тс! Муж может проснуться! — чуть слышно говорил из тарантаса голос кучеренка.
— Ты придешь ко мне, не правда ли?.. Вон стоит моя коляска. Ангел мой, я буду ждать...
— Убирайся, продулся весь в пух, а туда же лезет с нежностями!
— Маня, ведь не в деньгах счастье... жизнь моя...
— Тише!
В тарантасе послышалось откашливание... Спина в казачьем мундире отскочила.
— Ты, Манюся, однако, очень не заходи! — шептал зеленоватый чиновник.
— Без тебя знаю! — отвечала его «Манюся».
Невдалеке блеснул огонек сигары. Там, закутавшись в туземный халат, сидел Спелохватов. Ему не спалось, и он рассчитывал что-то, то загибая, то разгибая вновь свои изящные пальцы.
— Вот, батенька, попался было, — говорил сидящий на водопойной колоде блондин с длинными усами. — Задвижку-то они не заперли, я прислонился, понажал; окно бац! и распахнулось, а я стоял в это время на одной ноге... что-то опрокинулось у них, зазвенело сильно...
Он потер себе рукой колено, и прихрамывая немного, пошел куда-то в темный угол.
— Вот вам причина тревоги, слышали? — заметил малоросс. — Ну, прощайте пока!
Скоро все успокоились окончательно.
С солнечным восходом все уехало со станции. Дормез раньше всех выбрался на дорогу, благодаря предусмотрительности Ивана Демьяновича и его знакомству со смотрителем.
Уже на двадцатой версте обогнал его тарантасик Ледоколова, и когда ямщик свернул лошадей немного на косогор, чтобы объехать дормез, то Ледоколов заметил, как из окна дормеза весело улыбалось и кивало ему хорошенькое, молодое личико.
— Адель, ты ведешь себя непозволительно! — укоряла дочку Фридерика Казимировна.
— Только бы довезти да сдать благополучно, а там не наше дело! — бормотал Катушкин, сидя на козлах и пуская дымок из своей трубочки.
— Эй вы, други! — покрикивал ямщик.
Бурченко, — так звали малоросса, — сидел рядом с Ледоколовым и приподнял свою фуражку, заметив девушку в окне дормеза.
Приятели уговорились продолжать путь дальше вместе, на половинных издержках, что оказалось весьма удобным и для того, и для другого.
Звонко гудели колокольчики; весело смотрело солнце, поднявшееся над зубчатой линией губерлинских гор; еще не просохшие после ночного ливня скалы сверкали мириадами блесток, и серебристыми нитями тянулись по дороге наполненные водой колеи.
Начинало пригревать. Свежий горный воздух так животворно действовал на нервы путешественников, возбуждая аппетит и заставляя их пристально всматриваться в даль, в то место, где из-за густой зелени, в лощине, краснела крыша новой почтовой станции.
VI «Энергические меры»
— Вот это, видите, вправо, кустики чуть чернеют за тем бугром, — это уже последние; и не встретите вы долго теперь ни одного путника... потому началась степь...
Бурченко, произнося эту фразу, пустил кольцом дымок из своей маленькой трубочки и задумчиво стал вглядываться в беспредельную равнину, расстилавшуюся перед глазами путешественников.
— Вон и церковь орская почти пропала из глаз; прощай, Русь! Надолго ли? — вздохнул Ледоколов, привстав в тарантасе, и оглянулся назад.
— А что загадывать, — обживетесь; придется по душе — может, и на всю жизнь останетесь, а нет — что же, вы к тому краю не пришиты: в том же тарантасике и назад приедете! — говорил спутник и стал напевать сквозь зубы какой-то характерный малороссийский напев.
Маленький, легкий, прочный, словно выкованный из литой стали тарантас казанской работы тихонько катился по мягкой степной дороге. Ямщик киргиз, спустив совсем с плеч грязную рубаху и подставив свою темно-бронзовую, закопченную дымом и покрытую толстым слоем жирной грязи спину под жаркие лучи полуденного солнца, дремал на козлах, распустив веревочные вожжи. Лошаденки киргизские, заморенные усиленной гоньбой, чуть плелись, что называется, собачьей рысцой, обмахивая хвостами степных оводов, целыми роями налетавших на их наболевшие, покрытые ссадинами спины.
Давно миновали кое-какие поля и огороды, разведенные орскими жителями, миновали бахчу с арбузами, что, на десятой версте от городка, в самой степи засеял казак-переселенец, миновали и сторожевой шалаш его, долго еще черневший вдали, как только кому-нибудь из путешественников приходила охота взглянуть назад; и с обеих сторон дороги теперь только колыхались под легким ветром седые верхушки степного ковыля и тощие, полувысохшие стебельки какой-то травки; кое-где зеленелись отдельные небольшие пространства; там, словно вставленные кусочки зеркал, сверкали стоячие мелководные лужи. Какие-то бурые, горбатые массы медленно двигались, то опуская к самой земле, то поднимая кверху длинные, мохнатые шеи; это паслись двугорбые верблюды, принадлежащие ближайшим кочевникам. По дороге навстречу попадались киргизы, то верхом на маленьких лошадках, то на верблюдах, едущие в Орск на тамошний базар приобрести себе променом на свой товар что-нибудь необходимое для своего несложного хозяйства. Равнодушно смотрели они на русский тарантас; Ледоколову показалось даже, что из-под густой тени бараньих малахаев сверкают далеко не ласковые взгляды. Киргизы неохотно давали дорогу экипажу, хотя в степи места для разъезда было немало.
— Ишь, волками какими смотрят! — заметил Ледоколов.
— Не с чего им барашками прикидываться, — произнес Бурченко. — Вон женщины их едут. Вы еще не видали, чай, таких амазонок?
Он указал на две оригинальные фигуры в красных архалуках и в высоких белых тюрбанах, карьером пронесшиеся мимо тарантаса.
— Гм, наездницы...
— А вон кибитки стоят. Видите? Вон правее, верстах в трех, словно улья торчат!
— Вижу.
— Вот погодите, поближе их рассмотрите. Долго нам не видать теперь другого жилья, кроме этих кошемных дворцов!
Помолчали с полчасика.
— А мы ведь уже чересчур тихо едем! — начал Ледоколов.
— Да, не торопимся! — отвечал Бурченко.
— Что же, мы всю дорогу будем так тащиться?
— Надо полагать!
— Эй, ты, как тебя звать, погоняй, что ли! — Ледоколов, приподнявшись, толкнул легонько в спину дремавшего ямщика.
— Гей, гей! — сипло прикрикнул киргиз, махнул лениво рукой и опять задремал; только теперь спустился с козел на самые дроги, вероятно, во избежание повторения побудительных толчков Ледоколова.
— Оставьте, толку никакого не будет, поверьте, — говорил Бурченко, — клячи их совсем заморены. Ведь раза два в день гоняют, а станция без малого полсотни верст.,. Доедем как-нибудь!
Пришлось переезжать через широкую водомоину, на дне которой стояла сгустившаяся от летних жаров, черная илистая грязь. Тихонько спустились туда лошади, завязили тарантас по самые ступицы и стали.
А по дороге навстречу ехал конный киргиз, в поводу вел он другую лошадь, тоже оседланную. Увидел он тарантас, остановился в стороне и стал равнодушно поглядывать; чем, мол, все это кончится?
Побился немного с усталыми лошадьми проснувшийся ямщик; вылезли пассажиры, даже сами приняли участие, ухватившись за какие-то веревочки; покричали, пошумели, похлестали лошадей по бокам и под брюхо... Тарантас с места не двигался.
А тем временем к киргизу, безучастному зрителю, подъехали еще человека три верховых и тоже остановились неподалеку, молча наблюдая за всем происходившим.
— Ну, что же мы будем делать? — спросил ямщика Бурченко по-киргизски.
— А ничего, видишь, не берут; устали очень и не берут! — отвечал спокойно киргиз; сплюнул, почесал спину и отошел в сторону.
— Отдохнут — возьмут! — хладнокровно произнес он в ответ на недоумевающие взгляды Ледоколова.
— Подсобите, вы, эй! — крикнул Бурченко киргизам-зрителям.
Те переглянулись, усмехнулись и не трогались с места.
— Что же вы?!
— А нам что! — отвечал один из них. — Почем баранов продал, Гассан, вчера в Орске? — обратился он к товарищу, слезшему с лошади.
— Дешево. Мясники там сбились; цены настоящей не дают, а назад в степь гнать не хотелось!
— Да помогите же! Что вам трудно, что ли?
— Лошади к вашим арбам непривычны!
— Я заплачу вам, коли хотите! — вел Бурченко переговоры.
— А что дашь?
— А вот это дам!
Бурченко показал двугривенный.
— Мало!
— Два дам!
Киргиз отрицательно покачал головой.
— Ну, больше не дам.
Киргизы еще раз переглянулись и тронулись своей дорогой.
— Дайте, сколько хотят. Не сидеть же нам, в самом деле, пока отдохнут эти клячи! — обратился Ледоколов к своему товарищу.
— Погодите, я их натуру знаю! — произнес Бурченко, полез в тарантас и принял там самую спокойную позу, словно действительно намерен был хоть целые сутки провести в таком положении.
— Ну, хорошо! — неожиданно подъехал сзади вернувшийся киргиз. — Мы тебе поможем... Гайда, берись!
Два всадника заскакали с обеих сторон тарантаса, подхватили его веревочными арканами, гикнули и вынеслись на противоположный берег водомоины. Только комья грязи полетели из-под колес, и испуганные почтовые лошади еще с добрую четверть версты пронеслись вскачь, путаясь в оборвавшихся постромках.
— Ну, давай деньги! — подъехал вплотную к тарантасу один из помогавших киргиз.
Бурченко расплатился.
— Мы смотрели: будешь ты бить ямщика или не будешь?
— За что же бить-то его?
— Ваши ведь все бьют наших. Ну, так вот мы и смотрели. За то и помогли, что не бил, а стал бы бить, мы бы... — Киргиз замялся немного, пряча деньги в плоский кожаный кошелек, висевший у пояса.
— А если бы мы его стали бить?.. — спросил Бурченко.
— Ну, мы тогда бы уехали. Вылезай сам из грязи, как знаешь!
— Резонно! — заметил Бурченко и перевел весь разговор Ледоколову.
— Вот как! Вот тут и применяй к делу те нагаечные теории, что предлагал штаб-офицер с бакенбардами, помните, что тремя днями выехал раньше нашего!
— Погодите, еще не то увидите!
Кроме этого небольшого эпизода, других развлечений не предстояло более нашим путешественникам. Скучная, ровная, словно по шнуру вытянутая линия степного горизонта утомительно действовала на зрение; глаза слипались; одолевала сильная дремота, голова невольно отыскивала мягкий угол кожаной дорожной подушки.
Бурченко затянул тенором какую-то песню; ямщик оглянулся, оскалил зубы и затянул что-то свое.
Ленивое бряканье разбитого колокольчика все слабее и слабее слышалось в ушах Ледоколова, словно лошади вместе с дугой и колокольчиком уходили куда-то далеко-далеко от тарантаса... Песня Бурченко о том, как орел сидел на кургане, несколько раз прерывалась носовым свистом и даже похрапыванием и, наконец, замолкла... Тихо, спокойно покачивался тарантас на своих эластичных дрогах. Откинувшись в один угол, полураскрыв рот, спал Ледоколов, и теплый степной ветер скользил по его лицу, путая его густую бороду. Бурченко спал в другом углу, уткнувшись лицом в подушку и стиснув зубами давно уже потухшую трубочку.
— Заснули, дьяволы! — проговорил про себя ямщик, присмотревшись к обоим пассажирам, и сам поспешил свернуться клубком на козлах, привязав вожжи за какую-то скобку.
А привычные лошади шли да шли себе ровной, тихой рысцой и только немного надбавили ходу, когда завидели вдали беловатую точку почтовой землянки.
***
Солнце садилось, когда тарантас подъехал к станции и остановился перед входом в низенькую саклю-землянку с провалившейся крышей, из-за которой торчало колено трубы от железной печки. Повешенная на деревянных колках кошма заменяла дверь. Поломанный стол и два табурета, — единственная мебель «станционного дома», — были вынесены на свежий воздух и стояли у глинобитной стенки дворика, предназначенного для лошадей.
Теперь только груды перегоревшего навоза и клочья кое-какой упряжи свидетельствовали о его назначении. В углу этого дворика стояла старая желомейка, около нее лежал ящик повозки и приставлена была сломанная ось. Красный ощипанный петух забрался на самую верхушку желомейки и усаживался поспокойнее, вероятно, рассчитывая там провести наступающую ночь.
Несколько поодаль лежала на боку совершенно потерявшая силы, загнанная лошадь и только чуть-чуть отделила от земли свою страдальческую голову и пошевелила ушами, когда последний раз звякнул колокольчик остановившейся тройки.
— Ге! Ге! Урумбай! — крикнул ямщик, прислушался и стал неторопливо слезать с козел.
Ответа не последовало.
— Ге! Ге! — повторился призывный крик.
— А, приехали? — очнулся Ледокодов, приподнялся и стал удивленно озираться кругом.
— Чего вскочили? Спите; еще долго придется ждать, — не без иронии произнес Бурченко. — Видите, ни одной лошади нет, да и ямщиков не видать. Должно быть, все в разгоне!
— Что же мы будем делать?
— Ждать, пока вернутся. Ночевать здесь придется. Что же, переночуем. Дело бывалое. Субар-ма? (Вода есть?) — обратился Бурченко к ямщику.
— Кудук-бар! (Колодец есть!) — отвечал тот, махнув в сторону рукой.
— Что это вы? — спросил Ледоколов.
— А вот насчет чаю справки навожу. Пойди, принеси ведро воды и огонь разложи, вот тут у стенки. Чаю дам тебе за это! — говорил он ямщику.
— Чаю? — ухмыльнулся тот. — Джаксы! (хорошо). И баранков дашь?
Киргиз слово «баранков» произнес по-русски. Он пригляделся к этого рода хлебу, которым обыкновенно запасаются путешественники по степи.
— И баранков дам!
Ямщик отпряг лошадей и пустил их прямо в степь. Те отошли шагов полтораста, мимоходом обнюхали лежащую лошадь и принялись щипать сухую травку и валяться на спине, дрыгая во все стороны своими разбитыми ногами.
Через четверть часа огонь весело горел, облизывая и коптя шероховатую поверхность стенки, в которую вколочен был железный крюк, а к крюку подвешен был объемистый медный чайник, налитый мутной, несколько солоноватой на вкус водой.
Быстро стемнело в степи. Последние отблески вечерней зари давно уже потухли, и со степи потянуло сыроватым холодом. Тарантас, землянка, верхушка желомейки с неподвижно, словно какой-то буроватый комок, сидящим петухом, околевающая лошадь... все исчезло, поглощенное густым мраком. Только черные силуэты наших путешественников да оригинальная фигура ямщика-киргиза, сидевшего на корточках в ожидании обещанного чая, отчетливо рисовались на ярко освещенной части стенки.
Дорожный погребец поставлен был вместо столика; хозяйничать взялся Бурченко, и в настоящую минуту он, вооруженный полотенцем, усердно перетирал стаканы и прочие принадлежности чаепития.
— Много народу вашего едет в степь нынче! — произнес киргиз и стал ощупывать рукой хитрые металлические оковки дорожного несессера.
— Это еще что за много! Вот, погоди, скоро еще больше поедут, — угрожающим тоном отвечал Бурченко.
— Вой-вой! — покачал головой ямщик. — И скоро поедут?
Он поближе придвинулся к огню и внимательно следил глазами, как Ледоколов отвинчивал пробку-стаканчик у своей оплетенной фляги.
— Скоро!
— Цс... Беда! — Киргиз вздохнул. — Отчего они все такие сердитые?
— Чем?
— Известно, чем! — Он почесал спину. — Дерутся больно.
— А как же вас не бить?
Бурченко засмеялся и хлопнул киргиза по плечу.
— Хе-хе, — осклабился ямщик. — Что же, это все начальники едут?
— Начальники!
— Большие?
— Нет, маленькие, большие после поедут!
— Вот беда будет!
— Это почему?
— Как почему? Вот с четвертой станции все ямщики разбежались; насилу после собрали. А ты спрашиваешь: почему?
Из степи донеслись какие-то дикие завывания. Пасущиеся лошади, впрочем, нисколько не выражая беспокойства, не обращали никакого внимания на эти звуки.
— Что это, волки? — поднял голову Ледоколов и потянулся за своим ружьем.
— Нет, верблюды, — отвечал Бурченко. — Тут аул, может, где-нибудь неподалеку, а то так караванные пасутся!
— Аул близко; десять кибиток! — сказал киргиз, понявший, о чем идет речь.
Чай поспел, и Бурченко начал разливать его по стаканам. Ямщику он налил в тыквенный ковш, который тот принес из желомейки. Когда он туда ходил, то путешественникам показалось, что ямщик с кем-то тихо разговаривал.
Бурченко и Ледоколов переглянулись.
— Вы слышали?
— Может, это он сам с собой!
— Нет, другой голос. Разве там кто есть? — спросил Бурченко ямщика.
— Никого нет там, все уехали... кому там быть...
Киргиз, видимо, смущен был этим вопросом.
— А вот я погляжу!
Бурченко встал и шагнул по направлению к желомейке.
— Не надо ходить, зачем? Там больной ауру... Человек совсем никуда не годится! — ухватил его за полы киргиз.
— Ну, черт с ним, коли никуда не годится!
— Может быть, помочь ему чем-нибудь можно. Со мной всякие средства есть, — заметил Ледоколов. — Зажгите-ка фонарь!
— Не надо ходить! — бормотал ямщик.
— Ладно!
Все трое пошли через дворик. Впереди Ледоколов с фонарем, за ним Бурченко; сзади всех ямщик, значительно поодаль, запрятывая на ходу что-то к себе в шаровары. Он успел воспользоваться удобным случаем и стащил целую связку баранок.
Какой-то странный шорох послышался внутри жилища, когда Ледоколов взялся за кошму, служащую вместо двери.
Вошли, подняли высоко фонарь и осветили внутренность желомейки. Мятая, грязная донельзя солома валялась на полу; тут же лежали два рваных хомута и сломанная дуга. Старый чугунный котел, весь проржавевший, стоял на треноге посредине. Никакого живого существа, кроме прыгающих по всем направлениям блох, не было в желомейке.
— Что за черт? — пожал плечами Бурченко.
— Никого нет! — удивился Ледоколов. — Но я сам слышал. Я не мог до такой степени ошибиться!
— Стой! Я видел босую ногу в этой прорехе, — говорил Бурченко. — Как только мы вошли, она прежде всего попалась мне на глаза; теперь ее нет. Он выполз под кошмой, с противоположной стороны. Тс!..
Оба замолчали и стали прислушиваться.
— Да не бойся, это добрые! — тихо говорил кому-то ямщик, не входивший в кибитку.
— Бить будут... — чуть слышно стонал другой голос. — Урумбайку бить будут!
Путешественники поспешили выйти на свежий воздух. Да и пора было: грудь сжималась от нестерпимой вони, наполнявшей все тесное помещение ульеобразного жилища.
Вся голая, с сине-багровыми полосами, тянувшимися крестообразно по плечам, спине и худым, выдающимся ребрам, с распухшим коленом, обмотанным грязными тряпками, полусидела жалкая фигура еще не старого киргиза и пугливо глядела на русских учащенно моргающими, слезящимися глазами. Но кроме безотчетного страха, в этом диком взгляде чудилось что-то недоброе.
Так смотрит волк, пойманный в капкан, когда к нему подходит охотник-промышленник и, поплевывая на рукавицы, стискивает рукоять топора, обухом которого намерен прикончить пойманного, лишенного возможности защищаться разбойника.
— Зачем Урумбайку бить... Урумбайку бить не надо... Его уже много-много били... — хрипло бормотал киргиз и все плотнее и плотнее жался к кибиточной кошме, словно хотел продавить ее этим движением.
— Не будут тебя бить; это не такие! — уговаривал его ямщик.
— Лошадей нет... ямщиков нет, Урумбайка ходить не может...
— Не тронем тебя, не бойся... Хочешь, чаю дадим тебе, хлеба? — ласково нагнулся к нему Бурченко. — Эк исполосовали его, сердечного!
— Но это зверство! — возмутился Ледоколов. — Я думал, что рассказы все преувеличены... Это ужасно!
— Самые обыкновенные явления; не то еще увидите. Эй, ты, бери его под мышки, тащи к огню! — распорядился Бурченко.
Ямщик подхватил избитого под мышки и поволок к огню; несчастный еще кое-как действовал левой ногой, зато правая, совершенно парализованная, беспомощно тащилась, бороздя густой слой пыли.
— Урумбайка есть хочет... Из аула никто не приходил, а туда не мог дойти: больно...
— И есть тебе дадут... Ах, ты, проклятая!
Бурченко бегом кинулся к оставленному без наблюдения бивуаку.
Какая-то тощая, облезлая собака, невесть откуда появившаяся, пробилась по самой стенке, поджав хвост между ног и боязливо оглядываясь. Несколько шагов отделяло ее от соблазнительно пахнувших путевых припасов, и только голос Бурченко заставил ее мгновенно исчезнуть в той самой темноте, из которой она так неожиданно появилась.
— Кто же это тебя бил? — расспрашивал Бурченко киргиза, когда все четверо уселись у огня.
— Проезжий вчера бил! — хрипел и захлебывался Урумбай, жадно теребя зубами поданный ему большой кусок холодного мяса.
Не прошло и десяти минут, как несчастный совсем ободрился, подполз к самому огню, с видимым наслаждением отогревал свои избитые члены и перестал вздрагивать при каждом неожиданном движении кого-нибудь из русских, что беспрестанно делал сначала.
— Вот оно, что значит пуганая ворона! — заметил Бурченко, выгребая прутиком уголек для своей трубочки.
— Рано утром вчера, — рассказывал Урумбай, — приехал большой тарантас, фонари по бокам, фонарь наверху, кругом стекла, как в комендантском доме, в Орске; я такого еще и не видал... В прошлом году вот самый большой генерал проезжал, так у того был хуже... А тяжелый какой — беда! Одной тройки мало было, а на станции было всего две тройки да вон эта... — киргиз кивнул в ту сторону, где лежала околевающая лошадь. — Ну, та уже больше не годится. В тарантасе этом две женщины и мужчина ехали и очень уж они хорошо деньги платили.
— Это лопатинская... помните? — обратился Бурченко к Ледоколову.
Тот кивнул головой.
— Ямщик, что привез их, говорил: на водку целую горсть копеек дали; считал, считал он их, да надоело, так и запрятал в шаровары, до другого раза... А тут слух был, из аулов приходили и сказали: будет курьер скоро из Орска... Как я отдам всех лошадей?! Однако, отдал... всех отдал. Ну, не успели они еще совсем отъехать, смотрю, еще бежит маленький тарантас, сидит в нем такой толстый, высокий, борода черная... кричит, еще вон с того места кричит: лошадей скорей! Бить буду!.. Вылез он, глазами во все стороны ворочает; цап меня за воротник... Где я возьму лошадей, все уехали, большой тарантас тоже уехал. Никого нет кругом, только мальчик у меня был, такой баранчук маленький, — Урумбай показал на аршин от земли, — спрятался он за трубу, на крышу, и оттуда выглядывает. Я и сам хотел спрятаться, да не успел... а вырваться не могу, держит крепко. «Подожди, тюра», — говорю, а тот-то меня бац! прямо в глаз кулаком, вон подбил как! Стал я рваться, и кричать, и уже ничего не помню. Может, я его сам как-нибудь нечаянно ударил, может быть, и не трогал. Прижал он меня к самой земле, подтащил к своему тарантасу, вынул нагайку и принялся бить... бил, бил он меня... Я сперва считал, думал после жаловаться бию, так чтобы счет знать... Да где уж тут... говорит: покуда лошадей не приведешь, до тех пор бить не перестану. А сильный какой — десяти наших мало, чтобы с ним справиться... Кричу я баранчуку: беги в аул, проси, кланяйся, может, кто даст лошадей хоть пару... Побежал мальчишка. Ну, сам знаешь, пока добежал, пока что; из степи тоже не скоро приведут, найти их сперва надо, степь-то велика. А тот-то все говорит: пока не приведут, не перестану... Привязал он меня к колесу, да и лупит; перестанет на минуту, отдохнет, табаку покурить и опять... Уж мне потом и не больно было... Ничего не помню. Как лошадей привели, как уехал проклятый медведь; ничего не помню. Очнулся я, когда темнеть уже стало. Так вот всю ночь и сегодняшний день и провалялся в желомейке. Слышу, вы приехали, страх на меня такой напал, думаю опять бить будут, притаился я и Богу молюсь. А уж как сюда вы ко мне шли, так уж думал, что совсем мой конец пришел: добьют меня теперь уж совсем до смерти, потому теперь до завтра привести лошадей неоткуда. А тот-то меня сильно бил, — я бы еще не выдержал; немного бы ничего, а много не выдержал...
Киргиз наивно посмотрел на проезжих и еще раз повторил:
— Нет, Урумбайка больше бы не выдержал. Вот тут больно, — он взялся за левый бок. — На ноги встать не могу; спина не позволяет...
— Араку хочешь? Это хорошо, помогает скоро! — предложил ему Бурченко. — Будешь пить?
— Давай арак!
Киргиз жадно, сквозь зубы, прихватив обеими руками поданную ему чарку, вытянул водку.
— Любишь?
— Арак джаксы, коп джаксы арак! Я поползу в аул, к утру, может, там буду, и пришлю вам лошадей!
— Я сам съезжу, — вызвался привезший путешественников киргиз. — Где уж тебе! Еще волки сгложут дорогой... На водку дашь? — обратился он к Бурченко.
— А вот приведешь лошадей — дам. Посмотрим, так ли подействуют деньги, как нагайки этого бородача!
— А ведь это тот самый, что ораторствовал тогда. Я его еще в Самаре видел, — сказал Ледоколов, — он еще все наставления дорожные читал всем вновь едущим!
— Кроме него кому же быть больше! — согласился Бурченко.
— Ну, прощай, я поеду! — сказал киргиз и пошел отыскивать своих лошадей.
Несмотря на темноту, он справился скоро. Он припал к самой земле, присмотрелся и тотчас же заметил на более светлом фоне ночного горизонта темные силуэты пасущихся кляч. Через минуту топот конских ног дал знать о том, что ямщик отправился по своему назначению.
— Ну, так как же: я полагаю, теперь спать надо. Уберем все, как следует, и завалимся в тарантас; это самое лучшее! — предложил Бурченко. — Да что это вы опять задумались? Хандрить опять начинаете? Стыдно!
— Грустно что-то стало, да и этот рассказ так на меня скверно подействовал!
— Полноте, на всякое чиханье не наздравствуетесь. Вы много еще услышите и увидите такого, да что я говорю: «такого», — гораздо почище. И поверьте моей опытности, спрячьте вашу чувствительность в карман: мы едем в такую сторону, где она вовсе неуместна!
Они убрали дорожный прибор и полезли в экипаж. Повозились немного, умащиваясь, и успокоились, закурил Ледоколов сигару, а Бурченко свою носогрейку.
— Вот в прошлом году, например, — занимал своего товарища на сон грядущий словоохотливый Бурченко, — я сам видел. Барыня тут одна проезжала, и прехорошенькая, молодая еще совсем, такое нежное, юное создание, — с мужем она ехала... Вышла она из сакли, а киргиз, скотина, и сыграй над ней какую-то шутку, гикнул, кажется, на нее из-за забора; известно, дикарь нецивилизованный, что с него взять? Так ведь что же бы вы думали? Муж держит за локти сзади киргиза-то, а жена пустой бутылкой из-под водки по зубам его дует... Зубы выбила, бутылку разбила, рожу всю стеклом изрезала... Далее смотреть было противно!
— Да чего же вы смотрели?
— А что? Что я мог один сделать? Речи им гуманные читать — не поймут, дураком еще назовут, а то, пожалуй, тоже бутылкой; с ними, ведь, еще человека три было, — по мировым учреждениям на службу туда ехали, — и посуды с собой много пустой было!
— И это цивилизаторы?
— Цивилизаторы... Едут всяк по своему делу... Покойной ночи...
— Тс?.. — приподнялся Ледоколов на локте.
— Кто-то возится у нас под тарантасом! — стал прислушиваться Бурченко. — Кто там? — наклонился он, перевесившись через облучок.
Шорох усилился немного; то, что заползло под тарантас, слегка застонало.
— Это ты, Урумбай, что ли?
— Гге, Урумбай есть там, Урумбайка!
— Что ты?
— Тюра спать будут... Собака придет, нехороший человек придет. Урумбайка стеречь будет... Урумбайка не будет спать!
— Ну, вот мы и под охраной! — расхохотался Бурченко. — Итак, постараемся заснуть!
— Но этого нельзя допустить. Больной, искалеченный, почти голый, валяется в пыли под тарантасом!
— Их натуру не переделаете; это, по-ихнему, в порядке вещей. Вы напоили и накормили его, а главное — не били; за это он считает себя обязанным отблагодарить вас, чем может. Прогоните его из-под тарантаса, он отползет два шага и ляжет на дороге. А коли уж хотите что-нибудь сделать, так это вот самое лучшее...
Бурченко вытащил из-под ног ковер и сбросил его на землю.
— На, вот, завернись: все теплее будет! — крикнул он Урумбайке.
Затихла возня в тарантасе, заснули, наконец, путешественники. Не затихла, не засыпала только вечно неугомонная степь... И если замолкли там дневные звуки, то теперь каждый легкий порыв ветра доносил с собой что-то неопределенное, то словно звон отдаленного колокольчика, то тихий, продолжительный свист, то слабый крик, внезапно оборвавшийся, то шелест какого-то ползущего тела, а то и такое, что и самое опытное, самое привычное ухо косоглазого степняка не разберет, что оно такое, и вздрогнет во сне полудикий конь, навострив свои надрезанные уши, и вскочит на ноги разоспавшийся верблюд, и призовет на помощь покровительство пророка наивный номад, и шепотом скажет своему товарищу:
— Слышишь, это проклятый шайтан гоняет по степи свои атары (стада)!
VII Всадник, хорошо знающий свое дело
Длинным серебристым столбом отражалась луна, поднявшись над горизонтом, в водах Солено-горького озера. Этот столб тянулся через всю водную поверхность, дрожал, искрился и был в нескольких местах перерезан черными отмелями. Ни кусточка, ни стебелька не виднелось на плоских, пустынных берегах; трудно было даже определить ту черту, что отделяла воду от сероватых песков, покрытых кое-где илом и солонцеватым налетом; казалось, что пески незаметно переходили в воду, — так все кругом было гладко, ровно.
Темная группа каких-то живых существ виднелась в полуверсте от озера. От этой группы по временам отделялось что-то, двигалось, опять сливалось в общую массу, да и вся-то масса, несмотря на то, что находилась на одном и том же месте, как-то странно колебалась, двигалась, и не могло быть сомнения в том, что это были живые существа, забредшие сюда, чтобы хотя сколько-нибудь оживить эту мертвую пустыню.
Это был небольшой табун диких лошадок-куланов. Эти животные любят посещать подобные солончаки и лизать серый песок, пропитанный горьковатой солью.
Несколько кобылок дремали, то стоя и опустив книзу свои немного ослиные головы, то лежа плашмя на боку и вытянув ноги, как лежат обыкновенно павшие лошади. Жеребята копошились около своих маток, вскакивали поминутно на свои тонкие, высокие ножки, прислушивались, подбрыкивали иногда, без всяких видимых причин, задом и снова примащивались к кобылам, теребя губами припухшие, обильные молоком сосцы. Десяток подростков стоял плотной кучей и тоже дремал. Не дремал только один сторожевой, косячный жеребец и, держась поодаль, зорко присматривался к окрестностям, тянул носом воздух, настораживал уши и, понемногу успокоившись, принимался потихоньку бродить вокруг косяка, обнюхивая кучки помета и отфыркиваясь.
Тихо и покойно было кругом, и робкие животные, казалось, были совершенно довольны своим положением. Вдруг жеребец вздрогнул и даже прискакнул на одном месте. Рысью пробежал он несколько шагов по направлению к воде, храпнул и замер, весь обратившись в одно, самое напряженное внимание. Даже в табуне заметно было какое-то беспокойство, и лежавшие кобылки лениво поднимались на ноги.
Из степи чуть доносился мерный, однообразный топот. Эти звуки неслись с противоположного берега Соленого озера. Широко оно в этом месте; только в совершенно ясную погоду можно заметить желтоватую береговую полосу. Но по воде да еще тихой ночью доходят отчетливо и не для такого чуткого уха, каким обладает дикая лошадь.
Успокоился было жеребчик, но подозрительные звуки не затихали, не удалялись, а, напротив, все яснее и яснее поражали слух. Чу, вот еще что-то прибавилось, будто металл звякнул о металл, или кованое копыто наступило на камень.
С легким ржанием жеребец обежал вокруг своего косяка, и все куланы сбились в кучу. Вся куча шагом потянулась в степи, дальше от озера, и долго еще виднелась темная масса, постепенно уменьшаясь в своем размере и сливаясь в обшей линии темного горизонта.
А между тем звуки, всполошившие чутких дикарей, теперь уже определенно достигали до слуха; нельзя было сомневаться в их происхождении. То был конский топот. Лошадей было две; обе они шли собачьей рысью, «тротом»; одна ступала тяжелее, значит, она была под всадником, другая — легче, значит, ее вели в поводу. Металлическое стремя звякало по временам, может быть, оно задевало за оковку какого-нибудь оружия.
Нота какой-то заунывной песни пронеслась над озером, усталый конь фыркнул и споткнулся. Яснее и яснее слышалось все это, но только не видно было ни коней, ни всадника. Мглистое туманное отражение лунного света от серых песков скрывало путника; но вот, на самом почти берегу, показались темные силуэты, отразились в озере кверху ногами, исчезли, еще раз отразились на другом месте и выдвинулись из этого лунного столба, протянув от себя по степи длинные тени.
Эх, да не одна... то во поле дороженька
Пролегала...
Уныло тянул всадник и, словно в дремоте, согнулся над шеей своего коня, лениво помахивая нагайкой.
Если он и воспевал поле, по которому пролегало много дорог, то по тому полю, по которому он сам ехал, не пролегало ни одной. Всадник держал путь целиком степью, руководясь ему одному известными соображениями. Этот всадник не заблудился. Он был слишком опытен для того, чтобы заблудиться. Он хорошо знал пустыню, знал все ее капризы и особенности. Ему не надо было дорог, он сам их прокладывал везде, где только к тому не представлялось положительно непреоборимых препятствий. Довольно было только взглянуть на этого всадника, на его лошадей, на его вьюки, на то, как все это предусмотрительно, со знанием дела, прилажено, чтобы узнать в нем травленного степного волка, видавшего на своем веку разные виды.
Всадник был одет в полосатый сине-серый халат туркменского покроя, в кожаные желтые шаровары, поверх халата, и на голове у него был ушастый лисий малахай с красным суконным верхом; за плечами висел одноствольный штуцер, танеровский казачий, за кушаком, подтягивающим шаровары, торчала рукоять револьвера, шнурок которого был накинут на шею, нож с утопленной (т.е. входящей в ножны) костяной ручкой, и висел на ремнях кожаный кошель с патронами и другой, поменьше, с табаком и курительными принадлежностями. За седлом ловко переброшены были переметные сумки, куржумы, туго набитые и перехваченные поверх волосяным арканом, так что висели спокойно даже на самом быстром аллюре и не толкали в бока лошади; поверх сумок прилажен был небольшой медный котелочек и складной таган. На передней луке висел теркешь с чашками и кунган для чаю. Все седло и вьюк плотно прикрыты были сверху полосатой, тканной из верблюжьей шерсти попоной, так что вещи и не пылились, и были предохранены от влияния непогоды; кроме того, эта же попона служила ковром во время отдыха. Вторая лошадь была тоже оседлана остролуким хивинским седлом с подушкой, и за седлом свернуто было серое байковое одеяло. На этом коне висел мордой книзу, притороченный за все четыре ноги, молодой сайгаченок, добытый сегодня утром метким выстрелом танеровской винтовки. На эту лошадь, как на оседланную легче первой, вьючилась постоянно случайно во время пути добытая провизия. Оба коня были казачьей оренбургской породы, крепкие, выносливые, имеющие много сходства с обыкновенными киргизскими лошадьми средней орды, но только несколько плотнее на вид и шире в костях; они были вороной масти, оба со звездочками на лбу, с надрезанными ушами, на прямых низких бабках и с длинными волнистыми хвостами, закрученными в хитрый узел по туркменскому обычаю. Трудно было рассмотреть лицо наездника, так оно было запачкано, вымазано и до половины прикрыто густой тканью малахая.
Потихоньку, медленным ходом подвигался терпеливый всадник. Он ехал так, как следует: ни тише, ни скорее; все у него было рассчитано, да и ход лошадей был так верен, что, проследив по часам хотя одну версту, можно было наверное, с математической точностью определить час и даже минуты прибытия его на данное место.
Таким размеренным ходом путешествуют только опытные степные бродяги, и только тогда, когда имеют в виду очень продолжительное путешествие.
Всадник, по-видимому, избрал ночь для движения и день для отдыха. Это было для него очень выгодно; во-первых, ночью не жарко, и кони менее утомляются, а во-вторых, не так заметно; а это тоже входило в расчет путешественника.
Давно он уже в дороге; подобравшие животы кони похудели и перестали горячиться, втянувшись в мерную побежку. Под ремнями уздечек и подпруг белелась мыльная пена.
Русская песня смолкла. Другой мотив, более веселый, плясовой, сменил монотонные звуки «Дороженьки». Ба! Да это краковяк. Вот ясно слышны польские слова припева.
Всю ночь ехал всадник, давно он уже миновал берега Солено-горького озера. Миновал песчаные наносы, белевшиеся в стороне, пересек какую-то торную тропу... и завидел на светлой полосе утренней зари темный силуэт отдаленного кургана.
Впереди и вправо расстилалась бесконечная степь, левее виднелась волнистая линия песков Тальды-Кум; всадник направлялся наискось к этим пескам, и не успело еще хорошо рассвесть, как ноги его лошадей вязли по щиколотки в сыпучем песке, прокладывая себе дорогу между барханами незначительной высоты. Всадник зорко приглядывался по сторонам и вперед, привставая на стременах, и вообще принял вид человека, что-то отыскивающего. Он уже бывал здесь и знал, что искал, только его немного смутили конские следы, еще не занесенные песком, которые раза три попались ему на его дороге.
В одном месте песок был темнее цветом, чем окружающие барханы, он был влажен и лежал плотным слоем. Это была небольшая котловина, обрамленная песчаным кольцеобразным валуном, и в центре этой котловины виднелся оригинальный родник, одно из чудес степи. Представьте себе небольшой песчаный конус, вершина которого ссечена и углублена; в этой природной чашке стоит прозрачная холодная вода, и сколько вы ни выбирайте ее оттуда, чашка будет полна. Эта волшебная, неисчерпаемая чашка, словно нарочно поставленная в глухом безводном пространстве, внушает кочевому дикарю суеверное боготворение, и чтит номад эти спасительные родники, с молитвой подходя к ним для удовлетворения своей жажды. Вода в роднике постоянно как будто кипит; это происходит оттого, что со дна ее пробивается струйка водяной жилы, а песок, окружающий родник, всасывает излишек воды и не дает ей переливаться через край; вода, вследствие этого, находится в постоянном движении и, несмотря на время дня, сохраняет одну и ту же, довольно низкую, температуру,
В кочевьях средней орды родники довольно часты, но здесь они составляют одно из самых редких степных явлений и, скрытые в стороне от караванных путей, между бесплодных песков, становятся секретом, которым обладают далеко не многие из окрестных кочевников. Вот к такому-то роднику приехал путешественник о двуконь и намеревался здесь провести день и дать отдохнуть своим усталым коням, пробежавшим в одну ночь около восьмидесяти верст, т.е. сделавшим за один раз два больших караванных перехода.
Всадник слез с лошади и привязал ее за ногу к приколу; другую лошадь он пустил по воле (он знал, что никакой степной конь не уйдет далеко от своего товарища), а сам, расправив онемевшие немного ноги, пошел на бархан взглянуть, нет ли чего кругом подозрительного, да кстати нарвать бурьяну и колючки для того, чтобы было чем развести огонь и поджарить на нем кусок жирной сайгачины.
Скоро маленький синеватый дымок тонкой струей поднялся из котловины, и весело затрещало пламя, пробегая по сухим стебелькам скудного топлива и накаливая железные ножки тагана и тонкие стенки медного чайника.
Выстояв в этом месте самую жару, путешественник опять привел в порядок свои вьюки и поехал дальше. Выбравшись из Тальды-Кум, он взял направление на юго-запад. Опять степь потянулась ровная, как скатерть, и только правее синела полоса озера Челкара. Эта синяя полоса словно отделилась от горизонта и облаком висела на воздухе; в одном месте эта черта переломилась и уступом шла далее, словно отражение в составленном из двух кусков зеркале. Длинная вереница верблюдов тянулась еще выше; два, три животных рисовались отчетливо, можно было даже заметить вьюки, остальные легкими, голубоватыми тенями чуть обозначались, поднимаясь из вод озера-миража и, мало-помалу, расползаясь в колеблющемся от зноя воздухе. Все эти отражения дрожали и волновались, особенно те, которые находились ближе к горизонту.
Проехал всадник с версту — и явление исчезло, уступив место новому: какие-то странные предметы медленно двигались, извиваясь отлогой дугой. Внимательно изучал всадник этот новый мираж и даже засмеялся от удовольствия. Он узнал большие воловьи повозки, пары рогатых оренбургских волов, верблюдов, перемешавшихся между повозок. Густой, пепельно-серый степной смерч высоким крутящимся столбом закрыл видение, покружился на одном месте и понесся к югу. Мираж исчез, словно вихрь закрутил его вместе с вырванными кустами бурьяна, двумя птицами, не смогшими вырваться из этого воздушного водоворота, и увлек его в пески, где он и рассыпался, налетев на высокие барханы.
— Они, — произнес всадник, — идут хорошо, этот проклятый казак водить умеет....
Несколько раз подносил он к глазам большой бинокль, присматривался к горизонту и снова прятал трубку в кожаный футляр, висевший через плечо на ремешке.
Несколько черных точек виднелось впереди; всадник не догонял их, а ехал навстречу, потому что эти точки быстро росли, формируясь в нечто определенное. То был верблюд и два всадника; на верблюде был всадник, и сверху сидела женщина в киргизском белом тюрбане, с открытым лицом, и погоняла длинной нагайкой усталое животное, тянувшееся на поводу, конец, которого был привязан к седлу переднего всадника.
Оба всадника, по костюмам, были мирные киргизы челкарских аулов, расположенных на южном берегу этого озера.
Опытным взглядом всадник оценил встретившихся кочевников и спокойно поехал к ним навстречу, держась поближе к стороне, чтобы съехаться вместе.
— Да будет гладка дорога перед твоей лошадью! — приветствовал его передний киргиз.
— И над тобой да будет рука Аллаха!
— Спасибо; куда глаза твои смотрят?
— На Малые Барсуки, к Вию-кашик-ходжа... Как степь живет?
Всадник остановил своих лошадей, остановился и маленький караван.
— Народу много гуляет у святого места Аулье, у Девлет-Яра нехорошие люди стоят. Коли ты не к ним, обходи дальше!
— Много?
— Лошадей сорок!
— Туркмены?
— Бузачинцы с Усть-Юрта, есть курома![1]
— Ну, прощайте!
— Прощай... Да, караван русский прошел вчера, перед вечером (арбинной караван), да остановился!
— Что так?
— Узнал, что у Девлет-Яра нечисто; пережидает, повозки базаром поставили, волов близко пасут, стерегут в оба; на курган сторожевика поставили...
«Проклятый казак, эдак он все дело испортит», — подумал всадник и добавил громко:
— Далеко стоят?
— С пути влево, на забитых колодцах, в саксауле!
— Ну, прощайте! — повторил наш наездник, и повторил таким тоном, будто бы говорил: «Ах черт бы вас подрал с вашими вестями».
Киргизы поехали в одну сторону, всадник в другую. Раза два оглянулся последний, раза два оглянулись и те.
«Эдак не расспроси вот путем, как раз нарежешься, — думал всадник, — спасибо, народ словоохотливый».
«Что за черт, — думали киргизы, — по виду совсем из наших, а не наш», а баба, что сидела наверху, та сразу порешила: яу (разбойник), такой же, как и те, что стоят у могилы.
И снова все было гладко да ровно кругом, снова не видно было нигде ни одного живого существа, даже миражи исчезли, потому что солнце давно уже перешло за полдень, и весь колорит степи изменился из сероватого, знойного, в красноватый с лиловым, туманным горизонтом.
VIII Вагенбург в саксауле
В стороне от караванной дороги, в редких зарослях саксаула, на небольшой возвышенности расположился оригинальный лагерь. Оренбургские воловьи повозки, длинные, на широких колесах, стояли четырехугольником, связанные попарно задними колесами; скрещенные дышла были приподняты и образовали ворота, в которые мог проехать даже всадник, пригнувшись предварительно к шее своего коня. Повозки были тяжело нагружены, и их прикрытые войлоком верхи далеко виднелись сквозь саксаульную чащу; издали казалось, что это слоны забрались в саксаул и выстроились рядами; громадный паровик, установленный на восьми нарах здоровых бычьих колес, занимал целый фас импровизированного укрепления. Человек десять погонщиков, казаков и киргиз, возились у повозок, улаживая на досуге все дорожные повреждения. В стороне, в четверти версты от лагеря, кусты саксаула трещали и колыхались, откуда по временам показывались: то пегий бок, то рогатая, широколобая голова, то махал хвост, сбивающий со спины назойливого, кровожадного овода; иногда слышалось хриплое мычание, и взлетали кверху комки земли и пыль, взбитые ногой рассердившегося на что-нибудь животного. Там паслись упряжные обозные волы, обгладывая молодые побеги саксаула и сгрызая верхушки полыни и степной колючки. За ними, на небольшом кургане, лысая вершина которого далеко виднелась над саксаульной чащей, поднимался столб черного дыма, и мигало красноватое пламя. Там сидели сторожевые и варили себе что-то от скуки, сжигая даровое, обильное топливо.
В центре укрепленного лагеря была поставлена круглая татарская палатка, возвышавшаяся надо всем своим ярко-зеленым конусом; там на ковре лежали три человека и прихлебывали чай из стаканов. Один из них был в белом парусиновом пальто, в фуражке, в высоких щеголеватых сапогах и обладал всеми признаками цивилизованного европейца; двое других были в рубахах, засунутых в киргизские штаны, вымазанные дегтем, заскорузлые до того, что согнулось бы лезвие ножа, если бы пришлось их резать. Корявые, мозолистые, черные, как сажа, пальцы неуклюже придерживали стаканы и кусочки сахара; босые ноги обладали такими прочными, неуязвимыми подошвами, что никакой в свете тарантул или скорпион не мог бы прокусить эту мозолистую кожу. Один из них был совсем старик с седыми длинными усами, с обритой щетинистой бородой и гладко остриженной головой, другой был еще молодой парень и, судя по сходству, сын старика. Европеец был Симсон, сопровождавший транспорт Лопатина, двое других были казак Ефим Мякенький с сыном, взявшие на себя воловью доставку до Казалинска. Этот старик и был тот самый «проклятый казак», раздосадовавший так таинственного всадника.
— Нас немного и мы бы не устояли на пути, т.е. оно, может быть, сами-то и отбились бы, но скотину нашу не отстояли бы ни за что, — говорил старик. — Ты говоришь, сколько этих собак было? — обратился он к своему сыну Прокопу.
— Человек двадцать пять, о дву-конь все, я хорошо разглядел! — отвечал молодой казак, осторожно кладя на дно опрокинутого стакана недогрызенный кусочек сахара.
— Да ты близко ли подъезжал? — пытливо посмотрел Ефим Мякенький в глаза своему сыну.
— А то нет?! — Прокоп тряхнул головой. — Одежду я взял у Девлетки-работника и малахай его надел, чтобы не так в глаза бросилось с первого разу; а поехал на саврасом; тот лихо скачет, так чтобы, не ровен час, удрать можно было... Ну, подобрался я к ним сзаду, от могилы еду эдак себе сторонкой, словно сам по себе; мне-то все видно, а им за мазарками не видать... Кони все на приколах, важные кони; у стены пики поставлены; ружья у всякого, снаряд в порядке, известно барантачи. Я было еще ближе подъехал, да «саврасый», — прострели те брюхо, — как заржет, те и встрепенулись. Не успел я с бархана спуститься, а мне наперерез двое, сзаду четверо, а один, как есть около самого меня, леший его знает, откуда выскочил; гикнули; я ходу, без памяти гнал. Мосула на дороге встретил, кричу: беги, черт, трухмены! Заметался он, сердечный, лошаденка под ним хромая была (соловой, что у балдуевцев дорогой купили). Ну, его и накрыли...
— Убили, что ль?
— А не знаю; взвыл он волком; должно, ножом куда пырнули, не видал. Уж у самого саксаула отстали проклятые. Кабы не савраска, где удрать, то есть, ни в жисть...
— Но ведь и нас человек пятнадцать, — заметил Симсон, — силы почти равны; можно было бы идти!
— А тебе, купец, хозяйского добра не жалко, что ли? Коли не жалко, так мы свою скотину бережем. Они на нее больше и зарятся! — произнес Ефим.
— Известно, до волов наших добираются, а то, что им еще? Нет, надо погодить!
— Да долго ли ждать придется? — нетерпеливо перебил Симсон и встал на ноги.
— А сколько придется. Благо, спасибо Владычице Небесной, место привольное Бог послал: топливо, вода, припасу у нас всякого много, корм есть, чего не ждать? Вот коли бы где на песках довелось, али вот середь голого места, ну, тогда все одно пропадай. Отсидимся!
— Надысь Калашниковы эдак тоже отсиделись! — вставил, со своей стороны, Прокоп.
— Долго ждать нас не станут; им тоже кормиться надо, откроют нам дорогу, это верно! — утешал нетерпеливого англичанина старый казак.
— Я должен к сроку!..
— Какие тут в степи сроки!.. Мы еще таких и не слыхали, — улыбнулся Прокоп. — Вечеряет, батька, пора волов поить. Я пойду!
— Время. Скажи там на кургане, — больно огонь широко распустили, балуются со скуки, как бы чащу не запалили; беды наживем!
— Ладно, скажу. За угощение благодарим покорно! — протянул Прокоп Симсону свою руку и вышел из палатки.
— Будем ждать! — вздохнул англичанин.
— Выждем... — как бы про себя произнес Ефим.
— Батька, всполох на кургане! — крикнул Прокоп, вбегая в палатку.
Симсон побледнел, закусил губу и, захватив в охапку револьвер и свою двустволку, кинулся к выходу.
— Всех к волам... загонять живо! — ревел Ефим Мякенький и полез на верх паровика, чтобы осмотреться кругом и сообразить степень опасности.
На сторожевом кургане темная фигура махала жердью с навязанной на конце тряпкой. По саксаулу шел гул и треск: волы ревели и, сгоняемые всеми погонщиками, приближались к вагенбургу. Несколько верблюдов, задрав хвосты и пугливо поглядывая по сторонам, метались, натыкаясь на повозки; саврасый жеребец ржал и рвался на приколе. Четыре киргиза вместе с Прокопом раздвигали возы, чтобы пропустить скотину внутрь лагеря.
Кругом же все было спокойно; ничего подозрительного не было заметно, и Эдуард Симсон взмостился на паровик, где стоял уже старый Ефим и внимательно осматривал замок своей ружницы.
Сторожевые оставили курган, и между саксаулом мелькали их шапки, быстро приближающиеся к лагерю.
— Что за черт, — произнес Ефим, — какая такая беда?..
— Кажется, нас потревожили даром эти трусы... — начал Эдуард Симсон.
— Погоди, — остановил его старик. — У тебя ружье далеко стреляет?
— А что?
— Вон до того кургана хватит?
Он указал на курган, где стоял перед этим сторожевой пикет. Огонь, не поддерживаемый более, стал гаснуть, дым опал и расползался по низу, клубясь между кустами. На красноватом фоне вечернего неба мелькнула тонкая черточка, рядом с ней другая...
— Видел?
— Что такое?
— Пики трухменские. Берегись!..
Симсон чуть не полетел со своего возвышенного поста, так он порывисто отшатнулся и ухватился рукой за веревки ближайшего закрутка.
Старик снял шапку и набожно перекрестился.
О выпуклый, металлический бок паровика, испещренный закругленными головками болтов, что-то звонко щелкнуло, расплюснулось и, оставив чуть заметный знак, отскочило. Клуб дыма вспыхнул на кургане, донесся звук выстрела. У подножья кургана мелькнули красные халаты, и блеснула кольчуга. Силуэт всадника показался еще раз, к нему прибавилось еще двое...
— Отвечай, — шепнул Ефим Симсону. — Мое ружье не достанет!
Симсон приложился.
— Задирать ли их? — приподнял он голову и вопросительно смотрел на старого казака.
— Стреляй. Надо их постращать, а то очень расходятся... Я их натуру знаю!
— Есть! — крикнул с угла Прокоп, наблюдавший за результатом выстрела английской двустволки.
Симсон ничего не видел за дымом. Когда дым рассеялся, то вершина кургана оказалась пуста.
— Может, теперь отстанут! — произнес Ефим.
Атаки барантачей более не повторялись; с их стороны это была только простая рекогносцировка.
Однако, эта попытка заставила обозников удвоить свою осторожность. Волов на ночь так и не выгоняли из-за возов. Прокоп сам залег в саксауле, невдалеке от вагенбурга, и от его чуткого уха не ускользнул бы ни один, сколько-нибудь внушающий подозрение, звук. На паровике, как на самом высоком пункте, сидел сменный сторожевой. Эдуард Симсон был в тревожном состоянии и волновался.
«Вот приятная перспектива, — думал он. — Пожалуй, если одолеют они нас, в плен попадемся, увезут, черт знает куда»...
Он немного трусил. Ему представились все ужасы плена в степи у дикарей, он припомнил все, что читал до сих пор об этом, начиная с рассказов Мунго-Парка до последних газетных известий.
— И отчего это конвоя не дают торговым караванам? Что за беспечность такая относительно наших интересов? Ну, вот, возможна ли правильная торговля... А, что такое? Кажется, шумят в той стороне?
— Нет, ничего, — спокойно отвечал Ефим, — это ветер в саксауле; ну, оно и гудит!
— А что, они обыкновенно убивают тех, кто при караванах, или в плен берут? — спросил Эдуард Симсон у старика.
— Коли очень барахтаться кто будет, ну, с тем покончат; а то им в полон таскать много прибыльнее!
— Я думаю, легче умереть, чем к ним попасться?
— Что так? От них уйти можно. Оно точно, что спервоначалу трудно, а потом обтерпишься и ничего; я два раза был у них в полону!
— Не может быть!
— Да, два раза, — спокойно говорил старый казак. — Раз еще мальчиком, по девятому году; ну, тогда был недолго. С отцом это я попался, — отец покойник тоже ходил в степь с волами; возили крупу, муку и еще кое-что по торговой части. Был у отца приятель, купец-бухарец Саид-ходжа; узнал это он о нашей беде и у хана хлопотал через муллу ихнего, самого важного; нас с отцом и выкупили. А второй раз... Тс!..
Из чащи донесся резкий свисток; сторожевой на паровике щелкнул курком своего ружья.
Луна поднялась уже довольно высоко, и солонцеватая степь за саксаулом белелась, словно покрытая снегом; там, тихим шагом, ехал всадник на вороной лошади и вел другую в поводу. Всадник, по-видимому, даже и не замечал лагеря, хотя ехал от него не более, как в трехстах шагах.
— Что за дьявол? — пожал плечами Ефим Мякенький, выглядывая из-за воза. — Погоди, Егор...
Он остановил сторожевого казака, который было прицелился в проезжающего.
Всадник остановился и повернулся лицом к повозкам. Он стоял несколько минут в таком положении и, казалось, не решался, подъезжать ли ему к обозу или нет. Наконец, он решился и тронул вперед своих лошадей.
— Кого Бог посылает? — окликнул старик, когда всадник подъехал ближе.
Ефим окликнул по-киргизски.
— Свой... торговый человек. Еду в Казалу, — отвечал всадник по-русски. — Что стоите на дороге?
— А то, что и тебе советуем остановиться, коли бережешь свою голову! — говорил Прокоп, неожиданно поднявшись почти около самого всадника.
Вороные кони шарахнулись, так неожиданно увидев белую фигуру, словно из-под земли вынырнувшую.
— В степи, что ли, нечисто? — спрашивал проезжий.
— У могил барантачи; на нас нападали, да мы отбились!
— Ну, так я с вами переночую, коли пустите!
— Милости просим, коли добрый человек! — произнес старик.
— А коли худой, — подозрительно взглянул Прокоп, — так у нас тоже глаза есть, не бойсь, не проглядим!
— Экий ты неласковый! — усмехнулся всадник, слезая с лошади.
— Не могу припомнить, а голос положительно знакомый! — шепнул Симсон старому казаку.
— Устал я страсть и спать хочется! — говорил незнакомец, убирая лошадей и привязывая их к дышлу повозки.
— Ужинать будешь?
— Поем, коли дадите. И долго ли это стоите таким манером?
— Вот уж целые сутки... Издали их заметили, а то бы на дороге влопались...
— Кони у тебя хороши больно! — заметил Прокоп.
— Ничего, годятся. Это у вас лапша?
— С бараниной; вот на, возьми ложку!
— А что, теперь с нами поедете? — обратился Эдуард Симсон к гостю.
— Да, уж придется, в обществе все веселее и не опасно!
— И нам выгодно, хорошо вооруженный человек не будет лишним!
— Слышь ты, батько, пойди сюда, — толкнул в бок отца молодой казак, — дело есть!
— Что там еще? — лениво поднялся Ефим.
— Там в возу колесо. Да пойди сам, погляди!
Отец с сыном отошли к одному из возов.
— Ну, что ты?
— Да что, больно у меня сердце не лежит к этому! — Он кивнул в ту сторону, где сидел гость и с аппетитом ел лапшу из большой деревянной чашки. — Как бы худа какого не было, — кто его знает? Едет один, ровно волк; к нам вот подъехал совсем не по дороге, невесть откуда. Может, он одной масти с теми...
— Поглядим — увидим; не гнать же его теперь!
— Гнать не следует, а я бы его скрутил да и шабаш!
— Поспеем, коли надо будет; нас много, — он один!
— Не могу припомнить, где это я вас видел? — говорил громко Симсон, обращаясь к соседу.
— Не встречался я с вами никогда, — у меня память хорошая, — это верно! — отвечал тот.
— Может быть, но ваш голос... голос...
— Сходство всякое бывает... Ко сну так клонит, что страсть. Лошадей своих напою ужо с рассветом!
— Вот вам ковер, если хотите!
— Благодарю покорно. Спокойной ночи!
— Ты, батько, ложись, а я не лягу — сна нету! — говорил Прокоп.
— Что ж, посторожи — дело хорошее!
Старик снял шапку, повернулся лицом к востоку и начал молиться. Набожно склонилась на грудь седая, усатая голова, рука размашисто, отчетливо переходила от лба на живот, с одного плеча на другое. Казак был старовер и крестился всей ладонью.
Тяжело дышали, сопели и пережевывали корм лежащие тесной кучей волы. Под телегами слышался тихий говор погонщиков; гость давно уже храпел, беспечно свернувшись под своим одеялом; улегся и старик, кряхтя и почесываясь; не спал только сторож на паровике, Эдуард Симсон, ходивший по вагенбургу в каком-то ажитированном состоянии, и казак Прокоп, подозрительно поглядывавший на вороных лошадей, спокойно стоявших у дышла.
Луна стояла высоко, почти над самой головой, и обливала сонную степь своим серебристым светом. Кругом было спокойно и тихо, но в этой тишине невольно чуялось что-то недоброе, сжимавшее сердце англичанина и отразившееся даже на состоянии духа всех погонщиков. Все спали, что называется, одним глазом и готовы были вскочить и взяться за оружие при малейшем намеке на опасность.
Когда рассвело, Прокоп еще раз сделал разведку в ту сторону, где стояли гробницы «Девлет-Яр». В степи никого не было видно; приглядывался-приглядывался казак вдаль — ничего подозрительного. «Что за дьявол, неужели ушли? — подумал Прокоп и подъехал ближе. — Золу издалека видно, помет конский виден; вон то самое место, где стояли их кони. Не в гробницы ли забрались? Так нет, лошадей много, — шутка ли; штук полсотни! — всех в мазарку не попрячешь. Должно быть, и в самом деле ушли».
Еще ближе подъехал, на курган взобрался, обогнул кругом — никого. А отсюда далеко видно кругом — место высокое, выше нет во всей этой степи. Вон их воза стоят, вон даже волов можно разглядеть; поят их, должно быть, ребята: все у колодца столпились. Вон и это чудище — паровик стоит. «Да, ушли... в ночь ушли. Это перед вечером они последнюю попытку делали», — окончательно решил Прокоп и поехал рысью к вагенбургу.
Не успел он подъехать к зарослям, как услышал, что в лагере какая-то суматоха. Погнал коня казак, вскачь пошел по чаще, раздвигая кусты грудью своего саврасого.
Столпились все погонщики в кучу, в середине круг оставили, в кругу стоит кто-то; все наперерыв его расспрашивают; громче всех слышны голоса англичанина и того «гуся», что на вороных приехал.
Голый, в одних только совершенно изодранных штанах, с окровавленными боками, то всхлипывая, словно плача, то хрипло смеясь, стоял киргиз Мосол, попавшийся было в плен к барантачам. Он рассказывал историю своего освобождения.
— Сперва я все ползком да ползком: по верху-то светло, а в ложбине темно; а тут, на мое счастье, жеребцы подрались, — один с прикола сорвался!
— Как же ты ноги развязал? — спросил кто-то из толпы.
— Перетер о камень, — сам уж пророк помогал, не иначе!
— Что же, тебя били много? Это они тебе лоб рассекли? — говорил «гусь».
— Резать было совсем хотели, да потом бросили...
— Так они при тебе еще собирались уходить? — перебил Симсон.
— Как же, при мне. Старший их, черный такой, весь чапан на нем кольчужный, говорил: «Что же мы ждать-то будем? Здесь, видимое дело, плоха пожива, а в другом месте упустим что получше».
— Да верно ли? — усомнился Ефим Мякенький.
— Вот высохни я, как этот прут, если сам не слышал! — Мосол поднял с земли какую-то былинку.
— Там, говорят, у них народу столько же, как и нас, и ружья хорошие. Вчера-то — ха, ха! Вечером-то одного ихнего убили, — важного батыра ухлопали; я видел, как привезли!
— Это я стрелял! — похвастался Симсон.
— Да само собой разумеется, уйдут, если уже не ушли, — произнес всадник, приехавший вчера ночью. — В неверную схватку вступать им нет никакого расчета. Мы можем выступать смело!
— Вы полагаете? — не без оживления произнес Симсон.
— Понятное дело!
— Эге, да это наш Мосол! — вскрикнул Прокоп, протискиваясь вперед.
— Ну, что, сынку? Что нового привез?
— Да что: курганы чисты, был у самых могил ни души нету!
— А, что я говорил? — обратился Симсон.
— Так ушли? — переспросил обладатель вороных лошадей у Прокопа.
Тот взглянул на него искоса и произнес:
— Ушли... да ты, может, это лучше нашего знаешь? — Он понизил голос и не спускал глаз с того, кто стоял перед ним, спокойно набивая себе трубочку.
— Ты, брат, никак умом повихнулся?
— Всяко бывает... Я ведь не в обиду!
Прокоп отвернулся и пошел к волам.
— Ну, вот, жару переждем маленько, а там и волов запрягать будем! — решил Ефим Мякенький.
— Наконец-то! — вздохнул Симсон.
— Еще бы денек-другой переждать... — ворчал Прокоп, заслышавший распоряжение своего отца.
Как решил старый Ефим, так и сделали. Часам к четырем пополудни караван выбрался из саксаула, и возы длинной вереницей потянулись по степной дороге. Верблюды вьючные шли стороной. Прокоп уехал много вперед и далеко виднелся его «саврасый», особенно когда ему приходилось повернуться к солнцу своим широким, на диво вычищенным крупом.
IX Ренегаты
В полуперегоне от «Малых Барсуков», правее караванной дороги, тянется гряда песчаных холмов, то подступая почти к самому пути, то отходя назад, к обширным пространствам, когда-то бывшим озерам, теперь же покрытым топкой, соленой грязью. Берега этих грязей поросли мелкими сортами кустарников, рангом и разными видами степной колючки. Это превосходные пастбища для овец, которые любят бродить по солончакам и лизать вонючую грязь. Киргизы, пользуясь обильными колодцами и родниками, рассеянными по всем «Барсукам», сгоняют сюда бесчисленные отары овец, и берега этих затонов оживляются пасущимися стадами и кое-где чернеющими кибитками кочевников.
Теперь же ни одной овцы не было видно кругом, ни из одной лощины не показывался приветливый дымок. Быстро свернулись и собрали свои стада подвижные степняки и ушли отсюда дальше на запад, в глубь песков, подальше от опасного соседства, а соседство это, так всполошившее мирных киргиз, было не постоянное: сегодня здесь, а завтра, может, Аллах ведает где. Киргизы знали это и поставили по высоким постам конных сторожей, которые должны были известить аулы, когда минет опасность.
Всю эту тревогу наделала вереница всадников, двигающаяся отдельными маленькими отрядами позади холмов, ближе к соленым грязям. Шайки эти пришли от Девлет-Яра, заняли место за большим холмом, в неглубокой балке, и стали на отдых. Только теперь они стали осторожно: огня не разводили, лошадей поставили теснее и сами зря не бродили по степи и в глаза никому не кидались, как прежде, когда они занимали возвышенную площадку у святых могил. Те, кто шли караванным путем, как бы ни присматривались вправо, ничего не видали бы, кроме песчаных, желтеющих на солнце холмов, и, наверное, могли быть далеки от подозрения, что за этими-то, мирными на вид, холмами скрывается грозная опасность.
Немного было счетом этих наездников, но зато нельзя было и трех насчитать одинаковых. Со всех концов степи сбрелись искатели легкой наживы; тут были и туркмены, и киргизы-адаевцы, и бузачинцы, и безымянный сброд, невесть откуда появившийся. Группировалось же все это около трех джигитов, отличавшихся от остальных разве только тем, что у двух были бороды с проседью, а третий был рыжий и с лица шибко смахивал на беглого русского солдата; у него даже борода раздваивалась посредине, где в прежнее время пробивалась дорожка, не успевшая еще сравняться с бакенбардами, да и ухватки его были совсем не татарские, хотя по одежде его никто бы не отличил от природного хивинца.
Большинство всадников было в кольчугах и в лисьих малахаях; на одном только туркмене Ата-Назаре была круглая белая чалма, издали отличавшая его от прочих всадников.
Барантачи сидели в кругу и держали совет. Говорил седой Чабык, адаевец; кто слушал, а кто только вид делал, что слушает, а на самом деле дремал, пережевывая табачную жвачку и машинально сплевывая по временам слюну.
И кони их, высокие, подобранные, стояли, понурив головы. Барантачи сделали большой крюк, верст в сотню, чтобы попасть от могил Девлет-Яра к предверьям «Малых Барсуков». Прямо же, близ дороги, они идти не решились из боязни, что русский обоз наткнется на их следы и опять примет оборонительные меры.
— Верить ли нам твоему тамыру (приятелю) или нет? Ты уж лучше скажи прямо; по крайней мере, мы время терять не станем и пойдем туда, где нам будет повыгоднее... — говорил Чабык и смотрел в глаза рыжему, которого все звали Иван-баем, добавляя к его русскому имени киргизское окончание.
— А как знаешь, мне все равно! — нахально усмехнувшись, отвечал рыжий.
— Ты, может, опять над нами свои штуки играешь; ведь у тебя на конце языка правда не поставила своей кибитки... Она даже в гостях там не бывала!
— Не веришь — уходи; я тебя разве держу? Останусь я со своими, да вот, может, Рахим-Берды со своими останется, Ата-Назар... тот меня не бросит... Мы и одни управимся!
— А правда, — начал туркмен Ата-Назар, — тот, когда приезжал к нам, выругал нас, говорил; «воронами на виду сидят, воробьев пугают»... Разве это не правда, что мы двое суток у Девлета стояли? За что джигита у нас убили?.. Кто хотел прямо возы брать, нахрапом, не ты, что ли, старый ишак?..
Он злобно взглянул на Чабыка; тот пожал плечами.
— Все по воле пророка; не попустил, — ну, и не взяли. А отчего он на нас прогневался, не от тебя, что ли?
— Как от меня? — удивленно спросил туркмен.
— Зачем своих жеребцов в «аулы» поставил? Все святое место испакостили...
— Ну, уж и ты хорош тоже, — вмешался рыжий. — Лошадь что, лошадь — живот чистый: от нее ничего не сделается; а в прошедшем году, когда почту в Кара-Кумах грабили, кто в божьем котле[2] собак борзых поил? Эге, брат, чужие грехи считать умеешь...
Все расхохотались.
— Тогда ничего от этого не было. Мы свое дело благополучно окончили; сам знаешь! — оправдывался Чабык.
— Скоро было очень; Аллах-то, может, еще не успел узнать; так вот теперь за прошедшее тебе бока пощупал. Это верно!
— Слушай, Иван-бай, ты его где знал прежде? — спросил Рахим-Берды. — Ты нам не сказал про то...
— Это про кого ты спрашиваешь?
— А вот про того, что к нам ночью на вороных конях приехал!
— Случалось, видались и прежде. Да тебе что?
— Не проведет он нас?
— Какой ему барыш проводить... Он тоже под хозяином состоит; не свою, чужую волю правит!
— Зачем он опять к ним в обоз поехал?
— Значит, нужно!
— Вот еще что мутит у меня на сердце... — вставил Рахим-Берды. — Это как бы нас киргиз-батрак не выдал, ведь они, собаки, к своим привязчивы!
— Не выдаст; я ему такое шепнул, что побоится. Там, говорю, тот будет, что от нас поехал. Ежели чуть что заметит, тут тебе и конец; а обделаем дело, тебе же барыш: коня, говорю, получишь, халат и с нами поедешь вольной птицей. Он не дурак, поймет, «где мясо, где камень». Ну, что ж, Чабык-бай, уйдешь, что ли, от нас или, может, раздумал?
Рыжий Иван-бай засмеялся и нахально глядел на старика, оскалив свои клыкастые волчьи зубы.
— Отстань! — угрюмо произнес Чабык и затянулся из походного кальяна.
— Вон и наши едут! — крикнул кто-то.
— Эге! Ну, никак пусто... — сказал Рахим, всматриваясь в четырех всадников, медленно приближавшихся со стороны соленых грязей.
Ближе подъехали всадники; теперь можно было видеть, что у одного только из них перекинут был поперек седла баран и бился о стремя своей рогатой головой.
— Плохо?! — крикнул им Ата-Назар.
— Яман (дурно)! — отвечал передний. — Все ушли, как куяны (зайцы) от орлов, по норам попрятались. Кибитки сняты, по всем грязям пусто. Уж очень они стали пугливы!
— Вот только одного этого и нашли, — говорил другой, приподнимая барана и сбрасывая его на песок. — Да и то каскыр (волк) прежде нас его тронул!
Действительно, часть бараньего зада была до костей обнажена от мяса и по рваным краям раны можно было без труда узнать волчью хватку.
— Потерпим — немного, усмехнулся Иван-бай, искоса поглядывая на недоверчивого Чабыка, — вон обоз русский заберем, там, сказывали, всякой снеди вволю припасено.
— Не пей кумыса, пока кобыл не подоил! — огрызнулся Чабык.
— Ладно. На крайний бархан ступай кто-нибудь двое. Лежите на брюхе, — кольями не торчать на виду. Как что — знать дайте... Кто пойдет: твои, Ата, что ли?
— Своих посылай, они у тебя ползуны!
— Ну, хороши же вы «яу», как погляжу... Ни твоих не пошлю, ни своим не прикажу. Сам пойду. Эдакое дело да чужому глазу доверить — вороны!..
И Иван-бай поднялся на ноги.
***
Это был мужчина небольшого роста, коренастый, немного хромой, с необыкновенно развитыми, длинными руками, могучие кисти которых достигали почти до колен. Силу этих рук, словно отнятых у какой-нибудь гориллы и приставленных к человеку, хорошо знали по всем кочевьям между Аральским и Каспийским морями, да, пожалуй, и дальше...
Лет двадцать пять жил он в степи и знал ее так, как не знали коренные номады. А в степь он попал еще мальчиком, следующим образом: отец его служил в багрильщиках у одного из астраханских рыбных торговцев. Раз как-то, вместе с сыном, двенадцатилетним мальчишкой, и человек десятью работников, отправились они к восточному берегу Каспийского моря, к Мангышлаку, на рыбную ловлю. Шхуна их бросила якорь у песчаного мыска, недалеко от озера «Батырь», и часть экипажа высадилась на берег, кто говорит, что пострелять сайгаков, а кто говорит — за другим делом, менее благонамеренным. Хозяин шхуны был вместе с последними, а на судне остался отец рыжего Ваньки и человека три рабочих. К солнечному закату подошли к судну четыре каика (узкие, длинные туземные лодки); хотели подойти поближе, да астраханцы не подпустили, не без основания подозрительно глядя на оборванных туркмен, припрятавших свое оружие на дно каиков, под сети... Пираты боялись двуствольных ружей экипажа, под выстрелами которых не совсем было удобно брать штурмом скользкие, высокие борта судна...
Наступила ночь... Полез один из матросов на рею сторожить, остальные заснули и, должно быть, заснули крепко... Страшный вопль часового поднял всех сразу на ноги... Вся палуба затряслась, когда с высоты трех сажен, как мешок, набитый костями, свалился матрос и брызгал во все стороны своей кровью... Луна взошла уже на небе, и ясно было видно, как корчился и изгибался несчастный, как две каких-то светлых черточки впились в его тело и дрожали при каждом его движении... Это были хивинские стрелы, тонкие камышины с зубчатым, тонким, как шило, острием и красиво оперенные с другого конца цветными обрезками кожи и конскими волосами... Кинулись к ружьям оторопелые рыбаки... Заметались... Куда же это запропастились их двустволки? Багры с насаженными топорами тоже пропали!.. А из-за бортов, со всех сторон, глядят скуластые, узкоглазые рожи, со всех сторон растут темные тела, и заходили доски палубы под топотом нескольких десятков босых ног; по гладкой водной поверхности пронеслось гиканье и вой торжествующих пиратов.
Отец Ваньки долго отбивался, вооружившись какой-то снастью; его убили, остальных двоих скрутили и спустили в каик. Все, что было на судне ценного и удобного для перевозки, забрали, шхуну сожгли.
Красное зарево пожара, отразившись и на воде, и на темном небе, далеко было видно в степи... Видели его и те, что были на берегу, у озера, впоследствии тоже попавшиеся в недобрые руки.
— Когда же ты мне дашь те деньги, что обещал? — сказал рыжий Ванька старому хивинцу, когда каики далеко отошли от горевшей шхуны и тянулись камышами, придерживаясь берега...
— Когда... Ах ты, волченок проклятый! — засмеялся старик. — Тогда, — добавил он, положив свою руку на стриженую голову мальчика, — тогда, когда будешь большим волком и сумеешь добыть себе сам...
— Ладно, — согласился рыжий, — другой раз не надуете...
Это был первый подвиг ренегата Иван-бая, «кызыл-каскыра» (красный волк).
В двадцать лет он уже дал знать о себе по всей степи. В пограничных фортах наших узнали о его подвигах. Голова его была оценена, но, верно, дешево, потому что не находилось охотников позариться на посулы русских властей.
Он женился на дочери одного из кочевых султанов, красивой хивинке, потом еще взял себе одну жену из другого рода. Он мог позволить себе эту роскошь, потому что разбои и грабежи караванов давали ему на это средства.
Он был отважен и дерзок в своих предприятиях до того, что появлялся даже в русских укреплениях и разведывал там обо всем, что ему надлежало знать... В каком-нибудь жалком «лауче» (погонщике верблюдов), оборванном, грязном, приютившемся на базаре, в ожидании нанимателя, или в киргизе, пригнавшем в форт на продажу десяток курдючных баранов, никто не мог узнать известного степного разбойника...
Он появлялся даже в Оренбурге, а потом в Нижнем Новгороде, одетый бухарским торговцем, ходил по караван-сараю, перевидался со всеми своими приятелями (а у него их было немало) и уехал оттуда на почтовых под видом Саид-Абасса, бухарского уроженца, торговца хлопком и бараньими шкурами.
Раз только попался он. Бурей разбило лодку, на которой он с двумя хивинцами переплывал залив «Мертвый култук». Его спасло одно из рыболовных судов из Астрахани же. Все обошлось бы, пожалуй, благополучно, но один из башкир, работников на этом судне, узнал в этом безжизненном теле, распростертом на палубе, грозу степей — «рыжего Ивана».
Разбойник очнулся связанным; нисколько не удивившись этому, он попросил есть; ему дали. Разговорился он, расспрашивал о том, о сем, куда его везут и т.д., и кончил тем, что вздохнул и произнес «Ну, значит, воля Господня. Погрешил довольно, пора и поплатиться». Хозяин судна был старовер и заметил, что Иван перекрестился по ихнему обряду...
Через месяц «рыжий» опять появился в степи. Как он вырвался, никто не знал. Сам же он рассказывал о своем освобождении такие небылицы, что даже легковерные до всего фантастического и таинственного дикари, и те пожимали плечами и приговаривали потихоньку: «что только за язык Бог дал человеку, чего только он не стерпит?»
Начал Иван-бай свои новые подвиги тем, что собственноручно зарезал свою первую жену: он узнал, что та, в его отсутствии, пошалила с одним из молодых батыров соседнего кочевья. Султан, отец зарезанной, сперва обиделся и рассердился на своего зятя, но потом, убедясь в правоте оскорбленного мужа, помирился с ним и дал ему, взамен первой, вторую свою дочь.
Скоро дела пошли по-старому, да, должно быть, еще лучше, потому что из Астрахани прислали сказать, что за голову Ивана плату удвоили, и что тому, кто привезет ее, будь он сам разбойник, простятся все его грехи, и на свободу опять его отпустят...
Посмеялся рыжий над последним обещаніем. Хотел было сам отвезти свою голову, получить за нее деньги и опять вернуться в степь, да раздумал.
***
Не прошло и четырех часов, как ушел Иван-бай сторожить на бархан, как он уже назад возвращался. Конь под всадником стлался по песку, и издали было слышно, как храпели и фыркали раздутые от быстрого бега ноздри.
— Гонит шибко! — поднялся Ата-Назар.
— К лошадям! — крикнул Рахим-Берды.
Вся баранта всполошилась.
— Дождались! — подскакал Иван и коня своего осадил так, что тот вспахал песок передними ногами. — Колесная пыль видна от Девлета... Это наши крестники!
—- Пошли, Аллах, милости детям своим! — со вздохом произнес старый Чабык и пошел к своим аргамакам, что стояли у самого края и, прижав уши, так вот и норовили брыкнуть того, кто к ним неосторожно подберется.
С севера тянулось большое пыльное облако, что-то неясное мелькало в этом облаке... Ближе и ближе подвигалось оно к холмам, вот уже можно различить волов, возы, всадников, верблюдов, идущих стороной, и над всем этим чернеющую массу паровика, медленно подвигающуюся на своих двенадцати колесах. Восемь пар здоровых волов и четыре верблюда тащили эту махину, и глубокий двойной след прокладывался по степной дороге.
Барантачи, затаив дыхание, сидели на своих лошадях. Они пригнули пики почти до самой земли, согнулись сами, впились глазами в обоз и, как борзые на натянутых сворах, ждали только сигнала к атаке. А сигнал этот должен быть подан оттуда, из этого самого обоза, и даже сам Иван-бай побледнел немного, отыскивая глазами между возов всадника на вороной лошади.
***
Тяжелые возы скрипели; волы, опустив под ярмом свои рогатые головы, шли мерным шагом, помахивая хвостами и вперив в песок свои мутные, слезящиеся глаза. Работники шли пешком, заложив за спины руки, и также, как и волы, глазами созерцали дорогу; кое-кто спал на возах, лежа на брюхе, подставив свою спину под палящие лучи солнца. Уныло визжало какое-то плохо подмазанное колесо, монотонно гремели бубенчиками стороной идущие верблюды…
Однообразное, мерное движение, такое же медленное, как и движение вон тех черепах, что парами ползают по степи, прячась под тень сухих стеблей прошлогоднего ревеня, скучное, бесконечное, нагоняет тяжелую дремоту...
Дремлют и те немногие всадники, съехавшиеся вместе под тень паровика... Клюет носом старый Ефим Мякенький и чуть было не выронил из зубов свою коротенькую трубку, чуть-чуть не свалился с седла и Скобляк, башкир, да вовремя проснулся, вздрогнул, оглянулся кругом мутными, сонными глазами и протер их рукавом свой грязной рубахи... Прокоп уехал вперед; хотел было разведать, все ли спокойно у родника, за холмами, да в одном из передних возов ось загорелась, дым повалил из-под воза, и Прокоп остался менять негодную ось и своротил воз в сторону, чтобы не мешать движению остального обоза. Киргиз Мосол, что из плена вырвался, возился вместе с Прокопом, поднимая на крюку одну сторону воза, пока казак стаскивал поврежденное колесо.
— Вот дойдем к ночи до родничка, у песков, — «чиликом» его орда прозывает... хороший родник, вода чудесная... — говорил старый Ефим.
— Там и ночевать будем? — спрашивал всадник на вороной лошади, держась тотчас же за крупом казачьего коня...
— Там будем!
— Это первый переход такой длинный, — заметил Симсон. — Ведь мы тронулись почти за час до рассвета...
— Там дневку сделаем... — произнес Ефим.
Перекинулись двумя-тремя словами и опять замолчали; опять задремал Ефим; англичанин тоже сделал какое-то странное движение на седле и открыл глаза несколько шире, чем бы следовало...
Эх, да не одна-то... эх, да не одна... —
затянул всадник на вороной лошади и пытливо взглянул вправо.
А там все было спокойно и тихо; словно вытянутые в ряд, виднелись конусы желтоватых песчаных холмов, синей полосой проглядывали в промежутках соленые грязи.
«Надули, черти!..» — подумал всадник, снял из-за плеча свою двухстволку, поглядел на замки, снова закинул оружие на прежнее место.
— Эй... хозяин... — толкнул локтем башкир Скобляк старого Ефима.
Тот встрепенулся.
— Чего ты?..
— Там, хозяин, что-то не ладно, — кивнул башкир на холмы, — как бы чего не было...
— Посмотрите, — говорил Симсон своему соседу, — вон, на холме, видите... орел сидит, кажется?..
— Шапка трухменская... — сказал Скобляк.
— Прокоп где?.. — спросил Ефим.
— У передних возов...
— Падаль лежит какая-то! — равнодушно заметил всадник на вороной лошади.
Во по-ле дороженька... да пролегала...
Он отвязал повод своего заводского коня, намотал его ему на шею и пустил на волю... Эта лошадь могла бы ему помешать.
— Я начинаю припоминать, — говорил Эдуард Симсон. — Послушайте, не были ли вы в Самаре?.. В трактире, у пристани; мы вместе, кажется... Ой!..
Несчастный англичанин захлебнулся дымом в упор, прямо ему в лицо направленного выстрела. Лошадь его взвилась на дыбы и, затянутая судорожно стиснутой рукой убитого, рухнула на песок, вместе со своим всадником.
Раскинул руками Ефим Мякенький, нагнулся к шее коня; тот поддал задом и отскочил. Свалился «старый волк» и лег ничком, поперек англичанина, прямо к солнцу своим пробитым, развороченным затылком...
— А, ты заодно с ними, собака! — заревел Скобляк и навалился на убийцу.
Тот встретил нападение прикладом своего разряженного ружья... пошатнулся в седле, и они схватились врукопашь, вцепившись друг в друга руками, силясь сорвать с седла один другого.
От холмов, лавой, пригнув пики, погоняя диким гиканьем своих аргамаков, неслись барантачи и обхватывали всю переднюю половину растянувшегося обоза.
— Сбивай в кучу!.. — покрывал все отчаянный голос Прокопа...
Весь окровавленный, спотыкаясь и зажимая бок рукой, он бежал пешком к паровику... Он не видел, что там произошло... Кровь проступала меж его пальцами... Все кружилось перед глазами и путалось: и возы, и волы, испуганные, задравшие кверху хвосты, и верблюды, мечущиеся во все стороны, и дикие наездники, мелькающие там и сям... Вдруг все это исчезло разом... Помертвелые глаза ничего не видели, уши ничего не слышали...
— Сбивай в кучу... Батько!.. — чуть слышно прошептали губы Прокопа.
Он упал.
— Эко сцепились, точно вьюны! — наскакал рыжий Иван и осадил коня перед борцами. — Нешто помочь тебе, земляк...
Он вынул из-за своего широкого пояса длинный пистолет турецкой работы, подобрал коня и поднял вооруженную руку...
Два тела сплелись, словно прилипли друг к другу...
Сдавленные груди тяжело дышали, осоловелые глаза в упор смотрели друг на друга... Скобляк пытался зубами вцепиться в горло своего противника и жевал ворот его халата, грыз шнурок от складного образка, выбившегося наружу...
— Как бы того не попортить! — ворчал Иван-бай и, нагнувшись почти к самым борцам, выжидал удобное мгновение.
X Новые лица
— Вот мы и вторые сутки сидим здесь, на одном месте! — произнес Ледоколов с досадой, закрывая книгу, которую читал, и засовывая ее под подушку.
— Что же делать? Некоторым приходилось по неделям просиживать на станциях или, вернее сказать, на местах, где предполагаются станции; вот как здесь, например!
— Что вы там делаете?
— Наблюдаю горизонт с помощью вашего превосходного полевого бинокля и изыскиваю средства к дальнейшему нашему движению!
Малоросс сидел на козлах и почти не отрывал бинокля от своих глаз, щурясь и всматриваясь в прозрачные линии миражных озер, в бесконечную даль безлюдной степи.
— Школа терпения, — вздохнул Ледоколов, помолчав немного. — Сигару хотите?
— Вон что-то чернеет; не то всадник, не то... не разберешь, что...
— Хотите сигару?
— Верблюд... или, постойте-ка... Что же это, в самом деле? Позвольте...
Бурченко, не оставляя своих наблюдений, протянул руку.
— Вот кого-то еще судьба посылает. По дороге пыль!
— Экипаж?
— Не видать за пылью. Что-то большое, кажется...
— Уж не дормез ли с нашими дамами?
— Может быть. Далеко еще, верст пять, пожалуй, будет: не скоро дотащатся. Вы, кажется, оживились немного?.. Не хотите ли бинокль?
— Нет, пользуйтесь им; меня это нисколько не интересует!
— Будто?.. А мне показалось...
— Как ни симпатична она, но, наученный горьким жизненным опытом, я смотрю иначе на эти явления!
— Я тоже вот смотрю... (Бурченко даже встал на ноги) и вижу дормез... Теперь это ясно видно!
— Близко?..
Ледоколов сделал движение, будто тоже хотел лезть на козлы.
— Гм!
Бурченко улыбнулся и подвинулся немного. Ледоколов, впрочем, остался на месте.
— Грустную роль берет на себя эта девушка. Судя по намекам, по рассказам, которые мне приходилось слышать... — начал Ледоколов.
— Нисколько не грустную. Коли она так же умна, как красива, то в накладе не будет... Верочка эта, белобрысенькая, та тоже молодец, скоро разыщет, где раки зимуют. Кучеренок — ну, тот мелко будет плавать, натуришка небогатая. Да на что вот сама маменька: вы думаете, устарела барыня... нет, еще посмотрите, как поработает...
— Вы все смотрите с точки зрения наживы... барыша...
— А то как же?.. Ведь это все тоже своего рода горные инженеры, вот как и мы с вами. Мы будем рыскать по горам и запускать в их недра свои буравы и щупы, они тоже, т.е. оно, положим... впрочем, это решительно все равно, дело в результатах!
— Но, послушайте, продавать так свою молодость, девственность, сердце, душу — все за деньги, не согреть себя ни разу истинным чувством, оскорблять так свою духовную природу...
— Чего-с?
— Это не может пройти безнаказанно. Рано или поздно человек остановится, оглянется назад, на свою молодость... Это будет ужасная минута...
— Вот вы опять в крайности ударились... Вот вы изволили видеть, как Спелохватов метал?
— Ну, это к чему?
— Вы, я думаю, заметили, что он, бивши чуть не каждую карту, нет-нет, да и даст что-нибудь и понтеру... Так вот и в этом деле. Вот вы все говорите «продавать да продавать», а иные так ухитряются, что, по-видимому, и продают товар, да из лавки его не выпускают. Все зависит только от уменья и ловкости, а это все достигается рядом опытов, а чтобы сделать опыт, надо сделать решительный шаг. Вот эти барыни и шагнули, да как, чуть не пять тысяч верст сразу. Да напустит на вас Аллах премудрости, храбрые барыни! Нет, это не дормез, а, впрочем, ничего не разберешь; пыль поднялась такая!..
Бурченко протер стекла бинокля и опять приставил его к глазам.
— Они самые!..
— Брозе?!.
Ледоколов вскочил тоже на козлы и взял бинокль из рук своего путевого товарища.
Оригинальный вид представлял распряженный тарантас, стоящий посреди необозримой, гладкой, как море, степи, и эти две бородатые фигуры, в парусиновых пальто, взобравшиеся на козлы, наблюдавшие с сосредоточенным вниманием что-то такое, что опять скрылось из глаз, заслоненное густым пыльным облаком.
Чуть слышно доносился свист ямщиков-киргизов. Темная, тяжелая масса, поскрипывая и позванивая разболтавшимися гайками, медленно ползла по дороге.
Ледокодов поправил рукой свою бороду и стряхнул с нее завязшую соломинку; Бурченко справился, все ли у него застегнуто.
Ближе и ближе подвигался чудовищный экипаж. Теперь ясно уже было видно, что это такое; всякое сомнение исчезло: это не был дормез госпожи Брозе и ее дочери.
Легкая, досада промелькнула на лице Ледоколова.
— Однако, слезем с козел на всякий случай! — предложил Бурченко.
Большая колымага, вроде тех еврейских фур, которые попадаются частенько в наших западных губерниях, на деревянных осях и бычьих колесах, запряженная четверкой верблюдов, приближалась к станции. Верблюды были запряжены попарно: пара в дышле и пара впереди. Передняя пара, должно быть, сильно притомилась и начала приставать, потому что «лаучи» слез с горбов одного из верблюдов этой пары и, перекинув поводья через плечо, шел впереди пешком и тащил усталых животных. На задней паре сидел другой «лаучи» и дремал. Плоская крыша этой колымаги была завалена узлами, перехваченными накрест веревками; из боковых отверстий, служащих для входа и выхода или, вернее, для влазу и вылазу, торчали углы подушек в ситцевых наволочках, торчала даже женская нога, обутая в полосатый синий чулок и красную туфлю без задка.
— Это что за явление? — удивился Ледоколов.
— А вот узнаем... Во-первых, это верблюды не почтовые; видимое дело, они едут на долгих. Где же это мы их обогнали и не видели?
— Ночью как-нибудь, должно быть!
Колымага, дотащившись до станции, остановилась. Лаучи, молча, не обращая никакого внимания на тарантас и двух русских путешественников, словно их тут и не было, принялись отцеплять постромки и выводить верблюдов. Внутри колымаги незаметно было никакого движения; оттуда только слышался храп и тяжелое, носовое дыхание спящих.
«Пойти, поглядеть», — подумал Бурченко и подошел к колымаге. Надо было встать на подножку, чтобы заглянуть внутрь. Так он и сделал. С противоположной стороны в это время лез Ледоколов.
Шесть женщин, пять молодых и одна преклонного возраста, необыкновенно развитых, ожирелых до того, что все формы лоснились, спали на перинах. Между жирным затылком в чепце и углом кованного сундучка торчали тараканьи усики и длинный красный нос чистейшего кавказского типа.
— Наблюдаете? — произнес Бурченко, заметив, с каким вниманием созерцал его vis-à-vis интересную картину.
— Что же это такое?..
— Я полагаю, это тоже горные инженеры. Однако, это уж слишком! Как ни интересно все это, но наблюдать на таком близком расстоянии...
Бурченко соскочил с подножки, Ледоколов тоже опустился на землю. В колымаге послышалась возня; нога в туфле спряталась, вместо нее высунулась черномазая голова восточного человека, оглянулась, щуря на солнце заспанные, маслянистые глаза, и стала вылезать.
— Уф... как же жарко!.. — послышался женский голос. — Ой, как мине хочется пить! — говорил другой женский голос.
— Амалат Богданович, у вас бутилка?..
— А я же почему знаю... — отвечал Амалат Богданович и, заметив посторонних, поспешил оправить свой архалук с нашитыми на груди патронами и закрутил ус. — Мое почтение... Мы тоже проезжаем в Ташкент... Здесь можно пить чай?.. — почему-то обратился он к Ледоколову.
— Отчего же нельзя, — отвечал за него Бурченко, — В степи просторно, и чай пить никому не возбраняется!
— Очень это хорошо... Боже мой, Боже мой! И отчего это только так жарко?.. У нас, в Шемахе, тоже очень жарко; в Варшаве не так чтобы совсем; в Петербурге тоже очень хорошо, там не жарко...
— Не может быть? — удивился Бурченко.
— Нет, не жарко. Вот в Ревеле и в Кенигсберге...
— Не случалось!
— Прекрасный город... Вы бывали в Ташкенте?
— В Ташкенте был.
— Вот и мы едем в Ташкент... Да что же вы спите все? Вставайте, вылезайте; здесь будем пить чай и гулять будем немножко!
Из колымаги выбросили большой ковер. Амалат Богданович ухватил его за угол и поволок на то место, где ложилась тень от их экипажа. За ковром последовало несколько подушек, наволочка с булками. За всем этим полезли девицы, за девицами пожилая дама с самоваром под мышкой и двумя металлическими чайниками. Кавказец почтительно принял от нее посуду и помог ей спуститься на землю.
— Ставь самовар, Амалат... Пусти меня тут сесть, Каролина! — произнесла почтенная дама и лениво, с самой сладкой миной, раскланялась с нашими приятелями.
Амалат засуетился над самоваром, пыхтя и раздувая его трубу, и осторожно закупоривал бочонок, из которого наливал воду.
— А нельзя будет полюбопытствовать, — обратился Бурченко к восточному человеку, — что именно вы предполагаете устроить в Ташкенте?!
— Новый ресторан!
— Ну, а вот эти барыни, что же они будут делать?
— Будут подавать господам кушанье и играть на арфе! — серьезно ответила за своего мужа Августа Ивановна.
— А что, позвольте теперь вас спросить... — обратился, в свою очередь, восточный человек к малороссу.
— Что прикажете?
— Когда вы изволили быть в Ташкенте, не было там еще ресторанов?
— Таких, как ваш, еще не было, да и теперь нет. Вы первый!
— Ой, как же это хорошо! Слышите, Августа Ивановна, мы первые!
— О!.. — осклабилась почтенная дама, — Вы, господа, к нам, пожалуйста, заходите, когда мы устроимся...
— Непременно...
***
— А близко здесь аулы? — спросил киргиза Бурченко.
— Должно быть, недалеко. Вон, видишь, солнце? Оно теперь уже на низ пошло, как дойдет совсем до земли, можно назад успеть вернуться!
— Ну, поезжай в аул!
— Зачем же ты в аул посылаешь?
— А по своему делу. Сделаешь — целковый дам!
— Что же тебе там надо?
— Скажи там бию, или кто там есть постарше, чтобы прислал сюда лошадей или верблюдов отвезти наш тарантас в аул. Скажи мол, купцы едут; хотят у них погостить!
— Купцы? — киргиз подозрительно посмотрел на проезжих.
— Известно, купцы, а ты думал: чиновники?
— То-то. Ну, я там скажу. Давай целковый!
— Половину на, а остальную — когда приведешь лошадей. Ты скажи им, что я за лошадей тоже заплачу, слышишь?
— Слышу-у... Эх!.. Далеко как аул, очень далеко, и так далеко, что не хочется ехать!
Киргиз лениво потянулся и сделал вид, будто собирается прилечь.
— Ведь, экая хитрая свинья: ты же ведь, говорил, что близко, что к солнечному закату назад вернуться можно?
— Да как ехать; если уж очень гнать... Да нет, у меня верблюды очень устали. Не поеду!
— А, ну, хорошо же, так я сам поеду!
Бурченко выбирал глазами между лежащими верблюдами, которого бы взять. Темно-бурый нар, недавно только остриженный, почему-то ему приглянулся больше прочих. Он подошел и взял за волосяной арканчик, продетый в надорванные ноздри животного.
— Кой (оставь), не твой верблюд! — крикнул киргиз.
— Ладно, испорчу — заплачу!
Малоросс дернул за повод и издал гортанный хриплый звук, которым обыкновенно поднимают верблюдов на ноги. В ту минуту, когда животное подобрало зад, чтобы подняться, Бурченко вскочил на седло, и верблюд поднялся вместе с всадником.
— Ну, прощай, до свиданья, товарищ! — крикнул Бурченко и тронулся.
— Ведь вы не знаете дороги? — крикнул ему вслед Ледоколов.
— В степи надо знать только, в какую сторону ехать; а это я знаю!
— Смотри, Маллык, как бы тебе не вышло чего, — остерег пожилой лауча молодого товарища, — Пожалуется там бию, что ты его не послушал!
— Эй, шайтан! Я его догоню!
— Садись вот на этого да догоняй. Поезжайте лучше вместе.
Киргиз поднял другого верблюда, сел и пустился тяжелой, развалистой иноходью догонять Бурченко. А тот далеко уже виднелся в степи, беспрестанно погонял своего верблюда ударами нагайки и уже чуть мелькал в пыли белой спиной своего парусинового балахона. Ледоколов взял бинокль и наблюдал обоих всадников. Расстояние между задним и передним становилось все меньше и меньше, наконец, они сошлись; поспорили, должно быть, помахали руками. Бурченко вернулся, а киргиз исчез совершенно из глаз, погнав своего верблюда туда, где были аулы.
— Фу, как раскачало... отвык! — произнес Бурченко, слезая с верблюда.
Амалат Богданович со всей своей компанией с недоумением и подозрительно смотрели на происходившие перед их глазами маневры. Они положительно не понимали, что это такое делается. Даже сам Ледоколов недоумевал немного.
— Вот мой план, — говорил Бурченко. — Нам приведут лошадей; мы поедем в аулы. Оттуда мы договорим кого-нибудь везти нас степью, мимо почтового тракта, от аула к аулу и т. д. Если мы будем и медленнее двигаться, то, по крайней мере, путешествие наше будет интересней. Да еще это вопрос, медленнее ли?
— Позвольте вас попросить с нами чай кушать! — подошел к ним Амалат Богданович.
— Пожалуйте, господа! — с приятнейшей улыбкой протянула Августа Ивановна.
— Помилуйте, в таком приятном обществе...
Бурченко подставил локоть Ледоколову, тот взял его под руку. Они подошли к ковру. Эмма, Матильда, Розалия и Каролина пораздвинулись и дали место гостям.
XI Грозные вести
Как только начало заходить солнце, и в степи посвежело, как с той стороны, куда поехал лауча, посланный опытным степняком, показалась довольно большая группа верблюдов, резким пятном обозначаясь на красном фоне заката. Верблюды шли скоро, рысцой; ясно, что они были налегке, без вьюков; виднелись два или три всадника; впереди же всех катил посланный лауча, издали еще давая знать резким криком о своем приближении.
Дамы хотя и были предупреждены Ледоколовым о том, что послано в аулы за верблюдами, и что, вероятно, их скоро приведут, все-таки перетрусили при виде быстро приближающейся кавалькады и с визгом полезли в свою фуру. Даже храбрый кавказец пожелтел и оттопырил губу; он встал на подножку фуры и несколько раз повторил: «Ах, Амалия Ивановна, я не знаю, что это... пожалуйста, поищите мой кинжал: он там где-то, между подушками...»
С верблюдами приехало еще человек пять любопытных киргиз; все они похаживали мимо фуры, полы которой были спущены на всякий случай... Амалат Богданович глядел испуганным зайцем и вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь из прибывших чересчур уж близко подходил к экипажу или же обнаруживал свое намерение заглянуть: да что же там внутри, о чем так хорошо рассказывал лауча, что вызвал их из аула?
Долго спорил и убеждал приехавших Бурченко, стараясь доказать, что до их аулов близко и что довезти их туда не может стоить по пяти целковых с верблюда, как заломили киргизы. Те настаивали на своем, уступали понемногу и потом вдруг, ни с того, ни с сего, возвращались к прежнему требованию. Наконец, сладились, и то потому только, что малоросс обещал сам поехать в аулы и нажаловаться на них бию, а то так и самому губернатору, как доедет до «большого города».
Порешили по рублю за каждого верблюда и принялись запрягать их в легонький тарантас Ледоколова.
— Тут и одному везти нечего, а вы мне шестерых напутываете; только повозку поломаете! — убеждал Бурчепко.
— Тяжелая арба! — лаконически отвечал коренастый, полуголый киргиз и, как бы в доказательство своих слов, одним плечом приподнимал на пол-аршина от земли задок экипажа со всеми привязанными там чемоданами.
Долго возились, спорили, шумели, наконец, тронулись. Верблюды оказались никогда ни ходившими в упряжке и чуть не разнесли по кускам тарантас. Делать было нечего — пришлось ограничиться только двумя верблюдами и отпрячь четырех; деньги, впрочем, получены были за всех, да еще вперед, на том основании, что, как заявил один из киргизов, ведший переговоры, «вашему брату, русскому, нельзя верить ни на вот столько», причем он показал на своем пальце, насколько именно нельзя верить русскому.
— И обидеться не смеешь, ибо они резон имеют! — заметил Бурченко.
Товарищи подошли к фуре, пожелали дамам счастливого пути и благополучного прибытия на место действия, раскланялись и сели в тарантас. На каждого из верблюдов село по киргизу; конные тоже прихватили их своими арканами. Верблюды пугливо озирались, ежились и вот-вот норовили шарахнуться в разные стороны.
Тронулись.
— С этой минуты мы начинаем путешествовать по новому методу, — произнес Бурченко, — и, поверьте, в накладе от этого не будем!
— Я отдаюсь в полнейшее ваше распоряжение и преклоняюсь перед вашей опытностью! — отвечал ему Ледоколов.
— Путевой, только путевой, — поскромничал малоросс. — Однако, они подхватывают! Смотрите, если мы часа через два не будем в аулах!
Было темно, и тарантас прыгал по кочкам, скрипел и сильно покачивался. Ехали без дороги, целиком степью; кусты колючки и бурьяна шуршали и потрескивали, попадая под экипажные колеса; упряжные верблюды вздыхали, пыхтели и подбрыкивали на ходу, когда тарантас набегал на них и свободно подвязанные оглобли задевали по цыбатым ногам животных. Раза два верблюды распрягались или же обрывали постромки; тогда приходилось останавливаться; начиналась опять возня с упрямыми животными; для того, чтобы запрячь их, надо было класть их на землю и надвигать к ним тарантас руками. При усилившейся темноте эта операция занимала много времени. Раза два тарантас крякнул чрезвычайно подозрительно.
— Я боюсь, как бы нам не пришлось бросить наш тарантас за негодностью и продолжать путь на вьюках! — заявил свое опасение Ледоколов.
— Все случается... — утешил его Бурченко.
— Что это: аулы?
Впереди что-то чернело, и слышались голоса.
— Аулы ваши, что ли, вон виднеются? — переспросил у ближайшего киргиза Бурченко.
— Какие аулы? Нет, то не аулы; аулы еще далеко! — отвечал киргиз, приглядываясь вперед.
— Что же это там?
— Это? Караван!
— Да разве здесь дорога?
— Нет дороги. Это из наших аулов чиновников выпроваживают!
— Каких чиновников?
— А разве мы знаем, каких? Вы лучше знаете!
— Ничего не понимаю!..
Караван приближался. Можно было рассмотреть, что это тоже были какие-то экипажи, запряженные лошадьми и верблюдами; их конвоировали человек двадцать конных. Всадники были вооружены, и на более светлом фоне неба чернелись тонкие черточки киргизских пик. Колокольчики бренчали под дугами тех тарантасов, которые были запряжены лошадьми; слышалась протяжная, монотонная киргизская песня; слышался какой-то подвыпивший, хриплый тенорок, отхватывающий:
«Ой, барыня, барыня, Сударыня-барыня!»— Что такое за чиновники? — стал приглядываться Ледоколов.
— Комиссия какая-нибудь специальная; теперь они в ходу, эти комиссии-то! — высказал свое предположение Бурченко.
Поезда поравнялись.
— Стой! Что за люди? — крикнул с козел переднего тарантаса казак-оренбуржец.
Должно быть, он сделал этот оклик по приказанию сидящего в экипаже, потому что перед этим он нагибался с козел назад и выслушивал почтительно чей-то полушепот.
— Эй, придержи своих верблюдов, тамыр! — остановил своего возницу Бурченко. — Купцы по своим делам! — крикнул он в ответ на оклик.
— Стой, стой! — кричал казак.
— Стой, стой! Да остановитесь же вы, дьяволы! — послышались голоса из других экипажей.
— Это еще что за нахальство? — чуть не вскрикнул Ледоколов и поднялся на ноги.
— Успокойтесь, это не к нам относится, — удержал его товарищ. — Это они на своих возниц кричат!
— Чего стой? Гайда, гайда! Не надо «стой», гайда дальше! — подскакал к переднему тарантасу конный киргиз.
— Я стрелять буду, каналья! Стой, тебе говорят! — высунулась из экипажа темная фигура в шинели и в фуражке с кокардой.
— Не можешь ты стрелять! Гайда, ступай вперед!
Казак на козлах вырывал вожжи из рук киргиза-ямщика, тот не давал и нахлестывал лошадей. Лошади бились и рвались из упряжи. Из других тарантасов повыскакивали пассажиры и подбежали к переднему экипажу. Подвыпивший тенор дотянул до конца свою «Барыню». Два сильно шатающихся кителя подошли к тарантасу Ледоколова.
Оба поезда остановились.
— Ничего не понимаю... — как бы про себя шептал Ледоколов.
— Догадываюсь, догадываюсь... — так же точно бормотал Бурченко.
— Господа купцы, вы это куда? — произнес один из шатающихся кителей.
— В аулы! — отвечал малоросс.
— На свою погибель?
— Как так?
— Назад, назад скорее, если вам жаль ваших голов!
— Бунт... да какой!.. — таинственно предупреждал другой китель, пытаясь стать на подножку экипажа, но никак не попадая ногой, куда следует.
— Где, кто?
— Однако, это новость! — удивился Ледоколов и, признаться, немного струсил. — Вот штука!
— Господа, я должен вас предупредить, — вежливым, приятным, самым, впрочем, официальным баритоном заговорила из своего экипажа фуражка с кокардой. — Вся степь в восстании, и вы не в безопасности. Мой совет...
— Удирайте скорее, да и все тут! — перебил один из кителей.
— Знаете, пока это еще не разошлось... пока что... — подвернулся сбоку не то мундир, не то охотничий кафтан (в потемках нельзя было разобрать).
— Да где же восстание? Мы положительно ничего не слыхали! — удивлялся Бурченко. — Там все так спокойно...
— Я вам это сообщаю, я предупреждаю вас, а впрочем, как угодно! — обиделась немного фуражка.
— Поворачивайте оглобли и утекайте с нами! — шептал китель.
— Я не знаю, впрочем, с какими целями вы едете… — не без двусмысленности говорила фуражка.
— Послушайте, а, может, и в самом деле опасность серьезная? — тихо говорил Ледоколов.
— Пустяки! Это повторение старого. Я уже понял, в чем дело!
— Мы арестованы! — заявил один из кителей.
— Да-с, в плену! — пояснил неопределенный костюм.
— Куда же это вас везут — в Хиву, что ли? — улыбнулся Бурченко.
— А не знаем, право...
— Выведем на большой тракт и пустим! — объяснил, наконец, конный киргиз ломаным русским языком.
Он понимал, о чем говорили между собой встретившиеся, и все время переводил содержание разговора своим товарищам. В это же время он допрашивал киргизов, везших Ледоколова и Бурченко, и, по-видимому, остался доволен результатами своего допроса.
— Странный плен! — удивился Ледоколов.
— Ну, господа, счастливого вам пути! Каждый едет разной дорогой; вы — в плен, мы — в восставшие степи! — раскланялся Бурченко.
— Ваша фамилия? — строго и холодно полюбопытствовала фуражка.
— Бурченко, — к вашим услугам; а товарищ мой... — Вы позволите назвать себя?
— Ледоколов! — поспешил предупредить его товарищ.
— Гм, понимаю... — произнесла фуражка и откинулась внутрь экипажа.
«Шла барыня по мосту, Полна шляпка хворосту...»— опять начал тенор.
— А что, господа, не можете ли вы поделиться табаком: у меня весь вышел, а в степи, вы сами понимаете... — попросил неопределенный костюм.
— С удовольствием! — произнес Ледоколов и вытащил ящик с сигарами.
«Ай, барыня на печи, Сует в карман кирпичи...»— Развеселые пленники!
— Эй, лучше бы вернуться!
— Гайда, гайда! — опять начались понукания конвоирующих киргизов.
— Прощайте!
— Счастливой дороги!
Поезда разъехались, и долго еще слышались в степи звон колокольчиков и крики: «Гайда, гайда!» — и сквозь все это прорезывались временами забористые куплеты «Барыни».
— Все-таки я решительно не понимаю, в чем дело! — говорил Ледоколов, прислушиваясь к этим удаляющимся звукам.
— В ауле все узнаем подробно!
— Но, послушайте, все это так странно... Ну, если и в самом деле?
— Старые песни!..
— Жаль, что вы не расспросили хорошенько этих киргизов!
— Они вам то же бы сказали, что и я сейчас говорил: приедете, мол, в аулы, все сами узнаете. А что, тамыр, далеко еще до ваших аулов?
— Вон они!..
Киргиз, сидящий на козлах, протянул руку с нагайкой и указал вдали, на самом горизонте, красные пятна кострового зарева.
— Ха-ха-ха!.. — вдруг расхохотался Бурченко.
— Чего вы?
— А вспомнил я о наших барынях, что сидят теперь на станции. Теперь они нашли себе надежную охрану. Ведь вся эта комиссия поехала в ту сторону!
— Вот банкет зададут, на тракте-то!
— «Гран плезир!» — вспомнил Бурченко. — Тише вы под горку-то!
Тарантас перебирался через некрутую степную балку. Темные горбатые массы паслись по сторонам. Неподалеку заржала лошадь... другая, третья... Доносились голоса... Тарантас поднялся на противоположный высокий берег балки.
Громадные, широко раскинувшиеся аулы, освещенные сотнями костров, оживленные, шумные, открылись перед глазами путешественников. Густые столбы дыма, снизу красные, сверху освещенные только что поднявшейся луной, клубились над аулами. Пестрая толпа, — преимущественно женщины в высоких белых тюрбанах, — стояла на дороге и дожидалась прибытия тарантаса. Черные, закопченные, пузатые, совершенно голые дети, с торчащими на бритых головах косичками, кричали, кувыркались и орали по обеим сторонам экипажа.
— Гей! Гей! — весело кричали киргизы-конвой.
Резкий свист и ответные крики «Гей, гей!» неслись им навстречу.
— Ну, вот мы и в центре восставших аулов! — произнес Бурченко.
Тарантас остановился.
XII Курьезный документ
Выйти не успели приезжие из экипажа, как их со всех сторон окружили любопытные, жадные до всяких новостей кочевники.
— Откуда Бог принес?
— Что привезли?
— Чего вам у нас надо?
— Проваливайте, откуда приехали!
— К нам идите, гости божьи будете!
— Нам, девкам, подарков наготовили много?
— Где ж товары ваши?
Посыпались со всех сторон самые разнообразные вопросы и заявления.
— Вот так атака! — произнес Ледоколов, пятясь назад к тарантасу.
— Да дайте же дорогу, чего пристали... Ну, здорово, здорово. А ты щипаться, жирная эдакая! Ой! Да ну вас, черти!.. Пусти, что ли!.. — слышался голос Бурченко. — Что, брат, заревел?.. Не лезь под ноги, босоногий!.. — нагнулся он куда-то вниз. — Ну, дорогу же, говорят вам...
Несколько женщин полезли в тарантас и начали там рыться. Бурченко заметил это обстоятельство.
— Эй, эй, вы, там, не трогать! — крикнул он любопытным красавицам. — Слышь ты, тамыр, — обратился он к одному из киргизов, приехавших с ними, — посторожи, брат, поблагодарю после... Разгони их, пока я к бию схожу!..
— Ладно! — согласился киргиз и принялся разгонять женщин, пустив в ход брань, кулаки и даже неизбежную нагайку — «камчу». Впрочем, все это делалось без всякого озлобления с той и другой стороны.
Молодой джигит, весь в красном, с шашкой — «клынчем», засунутой за поясом, протолкался к нашим приятелям.
— Аман исен сыз? (здоровы ли вы?) — приветствовал он приезжих.
— Здравствуй, брат, — отнесся к нему Бурченко. — Выручи ты нас, ради Аллаха, видишь, как пристали эти сороки... просто не дают ходу!..
— Бабы! — презрительно пожал плечами красный джигит. — Ну, идите за мной. Султан Забык в свою кибитку зовет вас!
— Пойдемте к султану Забыку! — пригласил своего товарища Бурченко, и они тронулись сквозь толпу, раздавшуюся при появлении «красного» и еще человек трех вооруженных джигитов.
Мягкая, словно кошачья лапка, нежная рука ласково тронула за плечо Ледоколова, — тот обернулся. Красивая, смуглая, как дубленая кожа, девушка прижималась к нему и хотела что-то шепнуть ему на ухо...
— Ты мне платок подари пестрый и нитку красных шариков на голову. Подаришь?.. — И она нежно смотрела на русского из-под своего белого джавлука (головного убора).
Ледоколов ничего не понял и недоумевал.
— Я к тебе за это приду постель твою оправить и спину чесать ночью. Подаришь?
— Послушайте, Бурченко... вот тут она говорит... я ничего не понимаю...
— Что такое?.. — остановился малоросс.
Девушка фыркнула и спряталась в толпе.
Сопровождаемые конвоем из четырех джигитов, путешественники выбрались, наконец, из толпы, прошли мимо кибиток, из-под приподнятых кошем которых выглядывали мужские и женские лица, провожая русских не совсем ласковыми взглядами, прошли между двумя обширными загонами для мелкого скота; косматые собаки злобно рычали и лаяли, глядя на непривычные костюмы; перебрались через небольшой ручей по вязанкам камыша и хворосту и направились к большой белой кибитке, стоявшей особняком от прочих, около которой собралось довольно-таки народу, и на длинном шесте развевался треугольный белый значок, украшенный наверху конским хвостом и увешанный суконными кромками. Это и была ставка Рахим-Берды, бия, и султана Забыка, его брата. За белой кибиткой виднелись верхушки других желомеек и кибиток, где помещались их семейства. Неподалеку несколько женщин ставили еще одну желомейку, и в то время, когда одни из них устанавливали ребра крыши, другие разворачивали широкие сшитые войлоки и прилаживали к ним тесьму для обвязки всей желомейки снаружи.
Луна поднялась уже высоко и ровным, молочным светом заливала все волнующееся кочевье; свет костров оказался теперь излишним; внутри же кибиток ярко пылали очаги, и багровые лучи высоко поднимались из решетчатых тендюков (верхних отверстий, предназначенных для выхода дыма).
После размена приветствиями и обычных переговоров, Ледоколова и Бурченко ввели в кибитку, на пороге которой встретил их высокий, плотный старик с проседью в клинообразной бороде и с лукавым, словно подсмеивающимся взглядом темно-карих косых глаз... На старике был надет в накидку простой верблюжий халат, из-под которого виднелся расстегнутый ворот шелковой лиловой рубахи и узорные концы шитого пояса; на голове его плотно сидела крошечная парчовая тюбетейка с острым верхом, вся зашитая блестками и ярко сверкавшая при каждом движении старика. Это был хозяин кибитки и бий здешних аулов, Рахим-Берды, человек, пользующийся уважением и доверием чуть не всей степи.
За очагом, на почетном месте, сидел другой киргиз, помоложе, тоже в золотой шапочке, одетый довольно оригинально: поверх длинного халата из какой-то полосатой бухарской ткани накинут был темно-зеленый казакин, выложенный по бортам галунами, а на плечах киргиза красовались русские кованые эполеты с прапорщицкой одинокой звездочкой.
— Мы гостям всегда рады: гость — божий человек и посылается к нам всегда, как особенная милость Аллаха... — закончил свое приветствие Рахим-Берды и посторонился, как бы приглашая вошедших пройти за очаг.
— Благословение всему дому вашему, семейству и всему скоту! — отвечал Бурченко, протягивая хозяину руку.
— Если только в голове у вас нет черной мысли, и на языке вашем не кочует обман... Мир вам и счастливый конец вашему пути!
— Благодарю и за себя, и за товарища своего! — поклонился малоросс.
— Милости просим; пожалуйста, садитесь! — приподнялся и подвинулся влево обладатель золотых эполет. Он произнес эту фразу по-русски и самодовольно улыбнулся, заметив изумление на лице Ледоколова.
Это был султан Забык, имеющий русский чин прапорщика и бывавший по делам службы в Оренбурге, Уральске и даже раз как-то в Нижнем Новгороде. По случаю своего официального звания он и носил, поверх туземного костюма, форменный казакин с эполетами.
— Садитесь с нами! — еще раз повторил Забык и поправил на шее красную анненскую ленту с подвешенной на ней медалью.
Последний жест он тоже сделал с расчетом.
Не успели все усесться по местам, как кругом послышались глухие голоса, ропот; слышно было, как толпа вокруг кибитки все прибывала и прибывала... В открытых дверях мелькали фигуры, и поминутно заглядывали все разные и разные лица.
— Однако, в этом шуме я не замечаю ничего утешительного! — шепнул Ледоколов на ухо своему товарищу. — Вы слышите?
— Слышу, странно что-то... — отвечал тот так же тихо. — Не добре — гудит громада... Чу-кось!..
Шум усиливался.
— Ата, выйди к ним... Они мне не верят! — заглянул в кибитку красный джигит. — Тебя опять зовут!
— Беспокойные... — проворчал старый Рахим-Берды, кряхтя, поднялся с места и вышел.
На дворе затихло. Слышен был только ровный голос бия и по временам отдельные недоверчивые возгласы.
Бурченко стремительно встал, перешагнул прямо через очаг, помимо всякого этикета, и вышел из кибитки.
— Куда вы?
— Я понял, — я это уйму сейчас... — скороговоркой произнес он.
— Зачем тебе ходить? — попытался было остановить его Забык, но сам поднялся с места. Его так и подмывало выскочить вслед за Рахим-Берды.
В кибитке остался один только Ледоколов.
— Говорят вам, что мы совсем не такие люди... Стали бы мы иначе приезжать сюда к вам без казаков да с голыми руками!.. — слышен был голос Бурченко. — А ну, не верите, так сторожите, коли не скучно… Чего? Что такое?.. Ладно... завтра уедем, коли верблюдов дадите... Нет с нами; товары караваном идут, мы особняком...
— Я в том порукой... Я!.. — кричал Рахим-Берды.
— Все бы вернее было, если бы уехали... — возвысился сильный молодой голос.
Еще пошумели, еще несколько раз принимался говорить Бурченко; говорил Рахим-Берды, начальнически кричал Забык... Толпа затихала мало-помалу... Наконец, затихла совсем. Слышно было, как народ расходился по своим кибиткам, и, словно последние перекаты грома пролетевшей бури, глухо рокотал удаляющийся говор.
— Вот так митинг... — весело произнес Бурченко, входя снова в кибитку. — Горячие головы, черт их дери!
— Если бы еще немного, я их унял бы! Я их унял бы! — сжимал кулак и грозил в пространство султан Забык.
Он гордо поднимал плечи с эполетами и внушительно жестикулировал правой рукой. Вместе с чином прапорщика он приобрел и совершенно начальническую осанку, хоть бы и несколькими чинами выше, так впору.
— Ну, уж ты молчал бы; только дело чуть не испортил! — презрительно взглянул на него Рахим-Берды и, улыбаясь во весь рот, добавил: — Ну, теперь, кажется, они поверили...
— В чем дело? Расскажите мне, бога ради!.. — обратился Ледоколов к Бурченко.
— Да что, пустяки совсем. Они не хотели верить, что мы не из той шайки, что дорогой встретили. Хотели и нас выпроваживать из аула. Ну, да теперь, никак, поверили!
— Поверили! — согласился Рахим-Берды. — Да, вот, успокаивай народ тут, как знаешь, — продолжал он. — Приехали вчера утром рано, только солнце всходить начало. Ну, мы их приняли; думали: гости хорошие. Не знаю я, большие или маленькие они люди...
— Один большой, а то маленькие... Я знаю! — вставил от себя Забык, знакомый уже немного с градацией официальных чинов.
— Ну, вот, приехали они, требуют себе отдельных кибиток, баранов, молока... Все это мы им дали. Потом велели народ сбирать!
— Это интересно! — пододвинулся поближе Бурченко.
Он подстрочно переводил все своему товарищу. Султан тоже, насколько мог, донельзя коверкая русский язык, помогал ему в этом.
— Я было не хотел народ сбирать; догадывался уже, что ничего путного из этого не выйдет, да ведь наших знаете? До всяких новостей какие охотники! Ну, смотрю я, а уже весь аул на ногах; собрались сами. Тут и началось!.. А что же нам кумысу не дают? Да пора бы и ужинать! — обратился рассказчик к двум женщинам, еще молодым, очень полным, заглянувшим было в дверь кибитки.
— Что же дальше-то?
— Да что, дальше говорили такие речи, что и слушать нельзя было...
— Говорили, что кочевать довольно — больше нельзя... кочевать-то, — вмешался красный джигит, — что все кибитки они казенной печатью к степи припечатают, а кто печать сорвет, тому...
— Ну, ты не говори этого; я не слыхал ничего про печати! — остановил его Рахим-Берды.
— Да он не здесь, а там, около загонов, говорил... наши все слышали!
— Говорили, что пахать землю будут все киргизы с будущего года, это точно; ну, вот, что суд у нас и начальство будет совсем другое. Он пояснил мне, какое именно; да я, признаться, не понял... Ведь, вот, и не дурак родился, прислушивался, прислушивался, — ничего не понял… Двое пошли кибитки считать, а сами уже ничего не видят, на ногах шатаются и все бумагу из рук роняют. Так ничего и не сосчитали!
— Сколько девок в ауле, принялись считать; наши джигиты вступились; насилу разняли! — опять вмешался красный джигит.
— Ну, я потихоньку собрал стариков на совет: обдумать надо было, что делать. Поговорили мы и порешили выпроводить их из аула туда, откуда приехали... А тут еще гроза поднялась: джигиты переполошились... как их унять? Ведь вот ты сам видел только что; опять было гудеть начали, Долго ли беду новую на степь накликать!.. Что мы перед вами? Все равно, что вошь перед верблюдом... Пришел я к их старшему и говорю ему, что я ему по душе советую сейчас уехать и всех, что привез, опять с собой забирать. Тот на меня как крикнет: «А, ты бунтовать!..» И... эх, нехорошо... совсем нехорошо!..
— Ударил Рахим-Берды, кулаком по лицу ударил! — с таинственным ужасом, понизив голос, произнес Забык.
— Ловко! — крякнул Бурчепко.
— Ну, я и распорядился... Посадили их силой в их повозки, джигитов снарядили в конвой и отправили... Вы их, я думаю, встретили дорогой?
— Встретили... Что же, неужели без драки обошлось? Ведь их много было, опять казаки с ними были! — удивился Бурченко.
— Нет, Аллах не допустил... Они сильно оробели, когда к ним подступили наши!
— Один так все плакал, просил, чтобы его в Хиву не везли только! — засмеялся Забык.
— Я говорил ихнему старшему, что если им что нужно от нас, чтобы сами не ездили, а за мной прислали или за кем-нибудь из старших. Мы уж знаем, как говорить со своими. А то долго ли до беды!.. Нy, да теперь они больше не приедут! — самодовольно вздохнул старик.
— Приедут! — пророчески произнес Бурченко.
— Не приедут!.. У меня бумага такая есть, что не приедут...
— Какая такая бумага?
— А вот я тебе ее покажу!
Рахим-Берды отпер сундучок, стоящий у его постели, вынул оттуда кошель из красной кожи и начал его разворачивать. Он делал это медленно, обдуманно, тщательно раскладывая лопасти кошеля у себя на коленях.
— Вот она — эта бумага. Смотри!
Он показал восьмушку серой бумаги, тщательно исписанную узорными татарскими письменами.
— На, читай!.. — протянул он бумагу малороссу.
— Читай сам, я по-вашему не умею! — отвечал тот. — Читай громко, а я уж пойму все!
— Ну, хорошо, слушай: «Мы, имена которых стоят внизу, обещаем и клянемся нашими головами, душами и самим Богом, что вперед в аулы „Будугай Сабул Урунар“ приезжать не будем и никаких неразумных слов там говорить тоже не будем, ибо от неразумных слов и неразумные дела делаются. Если же мы слова своего не сдержим, то да низойдет проклятие Аллаха на наши лживые головы...»
За этой курьезной подпиской следовали подписи уже по-русски. Нетрудно было догадаться, что все фамилии были вымышленные. Внизу же красовалась большая форменная печать, оттиснутая черной копотью. Печать эта была приложена по настоянию Рахим-Берды, и уклониться от этого, вероятно, не было никакой возможности.
— Вот так документ! — развел руками Бурченко и расхохотался, да как! На всю кибитку и даже за ее пределы, потому что вслед за этим неудержимым взрывом самого веселого хохота за кошмами послышалась возня, и в той широкой щели, где соединяется крыша со стенками, замелькали десятки блестящих глаз, и послышались отдельные вспрыски такого же веселого, добродушного смеха.
Подали ужинать. Целый баран, зажаренный в котле, был поставлен на треноге перед гостями. Султан Забык взял нож, обтер его об голенище своего сапога и очень ловко отделил голову животного. Это считается самым почетным куском и предлагается только гостю. Затем, согласно степному этикету, баран поступает в полное распоряжение гостя, который уже сам от себя распределяет блюдо между присутствующими. Бурченко, положив себе и Ледоколову мяса в отдельную миску из желтой глины, попросил хозяина избавить его от обязанности, налагаемой на него этикетом, и распорядиться ужином самому. Так и сделали.
— Какой же товар вы везете? — спросил хозяин своих гостей.
— А всякий, больше красный... Он другими дорогами идет, в караване!
— Гм!.. Что же, хорошо торговля идет?
— Ничего... торговать можно!
— Плохо! — неожиданно обрезал Рахим-Берды.
— Как так? — совсем уже удивился Бурченко.
— А так. Это мы лучше вашего знаем. Вот ты смотри: десять лет тому назад, когда вы еще за Ак-Мечеть[3] не переходили, у нас в кочевьях, в трех родах, четыре тысячи верблюдов считалось и никогда их при аулах не было. Еще за год всех нанимали под караваны. Приезжали караван-баши, задатки давали, и все лето ты бы не увидел у аулов ни одного верблюда, кроме маток да тех, что для своего обихода нужны: все в разгон уходили, и денег у нас было много. Один только наш род пятнадцать тысяч рублей в лето выручал за наем верблюдов. Не хватало верблюдов здесь — к Каратовским горам, — вон, вишь, куда, — ездили нанимать. Ну, а теперь не то!
— Что же, меньше требуется?
— А вот завтра увидишь... На степи сколько их даром пасется, — лишние остались. А держим мы их теперь меньше, чем держали прежде. Опять вот весной мор на них был; у одного меня тридцать две головы пало. А все остались ненанятые... Сколько, бишь, у нас на нынешнее лето под русские товары ушло? — обратился Рахим Берды к султану Забыку.
— Немного. Сот пять ушло; больше не ушло!
— Ну, вот оно и есть. А уж коли вы мало своих товаров к Бухаре везете, так и к вам повезут их немного... это верно... что за торговля против прежнего! Кумысу, чарагым,[4] из старых турсуков налей! — обратился он к прислуживающей женщине.
— Да отчего же это? Как по вашему?..
— По нашему?.. Гм!.. Отчего!.. Конечно, все от воли Аллаха. Без его воли ничего не бывает: ни худого, ни хорошего. Все от Аллаха!..
Говоря это, Рахим-Берды так шутовски улыбался, что называется, себе на уме, и эти умные, смеющиеся глаза ясно говорили: «Да, как же, от Аллаха! Есть, когда Аллаху в такие дрязги вмешиваться. Знаем мы, отчего, а ты сам догадайся, коли знать тоже хочешь».
— Ну, коли хотите спать, я вам велел постели постлать в особой кибитке. Вас джигит проводит! — произнес Рахим-Берды.
— Тонкий намек! — заметил Бурченко. — Пойдемте! — обратился он к своему компаньону.
— Да пошлет вам пророк самых сладких снов, — напутствовал их хозяин. — Досщак, проводи купцов! — кивнул он красному джигиту.
Приятели поднялись, простились с гостеприимными старшинами и вышли. Они тотчас же заметили около одной из кибиток свой экипаж, охраняемый сидящим на козлах джигитом; около этой кибитки толпилось несколько женщин, хихикающих и подталкивавших друг друга при приближении русских купцов.
— Это они кибитку для вас ставили; теперь подарка ждут! — объяснил им джигит Досщак, заигрывая на ходу со степными красавицами.
— Тут один очень странный обычай есть, — предупредил Бурченко Ледоколова. — Вы, пожалуйста, не озадачьтесь очень и будьте вежливым кавалером!
— В чем дело?.. В чем?
— А вот увидите!
Гости прошли в дверь кибитки и начади осматриваться. Луна стояла прямо над головами и сквозь верхнее отверстие ярко освещала всю внутренность переносного жилища. На войлоке, застилавшем все пространство, обнесенное телегами, положены были одно на другое несколько ватных одеял и две цилиндрических полосатых подушки. Больше ничего в кибитке не было.
— Хорошо, что они на новом месте кибитку поставили: по крайней мере, блох меньше будет! — заметил малоросс. — Ну-с, раздеваемся и ложимся спать!
И он начал немедленно приводить в исполнение свое предложение.
— А приятно, после всех этих тревог, вытянуться эдак во всю длину! — зевнул Ледоколов. — Не то, что скорчившись в тарантасе!
— Весьма приятно; да вы скиньте сапоги-то!
В кибитку, словно тени, неслышно прошмыгнули две женщины и, крадучись, как кошки, подошли к постелям. В одной из них Ледоколов узнал ту самую, что просила у него подарка, когда тот только что вылез из экипажа.
— Что это они?
Ледоколов вскочил и удивленно смотрел на своего товарища. Тот хохотал, глядя на его изумленную фигуру.
— Ничего, успокойтесь и ложитесь, а эти красавицы будут чесать вам спину и пятки. Это самая утонченная любезность относительно гостя. Да чего же тут удивляться? Ведь Коробочка предлагала же Чичикову послать ему девочку почесать пятки!
— Ну, ложись, тамыр, ложись! — нежно ласкалась к Ледоколову смуглянка.
— Эх, хорошо, право! Это, знаете, действует довольно успокоительно, — лениво говорил Бурченко. — Выше немного… вот так!.. Пониже теперь, — славно!
— Хи-хи... — подсмеивалась киргизка, — а что подаришь?
— А вот увидишь!
Он зевнул во весь рот, так, что чуть челюсти не вывихнул, и стал засыпать.
Ледоколов тоже решил «в чужой монастырь со своим уставом не соваться».
На другой день Бурченко, с помощью султана Забыка, нанял верблюдов вплоть до Сыр-Дарьинских фортов, и путешественники оставили «взбунтовавшиеся» аулы. Рахим-Берды оказал своим случайным гостям последнюю вежливость: он проводил их верхом со своими джигитами верст за десять от кочевья и дорогой, показывая направо и налево, все говорил: «Вон еще пасутся наши верблюды; а вон еще, видите, вон там, за этой лощиной? Это все остались свободные, ненанятые...»
У кургана, вершина которого занята была старой могилой какого-то давно скончавшегося степного батыра, хозяин и гости расстались, и каждый поехал своей дорогой: один назад, к себе в аулы, другие прямо в степь, всю изжелта-серую, знойную, с бесконечным горизонтом, вечно дрожащим однообразно-монотонным миражем.
XIII Образцы самого точного перевода с киргизского языка на русский
Дикая пустынная страна. Кругом, куда только ни достигает глаз утомленного путешественника, все одни пески, пески. То словно окаменевшие в минуту бури морские волны, то словно покойные, гладкие поверхности озер, обрамленные плоскими, низменными берегами, однообразно желтые, накаленные так, что едва выдерживает привычная босая нога полудикого киргиза, и трескается пересохший рог конского копыта, — почти лишенные всякой растительности, мертвые пески...
Кое-где, сквозь песчаную кору, пробивается что-то буроватое, сухое, выгоревшее: это жалкие остатки жалкой степной флоры. Там и сям шмыгают, бороздя сыпучую почву, такие же бесцветно-желтоватые головастые ящерицы, и только быстрое движение да легкий шелест выдают их присутствие...
И воздух неподвижный, мглистый, пышущий расслабляющим жаром, словно замер над мертвой местностью, и не видно в нем ни одного облачка, ни одной летящей птицы, словно все живое бежит отсюда и далеко обходит и облетает это проклятое место, пробираясь в другие, более счастливые страны.
Только человек проложил себе путь через эту пустыню, и тянется узкой полосой почтовая дорога, взбираясь на наносные барханы, спускаясь в ложбины, огибая сыпучие откосы...
Вершины двух закопченных, темно-бурых кибиток виднелись из-за гряды песка, пересекающей наискось дорогу. Песок здесь был сильно утоптан, на нем виднелись следы колес, конский и верблюжий помет, кучки золы, остатки костров, на которых прохожие варили себе чай, рассохшаяся ступица тележного колеса, обглоданные кости и многое тому подобное, свидетельствующее о том, что здесь иногда собирается довольно многочисленно общество.
В одной из кибиток жили четыре казака уральца, другая предназначалась для проезжающих — это была почтовая станция, одна из тех, о которых с таинственным ужасом говорят, еще в Самаре и Оренбурге, едущие в степь семейные и не семейные переселенцы...
Один из казаков, в одной рубахе, сидел у входа в желомейку и чинил седельный потник, другой варил что-то в котле, мешая щепкой, двое остальных спали в желомейке, разметавшись крестообразно под влиянием удушливого жара. Лошади, оседланные и стреноженные, бродили около, подбирая своими губами какие-то былинки и обнюхивая остатки костров; и прислушивались они по временам, — что за непривычный гул и говор несется оттуда, вон из-за тех барханов, где, в глубокой ложбине, вырыты два степных колодца, к которым их водят поить, и откуда на их спинах привозятся тяжелые турсуки с солоноватой водой на разную хозяйскую потребу. А там, вот уже четвертый день, собралось большое и шумное общество и расположилось лагерем по дну ложбины, окружив кольцом зияющие отверстия колодцев.
Слух прошел по степи, и от начальника, что живет в Казале, тоже пришли вести — и взбудоражились аулы, ближние и дальние, выслушав присланных из уезда гонцов.
Какое-то очень важное лицо должно было проезжать через Кара-Кумы; и вот представители аулов и разных кочевий, кто за сто, кто за полтораста верст, а кто и далее, собрались к почтовой станции заявить проезжему свое сочувствие и благодарить за разные льготы и милости.
В рогатых войлочных шапках, в меховых малахаях, угрюмо сидели они на песке, подостлав под себя конские попоны и верблюжьи халаты. Отощалые кони их стояли на приколах и дремали; штук десять верблюдов бродили между барханами, неподалеку дымился полупотухший костер из высохшего помета, над костром прилажен был плоский котел, и шевелилась в нем, закипая, какая-то беловатая масса. Кальян дымился кое-где, и слышалось его хрипение; на темноватом фоне сырого песка сверкали медные кунганы-чайники, и одиноко стояли два оловянных блюда и круглый медный поднос с черствыми, совершенно высохшими лепешками и несколькими пригоршнями заплесневелого изюму и кусками наколотого сахара, — это были приношения высокому проезжему, местная хлеб-соль, которую должны были поднести старейшие из представителей; седобородый Измаил-бай, высокий, тощий, высохший, словно мумия, и такой же черный Ибрагим-мулла, дюжий Гайкула, с лицом, изборожденным злой оспой, и ученый Ахмат, знающий не только, что десять стихов Корана, но даже умеющий подписать свое имя целиком, там, где его товарищам приходится по неграмотности прикладывать только свои сердцеобразные родовые печати. Этому самому Ахмату поручено было и говорить с начальником, давать ему ответы за себя и всех остальных представителей.
Вот уже четвертый день сидят здесь кочевые депутаты; скука их одолела страшная, тоска... голод начинает ворочаться в их выносливых желудках: провизия на исходе; из четырех баранов, приведенных для подарка проезжему, только два остались: один сдох, должно быть, гадина какая укусила, а другого вчера зарезали... Никак не ожидали киргизы, что им придется ждать так долго... и в крайности уже покусились на жизнь пешкешного (обреченного в дар) животного.
Угрюмо, тоскливо глядели загорелые, типичные лица. То поглядывали они на вершину бархана, где неподвижным силуэтом рисовался сторожевой киргиз, то прислушивались они, затаив дыхание, не звенит ли где далекий колокольчик, не слышится ли стук экипажных колес по твердой, улежавшейся степной дороге.
Спокойно сидит, даже дремлет сторож: видно, ничего он не видит, кроме песка да знойного неба, ничего не слышит привычное ухо, кроме фырканья лошадей да чахоточного чихания овец, косматыми комками свернувшихся около блюд с хлебом-солью.
И снова погружались в немое созерцательное состояние угрюмые киргизы, пока какой-нибудь подозрительный звук не выводил их из этой томительной неподвижности.
— Пыль поднялась на дороге. Русская арба едет! — крикнул сторожевой, и разом всполошился весь лагерь.
— А, ну слава Аллаху; дождались-таки! — вздохнул Измаил-бай.
— Пророк еще не совсем прогневался на нас! — произнес грамотей Ахмат.
— Ге! Шайтан! — выругался не без удовольствия корявый Гайкула, надевая, поверх своего верблюжьего, красный суконный халат, обложенный по бортам позументом.
Все остальные тоже поспешили надеть цветные халаты.
— Стой, слушайте, что я говорить буду, слушайте! — кричал, размахивая руками, грамотей Ахмат. — Сперва все кругом становитесь, вот так; ты, мулла, здесь, ты, Байтак, сюда... Назар-бай правее, вы все сзади. А ты, Измаил-бай, ты старше всех, — спереди с блюдом; я около тебя, Ибрагим-мулла слева... ну, так, хорошо...
Ахмат окинул глазом всю картину и, по-видимому, остался совершенно доволен.
— Как только начну я, — продолжал он, — а начну я так: «Высокопоставленный, многомудрый, извергающий разум и благочестие...» Вы сейчас большой «хоп» (поклон) и головы вниз, так и держите...
— Баранов кто держать будет? — спросил кто-то из молодых киргиз.
— Баранов сюда; баранов вперед тащи, чтобы сразу видно было, — сюда тащи...
— Господи! Пронеси грозу и пошли нам всякие милости. Пророк великий, напусти мягкодушие в сердце большого начальника!
— Прежний был сердит, а про этого беда, что говорили в городе! — тихо шептал кто-то сзади.
— Аллах не без милости...
— Никто, как он!
— Так все и пойдем на станцию. И как только тюра полезет из арбы...
— Сюда идут! — крикнул испуганный, тревожный голос...
Холодный пот выступил под теплыми халатами представителей. Седобородый Измаил-бай чуть было блюдо из рук не выпустил и с недоумением смотрел на заправлявшего встречей Ахмата, а тот, совсем растерявшись, глядел вперед, в ту сторону, где чернели верхушки станционных желомеек.
Ахмат думал в эту минуту: «Что же это такое? Где же это слыхано, чтобы сам начальник, сам великом....»
Два наносных бархана сошлись почти вместе, образовав между собой, узкую, извилистую лощину, по дну которой шла дорожка, соединяющая станцию с колодцами. По этой дороге шли две фигуры: обе в простых парусиновых пальто, в белых фуражках, в высоких охотничьих сапогах и с дорожными сумочками через плечо.
— Великий, многомилостивый, извергающий раз...
Бурченко фыркнул, Ледоколов долго крепился и, наконец, разразился неудержимым смехом.
Представители смутились и начали переглядываться. Подозрительные киргизы догадались, что дело не совсем ладно, и инстинктивно почувствовали, что промахнулись.
А дело вышло очень просто. Тарантас Ледоколова принят был сторожем за экипаж ожидаемого лица.
— А что, лошадей не дадут нам? — спросил Бурченко казака, чинившего потник.
Тот поглядел на спрашивающего; видит — не военный, церемониться нечего.
— Известно, не дадут, да и взять-то неоткуда!
— Что же так?
— Не велено, — генерала ждут!
— Вот как! Что ж, долго ждать будут?
— Неизвестно. Вон там, у колодцев, давно уже ждут, четыре дня пятый; может, еще прождут неделю!
— Это долго!
— Ничего не поделаешь. Приказание такое есть, чтобы пока генерал не проедет...
— Я предупреждал вас, — обратился Бурченко к своему путевому товарищу. — Надо было по аулам ехать: долго, зато вернее. Ну, да это для кого другого, для нас дело поправимое... Кто же это ждет там у колодцев?
— Епутаты!
— Какие депутаты?
— От орды, со всякого кочевья старшины собраны... велено им ждать и хлеб-соль поднести. Вот они, сердечные, теперь и маются!
— Знакомые порядки... Вы видали когда степных депутатов?
— Нет, не случалось! — отвечал Ледоколов.
— Пойдем смотреть... это очень интересно. Я постараюсь устроить дело так, что эти депутаты помогут нам в дальнейшем нашем движении!
Спутники вылезли из тарантаса, отряхнулись, попросили казака тем временем вскипятить чайник, за что уралец принялся с видимым удовольствием; он сообразил, что тут представится возможность и ему напиться чаю, да, может быть, еще и чего другого, — и пошли по дороге к колодцам.
— Однако, их немало! — удивился Ледоколов, заметив еще издали волнующуюся толпу.
— Знакомые порядки. Вот посмотрите, сегодня или завтра переводчик с казаками приедет... Ах, шуты, они нас за генерала приняли. Вот комедия!
— Не может быть!
— Чего, не может быть: выстроились в порядок...
В эту минуту грамотей Ахмат начал свою приветственную речь.
— Будьте здоровы, да пошлет вам Аллах всяких благ! — произнес Бурченко оратору.
— Будь здоров и ты... — сказал тот.
Киргизы окружили приезжих.
— Ты кто же такой? Ты ведь не большой тюра? — спрашивал Измаил-бай. — Ты передовой от него, что ли?
— Нет, мы так, сами по себе. Кто мы такие, спрашивают! — заметил Бурченко товарищу.
— Понимаю!
— Мы простые люди, маленькие, едем по своему делу...
— Савдагур (купцы)?
— Купцы...
— А мы вас за того приняли. Что же, он скоро приедет? Вы из той стороны?
— Нет, мы из степи, да, впрочем, слышали, что скоро: дня через два!
— Вой-вой! Что же мы есть будем? — воскликнул Ибрагим.
— Осторожней, — шепнул ему на ухо Ахмат — кто их знает, что за люди; может...
Он шепнул ему что-то такое, от чего Ибрагим вдруг замолчал и стал прятаться в толпе.
— Это ты напрасно его пугаешь, — заметил движение Ахмата Бурченко, — мы не лазутчики, а люди хорошие, вот спроси, Батуйка с нами приехал, он знает!
Грязный, лоснящийся от сала молодой киргиз подошел к толпе, едва передвигая ногами в спущенных шароварах.
— Да кто вас тут разберет!.. — недоверчиво произнес Ахмат. — А ведь нам уже не раз доставалось; мы тоже народ травленый!
— Осторожность не мешает. Что же, долго вы тут ждете-то эдак, всем обществом? Да что же мы стоим, — мы сядем!
Он сел на песок, Ледоколов тоже, киргиз Батуйка лег на брюхо, у самого колодца, где песок был сыроватей и прохладнее; подумали, помялись киргизы и тоже уселись в кружок.
— Долго ждем! — лаконически ответил корявый Гайкула.
— Так, а скучно, надоело, думаю?..
— Нет, такая великая особа, ждать нужно...
— Да полно грязь глодать (лгать). Вот нам самим ждать приходится — беда!..
— А нам не беда? — проговорился Ибрагим.
— Смерть! — подхватил кто-то сзади всех.
— Ну, вот так-то!
— Эх, — воодушевился разом Ибрагим. — Вот я из своего аула пять дней ехал, да здесь пятый сижу, да, может, ждать сколько буду, да назад пять дней, а дома, без хозяина, что будут жены делать с одними работниками... Лошади мои отощали; разве на этом корме может прожить скотина? — Ибрагим указал на барханы. — А с собой взять много нельзя было, то есть, оно можно, да разве мы знали, что нас за тем требуют, чтобы мы здесь на песке даром сидели?
— Конечно!
— А вот как я выехал, слух такой прошел, — перебил Измаил-бай, — что на «Барсуки» пришли барантачи хивинские. Мой аул в той стороне; я ничего теперь не знаю, что там делается? Может, что такое, что... Эх, как подумаю...
Слезы зазвучали в дрогнувшем голосе старика.
— У меня перекочевка началась, — говорил Гайкула, — а тут сюда вытребовали, просто беда. Да и без баб скучно...
Один только осторожный Ахмат не высказывал никаких жалоб и все еще подозрительно смотрел на русских, особенно на Ледоколова, лицо которого почему-то казалось ему более официальным.
— А вот вы возьмите да и пожалуйтесь начальнику, когда тот приедет...
— Что ты!.. Мы тоже свои головы бережем; этот проедет в Ташкент, а наш с нами останется. Мы вот тут сидим, у себя по аулам, а головы наши там!
— Как знаете, а мой совет: пожалуйтесь; все, что знаете дурного, все и расскажите...
— Не поможет; только себе беду наживем!
— Слушайте вы. Я вот вам говорить буду... Может ли быть такая сторона, чтобы только одни хорошие люди жили? Везде бывают и худые, и хорошие, и пожалуй, что худых больше. Вы вот жалуетесь, что вас жмут, а самому большому начальнику сказать боитесь. Откуда же он узнает? А вы все расскажите: этот, что едет, — я знаю его, — человек добрый и вам худа не желает; он вас выслушает, дело разберет, и тот, кто прав, — правым и останется, а виноватого, может, по шапке погонят. Это верно!
— Да, верно; верно-то оно верно, да страшно!
— Да, по мне, как хотите; я говорю для вашей же пользы. А только случая вам упускать не следует; другого такого не скоро дождетесь. Я вам говорю. Эти бараны у вас для чего?
— На поклон привели...
— Вот вы жалуетесь, что провизия вышла у вас, а это что? Зарезали бы их обоих и съели!
— А генералу?
— Ему этого не надо. Он только правду любит, а баранов у него, пожалуй, больше вашего...
— Мы и так хотели было одного прирезать сегодня, да страшно было!
— Катайте без страха. Нас вот угостите. Батуйка, кати арбу нашу сюда: все равно, там толку никакого не будет!
Батуйка позвал с собой еще одного киргиза и потащился на станцию.
Не прошло и часу, как Бурченко снискал себе полнейшее расположение всего общества. Бивуак у колодцев оживился, тарантас был привезен, баран зарезан, и Бурченко собственноручно принялся жарить шашлык, распространявший вокруг себя самый гастрономический, аппетит возбуждающий запах.
Даже подозрительный Ахмат разговорился и принялся расспрашивать Бурченко о всех подробностях их степного путешествия.
— Вот видите, — говорил малоросс Ледоколову, — другие скучают на станциях, а мы вот окружены самым аристократическим киргизским обществом, банкет вот собираемся учинить. Что, кипит вода? — отнесся он к киргизу Батуйке.
— A у вас тут важно, господа поштенные! — подъехал верхом уралец со станции. Он гнал перед собой остальных лошадей к колодцам, для вечернего водопоя.
— Ничего, к нам милости просим! — пригласил его Ледоколов,
— А мы было там чайничек вашему степенству приготовили, — замялся казак, — там, вот, и товарищи...
— Зови всех сюда!
— А станция как же?
— Кто ее украдет?
— Ну, ладно, я там одного на всякий случай оставлю, все надежнее будет!
Казак напоил лошадей и погнал их к желомейкам.
— Ведь вот между вами много хорошего народу есть! — наивно произнес старик Измаил-бай.
— А что же вы думали, что только киргизы люди хорошие?
— Нет, не то. За то и худые есть у вас, такие, что его волком назвать только можно; да что, хуже всякого волка: от того палкой отбиться можно, да он и робок...
— А эти не робки? — Бурченко усмехнулся, припоминая схватку на станции «Сары-су».
— Эх, да что и говорить!
— Солдат ваших много очень шло в прошлом году... — заметил Ибрагим. — С эмиром бухарским воюете?
— Это не по нашей части, наше дело торговое! — уклонился Бурченко.
— Нет, вот как наша сотня, с эсаулом Серовым, под Иканом в передел попала... — начал уралец с георгиевской петличкой на армячинной рубахе.
Он воспользовался случаем, чтобы похвастаться перед проезжими.
— А ты был под Иканом?
— Как же. Окружили нас со всех сторон... ни взад, ни вперед
— Да ты говори по-киргизски; ведь умеешь? И они послушают! — Бурченко указал на киргиз.
— По-киргизски не так складно выйдет, а я могу!
Послушали уральца, как он рассказывал про иканское дело. Оказалось, что киргизские старшины знают все подробности лучше самого очевидца и участника.
— У них изустная передача всяких вестей так устроена, что вся степь узнает о происшествии прежде, чем дойдут почтовые сведения, — пояснил Бурченко Ледоколову. — Лучше всяких газет, просто телеграммы, да и шабаш!
У кого-то нашлась киргизская балалайка — сааз; это разнообразило импровизированный вечер. Только жаль, что темно было совсем: огня такого, чтобы распространял свет на значительное расстояние, нельзя было разложить, по недостатку горючих материалов, а сухой помет только тлеет и хотя дает значительный жар, зато не дает свету. Верблюдов собрали и уложили рядами, подсыпав им под морды саману (рубленой соломы), и начали укладываться спать. Ледоколов со своим товарищем опять забрались в тарантас.
Весь лагерь погрузился в глубокий сон: заснули люди, заснули верблюды, тяжело вздыхая во сне и пережевывая свою вонючую жвачку, заснули и лошади, растянувшись на песке... А из-за бархана, в глубокой темноте, мелькнула пара огненных точек, мелькнула еще одна, еще... То поджарые степные волки, почуяв мясной запах, подобрались потихоньку к лагерю и поглядывали издали на уцелевшую, единственную овцу, не решаясь очень уж близко подходить к такому многолюдному сборищу.
К рассвету поднялась тревога на станции: приехал переводчик из Казалы, с ним пришла полусотня казаков и привели упряжных казачьих лошадей для подъема генеральских экипажей, — роскошь, которую позволяли себе только самые крупные сановники; остальные же должны были довольствоваться загнанными и все еще полудикими киргизскими лошадьми и верблюдами.
В этом крае создался совершенно оригинальный административный тип переводчика, лица, по-видимому, самого незначительного, по роду своей служебной деятельности, но на самом деле не такого маловажного, как это кажемся сначала.
Там, где власть находится в руках лиц, незнакомых с местным языком, переводчик-толмач — все: он не только передатчик воли и распоряжений начальства; он бесконтрольный истолкователь того и другого, он неизбежный посредник между жалующимся и лицом, которому приносится жалоба, он докладчик по всякому делу, возникшему между туземцами. Киргиз, вовсе не знающий русского языка, русский, не знающий киргизского, — переводчик между ними, и ему открывается обширное поприще эксплуатировать и того, и другого. Сами они все без исключения азиаты, получившие свое образование в России. Хитрые и пронырливые, они, с арабской покорностью и предупредительностью, почти пресмыкаются пред представителями русской власти и надменно, с самым наглым презрением, относятся к зависящим от них туземцам...
Понятно, что всякий туземец, имеющий хотя какое-нибудь дело до представителя русской власти, спешит снискать расположение и покровительство толмача; в этом покровительстве залог к успеху, и ничего не жалеет степной кочевник, чтобы только задобрить какого-нибудь тюра-толмача Бей-Булатова или тюра-толмача Султан-Кучукова и братию...
Сопровождая всюду своего начальника, который без переводчика не может ступить шагу, он заменяет для него все: и домашнего секретаря, и письмоводителя, и адъютанта, и ближайшего наперсника во всех интимных сделках, и мало-помалу, переводчик, забирая в свои руки концы от разных запутанных узелков, крепко держит эти концы в своих цепких руках, зная, что этим самым он держит в руках своего патрона, а значит, становится лицом, на деле первенствующим, хотя, при разных официальных выходах, занимающим самую пассивную роль.
Вот такой-то переводчик и приехал на рассвете на станцию и, пригревшись под теплой шинелью военного покроя, зевал и потягивался, лежа в своем тарантасе.
Конвойные казаки вываживали усталых, замыленных лошадей, станционные казаки возились у огня, кипятя для приезжего воду; урядник, — он же и временный смотритель почтовой станции, — почтительно стоял у подножки экипажа, неловко приложив кисть правой руки к надорванному козырьку своей фуражки.
— Кто такие? — слышался из тарантаса охрипший от сна и выпивки голос.
— А не можем знать, говорят, купцы!
— Гм, из Оренбурга, что ли?
— Не сказывали!
— Что же, раньше генерала, что ли, выехали или обогнали где на пути?
— Из степи приехали, не по тракту; на вольных!
— Что за черт! Где же они теперь?
— Там, с епутатами у колодцев; прикажете позвать?
— Позови...
— Эй, Миронов, беги к колодцам, скажи купцам: начальник, мол, требует, чтобы живо!
Один из казаков побежал к колодцам.
— Гм, что-то подозрительно, что такие за купцы?
— Одежда немецкая, с лица словно как не из простых...
— Помыться приготовь...
— Пожалуйте-с!
Худенькая черномазая фигура, с азиатским типом лица, с заспанными, оплывшими глазами, прорезанными несколько наискось, в форменном грязном кителе с обер-офицерскими погонами и в шароварах туземного покроя, приподнялась в тарантасе, осмотрелась и занесла ногу через облучок, ощупывая экипажную ступеньку.
— Подмести хорошенько вокруг кибиток; золу убрать! Это что там за падаль валяется? Оттащить подальше, чтобы не видно было! — распоряжался переводчик, сидя на облучке. — Баулин, чай завари, водку достань из погребца...
Распоряжения черномазого человечка исполнялись быстро.
— К полудню районный начальник приедет генерала встречать. Сам генерал к ночи быть должен, по нашему расчету. Там ковры привезены; постлать их в желомейке и стулья поставить складные. Да что же купцы не идут?
— Миронов, что ж ты: что же купцы? — засуетился урядник, заметив вернувшегося посыльного.
— Да не идут! — замялся тот.
— Как не идут? — кинулся на него переводчик.
— Так точно; говорят, нам нужды нет никакой, а коли ему нужно, пусть сам придет!
— Гм... Так и сказали?
— В самый раз!
«Подозрительно... купцы ли?» — подумал переводчик; у него уже начали созревать кое-какие соображения.
— Вся орда сюда валит, ваше благородие!
— А ну, хорошо, хорошо... шапку подай из тарантаса... шапка моя где? Погляди, там, должно быть, завалилась...
Он занял место на ковре, разостланном перед входом в желомейку, и важно развалился, приготовясь встретить подходящую толпу.
Яркими, цветными пятнами рисовались халаты представителей на бледно-желтом фоне песков. Этот красивый контраст еще более усиливался от сравнения со скромной, серенькой одеждой казаков. Верхушки вышитых золотом, высоких, остроконечных шапок, широкие галуны и шитье халатов сверкали и искрились, залитые лучами восходящего солнца, суровые лица смотрели важно. Киргизы шли, не торопясь, спокойной, степенной походкой, и, подойдя шагов на десять к желомейке, поклонились, положив руки на желудок, произнесли короткое приветствие и сели.
— А, здорово, знакомые все! — весело говорил переводчик. — Ну что, пришлось ждать долго? Что делать, служба. Я вот тоже жду; ну, да сегодня вечером приедет. Эй, там, пошлите казаков бурьяну и колючки нарвать по барханам побольше, чтобы было чем огонь поддержать; неравно подъедет к ночи, чтобы светло было...
— Да ты вот пять часов ждать будешь, а нас пять дней заставил. Все мы должны были бросить... — начал Ибрагим-бай.
— Что?.. Еще скажи спасибо, что только пять. За месяц притяну — все ждать будете...
— Твоя сила!
— То-то моя. Заранее не собрать вас, так потом, когда надо, никого не разыщешь. У тебя сорок кибиток перекочевали к хивинцам, на ту сторону. Чего смотрел?
— А я что могу сделать? — оправдывался старик Измаил-бай. — Наш народ все равно, что птицы: где ему лучше, туда и идут!
— А ты за всех платить будешь. Эту подать на остальных разложу; так и скажи!
— И остальные, пожалуй, уйдут!
— Да ты что-то разговаривать стал много! Я ведь кое-что слышал. Гляди, старый, несдобровать тебе... пришлем казаков в аулы — хуже будет!
— Твоя сила! — лаконично ответил и этот.
— За верблюдов кто в крепость присылал деньги спрашивать? — пытливо посмотрел переводчик прямо в глаза ученого Ахмата.
— Я не от себя, я за своих не требую, другие с меня спрашивают. Ты, говорят, собирал с нас верблюдов казенную крупу перевозить... ты и поди, получай деньги...
— Я им такие деньги заплачу!.. Прошлогоднего захотели? — намекнул переводчик на какое-то событие.
— Сохрани и помилуй Аллах!
— Да вот еще что; из какого это аула... э... гм...
Переводчик замялся; он заметил Ледоколова и Бурченко, подходящих к общей группе.
— Эти? — шепнул он уряднику.
— Они самые! — ответил тот, также шепотом.
— Э, здравствуйте, господа! — раскланялся переводчик, не меняя позы. — Мое почтение...
Ледоколов и Бурченко приподняли фуражки.
— Позвольте отрекомендоваться: переводчик районного начальника, хорунжий Маслак-Бутузов!
Наши приятели назвали свои фамилии.
— Очень приятно. По своим делам едете или имеете какое поручение?
— По своим!
— Интересную страну посетить вздумали; впрочем, с вами, если не ошибаюсь, имел уже случай встречаться в этом крае?
Хорунжий Маслак-Бутузов обратился к Бурченко.
— Да, я уже здесь бывал; может, и виделись где... Генерала поджидаете? Встречу на рубеже, так сказать, устраиваете? Это хорошо!
— Представители туземного населения заявили свое желание видеть его превосходительство. Вот за сколько верст собрались, руководимые единственно... Народ, знаете, признательный, чувствуют... Чаем позвольте просить...
— Благодарю вас, пили, а впрочем...
Все трое уселись на ковре. Казак-уралец приготовлял посуду; туземцы сидели поодаль, полукругом, и молча наблюдали за русскими. Казаки возились, приводя в порядок поблизости станционных кибиток... Синеватые тени в лощинах исчезали мало-помалу, по мере того, как выше и выше подымалось солнце. Начинало сильно припекать. Вся компания перебралась под спасительную тень желомейки.
***
Было далеко за полдень. Жара стояла невыносимая. Шестерик казачьих лошадей, дружно натянув веревочные постромки и уносы, тащил по глубокому, сыпучему песку тяжелый дормез, сверкавший на солнце своими стеклами. Впереди тихонько, чуть-чуть рысцой, шел небольшой казачий конвой; на длинной палке у одного из рыжебородых уральцев трепался красный значок с вышитым наискось белым крестом; казачий офицер, а за ним трубач на прихрамывающей серой лошади ехали у самой дверцы дормеза. В экипаже полулежал старик с седыми усами, в белой фуражке с большим козырьком, и дремал над какой-то немецкой книгой; на передней лавочке сидел молодой офицер-адъютант; судя по его слипающимся глазам и конвульсивной зевоте, от которой он, впрочем, удерживался, его одолевала самая сильная сонливость, но он боролся с ней довольно успешно и ограничивался только тем, что почтительно клевал носом.
За этим дормезом тянулся четвериком еще большой тарантас с фордеком, за ним еще несколько троек и в заключение большая русская повозка форменно-казенного образца с походной кухней. Поезд замыкался еще конной группой казаков, растянувшейся длинной вереницей по пустынной дороге.
Медленно тянулся этот поезд, уныло брякали разнообразные колокольчики, лениво покрикивали казаки-погонщики на своих усталых лошадей. На всех лицах было написано только одно: «Эх, да когда же мы наконец, доберемся».
— А что скоро, брат, станция? — спрашивал генеральский денщик, сидевший на козлах, казака-кучера.
— Не скоро... Вот видите эти мазарки? — Он указал на чуть желтеющие вдали, на высоком бархане, могилы номадов. — Мы мимо них поедем; так когда поравняемся с ними, двадцать три версты еще останется...
— Занесла нелегкая в проклятую сторону! То ли дело у нас в Питербурхе или даже в Польше... прекрасно!
— Известно, степь...
— Степь! — вздохнул денщик. — Прикажете?
Он вытащил из кармана две папиросы; одну закурил сам, другую предложил казаку.
— Мы старой веры... табаку не курим!
— Напрасно; от скуки — первый сорт!
В следующем экипаже две какие-то весьма солидные по виду личности, положив к себе на колени кожаную подушку, играли в штос. Во всех остальных тарантасах поголовно спали.
Долго ехали таким образом. Солнце начало садиться, и красный кровавый свет скользнул по вершинам барханов и ярким пятном отразился на стенах старых гробниц. Поезд проезжал почти у подножья бархана, занятого могилами, и на лиловом фоне вечернего неба резко очерчивались ярко освещенные фронтоны, зубцы и купола своеобразных сооружений.
— Необыкновенно оригинально и эффектно! — заметил старик, выглядывая в окно дормеза.
— Поразительно, ваше п—во! — поспешил согласиться встрепенувшийся адъютант.
— Позвольте... вы ставите угол от дамы, все это насмарку и по рублю очко?
— Да-с, и по рублю очко-с... — доносилось из второго экипажа.
***
Наступила ночь, зажгли фонари, осветилось внутри экипажей. Громадный дормез с ярким рефлектором-фонарем наверху казался в темноте каким то одноглазым чудовищем.
Лошади, освеженные немного ночной прохладой, пошли бодрее и скоро вдали заалелись на горизонте красноватые пятна. Это было зарево костров, зажженных по распоряжению хорунжего Маслак-Кутузова.
Оригинальная, живая картина представилась глазам путешественников, когда усталые лошади остановились на дороге против станционных кибиток.
Шесть громадных костров окаймляли ярко освещенное довольно большое пространство. Посредине стояла желомейка, полы которой были откинуты, и там пестрели полосатые и узорные ковры, тянувшиеся полосой вплоть до самого генеральского экипажа; по одной стороне, вытянувшись в ряд, стояли представители кочевого населения; Измаил-бай и Ибрагим держали в руках блюда, Ахмат стоял, выдвинувшись немного вперед, готовый разразиться речью. Районный начальник и переводчик, оба в мундирах, стояли с другой стороны; за бортом первого торчала аккуратно сложенная бумага. Казаки, сидя на конях, выстроились фронтом по дороге и в третий раз повторяли какое-то приветствие, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме возгласов раз, два и еще чего-то, кончавшегося протяжным ...ством.
Старик вылез из дормеза, коснулся рукой козырька своей фуражки и подошел к туземцам усталой, неловкой походкой, расправляя на ходу онемевшие ноги. Адъютант запутался в дверцах своей саблей и освобождался с помощью денщика.
— Ну, здравствуйте! — произнес старик и ласково взглянул на суровые лица представителей.
Хорунжий Маслак-Бутузов стал около генерала.
— Скажите им, что я приветствую их и желаю им всякого благополучия!
Хорунжий перевел.
— Великомудрый, высокопоставленный, извергающий разум и благочестие... Мы все, униженные рабы твои... — начал Ахмат, замялся, потупился и замолчал.
— Дурак! — шепнул ему по-киргизски переводчик.
Вдруг быстро выдвинулся Ибрагим, взглянул на переводчика, и глаза его сверкнули недобрым огнем.
— Мы ждали тебя, мы слышали, что ты добрый человек и не дашь в обиду тех, над кем ты поставлен! — начал Ибрагим.
— Что он говорит?
— Рады приезду вашего п—ства... — заикаясь перевел хорунжий.
— Прижали нас так, что нам и солнце не в радость, — продолжал, Ибрагим, воодушевляясь все более и более. — С нас берут все, что взять только можно, нам же не дают, чего следует; и не допросимся, а поедешь просить — беды наживешь и на себя, и на весь род свой...
— Целую неделю мы ждем твоего приезда; согнали нас издалека; а дома без хозяев, сам знаешь, как идет дело, — выдвинулся, в свою очередь, седобородый Измаил-бай.
— Голодали мы здесь, лошадей своих поморили...
— Говорит, что живется им хорошо, благодаря начальству, — перебил Маслак-Бутузов, загородив оратора. — Обещают молиться Богу за долгоденствие вашего п—ства и всего семейства вашего...
Из темноты выдвинулся Бурченко и стал шагах в трех от генерала; за ним чернелась борода Ледоколова.
— Хивинские барантачи наедут, беду какую-нибудь на дороге сделают, а мы отвечаем, на нас все свалят, мы, говорят, в степи неспокойно сидим, а мы от тех барантачей больше сами терпим, чем русские караваны! — говорил Измаил-бай.
— Ну, будет же вам беда, погодите! — шептал переводчик.
Районный начальник видел и догадывался, что дело идет скверно, совсем не так, как он предполагал, и стоял весь бледный, с отвислой нижней губой; колени его тряслись и колотились одно о другое. Рапорт о благосостоянии района выскользнул из-за борта и лежал на песке, рисуясь белым четырехугольником.
— Они говорят... говорят, что так довольны, что и сказать не могут, — пустился напропалую хорунжий Маслак-Бутузов. — Они просят только об одном: чтобы милость начальства и вперед была над ними, и что лучше того, что теперь, они и не желают...
— Ну, что вы врете? — неожиданно, как бомба, пробившая потолок, раздался голос Бурченко.
Пристально посмотрел генерал в ту сторону, улыбнулся и произнес
— Подите сюда!
— Я хорошо знаю туземный язык, так же, как и свой; я слышал все, что говорили вот эти... — Бурченко указал на киргизов. — Они приносили вам самые возмутительные жалобы, они говорили не красно, половины, какое! десятой доли не высказали того, что хотели! Позвольте мне заменить теперь место переводчика!
— Кто вы такой?
— Отставной поручик Бурченко, еду по своим делам. Сюда попал случайно!
— Передайте им, что могут ехать с Богом по своим аулам; чтобы ничего не боялись, чтобы впредь все говорили, что им нужно; скажите им, что я пришлю своего чиновника, который разберет все их жалобы и который им никакого зла не сделает!
Бурченко передал депутатам слова генерала. Все просияли и вдруг все разом повалились в ноги.
Один из тех чиновников, что ставил по рублю очко, притащил из тарантаса довольно тяжелую шкатулку и начал ее отпирать. Два казака принесли из другого экипажа большой чемодан с почетными халатами.
Каждому из киргизов надет был на плечи цветной халат с галунами и дана медаль на красной ленте. Халаты оказались малы и висели на дюжих плечах представителей словно гусарские ментики; бронзовые медали так ярко, так приветливо блестели, и блеск этих медалей, казалось, отражался на просветлевших лицах наивных кочевников. Они были счастливы совершенно, они забыли о всех своих невзгодах и действительно с каким-то благоговением смотрели на старика генерала.
— Лошади готовы, ваше п—ство! — гаркнул сзади начальник конвоя.
— Я надеюсь еще видеть вас! — отнесся старик к Бурченко. — Передайте же им, чтобы ехали себе с Богом! — еще раз повторил он и, не обращая внимания на районного начальника и его толмача, сел в дормез.
Поезд тронулся и, мало-помалу, исчез во мраке, мигая изредка вдали красноватыми точками фонарей.
Киргизы быстро отошли к колодцам; вслед за ними пошли Ледоколов и Бурченко... Некоторое время раздавалась хриплая ругань начальника района.
Всю ночь ликовали на колодцах обнадеженные депутаты. Бренчали струны сааза, гудел невесть откуда явившийся бубен, и слышались громкие торжествующие возгласы.
Последняя царственная овца была зарезана, и два киргиза, засучив рукава халатов, возились около дымящейся туши, выгребая на песок окровавленные внутренности животного.
— Эх, кумыс весь вышел, беда! — пожалел корявый Гайнула. — Ты вот к нам в аулы приезжай, такого кумысу тебе дадим, что во всей степи не найдешь лучшего! — приглашал он Ледоколова.
— Да вам, все равно, по пути. Мы вас на своих верблюдах повезем отсюда! — говорил Ибрагим. — Скорей, чем по русской дороге приедете!..
— А вы от крепости подальше; в приречном кургане как бы вам худа какого не сделали! — заботливо предупреждал Ахмат.
— Сами не дадимся в обиду! — похвастался Бурченко.
— А мы было боялись жаловаться... Особенно, как вы с толмачом чай пили вместе... Ахмат говорил нам: смотрите, берегите ваши головы!..
— Мы думали, ты подослан к нам! — вставил Измаил-бай.
— А уж как толмач обругал нашего Ахмата, злость меня разобрала такая, за горло готов был ухватить его! — говорил Ибрагим.
— Ну, теперь, да будет над ним милость пророка, для нас настало хорошее время!
— Я полагаю, они правы, ожидая лучшего будущего! — сказал Ледоколов.
— Вашими-бы устами да мед пить, а за неимением меда хватим чайку с ромком. Эй, тамыр, ставь-ка к огню поближе наши чайники!
На рассвете только угомонился бивуак, и то ненадолго: надо было вьючить верблюдов и готовиться к отъезду по своим родным аулам.
И к полудню опять все мертво и тихо было в песках, даже казаки станционные уехали вместе с переводчиком. Только киргизенок, лет четырнадцати, сидел на корточках в тени желомейки и глядел вдаль, где на вершине песчаного наноса взвился кверху винтообразный столб мелкого песку, перенесся на другой, соседний нанос, оттуда еще ближе, затих было, потом опять взвился, переполз к самой станции и, подхватив клочок какой-то бумаги да несколько папиросных окурков, покружился немного на месте и распался, обдав киргизенка мелкой песчаной пылью.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I Негоцианты
В комнате был приятный зеленоватый полусвет: солнечные лучи, врываясь в открытое итальянское окно, должны были пройти сперва сквозь кисею, намоченную водой, пробраться между вырезными листьями экзотических растений и, вследствие этих преград, вместо жары вносили с собой самую живительную, ароматную прохладу.
Завтрак был сервирован роскошно. Стеклянный кувшин, налитый до краев шампанским, стоял во льду; сквозь грани стекла краснелись ломти нарезанных апельсинов. Голубоватое пламя спиртовой лампы чуть-чуть облизывало дно другого серебряного кувшина с красным вином, — не местным, первушинским, а настоящим лафитом, выписанным из Нижнего Новгорода. Такие же спиртовые конфорки подогревали блюда с превосходными котлетами из мяса горных куропаток и фазанов; над разнообразнейшим и самым пикантным hors d'oevre возвышались графинчики с водками и ликерами всевозможных цветов и наименований.
Завтракающих было двое: гость, Станислав Матвеевич Перлович, весь настороже, весь олицетворенное «берегись», немного постаревший с тех пор, как мы его видели последний раз на похоронах Батогова, запустивший себе американскую бородку, изжелта-рыжеватую, с проседью, весь в белой парусине... Даже его английские ботинки были сшиты не из кожи, а из чего-то беловатого, мягкого, эластичного, так что когда он встал и прошел за чем-то через всю комнату, его шагов не было слышно, даже там, где бархатистый туркменский ковер не покрывал квадратных плиток кирпичного пола.
Станислав Матвеевич держал себя очень развязно, несколько фамильярно, что называется по-товарищески... по крайней мере, ему очень хотелось так себя держать.
Хозяин, Иван Илларионович Лопатин, несколько обрюзглый, плотный господин, лет, что называется, «за сорок пять», гладко обритый, в синих очках в золотой массивной оправе, сидел лениво, говорил сквозь зубы, протягивая слова и не выпуская сигары, жестикулировал округленно, мягко, относился к своему гостю с самой изысканной предупредительностью и вообще имел вид человека, совершенно довольного своим положением, ничего не желающего лучшего.
Маленький скорпион, выползший, вероятно, из-под корзины с виноградом, быстро побежал по столу, наткнулся на банку с анчоусами, бросился вправо и погиб, приплюснутый тяжелым портсигаром Лопатина.
Это было единственное энергичное движение Ивана Илларионовича во время всего завтрака.
— Только при полной, честной поддержке друг друга возможно здесь развитие наших торговых интересов! — докончил что-то Перлович и немного покраснел.
Ему показалось, что губа хозяина как-то странно улыбнулась. Впрочем, это, может быть, был случайный отблеск от графина, придававший физиономии Лопатина несколько насмешливое выражение, потому что, когда Перлович вторично взглянул на своего собеседника, то он уже смотрел совершенно спокойно, почти сонливо, и, заметив, что Перлович протянулся за честером, предупредительно пододвинул ему тарелку.
— Только при полной поддержке ... — повторил Станислав Матвеевич.
— Ну, конечно, только при полной поддержке! — согласился Иван Илларионович.
— Каждое дело тогда только может достигнуть серьезных результатов, когда его детали разработаны специалистами. Сжаться, сконцентрироваться в одних руках все не может!
— Еще бы, это совершенно понятно!
— Да, а вот подите же: все эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компания не могут понять этого...
— Ну, это такая все мелочь, маркитанты какие-то!
— Один другого подрывают, портят друг другу каждое предприятие, интригуют, искусственно сбивают и повышают цены!
— Э... хм!..
Опять что-то странное скользнуло по лицу Лопатина.
— Ну, результаты очевидны, — продолжал Перлович, почему-то вдруг понизивший тон. — Всеобщий торговый застой, пустота наших рынков...
— Да, вот, например, крупная фирма Хмурова (она рушилась еще до моего приезда): я уверен, что главным образом тут повлияли те причины, которые вы сейчас высказали!
— Между прочим они... но...
— Вы позволите?
Лопатин снял кувшин с вином и налил стакан своего гостя...
— Да, я вам, кстати, хотел сообщить, так сказать, объясниться по поводу той последней неприятности, невольной, впрочем, совершенно невольной... это я говорю насчет подряда на крупу и перевозку тяжестей караванным путем. Вы на меня, вероятно, не будете в претензии, если узнаете, в чем дело!
— Я уже знаю, — произнес Перлович, — и вы видите, я теперь у вас, — значит, о неудовольствии моем не может быть и речи!
— Я так и думал. Я ничего решительно не знал... Присылают ко мне спросить цены, по каким бы я мог взяться за то и другое; я сказал; вдруг — бац! Узнаю, что вы еще прежде меня назначили большие. Я хотел отказаться, но нельзя было: губернатор настаивал... вы понимаете сами...
— Понимаю. Я здесь потерял около десяти тысяч, это самое меньшее!
— Мне предлагали другой подряд еще, но я ни за что не возьму его и предоставляю его вполне и нераздельно вам. Остальные конкуренты вам не страшны... вот разве...
— Я назначил цены крайние, какие только возможны; за пределами этих цен — убыток... Верьте вы моей пятилетней опытности...
— Удивительно, я был даже поражен, прочитав в интендантстве ваше заявление. Такая дешевизна!
— А вы его разве читали?
Перлович вздрогнул и задвигал креслами.
— Случайно!
— Я вот именно по поводу этого и хотел переговорить с вами... Мы составляем здесь главную силу... Подорвать эту силу можем только мы сами же. От нас же зависит, чтобы эти силы удвоились, удесятерились... даже более того...
— Я понимаю; вы мне предлагаете союз?
— Не совсем, а добросовестное, братское разделение по специальностям, — именно то разделение, о котором я вам говорил как-то на прошедшей неделе в караван-сарае и сегодня, при начале завтрака!
— Я вполне соглашаюсь с вами и принимаю ваше предложение...
Лопатин протянул через стол свою широкую ладонь, Перлович протянул свою. Над остатками блюда с котлетами совершилось дружественное рукопожатие.
— Вот, например, вы затеваете в обширных размерах улучшение местного шелководства...
Лопатин приподнял брови и отделил несколько свою спину от задка кресел.
— Выписываете машины, специалистов...
— Вы это почему знаете?
— Случайно!
— Гм...
— Наконец, дело само так велико, что приготовлений к нему скрыть невозможно...
— Особенно, принимая в расчет вашу пятилетнюю опытность!
— Хотя бы и так. Я сейчас же поставил себе непременным долгом не мешать вам в этом ни прямым путем, ни косвенным... Я даже прекратил работы на своих ходжентских шелкомотальнях!
— Но, кажется, они и без того не пошли бы у вас, по другим причинам?
— Могли бы пойти; но я прекратил, и прекратил их с единственной целью предоставить эту промышленную отрасль безраздельно вам!
— Это очень любезно и великодушно!
Обе руки опять соединились, только ниже, так что парусиновый рукав Перловича запачкался в красноватом соусе котлет.
— Это только выгодно для меня, потому что я рассчитываю на подобную же услугу с вашей стороны!
— Весьма практично. Мне остается только позаботиться, чтобы ваши расчеты сбылись!
— С такими средствами, как у вас, и с вашим знанием дела... — начал Перлович.
— С такой предприимчивостью и опытностью, как ваша, — перебил его Лопатин, — дела каждого из нас могут пойти блистательно!
— Конечно; и от нас же зависит, чтобы дела наши лопнули окончательно (видите, как я откровенен): стоит только нам придерживаться той подрывной системы, которой держатся все эти Захо и прочие...
— Итак...
— Итак, я очень даже рад, что случилось это недоразумение: я говорю о перехваченном вами моем подряде!
— Перехваченном... гм! Это выражение не совсем верно!
— Как бы то ни было, но это подало повод к теперешнему нашему объяснению, результатом которого я более, чем доволен!
— Я тоже!
Собеседники помолчали несколько минут. Лопатин по временам исподлобья взглядывал на своего гостя. Перлович наблюдал за хозяином, выглядывая из-за корзины с фруктами.
Синий дым от сигар тянулся над столом и слегка колебался, поднимаясь все выше и выше к штучному потолку в туземном вкусе. С улицы доносился стук экипажей, топот верховых, выкрикивание мальчиков-таджиков, торговцев фруктами и разными сластями. Перловичу показалось, что хозяин начал дремать, по крайней мере, он заметил чрезвычайно продолжительный кивок его головы. Он поднялся со стула.
— Надеюсь, мой уважаемый Иван Илларионович, что как-нибудь и вы соберетесь ко мне запросто позавтракать. Я всегда дома от трех часов до шести!
— Непременно, непременно, — поднялся тоже Лопатин, — буду... вероятнее всего, завтра же буду; мне тоже хотелось бы присмотреть себе место для дачи в вашей стороне. Вы мне дадите кое-какие указания?
— С удовольствием... Итак, до завтра!
— Я велю сейчас подать вашу лошадь... Эй! Федот! Максим! Кто там?
Приказчик в длинном сюртуке, остриженный в скобку, вынырнул из боковой двери.
— Лошадь господина Перловича... Вы верхом? Как это хорошо! Как это полезно! А вот я, так нет; пробовал: тяжело, знаете, в мои лета...
— Ничего, привыкните; здесь это в обыкновении, да во многих случаях и нельзя иначе... Прощайте!
— До свиданья, до свиданья!
Лопатин проводил своего гостя на крыльцо, посмотрел, как тот садился на лошадь, похвалил эту лошадь, раскланялся еще раз, даже послал воздушный поцелуй отъезжающему Перловичу и вернулся в свой кабинет.
«Ишь, подъезжал как, а, должно быть, большой руки мошенник!» — подумал он, глядя на кресло, где только что, сидел Станислав Матвеевич.
«Хитрит, собака!» — думал Перлович, рысью переезжая городскую площадь и взглянув издали на высокие трубы лопатинского дома.
II В приемной у губернатора
— Если вы, господа, не боитесь сквозного ветра, то я распоряжусь сейчас, чтобы отворили окна! — произнес дежурный адъютант, сделав общий поклон и вытирая себе лоб и шею носовым платком.
Он был в мундире, застегнутом на все пуговицы, что в такую жаркую погоду было очень и очень неудобно. «Господа», стоявшие по углам и у круглого стола, занимавшего середину залы, тоже были в мундирах и тоже страдали от жары. Они находились в нескрываемом волнении: они ждали, и это ожидание так и высказывалось в их взглядах, хотя и перебегавших для виду с одного предмета на другой, но все-таки упорно останавливавшихся на одной и той же точке. Этой точкой была головка бронзовой дверной ручки, в виде орлиной лапки, державшей полированный шарик.
Было мгновение, что этот шарик дрогнул и запрыгал. Все затихло мгновенно и словно вросло в квадраты и треугольники дубового паркета; но тревога оказалась напрасной: дверная ручка перестала прыгать, и все опять погрузилось в томительное, тоскливое ожидание.
— Я полагаю — отворить; знаете, это очистит воздух! — вкрадчивым полушепотом ответил массивный штаб-офицер, комендант какой-то отдаленной крепостцы, вызванный для объяснений из своей трущобы.
Три молодых офицера ловко поклонились, что означало их полное согласие. Старичок в мундире гражданского ведомства поежился и отошел в сторону, где, по его расчету, не мог коснуться до его подвязанной щеки предательский сквозной ветер. Прочие сделали вид, что не слышали вовсе адъютантского предложения; только угреватый интендантский чиновник значительно произнес:
— Будет ли это приятно его превосходительству?
Адъютант распорядился.
В приемную губернаторского дворца в отворенные окна ворвался целый поток ароматного воздуха; из сада несло смолистым запахом молодых почек, свежевзрытой земли, свежестью арыка Бо-су, бойко бегущего по дну оврага.
— Ух, хорошо! — послышался чей-то довольный возглас.
— Тс, тс!
Адъютант приложил ухо к таинственным дверям, пожал плечами и отошел.
— Долгонько изволят беседовать с этим господином! — таким же полушепотом обратился к нему массивный комендант.
— Да, уже час скоро! — не глядя на последнего, проворчал адъютант.
— Кто такие-с?
— Новый купец, Лопатин, Иван Илларионович! — выдвинулся поближе интендантский чиновник.
Легкий стук колес рессорного экипажа ровно и плавно катился по шоссе, повернул направо, прогремел по мостику, зашуршал по крупному песку, которым была усыпана площадка перед подъездом дворца, и остановился. Слышно было, как фыркали лошади, как чьи-то шаги вбежали на крыльцо.
— Перлович! — сообщил один из присутствующих, узнавший коляску, шагом отъезжающую от подъезда.
— Что бы это значило, как вы полагаете? — обратился к своему соседу интендантский чиновник.
— Вызвали, может быть?
— Ну, нет! Я список на сегодняшний день видел: его нет!
— Так, может, какое дело есть!
— Гм, дело... нет-с, не то!
— Я вам доложу, — осторожно подобрался к разговаривающим старичок в гражданском мундире. — Совсем тут другая причина. Э... хм... Станислав Матвеич, мое почтение, как ваше здоровье?
— Здравствуйте, здравствуйте! — говорил скороговоркой Перлович. — Что, его превосходительство может меня принять? — обратился он к дежурному адъютанту.
— Подождите, я доложу. Там теперь...
— Кто там, кто?
Станислав Матвеевич отлично знал кто, потому что успел уже осмотреть всех присутствующих и знал, кого недостает.
— Разбирает! Хе-хе, — шептал старичок интендантскому чиновнику, — страшно стало!
— Вы не знаете, по какому делу приглашен был Лопатин? — спрашивал Перлович адъютанта, отведя его несколько в сторону.
— А, право, не знаю!
— Ну, ну-же... говорите, барон... ну!?
— Да ей-Богу же!
— Давно он там?
— Уже с час скоро. Сейчас я пойду доложу об вас...
— Ах, пожалуйста!
Станислав Матвеевич отошел к окну и стал смотреть в сад... Он был во фраке, со складной шляпой в руках.
Он был несколько взволнован, узкие брови его нервно подергивались, пальцы коверкали лайковую перчатку.
— И вот они теперь все друг под друга подкапываются! — шептал старичок, косясь то на спину Перловича, то на дверь, ведущую во внутренние апартаменты.
— А с виду-то какие приятели... Я вчера слышал, под руку прогуливаются по балкону и разговаривают, комплименты так и сыпят, так и сыпят!
— А сами так и норовят пакость какую-нибудь сделать друг другу!
— Да, вот тот теперь, то есть, готов душу прозакладывать, там мины подводит, а этот контр-мины обдумывает!
Перлович быстро обернулся, прошелся по зале, остановился перед дверью, переложил шляпу из-под одной мышки под другую, сел на стул, но тотчас же опять вскочил и начал прохаживаться.
— Ну, что? — бросился он к адъютанту, вернувшемуся в приемную.
— Ничего не сказал. Я подождал, сколько мог, и ушел!
— Э-эх!
— Генерал сам сейчас выйдет... Да вот, кажется, идет уже. Господа, прошу по местам!
Все задвигалось, прокашлялось и затихло. Перлович выдвинулся вперед и заслонил собой старичка в мундире.
— Э-э-э, позвольте...
— У вас шарф расстегнулся! — шепнул адъютант одному из молодых офицеров.
Все руки сразу начали ощупывать свои шарфы.
В отворенных дверях показалась сперва широкая спина Лопатина и фалды его фрака с торчащим кончиком платка, а за этой фигурой блеснул шитый воротник и красный лампас.
— Благодарю вас, очень благодарю! — говорил генерал,
— Помилуйте, ваше превосходительство!
— Очень, очень вам благодарен!
— Вы слишком добры, ваше превосходительство!
— Не ко всем, нет, не ко всем. Да, наконец, тут личность совершенно не причем; главное — польза края, успех нашего дела. А я, со своей стороны, все, что могу, что только в пределах моей власти!
— Конечно, ваше превосходительство, всегда найдутся люди, готовые, так сказать, подставлять ногу всякому благому начинанию!
— Я вас понимаю!
— Итак, ваше превосходительство...
— Все, что я вам уже обещал. До свиданья!
Генерал протянул руку Лопатину, тот подержал ее несколько мгновений между своими ладонями, еще немного попятился и, весь сияющий, прошел через приемную.
Он хорошо заметил Перловича, но сделал вид, что не заметил его вовсе.
Дверь во внутренние апартаменты снова закрылась, к недоумению всех присутствующих.
— Могу я теперь войти? Мне так надо! — говорил Перлович адъютанту.
— Пойду, еще раз спрошу!
— Завтрак накрывают на террасе!.. — сообщил кто-то, заглядывая в окно, выходящее в сад.
— Генерал благодарит и просит записаться, — появился в дверях адъютант. — А вас, Станислав Матвеевич, он принять сегодня не может!
— Но почему же?!
— Не знаю, он сказал только: Перловичу скажите, что я его принять сегодня не могу, больше ничего!
— Прощайте, барон!
Перлович быстро повернулся, закусил губу и вышел.
— А подрядец за ним-то, пожалуй, не состоится! — подмигнул вслед отъезжающей коляске Перловича интендантский чиновник.
— Вчера приезжал — тоже не принял. В совет подавал — придержали, а тот цены сбавил... немного, а сбавил! — сообщал старичок, садясь в свои дрожки.
— Провалится...
— Вот это уж второе дело у него перебивают; да какое дело!.. Вы куда теперь?
— К Лазоркину: у него Манюся его именинница, звал на пирог!
— Довезите и меня!
Интендантский чиновник забежал с другой стороны и полез в экипаж.
— Такая, я вам доложу, баталия открывается между нашими коммерсантами — беда!
— Ну, тот тоже себя за горло взять не позволит. Эй, налево в переулок!
Свернув налево, дрожки с двумя седоками скрылись за узлом большого сараеподобного здания, над входной дверью которого красовалась надпись:
«Вновь открытые московские бани, с отдельными номерами, с мужской и женской прислугой».
III Розовые мечты
Возвращаясь домой от губернатора, Лопатин находился в самом оживленном настроении. Присутствие Перловича в приемной его несколько смутило, но он скоро оправился и, развалившись в своей коляске, насвистывал какой-то веселенький мотивчик.
«Вот и второй подряд у него из зубов, так сказать, выхватываю», — думал он и нежно поглаживал серебряный набалдашник своей палки, голову бульдога в треугольной шляпе.
«Верьте моей пятилетней опытности... хе-хе! — усмехнулся он, припоминая недавнее посещение Станислава Матвеевича. — Опытности... Нет, брат, нам делить с тобой нечего, не с руки, не приходится. Или я все заберу в свои руки, или ты попробуй утопить меня, коли сможешь. Да-с! Потягайся-ка!»
Плавно катилась покойная коляска по новому городскому шоссе. Ряды тополей, окаймляющие улицы, шелестели своей серебристой листвой, приятный ветерок ласкал и нежил несколько вспотевшую лысину Ивана Илларионовича.
Он держал шляпу в руках и прикрыл голову тонким белым фуляром. Он уже успел освоиться с некоторыми местными приемами и привычками.
— Повернешь вокруг крепости, проедешь на Бешь-агач, оттуда мимо губернаторских дач к Салару! — приказал он своему кучеру из бессрочноотпускных стрелков.
Иван Илларионович снова погрузился в размышления и воспоминания:
«Ну, что бы он теперь делал в Москве, в Петербурге или там, в Нижнем, где он заканчивал свои последние торговые операции?.. Кто говорит, состояние, которым он обладал, довольно крупных размеров, дела его были немаловажные, но все это терялось как-то, стушевывалось в массе еще более крупных оборотов... никому в глаза не бросалось... ну, положим, знали на бирже, на рынках там, что ли, что есть, мол, Лопатин купец... ну, и только! А тут... ха-ха! Звезда первейших размеров; обширнейшие палестины для всяких торговых оборотов. Действуй только! А что главное: это известность. У губернатора принят».
И вот перед Лопатипым, в клубах шоссейной пыли, стали проходить все мельчайшие подробности аудиенции.
«Вот Хмуров, например, человек уже совершенно пустейший: авантюрист и больше ничего, а каково пошел, каково! Европейская известность. От иностранных держав орденские украшения получал. Портрет вон во „Всемирной Иллюстрации“ напечатан был: сидит это в русском кафтане, тигр лежит у самых ног, значит, в полном повиновении».
Иван Илларионович приложил палец ко лбу и почесал за ухом. Он соображал: какого и ему бы завести зверя. Разве опять тигра, — страшно!
«Непременно, — подумал он, — как увижу Скворцова, спрошу у него, что он посоветует».
Вот придут его караваны, машины привезут. Перекупит он у Перловича его остановленную фабрику, увеличит ее, настроит того и сего... Шелководство заведет такое, что ух!.. Тут выводят червей, там собирают коконы, морят их, разматывают, моют, сушат, красят... Паровой двигатель так и работает... материалу не хватает — собирай, ищи, стаскивай отовсюду, у всех отнимай, души эту торговую мелочь... все в одни руки...
У него даже началась легкая одышка. Он расстегнул жилет и ослабил узел белого галстука.
Открываются непосредственные сношения с Лионом, с Италией... туда он отправляет шелк в сырье... Непрерывные цепи верблюдов тянулись от Ходжента чуть не до самого Оренбурга. Отсюда ему шлют готовые ткани. В Петербурге, в Москве, во всех городах российских обширнейшие склады... Цены понижаются, иностранные фирмы трещат, не выдерживают конкуренции, лопаются одна за другой...
«Иван Илларионович Лопатин!» гремит во всех углах его имя. Он едет по Европе — прием, почет, удивление.
«Legion d'honneur», «Льва и солнца», «Honni soit, qui mal у pense», постой, какие еще есть ордена?! И все это на шее, от одного плеча до другого, звенит, блестит, колышется...
— Возьми вправо, коляска, вправо, скорей! — кричит молодой, сильный голос.
Глухой грохот, оглушительное шипящее шуршание шоссейного камня несется навстречу. Штук пятнадцать разномастных лошадей, перепутанных по всем направлениям веревками, тащат какую-то чудовищную, дробящую машину — каток. Молодой офицер-сапер, верхом на высокой белой лошади, чертом вертится в клубах шоссейной пыли, заскакивает справа, слева, сзади, спереди...
— Нахлестывай, нахлестывай! Чубарого жарь!.. Передняя тройка, чего замялась?.. Ай-ай-ай-ай!.. Гайда, гайда! Ух-ух!.. Ну, еще, ну, разом!
Щелкают нагайки по крупам выбивающихся из сил лошадей, свистят и гикают осипшие голоса саперных солдат.
— Гей, гей! Гони, гони!.. Ах, черт тебя дери!..
Каток остановился.
Чуть-чуть стороной объехала коляска Лопатина всю эту оживленную массу.
— Здравствуйте! — любезно раскланялся Иван Илларионович, узнав знакомого ему офицера. — Работаете?
— Укатываю... идет отлично!
— Скоро кончится постройка шоссе?
— О, да; раньше назначенного срока, гораздо раньше. Этот каток я сам устроил, Он ужасно тяжел, зато действует отлично… И как все это мне дешево стало!
— Будто бы?
— Да как бы вы думали? Эта вот линия шоссе до самого того угла...
Сапер указал концом нагайки, до какого именно угла.
— ...обойдется мне на четыре с половиной тысячи дешевле ассигнованной суммы. Какова экономия!
— Превосходная! Для начала это очень недурно. Что же вы думаете делать с этой экономией?
— Как что? Представить ее по назначению!
— Чего-с?
— Или предложить устройство плиточного тротуара, хоть по главной линии...
«Вот оригинал!» — подумал Лопатин. — Да вы бы лучше ее сюда... эту экономию-то...
Иван Илларионович сделал выразительный жест рукой.
— Ну-ну-ну! Нечего брови хмурить, вы видите, я шучу... Ко мне заезжайте почаще... без всякой церемонии...
Легкий кабриолет, запряженный кругленьким белым иноходцем, подъехал с другой стороны; в нем сидела красивая барыня и, привстав немного, высматривала: где бы ей удобнее было пробраться. Остановившийся каток со всеми своими лошадьми и лопатинская коляска совершенно загородили дорогу.
Из-под полей овальной соломенной, шляпки выбивались пряди темных, вьющихся волос, слегка напудренных шоссейной пылью, и сверкали веселые, оживленные глазки; на ее щеках так и пылал бархатистый румянец, который чрезвычайно шел к темноватому цвету ее смуглой кожи. Впрочем, эта смуглость была следствием загара, потому что когда ветер колыхнул и откинул ее кружевную косынку, то округленное, обнаженное плечико наездницы так и кинулось в глаза Ивана Илларионовича своей матовой белизной.
— Господа, вы совершенно заняли весь проезд! Я не могу выбраться! — произнесла красавица, придерживая свою лошадку и вглядываясь сквозь пыль: «Кто это такой сидит в коляске?»
«Ай да барынька!» — мелькнуло в голове Лопатина.
— Марфа Васильевна! Я сейчас вам очищу дорогу, сию минуту! Эй! Продвинь вправо! Осади лошадей! Вот так! — распоряжался сапер, ринувшись на выручку барыни в кабриолете. — За мной, Марфа Васильевна!
Наездница тронула своего иноходца концом бича и поравнялась с коляской Ивана Илларионовича.
Лопатин поклонился.
— Bonjour! — кивнула головкой Марфа Васильевна.
— Катаетесь? — вторично раскланялся Иван Илларионович.
Он познакомился уже с ней как-то недавно, на балу в Мин-Урюке, и даже заплатил за ужин, за которым председательствовала красавица, окруженная своими поклонниками.
— И вы тоже, кажется? — улыбнулась она и очень ловко, совершенно, впрочем, нечаянно, выставила свою ножку, обутую в маленькую красную туземную туфлю с острым, несколько загнутым носком.
Ветерок и тут оказал помощь невинному кокетству Марфы Васильевны, колыхнув ее юбки. Красивая округлость ее ног, несколько повыше щиколотки, выказалась в полнейшем блеске.
— Что же это вы не верхом? Вы такая любительница, сколько я знаю! — заметил Лопатин.
— Прокофьев! Ты, кажется, куришь? Давай огня... живо! — крикнул сапер, заметив, что Марфа Васильевна вынула портсигар.
— Ах, с моим седлом случилось несчастье. Оно такое старое и все развалилось. Я посылала чинить, говорят: не стоит!
— Надо новое выписать!
— Это так долго. Я видела одно в магазине у Захо, но он просит так дорого.
— Э!.. Хм!.. — замялся было Лопатин.
— Какая у вас славная коляска, лучше, чем у самого губернатора. Merci!.. — обратилась она к саперу, слезшему с лошади и подошедшему к ее кабриолету с дымящейся солдатской трубкой.
— Я к вам сегодня чай приеду пить вечером... можно? — спросил тот, смахивая платком какого-то мохнатого червяка, взобравшегося на платье Марфы Васильевны.
— Конечно, можно; даже должно... Только смотрите, если вы собираетесь ухаживать за мной, то берегитесь: я знаю ведь, кому надо на вас насплетничать... До свиданья!
Дорога перед кабриолетом была расчищена. Наездница щелкнула вожжами и промелькнула, скрывшись за поворотом.
Коляска тоже поехала дальше; массивный каток снова завизжал, загремел и зашуршал, дробя шоссейный камень.
И вспомнилась Ивану Илларионовичу другая пара таких же чудных глазок, таких же стройных ножек, мелькавших в вальсе из-под длинного газового шлейфа... Вспомнился голосок ее, звонкий, нежный, так и проникающий в душу; ее ротик, складывающийся в капризную, своенравную гримаску.
— Пошел домой! — глубоко вздохнул он.
— Чего-с? — обернулось к нему обрамленное бакенбардами лицо отставного стрелка-кучера.
— Домой! — крикнул он громко, откинулся в глубину экипажа, вынул из бокового кармана бумажник, отыскал там какое-то письмо, развернул его и стал перечитывать.
Письмо это получено было еще накануне. Оно было от Катушкина. Иван Демьянович извещал своего патрона о том, что г-жа Брозе и «их дочка» благополучно и в добром здоровье прибыли в Казалу и там сели на пароход «Арал», где он нанял им отдельную каюту. Сам же он лично остался в Казале и даже предполагает проехать назад до Уральского укрепления, так как никаких сведений о движении каравана с машинами и товаром он еще не имеет, и это повергает его в немалое сомнение. Если же что узнает определенного, то уведомит тотчас же. Г-жа Брозе, по его расчету, должна прибыть в Чиназ к двенадцатому июля, даже, может быть, раньше, если ничто не задержит плавания парохода.
— Это значит, — рассчитывал Иван Илларионович, — дней через пять надо послать в Чиназ экипаж, или же, что самое лучшее, поехать самому и там дожидаться прибытия парохода... Однако, это хорошо, что я поспешил отделкой комнат...
Далее сообщал Катушкин, что Перлович, через своих агентов, скупил весь спирт, находившийся в фортовых складах, и грузит его на баржи... Цену на крупу и муку поднял на двадцать процентов, а пшеницу в Казале законтрактовал еще на корню; и как бы, вследствие сих его действий, не причинилось бы какого вреда относительно последнего подряда, ибо агенты его, то есть Перловича, действуют крайне быстро и небезуспешно.
«Погоди, брат, я тебе крылья-то пообломаю! — думал Иван Илларионович. — Ишь, ты, гусь каков, как я погляжу!»
Он вспомнил дружеские рукопожатия над остывшим блюдом с котлетами.
Затем Катушкин просил выслать в Казалу денег и, сколь возможно, не замедлить высылкой. Заканчивалось письмо всякими добрыми пожеланиями, кои шлет ему по гроб верный, вечно обязанный слуга его, Иван Катушкин.
***
— Лошадей выводи хорошенько, хомуты оботри насухо и смажь! — распорядился Лопатин, вылезая из коляски.
Он прошел через двор, поднялся на террасу, задрапированную полосатым тиком, вынул ключ из кармана и отпер дверь, украшенную мелкой азиатской резьбой по темному карагачу.
Он вошел в помещение, предназначенное для г-жи Брозе и Адели. Все здесь было обдумано и приспособлено к своему назначению. Пол приемной был устлан ковром, вдоль стены тянулись упругие низенькие диваны с подушками-валиками в турецком вкусе; в углах и перед диванами стояли столики, на них китайские вазочки с цветами, курительницы, пепельницы и разные безделушки; по стенам были развешены картинки довольно пикантного свойства; фигурные, золоченые рамы так красиво обрисовывались на шелковистом фоне узорного адрасса,[5] которым были обиты стены комнаты. Большой матовый фонарь спускался с потолка как раз над серединой круглого стола. Прямо была широкая стеклянная дверь, ведущая на террасу, в сад, направо дверь в спальню Фридерики Казимировны, налево — в спальню Адели. Из этой последней спальни еще вела куда-то небольшая дверь; она была заперта и даже заставлена большим трюмо, так что с первого раза ее даже невозможно было заметить.
В комнатах было немного душно и пахло розами, горьким миндалем и мускусом. Иван Илларионович открыл окна, велел подать себе платье и переоделся из фрака в летний костюм, весьма напоминающий те балахоны, что носят американские плантаторы. Затем он развалился в покойном качающемся кресле и опять принялся мечтать. Иван Илларионович сегодня находился в каком-то особенном, мечтательном настроении.
На письменном столе, в темной бархатной раме, стоял превосходный акварельный портрет будущей обитательницы этой комнаты. Лопатин не спускал глаз с этого портрета.
И вдруг вспомнилась ему сегодняшняя встреча на шоссе. Сходства много, очень много; те же насмешливые, задорные глазки, та же улыбка, даже голос...
— Кушанье на столе. Господин там какой-то дожидается! — показался в дверях кудреватый парень в поддевке.
— А, что такое?
Лопатин точно проснулся, протер кулаком глаза и даже потянулся.
— Кто там такой?
— Не могу знать: впервой вижу; одежа невоенная!
— Ну, сейчас выйду. Попроси в гостиную... или нет, постой, зови лучше наверх!
Парень скрылся за дверью, а Лопатин стал поправлять перед трюмо свой костюм, пришедший немного в беспорядок. Потом он зашел за трюмо, щелкнул там чем-то и более оттуда не показывался.
Он теперь находился уже в своем кабинете и оттуда слышен был только его голос, отдававший какие-то приказания.
***
В ту же ночь Марфа Васильевна, вернувшись довольно поздно, почти перед рассветом, к себе домой, нашла посреди комнаты ящик довольно больших размеров, на крышке которого ясно значилось, что посылка эта предназначалась именно ей, а не кому другому.
В ящике оказалось прекрасное новое дамское седло со всеми принадлежностями.
Марфа Васильевна улыбнулась и подумала: «Хорошо бы, если бы за седлом последовала лошадь, а там...»
— Набрюшников, вы можете теперь ехать домой! — обратилась она к казачьему офицеру, сопровождавшему ее и принимавшему самое деятельное участие в раскупорке ящика. Теперь он стоял посреди комнаты в выжидательной позе.
— Марфа Васильевна! — захлебнулся было Набрюшников.
— Что вы?
— Здесь, на пороге вашей двери, я готов провести всю ночь...
— Хорошо, только выйдите прежде и позвольте мне запереть дверь на ключ!
И она хлопнула дверью как раз перед носом опечаленного кавалера.
Марфа Васильевна начала раздеваться, а Набрюшников сел на свою лошадь и шагом поехал по узкому переулку.
IV Бурченко и его предложение
— Кто там такой — взглянуть разве, кого это Господь посылает?
Лопатин отдернул немного дверную драпировку и посмотрел в образовавшуюся щель.
Там стоял Бурченко и, заложив руки за спину, рассматривал арматуры из азиатской сбруи и оружия, развешанные по стенам комнаты.
«Личность новая, не видал никогда! — подумал Иван Илларионович. — По какому бы это делу?»
— Здравствуйте! Чему обязан вашим посещением? — громко произнес он, выходя из своего кабинета.
Бурченко обернулся.
— Отставной капитан Бурченко, позвольте отрекомендоваться, — произнес он, — а пришел к вам по делу, и если вы можете уделить мне часок времени, то с позволения вашего...
— Вы обедали?
— Позавтракал довольно плотно и очень даже недавно.
— Ну, жаль! — пожал плечами Иван Илларионович. — Я, видите ли, очень проголодался и намерен сесть сейчас обедать; если это вас не стеснит...
— Нет, отчего же: вы себе обедайте, а я вам буду рассказывать. К концу обеда, может быть, до чего-нибудь и договоримся!
— Ну, вот и прекрасно. Итак, милости просим!
Лопатин вышел на террасу, где был накрыт обеденный стол. Бурченко пошел за ним, прихватив с собой какой-то сверточек, лежавший на стуле вместе с его белой, холщовой фуражкой.
Посетитель как-то сразу понравился Ивану Илларионовичу, хотя его немного потертый костюм и пыльные, высокие сапоги произвели на него сначала не совсем выгодное впечатление.
— Ну-с... Да вы, может быть, скушаете чего-нибудь? Эй, подайте еще прибор!
— Не беспокойтесь, пожалуйста!
Лопатин уселся в кресло и подвязал салфетку под горло.
«Любит, должно быть, покушать», — смекнул Бурченко, глядя на эти приготовления.
Хозяин улыбнулся и кивнул головой, как бы приглашая Бурченко приступить к делу.
— Небезызвестна вам, хотя вы, сколько я знаю, в этом крае еще недавно, — начал гость, когда Лопатин покончил с тарелкой зеленых щей с яйцами, — та нужда, которую мы здесь терпим от недостатка топлива...
— Гм... — прокашлялся Лопатин.
— Лесов нет, то есть, они есть, да далеко в горах, чуть не за облаками; садов рубить не приходится, разве что уж совсем пришло в негодность. Потребность в топливе увеличивается с каждым днем, цены на дрова вследствие этого страшно поднимаются, особенно теперь, когда начали строить заводы разные!
— Верно, верно!
— Ну-с, принялись изыскивать всякие способы поправить это невыгодное положение дел, уменьшить зло, так сказать, — каменный уголь добывать начали; отыскали что-то, много шумели, опыты делали, но... но все это были одни только попытки, попытками они и остались. Я уже давно здесь, и все это происходило на моих глазах, а потому я знаю, что говорю!
— Ну, а эти копи, что разрабатывает Алмазников или вот этот ходжентский винодел, как, бишь, его?..
— А что в них толку? Да и кроме их были, и все это как-то не клеилось: то залежи оказывались до того бедны, что не стоило их разрабатывать, и то вывоза из гор не было, то другое что-нибудь мешало!
— Да отчего же это?
— А не знаю. Я, по крайней мере, предполагаю, оттого, что ни у кого не хватало ни смелости, ни предприимчивости проникнуть в самую глубь этих гор, поразведать там все закоулки, узнать, что такое скрыто под этими громадами, пожить там подольше, порыскать, изучить каждую тропинку; надо было порисковать своей персоной, а не щупать эти горы по краешкам, боясь хоть на один шаг отойти от казачьего или солдатского конвоя, чтобы не попасться как-нибудь под аркан или нож одичалого горца... Вы знаете пословицу. «Чем дальше в лес»...
— Вы меня крайне заинтересовываете. Позволите? — Лопатин налил вина в стакан и подвинул его гостю.
— В конце концов, вышло, что мы все-таки не добились ничего путного!
— Да была ли возможность добиться каких-либо лучших результатов?
— Была; я в этом ни одной минуты не сомневался и поступил так: прежде всего, я вышел в отставку, так как служба мне, само собой разумеется, мешала; затем я отправился на розыски. Более года рыскал я по горам, возвращался по временам в ближайшие русские посты, запасался там, чем следовало, и опять отправлялся на розыски. Раза три чуть не попался было в руки кокандцев; совсем было погиб раз, да вывернулся уже почти что чудом, — теперь не время, а после как-нибудь я вам порасскажу довольно интересные подробности. Дело окончилось тем, что у меня вот в этом самом свертке заключаются такие сведения, которые могут не только обогатить отдельную личность, но упрочить благосостояние целого края!
Иван Илларионович пристально посмотрел в глаза своему гостю, покосился на сверток и приготовился было что-то произнести.
— Что? Конечно, не верите? Это весьма понятно; другие вот тоже не верят, ну, да я и уверять никого не намерен: само дело выскажется за себя со временем. Я вам только сообщу, что я открыл каменноугольные пласты, взломанные и вывороченные почти на поверхность скатов вследствие вулканических причин. Разработка их не представляет никаких затруднений да и вывоз удобен. Да если бы только вы видели, каков уголь... Вы знаете толк в угле?
— Очень мало!
— Ну, я вам покажу; у меня есть образцы... Что за уголь! Англичане бы его зубами из земли выгрызли... чудо!..
Глаза Бурченко разгорелись, он встал даже со стула, прошелся по террасе и опять сел.
— Где же это? — начал было Лопатин.
— Да что уголь! Руды: свинцовые, медные, серебряные... Какие жилы!.. Лежат они, тянутся, как змеи, во все стороны и ждут только смелого удара киркой и ломом, чтоб показаться на свет божий... Раз как-то, вот слушайте, что я вам расскажу: страшная гроза свирепствовала в горах. Я успел укрыться, вместе со своей лошадью, в затишье за скалой, то есть, в относительном затишье; меня и било градом, и хлестало дождем, но, по крайней мере, здесь я мог держаться на ногах, в другом месте меня бы давно сорвало бурей. Прямо против меня, по ту сторону ущелья, горы затянуло тучами, и я только слышал гул обвала, такой, что до сих пор еще звенит у меня в ушах при одном только воспоминании... Подмыло ли их, или это было последствие подземных ударов, вернее последнее, но только в пропасть глубиной без малого полверсты, рухнули целые скалы и загромоздили своими обломками Каракол...
— Как вы назвали?
— Чего-с?.. Да ручей, что тянулся по дну лощины. Дело не в названии. Две недели я не отходил от следов, оставшихся после обвала: я изучил напластования, сделал рисунки, определил местность... Какие широкие пути к обогащению я видел в этих темно-серых, красноватых, зеленоватых, с металлическими отблесками жилах! И, судя по видимым образцам, не трудно было догадаться, что можно было найти дальше, роясь по их направлениям...
— Вы никому об этом не говорили до сих пор?
— Нет, говорил, только карт своих не показывал и местности не определял. Денег просил... Без денег как приступить!
— Ну, и не дали?
— Не дали. В Петербурге был, говорят: «далеко», да, может быть, все это еще преувеличено мной, а на деле, пожалуй, окажется, что игра не стоит свеч... Один было обещал... да там оспа свирепствовала в то время и свалила его, а наследников дожидаться было некогда. В Нижнем посоветовали к вам обратиться, да и сам я думаю, что здесь скорее можно что-нибудь сделать, виднее как-то. Вот я к вам и обращаюсь!
— А вы не обращались ли к Перловичу? У него такая предприимчивая натура, он за все хватается!
— Нет, к нему не обращался!
— Почему же?
— У меня на то свои причины!
Брови малоросса сдвинулись, и на его лице промелькнуло несколько злое выражение при имени Станислава Матвеевича. Это обстоятельство не скрылось от Лопатина.
— Ну, и хорошо сделали! — произнес он. — Что же вам именно нужно?
— Во-первых, мне нужно немного пока — тысячи две, не больше... Я поеду вдвоем со своим товарищем по ремеслу, которому я отчасти доверил свое открытие!
— Кто это?
— Ледоколов. Вы его не знаете, он из Петербурга и я познакомился с ним дорогой!
— Он здесь теперь?
— Нет, в Казале он сел на пароход и теперь скоро должен приехать, я же пробрался сухим путем, на почтовых...
— Гм... — замялся было Лопатин.
— Ну-с, так вот, изволите ли видеть, если вы мне дадите сперва эти деньги на риск, рассчитывая их и получить обратно, и не получить, то я снова отправлюсь в горы, подготовлю все, сделаю еще те разыскания, которые нахожу необходимыми, и тогда уже устроим все по порядку, юридическим путем... Вы лично все увидите, находка моя перестанет быть секретом; вы, может быть, найдете возможным затратить более значительный капитал, навербуем рабочих, — не солдат, нет, а непременно местных, туземных рабочих, — выпишем нужные машины и откроем такое производство, что на веки веков хватит и нам, и детям нашим, и внукам, и правнукам... Ну-с, так как же?
Бурченко вопросительно взглянул на хозяина.
— Ваш товарищ едет на пароходе «Арал?» — спросил тот его и стал вытирать салфеткой свои толстые губы.
— Что такое!?
Малоросс озадачился довольно сильно. Лопатин повторил вопрос.
— А не знаю, может, и «Арал»; я не справлялся! — холодно ответил он, взял свой сверток и поднялся со стула.
— Сидите; куда вы? Я вот вас хотел спросить, не видали ли вы двух дам, которые тоже должны ехать на этом пароходе?
Злая усмешка вторично пробежала по лицу Бурченко.
— Как же, видел; да вы об них не беспокойтесь: они окружены самым изысканным и утонченным попечением.
— В самом деле?
Лопатин стал комкать салфетку, потом швырнул ее в сторону и принялся за другую.
— Там, около них, так много услужливых кавалеров... Мне бы хотелось знать, что вы решите насчет моего предложения?..
Лопатин взглянул на него словно спросонья и залпом выпил стакан воды.
— Вы извините, — произнес он, — я был причиной, что мы несколько уклонились от нашего первоначального разговора!
— И очень даже уклонились...
— Я вам эти деньги дам; я более дам, я вам могу сейчас же дать пять тысяч...
— Сейчас мне не нужно. Мне деньги нужны будут через десять дней. Приедет мой товарищ, мы вместе отправимся в горы, и тогда...
— Вы получите деньги, как только они вам понадобятся. Считайте, что они в вашем кармане!
— Спасибо!..
Бурченко протянул Лопатину свою руку.
— А то, что в этом свертке?..
— Вы сейчас увидите: здесь рисунки профилей и разные заметки. Я с удовольствием готов вас посвятить в некоторые подробности!
— Сегодня вечером я совершенно свободен и надеюсь вас видеть у себя!
— Хорошо, буду!
Бурченко раскланялся и вышел, а Иван Илларионович отправился к себе в кабинет и долго прохаживался по комнате, обдумывая что-то и жестикулируя. Потом он опять пошел в комнату Адели, остановился перед ее портретом, поскреб себе затылок всей пятерней и процедил сквозь зубы:
— Дон Жуаны проклятые!
V «Бедный, наивный ребенок»
В своей жизни многим приходилось путешествовать по русским рекам, но едва ли кто-нибудь из них может составить себе и приблизительное понятие о плавании пароходов аральской флотилии по главной артерии всего среднеазиатского края — Сыр-Дарье.
Медленно, с бесконечными препятствиями самого разнообразного свойства, чуть-чуть вспенивая мутную воду своими высокоустановленными колесами, шаг за шагом подвигается неуклюжий, плоскодонный пароход и тянет на буксире за собой такую же неуклюжую баржу, а иногда и две.
Наступает ночь; быстро темнеют печальные окрестности; последний красноватый отблеск исчез с вершины мачты и окраин пароходных труб. Линия плоского берега, то изжелта-песчаная, волнистая, то заросшая бесконечными, непроходимыми камышами, теряется, сливаясь в темноте в сплошную массу тумана, встающего над мертвой рекой.
Пароход причаливает к берегу и останавливается. Большинство пассажиров высаживаются, разводят огни, ставят шалаши, расстилают войлоки; всякий устраивается по возможности комфортабельнее.
Проводится ночь. С рассветом опять все спешат занять свои места на пароходе, на барже, в каютах, под парусиновым навесом, растянутым над всей палубой. Разводятся пары; опять начинается и тянется на целый день утомительное, невыносимо-скучное, черепашье движение. И так подвигаются к далекой цели плавания, делая не более шестидесяти-семидесяти верст в сутки, особенно вверх по течению, когда рейс от Казалы до Чиназа делается не менее, как в двадцать пять дней, а чаще в целый месяц.
Мне кажется, что финикияне путешествовали именно подобным образом и приблизительно с такой же скоростью, когда им пришлось исполнить просьбу египетского царя Нехао.
***
Пароход «Арал» уже часа три как остановился на ночлеге близ урочища «Баюзак на Джаман-Дарье». Оригинальный бивуак раскинулся по берегу, занимая небольшую песчаную отмель, единственную, не заросшую камышами; кругом же сплошь тянулись густые заросли, то неподвижно-тихие, таинственные, то внезапно всколыхнувшиеся и глухо шумящие от легких порывов влажного, пропитанного туманом речного ветра.
Ночь была темная, безлунная, мглистая; ни одной звезды не было видно на небе; как привидения, подымались и белели во мраке высокие пароходные трубы; между ними, на мостике, медленно двигалась взад и вперед такая же неопределенная, беловатая фигура часового.
Вот еще кто-то поднялся на мостик; легкие ступеньки трапа заскрипели под ногами взошедшего, мелькнула белая фуражка, заискрилась красная точка закуренной сигары.
Дмитрию Ледоколову не спалось в душной, тесной каюте: там было так жарко, там так невыносимо мучили и словно огнем жгли кожу какие-то пренесносные паразиты, а тут еще вдобавок забрались в голову черные думы, печальные воспоминания, другое что-то, неясное, в чем еще Ледоколов не мог отдать себе отчета.
«Эх!» — вздохнул он, надел сапоги, надел свое парусиновое пальто, шапку, захватил с собой буйволовый хвост на деревянной ручке для отмахивания мириад назойливых комаров, забивающихся в нос, рот, уши, не дающих ни промолвить слова, ни даже свободно вздохнуть без этого спасительного хвоста — необходимой принадлежности каждого, временного и постоянного обитателя этой местности, — закурил сигару и выбрался на палубу.
Прежде, чем попасть на мостик, ему надо было пройти мимо небольшой двери, ведущей в каюту у правого колеса. У этой двери, до половины стеклянной, завешенной изнутри зеленой шторкой, Ледоколов на минуту приостановился и вздохнул протяжнее обыкновенного. В этой каюте горел огонь — спущенная шторка светилась ярко-зеленым, изумрудным транспарантом. На этом светлом фоне мелькнул неясный силуэт. Ледоколов замер, как легавая собака на стойке. Силуэт исчез. Ледоколов вздохнул еще раз и пошел дальше, осторожно шагая через свертки канатов, через головы двух спящих кочегаров, пробираясь к трапу.
Яркие огни пылали у самой воды на берегу; около них двигались темные фигуры кашеваров. Сырой камыш тлел в той стороне, откуда потягивал ветер, и густой белый дым стлался над бивуаком. Там и сям белелись конусы наскоро поставленных палаток; злобно ворчала собака, насторожив уши и косясь на туман, будто чуяла там невидимого врага; кто-то тихим, ровным голосом рассказывал какую-то бесконечную сказку; кто-то бредил во сне и метался; отовсюду несся храп спящих и уныло, монотонно звенели мириады комаров, легкими, туманными облачками носившихся над водной поверхностью.
— Мама, ты не спишь? — тихо спросила Адель, приподнимаясь с кушетки и отыскивая ногой туфлю.
— Ох, что-то нет сна, так душно, жарко! — простонала Фридерика Казимировна, тяжело ворочаясь на раскинутом складном кресле-кровати.
— Разве отворить дверь?
— Что ты, что ты! Налетят комары, и тогда что мы будем делать? Пододвинь ко мне арбуз. Ты его опять не прикрыла салфеткой.
Рой мух загудел по каюте, когда Адель тронула блюдо, на котором лежала половина сочного, темно-розового арбуза.
— Он тоже, мама, не спит! — произнесла девушка, минуту помолчав.
— Ты почему знаешь?
— Он сейчас мимо прошел!
— Ты видела?
— Да. Я слышу, кто-то идет, — Адель отодвинула немного шторку, — гляжу — он! Такой грустный, задумчивый: идет, под ноги не смотрит, чуть не упал, наступил на кого-то...
— Хочешь? — Фридерика Казимировна отрезала большой ломоть арбуза и пододвинула блюдо к дочери.
— Нет, я сейчас пила воду с вином... Так вздохнул глубоко-глубоко и на нашу дверь посмотрел!
— Очень нужно!
— Знаешь, мама, он мне рассказывал про свою жизнь в Петербурге... Теперь, я знаю, почему он такой всегда грустный!
— Особенно, когда видит, что ты на него смотришь?
— Нет, это у него не притворство!
— Отчего же это он грустит все?
— Его обманула любимая женщина и предпочла другого. Он говорил мне, что теперь не может верить больше ни одной женщине... Он потерял веру во все человечество. Он говорил мне, что даже в моих глазах, в моей улыбке...
— Ада, когда это ты изволила так с ним распространяться? — Фридерика Казимировна приподнялась на локте и пытливо посмотрела на свою дочь.
— Когда?.. А, помнишь, на прошедшем ночлеге, когда мы выходили гулять на берег...
Адель немного смутилась и потупила глазки.
— Это когда вы изволили с ним вдвоем под ручку уйти от нас вперед? Очень хорошо! — не без язвительности произнесла госпожа Брозе.
— Нет, это было тогда, когда вы, маменька, так отстали от нас, идя под руку с капитаном парохода!
Адель вспыхнула; ее брови задвигались, предвещая грозу в каюте.
— В эти вентиляторы совершенно не тянет! — поспешила Фридерика Казимировна переменить тон и тему разговора.
Адель сунула, наконец, свои ножки в туфли и накинула на плечи кружевную тальму.
— Ты это куда, Адочка?
— На палубу; там так хорошо, прохладно!
— Ах, Ада, ангел мой, не ходи!
— Это почему?
— Потому что... ну, мало ли почему! Ну, вот, например, там близко спят матросы, могут в бреду глупость какую-нибудь сказать... Сонный человек...
— Вот еще глупости!
Адель приотворила дверь.
— Я тоже пойду с тобой!
— Идите, кто же вам мешает!
«Amis! La nuit est belle,
La lune va briller», —
тихо, вполголоса напевал Ледоколов, облокотившись о перила мостика.
— Я не знала, что вы так мило поете! — услышал он сзади себя и быстро обернулся.
— Адель Александровна, это вы?!
Ему вдруг захотелось ринуться к ней и принять ее в свои объятия; Адель тоже почувствовала желание, несколько на это похожее. Оба, впрочем, ограничились одним только желанием и остались на прежних местах: он — у перил, она — посредине площадки, стройная, грациозная, потупив глазки и пощипывая пальцами кружева своего легкого костюма.
— Вы не спите? — начала Адель.
— Могу ли я спать! — глубоко вздохнул Ледоколов.
— Комары мешают? — лукаво улыбнулась Адель.
— О, если бы только комары!..
Она подошла к перилам, заглянула за борт, покосилась на часового и передернула плечиком.
«И зачем торчит здесь этот болван?» — промелькнуло у нее в голове.
— ...Нельзя, друг ты мой любезный: служба! — говорил внизу чей-то голос.
— Известно, служба. Макарова за что вчера линьками лупили? — отвечал кто-то другой.
— А за тоже самое: служба!
— ...И встал салтан со своего золотого трона, и взял ее за белы руки, чмокнул три раза в сахарные уста... — слышалось откуда-то продолжение сказки.
— Адель Александровна... — начал Ледоколов и немного пододвинулся к девушке.
В ответ на это Адель тоже чуть-чуть шагнула в его сторону и, приложив пальчик к губам, стала прислушиваться. Ей показалось, что скрипнула дверь их каюты.
— Это может показаться странным; я вообще не доверяю никаким предчувствиям, но — что вы на это скажете? — выходя сюда ночью — теперь уже около часу пополуночи — я был убежден, что увижусь с вами, что буду говорить с вами... Не имея никакого права, никакого повода, я ждал вас. Вы пришли. Конечно, это только случайность, не более, как случайность, но...
— Это, действительно, только случайность! — заметила серьезным тоном Адель.
Если бы было не так темно, то Ледоколов мог бы заметить насмешливую улыбку, скользнувшую на губах девушки.
— Я иначе и не смел думать. Но не сердитесь на меня, если я воспользуюсь этой случайностью. Я давно собирался поговорить с вами, высказать вам то, что почти с первой встречи стало моей господствующей мыслью... Я хочу предостеречь вас, спасти вас... вы на краю...
— Дмитрий Николаевич, вы меня ужасно пугаете! — чуть не вскрикнула Адель, и в ту же минуту почувствовала, что ее рука очутилась между ладонями Ледоколова.
— Не бойтесь! Я чуть было не назвал вас: «мой дорогой друг». Отвечайте мне откровенно, просто: знаете ли вы, куда вы едете?
— В Ташкент! — наивно глядя ему в лицо, ответила Адель.
— Знаю, знаю! Мой вопрос был направлен совсем не к этому; дело не в городе, не в названии местности... Но зачем? Что вы думаете найти там? Знаете ли вы это?
— Конечно, знаю; мне кажется, что я знаю!
— Ну, так говорите мне: зачем же?
— Господин Лопатин, наш старый знакомый, то есть, более знакомый моей маменьки, предлагает мне там место гувернантки с хорошим, обеснеченным содержанием. Я буду трудиться, учить маленьких детей, я буду заниматься делом, не то, что прежде в Петербурге, когда мы с маменькой с утра и до ночи не знали решительно, как бы убить невыносимую скуку!
— Вы убеждены в том, что вы оживете именно в Ташкенте?
— А как же?!
— Бедный, наивный ребенок!
— Пожалуйста, не плачьте обо мне! — надулась Адель, однако руки своей не отняла и даже ответила легким нажатием на энергичные рукопожатия Ледоколова.
— Слушайте же!
Ледоколов говорил торжественным тоном, подчеркивая и оттеняя каждую фразу.
— Слушайте; Лопатин знал вас прежде. Вы ему нравились, даже более, чем нравились. Он уехал. Вы очутились в самом безвыходном положении: без денег, с одними долгами, ждать помощи неоткуда. Заметьте, я говорю только то, что слышал от вас самих и вашей маменьки. Я не основываюсь на тех оскорбительных слухах, которые движутся вместе с вами, вокруг вас, опережают вас и, наверное, теперь облетели уже весь Ташкент!
Глубоко вздохнула Адель; сердце ее билось сильно и так близко от локтя Ледоколова, что тот чувствовал эти лихорадочные, учащенные пульсации.
— В такую скверную минуту к вам, как с облаков, слетает предложение Лопатина. Вам предлагают место гувернантки, которое, впрочем, только обещают найти, так как у самого Лопатина детей нет. Жалованья шесть тысяч. Везут, как царицу, отрывают вас от общества, к которому вы привыкли, с которым вы освоились...
— Мне страшно, вы говорите зловеще. Господи! Что же со мной будет? — чуть не заплакала Адель.
— Видимое дело, вас продают. Вас губят! — воодушевился Дмитрий Николаевич.
— Губят! — тихо, чуть слышно повторила Адель.
— Я не решаюсь даже назвать настоящим именем то, что хотят из вас сделать. Но не плачьте, дитя мое, не плачьте. Еще не поздно, еще не все потеряно!
Адрль стояла перед ним, закрыв лицо руками. Ледоколов внутренне торжествовал. Он сиял!
— Меня обманывают? Обманывают? Да?
— Да, да! И я решился помешать этому, открыть вам глаза... Что вы, что с вами?
Ошеломленный Ледоколов отшатнулся назад и смотрел на Адель широко раскрытыми глазами.
Она смеялась ровно, почти беззвучно, глазенки ее искрились в темноте.
— Неужели вы думаете, что вы мне сказали хотя что-нибудь нового? Кто же из нас теперь «бедный, наивный ребенок»?
— Адочка, Ада! — послышался снизу голос Фридерики Казимировны.
— Иду, мама, сейчас! Ну, до свиданья! Уже рассветает!
— Ада!
— Да погоди, мама, какая ты несносная! Ну, слушайте же теперь: вы мне очень нравитесь; надеюсь, что, по приезде в Ташкент, вы не прекратите нашего знакомства, завязавшегося в дороге. Прощайте!
Адель сбежала с лестницы и через секунду щелкнула дверная задвижка их каюты.
— Ах, Ада, я так боюсь за тебя! — говорила Фридерика Казимировна в каюте.
— Это еще что? — не переставала смеяться Адель.
— Ты такая увлекающаяся, влюбчивая!
— Вся в тебя, maman!
Адель покосилась в ту сторону, где была капитанская каюта.
— Ты права, и поэтому, по собственному опыту, я желаю тебя предостеречь, так сказать, открыть тебе глаза!
На всю каюту разразилась Адель громким, неудержимым хохотом. Фразы были так похожи.
— Pas de danger! Pas de danger! — хохотала она, и ее веселый смех доходил до ушей растерявшегося, пораженного, все в одной и той же позе стоявшего Ледоколова.
Рассветало. Зашевелился народ, затрещал смолистый саксаул в пароходных топках. Боцманский свисток прокатился развеселой, лихой трелью.
— Разводить пары! — хрипло пробасил сонный голос в капитанской каюте.
VI «От скуки больше»
Капитан Сипаков, заведующий почтой в «Забытом» форте, произнес: «пики!», почесал колено и зевнул так, что у него даже хрустнуло за ушами.
— Стоит вистовать из-за такой дряни! — заметил юнкер Подковкин, малый лет за сорок, никак не осиливший до сего преклонного возраста русской грамоты и четырех правил арифметики и потому не удостоенный офицерского ранга.
— Нет, отчего же? Потрудитесь открыть! — заявил маркитант Моисей Касимов, не то из литовских жидов, не то из казанских татар.
— Порассмотрим... Эге! Ну-ка! Так! Еще, пожалуй, ремизец будет!
— Ну те к черту! Только пульку затягиваешь!
— Позвольте же, нельзя же!
Сипаков дремлет, пока Касимов разбирает его игру. Подковкин косится на графин и тарелку с остатками какой-то соленой снеди.
— Еще бы немножко рыбки-то подкрошили, Анфиса Петровна! — сладким голосом обращается он к перегородке.
— Не довольно ли? — слышится приятный, несколько ожирелый женский голос.
— Соснуть перед вечерним-то чаем. Эка скука, прости, Господи! — произносит Сипаков, он же хозяин дома.
— Тоска такая, страсть! — вздыхает за перегородкой Анфиса Петровна, его половина.
— Скоро почту ждать надо; вы уж не забудьте газетку или книжечку какую! — просит маркитант и отмечает мелом на истертом, порыжелом сукне карточного стола.
— Э-эх! — зевает Сипаков.
— А-ах! — зевает Анфиса Петровна.
— И то идти спать! — решает юнкер Подковкин, поднимаясь со стула.
Выпили гости, выпил хозяин; разошлись, залегли каждый на своем месте, и понесся храп по всему форту Забытому.
Мертвая тишина, тоска, скука!
Серое, знойное небо, серая даль, серые, бесконечные чащи джиды, колючего терновника, серые сыпучие пески, серая лента дороги, на которой давно уже не видно ни одного живого существа, и покойным, мягким, двухвершковым слоем лежит солонцеватая пыль, бережно храня полукруглые следы верховой лошади, расползшийся след верблюдов, прошедших здесь чуть не трое суток тому назад. Серые, однообразные линии крепостного вала, скучный казенный фасад одноэтажной казармы, покривившийся полосатый флагшток и безжизненно висящая на нем запылившаяся тряпка.
А неподалеку, сквозь редеющую чащу, — мутная, ленивая река, словно дремлющая в своих печальных берегах, словно втихомолку прокрадывающаяся мимо Забытого форта, боясь как-нибудь потревожить бесконечный сон его обитателей.
Жар, зной, духота. Не шелохнется воздух, не провеет в нем ни одна живая струйка и не разнесет по беспредельной степи ни этого смрада помойных ям, поднимающегося из-за угла полуразрушенной башни — остатка прежних кокандских укреплений, ни кислого, капустного запаха солдатских кухонь, приютившихся рядом с башней, ни даже спиртуозного запаха от маркитантских бочек, выставленных на солнце для просушки.
Все живое дремлет и спит, забившись от этой мертвящей жары всюду, где только есть хоть какой-нибудь намек на тень и прохладу. Ни одной собаки не видно на улице; даже около навеса мясника, где их собираются всегда целые стаи, и здесь дремлет только одна паршивая, рыжая собачонка и зализывает во сне свою искалеченную лапу.
Большая, жирная свинья, с полудюжиной поросят, одна только бродит по опустелым улицам и, глухо, внушительно хрюкая, тычет своим рылом во все, что только не найдет для себя любопытного. Перешла она улицу, подобрала мимоходом дынную корку, захватила кстати подошву солдатского сапога, да наколола рыло на гвоздь и бросила.
У опрокинутого тележного ящика, правее дегтярного бочонка, лежит старое солдатское кепи, рядом виднеется стриженый затылок, корявая рука, сжатая в кулак; закушенный пучок зеленого лука стиснут в этом кулаке; рой мух гудит над спящим, и слышно тяжелое, носовое прихрапывание.
Ткнула свинья рылом в этот загорелый, мясистый затылок; один поросенок принялся теребить лук из кулака, другой стал обнюхивать кепи, третий наведался, нет ли чего в дегтярном бочонке, четвертый еще полез куда-то.
— Отстань, земляк! Не могу больше! — глухо мычит во сне кузнец Малышка, унтер. — Сказано, шабаш, да и полно! Тетка Дарья, отваливай. Ишь, ты, каторжная, а я было...
Воспаленные глаза на минуту открываются.
— Комендантская! — бормочет кузнец и, повернувшись на другой бок, снова предается своему сладкому far niente.
Свинья со всем семейством путешествует далее.
А по дороге, мелькая в зарослях, шажком плетется верблюд; он тащит за собой что-то вроде тележки на трех колесах, вместо четвертого подвязана гибкая жердь; на этой повозке большой кожаный чемодан с железной цепью, несколько зашитых в холст ящиков, два-три узла; поверх всего сидит казак-оренбуржец в серой армячиннoй рубахе, с винтовкой за плечами. Совсем почти голый киргизенок сидит на горбах верблюда и всматривается вдаль: не завидит ли над этой бесконечной чащей тонкую черточку крепостного флагштока.
Это идет давно ожидаемая, желанная почта в форт Забытый, а отсюда она пойдет уже далее, по остальным фортам, вплоть до самого Ташкента.
***
Проснулся перед вечером капитан Сипаков и подошел к окошку.
— А, вот оно, вот! — улыбнувшись крякнул он, завидев въезжающую в ворота почтовую повозку, и потер себе руки.
— Шляпку вот эту отправь, не забудь, в Чимкент; вот и укупорка вся цела прежняя, только адрес я маленько залила салом; ну, да там разберут! — говорила Анфиса Петровна, принеся из-за своей перегородки шляпку с цветами и бантами, надколотый ящик, тряпку и веревочки с припечатанными концами.
— Эк, ты ее потрепала! Как я ее теперь отправлю?
— Известно, носится, не железная она; материал, ишь, ты какой дрянной!..
Анфиса Петровна потянула за банты.
— Говорила — на один раз, в церковь только сходить, а вот как заносила чужую вещь!..
— Ничего, не впервой; мантилью, что в Ташкент купчихе Федоровой из Петербурга высылали, я, почитай, два месяца носила, а ничего, сошло!
— Да, пока жалоб не было, Бог миловал!
— Была бы укупорка в порядке, а там не наше дело!
— Поди, чай готов?
— Тут, что ли, пить будешь?
— На дворе, за сараем. Ну, поди, не мешай! Постой! Там у тебя еще что-то есть? Душегрея никак?
— Пардесю, да ты ее погоди до следующей почты; послезавтра надеть надо!
— Ну, проваливай.
Анфиса Петровна вышла, захватив из почтового чемодана какую-то газету в обертке. Сипаков принялся за разборку.
Пришел юнкер Подковкин, забежал маркитант Моисей Касимов, заглянула в окно еще какая-то физиономия с бакенбардами.
— Вы, братцы, идите-ка за сарай, к Анфисе Петровне, а я пока займусь по службе! — пригласил их Сипаков.
— Служба прежде всего! — согласился Подковкин. — А-а, поглядеть, что это за книжица? — полюбопытствовал он и, захватив с собой «книжицу», вышел.
— Газеточек парочку можно? — осведомился Моисей Касимов и, не дожидаясь ответа, направился за сарай, тщательно освобождая на ходу «Сын Отечества» из его оболочки с печатным адресом.
— Смотри, назад в порядке вернуть! — крикнул им вслед капитан. — Эх, служба! — вздохнул он. — А частной-то переписки нынче что-то немного!
***
«Вот так-то оно, — думал он, занимаясь „разборкой“, — другой заорет: незаконно, мол, подло! А поди-ка сам, поживи здесь, в Забытом, шестой год, как я, не то еще со скуки сделаешь». — Анфиса, ножичек мой перочинный пришли и свечку! — «Кому какой от того вред может быть? А никакого; другой и не заметит вовсе, что в его писульку заглядывали, а мне польза и назидание. Эх, подумаешь, другой раз какие только письма бывают занятные, никаких романов не надо. „Петру Максимовичу Пустопорожнему, в собственные руки“, ну, это побоку. — Что же ножичек-то? — „Его превосходительству“… гм, печать частная, без орла... Эх! Подмывает, а страшно... а в этаких-то настоящий смак и сидит... Нешто Подковкина, позвать, он мастер? В прошлом году эдак-то большое бедствие для друга своего закадычного предупредил: донос это на него шел, куда следует, шел-то он, шел, да не дошел... хе, хе... „Господину Перловичу в Ташкент“... ну, это значит в карман; ужо поглядим!»
— Герася, нонче из нарядов ничего нет? — появилась в дверях Анфиса Петровна со свечкой и ножичком.
— Погоди, после, еще не глядел по тюкам!
— Маланья Ивановна забегала, сказывала: может, для ней пары ботинков каких-нибудь не будет ли, или там что-нибудь из другой обуви?
— Так вот я для твоей Маланьи Ивановны службой рисковать стану. Накось!
Сипаков сложил свои персты весьма непочтительно и протянул их к своей супруге.
— Только на невежество и способен, потому — мужик!
— Чаю пришли, ступай, графинчик тоже!
Часа два «разбирал» капитан почту. Анфиса было сунулась к нему, да дверь была на крючке.
— Что, занят еще? — осведомился Моисей Касимов.
— Заперся! — со злостью отрезала Анфиса Петровна. — Все, чтобы только от жены сделать тайно!
— Нельзя же, может, какой секрет государственный!
— Окна извнутри завешаны, — сообщил юнкер Подковкин, — я было заглянул, ан нет!
— Графин я ему туда снесла; нескоро теперь выйдет!
— А мы пока своим делом заняться можем... сдавай-ка, брат!
— Засядем... — согласился Подковкин,
Анфиса Петровна занялась по хозяйству.
***
Совсем стемнело, и давно уже пробили вечернюю зорю на фортовой гауптвахте. Засветились ряды красноватых четырехугольников — казарменных окон; мутная луна поднялась над рекой. Окончил Сипаков свои служебные занятия.
— Ты что, словно как не по себе? — заметила ему заботливая супруга.
— Ничего, что же, я в порядке. Все как следует. А что?
— Важное есть что-либо, надо полагать? — спросил Моисей Касимов. — Верно-с?
— Пустяки все... Что же, господа, преферансик?
— Не поздно ли?
— Что за поздно, самое время. Днем-то выспались, небось?
Уселись за преферанс.
Невнимательно играл Сипаков, не замечал ходов своего партнера, не замечал даже сигналов, которые делала ему Анфиса Петровна, успевшая как-то подглядеть прикупку.
Семь в червях без четырех остался.
— Фю-фю! — подсвиснул юнкер Подковкин и подозрительно поглядел на хозяина.
— Так, мол, и так, Иван Илларионович, вот, мол, какие дела под вас подвод...
— Что такое? — озадачился юнкер.
— Чего-с? — даже со стула вскочил Моисей Касимов.
— А? Как? Кто с чего ходил? — опомнился Сипаков и, выхватив какую-то карту, поспешил прихлопнуть ей пройденного Касимовым козырного туза.
— Нет, шалить изволите, так не полагается! — засмеялся маркитант.
— Не лучше ли бросить? — посоветовала Анфиса Петровна, предвидя для своего супруга плохие результаты пульки.
— Доиграем, отчего же?
— Ужин простынет!
— Ну, побережем записи до завтра! — предложил сорокалетний юнкер.
Покончили, поужинали, разошлись.
— Что бы такое было? Не догадываетесь? — спрашивал у Подковкина Моисей Касимов, когда они оба пробирались домой.
— Завтра проврется; много-много, если послезавтра узнаем. Дело бывалое, особенно, ежели выпьет!
— Кто идет? — протяжно доносилось с гребня крепостного вала.
— Свои! — пробасил юнкер Подковкин.
— Свои, голубчик, свои! — поспешил Касимов удовлетворить любопытного часового.
***
А Сипаков, перед тем, как лечь в постель, прошел к себе в комнату, вынул из кармана письмо, адресованное к Перловичу, и прочел его внимательно, останавливаясь, потирая себе лоб и вдумываясь в каждую фразу письма, в каждое его слово. Это было уже вторичное чтение, и по мере того, как оно приходило к концу, под нависшими усами читавшего разрасталась все более и более самая самодовольная улыбка.
— Голубчик, Герася, родной ты мой, что такое? — приставала супруга, ласкаясь к нему.
— Отстань! Спать ложись! — решительно объявил ей Герася.
— Ну, уж будто бы мне нельзя сказать? А-а, нельзя? Ну, хорошо же!
Анфиса Петровна сердито отвернулась. Сипаков принялся разоблачаться.
— Последний раз говорю — не скажешь? — поднялась на постели супруга. — Ну, что же?
— Не вашего, бабьего, ума дело! — произнес капитан и завернулся с головой в одеяло.
VII Какого рода вьюки привезены были в Большой Форт киргизами аулов Термек-бес
В самой средине Большого форта на Сыр-Дарье стояла очень большая палатка. Человек до ста могло бы поместиться в ней без особенной тесноты; парусина, из которой она была сделана, выкрашенная ярко-зеленой краской, так и горела на солнце; особенно сверкали и искрились, отражая от себя бесчисленные лучи, медный крест на гребне шатра и такие же медные шарики на верхушках палаточных кольев. Это была временная церковь и помещалась она посредине громадной площади, покрытой сплошной пылью. Кругом, по окраинам этой площади, виднелись приземистые мазанки-домики фортовых обитателей и подслеповато глядели на площадь своими крохотными окошками, заклеенными большей частью промасленной бумагой.
Несмотря на сильный полуденный жар, большая толпа собралась перед церковью. Кроме того, со всех сторон шли и даже бежали обыватели форта, направляясь к толпе, и на лице каждого написано было тревожное, даже несколько боязливое любопытство.
Несколько верблюдов, ободранных, усталых, запыленных, стояли немного в стороне; лаучи сидели около них на корточках; только один, стоя, сворачивал в пучки волосяные арканы, которыми подвешивались вьюки. Вьюков самих не было при верблюдах, они были сложены у входа в церковь. Вьюков этих не было видно, потому что они были совершенно окружены народом.
Да, это был довольно интересный груз, который давно уже не привозился в Большой форт в таком количестве, — настолько интересный, что комендант форта заблагорассудил приставить даже часовых к тюкам, и штыки этих часовых, столбами стоявших друг против друга, виднелись над толпой и еще более подстрекали любопытство отставших обывателей, запыхавшихся и силящихся пробраться вперед, где было повиднее.
Всех тюков было четыре, они лежали рядом и, несмотря на то, что были прикрыты общей кошмой, можно было заметить по складкам войлока, что каждый из них имел удлиненную форму — форму, чрезвычайно похожую на человеческое тело; одно только обстоятельство разрушало это сходство, это то, что там, где по всем соображениям должны были бы вытягиваться округленные формы голов, там войлок плотно прилегал к земле, не образуя решительно никаких складок.
— Оставь! Слышь ты! — остановил один из часовых любопытного молодца в халате и в туфлях на босую ногу.
— Нельзя разве посмотреть? Что за важность!..
— Отойди!
— Я только уголочек приподниму!
— Фу, разит как, страсть! Авдотья, пойдем домой. Чего тут делать? — обратился отставной матрос-рыбак к белокурой солдатке в ярко-красном кумачном платье.
— Погоди, Кузьмич; сват, погоди; куда спешить? — останавливает его подгулявший приказчик из хлебного магазина. — Постой!
— Вонища, ишь, ты какая!
— Известно, жарко, они-то, чай, все прокисли!
— Теперь скоро комендант явится с доктором: вскрывать будут, — сообщил щеголеватый писарь в кителе и с папироской в зубах.
— Это, значит, потрошить? Ах, страсти какие! Для чего же это?
— Для делопроизводства по всей форме... Фу, ты, черт, папироска погасла! У кого огонь?.. Чтобы доподлинно узнать, от каких причин и почему, для занесения всего в протокол, при надлежащем постановлении. Спасибо, брат. Ну, и все прочее!
Писарь приостановился и стал закуривать потихоньку папироску.
— Пакость какая! Да я теперь целую неделю есть ничего не стану мягкого; все это мерещиться будет, право... ей-богу!.. Пойдем домой, Кузьмич!
— А, пойдем. Авдотья, черт, леший, ты опять с этим рыжим?
— В выражениях нельзя ли осторожнее! — окрысился обруганный халат в туфлях на босую ногу.
— Ладно, брат, сочтемся после. Возьми весла, сват, греби в «прохладу»!
— Ох, Господи! Помяни души усопших рабов твоих!
— Позвольте, господин писарь, позвольте, почтеннейший! Конечно, мы по своей малограмотности, однако, при всем прочем... Для чего же их теперь резать, когда доподлинно видно, что голов нету. Какие же тут еще причины требуются?
— Гм! Какие! А хоть бы для того, например, чтобы точно определить; по смерти ли произошло отделение от туловища сего необходимого члена, или же до оной!
— Как-с?
— Лопатинский караван ограблен весь дочиста, и народ, что при нем был, в Хиву уведен, кроме вот этих, — это верно!
Седой старик в плисовых шароварах, в красной шелковой рубахе и офицерском сюртуке без погон, произнося эту фразу, сделал жест рукой, такой, как будто только что скрепил своей подписью самый важный документ, затем вынул из кармана цветной фуляр и стал его медленно разворачивать.
— Почему же это вы изволите полагать? — подвернулся к нему рыжий халат.
Старик уставился на него своими слезящимися глазами, высморкался и, тщательно отершись, произнес:
— По некоторым соображениям!
— Так-с; да и к тому же уж это, поверьте, недаром. Отойдемте-с сюда: ветерок от нас будет, все дышать легче!
Они отошли.
— Слух недаром по всему форту идет, недаром. Одного господина проезжего, с рыжей бородой, словно из иностранцев, изволили видеть?
— Кто такой?
— Гм! Кто такой-с? А кто его знает, кто он такой-с. Вчера-с был день святой великомученицы Евпраксии; супруга моя, покойница, именинница, и я завсегда...
Слезы зазвучали в голосе рыжего халата, и он протер кулаком, а потом полой халата свои охмелевшие глаза.
— И я завсегда не то, чтобы очень, но праздную и ликую... то бишь... Ну, да это все единственно. Прихожу я к другу своему, приятелю Маркычу, что на станции состоит... Ну, тут рябиновая пошла, осетрина в уксусе на закуску, и эта борода рыжая, мы ее никогда допрежь не видали, а тут бац: «здравствуйте, — говорит, — мир честной компании!..» «Садись, — говорим, — милости просим!»
— Откудова?
— Чего-с?
— Господин этот отвудова и что за человек?
— А Христос его ведает... Сели, выпили. «Что это, мол, у вас по городу»... заметьте, по городу, — какой-же у нас город? Форт! И завсегда, коли что говорят: «по форту»... Да-с, вот оно как, а он это «по городу». Ну, ладно, по городу, так по городу, думаем мы с Маркычем. «Что это у вас по городу, — говорит, — слух идет...» и это рассказывает. Про все, как следует, насчет убийства и разграбления. А у нас, сами знаете, до сего никаких слухов не было, это верно; потому, коли что, мы с Маркычем первые... а он знает; откуда же он знает? Обидно-с!
— Ближе был, надо полагать!
— То-то, ближе! — Я говорю Маркычу: — прислушайся, а он шепчет: «запри дверь на крючок!» Как же это возможно?
— Рискованное дело!
— А после всего этого пришли мы с Маркычем в беспамятное состояние!
— Это перемахнули, значит?
— Воля Божья! Пришли мы это в беспамятство и проснулись уже сегодня утром; думаем: как, что, а он купаться идет; полотенце под мышкой, зонтиком покрылся; валит прямо к пристани, на нас и не глядит, как с Маркычем квасом прохлаждаемся!
— Заметил и я. На комендантском дворе, в канцелярии, осведомился, кто такой? Сказывали, еще не был!
— Как вот этих привезли, все тут стоял; при нем и разгружали. С косоглазыми говорил по-ихнему бойко. Я подошел — замолчал и прочь пошел, опять на пристань!
— Посторонись, посторонись, дорогу дайте!
Толпа заволновалась, подалась немного то вправо, то влево; образовался довольно свободный проход. Часовые перемигнулись и отхватили ружьями подходящий к случаю приемец.
— Капитана Шиломордина нет еще?! А, каково вам это покажется?! — послышался внушительный, видимо, начальнический голос.
— Я дал ему знать уже давно! — каким-то боковым поклоном согнулся на ходу адъютант с портфелем под мышкой.
— Послать!
— Я, позвольте вам сообщить, думаю, что он не болен ли!
— Опять?
— Теперь его неделя. Он всегда целую неделю, а потом ничего; сходит в баню и опять месяца на два подряд исправен, если не случится какого-либо особенного случая: годовой праздник или же чье тезоименитство!
— Ну, за Горошкиным послать. Ежели на охоте, то Викторову дать повестку!
— Слушаю-с!
— Войлок откинуть! Брр! Какая гадость!
— Полнейшее разложение, и к вскрытию никакой возможности приступить не представляется! — сообщил худощавый доктор с чахоточным, пятнистым румянцем, в теплой шинели, несмотря на жару, и беспрестанно что-то нюхающий из стеклянного флакона с цепочкой.
— Ну, для формы нужно же, нельзя без этого!
— Что же, взрежу! — язвительно вздернув плечами, вздохнул доктор.
— Но, во всяком случае, придется подождать до приезда этого господина Катушкина. Он мне пишет... Что такое он мне пишет?
— Судя по его письму, он должен быть сегодня к вечеру…
Адъютант стал поспешно рыться в портфеле и вытащил оттуда смятый полулист исписанной бумаги.
— Вот извольте видеть!
— Прочтите еще раз!
— Он пишет... э... гм! «Вслед за отсылкой тел, подобранных на месте нападения, с киргизами аула Термек-бес, я выезжаю сам. Остановлюсь в аулах Бугат-тысай для снятия необходимых допросов и для отобрания показаний от старшин. Аур...»
— Точно следователь какой официальный!
— Чего-с?
Комендант обернулся, адъютант остановился перечитывать письма. За ним стоял человек среднего роста, несколько полный, с окладистой рыже-красной бородой и в крупных синих очках с боковыми сетками от пыли в золотой массивной оправе. Он-то и сделал это замечание.
— Извините! Я, кажется, помешал. Вы здешний комендант?
— К вашим услугам!
Чистенький, весьма приличный дорожный костюм незнакомца и его солидная физиономия внушали некоторое почтение и заставили коменданта взяться за козырек своей фуражки с назатыльником. Адъютант тоже откозырял, доктор холодно раскланялся.
— Нигебауэр, аптекарь. Еду в Ташкент; заходил к вам, но мне сказали, что вы здесь, на площади. Такое необыкновенное происшествие!
— Что тут необыкновенного, просто оказия! — заметил комендант. — Ну-ка, дальше что? — «Аптекарь — не велика птица!» — подумал он. — Извините; вот мы тут по службе, кончим сейчас и тогда... — добавил он вслух.
— Сделайте одолжение! — поклонился аптекарь, отошел к телам и начал их довольно внимательно осматривать.
— Он самый! — шепнул рыжий халат на ухо старику.
— Дураки вы оба с Маркычем! — так же тихо ответил ему старик.
— Гм, гм! — откашлялся адъютант. — По расчету, изложенному в письме господином Катушкиным, он должен быть как раз сегодня вечером!
Нигебауэр приподнял голову.
— Тут присланные тела?
Адъютант кивнул головой куда следует.
— Ефима Мякенького с сыном, англичанина Эдуарда Симсона и одного из работников?
— Голые и без голов; как тут их разбирать: кто и кто? — пожал плечами комендант. — Да, я полагаю, этого и не надо. Как вы, доктор, думаете?
— А, что такое? Вы меня спрашиваете?
— Вас!
— Да, конечно. Господин Нигебауэр, вы как будто, побледнели, вы взволнованы?
Доктор пристально посмотрел на рыжебородого аптекаря.
— О, это ничего. Дорожная усталость, этот запах, вид изуродованных трупов — все это не может действовать благоприятно!
— Ну, понятно!
— Вот еще на обороте, — перевернул адъютант исписанный листок, — господин Катушкин просит о задержании в форте, если, конечно, таковой окажется, одного человека, приметы: среднего роста, полноват, небольшая черная борода и таковые же усы, одет по-киргизски, лошади вороные, без отметин!
— А, ну, примите меры: осмотреть постоялые дворы, почтовую станцию, а главное, на базаре, у Бузуева в трактире тоже...
— У заставы не мешает поставить человек четырех для наблюдения! — шепнул доктор на ухо коменданту.
— У заставы? У заставы непременно!
— Да вы бы не так громко...
— Мое почтение! — откланялась рыжая борода.
— Зайдите в правление, там вам поставят отметку на паспорте! — крикнул адъютант.
— Непременно!
Нигебауэр медленно зашагал через площадь, распустив свой парусиновый зонтик.
— Чего это вы так смотрите? — заметил комендант доктору, все время следившему за удаляющейся фигурой аптекаря.
— Хорошая борода, густая, ровная! — произнес доктор как бы про себя. — Куда это он повернул? А, в слободку!
— Ну, так что же?
— Справьтесь, пожалуйста, на каких лошадях приехал этот Нигебауэр!
— Это для чего?
— Я видел, вчера еще видел, — выставился рыжий халат, все время прислушивавшийся к разговору начальства, — на почтовых; рыжая с лысиной в корню, серая на пристяжке; ямщик Каримка, тот самый, что в прошлом году пальцы на ногах отнимали — отморозил зимой я помню...
— Гм! Странно! — нервно скривил рот чахоточный доктор. — Я готов прозакладывать все, что угодно, ежели б оказалось, что этот аптекарь приехал на вороных лошадях, верхом, что борода у него накладная!
— Ну, что за вздор!
— Не вздор, позвольте вам заметить!
— Да чушь!
— Это удивительно! Вероятно, я на чем бы то ни было да основываюсь. Эти крючки за ушами...
— Это от очков крючки! — поспешил заявить адъютант.
— Нет, то золотые; а стальные, стальные зачем? Я их довольно ясно заметил. Они, положим, отлично были замаскированы волосами, но я их видел... видел, как вот вижу вас, как этих... Фу! Просто нет никакой возможности дышать! И чего мы здесь стоим?
— Прикрой! — распорядился адъютант.
Рыжий халат и человека три из толпы ринулись исполнять приказание адъютанта.
— Потом я заметил еще одну вещь, чрезвычайно подозрительную. Конечно, при других обстоятельствах это пустяки...
— Знаете ли что? — остановил его комендант. — Идемте домой, пора обедать. Моя барыня приготовила удивительную ботвинью!
— Из раков?
— Да еще из каких! Вот...
Комендант показал на ножнах своей сабли приблизительные размеры раков.
— Ну-с, и в ожидании приезда этого Катушкина, поднявшего всю тревогу, мы будем выслушивать все ваши подозрения. Allons!
Он согнул руку калачиком, доктор сунул туда свою, освободив ее предварительно из-под шинели, и они, не спеша, отправились по направленно к комендантскому домику, побеленные трубы которого виднелись над группой чахоточных, запыленных кустиков. Адъютант зашагал за ними, переложив портфель из-под одной мышки под другую.
— И по частным домам посмотреть не мешает! — доносился уже издали начальнический голос.
Толпа тоже стала понемногу расходиться.
«Я вечер в лужках гуляла!» —
доносился с базара развеселый пьяный голос.
— Ребята, слышь, не видали ли где тетки Бородихи? — спрашивал запыхавшийся денщик, обращаясь больше ко всем и ни к кому в особенности.
— Тебе зачем эта воструха понадобилась? — спросил кто-то из толпы.
— Поручик требует, чтобы беспременно. Допрос снять следует по делу!
— Ладно, брат!
«Гру-у-сть хотела разогнать». —
доносилось с базара, но уже несколько ближе.
Резкий звон колокола на пристани и барабан на площадке, перед казармами местного батальона звали «на работу».
Дневная жара начала спадать.
VIII Улики накопляются
Когда солнце село, к северной заставе Большого форта подъехала довольно оригинальная кавалькада. Впереди всех ехал Иван Демьянович Катушкин, верхом на иноходце своего приятеля, одного из старшин аула Бугат-тысай; всадник был, видимо, измучен, запылен с ног до головы и почти качался в седле от усталости. За ним рысил высокий, тощий киргиз, вооруженный длинной пикой и каким-то допотопным огнестрельным оружием. Два ободранных, почти голых киргиза, тоже верхом, вели между своими лошадьми третьего пешего, руки которого были привязаны к задним седельным лукам; босые ноги пленника были покрыты кровью и грязью, колени ссажены и стерты почти до костей: видно было, что несчастный несколько раз падал от изнеможения, а так как привязанные у седел руки не давали ему упасть на землю, то ему приходилось тащиться волоком на коленях, пока всадники не останавливались и не поднимали его ударами нагаек. Сзади всех еще ехала группа вооруженных киргизов, и вели двух лошадей, оседланных по-походному... Свободно болтающиеся по бокам седел вьючные мешки, коржуны, были пусты, размотавшийся аркан тащился по земле... Обе лошади были сплошь покрыты пылью, обратившеюся в грязь там, где ремни седловки натирали мыльную пену... Трудно было распознать масть лошадей, разве только очень опытный глаз мог определить, что обе были чисто вороные, без всяких отметин.
Когда Иван Демьянович въехал в ворота Большого форта, почти никого не было на опустелых улицах. Эта часть больше торговая, тут все были временные навесы и ятки для товара, убираемого на ночь, и потому, кроме двух-трех туземцев-сторожей, дремавших вдоль забора, где осталось еще немного нестоптанной, свежей травки, и не было так пыльно, как посреди улицы и площади, Иван Демьянович не заметил никого, как ни приглядывался направо и налево.
Если бы не было так темно, то он, пожалуй, заметил бы в окно разломанной сакли худощавое женское лицо, выглянувшее на мгновение и спрятавшееся снова так же быстро, как и показалось, — заметил бы, пожалуй, и всю женщину, промелькнувшую в светлом промежутке между саклей и углом хлебного лабаза... Если б он потом обернулся, то, наверное, увидел бы, как эта женщина перебежала улицу позади кавалькады; но он ничего этого не видел, а прямо направился к светлым четырехугольникам комендантских окон, периодически заслоняемых тенью шагающего взад и вперед линейца-часового.
Через полчаса Иван Демьянович сидел уже у коменданта за ломберным столом, на этот раз раскрытым вовсе не для карт. Сам хозяин ходил по комнате и пыхтел из длинного черешневого чубука; доктор полулежал на диване; адъютант сидел на стуле у дверей и, с позволения начальства, крутил папиросу. Супруга коменданта, бойкая старушка, находилась в соседней комнате и, упершись лбом в медную планку замочной доски, внимательно наблюдала за всем, что ей было видно в замочную скважину.
— Я сам согласен с предположением господина Катушкина, что тут совсем не обыкновенный случай простого грабежа, — тут, очевидно, другие цели! — произнес доктор.
— Не предположение это мое, — прервал его Иван Демьянович. — Какое тут, помилуйте, Бога ради, предположение! А просто так оно и есть!
— Ну, понятно! — пыхнул комендант.
— Я по следу добрался до Кара-таш. Вы бывали там?
— Не случалось!
— Весь берег плоский, кроме только этого места; здесь же камень чистый, над водой стоит кручей, и глубина тут, я вам доложу, страсть. Опять же илом все затягивает. Как туда их затащило?
— Так, вы говорите, следы привели вас к самому Кара-таш?..
Доктор поднялся с дивана, подошел к стене, где была развешена местная карта, и начал по ней водить пальцем.
— К самому. Машины и все громоздкое было свалено туда. Это верно! Куда им было тащить их?!
— Здесь! — произнес доктор. — Дайте-ка, родной, свечку — темновато!
— Если бы это простой грабеж, ну, забрали бы бакалею, красный товар, скотину бы увели, а то на кой им черт? Паровик бы и все машины остались бы на месте, и потеря была бы, не Бог весть, какая!
— Однако... — пожал плечами комендант и тоже начал рассматривать карту.
— Это-то Кара-таш? — пригнулся он к самой бумаге, так что чуть не дотронулся до листа носом. — А, вон оно что... тс... так!
Небольшая звездочка, начерченная на карте, приняла для него теперь особенное значение; он ее рассматривал с таким вниманием, что невольно думалось, не отыскивает ли он там следов погибшего паровика и дорогих машин разграбленного каравана?
— Далее, позвольте вам доложить, по расспросам киргизов оказалось, что в разных пунктах видели человека весьма подозрительного виду-с; на вороных лошадях, тех самых, что, изволили видеть, я привел с собой!
— Хорошие лошади!
— Таперича этот, человек, — не тот значит, а Мосол-киргиз, что работником состоял у Ефима Мякенькаго; мы его поймали в кочевьях, и очень он мне подозрителен показался!
— Вы ему уши обрезали? — заметил доктор.
— Нельзя же; маленько попытали его, иначе нешто от них чего допросишься? Опять же только одно, ухо!
— Что же он показывает?
— А то, что состоял с ними в заговоре и хотя положительно не знает, кто такой этот был, что на вороных лошадях, однако, в лицо узнать может!
Доктор стал шептать что-то на ухо коменданту.
— Почему ж не заарестовать? — ответил тот уже вслух.
— Человек, о котором я вам писал...
Катушкин встал; на лице его мелькнуло какое-то выражение таинственности, даже голос его стал тише, доходя почти до полушепота.
— Это насчет задержания-то? — остановился посреди комнаты комендант.
Иван Демьянович вздрогнул и боязливо оглянулся.
— Так точно-с. Он теперь здесь! — произнес он еще тише, как бы намекая этим коменданту на необходимость понизить голос, когда речь коснулась этого предмета.
— Ага! — обернулся доктор, все еще рассматривавший карту.
— Ну-с...
Комендант пальцем подманил вестового, взглянувшего было в дверь, и, Бог-весть, по каким соображениям также шепотом произнес:
— Трубку набей и раскури!
— Негде ему быть, окромя как здесь. Выехать он еще не успел. Пароход еще не отходил, на станции тоже надо прописаться — когда успеть? Я его проследил до почтовой станции Алты-кудук, откуда он поехал уже на почтовых, сменных, своих же лошадей бросил он в табун Ибрагим-бея. Мы нагнали вскорости, потому кони еще были горячие. Я их забрал из табуна...
— На почтовых... — соображал про себя доктор.
— Только теперь, надо полагать, этот человек совсем в другой одеже!
— Пожалуй, из черного рыжим сделался! — перебил доктор.
— Вы все на своем стоите? А вы, любезнейший, не подозреваете ли кого-нибудь, а? — обратился комендант к Катушкину.
— Как не подозревать? Да что толку в подозрении-то? Вот когда бы нам его захватить здесь как ни на есть, ну, тогда другое дело!..
— Узнайте, где остановился этот аптекарь Ниге... как бишь его? И попросите его сейчас же ко мне! — распорядился комендант самым решительным, безапелляционным тоном.
Адъютант поспешно поднялся со стула. Дверь во внутренние апартаменты распахнулась настежь, комендантша влетела, как бомба, и, подбоченясь обеими руками, остановилась посредине комнаты.
— Ну, не колпак ли ты? Ну не дубина ли? — отчеканивала она, глядя в упор на своего ошалевшего супруга.
Иван Демьянович поспешил отвесить самый почтительный поклон; доктор начал язвительно хихикать; писарь и два вестовых зафыркали в соседней комнате.
— Что же это ты, в самом деле, мать моя? — развел руками комендант. — За что же это ты так сразу?
— Исподволь, потихоньку, узнать, разнюхать, окружить, сцапать и с глазу на глаз к допросу... Вот что нужно сделать, понимаешь? А ужинать я дам после!
— Аграфена Павловна, ручку вашу поцеловать позволите? — подошел к ней доктор.
— Господин комендант, явите такую божескую милость, помогите, чтобы, значит, так точно, как вот они сказать изволили! — Иван Демьянович указал на комендантшу.
— Да я готов, я сейчас. Эй! Казаков десять человек сюда живо!
— А уж, Иван Илларионович, ежели что, будьте благонадежны, вас не забудет!
— Что, что такое?
Густые брови коменданта сдвинулись, глаза выкатились, ноздри запрыгали; он сложил руки на груди по-наполеоновски и шагнул к озадаченному Катушкину.
— Да что же, помилуйте, господ... Ваше...
Доктор поспешил на помощь к оторопевшему Ивану Демьяновичу.
— Не теряйте времени, если хотите, чтобы вышло что-нибудь путное, а главное — послушайте вы моего совета. Вы от этого ничего не потеряете, вы уже не раз были в выигрыше от этого!
— Благодарю!
Он протянул доктору свою широкую ладонь.
— Самое лучшее — предоставьте это самому господину Катушкину. Он, как лицо, более всего заинтересованное...
— Будьте милостивы, господин комендант!
На дворе затопотали лошади, забрякало что-то металлическое, гнедая морда с лысиной заглянула в окно.
— Команда готова! — доложил вестовой.
— Однако, сбирайтесь! А после все ко мне ужинать! — решила Аграфена Павловна и сама собственноручно надела на голову мужа его холщовую фуражку.
IX На базаре
Скрипя и завывая несмазанными осями, толкаясь концами этих осей обо все выдающиеся углы плоскокрыших домов-сакель, по одной из очень узких и кривых улиц азиатского Ташкента пробирались четыре арбы, нагруженные головами сахару всех существующих размеров и форм; арбы эти были прикрыты войлоками и перевязаны веревками, для того, чтобы этот сладкий товар не рассыпался от скачков и толчков, которыми награждала дорога, грубо вымощенная крупным, неровным камнем... Вообще же укладка сахара была самая небрежная; видно было, что его, во-первых, собирали из разных пунктов по десяткам и даже менее голов, а во-вторых, и везли не особенно далеко.
Арбакеши сидели верхом на тех же лошадях, что были запряжены в арбы; весь транспорт, несколько растянувшись по дороге, сопровождали два русских приказчика — русские только по тому признаку, что из-под их бараньих шапок торчали рыжеватые пряди волос, всем же остальным они мало чем отличались от таджиков-арбакешей.
Различные препятствия поминутно загораживали движение арб: то навстречу лениво шагали мохнатые верблюды с тюками табаку и хлопка, то попадалась такая же арба, то верховые, туземцы и русские, пробирающиеся на центральный туземный базар, смешанный гул которого, расходясь из-под сплошных навесов, достигал уже слуха проезжих.
— Вой, вой! — покачивали головами в чалмах всадники туземцы, подбирали ноги почти на седло и, осторожно прижимаясь к стенам и обтирая их своими полосатыми халатами, пропускали арбы...
— Держи в сторону, дьяволы! — еще издали кричали и грозно взмахивали нагайками всадники русские, и разве только крайняя необходимость заставляла их взять вправо или влево.
— А куда нам держать? Жми сам в сторону! — отвечали конвоирующие приказчики.
— Да что же вы, братцы, не той дорогой идете? Вы бы на «медресе» взяли, а то вам все навстречу будет! — понижали тон и вступали в разговоры всадники, узнав своих.
— Ладно; нам везде дорога! Эй, ты, там, чертова голова, сворачивай верблюдов во двор... А ты, пес, с ишаками куда лезешь?!
— Что везете?
— Сахар!
— Чей?
— Перловича...
— Эй, эй, тамыр! — робко окликает одного из приказчиков передний арбакеш.
— Чего тебе?
— Вон казы едет, сам казы…[6] как-же быть?
— Гайда! Чего стали?! Гайда, гайда!
— Дорогу, дорогу, дорогу! — кричат пешие, босоногие скороходы седобородого казы, размахивая своими белыми палками.
Угрюмо глядит из-под нависших бровей маститый старик, сдерживает своего аргамака, покрытого бархатной попоной, сверкающей шитьем и блестками, и сворачивает, избегая скандала, в первый двор, дощатые ворота которого мгновенно распахиваются перед ним, при одном только движении поводьев в их сторону...
Дорога становится шире; вдали видны темные входы базара. Смех, говор, визг точильных колес, ржание лошадей, хриплый рев верблюдов, бряцание чего-то металлического сливается в сплошной гул... Там и сям вьются голубоватые дымки, шипит поджаренное масло и заражает спертый воздух; во всех углах сверкают медные бока массивных самоваров, мелькают красные халатики мальчиков, прислужников в чайных лавках. Гремя в бубны и уныло распевая стихи Корана, бродят странствующие нищие монахи, «дивона», и выбирают место посуше и полюдней, где бы удобно было начать свои проповеди.
В одной из чайных лавок, несколько больших размеров, чем остальные, собралось довольно много посетителей. Пол этой лавки поверх циновок был устлан полосатым ковром, «шлямом»; по стенам, на полках стояли ряды самых разнообразных кунганчиков, медных и даже посеребренных, сверкающих мелким чеканом и резьбой. Громадный самовар, ведер в десять, свистел и пыхтел, выпуская из своей трубы клубы черного дыма; закопченный, покрытый каплями грязного пота сарт, согнувшись на корточках, раздувал его снизу кожаными мехами. Хозяин, чернобородый таджик Исса-Богуз, как будто предвидел такое многочисленное собрание гостей в своей лавке, — он успел надеть, поверх своего серого, замасленного халата, новый адрасный, так и шумящий при каждом движении таджика.
«Точно шелковый!» — самодовольно думал Исса-Богуз и проворно перетирал красным кумачным платком ярко-зеленые чашечки, настоящие китайские, с замысловатыми знаками на их плоских донышках.
Мальчики-прислужники, самые толстенькие, самые красивые по всей чайной линии, бойко сновали по лавке, едва успевая складывать в хозяйский кошель медные чеки[7] и даже серебряные коканы[8]; два водоноса, полуголых атлета, свалив со своих плеч одиннадцатый турсук (кожаный мех) с водой, подобострастно ухмыляясь и сверкая своими зубами, просили за свои труды, не в счет платы (по кокану в сутки), по чашке горячего и зеленого чая.
Богатый купец Шарип-бай выпил уже очень много чашек чая, так много, что уже отрыгнул раза три и беспрестанно вытирал пот на лбу и шее полой своего нижнего халата; верхний же, шелковый, прошитый местами золотом и блестками, был спущен с одного рукава, и полы его были раскинуты так ловко, что невольно кидались в глаза всякому. Не без расчета это было сделано, и не один уже проходящий мимо лавки со скрытой завистью полюбовался блестящей материей.
Важно поглядывал спесивый Шарип-бай, как бы раздумывая: кого бы удостоить своим разговором?
— Хорош кишмиш? Я думаю, один сор и навоз? — презрительно скривив рот, спросил он своего соседа, купца из кожевенного ряда, Мушуна-Али, скромно отбиравшего у себя на коленях ягодки изюма посвежее и почище.
— Пить чай можно. Конечно, тому, кто не старается возвеличиться питьем чая с сахаром, когда нечем другим гордиться! — отпарировал тот и взглянул на него так, как будто говорил: «что, брат, не на беззубого напал!»
— Сколько с меня за чай? — обратился сконфуженный задира к мальчику-прислужнику, сделав вид, что не слышал ответа Мушана.
— А что же, право, — начал кто-то из самого дальнего угла лавки, — нынче сахар так дорог стал, так дорог, что не всякому, ох, далеко не всякому можно им пользоваться!
— Ужасная дороговизна! — повернулся от самовара хозяин Исса-Богуз. — Двенадцать русских рублей за пуд, а было только десять!
— Да теперь нет его совсем у нас на базаре. Последний, что привезли из Бухары, купцы русские у нас закупили!
— Словно сами не могут выписывать! Им выгоднее; и мы бы у них покупали, а то, шутка ли, мы берем из Бухары, из вторых рук; они у нас и своим-то по тройной цене продают в русском городе!
— Караваны у них не пришли, я знаю! — поднялся на ноги и шагнул к выходу Мушан-Али.
Ему там было уж очень жарко, и он выбрался на перед, где и сел снова на корточки, облокотившись спиной о резную колонку навеса.
— Теперь в русских лавках и нет сахара. Откуда его взять? Перлович купец, что на чимкентской дороге сидит... вот тот самый, что еще здесь с Саид-Азимом рядом караван-сарай с красным товаром держит...
— Знаю!
— Видал его не раз и я!
— Ну, так вот он и скупил весь сахар из наших лавок; а наши дураки его продали, себе даже ничего не оставили!
— Потому хорошую цену дал, ну, и продали. По пяти копеек на кадак (фунт) набавил — как не продать?!
— А верно ты, бай, сам тоже свой продал, что вступился? Так, что ли? — засмеялся Исса-Богуз.
— До моих торгов нет тебе дела! — огрызнулся Шарип.
— Так вот, — продолжал Мушан-Али, — караваны ихние придут еще, пожалуй, через месяц, а то и больше; сахар-то весь в его руках. Какую цену захочет, такую и запросит. Его воля!
— Хорошую цену возьмет! — почесал затылок сосед...
— Ярм-целковый (полтинник) за фунт... Мне говорили сегодня утром! — вмешался еврей, торговец крашенным шелком, все время прислушивавшийся из-под своего навеса напротив к разговору в чайной лавке.
— Слышите, что джюгуд (еврей, жид) говорит. Ярм-целковый!
— Ой, ой, какие деньги загребет! — покачал головой седой мулла и понюхал табаку из своей тыквенной бутылочки.
— Будто наши не могли сами продавать свой сахар в русский город! — пожал плечами Исса-Богуз.
— А ты спроси вон у него, он возил на прошлой неделе, десять пудов возил, — хорошо ли продал?
Мушан-Али указал на таджика в розовом ситцевом халате, прятавшего в эту минуту себе за пазуху остатки недоеденной лепешки.
— И не спрашивай! — махнул тот рукой.
— Что, или плохи барыши были? — засмеялся Исса-Богуз.
Только вздохнул в ответ розовый халат и, шагая через ноги гостей, начал пробираться к выходу.
— А не пора ли и мне в свой караван-сарай? — поднялся тоже на ноги Шарип-бай и начал отыскивать свои туфли, «ичеги», между целыми рядами верхней обуви, стоявшей на ступенях лавочного возвышения.
— Слышал; «караван-сарай»! — подтолкнул локтем Мушан-Али одного из соседей. — Только успел завести лавку побольше, чем у других, уже караван-сараем величает...
— Таджик — хвастун, сарт! — презрительно сплюнул в сторону сосед.
— «Сарт»! Да ты-то кто сам? — остановился в вызывающей позе Шарип-бай и пристально посмотрел через плечо на говорившего.
— Я... я кто? Я узбек, природный узбек, а не...
— Э, э, э! Зачем ссору заводить? Не надо ссоры заводить... Эй, бай, нехорошо! — вмешался хозяин лавки.
— Велик Аллах, и гроза, и солнце в руках его! — бормотал мулла один из стихов Корана.
Звуки бубна и погремушек медленно приближались с правой стороны, из-за угла мечети, выдвинувшейся к самому базару. Толпа быстро густела; в соседних лавках заметно было особенное движение: торговцы запахивали свои халаты и выбирались из-за сундуков с товарами на пороги лавок... Десятка два мальчишек скакали и бесновались по улице, ловко увертываясь между лошадиных ног, прыгая по камням, положенным, как переходы, через топкую черную грязь улицы.
— Святые идут! — пронесся крик из толпы.
— Дорогу, дорогу дайте!..
Посетители лавки Исса-Богуза тоже поспешили перебраться к порогу.
Серединой улицы шла группа «дивона» из шести человек.
Грязные, покрытые салом, присохшими объедками, на несколько шагов вокруг заражающие воздух халаты не доставали до колен и рваной бахромой трепались по голым, костлявым ногам монахов. Эти халаты пестрели самыми разнообразными цветами; казалось, они были сшиты из всевозможных образчиков материй, так они были сокрыты заплатами. У каждого через плечо висела холщовая сума на веревке. Пояса у всех были обвешаны кисточками, звонками и разными путевыми предметами; главную роль тут играли ножи, сверкавшие, несмотря на грязь и нищету всего костюма, серебряными бляшками и белыми костяными головками черенков. На головах, не бритых, как у всех мусульман центральной Азии, надеты были высокие, конусообразные шапки, клетчатые — черное с зеленым; края этих шапок оторочены были бахромой, совершенно сливающейся с грязными, сбитыми в колтун волосами.
Эти шапки «дивона» почти никогда не снимают. Что должно быть там, под этими тяжелыми, теплыми колпаками?
Полосы грязного пота струились по исхудалым, фанатичным лицам. Босые ноги тяжело, без разбору дороги ступали и месили уличную грязь, никогда не просыхающую под навесами базаров.
За спинами этих юродивых висели большие бубны, затянутые бычьим пузырем и обвешанные бубенчиками и побрякушками. Странный, чрезвычайно неприятный, раздражающий нервы, сухой металлический звук издавали эти инструменты при каждом движении дивона.
В руках у них были тяжелые, точеные палицы из темного ореха, окованные железом, снабженные на концах острием в виде пики.
Шли эти монахи все пятеро в ряд, заняв почти всю ширину улицы. Один, шестой, шел впереди, мерно, через шаг ударяя в бубен кусочком толстой подошвенной кожи.
Это был совсем уже одряхлевший старик. Он шел, согнувшись в пояснице и ковыляя на своих кривых ногах, тощих, как ноги скелета, чуть обтянутые кожей. Беззубый рот шевелился, причитая что-то непонятное. Из-под косматых, совершенно седых бровей тупо смотрели желтоватые бельма и придавали всему лицу что-то страшное, отталкивающее.
— Сам Магома-Тузай, слепой Магома! — тихо, шепотом пробежало в толпе.
— Здесь! — остановился один из дивона, чернобородый атлет, и с размаха воткнул в землю свою палицу.
«Благословение и мир месту, где остановятся, о, Аллах, твои служители!» — пробормотал Магома-Тузай и тяжело опустился сперва на колени, потом, откачнувшись, как верблюд, с которого хотят снять вьюки, сел на свои мозолистые, корявые пятки.
Все остальные дивона сели сзади него, полукругом.
Перед стариком поставлена была деревянная чашка для сбора приношений.
— Аллах отобрал от стада своих любимых овец и дал им то, чего лишены были остальные. Он дал им способность видеть то, чего не видят другие. Смотреть вперед и знать все, что встретится на дороге, когда другие могут только знать то, что пройдено ими!
— Что он говорит? Ничего не слышно! — произнес довольно громко хозяин чайной лавки, Исса-Богуз.
— Тише ты, горластый! — крикнул кто-то из толпы.
— Да когда и вправду не слышно, что толку. Говори, старик, громче! — поддержал Богуза аксакал Годдай-Агаллык, остановившись верхом на своем коне перед его лавкой.
— Не перебивайте вы!
— Да тише же!.. Эй, перестаньте там посудой брякать! Да уйми же, собака, своего осла!
— Шевелит только своими дохлыми губами; ничего не разберешь... — проворчал Шарип-бай, не ушедший только потому в свой караван-сарай, что хотелось тоже послушать проповедь.
— Да скорчит пророк твою спину и пошлет немоту на поганый язык твой за эти слова! — прошипел седобородый мулла.
— Ну, гляди, сам на себя не накликай!
На ноги поднялся тот самый чернобородый дивона-атлет и потряс над головой своим бубном.
— Гм, гм... — откашлялся он, и это громовое откашливание, покрывшее собой гул толпы, обещало могучий голос, такой, что не заглушат его ни говор, ни бряканье посуды, ни даже завывания беспокойного осла, длинные уши которого шевелились между двух рогастых вязанок топлива.
— Вот это так!
— Эко рявкнул!
Послышались одобрительные возгласы.
— Тринадцатый десяток лет лежит на плечах праведника! — начал чернобородый, указав рукой, сжатой в кулак, на замолчавшего Магома-Тузая.
— Ой, ой, какой старый! — покачал головой один из зрителей.
— Что за старый, — презрительно пожал плечами хвастун Шарип-бай, — моему отцу, если б он остался жив, теперь было бы пятнадцать десятков!
— Попался бы ты мне три года тому назад![9] — шептал седобородый мулла.
— Торба с ячменем не всегда висит у коня на морде![10] — усмехнулся Шарип-бай.
— Время отняло у него силу голоса, — ревел чернобородый, — но прибавило ему ума... Ум его, голос мой... я начинаю!..
Он сел на корточки рядом с Магома-Тузаем, который шептал ему что-то на ухо, другой дивона сел перед ним, шагах в четырех, да так и уставился глазами на проповедника.
Его обязанность была вторить проповеднику и уместно поставленными вопросами и перерывами оттенять известные места проповеди.
Глухо забренчали, разом поднятые над головами, бубны. Дивона учащенно закивали своими колпаками. Магома-Тузай поднял глаза к небу, которое, впрочем, скрыто было от него, как его слепотой, так и закоптелым навесом базара, и сильно три раза ударил себя кулаком в грудь.
Дивона-атлет начал:
О белом верблюде[11]
Была земля. На этой земле стояло вечное лето, потому что деревья, трава, кусты были вечно зелены... На этой земле была вечная весна, потому что вечно все цвело, и никогда не вяли красные махровые розы... и как же эти розы хорошо пахли!.. На этой земле был вечный день, потому что солнце стояло на одном месте, как раз посредине неба...
— О, Аллах, какая это была хорошая земля!.. — удивился другой дивона. — Слушайте, слушайте, правоверные!
— На земле этой был вечный отдых, потому что зачем было трудиться и работать, когда все было готово, все под руками. Все деревья были снизу до верху покрыты плодами, и если ты сорвал один, на том же месте сейчас вырастал другой. Бараны паслись уже совсем готовые, вареные и жареные… молоко текло но всем арыкам?
— И даже везде были зарыты колодцы с бузой![12] — провозгласил дивона, сидевший напротив.
— Нет, колодцев с бузой не было! — кротко остановил его чернобородый.
— Как не было?! Я сам...
— Не перебивай некстати!
— И на этой-то счастливой земле жили вечно счастливые люди!
Снова загудели бубны. Рассказчик перевел дух и запил из поданной им чашки. Магома-Тузай снова принялся ему шептать на ухо.
— Земля эта принадлежала белому верблюду... Чистый, самим Аллахом посланный на землю, он жил на этих блаженных лугах, ел одни розы, пил чистое молоко, спал на шелковых халатах и одеялах!
— Что за житье было этому верблюду! — вскрикнул другой дивона.
— А разве людям было хуже? — заметил проповедник.
— Кто говорил, что худо, и людям хорошо, только за что же людям все это давалось, мне кажется, что они этого не стоили!
— Нет, стоили, потому что были очень хорошие мусульмане, не то, что нынешние!
— Ну, где теперешним! — согласился другой дивона.
— Люди должны были знать только одно дело — это ходить за белым верблюдом, они должны были рвать ему розы, подавать молоко и подстилать на ночь одеяло. Они должны были чистить его, мыть и обливать розовым маслом. Вот все, что они должны были делать!
— И как, подумаешь, мало было дела!.. И за такую малость жить на такой блаженной земле!
— Велик и многомилостив Аллах: он не хотел налагать на плечи человека тяжелого груза!
— И долго жили на этой счастливой земле счастливые люди; жили бы и теперь, но...
Чернобородый вдруг зарыдал, вцепился себе руками в бороду и ожесточенно принялся теребить грязные волосы. Грустно опустил голову на грудь Магома-Тузай, остальные дивона затянули протяжную, плачевную ноту.
В этих заунывных звуках, в этих всхлипываниях, прорывающихся в монотонном дребезжании бубен, в этой мертвой тишине, охватившей всю толпу, было что-то странное, тоскливо сжимающее сердце, тяжелое, от чего свежему человеку хотелось бы, во что бы то ни стало, отделаться, как от давящего кошмара.
И Шарин-бай перестал язвительно улыбаться, и Исса-Богуз потупил глаза в землю, и большинство слушателей занялось упорным созерцанием почвы у себя под ногами. Только седобородый мулла торжествовал и смело глядел на толпу каким-то вызывающим взглядом.
— Но эти люди стали забывать служить белому верблюду! — прорвался сквозь общее рыдание всего хора дивона голос чернобородого.
И все разом затихло.
— Раз они не принесли ему роз. «Зачем, — думают, — когда он сам может нарвать себе, сколько угодно». Другой раз они забыли поднести молоко к его морде. «Зачем, — думают, — когда оно течет у него под ногами». А раз так даже забыли подостлать ему для спанья одеяло!
— О, неблагодарные, о, паршивые собаки, они только не забывали думать о своих животах!
— Нахмурил Аллах свои грозные брови — и потемнело вечно сверкающее солнце. Холодом пронесло над землей, и надвинулись с севера, из-за ледяных гор, черные, тяжелые тучи.
— У-ух! — разом произнесли все дивона и затряслись под своими халатами.
— Не унялись дурные люди, не поклонились они белому верблюду, не стали просить его умилостивить грозного Аллаха, а еще сами рассердились на святое животное. «Из-за твоей лени все Бог посылает нам беды», — сказали они и со злостью отвернулись.
— Несчастные, они сами на себя накликали свою погибель!
— По ледяным горам загремел гром... Ярче прежнего солнца загорелась в тучах кровавая молния. Завыл ветер с севера, и в этом ветре завыло еще что-то страшное, чего люди еще и не слыхивали. То выли проклятые северные волки. Через ледяные горы, из ледяной страны, бесчисленными стаями шли голодные звери. Из их открытых пастей валил смрадный дым, из гортаней вылетал расплавленный свинец и чугун, и поражал смертью все встречное. У этих волков были стальные зубы — острые, крепкие, и никакая кольчуга не могла защитить тело от этих страшных клыков. Волки эти были все белые, и шли они рядами, и, казалось, конца не будет этим рядам, так их было много. Дорога перед ними была зеленая, сзади же красная. Красная, потому что вся земля покрывалась кровью. И цепенели от ужаса все люди!
— Еще бы не оцепенеть! Этакие страсти! — ввернул другой дивона.
— Ринулись волки на белого верблюда, принялись жечь его своими раскаленными языками, рвать стальными зубами, и полилась святая кровь на землю, и подогнулись крепкие колена бедного животного. Упал белый верблюд. Разом потухло солнце; холод и смерть стали на земле, замерзли реки, высохли деревья, и погибшая земля покрылась белым снегом. Так настало волчье царство! Залился слезами умирающий верблюд и громко вскрикнул: «Аллах многомилостивый, пощади свой народ, он еще исправится и будет помнить твою грозную волю!» И отвечал Аллах: «Ну, хорошо, еще не все потеряно, я прогоню от вас этих волков, только...»
— Пойдем-ка, брат, к начальнику; там вашего брата уже одиннадцать человек забрано! — вывернулся из толпы уральский казак в армячинной рубахе и схватил чернобородого за ворот.
— Кой! (оставь), — заревел тот и сильно толкнул казака.
Тот упал от этого могучего толчка, способного сбить с ног даже дюжую лошадь.
Все дивона вскочили на ноги. Старого Магома-Тузая окружила заволновавшаяся толпа. Глухой ропот пробежал под базарными сводами.
— Ну, вас к черту! — заворчал Исса-Богуз и поспешно стал задвигать досками вход в свою лавку.
— Уйти, пока чего не вышло! — попятился задом Шарип-бай.
— Бей его! — крикнул кто-то в толпе.
Человека четыре накинулись на казака, только что успевшего подняться на ноги.
— Брось, брось! Не трогать! — ринулся в толпу аксакал Годдай-Агаллык и раздвинул ее своей лошадью.
Сзади, в базарном выезде, показались силуэты горбоносых конских морд и замелькали темные фигуры с торчащими за плечами концами винтовок.
В кулаке чернобородого сверкнул нож, тяжелые палицы дивона взмахнули высоко в воздухе.
— В ножи их! — громко крикнул седобородый мулла и, махая рукой, с пеной у рта, ничего не видя, не сознавая, ринулся на казаков в каком-то исступленном азарте.
— Свяжи его, дурака старого, кушаком! — распорядился казачий офицер, командовавший конным патрулем.
Толпа быстро стала расходиться.
— Предатели! Второй раз предали волкам белого верблюда! — задыхаясь, кричал седобородый мулла, барахтаясь в казачьих руках.
Ему на голову накинули башлык и закрутили концы его на шее.
— Что же меня вязать? Я и так пойду! — кротко, слезливо глядя по сторонам, бормотал Магома-Тузай.
— А где еще один, самый-то рассказчик?
— Чернобородый? Он сюда побежал вот в этот переулок! — кричал Исса-Богуз, указывая налево.
— Я тоже видел; сюда! — указал нагайкой аксакал Годдай-Агаллык.
— Здесь, здесь! — кричал таджик Хаким, мясник. — У меня, за бурьяном, на задворке спрятался!
Кинулись на крик три казака и из народа человека четыре и вытащили со двора на улицу чернобородого, волком озиравшегося на толпу и наскоро шарившего у себя на поясе рукой.
Он нож искал; думал, что висит у него на своем месте, и забыл совсем, что обронил его, когда прыгал через сундуки джюгуда Иссака, пробираясь к Хакимову задворку.
И поволокли конные казаки злополучных дивона к кокандским воротам, на русскую половину, к допросу, в канцелярию начальника города.
И снова закипела встревоженная этим эпизодом базарная жизнь, и снова повалил народ в чайную лавку Исса-Богуза. Зашуршали приостановившиеся на время точильные колеса, застучали молотки в лавках медных и серебрянных дел мастеров, и зашипел кипяток, полившись из самоварных кранов в медные чеканенные кунганчики.
Богуз громко крикнул:
— Эй, вы, батча, подавай живее! Гляди, там в угле бай чаю спрашивает!
X Купцы из «Кэрмине»
В расстоянии полуверсты от центрального базара, перебравшись через довольно плохой деревянный мост, перекинутый через овраг Бо-су, дорога раздваивается: одна идет несколько левее, к базару, другая же круто поворачивает направо и, лепясь по обрывистому берегу, бесчисленными зигзагами выводит в жилую часть города, занятую преимущественно домами местной аристократии и только крупными торговыми деятелями, имеющими здесь свои обширные караван-сараи.
Наружный вид этой части города, несмотря на отборность ее населения, мало чем отличается от остальных частей, заселенных более скромными обитателями: те же узкие улицы, те же приземистые сакли с плоскими крышами, та же грязь по колено в дождливое время, а в сухое — мелкая, серая пыль, полуаршинным слоем лежащая на дороге. Ни одного окна, ни одной двери не ведет прямо на улицу; все это смотрит вовнутрь, сосредоточивая замкнутую жизнь в своих «хане» (дворах), скрытых от глаз постороннего наблюдателя.
Мертвая тишина стоит здесь; пусты улицы, лежащие в стороне базарных, проездных линий; только в известные промежутки времени важно проезжают по ним верхом на аргамаках сановные обитатели, сопровождаемые пешей прислугой. Да на крышах, между зеленью выглядывающих из-за них фруктовых деревьев и стройных, пирамидальных тополей, мелькнет иногда цветной рукав шелковой рубахи, сверкнут два живых глаза из-под накинутого на голову халата, прозвенит колокольчиком голос ребенка или послышится веселый женский смех, внезапно оборвавшийся, будто бы затворница вовремя спохватилась, сама испугавшись своей смелости.
Немного дальше, почти на рубеже этой мертвой части города с живой базарной, виднеются высокие ворота караван-сараев и приплюснутые купола мечетей. Тёмно-зеленые группы развесистых карагачей бросают густую тень на поверхность заплесневелых прудов — водных резервуаров города. Везде, где только улица становится шире, образуя небольшие площадки, лежат ряды отдыхающих верблюдов, стоят распряженные арбы, снуют и суетятся лаучи и арбакеши. Новые, еще неразгруженные караваны тянутся по улицам и сворачивают в ворота караван-сараев. Полукруглые, заостренные кверху арки словно всасывают в себя эти цепи верблюдов, проглатывая одного за другим вместе с их вьюками, качающимися по бокам, с их всадниками, кивающими с высоты седла своими меховыми малахаями.
Здесь уже шум, оживление, — не тот нестройный, неопределенный шум базара, а что-то совсем особенное, определенное; наблюдатель только по слуху еще издали может разобрать, где что делается, чем тот или другой караван-сарай занят.
— У Шарофея чай и табак вьючат! — говорит караван-баш Мангит, отбирая верблюдов, чересчур уж потерших себе спину.
— У русского купца опять собрался народ: все с железом не может покончить! — говорит другой. — Смотри, Ахмат променял-таки своих двух «наров» (одногорбый верблюд из Андкуи); взял четырех «тюя» (двугорбых) и ишака афганского, — здоровая скотина: я видел, больше лошади поднимает!
В этой-то части города и находился новый караван Перловича, переделанный им недавно из остатков индийского караван-сарая, сгоревшего во время недавнего землетрясения.
Этот караван-сарай был отделан очень роскошно, сообразно с местными условиями. Недаром приезжие из Бухары и Коканда купцы считали первым долгом завернуть к «богатому русскому купцу Станиславу-баю-Перловичу», — его имя без частицы «бай» теперь уже не произносилось, — и полюбоваться его просторными навесами для отдыха прислуги, крытыми, чистыми складами для товара, тенистыми галереями вокруг всего двора и почти единственным прудом — «хаузом», не покрытым зеленой плесенью и не заражающим воздух, как большинство остальных городских резервуаров.
Едва только посетитель въезжал в ворота, ему не приходилось привязывать свою лошадь, где попало, на солнцепеке: для этого ему тотчас указывали на сараи вдоль стен, с правой стороны ворот, где все было уже заранее прилажено для своего назначения. Пройдя через первый двор, посетитель уже пешком попадал на второй, несколько меньших размеров. Часть этого двора была занята «хаузом», к которому вели арыки, вводя в него чистую воду и выводя ее потом другими путями далее. Посреди другой части находилось довольно большое, четырехугольное возвышение, глинобитное, расположенное так, что как раз приходилось под густой тенью карагачей, роскошной группой поднимающихся посредине двора. Здесь помещены были дальние весы, с поднятых лотков которых товарные тюки можно было прямо накатывать на арбяные платформы. Целый ряд полуворот вел в просторные пакгаузы, а левее, под навесом, поддерживаемым точеными колонками в местном вкусе, расписанными яркими красками и позолотой, находилась резная дверь, ведущая в помещение самого хозяина и приемная для его гостей.
Перловичу часто приходилось, по своим торговым делам, по целым дням проводить в караван-сарае, и потому все здесь было им приспособлено для жизни так же, как и в его городском доме.
— Хорошо обстроился, очень хорошо! — говорил его сосед Саид-Азим-бай, побывав в новом помещении Перловича и вернувшись домой.
— Гм, хорошо; я думаю, у эмира в Бухаре хуже! — соглашался с ним его тамыр (приятель) Шарофей и, взявшись за луку своего красного, раззолоченного седла (он собирался уезжать), остановился, взглянул в ту сторону, где из-за стены виднелись вершины карагачей в русском караван-сарае, и добавил, улыбнувшись:
— Хороший человек этот Станислав-бай-Перлович!
— Хороший хозяин! — поправил его Саид-Азим, сделав особенное ударение на слове «хозяин».
***
Станислав Матвеевич только что вернулся из города. Он слез с лошади, бросил поводья черномазому татарину-конюху, расправил колена, щелкнул нагайкой по лакированному раструбу сапога и тихонько поднялся на ступеньки крыльца.
Четыре белых чалмы разом произнесли «хоп» и «аман», нагнулись в пояс и показали ему верхушки красных тюбетеек, вокруг которых намотано было полотно чалм.
— Кто такие? — обернулся Перлович к Шарипу, встретившему его на пороге.
— Купцы из Кэрмине, по вчерашнему делу! — отвечал старый Шарип, с почтением принимая от своего хозяина шапку, перчатки и нагайку.
— Будьте здоровы! Милости просим в дом! Давно здесь?
Четыре чалмы поднялись так же одновременно, как и опустились, и открыли четыре бородатых лица узбекского типа.
— Пришли вот опять к тебе; были у соседа твоего, почтенного, достославного Саида-Азима-бая; обещал тоже прийти сегодня сюда, чтобы уж все кончить! — произнес один из купцов и, предупредительно рванувшись вперед, сжал легонько обеими ладонями протянутую ему руку.
— Придет, Саид придет; он мне говорил утром.
Ну, подождите, пока Шарип дастархан[13] приготовит! — распорядился Перлович, здороваясь поочередно с купцами. — Ну, хорош путь был?
— Твоим благочестием доехали благополучно! В Кызыл-Купыр на границе взяли с нас один раз зякет со всего товара, а потом в Дюзаке еще раз, вдвое против прежнего. Это так и следует?
— Стало быть, следует, когда берут. Прошу пожаловать!
Перлович прошел в дверь и жестом пригласил узбеков следовать за собой. У самого порога купцы сняли верхнюю обувь, остались только в одних мягких кожаных сапогах, в виде чулок, «мусса», и друг за другом, пригнув головы, хотя дверь была настолько высока, что самый высокий человек не мог бы достать до притолоки верхушкой своей шапки, взошли в прохладную приемную, устланную полосатыми коврами, с мягким, несколько возвышенным сиденьем вдоль стен комнаты.
Уселись. Перлович сел тоже, по туземному образцу, на ковер. Два мальчика-батчи принесли кальян и подносы с дастарханом.
Гости Станислава Матвеевича в первый раз только находились в Ташкенте. Они пришли с караваном бухарского хлопка и табаку, который рассчитывали сбыть здесь и закупить партию русских товаров, преимущественно ситцу и коленкору. Перлович через своих агентов предложил им не дожидаться, пока распродастся товар, а променять им их груз на готовый товар из своих складов, конечно, с некоторой уступкой.
Дело было очень выгодно для Станислава Матвеевича и небезвыгодно для купцов из Кэрмине, и сегодня эта сделка должна была оформиться и скрепиться; ждали только Саид-Азима, который тоже участвовал в сделке, так как у Перловича в настоящее время не оказалось всего количества нужного товара.
Светлый четырехугольник отворенной настежь двери разом загородился массивной фигурой Саид-Азима.
— А, ну, теперь мы все в сборе! — произнес Перлович; он не здоровался с вошедшим, потому что уже видался с ним сегодня утром.
— Как же жарко! — вздохнул Саид и, приподняв свою кашемировую чалму, отер с лица и головы пот концом шелкового пояса.
— У нас еще жарче! — заметил один из купцов. — Арыки пересохли; на Чапак-аша заперли воду и не дают на низы. Боятся наши, как бы рис не выгорел!
— Отчего же не дают? — спросил Перлович.
— Плотина, говорят, неисправна; от наших народу в Самарканд требуют для земляных работ!
— Послали?
— По человеку с каждого десятка выслали. Много народу пошло; мы обогнали дорогой. Бек Заадинский с ними!
— Рахмед-инак?
— А то кто же. Он сидит пока крепко. Эмир ему халат прислал недавно!
— Халат! — презрительно скорчил губы Саид-Азим. — У вас там еще все халаты! Халат что... халат вздор, а вот это...
Он раздвинул руками свою густую, черную бороду и показал большую золотую медаль на владимирской ленте.
Не менее презрительно пожали плечами купцы из Кэрмине и только вскользь взглянули на этот яркий металлический кружок, так и сверкавший на лиловом бархате Саид-Азимова халата.
— Всякому по заслугам, — равнодушно произнес один из них.
— А что же твой муфти, приятель? Пора бы ему прийти! — заметил Станислав Матвеевич и поглядел на часы.
— Придет, через полчаса придет! — отвечал Саид, прижав указательным пальцем дырочку кальяна и собираясь втянуть дым. — Я ему все велел приготовить; как придет, этим, — он кивнул головой на купцов, — придется только подписать, и дело сделано!
— Да, надо бы кончать, — заявил ближайший узбек. — И мы бы даром не теряли времени; нагрузились бы и пошли!
— Поспеете. Лопатинских приказчиков видел: муку у Шарофея торгуют для последнего подряда!
— Что же, сторговали? — процедил сквозь зубы Перлович.
— Цену хорошую дают, отчего не продать!
— Дурак твой Шарофей!
— Что так?
— Сядет этот подлец у вас у всех на шее, помяните мое слово; все к себе заберет; увидите тогда, спохватитесь — поздно будет!
— Всем дела хватит и нам останется! — задумчиво произнес Саид-Азим.
— О ком это он говорит? — спросил купец из Кэрмине.
Остальные переглянулись и стали тихо переговариваться.
— Вчера, я знаю, — шепнул Саид-Азим хозяину, — от него к этим все-таки присылали, надбавку против нашего делал...
— Как же, делал! — подтвердил купец, расслышавший о чем идет речь.
— И Аллах вас спаси с ним связываться: этот человек — ходячая ложь и обман!
— Да мы не потому, а как же, когда мы тебе уже обещали?
— И хорошо сделали; вышли бы иначе из Ташкента пешком, в одних халатах!
— Оборони пророк!
— Что же ты так его чернишь сильно, — лукаво улыбнулся Саид-Азим, — или все за последний подряд сердишься? Ведь, ишь, ты сколько грязи накидал на его голову!
— И Шарофей твой на всю жизнь мне врагом сделается, если продаст ему муку. Лопнет он со своим подрядом!
— То его дело, мне что!
— Слушай. Скажи ему, — ты его сегодня увидишь еще, — скажи ему, что я сверх последней лопатинской цены по пяти копеек на пуд надбавки во всяком случае делаю!
— В убытках будешь! — мотнул головой Саид-Азим, как бы думая: «ведь вот чудак-то!» — Уж больно ты зол на него. И чего это только вы не поделите? Отчего же теперь наши купцы...
Быстро поднялся на ноги Станислав Матвеевич и шагнул к дверям. Ему послышались голоса на переднем дворе.
Собственно один голос так поразил его...
— Коняку моего ты, краснощекий чурбан, привяжи где-нибудь. Сюда, что ли? — говорил этот голос в воротах.
— Лопатин приехал! — произнес Саид-Азим, узнав голос. — Вон со своего иноходца слезает! — говорил он, выглядывая за дверь. — Какой же он, право, толстый!
Перлович быстро вышел из сакли.
Видимо, озадаченные, в полнейшем недоумении переглядывались между собой оставшиеся купцы. Уже из одного только того обстоятельства, что вчера вечером, видимо, тайком, были к ним от Лопатина подсыльные, чтобы отбить от Перловича выгодную сделку, пользуясь тем, что сделка эта существовала пока только на словах, они догадались о вражде этих двух торговых деятелей. Несколько фраз, вскользь брошенных Перловичем, и последний разговор его с Саид-Азимом окончательно убедили их в этом. А тут вдруг сам к нему приехал! Что за диковина? Не могли наивные узбеки переварить этого обстоятельства.
— Смотри, подерутся сейчас! — шепнул один другому.
— Он без ножа пошел? Ты не заметил? — спросил другой.
— Нет, что-то было в руках. «Жизнь человека и всякого зверя, большого и малого, и птицы, и рыбы — все в воле Аллаха!»
Пронзительный, раздирающий душу вопль пронесся но двору.
— Зарезал! — крикнул узбек и вскочил на ноги.
Поднялись и остальные трое, сильно побледневшие, смущенные, и поспешили к порогу.
— Чему я обязан, дорогой мой Иван Илларионович... Вот неожиданность! Благодарю, тысячу раз благодарю!
— Нет, что же, я давно собирался... Эк он его ожег! И это часто случается?
Станислав Матвеевич обнял Лопатина правой рукой за талию, левой же поддерживал его под локоть. Таким образом они взошли на крыльцо и остановились перед дверью в позах Чичикова и Манилова.
— В старых постройках их попадается довольно много.
Поди, скажи Шарипу, чтобы маслом деревянным тебя намазал скорее! — обернулся Перлович к одному из мальчиков-конюхов, присевшему на землю и скорчившемуся от невыносимой боли.
— Какие эти скорпионы ядовитые... Он, верно, наступил на него! Что, это не очень опасно? — спрашивал Лопатин.
— Пустяки, сегодня же к вечеру здоров будет, — отвечал Перлович, — но что это больно — то, действительно, ужасно! Я сейчас велю подать стулья... Эй, Шарип! Мы, знаете, обжились здесь, привыкли уж просто на коврах!
— В повалку то?..
— А то пойдемте, пожалуй, на другую половину, на европейскую, — я ее называю европейской потому, что она меблирована по-нашему. Туда нам подадут кое-чего со льдом, vous comprenez?
— Отчего-же не здесь? Тут так прохладно. А, Саид-Азим, приятель, здорово! А я было к тебе тоже заезжал, да говорят, из дому уехал. Ах, ты, старый греховодник!
Лопатин потрепал Саид-Азима по животу.
— Ну, эк! — икнул тот, однако улыбнулся и произнес: — Другой раз придешь, дома буду!
— Мы пойдем! — робко подступил один из купцов.
Перлович сделал нетерпеливое движение.
— А вот и мой мулла муфтий пришел, — сказал Саид-Азим. — Мы сейчас и к делу можем прис...
Он разом остановился, почувствовав, как Перлович дернул его за полу халата.
— Да я, может быть, мешаю? Вы, пожалуйста, не стесняйтесь! — поспешил заявить Лопатин.
— Выведи их на второй двор; я сейчас приду! — шепнул Перлович Саиду.
Маленькая, старческая фигурка в необъятной чалме, в полосатом зеленом халате, с длинным футляром под мышкой и сверточком проклеенной прозрачной бумаги, сунулась было в дверь, но, заметив жест Саид-Азима, быстро юркнула назад и скрылась.
— Хорошо, хорошо, с большим вкусом! — рассматривал Лопатин штучный потолок и алебастровые украшения стен, делая вид, что совершенно не замечает ничего происходящего.
Перлович проводил купцов за порог, Саид-Азим помедлил с минуту, побарабанил пальцами по своему колену с видом человека, которому положительно спешить некуда, спросил Лопатина о состоянии его здоровья и здоровья его домашних, порылся в фисташках, одном из основных блюд дастархана, и потом уже вышел из сакли. Он переступил порог медленно, верхние сапоги надел еще медленнее, зато, шагнув за дверь, сразу поддал ходу и почти бегом перешел дворовую площадку.
В сакле, где Саид рассчитывал найти купцов, их не было... «Куда же это они делись?» — подумал он и стал оглядываться.
Крикливый голос муллы несся с первого двора... Грамотей горячился и что-то доказывал, там же слышны были и голоса купцов из Кэрмине.
— Вот, Саид-бай, они от дела отказываются! — кинулся навстречу Саид-Азиму его писец.
Вопросительно взглянул тот на купцов... Все четверо стояли кучкой под карагачами и пощипывали бахрому своих поясов.
— Что же это вы? — спокойно спросил их Саид.
— Мне что же, я, пожалуй... — начал один из них. — Да мой товар вместе с другими, как его выделишь?
— И ты не хочешь? — улыбнувшись, обратился Саид к другому.
— Я один что? Как другие. Вот они не хотят!
— А ты?
— Я уж вместе со всеми, как они, так и я.
— Ну, мулла, пиши договор. Печати с вами?
— Мы печатей класть не будем и договора вашего не хотим. Мы уж лучше по-прежнему на базаре сдавать будем!
— Да вы чего это ветер переменили: то с одной стороны был, а теперь вон уж откуда дуть начало!
— Слушай, бай, ты один с нами делай, а «того» не надо, Бог с ним. А то мы, пожалуй, с другим, что вчера присылал к нам; у него в глазах все-таки немного больше правды!
— А лучше всего, если мы по-прежнему, на базаре, хоть долго, а вернее, а то с вами связываться — еще беды наживешь! — выступил из группы другой купец.
— Ложь у вас на языке, ложь и в глазах, — начал третий, борода с проседью, и с укором взглянул на Саид-Азима. — А ведь с тобой, бай, прежде можно было дело делать!
И, не сказав прощального приветствия, купцы повернулись и, не спеша, пошли к воротам, мелькая из-под халатов зелеными задками своих туфель.
Вопросительно посмотрел мулла-муфтий на Саид-Азима и стал укладывать в футляр свои письменные принадлежности: камышовые перья, кривые ножницы для обрезки этих камышинок, медную ложечку для восковых чернил, кисточку для намазывания печатей и самые печати, сердцеобразные металлические пластинки с вычурными вырезными знаками.
Исподлобья смотрел Саид-Азим на удаляющихся купцов, и когда последняя чалма скрылась за воротами, с досадой плюнул в сторону, прямо на отпечаток на песке ноги одного из ушедших.
Сильно бросившаяся в глаза двуличность Станислава Матвеевича разом пробудила все недоверие и подозрительность азиатской натуры.
А Перлович, сидя, как на иголках, с глазу на глаз с Иваном Илларионовичем и давясь глотками холодного шампанского, ждал, когда же это его позовут скрепить своей подписью их выгодную сделку.
— Как посмотрю я на вас, на вашу предприимчивость, на все это вокруг вас, как это все растет, обставляется, так мне даже немного завидно становится, право! — говорил Лопатин и дружески, несколько даже фамильярно, притиснул слегка к столу холодную, сухую руку хозяина.
Саид-Азиму-баю в эту минуту подавали его аргамака, и он, с помощью конюхов, лениво взбирался на свое высокое седло. Неловко ему было, да и не хотелось как-то идти к Перловичу объявить о несостоявшейся сделке, и он предоставил это своему муфтию, который уже переминался на пороге с ноги на ногу, придумывая оборот речи, могущий менее всего обидеть русского купца Станислав-бая.
Должно быть, на его язык навернулись, наконец, подходящие фразы, потому что мулла решительно крякнул, оправился, сложил руки на желудке и смело переступил порог комнаты.
XI На пристани
Крещеный еврей Зимборг, отставной каптенармус одного из местных батальонов, приехав из Ташкента домой в Чиназ, первым долгом распорядился, чтобы его супруга Амелия сама таскала в погреб из повозки бочонки с водкой и ящики с бутылками. Лично он не мог ей помочь в этом, потому что ему надо было по очень спешному делу тотчас же навестить товарища своего, отставного горниста Александра Вульфзона, тоже из евреев, содержателя единственной в Чиназе гостиницы с номерами для приезжающих.
— Иди, иди, уж я без тебя управлюсь! — говорила ему супруга, тщательно заслоняя своей вертлявой особой темный промежуток между углом широкой двуспальной кровати и покосившимся шкафом с посудой.
— Только смотри, — предостерегал ее супруг, — чтобы у меня ни одна бутылка не оказалась разбитой: все должны быть целы; сам укладывал и ехал потихоньку. Смотри!
Слово «разбитой» было произнесено с каким-то особенным ударением; очевидно, что это был намек на какое-нибудь известное обстоятельство; к тому же и худощавое, бойкое лицо Амелии вспыхнуло при этом слове, и она с досадой произнесла:
— Стану ли я еще эдакую скверность пить! Не найду будто лучшего!
А выждав, когда муж ее скрылся за поворотом в переулок, произнесла более ласково:
— Ну, ступай теперь, Ваня, да скорее, а то встретитесь с мужём, опять раздеретесь на всю улицу, как в прошлый раз... что хорошего!
— Конечно, что хорошего! — согласился щеголь фельдшер Ваня и, чмокнув на ходу хозяйку в ее потную щеку, юркнул за дверь, оттуда в калитку на задворок, перелез через забор и пошел себе вольготно по базарной улице, закуривая смятую папиросу.
Александр Вульфзон был занят наклеиванием заплат на бильярдное сукно, прорванное вчера подвыпившими юнкерами, когда к нему пришел его приятель.
— Здорово, что нового? — произнес он, завидев входящего Зимборга.
— А поди сюда! — подманил его пальцем тот.
И между ними началось оживленное совещание.
— Амелия! — крикнул экс-горнист своей супруге (у него тоже была супруга Амелия). — Поди, скажи, чтобы ту комнату с передней, что в три окна на двор, вымели чисто-начисто, ковер постлали и клопов из дивана кипятком выпарили!
Это распоряжение было результатом совещания.
— Кого такое ждешь? — протянула откуда-то супруга.
— А тебе что? — так же протянул супруг.
— А зачем мне не сказать?
— А затем, что не надо, — ответил сначала Вульфзон, но потом подумал и произнес: — Лопатина, вот кого. Ну, теперь ты знаешь? Иди же, выпаривай клопов!
Амелия Вульфзон пошла исполнять возложенное на нее поручение, а Александр Вульфзон прогладил еще раз горячим утюгом по заплате и сказал мальчику Пашке, маркеру:
— Ты, дьяволенок, смотри, не смей шаров гонять, пока совсем не просохнет; и господам офицерам скажи, что просят немного подождать, — слышишь?
— Слышу! — отозвался мальчик Пашка и стал из сжатого кулака выпускать мух по одной, пришептывая: «первая, вторая, третья...»
Его интересовало, сколько это он захватил их за раз, махнув рукой над столом, пыльная поверхность которого была покрыта остатками обеда и пивными лужами, размазанными пальцем.
***
В ночь приехал из Ташкента Иван Илларионович Лопатин, в коляске четверткою, и тотчас же получил приглашение остановиться в собственном комендантском доме. Он поспешил отклонить от себя это любезное приглашение и предпочел расположиться на диване в гостинице Александра Вульфзона.
— Заедят, подлецы! — сомнительно покачал головой Иван Илларионович, нагибаясь со свечой к подозрительным щелям мебели.
— Ни Боже мой! — протестовал экс-горнист. — То есть, дай Бог, не сойти с места. Моя жена собственноручно их ошпаривала — так ошпаривала, так ошпаривала...
— Разбудить меня пораньше завтра. Пароход придет в восемь, так будите эдак часов в семь или даже в половине седьмого. Своих лошадей я вышлю за ночь в Дзингаты на подставу, а мне послать за почтовыми! — распорядился Лопатин и грузно заворочался на диване, от которого еще до сих пор струился легонький пар, и попахивало чем-то вроде лазаретного бульона.
— Желаю вам самых хороших, самых превосходных снов! — на цыпочках попятился к дверям Вульфзон.
— Туши свечу! — промычал Иван Илларионович и повернулся носом к стене.
Ему хотелось спать, ему казалось, что он вот-вот так и погрузится в сон, едва только почувствует под головой свежую наволочку пухлой подушки. Однако, это только казалось.
Свист парового свистка, пыхтение паровика и глухой шум работающих колес так и поражали его слух, хотя пароход этот, в данную минуту, находился, по крайней мере, в сорока верстах ниже по течению Сыр-Дарьи, и никто в Чиназе, кроме Лопатина, не мог слышать его приближения. Мало того, сквозь закрытые веки он видел даже, что делается на этом пароходе, на его палубе, на мостике, под мостиком и даже в каютах, несмотря на их запертые двери...
«И как это хорошо устроено: ты вот тут лежишь себе покойно и рулем правишь... клопы тебя не кусают... Да, хорошо быть капитаном!» — «По заслугам, всякому по заслугам», — раздается внушительный генеральский голос. — «Ваше превосходительство!» — захлебывается от умиления Иван Илларионович. — «По заслугам! — еще внушительнее говорит генерал. — „Владимира“ получили, „Анну“ на шею получили, в капитаны парохода произвели, — мало!? Еще чего хотите?»
«Адель» в петлицу, если позволите-с... — «Чего?» — грозно хмурится генерал. — «Конечно, ваше превосходительство, я приложу все старания, чтобы заслужить; и так как при всем своем капитале...»
«Льва и Солнца пожалуйте!» — вывертывается откуда-то, словно из-под ног, Перлович и загораживает генерала своей спиной. — «Нет, позвольте»! — энергично протестует Иван Илларионович и тянет его за полы парусинового пальто. И эта белая спина со своими тремя продольными швами, с двойными прорезами карманов пониже, с перламутровыми пуговицами, так аккуратно прочно пришитыми, никак не поддается его усилиям. «Что же это? Ведь это не то совсем; мукой пахнет!.. Ха-ха-ха! Ведь вот не узнал-то мешка с мукой, не узнал... хорош лабазник!»
«Право на борт! Стоп машина! Вали все в кучу, в бунты складывай!» — громко в длиннейший рупор командует Лопатин... И вот тысячи невидимых рук со всех сторон надвигают бесконечные вереницы белых, пыльных, туго набитых мукой мешков. Вот эти пузатые мешки так и смотрят в глаза Лопатина своими красными клеймами «С. П.». «Что же это такое? Почему же все „С. П.“, когда я велел клеймить „И. Л.“? Позвать Катушкина, живо!.. Однако, эй, вы там, сзади, легче, стойте, задавите!.. Да стойте же, черти! Стойте, дьяволы! Не слышат!.. Ой, батюшки!.. Господи!..»
Со всех сторон надвигаются целые мучные стены; выше и выше растут они. Вот уже чуть виден высоко вверху маленький кружочек голубого неба. Все затихло кругом и потемнело, словно в могиле; и только за стенами этого хлебного колодца глухо, чуть слышно шумят пароходные колеса.
«Да клюнет ли?» — спрашивает знакомый голос. — «Клюнет, мама, вот смотри!» — говорит другой голос, тоже знакомый, — нет, более чем знакомый; чудный, дорогой, от звука которого так и полилось теплое масло по сердцу Лопатина. Голоса эти несутся сверху. Там, на самых верхних мешках сидит Адель и грациозно держит в руке длинную удочку; около нее сидит Фридерика Казимировна и держит на коленях коробочку с червями...
Сильно подскакнул кверху Иван Илларионович. «Эх, высоко!» «Клюнуло!» — торжественно произносить Адель... И вот чувствует он, как острый холодный магнит притягивает железо, так этот крючек тянет его все кверху, все кверху. Вытащили.
«Ах, мама, не то, совсем не то; мне „его“ не надо; я думала...» — говорить капризница Адель. — «Бери, Адочка, бери, дитя мое», — уговаривает ее Фридерика Казимировна. — «Не надо! — решительно произносит Адель. — У него есть жена в черниговской губернии». — «Помилуйте, она совсем умирающая женщина. Да притом, черниговская губерния так далеко отсюда», — лепечет сквозь слезы Иван Илларионович и ловит ноги красавицы, впивается своими толстыми губами в банты ее туфель. — «А это что?!» — грозно хмурит брови Адель и указывает вперед рукой.
И видит Лопатин, что снова стоит на руле, перед ним высокие, белые пароходные трубы, за ними тянутся какие-то веревки, очень много веревок; и за этими-то веревками, поверх палубного навеса, на облитом кипятком диване, лежит, как на ладони, вся черниговская губерния.
«Я вам советовала еще прежде убрать „ее“ куда-нибудь подальше! — шепчет ему на ухо Фридерика Казимировна. — Вот если бы вы слушались моих советов, этого бы и не случилось. Смотрите, как важно развалилась!»
«В воду ее, за борт! — кричит взбешенный капитан. — За борт ее, подлую, живо!»
Все матросы, они же и приказчики, с гамом и свистом кидаются на несчастную черниговскую губернию, хватают ее вместе с диваном, раскачивают... Ух!
Как хорошо, как легко! Словно гора свалилась с усталых, разбитых плеч. Даже пароход пошел шибче, избавившись от лишнего груза.
«Ну, теперь другое дело! — ласково произносит Адель и гладит Лопатина по его кругленькой лысине. — Теперь мы можем и к аналою...»
«Догонит, догонит, берегитесь!» — шепчет ему на ухо madame Брозе. Обернулся Иван Илларионович, и вот видит он над вспененной колесами водой, как раз посредине этой волнующейся борозды, бледное, исхудалое лицо. Худые, голые руки с угрозой подняты из воды; светлый обручек сверкает на одном из этих крючковатых пальцев; на этом обручке он ясно читает свое имя...
«Полный ход, полный ход!» — кричит он, нагнувшись к слуховой трубе. Он боится, что этот страшный призрак догонит пароход, уцепится за него и снова влезет на борт... «Полный ход!» — отчаянно вопит Лопатин. «Полный ход!» — визжит сбоку Фридерика Казимировна... «Как хорошо, как скоро!» — хлопает в ладоши и звонко смеется Адель.
Крак! Пароход затрещал и разом остановился.
Холодный пот проступил под бельем Ивана Илларионовича, и мурашки забегали у него по спине.
«На мель сели!» — «Нет, на камень напоролись!.. Важно! Как есть во всем аккурате! Ссаживай, ссаживай!» — со всех сторон кричат голоса.
«А пойти посмотреть, в самом деле, на какого черта мы это нарезались», — прошел мимо Бурченко, фамильярно хлопнул Лопатина по плечу, даже по животу потрепал и со смехом добавил: «ишь, ты, тоже в капитаны суешься...»
Вот он перегнулся за борт, пристально рассматривает что-то. «Ха-ха! Ледоколов, это ты? Чего это ты на самой дороге расселся, пароходы на полном ходу останавливаешь?»
«Золото, брат, здесь промываю», — слышится внизу чей-то голос.
«Золото!» — томно стонет Фридерика Казимировна и хватается за сердце.
«Мама, удочку дай скорее, мою удочку! — торопится Адель, прислушиваясь к звуку этого голоса. — Его-то мне и надо, а этого...» Она презрительно смотрит через плечо на Лопатина и лихо, как наездница на седло, бочком садится на борт парохода, распутывая поспешно леску своей удочки. Она вся сияет, вся в восторге; она так хищно улыбается и широким размахом кидает крючок за наживой.
«А, если так, то пропадай все... пропадай моя голова! Проп... проп... проп...» захлебывается от бешенства Лопатин и ищет глазами чего-нибудь такого... как бишь его?.. А, вот оно, вот...
Железный багор торчит откуда-то из-за бочек; острие у него такое длинное, блестящее; его-то и нужно! Обеими руками схватывает он это оружие, лезет на борт, замахивается что есть мочи...
«Иван Илларионович!» — испуганно говорит Адель.
«Иван Илларионович!» — визжит Фридерика Казимировна.
«Иван Илларионович!» — урезонивает его Бурченко.
— Иван Илларионович! Уже семь часов скоро! — отчетливее прочих произносит экс-горнист Вульфзон; и так как первые три оклика его остались без результата, то теперь уже он решается дотронуться до этого пухлого, потного плеча, выставленного из-под узорного, ярко цветного халата туземного покроя.
— А?.. — поднялся Лопатин, обвел вокруг воспаленными, красноватыми белками и тотчас же потребовал себе графин квасу похолоднее, «да нельзя ли с ледком?»
— За косой отмелью дым виден; так рассмотреть нельзя, а господин поручик Скобликов в трубу смотрели, так, говорят, очень явственно заметно! — доложил экс-горнист, собственноручно устанавливая на табурете большую медную лохань для умыванья.
***
Все полуплоские крыши домиков чиназской слободки были заняты любопытными чиназцами, с большим нетерпением ожидавшими прибытия «с низу» каждого парохода. Это прибытие — эпоха в жизни маленького городка. Сколько новостей привезет пароход, сколько новых лиц появится в Чиназе, население которого, хотя на несколько дней (время стоянки парохода), значительно увеличится! Особенно ждут этого времени содержатели разных питейных лавочек, а их в Чиназе тридцать восемь, и с каждым днем открываются все новые и новые. Если обратить внимание на то, что число домов в Чиназе не превышает ста двадцати, то будет ясно, что все кабатчики рассчитывают больше на приезжих и проезжих, чем на своих местных обитателей. Не один Зимборг ездил накануне в Ташкент за подкреплением своих складов: и Ицко Скуратов, и Гамамедин Истанбулов, и даже отставной майор Шампиньончиков, — все позаботились о том, чтобы матросы и пассажиры парохода могли вполне вознаградить себя за свое полуторамесячное воздержание во время плавания.
Кроме групп на крышах, по пыльной прямой дороге, соединяющей слободку с местом пристани, тянулись группы линейных солдат, белых с головы до ног, женщин, обитательниц слободки, так и горящих на солнце своими яркими, преимущественно красными, платьями. Прокатил, обдавая всех пылью, комендантский тарантас со всем его семейством; проскакало несколько офицеров, и даже пронеслась просто бегом, подобрав юбки, вертлявая Амелия Зимборг, которой казалось, что именно только одна она опоздает к интересному моменту прибытия парохода.
Пароход «Арал» подходил уже близко; он подвигался почти у самого берега. Вся палуба судна была покрыта народом; даже две баржи с мукой и бочками, казенным грузом, шедшие за пароходом на буксире, кишели пассажирами.
Пестрая, разнохарактерная толпа, толкаясь, обгоняя друг друга, подвигалась по берегу, провожая «Арал», когда он, поравнявшись с базаром, замедлил ход. С палубы на берег, с берега на палубу давно уже завязались самые оживленные разговоры. Общее внимание привлекала особенно последняя баржа, между тюками которой виднелись десятка два веселых, смеющихся женских лиц и раздавались плач маленьких ребят и убаюкиванье их матерей.
— Баб-то, баб что везут, — страсть! — горячился молодой солдат-линеец, цепляясь по самой окраине песчаного берега реки и рискуя каждую минуту оборваться с кручи прямо в пенистую борозду за колесами.
— Это опять жен солдатских на передовую линию вытребовали. Которого батальону, тетка? Эй, ты, слышь, курносая! — сложив руки у рта, кричит другой солдат, из фурштатских.
— Тише ты!
— Чего тише? Хочу — кричу, хочу — нет. Тетка-а!
— Смотри, смотри, вон на куле сидит, толстая такая, в лаптях: право, как есть деревня!
— Пооперятся маленько, погоди: господам офицерам белье мыть станут, живо приоденутся!
— Да вот так как раз с вашего мытья и приоденешься! — откликается из толпы зрителей молодая бабенка в шелковом платке и кумачном платье — значить, уже из оперившихся.
— Ох, ты, пава косоглазая!
— Отстань!
— Чего отстань? Я с лаской!
— Прокофьев, легче: капитан сюда глядит; ишь, усом как повел!
— Да вот он те шкуру вздерет! — понизив голос, замечает «косоглазая» и перемигивается с усатым капитаном.
— А нет лучше матросов! — тихонько замечает одна женщина другой, тоже из «оперившихся».
— Странный вкус! — подернув плечом, замечает та.
— Известно, народ с деньгами, не то, что наши голыши!
— Конечно, если кто из одного антересу!
— Дура!
«Развеселые ребята энти самые матросы!» —
заливается самым высоким, тамберликовским тенором тот самый «фурштат», что заявлял о своем праве кричать или не кричать.
— А вот у этого самого дерева привязывают канат; видите, как это просто у нас устроено: с парохода подадут трап, сходцы такие с перильцами — ну, и все готово. И как это удачно, что высота берега совершенно подходит к высоте парохода. Хотели было прежде строить пристань, да зачем? Вы сами видите, что это совершенно лишнее. Вот извольте посмотреть. Эй, ты, красный халат, подвинься влево!
Угреватый адъютант местного батальона принялся было усердно показывать Лопатину, как незатейливо, просто пристают пароходы «у них в Чиназе».
— Да, да, конечно, очень хорошо... Не может быть!.. Вы думаете? — больше из вежливости, вовсе не слушая адъютантского рассказа, невпопад отвечал Иван Илларионович.
Он теперь уже не спускал глаз с пароходного мостика. Он видел там... он ничего там не видел, потому что проклятый ветер, как будто нарочно, назло ему, потянул в его сторону и окутал черным, вонючим дымом всю середину судна. И эти горластые трубы так и пыхтят, выбрасывая все новые и новые густые клубы. Все затянуло, ничего не видно. А, слава Богу, ветер меняется, дым отнесло назад. Вот мелькнула у самой трубы белая фуражка... вот зеленое что-то показалось... Это? Нет, это ведро висит на крючке и сверкает на солнце своим полированным боком. А, вот оно, вот!
— В прошедшем году, представьте... — жужжит на ухо адъютант.
Какой-то бородатый стоит у перил и лорнирует берег. При взгляде на эту фигуру у Лопатина сильно заскребло на сердце, и в его мягкую ладонь впились острые углы фигурного серебряного набалдашника. Ему вдруг захотелось, что бы капитан (а его высокую фигуру с рупором в руке было видно теперь совершенно отчетливо) поддал коленом сзади этого бородача, — эх, как хотелось!
Лопатин был почему-то уверен, что это именно и есть он — сам Ледоколов или кто бы то ни было, но только...
У него захватило дух, и начали подкашиваться колени. Говор и шум толпы словно затихли, словно невидимые руки разом зажали ему уши, и только глухой, неопределенный гул стоял в помутившейся, ошалелой голове.
Около мачты мелькнул вуаль, закивали звездообразные кружки зонтиков; между белыми фигурами матросов, кинувшихся устанавливать трап, отчетливо колыхнулись два женских платья.
— Легче, ваше степенство, в угольную яму попадете! — предостерегает его какой-то пестрый халатник.
— Какие лошадки у вас, почтеннейший Иван Илларионович! — кричит ему комендант, пробираясь вперед.
— Адочка, дитя мое, смотри, вон он, вон! — указывает зонтиком Фридерика Казимировна и порывисто устремляется по зыбким доскам трапа.
— Я вас сейчас познакомлю с Лопатиным! — говорит, обращаясь к Ледоколову, Адель и, опираясь на его руку, грациозно пробует кончиком ноги, насколько удобно будет ступить ей на доски.
— Кто такие, кто такие? — шепчут кругом.
— Эх, хороши барыни! — замечает громко кто-то сзади.
Сойдя на берег, Адель тотчас же освободила свою руку и поспешила на выручку мамаши.
Почти без чувств, испуская исступленные, истерические рыдания, Фридерика Казимировна так и замерла на шее Ивана Илларионовича, обвив ее своими руками.
— Должно, хозяйка приехала. То-то обрадовалась! — шептали в толпе.
— Сдобная баба. Эк, ее встряхивает!
— А это, надо полагать, дочка; красивая девка!
— Не девка, а барышня. Девки вон Дашка с Пашкой, а это, вишь ты...
— Конечно, уважаемая Фридерика Казимировна, это я вполне чувствую... — задыхаясь и силясь освободиться из этих пламенных объятий, пыхтел Лопатин.
Ему так хотелось ринуться к Адели, расцеловать ее руки, расцеловать ее всю, не обращая вовсе внимания на эти сотни посторонних глаз. Какое ему было дело до других, когда...
— Ну, вот, мы и приехали! — спокойно, даже несколько холодно, произнесла Адель и церемонно протянула ему кончики пальцев.
— Ах, чего мы только не натерпелись за эту ужасную дорогу! — простонала Фридерика Казимировна, как-то особенно выразительно обдернув платье на своей дочери.
— Что ты, мама? Напротив, мне было ужасно весело! — начала Адель.
— Моя коляска ждет вас. За багажом я пришлю из гостиницы. Сюда, сюда, за мной! — заторопился Лопатин, теперь только заметив, что общее внимание было обращено на их группу.
Он предложил руку Фридерике Казимировне и хотел предложить другую Адели, даже уже согнул ее в надлежащее положение...
— Проклятый! — промелькнуло у него в голове.
Адель, опять уже стояла под руку с Ледоколовым.
— Ах, кстати, Иван Илларионович, — поспешила красавица, — позвольте вам представить: monsieur Ледоколов, наш дорожный знакомый. Он во время пути так много оказывал нам услуг!
— Очень приятно! — пробормотал Лопатин и вдруг рассвирепел на своего кучера, неподвижно сидевшего на козлах коляски, шагах в двадцати от пристани.
— Кузьма! — как-то захлебываясь крикнул Иван Илларионович, — Кузьма! Подавай же, скот...
— Славные лошадки, особенно пара дышловых! — протянул ему руку старичок-комендант, масляные глазки которого в эту минуту рассматривали гораздо внимательнее дам Лопатина, чем его лошадей.
Села Фридерика Казимировна; почти не касаясь подножек, на руках Лопатина, вспорхнула Адель. Четверка гнедых загорячилась и заплясала на месте.
— Ледоколов, как только приедете в Ташкент, пожалуйста к... — начала было Адель.
— Пошел! — крикнул Иван Илларионович.
— У-ух! — отшатнулся адъютант, протирая глаза, залепленные пылью, поднятой колесами экипажа.
— Однако! — произнес старичок-комендант, тоже вытаскивая цветной фуляр из заднего кармана.
— Видели? — язвительно произнесла дама в ситцевом капоте, здешняя казначейша.
— Видела! — тем же тоном ответила другая дама, здешняя попадья.
***
Запыхавшаяся, покрытая пеной четверка остановилась перед воротами почтовой станции. Лопатин вылез из экипажа и пошел распорядиться насчет лошадей.
— Ты хоть бы немного теплоты, хоть немного... — шептала на ухо Фридерика Казимировна, когда они остались одни в коляске.
— Отстань, мама! — задумчиво произнесла Адель, апатично смотря на суматоху перед станционными воротами.
— Жестокое сердце, безжалостная! В твои лета такая холодность!
— Мама!
— Не замолчу, не замолчу. Наконец, ты должна же понять, что просто из одного такта не мешало бы...
— Мама!
Адель сдвинула брови и рванула пуговку у перчатки.
— Ну, не буду, не буду. Адочка, ангел мой, войди же в наше положение. Ведь я для тебя же...
— Иван Илларионович, я пить хочу! — крикнула Адель.
— Сию минуту, сейчас. Эй, Кузьма! Там, под козлами, погребец... проворнее, да не копайся же.
— Если бы кусочек льда!.. — кокетливо улыбнулась девушка.
— Льда, послушайте! — ринулся Лопатин к казаку-смотрителю станции. — Ради Бога, все, что хотите, льда нельзя ли, хоть немного?
— Льда? — улыбнулся казак. — Ишь, ты! Да у нас льда и зимой не скоро отыщешь.
— Э-эх! — тоскливо посмотрел кругом Иван Илларионович.
В эту минуту он за один кусочек льда готов бы дать отрубить себе если не руку, то, по крайней мере, половину пальца.
— Пойдите сюда! — поманила его пальчиком Адель. — Я вовсе не такая капризная и могу легко обойтись без льда, если его невозможно найти. Вы все хлопочете, вы устали?
Она почти ласково взглянула на потное, красное лицо Ивана Илларионовича. Фридерика Казимировна даже заерзала от удовольствия; рука Лопатина задрожала, наливая из бутылки в стакан красное вино.
— Готово! — заявил казак-смотритель.
И снова загудели на разные лады голосистые бубенчики почтовой четверки.
А в тот же вечер, сидя на террасе ташкентского дома Ивана Илларионовича, Фридерика Казимировна самым убедительным тоном говорила хозяину:
— Хотите — верьте мне, хотите — нет, но только эта холодность, по-моему, одно притворство. Зачем бы ей, в противном случае, всю дорогу твердить только одно и то же: «Ах, мама, да скоро ли мы приедем? Скоро ли я увижу доброго, славного Ивана Илларионовича?» Ну, честное же слово, клянусь вам моей материнской любовью! — поспешила с уверениями госпожа Брозе, заметив у своего собеседника недоверчивое подергиванье плеч.
— Дай Бог вашими бы устами... — глубоко вздохнул Лопатин.
— Терпение и терпение! Однако, как вы еще молоды сердцем! — протекторским тоном произнесла Фридерика Казимировна и поцеловала в голову Ивана Илларионовича.
XII За дверями
Весть о приезде госпожи Брозе с дочерью быстро разнеслась по всему Ташкенту. В первый же день, по шоссе, мимо окон лопатинского дома, устроилось что-то вроде гулянья. Все проходящие и проезжающие считали своей непременной обязанностью задержать шаг и не спускали глаз с этого длинного ряда окон, выжидая, не мелькнет ли хотя в одном из них головка необыкновенной, почти сказочной красавицы.
Только что приехавший из Чиназа поручик Скобликов говорил в ресторане у Тюльпаненфельда, что он и во сне не мог бы представить себе такой красавицы; что это что-то такое, что просто дух захватывает при одном только взгляде. А товарищ его, капитан Пуговицын, заверял, «как честный офицер», что он, придя домой с пристани, должен был выпить целую столовую ложку камфарного спирта, чтобы только успокоить свои расходившиеся нервы.
Марфа Васильевна, взволнованная, смеющаяся и веселая на вид, но заметно обескураженная, ровно восемь раз проехала по шоссе в своем кабриолете и два раза верхом.
— Наша-то, говорят, и в подметки не годится той... — ясно донеслось до ее слуха из одной группы гуляющих.
Она очень хорошо знала, кто эта наша, и ее даже в жар кинуло от этого замечания.
Кто-то сообщил, что сегодня вечером Лопатин и его дамы будут на Минурюке, и у решетки этих ташкентских «минерашек» столпилось столько экипажей и верховых лошадей, что распорядились прислать десятка полтора конных казаков для водворения хотя бы какого-нибудь порядка.
Кое-кто пытался, просто под видом обыкновенного посещения или же по какому-либо деловому предлогу, проникнуть в дом Ивана Илларионовича, но и эти маневры не удались окончательно. Одним было сказано, что, мол, господин Лопатин не здоровы и принять не могут, просят, мол, извинить до другого раза; другим было напросто отказано: «дома нет», хотя это было слишком уж бесцеремонное уклонение от истины. Одного только отца иерея Громовержцева принял Иван Илларионович, и то потому, что когда тот, пройдя с другого подъезда, очутился в столовой, то Лопатин, закусывавший цыпленком в этой же комнате, не успел принять никаких мер и с самой кислой улыбкой произнес:
— А, батюшка, здравствуйте! Вот спасибо, что посетили. Не прикажете ли?
Иван Илларионович одной рукой сделал пригласительный жест к столу, а другой помахал как-то у себя за спиной, что, по мнению прислуживающего парня, означало: убирай со стола проворней!
— Отчего же, — согласился отец иерей, — много нельзя, но единую можно; к тому же, у нас теперь разрешение вин... Постой, братец, погоди же! — придержал он за рукав молодца в поддевке, поспешившего было исполнить мимическое приказание своего хозяина.
— Жарко!? — не то спросил, не то заявил Илларионович, пройдя по комнате и мимоходом опустив портьеры в соседние апартаменты.
— По мнению господина Реомюра, тридцать два — в тени; на солнце же тридцать восемь и доходило даже до сорока...
Тропическая температура! Великий жар! — погладил себя по желудку отец иерей.
— О-ох! — вздохнул Лопатин и тоскливо посмотрел на ярко-зеленую шелковую рясу гостя.
— Здоровье ваше в каком положении находится? — осведомился тот.
— Сегодня плоховато. Голова что-то болит, и так вообще нехорошо себя чувствую; я даже думаю сейчас прилечь.
Как утопающий за соломинку, так Лопатин ухватился за этот вопрос о его здоровье.
— Хорошее дело! — произнес отец иерей, усаживаясь в кресло попокойнее и, по-видимому, вовсе не понимая намека.
— О-ох! — еще раз, значительно протяжнее, вздохнул Лопатин.
— Задумали мы... — начал гость и подвинул свое кресло немного вправо.
Портьера, опущенная рукой Ивана Илларионовича, задела аграмантом за боковую розетку и образовала щель, довольно значительную для того, чтобы можно было видеть большую часть соседней комнаты. Отец иерей заметил это обстоятельство и двинул кресло единственно с целью воспользоваться своим открытием.
— Задумали мы, — продолжал он, — выписать для новостроящегося храма живописной работы икону святого великомученика Георгия, копьем змия прободающего, и пару паникадил серебряных — либо из Москвы от господина Овчинникова, либо из Нижнего от купца Блиноедова; средства же наши на сии предметы в должный размер не скомплектовались... э... гм!..
— Конечно, я со своей стороны могу... — поспешил Лопатин. «Авось, — подумал он, — уберется, как получит радужную; все равно, не отделаешься меньшим». Он полез в карман за бумажником.
— Не спешите, — придержал его руку отец иерей. — По заведенному мной порядку, вам пришлется шнуровая книга, где вы собственноручно и отметите ваше приношение, выразив в цифрах размеры оного!
— Да, да, хорошо, я готов! — говорил хозяин и поднялся со стула.
— Да-с, мы не то, что другие: мы не имеем привычки преграждать путь контролю, мы все начистоту! — спокойно разглагольствовал отец иерей, не понимая или не желая понимать и этого намека.
Лопатин опять сел.
— С приездом родственников ваших можно вас поздравить? — произнес гость, немного помолчав.
— Приехали, благодарю вас. «Фу, как надоел, каналья!» — отвечал Иван Илларионович, — последнюю половину фразы, впрочем, он сказал про себя.
— Приятно и радостно должно быть свидание с дорогими сердцу, особенно из такого отдаленного далека!
— Вы меня уж извините, батюшка: я уж пойду! — не выдержал, наконец, Лопатин.
— Пожалуйста не стесняйтесь: что за церемонии! — нехотя поднялся-таки с кресел отец иерей.
«Жаль, не видал, а весьма было бы интересно», — подосадовал он, выходя из комнаты и приятно шелестя своим шелковым костюмом.
— Ну, что, видели?
— Какова?
— Ну, что, правда, что говорят?..
Посыпались на него со всех сторон вопросы, едва он только спустился со ступеней крыльца.
— Особы весьма благовоспитанные и красотой от природы щедро награжденные! — соврал отец иерей, плотно усаживаясь в свой желтенький тарантасик.
Едва только «не в пору гость» вышел из комнаты, Иван Илларионович юркнул на дамскую половину. По дороге он завернул в свой кабинет, вытер тщательно руки и лицо одеколоном с водой, попрыскал чем-то на борт сюртука и взял в рот мятную лепешку.
«Хорошо ли это, что я в клетчатых брюках при светло-сером остальном?» — подумал он, подумал и переменил эти клетчатые на безукоризненно белые.
— Я никак не ожидала, чтобы в такой глуши, в такой дикой стороне можно было так комфортабельно устроиться! — ясно слышен был голос Фридерики Казимировны.
Вероятно, она находилась в спальне своей дочери, потому что слышно было, как переставляли и звякали скляночками и баночками на ее туалете, а ведь эта спальня была так близко от кабинета Ивана Илларионовича!
— Ах, мама, скучно... эта проклятая стена! — доносился голос Адели, только неотчетливо, значительно глуше.
Лопатин сообразил, что красавица находилась на террасе. Он весь сосредоточился в слухе.
— Мама, я готова, а ты?
— Как готова, к чему это?
— Да ведь мы собирались кататься! Я же просила тебя послать спросить о коляске!
— Видишь, дитя мое, экипаж не совсем исправлен... разве завтра? — соврала Фридерика Казимировна.
Она еще утром говорила Ивану Илларионовичу о желании Адели сегодня же ознакомиться с наружностью Ташкента, но Лопатин посоветовал ей отклонить пока Адель от этого желания, находя это необходимым по некоторым соображениям.
— А, вот как! — холодно произнесла Адель. — Хорошо, мы подождем до завтра!
— А ты не замечаешь, Адочка, как интересен Иван Илларионович; как он помолодел за это время... кто бы мог подумать, что ему уже сорок два!
У Лопатина сердце запрыгало от удовольствия.
«Молодец-баба, — подумал он, — непременно подарю пару „внутреннего“, сегодня же подарю!»
— Как, мама, да ведь ему уже за пятьдесят! — ясно послышался голос Адели. Вероятно, она теперь тоже вошла в свою комнату.
— Какие глупости! Но что я узнала, Ада! Представь, мне говорил Павел сегодня, что Иван Илларионович по целым дням и ночам просиживал здесь и не спускал глаз с твоего портрета! Даже во сне он бредил только твоим именем! — врала госпожа Брозе. — Ах, как он тебя любит, ах как любит!
«Пересаливает»! — поскреб в затылке Лопатин.
— Воображаю, какая эта блистательная фигура! — захохотала Адель. — Вот он сидит тут, вероятно, на этом стуле, смотрит сюда, руки у сердца, вздохи на всю комнату... вот так!
Должно быть, Адель изобразила в эту минуту Ивана Илларионовича, потому что задвигались кресла, и послышалось что-то вроде пыхтения.
— Ты, Ада, вечно с дурачествами! — упрекнула ее Фридерика Казимировна.
— А-ах! — во весь рот зевнула Адель и щелкнула дверцей шкапика.
Лопатин почему-то осклабился.
— А что, мама, «он» приедет сегодня? — опять начала Адель.
— Не думаю!
— Но ведь я его просила навещать нас, он обещал мне быть на другой же день по приезде!
— Ты видела сама, как Лопатин с ним холодно обошелся: он даже не протянул ему руки, когда ты вздумала представить его на пристани!
— Если он будет так обходиться с моими друзьями...
— Тс!..
— Что ты?
— Я слышала за этой дверью... посмотри, Адочка, там, за трюмо...
Иваи Илларионович схватил свою фуражку и повесил ее на ручку двери. Он поспешил на всякий случай замаскировать замочную скважину. Этот маневр оказался как нельзя более кстати, потому что Адель шмыгнула за трюмо, прислушалась и приложила глаз к скважине.
— Темно... — произнесла она, — и я ровно ничего не слышу!
«Друзья... эге... вот как! — бормотал Иван Илларионович, на цыпочках отходя от двери. — Значит, не один этот бородатый...»
Сердце у него защемило, и во рту стало как-то скверно, горько; не помогала даже мятная лепешка, почти истаявшая на горячем языке Лопатина.
— Там господин вас спрашивает! — остановил его на полдороге парень в поддевке.
— Кто?
— Тот самый, что у вас намедни был... Бурченко, сказывал; да он не один: их двое!
— А!.. — протянул Иван Илларионович, подумал, сообразил и сказал: — Ну, проси... в зеленую комнату проси; я сейчас к ним выйду!
***
— Вот этих сейчас потурят! — говорил Набрюшников, наблюдая с высоты своего гнедого аргамака за входной дверью лопатинского дома.
— Нынче уж сколько народу толкалось, всем отказ, одного Громовержцева принял, а то никого больше! — говорил другой офицер, сидя без сюртука на подоконнике противоположного дома.
— Кто такие, ты не знаешь?
— Одного знаю, он уже недели две как в Ташкенте, у Тюльпаненфельда встречались; да он из старых, еще из черняевских; а другого никогда не встречал... лицо что-то знакомое!
— На покойника Батогова смахивает сильно!
— Да, есть большое сходство, только ростом повыше. Назад пойдут, ближе рассмотрим!
Предположение рассмотреть поближе новоприезжего так и осталось одним предположением. Прошло десять минут, четверть часа, полчаса, наконец, час — Бурченко и его товарища не «потурили».
— Что бы это значило? — удивился немного офицер на подоконнике.
— Стало быть, так надо, — совершенно резонно заметил Набрюшников и нагнулся с седла, заглядывая во внутренность комнаты.
— Что это, вы закусывате? — спросил он.
— Да, собираемся; не хочешь ли?
— А пожалуй! — поспешил Набрюшников и ловко соскочил на землю со своего цыбатого гнедого.
XIII Соперники
— Если этот барин не попятится, сегодня же порешим; а там, не откладывая в долгий ящик, и за дело. Ну, заждался же я вас! Что так долго? — говорил Бурченко своему товарищу в лопатинской приемной.
— Шли очень тихо — бесконечные остановки. Знал бы, не поехал! — отвечал Ледоколов и — соврал: он был очень доволен своим путешествием на пароходе и нисколько не раскаивался, что предпочел его сухопутному тракту.
— Ну, конечно, — согласился Бурченко, — тащились, как черепахи! Что, хорошо? Ну, а то как: благополучно?
— Что такое?
Ледоколов слегка покраснел.
— Да вот насчет вашего сердца, окончательно разбитого? Залечили, что ли?
— А здесь живут все-таки довольно сносно! — уклонился Ледоколов, оглядывая обстановку комнаты. — Я составил себе, признаться, совсем другое понятие!
— С деньгами везде можно. Вот мы с вами нароем их, денег-то, — не то заведем!
Бурченко посмотрел на часы и сверил их с бронзовыми часами на камине. Ледоколов отворил дверь на террасу и заглянул в новоразбитый садик в полуанглийском, полукитайском вкусе.
Густые кусты тутовника и белой сирени разрослись почти у самой стены дома; на ярко-зеленых клумбах виднелись вертикальные черточки цветочных штампиков; красные и белые мальвы яркими группами разнообразили темную зелень кустарников; вдоль наружной стены тянулась легкая решетка, по которой ползли завитками молодые, последней посадки, виноградные лозы.
— Каково! — удивился Ледоколов.
— Недурно, — произнес Бурченко, тоже выйдя на террасу; — особенно, принимая в расчет, что года два тому назад, я помню, тут был заброшенный пустырь да несколько кустов...
— А тебе что нужно? — обратился он к вошедшему.
— Хозяин вас к себе на ту половину, просит-с, — пожалуйте! — говорил парень в поддевке.
— Хорошо, пойдем к нему, на его половину. Пойдемте, Ледоколов!
— Пожалуйте-с, сударь... господин... — настаивал парень в поддевке.
— Чем это вы там занялись? А, вон оно что!
Бурченко пожал плечами и улыбнулся.
— А, куда?
— Пожалуйте-с...
— Я сейчас видел... Бурченко, вы не заметили там, на том конце сада...
— Видел, видел! — расхохотался Бурченко и взял Ледоколова под руку.
Парень в поддевке проводил гостей с террасы, оглянулся и запер дверь на ключ; он даже проводил их через комнату и так же аккуратно запер за ними следующую дверь.
— Вы уж, господа, извините, что заставил себя так долго дожидаться! Милости просим, милости просим! — вывернулся откуда-то сбоку Иван Илларионович.
— Ну-с, господин Лопатин, — начал Бурченко, когда все трое расположились на креслах в одной из комнат на другой половине, — если вы не переменили вашего решения помочь мне в известном вам деле...
— Я своих слов никогда не беру назад и решений своих никогда не меняю! — с достоинством перебил хозяин, приглядываясь довольно пристально к фигуре Ледоколова.
— Очень хорошо-с, с такими людьми и дело вести приятно... Вы знакомы уже? Мне вот они говорили, что третьего дня на пристани чиназской...
— Познакомились, познакомились!
— Господин Лопатин тогда был так взволнован своей семейной радостью, что, весьма естественно, не удостоил меня своим вниманием! — заявил Ледоколов.
— Тысячу извинений!
Иван Илларионович протянул Ледоколову свою руку, тот свою; рукопожатие совершилось весьма холодно; пальцы как-то не сжимались.
«Соперники тоже, умора!» — подумал Бурченко. — Так вот-с, — начал он громко, — мы с ним с завтрашнего дня начнем готовить нашу, так сказать, экспедицию. Лошади у меня приторгованы; людей я нанял, — трех человек пока, из здешних, а там будем довольствоваться местными средствами. Надо вам заметить, что я все эти приготовления делал не то чтобы по секрету, а просто без лишнего шума — эдак-то лучше; и вы не очень пока распространяйтесь!
— С какой же стати! Я только и говорил об этом с одним губернатором, но если б вы меня предупредили...
— У... эх! — почесал за ухом Бурченко.
— Вы находите, что и это напрасно?
— Как бы вам это сказать? По-моему... Ну, а что ж вам говорил губернатор-то?
— Весьма одобрительно отнесся, весьма одобрительно, и, знаете ли?
Лопатин с торжествующим видом посмотрел на малоросса и приподнял палец кверху.
— Обещал даже, в случае надобности, вооруженное содействие!
— Вот этого-то я и боялся! — вторично принялся чесать за ухом Бурченко.
— Но, согласитесь сами, — вмешался Ледоколов, — дело может повернуться так, что мы будем иметь надобность в вооруженной силе, и это обещание...
— Цель моя такова, что мы должны стараться избежать этой надобности, во чтобы то ни стало. Только один путь к успеху — это убедить туземцев в очевидной выгоде для них быть нашими союзниками, заставить их свыкнуться с той мыслью, что их денежные интересы, — а они до них крайне падки, — совершенно зависят от них; тогда они, кроме той помощи, которую окажут нам, предложив в наше распоряжение свои рабочие руки, так усердно будут оберегать целость наших голов, что нам никакого вооруженного содействия и не понадобится. Вот положение, в котором мы должны находиться; иначе и эта наша попытка подойдет под категорию всех прежних, так называемых казенных, окончившихся большим или меньшим фиаско!
Бурченко говорил резко, с каким-то озлоблением. Уж очень его взбудоражило это «вооруженное содействие!»
— Как хотите, батюшка, как хотите! — развел руками Иван Илларионович. — Я все уже предоставлю вам; с моей же стороны только полнейшая готовность содействовать вам деньгами, и для начала...
Он поднялся со стула и направился было к дверям.
— Вот тут подробный счет, что мне надо на первый раз! — подал ему Бурченко сложенный листок бумаги.
— Прекрасно-с!
Лопатин бегло просмотрел счет. «Умеренно», — подумал он.
— А как скоро полагаете отъехать?
— Чем скорее, тем лучше; я полагаю, дня через три!
— Они тоже едут вместе с вами? Господин Ледоколов, вы тоже?..
— Вместе! — произнес Бурченко.
— Если что-нибудь не задержит! — почти одновременно произнес Ледоколов.
— Что же может задержать? Я полагаю, ничего задержать не может! — Лопатин подозрительно взглянул на гостя.
Тот прислушивался к чему-то, к какому-то странному шелесту в соседней комнате; Бурченко молча копался в своем портфеле.
— Ну-с, каково вам в дороге показалось? Вы еще в первый раз были в таком продолжительном пути-с? — ни с того, ни с сего спросил Лопатин, а сам подумал: «Дай-ка я поразговорюсь с ним: может быть, еще и нет особенной опасности».
— Благодарю вас! Путешествием своим я остался как нельзя более доволен; оно было так интересно и разнообразно, благодаря его спутничеству (Ледоколов указал на своего товарища). Я видел так много нового...
— Ну, это, впрочем, первая половина дороги, — вмешался Бурченко, — а вторая половина, та, я думаю, была еще интереснее?
— Что же так-с? — спросил Лопатин и почувствовал себя как-то неловко.
— На пароходе я тоже встретил, случайно, такое прекрасное общество: госпожа Брозе с дочерью...
— Родственницы мои, очень близкие родственницы! — перебил Иван Илларионович. — Так вы все время находились с ними?
— Да, всю остальную дорогу!
Ледоколов чувствовал, как краска ударила ему в лицо.
— Фридерика Казимировна много говорила мне об вас... и, я со своей стороны, должен поблагодарить вас за все, — да-с, за все-с... — Лопатин никак не мог подобрать подходящее слово, за что это ему следовало поблагодарить своего гостя.
«Ишь, как покраснел, бестия! — подумал он, пристально глядя ему в глаза. — Э-эх, нечисто, кажется, дело»...
— Madame Брозе женщина весьма достойная... — окончательно смутился Ледоколов, и со злостью, которая слишком уж заметна была в каждом его движении, поднялся со стула.
— Ну-с, так не будем напрасно отнимать у вас времени! — тоже поспешил подняться Бурченко.
— Мое почтение-с... — начал было Лопатин, но вдруг вздрогнул и остановился.
— Они уходят! — ясно послышался за дверями голос Адели.
— Адочка! — также послышался умоляющий голос Фридерики Казимировны.
«Здесь! Да каким же это образом? Что же это такое?» — пробегало у него в голове.
Он совсем растерялся и не заметил протянутой к нему руки Бурченко, которую тот, подержав минуту на воздухе, улыбнувшись, спрятал в боковой карман. Он видел только Ледоколова, стремительно бросившегося к дверям.
Движение это, впрочем, было весьма естественное: аудиенция кончилась, они попрощались и должны были уходить; другой двери из комнаты, где они сидели, не было...
— Иван Илларионович, мы вам не мешаем? — кокетливо произнесла Адель, появившись в отворенных настежь дверях.
За ней виднелось полное, слегка смущенное лицо Фридерики Казимировны и ее пухлая рука, бойко делавшая Лопатину какие-то знаки.
— Мы уже кончили! — раскланялся Бурченко и хотел пройти мимо.
Адель, кошечкой, самой шаловливой, ласковой кошечкой, подбежала к Лопатину и наивно принялась теребить борт его парусинового пальто.
— А мы в саду гуляли! — говорила она. — Мы прошли через двор и оттуда в маленькую калиточку, — там есть такая маленькая-маленькая калиточка; — я проскочила легко, а мама — ха-ха-ха! Мама чуть-чуть не завязла!
— Какая ты болтушка, Ада! — бормотала Фридерика Казимировна. — В твои лета и так шалить!..
— Как в мои лета? — удивилась Адель. — Ведь ты же говорила, что тебе тридцать пять; ты вышла замуж двадцати — значит, мне только... ха-ха-ха! — колокольчиком залилась Адель, сообразив результат своего вычисления.
— Ребенок! — томно произнесла маменька.
— А мы видели вас в саду, — обратилась Адель к Бурченко. — Ну, как вы доехали? Вы прежде нас приехали в Козалы? И охота вам была ехать в этом поганом экипаже — ах, как он надоел нам! Зато на пароходе как было весело!.. Здравствуйте, Ледоколов; мы вас тоже видели... я даже вам махнула платком. А вы посмотрели, постояли на террасе и ушли... Мы ведь с вами уже три дня как не видались...
— И эти три долгих дня... — начал было Ледоколов, но Адель не дала ему кончить.
— Вы уже наговорились о делах; мы так и думали, когда шли сюда. Вечер такой прекрасный! Мы будем пить чай вместе, у нас. Надеюсь, что я имею на это право?
Она посмотрела через плечо на Лопатина таким задорным, вызывающим взглядом.
— Гм, гм... и прекрасно! — впору спохватился Иван Илларионович. — После сядем в преферанс или ералаш. Вас двое, я и Фридерика Казимировна...
— Этот вечер у меня может быть свободным! — равнодушно произнес Бурченко.
— Мне так приятно... — согнулся по направлению к Адели Ледоколов.
— Шалунья! — наладила все одно и то же Фридерика Казимировна.
— Извините, я распоряжусь! — как-то глухо произнес Лопатин, пошатнулся немного, побледнел и быстро вышел из комнаты.
— О, чтоб его черти взяли! Чтоб его там, в этих горах, первой глыбой придавило! Чтоб ему шею свернуть на первой круче! — причитал Иван Илларионович кому-то ему всякие благие желания, допивая третий стакан воды со льдом. — Скорее, скорее отправить их в горы, подальше, куда-нибудь подальше! Ух!.. — вздохнул он, наконец, и стал натирать себе виски губкой, намоченной в туалетном уксусе.
— Барыня к себе чай пить просят... Там уже и гости! — доложил парень в поддевке.
— К дьяволу убирайся! — захрипел Лопатин и закашлялся. — Скажи, что иду сейчас! — добавил он несколько покойнее, когда тот, изумленно вытаращив глаза, задом стал пятиться к двери, не понимая, за что это так осерчал его смирный в обыкновенное время хозяин.
Общество расположилось на террасе «дамской половины». Солнце садилось, и густая синеватая тень расползлась по саду. Чай разливать взялась Фридерика Казимировна, которая и заняла место за серебряным самоваром.
— А вы сюда, поближе ко мне! — пригласила она малоросса, указав на ближайший стул. — Адочка!
— Что, мама?..
— Поди сюда... Вы извините, если я на один миг отниму у вас собеседницу!
Ледоколов, к которому относилась эта фраза, хотел что-то сказать, да, должно быть, раздумал.
— Ну, что тебе, мама?
Адель оживленно рассказывала что-то Ледоколову; она остановилась на полуслове и, нехотя, подошла к матери.
— Нагнись сюда. Хотя, господа, и не следует секретничать в обществе, однако я позволю себе эту неловкость...
Фридерика Казимировна принялась шептать дочери на ухо, показывая рукой то на стол, то на ее костюм. Она этими жестами маскировала настоящее содержание речи...
— Это не годится, — горячилась она, — это совсем бестактно!.. Ты хоть при Иване Илларионовиче не очень-то с ним того — понимаешь? Ты не знаешь Лопатина: он мягок, как воск, но если злоупотреблять этой мягкостью, то дело может разыграться довольно неприятно и для нас, да, пожалуй, и для него!
Адель прикусила губы.
— А вот я посмотрю, чем это может кончиться! — И брови ее задвигались.
— Адочка, ангел мой! Но благоразумие, благоразумие! — переменила мгновенно тон Фридерика Казимировна. Она очень боялась этой скверной складочки над бровями.
— Я знаю, что делаю! — отчеканила Адель.
— Тысячу извинений, что заставил себя ждать! — развязно вошел на террасу Лопатин.
— Садитесь! — важно показала ему на стул красавица.
Она входила в роль «полновластной хозяйки этого гнездышка».
— Самый крепкий и побольше сахару... видите, Иван Илларионович, я помню хорошо ваш вкус! — приветливо улыбалась Фридерика Казимировна, протягивая Лопатину стакан чая...
Адель молча пододвинула ему корзинку с хлебом. Это небольшое внимание очень благотворно подействовало на Лопатина, но только на одно мгновение: эта же хорошенькая ручка подвинула корзинку и Бурченко, и Ледоколову; последнее даже сопровождалось улыбкой, не менее приветливой, чем улыбка мадам Брозе.
— ... В котором, вы говорите, году? — неожиданно спросил Лопатин, резко повернувшись к Бурченко.
— Я ничего не говорил!
— Виноват, мне послышалось...
Несколько минут тянулось тяжелое, невыносимое молчание: все чувствовали себя как-то неловко. Даже Бурченко был вовсе недоволен этим чаепитием на свежем воздухе: он досадовал на себя, что принял приглашение.
«Черт его знает, еще взбесится совсем этот самодур... дело, пожалуй, расклеится», — подумал он и подыскивал тему для разговора более удобного, имеющего более общий, умиротворяющий характер.
Ледоколовым овладело какое-то странное смущение; эта тяжелая, неуклюжая фигура Лопатина как-то давила его; этот упорный, стеклянный взгляд, почти все время устремленный на него, начинал его сердить не на шутку; по временам он испытывал то ощущение, которое должен бы был испытывать человек, сознательно усевшийся в партере на чужое кресло: а ну, как подойдут сейчас и скажут: «А позвольте, милостивый государь...»
Фридерика Казимировна все еще продолжала улыбаться, но эта улыбка становилась все кислее и кислее... Она тоскливо смотрела на свое растянутое изображение в самоваре; она боялась чего-то, и эта боязнь формулировалась так: а что, если у нее отнимут вдруг этот хорошенький, так изящно выгнутый, на диво полированный серебряный самовар, — мало того, вдруг скажут: «А убирайся-ка, матушка, опять туда, откуда приехала, коли не умела повлиять на дочку, как следовало»... «А как повлияешь на этого дьявола?!» — решила Фридерика Казимировна и со злостью взглянула на «дьявола», с самой невинной миной прихлебывавшего из маленькой китайской чашечки.
— Ах, какой ужасный случай был с нами в дороге! — начала Фридерика Казимировна. — Представьте себе, Иван Илларионович... У нас сломался дормез...
— Представляю! — буркнул Лопатин.
Из этого тона Фридерика Казимировна заключила, что ее рассказ не доставляет особого удовольствия, и отлавировала назад.
— Адочка, подвинь мне стакан Ивана Илларионовича: он, кажется, кончил!
— Нет, мама, ты налила ему первый, а этот я налью сама; посмотрим, кто лучше... Вы будете беспристрастным судьей, да?
— Я, Адель Александровна, как всегда... — запутался Лопатин, а так как ручка Адели, протянутая за стаканом, очутилась около него так близко, то удержаться и не поцеловать ее было уже не под силу.
— Э-хм! — поперхнулся Ледоколов глотком горячего чая.
— Ведь это «родственный», не более, как «родственный»! — утешал его втихомолку Бурченко.
Фридерика Казимировна бросила на свою дочь взгляд, исполненный благодарности и признательности.
Стало быстро темнеть. Зажгли большой китайский фонарь, висевший как раз над серединой стола. Прозрачная, разрисованная яркими арабесками бумага пропускала самый нежный, приятный свет, и в этих матовых лучах дрогнули тысячи светлых точек, замелькали бесчисленные крылышки ночных бабочек, налетавших на огонь из окружающей тьмы, из всех уголков и закоулков обширного сада.
Адель разболталась одна за все молчаливое общество. Она доставила Лопатину еще два раза случай приложиться к ее ручке; она даже не отдернула сразу своей ноги, когда почувствовала под столом прикосновение мужского тяжелого сапога. Положим, что она заподозрила в этой неловкости своего vis-à-vis — Ледоколова, и подумала даже: «экий длинноногий!» Но ведь Иван Илларионович не мог же слышать того, что только подумалось, и почувствовал себя необыкновенно хорошо после этого электризующего прикосновения.
Предполагаемый вист или преферанс не состоялся: Адель прямо заявила, что не допустит «этой противной, скучной игры», приличной только дождливому, серому Петербургу.
— Ах, как хорошо!.. Как темно!.. Так вот и тянет туда, в эту глушь!
Она стала на крайнюю ступеньку террасы и жадно смотрела в этот густой мрак южной летней ночи.
— Я гулять хочу. Ай!..
Летучая мышь черкнула в воздухе так близко, почти у самого ее лица; в сырой, росистой траве слышался почти непрерывный тихий шелест.
Адель спустилась с террасы. Ледоколов поспешил предложить ей руку, но Адель не заметила этого предупредительного движения и повисла уже на локте Ивана Илларионовича.
Фридерика Казимировна поспешила овладеть рукой Ледоколова, Бурченко пошел «solo».
«Что-то уж он очень наклонился к ней, говорит как-то эдак...» — волновался Ледоколов, глядя на едва обрисовывающуюся в темноте массивную спину Лопатина и более заметное пятно — белую кружевную косынку его дамы...
Он поддал ходу, — ему так хотелось уменьшить это расстояние, образовавшееся между первой и второй парами.
— Ах, как, действительно, ночь прекрасна! — вздыхала Фридерика Казимировна, задерживая шаг и этим осаживая порывы своего кавалера.
— Вот так полонез закатываем! — выступал сзади Бурченко, шагая осмотрительно, дабы не наступить на этот бесконечный шлейф госпожи Брозе, загребающий на ходу все, что только ни попадалось на садовой дорожке.
XIV
....................
XV
....................
XVI Гроза на горизонте
— Высох, как спичка, желт, как лимон, и смотрит гиеной…
— Да, переменился страшно. Эй, что же салат? Вечно по целому часу ждать приходится! Котлета стынет!
— Вчера я был у генерала; завтракали... он тоже был; то есть, до такой степени раздражителен стал, что даже со стороны смотреть странно — шесть сигар исковеркал прежде, чем закурил одну. В вист сели, так генерал говорит: «Ну, нет, батенька, с вами играть невозможно: вы, — говорит, — не в своем...» и это рукой на лоб указал.
— Гм!..
— Вспылил страшно, понятное дело, бросил карты и говорит: «Вы, ваше превосходительство, гарантированы вполне от этого (он тоже показал на лоб): для того, — говорит, — чтобы сойти с ума, надо его иметь», — каков! Так и отрезал.
— Чу-у-дак!
— Ну, натурально, вист расстроился. Хорошо еще, что сейчас раков подали — вот какие раки! Страсть! Ну, генерал занялся и не обиделся!
— Он у нас добрый.
— Смотри!
Один из собеседников покосился немного вправо, другой удержал вилку с куском котлеты на полдороге и тоже метнул глазами в ту же сторону.
Перлович скомкал газету, которую читал, судорожно отбросил в сторону и, сильно отодвинув стул, поднялся на ноги.
Проходя мимо буфета, из-за которого усердно кивал ему Тюльпаненфельд, Станислав Матвеевич остановился на минуту, хотел что-то сказать, да махнул рукой и быстро вышел из ресторана.
— Действительно, что-то неладно! — пожал плечами один из собеседников.
— Что-нибудь по части торговых фортелей не выгорает!
— Как бы чего хуже не было!..
— Видели? — говорил старичок в мундире, в другом углу залы.
— Видел! — отвечал другой старичок, тоже в мундире.
Они вдвоем ели одну порцию ботвиньи, тщательно оберегая свои разноцветные регалии, украшавшие промежуток между бортами.
— Да-с!
— Ох-ох! Капнули никак, Мартын Захарыч!
— Где, где?
— На «Станиславчика»...
— Вы-то свою «Анну» поберегите!
— А. я ее салфеточкой прикрою, вот оно и хорошо будет!
— Поверьте вы мне, — говорил внушительно доктор (наш старый знакомый), — что в нем совесть шевельнулась: угрызение чувствует, уж это верно; все признаки, и к тому же...
— Провидение простирает свою десницу! — изрек отец иерей Громовержцев, которому, по его сану, и не подобало бы заходить в рестораны, но... «на сих отдаленных окраинах, к тому же на единое мгновение, для пропущения малого стакана донелю и закушения оного бутером»... — Да-с, Провидение! — отрыгнул отец иерей и потянулся в угол, где стояла его палица с массивным серебряным набалдашником, а на ней висела широкополая шляпа, покрытая тоже белым чехлом, как и форменные офицерские фуражки.
Дорогой Станислав Матвеевич встретил двух знакомых офицеров, проезжавших по городским улицам своих новоприобретенных иноходцев. Проносясь по обеим сторонам коляски Перловича, офицеры усердно раскланялись. Они, словно по команде, одновременно приподняли свои фуражки и вслед за этим так же одновременно произнесли:
— Свинья!..
Их уж очень обидело то обстоятельство, что Перлович даже и не заметил их салюта. А как же он мог заметить это, когда все его внимание обращено было на листок почтовой бумаги, дрожавший в его худых, цепких пальцах.
Проехали улицы, выбрались из-под остатков триумфальной арки хмуровской архитектуры; сады по чимкентской дороге остались сзади. Коляска въехала в ворота дачи и остановилась перед подъездом.
Перлович все читал или, по крайней мере, казалось, что читал, не замечая и остановки экипажа, и намекающего покашливания кучера, и вопросительной позы его старого Шарипа, распахнувшего входную дверь на ее обе резные половинки.
— А! — словно проснулся Станислав Матвеевич, встряхнул головой, потер рукой виски и полез из экипажа.
«В первом моем письме я уведомил вас...» — вот фраза письма, не выходившая у него из головы, притянувшая к себе все его внимание.
«В первом письме? — думал он. — Но ведь это и есть первое письмо, другого я не получал. — Он хорошо помнил это, он так сердился на него за медленность — и вот... — Гм, так, значит, было еще первое письмо; это ясно видно из содержания того, что находилось у него в руках. В том письме, должно быть, все подробности — это тоже ясно, — иначе зачем бы эти фразы: „как вам уже известно... так же, как и тот раз“. Значит, он не получил этого первого письма, значит, оно пропало... Куда же оно могло пропасть? И какая непростительная неосторожность с его стороны послать это письмо по почте!..»
Холодный пот выступил на лбу Станислава Матвеевича. Он даже вздрогнул и залпом выпил стакан воды с каким-то сиропом.
— А что, если это первое письмо не пропало, если оно теперь находится в других руках?
У него в глазах потемнело, и он тяжело опустился на диван, поспешно расстегнув жилет и развязав, почти разорвав, бант белого галстука.
— О, да вздор! Все пустяки. Ну, что ж такое? Во-первых, это письмо могло пропасть окончательно, не попадаясь вовсе ни в чьи руки, и тогда... во-вторых...
Маленький прилив бодрости так же быстро исчез, как и появился.
— Во-вторых... нет, этого «во-вторых» быть не может! Это письмо — улика, страшная улика, отдающая его целиком в руки... ух, какие скверные, ненавистные руки!
И вспомнил он, как подозрительно все косились на него, как на приговоренного, когда он заезжал в ресторан. Они уже знали все. Да, это ясно. Сомнения тут не могло быть никакого.
— Ну, что тебе надо; что?
Со злостью и страхом Перлович взглянул на Шарипа и даже попятился в угол, инстинктивно протягивая руку к стулу.
Старик-сарт стоял в дверях и молча, вопросительно глядел на своего господина.
— Тюра звал? — произнес он наконец.
— Нет, вовсе не звал, зачем мне звать тебя?.. Не надо... Ступай отсюда… ну, ступай! Да иди же!.. «А, сторожит, следит тоже», — подумал Станислав Матвеевич, с ненавистью глядя на этот красный, морщинистый затылок, скрывшийся за драпировкой.
Солнце склонялось к западу; в большие, выходящие во двор окна ворвались косые лучи света, разом озарившие всю внутренность комнаты; все металлическое засверкало, по потолку и столам забегали светлые пятнышки.
Перлович взглянул в окно.
— Сколько народу там! Чего это они собрались? Что делают? Вон арбы приехали с клевером; полуголые арбакеши сваливают зеленые снопы на крыши дворовых навесов и нет-нет все сюда поглядывают, в это окно, в котором должна быть так ясно видна вся его фигура... Вон два приказчика прошли через двор и тоже сюда покосились, шепчутся... А вон тот стоит на крыше, так и уставился, глаз не спускает, тоже сюда смотрит... Подлецы, предатели!
Перлович, под влиянием какого-то инстинкта самосохранения, поспешно откинулся назад, в другой угол дивана, куда не достигал этот выдающий, все на показ выставляющий луч света...
Серый, осенний день. Кругом чахлые кустарники, желтый, полувысохший бурьян, кучи бурелома и валежника, оставшиеся после вырубленного леса... Под вывороченным пеньком, совершенно прикрытый вырезными, перистыми листьями папоротника, весь зарывшись в мягкий, седой мох, залег притаившийся заяц и чуть-чуть поводит своим настороженным ухом: он прислушивается. Страшные звуки несутся со всех сторон, трещат сучья под десятками собачьих лап, фыркает конь где-то неподалеку. Ух, как близко, чуть не вдоль его вытянутой струной спины, щелкает охотничий арапник. И там, и тут, и отсюда, и оттуда грозит смертельная опасность... «Бежать?.. Куда? Со всех сторон враги... Он окружен. Вон между этим кустом и беловатым стволом покривившейся березы еще есть, кажется, свободное пространство. Разве туда?» И там словно из-под земли вырос и грозно кивает косматый белый хвост... Слышно тяжелое дыхание; красный, покрытый пеной язык, белые, острые клыки мелькнули так близко... Сильно, учащенно колотится сердчишко несчастного зверька... Он весь замер: ни одна шерстинка не тронется, даже косые глаза прикрыты, и чуть-чуть дергаются веки в смертельном, безысходном ужасе... Сопящий, фыркающий нос раздвигает желтые листья — последнюю преграду.
Вот в таком точно или, по крайней мере, чрезвычайно близком к этому положении чувствовал себя Станислав Матвеевич, только с той разницей, что хлопанье арапника, фырканье коня, собачьи хвосты и языки, — все это было пока только в одном его воображении.
«Разве бежать? Как и заяц под кустом, — подумал Станислав Матвеевич. — Но куда? К этим дикарям, в Бухару, в Хиву, что ли? Это — та же смерть, та же погибель! Назад в Россию? А как? Через всю эту степь, через ряд фортов и крепостей, в каждой из которых его могут захватить, скрутить, и тогда все пропало? А это все? Разве это унесешь с собой?»
Он с невыразимой тоской поглядел кругом.
Прямо перед ним, в простенке между двумя глубокими нишами, плотно, словно прилипши к плиточному полу, стоял металлический несгораемый шкаф; этот шкаф прислан был ему еще в прошедшем году, — и тогда уже было что в него прятать, а теперь... А это, что на дворах, в его караван-сараях, на пути, в караванных вьюках, на рынках Коканда и Бухары, наконец, в его грандиозных проектах, в одном воображении его воспламененного мозга?.. Все это придется бросить и спасать... что же? Одну только разбитую, исковерканную жизнь! А, вот оно что! Значить, поздно, значит, все кончено!..
На дворе послышался торопливый топот коня и звяканье оружия; два казака показались в отворенных воротах; за плечами торчат стволы винтовок, шашка путается и мешает слезть с лошади. Белый четырехугольник сложенной бумаги затиснут под ременную портупею. Казак идет сюда; он ступил на крыльцо. Эх, как звякают шпоры по его ступеням! Кто-то пробежал. За стеной портьера колышется.
— К вашему высокородию! — ревет медвежий голос.
Какая-то горилла загородила треугольный просвет распахнувшейся драпировки.
— Что такое?.. Зачем же это?.. Я и сам могу... Здравствуй, голубчик! — сам не понимая что, несвязно произнес Перлович и взял машинально протянутую ему бумагу.
Больше он ничего не слышал и не видел.
— Диковина, — говорил своему товарищу казак, садясь на лошадь, — взял это он «повестку», поглядел, губами что-то пошамкал, да как хлопнется на бок, — благо, еще у него на полу то мягко — вершка на полтора ковров настлано!
— Может, хмелен был?
— Нет, посуды около не видать было. Так на водку и не получил ничего, а надо бы. Да ну, не вертись, «прострели те пузо»![14] — вытянул он нагайкой своего чубарого.
***
А между тем содержание бумаги, полученной Станиславом Матвеевичем, было самого невинного свойства. Печатный бланк со вставным только именем и даже за номером, приглашал пожаловать на бал, имеющий быть такого-то числа, у его превосходительства, и проч., и проч. В конце же значилось предуведомление, что господам военным нужно быть в мундирах, а неслужащим и купечеству не иначе, как во фраках; пояснено было даже, что туземные именитые жители, получившие это приглашение, избавлены от необходимости надевать фрак, а могут явиться в своих парчовых, шелковых, бархатных и всяких других халатах.
Затем добавлялось, что бал этот имеет между прочим целью слияние национальностей, победителей и побежденных, а посему первые приглашались по возможности способствовать достижению этой благой цели, занимая туземных гостей и объясняя им главнейшие преимущества цивилизованной общественной жизни перед их полудиким, варварским бытом.
Последнее добавление принадлежало соединенным перьям офицеров местного генерального штаба и явилось результатом двух ночей усиленной умственной деятельности.
Бумага эта не то что была бы запечатана, а так, подклеена немножко, только чтобы не развертывалась. Так, по крайней мере, сам себя уверял доктор, приводивший Перловича в чувство и не утерпевший, чтобы не осведомиться насчет содержания этого «пакетца».
Потом доктор весьма досадовал на себя, как это он сразу, по одному наружному виду, не узнал, в чем дело? Ведь и сам он, да и не один он, еще с утра получил подобную же повестку.
И помусолив языком окраину листка, он поспешил привести пакет в его первобытное состояние.
XVII «Гидальго»
Случай помог Ледоколову провести вечер в доме Ивана Илларионовича; раз попав туда, он решился, во что бы то ни стало, поддержать это знакомство. Это входило в его расчеты.
На другой же день, часов в одиннадцать утра, «в самый визитный час», как уверил его белобрысый барон, авторитет по части знания местных светских обычаев, Ледоколов надел фрак, достал из дорожного футляра цилиндр, совершивший вместе с ним далекое путешествие, и направился к лопатинскому дому.
«Посижу подольше, поразговорюсь, — мечтал он дорогой, — надо усыпить эту подозрительную, дурацкую ревность. К маменьке приласкаться не худо: это тоже может быть весьма полезно; пригласят завтракать — останусь».
Ледоколов слез с дрожек и рассчитал извозчика.
— Дома нет! — заявили ему в полуотворенную дверь.
— Как дома нет? — озадачился Ледоколов.
— Да уж так-с! — говорил голос за дверями.
— Гм... А госпожа Брозе и их дочь?
— Мадам-то? Сейчас... Тоже дома нет! Должно, что так-с!
Голос за дверями заговорил менее решительным тоном. Очевидно, он справлялся в эту минуту: какого рода ответ надо держать относительно этого непредвиденного пункта?
Тот, кто мог надоумить его, вероятно, говорил одной пантомимой, потому что как ни прислушивался Ледоколов, другого голоса было не слышно.
— Слушаю-с, чего-с? Как-с? Только одни они-с... — шептал голос за дверями.
— Барынь тоже нет дома. Никого дома нет: уехавши! — отчеканил он уже довольно определительно.
— Ведь ты, братец, врешь... — начал было Ледоколов, и не мог докончить возражения, — не мог уже только потому, что вслед за ответом захлопнулась дверь перед самым его носом. Мало того, кроме визга дверного засова, в массивном медном замке что-то внушительно щелкнуло, даже не один, а целых два раза.
— Однако! — пожал плечами визитер и пожалел, зачем так поторопился отпустить свою долгушку.
Еще раза два пытался Ледоколов проникнуть, наконец, туда, где... и т.д., но каждый раз его встречали неудачи, подобные первой его попытке.
Встретился он раз, случайно, с Лопатиным на улице: что за странность? Иван Илларионович рассыпался в любезностях.
— Загордились, батенька, что не заглядываете? Грех! — мял ему руку Лопатин и смотрел на него так ласково, так дружелюбно. — И барыни вот все осведомляются об вас. Что, мол, да как, мол? Заходите же, право ну!
«Зайду завтра!» — решил Ледоколов и зашел.
— Только вот перед вами уехали, и барыни с ними! — с соболезнованием в голосе сообщил ему тот же голос за дверями.
— Да ведь я сейчас приказчика их встретил: он говорил... — рассердился было Ледоколов и тотчас же услышал знакомый визг и щелканье.
***
Как нарочно, случилось так, что первое время госпожа Брозе и ее Ада положительно никуда не выезжали. Следовательно, рассчитывать на встречу вне дома Лопатина было бесполезно. А этот проклятый, ненавистный дом, такой тяжелый, словно приплюснутый сверху, обнесенный скучными стенами, был, очевидно, для него заперт.
Припомнил Ледоколов, что как-то вечером, ужиная у Тюльпаненфельда, он слышал, как в общей комнате интендантский чиновник распространялся об удивительных свойствах здешнего климата.
— То есть, вы не поверите, — говорил он, — девочка скромненькая, пятнадцати лет, ничего не знала, не понимала, приехала сюда и... что бы вы думали? Вот!
Оратор сделал округленный жест перед своим жилетом.
— Ну, батюшка, тут совсем особые причины! — докторально заявлял другой собеседник. — Согласитесь сами, прикиньте хоть на счетах, на сто пятьдесят мужчин приходится всего только одна с третью женщина! Спросите хоть у самого Глуховского: он собирал эти статистические данные!
— Ну, конечно! Теперь вот опять, — дребезжал козлиный голосок, вытирая рот салфеткой, — наши барыни: там были верные, благочестивые жены, приехали сюда — и что же?.. Вы сами знаете, господа, ведь это ни на что не похоже! Это уж какая-то поголовная эпидемия!
— Ну, вот, вот, вот — обрадовался интендантский чиновник. — Скажите — не климат, не его влияние? Конечно, на нашем брате, мужчине, это влияние не так в глаза бросается, а есть... ох, есть! По себе знаю!
— Конечно! — соглашается тот, кто сначала пытался отыскать другую причину. — Южный климат, жар; опять пряности и горячительные напитки, но все-таки если бы пропорция была нормальней...
— Да где ее взять, эту пропорцию-то, — где? Вон Шелкопериха горничную с собой привезла, — рыло такое, что, и не взглянул бы другой раз, а тут бац! За чиновника замуж вышла. Дело у мирового вчера разбиралось...
— Всяко бывает... Мы вот в джюзакском походе из гнилой лужи хлебали, да слаще меду казалось, — нужда!
— Влияние климата! — настаивал интендантский чиновник.
«Должно быть, что это влияние климата!» — припоминал Ледоколов, отправляясь на продолжительные ночные прогулки под окнами лопатинского дома, особенно с той стороны, где, по его соображениям, приходилась дамская половина.
Через стену он узнавал вершины тех самых тополей и тутовника, под которыми они бродили впотьмах, всем обществом, и, глядя на эти темные, кудреватые группы зелени, у Ледоколова быстрее обращалась кровь, и усиленнее толкалось что-то под жилетом, заглушая даже отчетливое чиканье его хронометра.
Прогулки эти он начинал, обыкновенно, вечером, когда южные сумерки густели настолько, что не так резко бросалась в глаза проходящим и проезжающим его печальная фигура. Прогулки эти тянулись частенько вплоть до рассвета.
А ночи были такие чудные, темные, ласкающие, так возбудительно действовавшие на без того донельзя возбужденные нервы Ледоколова. Подолгу стоял он перед садовой стеной, и перед его глазами, в этом густом мраке, проходили самые томительные, волнующие кровь картины. То чудилось ему, что эта ровная линия стенного гребня тянется вверх, заостряется в какие-то готические башни древних замков; светятся красным светом узкие окна-бойницы, визг цепей слышится за этими мрачными стенами, надрывается плач заключенных красавиц. Они ждут избавителя, визг его призывного рога.
«Разве махнуть через? — мелькала не раз у него в голове отважная мысль. — Стена не так чтобы уж очень высока. Вот с этой стороны, если б только кто подсадил».
И если б в подобную минуту действительно нашелся этот кто-нибудь, Ледоколов не задумался бы привести в исполнение свое намерение.
«О, моя радость! Звездочка моя милая!..» — ощущал он на себе влияние климата и, опершись разгоряченным лбом о шероховатую поверхность стены, припоминал все мельчайшие обстоятельства их путешествия вместе на пароходе «Арал», припоминал он все эти чудные, блаженные минуты.
— Жулик, надо полагать!
— А черт его знает! Нешто забрать?
— Ну, его и лешему!
Темные конные фигуры объездных казаков топочут в нескольких шагах от Ледоколова, нагибаются с седел, подозрительно всматриваются в темноту и проезжают мимо.
— Боже!..
Ледоколов отскочил и начал прислушиваться: за стеной слышится голос. Это ее голос! Нет; все тихо; слышно только, как шелестят ветви деревьев, как храпит кто-то пьяным, носовым храпом.
— Вы бы серенаду спели понежнее! Где ваша гитара, mio gidalgo? — говорит сзади грациозный женский голосок. — Бедняжка!.. Ха-ха-ха-ха! — звонко хохочет Марфа Васильевна, и вот уже далеко, постепенно замирая, слышится мягкий стук колес ее шарабана.
— Смешно! И чего это он хлопочет, простаивая ночи под стенами? — хохочет Набрюшников, поталкивая шпорами гнедого, чтобы тот не отставал ни на полшага от подножки экипажа.
«Смешно! — думает, но не высказывает вслух Марфа Васильевна, косясь на своего кавалера. — И чего это он хлопочет, рыская по ночам за моим шарабаном?»
— Ну, до свиданья! — остановила она на перекрестке своего иноходца.
— Марфа Васильевна! — начал было Набрюшнилов.
— Вам надо ехать направо, потому что мне надо налево. Вы поняли?
Фраза эта произносится тоном, не допускающим никакого возражения. Набрюшников покоряется без явного ропота.
— Еще, пожалуй, столкнешься с кем-нибудь; ну ее, неприятности наживешь по службе! — вздыхает он и унылым шагом направляется к, своим казармам, в кокандское предместье.
***
А тут и Бурченко все пристает, и пристает, как нарочно, все в такие минуты, когда Ледоколову вовсе не до тех неизмеримых богатств, скрытых в недрах диких гор, куда нога человеческая еще не проникала.
— Да послушайте же, — говорить ему малоросс, — ведь вот отправляться скоро надо будет, а у нас с вами не бог знает сколько сделано насчет приготовлений. Тут столько хлопот, возни, а вы все где-то пропадаете!
В ответ на подобное замечание Ледоколов обыкновенно краснел и говорил, что он «собственно готов каждую минуту, что с его стороны...» и т. д., что-нибудь в этом роде.
— Бур подержанный купил у Алмазникова; плох, но с некоторыми приспособлениями пойдет в дело!
Ледоколов машинально выводил карандашом по маршрутной карте какие-то линии.
— Вчера вот у Лопатина был; обещал ему непременно отправиться в горы в следующую среду!
— Вы там были? Что же вы мне не сказали, что идете? Я бы с...
— А где вас искать? Я вот и на прошлой неделе был. Сижу, разговариваю с нашим капиталистом, смотрю — вы по той стороне идете, улицу переходите, я думал...
— Я шел туда же, но мне сказали, что дома нет. Это, наконец, подлость!
— Какой вы чудак! Словно всякий не имеет права пускать в свой дом, кого он хочет, и не пускать также, кого хочет. Эх, знаете ли что, благо к случаю пришлось; и охота вам лезть, как посмотрю я на вас? Мало вам одного раза? Нет, вам надо поскорее да подальше убираться от этих глазок, так ревниво оберегаемых от вас нашим барбосом... то бишь, цербером Лопатиным. Мне, конечно, вас не учить, но все-таки отчего не дать доброго совета? Да, кстати, к губернатору насчет того дела съездили?
— Я еще не успел... — замялся Ледоколов. — Я, впрочем, сейчас...
— Ну, вот видите... жаль! Теперь уже поздно: четвертый на исходе. Завтра хоть не забудьте! — остановил он своего товарища, заметив, что тот метнулся в угол за шляпой.
— О, конечно!
Помолчали немного.
— Черт его знает! — начал Бурченко, посматривая на продолговатый рогожный тюк, перехваченный по всем направлениям крепкой, смоленой веревкой. — Как мы его потащим в горы? На вьюках тяжело, ежели на колесах — есть там одно место скверное, не проедем на арбе; разве вот что...
— Когда вы прошлый раз были у Лопатина, вы их видели? — спросил, словно очнувшись от сна, Ледоколов.
— Эк вы! — озадаченно взглянул на него Бурченко. — Кого это их?
— Да ведь вы понимаете, о ком я спрашиваю! — начал было сердиться Ледоколов.
— Ах, да! Ну, видел!
— Что же, говорили что-нибудь обо мне?..
— Кажется, говорили... а впрочем... да, да, говорили, как же! Я им рассказывал, как вы все у дверей стучитесь, а вам все говорят: дома нет. Представьте, они об этом ничего и не подозревали!
— Подлец, да я ему!.. Я покажу, что мы не в Азии, где можно запирать женщин и не пускать к ним тех, кто...
— А где-же мы? — расхохотался Бурченко. — В Азии, батюшка, в настоящей Азии, в самом центре оной. Да ну, сядьте же и не горячитесь, да осторожнее; ведь вы чуть барометр не свалили — вещь, сами знаете, хрупкая!
— При первой же встрече с этим скотом...
— Послушайте, однако, ну, что хорошего? Рассердится и денег не даст — это верно; он потому только и дает их так охотно, что хочет поскорее нас с вами отсюда выпроводить. Иначе чего бы ему так торопить!
— А если я совсем не поеду, на зло ему не поеду, а останусь здесь?
— Это будет уже совсем глупо... то бишь — неостроумно. Положим, я не связывал вас никаким договором на бумаге, но... — Бурченко серьезно взглянул на своего товарища; улыбка исчезла с его лица, он передернул плечами и сухо произнес: — Как хотите...
— Во-первых, я этого не сделаю, и ваш холодный тон в данном случае, совершенно некстати! — спохватился Ледоколов.
— Да, я и забыл: Адель Александровна просила вам передать, что... да так, это именно придется сегодня вечером... так вот, сегодня вечером они едут кататься по чимкентской дороге...
— Ну?
— Больше ничего. Только и сказала всего; что, мол едут кататься по чимкентской дороге. Разве вам этого мало?
— И вы могли это забыть? Вы могли бы, пожалуй, вспомнить об этом завтра и тогда сказать мне? — укорительно взглянул на своего друга Ледоколов.
— Признаться, забыл, да вот вспомнил еще пока своевременно, ну, и слава богу! Куда же это вы?
— Завтра я буду у губернатора и сообщу вам результаты! — уклонился от ответа Ледоколов, шагая через рогожный тюк и пробираясь к двери.
— Гулять на чимкентскую дорогу? — варьировал вопрос Бурченко.
— Гулять на чимкентскую дорогу! — произнес Ледоколов, позабыв даже притворить за собой двери.
XVIII Нравственная сделка
А между тем на дамской половине лопатинского дома жизнь складывалась далеко не так привлекательно, как предполагала даже Адель, увлекавшаяся иногда розовыми мечтами своей маменьки, и как предполагал сам Иван Илларионович, так предусмотрительно распланировавши комнаты своего дома.
Во-первых, Адель начинала скучать. Фридерика Казимировна пыталась развлекать ее в подобные минуты, и сама едва успевала прикрывать рукой рот, растягиваемый конвульсивной зевотой.
— Тоска! — вздыхала Адель.
— Э, полно, Адочка! Ну, пойди, погуляй по саду; там, я видела, распустились новые колокольчики...
— А черт с ними! А-а-а! — зевала Адель.
— Они такие оригинальные: светло-лиловые с красными жилка-а-ами! — зевала еще громче Фридерика Казимировна.
Адель вставала и уходила к себе; маменька придвигала поближе столик с фруктами... Проходили томительные, бесконечные часы.
— Боже, сколько дней никуда ни шагу! — врывалась Адель снова в общую комнату. — Кроме этого несносного сада, в котором все, все приелось и пригляделось до тошноты, я не вижу ничего. Это невыносимо!
И она порывисто бегала из угла в угол и, наконец, вопросительно останавливалась перед Фридерикой Казимировной.
— Что делать? Ты сама виновата, сама! — холодно говорила madame Брозе, лениво ощипывая самые спелые, самые отборные ягодки винограда.
— Он думает, что этим путем можно чего-нибудь добиться! Да я скорее умру! — взвизгивала Адель, бросалась на диван и принималась рыдать судорожно, истерически, теребя и коверкая цилиндрические диванные подушки в местном вкусе.
Фридерика Казимировна, обыкновенно, относилась весьма спокойно к этим явлениям. Она не боялась слезливых припадков своей Ады; ее скорее могли бы напугать, да и пугали не на шутку, такие минуты, когда ее красавица-дочь задумывалась молча, вся сосредоточившись в себе самой, словно улитка, ушедшая в свою раковину, когда на ее лбу набегали грозные, не добро предвещающие морщинки...
Вот такие-то минуты тревожили madame Брозе и заставляли ее изыскивать всевозможные средства рассеять эти грозовые тучи и вызвать на лице Ады хотя что-нибудь похожее на улыбку.
— Да, ты сама виновата! — повторяла Фридерика Казимировна и начинала напевать «Dites-lui» из «Герольштейнской герцогини» — свои любимые мотивы. — Ты очень хорошо знаешь, — продолжала она, протянув руку и ласково погладив Аду по ее вздрагивающим от рыданий лопаткам (Ада лежала ничком, уткнув лицо в подушки). — Ты очень хорошо знаешь, что мы находимся совершенно в руках Ивана Илларионовича: без всяких средств, в дикой стороне, лишенные возможности возвратиться в Петербург, — мы совершенно зависим от Лопатина. Помни, Иван Илларионович для нас все! Без него все бы погибло, все! Спасенья нет. Ты это очень хорошо должна понимать!
Фридерика Казимировна умышленно представляла свое положение в таком виде.
«А вот я ее припугну! — думала она. — Может, это лучше подействует!»
— Боже мой! — вздыхала Ада, поднималась, вытирала глазки и также, как и маменька, только совершенно машинально, тянулась к корзинке с фруктами.
Фридерика Казимировна чавкала и звучно жевала, Адель высасывала ягодки с каким-то весьма грациозным всхлипыванием. Опять наступало молчание, только не надолго.
— Скажи, пожалуйста, Ада, неужели ты думаешь, что все это нам предлагалось и дается теперь или, по крайней мере, обещается, даром?
— Мама, да если он мне противен. Мне гадко, мне даже страшно, когда он только дотрагивается до моей руки... Ты знаешь ли, как трудно мне бывает скрыть это от...
— Да ты этого и не скрываешь. Гм!.. Но какое, однако, институтство! Не быть даже настолько актрисой! Впрочем, как знаешь! Сама после и пеняй на себя, если ему тоже надоест переносить одни только неприятности, и он повнимательней отнесется ко всему окружающему!
— Я тебя не понимаю...
— Нет, это я вообще... эта архитекторша... Мавра или Марфа, так, кажется? Помнишь, мы с террасы видели ее в шарабане?
— Ну?
— Она очень, очень красивая женщина. И я даже кое-что уже слышала. Я, конечно, не хочу тебя тревожить пустыми слухами; мало ли что болтают... но...
Madame Брозе многозначительно умолкла и, грациозно раскинувшись в позе стереотипных султанш на театральных подмостках, плавно опахивала себя настоящим, привезенным из Кульджи, китайским веером.
— Но ведь он держит меня взаперти, как рабу какую-нибудь. Если мне удается завоевать себе прогулку в экипаже, то это делается, как нарочно, поздно вечером, когда все темно, когда я никого и ничего не могу видеть!
— И когда тебя тоже никто не может видеть, добавь! — прерывала Фридерика Казимировиа. — Вот в этом-то и все дело. Пока он не будет уверен в тебе, до тех пор ты положительно не будешь пользоваться свободно всеми удовольствиями здешней светской жизни. А их так много, так много! Сам Иван Илларионович говорил мне, что пока...
Маменька приготовилась соврать, и соврать капитально, потому что Иван Илларионович никогда не решился бы высказать ей того, что теперь ему навязывали.
— Я не способна привязаться к нему, не могу! — горячилась Адель. — А при этой обстановке достаточно только простого сравнения, чтобы первый встречный...
— Например, Ледоколов?
Фридерика Казимировна язвительно улыбнулась и покосилась на свою дочь.
— Да, да, он! — вспыхнула Адель.
— Однако, этот барин не очень-то о тебе думает. Вот уже сколько времени даже и носа не показывает! — опять соврала Фридерика Казимировна. Она очень хорошо знала, что Ледоколову постоянно отказывали, что, впрочем, не удерживало его от повторения своих попыток проникнуть в дом Ивана Илларионовича.
— Неправда! — оборвала ее Адель. — Я уже говорила вчера о нем с его приятелем. Я нарочно вошла в кабинет к Лопатину, когда узнала, что там Бурченко... Его этот урод не велел принимать. Нет, я подобной ревности не в состоянии больше переносить!
— Ада, но ведь это так естественно!
— Это невыносимо!
Плечи Адели начинали поддергиваться; она, вот-вот, готова была разрыдаться снова.
— Какой ты, в самом деле, ребенок, как посмотрю я на тебя! — мягко начала Фридерика Казимировна. — Ты знаешь пословицу: «за двумя зайцами» и т. д., эта пословица — вздор. Можно гоняться не только за двумя зайцами — гораздо больше. Я говорю тебе потому, что знаю по личному опыту. Я больше тебя жила на свете, и ты должна верить, что мать не захочет зла своей дочери... Ты должна слушать мои советы, и если уж тебе так нравится этот слюнявый Ледоколов...
— Мама, я тебе не говорила этого...
— Все равно: я очень хорошо вижу, не хитри!
— Мне скучно. Мне, вообще, нужно общество!
— Все, все будет! И если ты будешь настолько умна, что сумеешь замаскировать это непонятное отвращение к Ивану Илларионовичу, приласкаешь его, будешь сама терпеливо и без разных неуместных выходок выносить его ласки, не так, как вчера за чаем, то не только один Ледоколов... ха, ха, ха! Ну, да ты умница: ты сама очень хорошо понимаешь, что можно сделать из такого колпака, как Лопатин!
— Колпака? — расхохоталась Адель.
— Ну да! — смутилась немного Фридерика Казимировна. — Он ведь такой добрый, мягкий...
— Добрый, мягкий! — тихо повторила Адель и вдумалась. — Знаешь, мама, — начала она, немного помолчав, — заметь ему как-нибудь половчее, чтобы он не так уж часто приставал со своими ласками. Знаешь, эта отвратительная привычка брать меня за талию своими потными лапищами... и потом зачем он душится бергамотным маслом?
— О, это все такие мелочи, которые легко улаживаются, особенно при содействии такой посредницы, как я! — весело засмеялась Фридерика Казимировна.
— Посредницы! — так же тихо, как и первый раз, повторила Адель, и на ее лбу опять задвигались какие-то нехорошие складочки.
Фридерика Казимировна быстро переменила тему разговора.
***
— А ну-ка, тащи их сюда из коляски, — сюда неси, за мной! — слышался голос Лопатина на подъезде.
— Мама, я уйду к себе и запрусь! — быстро вскочила Адель. — Скажи там ему что-нибудь, выдумай.
— Адочка! — поймала ее за платье Фридерика Казимировна. — Да ну, что за ребячество, ну как не стыдно!
— Не могу! Пусти! Скажи, что я ночь не спала и теперь сплю, крепко сплю!
— Хорошо, делать нечего! К чаю я тебя вызову непременно, слышишь?.. Ишь, ведь на ключ заперлась! Своенравная, скверная, упрямая девчонка!.. Ах, Иван Илларионович, как это мило! А мы вас раньше вечера не ждали!
— Здравствуйте, матушка, здравствуйте! — Сюда, братец, клади, на стол; ну, ступай! — вертелся в дверях Лопатин, пропуская впереди приказчика с продолговатыми свертками материй, завернутых в китайскую бумагу. — Ну, замаялся я, страсть! Здоровье ваше как?
Иван Илларионович с перевальцем, солидно подошел к Фридерике Казимировне и приложился к ручке. Потом посмотрел направо, посмотрел налево, прислушался и, понизив голос почти до шепота, произнес.
— Где же Адель-с? Адочка где же?
— Ах, она, бедная, спит теперь. Только что заснула. Представьте себе, как началась у ней зубная боль, так всю ночь напролет!
— Тс! Простудилась, должно быть?
— Как страдала, ах, как страдала!
— Как же вы мне это с утра не прислали сказать? Ай-ай-ай! Я бы Авдиева с собой привез — лучший здешний доктор!
— Ну, ведь это не опасно!
— Однако, не говорите!
Иван Илларионович на цыпочках подошел к дверям спальни Адели, нагнулся и приложил ухо к замочной скважине. Его толстая, массивная фигура была в эту минуту чрезвычайно комична. Madame Брозе не могла удержаться от улыбки.
— Спит, кажется, крепко! — решил Лопатин и осторожно, также на цыпочках, поддерживая руками баланс, перебрался обратно на диван к Фридерике Казимировне.
— Она просила меня разбудить ее, как только вы приедете!
— Будто?! — встрепенулся всем телом Лопатин,
— Да; только я не решаюсь. Так жалко тревожить ее сон!
— Оборони Господь!
— Что это? — кивнула Фридерика Казимировна на принесенные свертки материй.
— А это-с, помните, Адочка видела образчики китайских атласов: по черному полю птицы, цветы и драконы золотом и цветными шелками — ей понравилось тогда, так я уж на всю ее комнату и обои, и драпировки, и на обивку мебели выписал; дорогонько, ну, да что! Деньги дело наживное-с. Хе-хе! Так, что ли-с?
— Какой вы добрый. Вы мне совсем избалуете мою Аду!
— Хотел бы, ух, как хотел бы! Ничего бы не пожалел, только бы... — глубоко вздохнул Иван Илларионович и грустно покачал головой.
— Са viendra! — не без намека произнесла Фридерика Казимировна.
— Вашими бы устами... Вы не поверите, ведь я сам себя не узнаю, что со мной делается! Ведь вот пятый десяток, облысел, расползся, а хуже всякого шестнадцатилетнего мальчишки врезался!
— Ну, вы еще вовсе не так стары! — сунулась было с утешением Фридерика Казировна.
— Где уж тут-с! Сам я понимаю, что какая я ей пара? Не может она любить меня, — это естественно. Дурак бы я был, если бы добивался этого; но ведь привязаться можно, привыкнуть, приласкать когда-нибудь. Сердце ведь у меня доброе! Да я бы, кажется, за эту привязанность... Ведь я ее одну только в голове держу. Осовел даже совсем: сегодня вот счет перепутал, — бросил до приезда Катушкина; он ужо выручит... Эх, судьба!
— Знаете, что я вам скажу? Я хорошо знаю натуру моей Ады и могу дать вам дельный совет; хотите меня слушать?
— Говорите, матушка, говорите!
— Во-первых, она слишком уверена в вашей любви, а потому не очень дорожит ей; во-вторых, вы вовсе ошибаетесь, если думаете, что Ада к вам не привязана. Иначе зачем бы ей так скучать вчера весь день и сегодня, и только и спрашивать меня: «ах, маменька, да чего же он не едет?»
— Так ли-с?
Подозрительно, как-то искоса взглянул Лопатин на свою утешительницу и насторожил слух. Ему послышался шорох за дверями справа. Замочная скважина, которая до сих нор светилась, вдруг потемнела.
— Как здесь жарко! — поднялась с дивана Фридерика Казимировна. — Пойдемте в сад или на террасу; кстати, мы не рискуем разбудить Аду своим разговором!
Она заметила тоже последнее обстоятельство, а, по ее соображениям, Аде не следовало бы слышать всего, что предполагалось сообщить Лопатину.
— Поменьше ласкайте ее, поменьше балуйте, не обращайте, если можно, внимание на нее, вообще относитесь к ней поравнодушнее, — конечно, это для вас трудно, но вас вознаградят последствия! — говорила Фридерика Казимировна, спускаясь со ступенек террасы и повиснув на руке своего кавалера.
— Ах-ха-ха! — вздыхал Иван Илларионович, отстраняя слегка рукой мешавшие пройти, наклонившиеся под тяжестью поспевающих плодов, ветви имбирной сливы.
Тихонько отворилась дверь из спальни Адели. Красавица шмыгнула к столу, бегло осмотрела китайские ткани и, заслоненная со стороны сада откинутой дверной драпировкой, принялась наблюдать за гуляющими.
— Но если бы я только знал, что между мной и ею стал кто-нибудь другой... — доносилось из сада, и слышно было, как злость и бешенство задерживали дыхание говорящего, стискивая горло, пропуская только отрывистые, короткие фразы.
— Mais calmez vous, mon ami! Успокойтесь! Даже и тени нет ничего подобного! — плавно пела Фридерика Казимировна.
— Ого! А вот я посмотрю! — сдвинула брови Адель.
Должно быть, ветер подул в другую сторону или разговаривающие стали осторожней, потому что больше ничего не слыхала Адель, кроме того только, как поминутно на усыпанные желтым песком дорожки падали с легким стуком и расплюскивались подточенные червями сливы и персики.
— Если у вас есть карточка этой барыни... — вдруг донеслось с той стороны, откуда Адель совершенно не ожидала.
— Достать можно! — говорил Лопатин.
— Положите ее на видном месте, в кабинете на столе, или, лучше, так бросьте в ящик, а ящик неплотно притворите, — это будет натуральнее!
— Попробую!
— Это возбудит ревность, а там...
Разговаривающие слишком уж близко подошли к террасе и даже обнаружили намерение подняться по лестнице. Адель поспешила шмыгнуть к себе в комнату и опять притворила за собой дверь.
XIX Случайная встреча
Солнце спустилось к самым горам, в воздухе посвежело, и на всех ташкентских улицах стало люднее и оживленнее. Показались группы пешеходов, не идущих за каким-либо делом или с определенной целью, а, видимо, прогуливающихся; показались всадники, шажком гарцующие на своих горячих аргамаках и карабаирах; замелькали белые и цветные шлейфы амазонок, окруженных, обыкновенно, со всех сторон многочисленной свитой кителей и рубашек, темно-красных шаровар туземного покроя и синих форменных рейтуз в обтяжку. Покатились коляски с начальством, производя по гладко укатанному шоссе тот приятный, цивилизованный стук, свойственный только благородным рессорным экипажам.
Из ворот лопатинского дома тоже выехала изящная коляска, пронеслась по главному шоссе и тотчас же свернула в первый попавшийся на пути переулок. Сам Иван Илларионович, в желтой шелковой рубахе и бархатной безрукавке, ловко правил парой сытых, кругленьких, как дыньки, гнедых лошадок. Он был так занят своим делом, что даже и не заметил громко и не без энергии заявленного протеста по поводу неожиданного сворота с главного шоссе — ташкентского Невского проспекта.
— Иван Илларионович, да куда же вы? Слышите, я не хочу! — кричала Адель и даже зонтиком толкала в широкую спину кучера аматера.
— Ах, Ада, ты так кричишь, что обращаешь на себя общее внимание! — заметила ей маменька.
— Шали-пошаливай! Эй! Я тебя!.. — отнесся Иван Илларионович к правому гнедому и прищелкнул его по спине вожжей.
— Они, они! — пронеслось по шоссе от одной группы гуляющих к другой.
— Вот так-то лучше, а то там пылища такая! — придержал Лопатин лошадей перед спуском в Бо-су и с громом въехал на новый деревянный мост на чимкентской дороге.
— Там так весело: гуляют, катаются! — надулась Адель.
— Какой чудный, полный аромата и неги воздух! — раскинулась в своем углу Фридерика Казимировна. — Смотри сюда: вон старичок на ослике!
— Смотрите, смотрите! Ах, как это красиво! — вскрикнула Адель, оглядываясь назад через откинутый верх коляски.
Оглянулся Лопатин, оглянулась Фридерика Казимировна, — то есть, попыталась оглянуться, но ее попытка не удалась: толчки и подскакиванья коляски, понесшейся во всю прыть, положительно мешали ей приподняться.
— Ах, да что же там, Ада? — произнесла она с досадой.
— Должно быть, бандиты, — хохотала Ада, — иначе чего бы Ивану Илларионовичу гнать так лошадей... Да тише вы!
— То есть, это черт знает, что такое! — ворчал Лопатин, — и стал сдерживать свою пару; он опомнился и сообразил, что удирать и бесполезно, и комично.
Человек десять всадников, заметив еще с шоссе экипаж Лопатина и цветные зонтики его дам, свернули с шоссе и понеслись наперерез коляске. Любопытных было бы не так много, если бы всадников не подстрекнул пример красивой наездницы в красной амазонке, лихо перескочившей шоссейную канаву и понесшейся в карьер прямо через церковную площадь, через груды строительного мусора, раздвигая на скаку, грудью своего коня, кусты и молодые, новопосаженные тополи аллеек будущего городского сада. Все эти всадники красиво скакали, спускаясь по боковым тропинкам в Бо-су, и обнаруживали видимое намерение догнать экипаж.
— La bourse ou la vie! — звонко хохотала Марфа Васильевна, и этот веселый крик ясно доносился до ушей пассажиров лопатинской коляски.
— Архитекторша! — шептала на ухо Адели Фридерика Казимировна; она таки обернулась и удовлетворила свое любопытство.
— Иван Илларионович, придержите лошадей! — холодно произнесла Адель. — Слышите же, или я вас совсем попрошу остановиться и выйду!
Коляска поехала шагом. Фридерика Казимировна, бог-весть отчего, начала волноваться и ерзать по пружинным подушкам коляски. Широкий затылок Лопатина побагровел. Его почему-то особенно заняла одна из этих бляшек на сбруе; все внимание его обращено было именно на эту бляху; ему так хотелось дотронуться до нее кончиком своего бича, а бич не слушался, прыгал и дрожал в его руке, выделывая самые непредвиденные скачки и взмахи.
Адель откинулась назад, в самый угол; от этого движения вуаль упала на ее лицо. Она отбросила ее опять на свое место, причем почти сорвала со шляпки этот голубой клочок легкого газа.
«Еще подумают, что я прячусь», — подумала она, прислушиваясь к быстро приближающемуся топоту конских ног, к этим веселым голосам, между которыми особенно отчетливо звенел бархатный контральто «архитекторши».
С правой стороны коляски показалась вороная конская голова, грызущая пенистые удила уздечки, мелькнул красный лампас и нога со шпорой, за ней другая голова, рыжая, злобно прижавшая назад уши... Мелкой пылью пахнуло в коляску, и запахло конским потом.
— Bonsoir, monsieur! — кивнула головкой Марфа Васильевна, блеснув в глаза своей красной амазонкой.
Косые лучи заходящего солнца озарили ее с ног до головы; словно в огне горела красивая наездница и горячила своего белого коня, не знавшего положительно, на какую ногу ему ступить, чтобы только угодить своей госпоже, чтобы только избавиться от щекотливого прикосновения ее хлыстика, скользящего по его потной лебединой шее.
Лопатин неловко переложил вожжи в одну руку и приподнял свою шапочку с павлиньим пером.
— А каким вы молодцом в этом костюме! — продолжала Марфа Васильевна, мельком окидывая взглядом Адель и ее маменьку. — Помолодели... Прелесть! Вы меня извините, — обратилась она к сидящим в коляске, — что я отвлекаю внимание вашего кучера от его настоящего дела; дорога, впрочем, гладка, как скатерть, и опасности никакой не предвидится...
Адель сдвинула брови настолько, что уже больше было невозможно. Фридерика Казимировна готова была обеими пятернями вцепиться в это эффектно освещенное лицо архитекторши, если б оно было только поближе. Лопатин обнаруживал ясное намерение опять пуститься вскачь.
Всадники, то и дело, опережали коляску, сдерживали лошадей, снова пропускали экипаж мимо и снова обгоняли его, перешептываясь и без всякой застенчивости рассматривая незнакомых дам, о которых так много слышали.
Бог-весть, до каких пор тянулось бы это неловкое положение, если бы случай не выручил катающихся.
— Это что такое? — вдруг расхохоталась Марфа Васильевна.
— Это-с, тот испанец! — фыркнул подлетевший с боку Набрюшников. — Он самый-с; я уже давно его видел, как он бегом, наперерез, через стенки дул-с!
Из-за угла обвалившегося каменного забора, между двух широких фиговых листьев, показалась голова Ледоколова, спряталась на минуту и снова показалась, только ближе, у самой дороги.
Такое большое общество, окружающее коляску, видимо, озадачило Ледоколова; он колебался мгновение: подойти или нет, и тотчас же обнаружил свое решение, перескочив канавку и направляясь наперерез прямо к дверцам экипажа.
— Стойте! — произнесла Адель.
— Ада, это скандал! — задыхалась Фридерика Казимировна.
— Хорошего успеха! — улыбнулась Марфа Васильевна, еще раз кивнула головкой Лопатину, отсалютовала хлыстиком дамам и, обращаясь к своим спутникам, крикнула: — Гайда, ребята!
Вся кавалькада понеслась вперед, поднимая клубами пыль и оглашая вечерний воздух топотом конских ног, мелькающих в пыли металлическими полумесяцами подков.
Коляска остановилась.
— Прогуливаетесь?.. — начал было Иван Илларионович и поперхнулся.
— Прогуливаюсь! — улыбнулся Ледоколов, и на его вспотевшем, раскрасневшемся лице ясно промелькнуло следующее выражение: «На-ка вот, съешь! Что, взял?»
— Какая случайность! — запела Фридерика Казимировна.
— Давненько не видались! — снова начал Лопатин. — Что не заходите?
«Ах, ты, свинья!» — подумал Ледоколов. — Да вас все дома не было! — произнес он громко.
— И нас тоже! — язвительно заметила Адель, в упор глядя на Лопатина.
— Э-хм!.. — смешался тот и стал поправлять шлею вожжой.
— Я вас так давно не видал, я так рад этой случайной встрече! — дрожащим от волнения голосом говорил Ледоколов и хотел было поставить ногу на ступеньку; но он чуть-чуть не упал под колесо, потому что коляска тронулась совершенно для него неожиданно.
— Да придержите-же лошадей! — крикнула Адель. — Вы теперь куда же? — обратилась она к Ледоколову. — Назад в город или может быть...
— Я не имею определенной цели... я...
— Прекрасно! Садитесь с нами и едем домой. Этот вечер вы проведете с нами... Что ты, мама?
— Нет, это я ничего; повернулась и толкнула нечаянно!
— Может быть, господину Ледоколову это не совсем удобно... — начал было Лопатин. — Вот Бурченко говорил мне, что так много дела у них, особенно теперь, перед самым отъездом...
— Нет, я пока свободен! — поспешил успокоить его Ледоколов; только он с недоумением посмотрел на экипаж, на то именно место, где могла бы находиться подставная скамеечка.
— Коляска такая просторная. Мама, двигайся! Вы сядете между нами...
— Да вот сюда, со мной! — выбрал из двух зол меньшее Иван Илларионович и поспешил подвинуться вправо, поближе к фонарю.
— Я вас, может быть, стесню? — не заметил Ледоколов лопатинского маневра и полез в коляску.
— Ну, вот я вас, наконец, вижу; как же вы поживаете здесь, рассказывайте! — потеснилась Адель и подобрала шлейф своего платья.
Высокие сапоги Ледоколова были в грязи и грозили оставить заметный след на этом шлейфе. Фридерика Казимировна тоже позаботилась о сбережении своего костюма и окидывала неожиданного соседа не совсем ласковым взглядом.
— Домой! — распорядилась Адель.
Коляска повернула и полной рысью понеслась к городу.
Всю дорогу одна только Адель поддерживала разговор. Она непрерывно болтала то с Лопатиным, то со своим соседом, то с маменькой, переложившей, наконец, относительно Ледоколова гнев на милость. Она была еще очень молодая женщина; профиль Ледоколова показался ей интересен, и опять это чересчур уж близкое соседство (коляска вовсе не оказалась такой просторной, как предполагала Адель).
«Да он очень недурен; в нем есть что-то такое, чего я не замечала прежде, думала Фридерика Казимировна. — А что, если?..»
В ее голове начал созревать двойной план. Она начала, должно быть, тоже испытывать на себе влияние климата.
В ответ на веселую болтовню Адели Иван Илларионович отделывался односложными звуками; Ледоколов все извинялся, не стесняет ли, мол, он и уж совсем, разве только святым духом, держался в сидячем положении; Фридерика Казимировна томно и протяжно вздыхала.
В пыльной мгле вечерних сумерек, сгустившихся над городом, замелькали огоньки; окошечки крохотных домиков городских предместий приветливо осветились сквозь темную зелень деревьев. Караван, звеня деревянными бубенчиками, медленно полз с горы, пересекая дорогу. Сзади гудел, догоняя, почтовый колокольчик; трескотня барабанов слышалась в той стороне, где темными, правильными массами виднелись крепостные стены.
«Судьба! — угрюмо думал Лопатин, осаживая лошадей у подъезда. — Сам, в своем собственном экипаже, так сказать, собственноручно приволок. Авось либо?» — шевельнулась в нем надежда, что Ледоколов откажется от приглашения и не войдет в дом.
А тот так внимательно, так бережно высаживал дам из коляски; в эту минуту особенно тщательно возился с Фридерикой Казимировной: та никак не могла поставить ногу на подножку, боялась оступиться, и, наконец, навалившись всем своим дебелым существом на Ледоколова, доверилась безусловно его силе и ловкости.
— Чай с нами кушать! — произнес Лопатин таким тоном, который гораздо более шел бы к фразе: «А проваливай, брат, к черту!»
— С удовольствием! — раскланялся Ледоколов и «самоварчиком», с обеими дамами под руку, поднялся на ступеньки крыльца.
XX Во тьме ночной
Как и в тот раз, тысячи ночных бабочек и всякой мелкой крылатой твари опять налетели из темноты на приветливый свет ламп, прикрытых узорными абажурами, опять красиво сверкала своими гранеными боками серебряная масса самовара, отражая в себе лица собеседников.
— С ромком балуются! — делал свои замечания Набрюшников, сидя верхом на гребне садовой стены и наблюдая за всем, что делается на ярко освещенной террасе.
— Ветчина привозная... А это что в жестянках — ты не знаешь? — тихонько спрашивал товарищ его, хорунжий Подпругин, взбираясь туда же.
Оба они могли совершенно спокойно исполнять возложенное на них Марфой Васильевной поручение. Кроме покровительства ночного мрака, они были скрыты развесистыми ветвями тутового дерева. Со стороны дороги можно было заметить, и то с трудом, разве только одних их лошадей, стоящих у самой стены, на длинных волосяных чумбурах.
— Рыба, должно быть! — удовлетворил Набрюшников любознательность своего товарища,
— Тише ворочайся: чуть не сшиб, тс!..
Наблюдатели затихли на своем посту и сосредоточились в слухе.
Несмотря на всю прелесть обстановки, разговор за чайным столом как-то не клеился. Лопатин пытался было разыгрывать, относительно своего непредвиденного гостя, роль любезного и внимательного хозяина, но это ему положительно не удавалось. Адель, напротив того, вняв, наконец, советам и убеждениям своей маменьки, старалась выказать, относительно этого же гостя, как можно более спокойствия и равнодушия, но это ей тоже не удавалось. Фридерика Казимировна — та уже совсем дала волю своему впечатлительному, нежному сердцу и томно, почти сквозь слезы, смотрела на интересный профиль, продолжительно вздыхала и под влиянием охватившего все ее существо, экспромтом налетевшего чувства млела, млела и, чуть-чуть прихлебывая, пила всего только шестую чашку душистого чая с тутовым вареньем. Ледоколов тоже был как-то, что называется, не в ударе; его так стесняло присутствие Лопатина, он так много хотел высказать Адели, поразговориться с ней; он знал, что подобные случаи редко повторяются, может быть, даже не повторятся никогда, и вот этот случай пропадет даром. «Не пускаться же, черт возьми, в откровенности, когда тут торчит этот барбос!» — вспомнил он обмолвку Бурченко.
— Икры советую, прислали из Уральска! — пододвинул ему жестянку Иван Илларионович.
— Благодарю. Вы, Адель Александровна — извините мне мое откровенное замечание — переменились, и даже очень, за это время!
— Паюсной ящик и зернистой два бочонка. Представьте себе, зернистая икра в этом году… — отвлекал Ледоколова совсем в другую сторону Иван Илларионович.
— Боже, как ночь прекрасна! — вздыхала Фридерика Казимировна. — Вы, monsieur Ледоколов, как любитель и знаток природы...
— Осторожней! — удержала руку Ледоколова Адель. — Какой вы рассеянный: вы чуть не проглотили попавшую в ваш стакан ночную бабочку. Бедная, она опалила крылья и...
— Опалила крылья, это скверно! — зафилософствовал Ледоколов. — Но я не знаю, что лучше: потерять ли крылья совсем, или иметь их связанными и не пытаться развязать!
Он значительно взглянул на Адель; та улыбнулась. Иван Илларионович нахмурился. Фридерика Казимировна поспешила на выручку.
— Вы — поэт и рыцарь, вы сейчас же броситесь на помощь к связанной бабочке и освободите ее, избавив ее от труда самой распутывать свои цепи!
— Ничего не слышу! — шептал Набрюшников Подпругину.
— Слезть бы тихонько да по-за-кустам, по-за-кустам! — советовал тот.
— Влопаешься, пожалуй. А, ну!
— Да, наконец, вы легко можете впасть в весьма комичную ошибку, разлетевшись освобождать то, что вовсе не теряло свободы! — произнесла Адель,
«Важно! — не утерпел и одобрительно крякнул Иван Илларионович и тотчас же сообразил: — Ловко срезала молодца! Там у меня есть булавочка с камешком, тысчонки две с половиной штука... Преподнесу, завтра же, безотлагательно, преподнесу».
И он с чувством самого глубокого благоговения взглянул, на свою Аду, прихлебывающую чай из плоской китайской чашечки.
— Ах, да, я начал было... я хотел сказать вам, что вы переменились... — замялся Ледоколов и почувствовал, как несносная краска ударила ему в лицо. — Вы похудели... в ваших глазах... скажите, вы не скучали?
«Никакого такта! Нет, этот не годится, — думала в эту минуту Адель, — надо маскировать, а он...»
Ей ужасно досадно стало, зачем это он не годится. Ей так хотелось, чтобы именно он, Ледоколов, годился.
«Попрошу маму, она его настроит, как следует, или сама как-нибудь попытаюсь при случае», — думала она и, переменив тему разговора, попыталась прежде всего замять неуместные намеки Ледоколова.
— Что ваши караваны, о которых вы так беспокоились вчера? — обратилась она к Ивану Илларионовичу. — Я все слышала из своей комнаты. Вы, кажется, опасались чего-то? С кем это вы говорили? Голос незнакомый!
— Приезжий один из фортов, — встрепенулся Лопатин. — Да пустяки: «слухи, — говорит, — ходят не хорошие». Верно, вздор. Оно, точно, немного странно: запоздали очень... Вот и Катушкин не едет, а давно бы следовало, судя по последнему письму!
— Слухи и здесь ходят между туземцами, впрочем... — вставил Ледоколов.
— Вздор-с! — лаконически произнес Лопатин.
— Говорят! — пожал плечами Ледоколов.
— Мало ли что говорят-с! — скривил рот Иван Илларионович.
— Ай! — шарахнулась в сторону, где сидел гость, Фридерика Казимировна и так плотно прижалась к Ледоколову, что тот должен был поддержать руками испуганную даму, иначе мадам Брозе рисковала упасть со стула.
— Что вы, маменька?
— Что такое-с?
— Там, за кустами, кто-то ходит, вон там... Ай!
— Что за дьявол! — поднялся Лопатин и приподнял лампу над головой. — Кто там? Никого нет. Да где вы слышали или видели, что ли, кого?
— Там, там!
Большая серая кошка шмыгнула из-за куста, блеснула зелеными глазами, вильнула пушистым хвостом и исчезла.
— Ха, ха, ха! — засмеялась Адель. — Вот кто наделал всю тревогу!
— Ползи опять к стене: чуть было не влопался! — шептал Набрюшников. — А все ты шумишь шашкой, не мог снять раньше! Тихонько...
— Рожу наколол на что-то, — шептал Подпругин. — Ничего, ладно, кошка выручила, ползи вперед!
— Сюда-с, пожалуйте! — послышался голос парня в поддевке.
— В саду?
— Так точно-с, пожалуйте-с!
— А, Бурченко! — удивился Ледоколов и покраснел: его почему-то очень смутило это неожиданное явление.
— Милости просим, милости просим! — весело поднялся навстречу новому гостю Иван Илларионович. — А мы здесь все по-семейному; чай будете кушать?
— Да дело такое вышло, я и зашел; спрашивал, не спят ли еще? Нет, говорят, гости есть; я и зашел! — говорил Бурченко, спускаясь со ступенек террасы и раскланиваясь с дамами.
— И прекрасно сделали; садитесь!
— Да что садиться-то: нам надо о деле потолковать... Ну, Иван Илларионович, раскошеливайтесь: скоро нам уезжать надо, пора!
— Не ранее, как через неделю, я думаю! — заметил Ледоколов.
— Чего-с? Что нам тут целую неделю делать? Раньше можно; а что, не хочется уезжать отсюда, а? Пригрелись, батюшка! — засмеялся малоросс, глядя на своего товарища, все еще не пришедшего в себя от смущения.
— Ну, а как раньше? — полюбопытствовал Иван Илларионович.
— Да хоть завтра же. Утром нельзя, а к вечеру, на ночь, весьма удобно; я так и предполагаю!
— Вы вместе и поедете? — спросил Лопатин, кивнув глазами на Ледоколова.
— А то как же!
— И прекрасно, и прекрасно! Ну-с, так вам денег? Идемте сейчас ко мне, уладим все. Дело прежде всего, дело прежде всего! — почувствовал Иван Илларионович прилив какой-то необыкновенной радости. — А там опять сюда, если не поздно будет, и выпьем «посошок»; а то нет, завтра! Завтра лучше; мы сочиним вам проводы с хлебом-солью и всякими пожеланиями. Идем!
Он подставил руку Бурченко и сделал пригласительный жест Ледоколову, которой очутился в самом неловком положении: ему так хотелось остаться, благо убирается этот барбос, а тут и его тянут; отказаться — неловко.
— Вернитесь сюда, если успеете, если не засидитесь там! — тихо произнесла Адель, улучив мгновение, когда Лопатин пропускал вперед Бурченко, обязательно придерживая дверь.
— Как досадно, что вы лишаете нас общества г. Ледоколова! — запела Фридерика Казимировна.
— Да он как хочет, я и один там все улажу! — говорил Бурченко. — Оставайтесь, если хотите! — обратился он к своему товарищу.
— Нет, нет! — не выдержал Лопатин. — Дело общее — все уж втроем, сообща. Идемте-ка ко мне; что вам тут с бабами сидеть?
— До свиданья! — протянула Адель Ледоколову свою ручку,
— До свиданья! — томно произнесла Фридерика Казимировна и поймала его за другую руку. — Мы вас, впрочем, проводим до самого помещения Ивана Илларионовича!
— Э-хм! — закашлялся Лопатин.
— Как жаль, ах, как жаль, что вы нас так скоро оставляете! — нежно шептала Фридерика Казимировна, все еще не выпуская руки Ледоколова.
«Что за странность! — думал тот в эту минуту. — Какая перемена с барыней: то прежде смотрела на меня волком... то вдруг...»
— Во всяком случае, приходите завтра, перед отъездом, я позабочусь, чтобы вам не отказали! — успела-таки еще раз шепнуть Ледоколову Адель у самых дверей собственных лопатинских апартаментов.
— Порешим, все сообща порешим! — весело, доносился из-за дверей голос Ивана Илларионовича, — А денег — сейчас! За деньгами дело не станет. Деньги что! Было бы дело, а деньги найдутся...
— Хорошо, коли бы все богатые люди так думали: много бы хороших дел можно было бы наделать! — говорил Бурченко.
— Может, еще и утром завтра соберетесь! — опять слышался голос Лопатина.
— Эк, я ему сижу поперек горла! — ворчал Ледоколов, идя за ними.
Все трое заперлись в большом хозяйском кабинете и уселись на покойных складных креслах.
Адель со своей маменькой остались одни на своей половине. Парень в поддевке и мальчик-сартенок явились убирать со стола.
Дамы посидели еще с полчаса, подождали, не вернутся ли гости, покончив свои дела. Ожидания их не сбылись. На попытку Ледоколова, выраженную фразой: «А что, не зайти ли нам проститься, может быть, еще не спят?» — Лопатин поспешил заверить, что уже «наверное спят или, во всяком случае, раздеваются».
— Ну, чего уж тут! Идемте-ка лучше домой! — поддержал Лопатина Бурченко. — Завтра разве перед отъездом зайдем. Покойной ночи!
И приятели отправились к себе домой, а Иван Илларионович в свой кабинет, где уже дожидался его парень в поддевке с серебряным умывальником и чистым полотенцем в руках. Иван Илларионович, с тех пор, как доктор сказал ему, что это поддерживает свежесть кожи и вообще моложавость, имел привычку всегда умываться на сон грядущий.
Адель тоже затворилась в своей комнате и начала раздеваться.
— Адочка! — подошла к ней Фридерика Казимировна и положила руку на плечо. — Дитя мое, милое, дорогое дитя!
Адель сидела в креслах, перед зеркалом своего туалета, и видела в нем только отражение своей маменьки. Она видела там полное, довольно красивое лицо, значительно подрисованное, особенно около глаз и бровей, с эффектно загнутыми, черными, как пиявки, на висках колечками, с наклеенной мушкой, ловко оттеняющей ямочки на щеках. Все это было ей давно знакомо, давно изучено до последней мелочи. Но теперь что-то странное, особенное заметила она в этом лице — что-то такое, что заставило ее быстро обернуться и пристально посмотреть прямо в заплаканные глаза своей маменьки.
— Мама, что ты, что с тобой?! — приподнялась Адель. — Ты плачешь?
— Ада, ты очень его любишь? — проговорила, почти простонала, Фридерика Казимировна.
— Кого это? — удивилась Адель.
— Его... Ледоколова?
— Послушай, мама! Уж ты не сама ли изволила? — засмеялась Адель. — Все это так подозрительно...
— Ах, Ада, люби его... А я, со своей стороны...
— Знаешь, что, мама, я тебе посоветую: ложись спать и перед сном выпей два стакана холодной воды!
— Ада, я и сама, чувствую, что делаю глупость... Тем более, что в мои лета — почти ведь под сорок...
— Сорок восемь! — поправила Адель.
— Но ведь ты знаешь мой впечатлительный, нежный, легко увлекающийся темперамент…
Адель сняла со своего плеча руку Фридерики Казимировны (она была такая горячая, влажная, а ей и без того было жарко) и засмеялась ровным, беззвучным смехом.
— Что же, ты мне соперницей быть хочешь... да? Ха, ха, ха! Ну, хочешь, я тебе уступлю его добровольно, хочешь?.. Слушай, ты это в один вечер сегодняшний или еще прежде?..
— Нет, Ада, ты меня не понимаешь. Я вижу, ты еще не знаешь совсем своей матери. Любите друг друга, — любите, будьте счастливы, а я, со своей стороны, буду счастлива уже тем, что буду любоваться на вас, жить вашей жизнью. Насчет Ивана Илларионовича это можно очень удобно устроить. Он даже не будет и подозревать... Я это беру на себя!
— Мама, я спать хочу! — отодвинула кресло Адель. — Ступай к себе! Ну, ступай же!..
Она почти вскрикнула последнее: «Ступай же!» В эту минуту все: и Лопатин, и Ледоколов, и Фридерика Казимировна, и даже она сама, — все показалось так гадко! Ее красивые брови опять сдвинулись вместе, образовав грозную складочку над переносьем.
— Ну, Господь с тобой! — нежно приложилась губами к плечу дочери Фридерика Казимировна и плавно вышла из ее комнаты.
— Нет сна, нет сна! — декламировала она, остановившись на террасе и вдыхая полной грудью ароматный ночной воздух. — Ночь так прекрасна!
Она опустилась на ступеньки и принялась мечтать. Ярко-зеленый четырехугольник завешанного шторой окна спальни Адели мгновение погас.
— Нет сна! — шептали губы мадам Брозе.
— Становись козлом, я тебе на плечи, а потом подсоблю тебе уже сверху! — шушукались голоса у садовой стены.
«Что это? Какая-то фигура мелькнула неподалеку между кустами или это ствол дерева? Нет, это человек... Воры! Нет, нет, это Ледоколов, не может быть и сомнения! Однако, какая смелость, какая очаровательная отвага!»
Фридерика Казимировна быстро скользнула с террасы и ринулась в чащу темного сада.
— Это вы? — прошептала она, задыхаясь и протягивая руки.
Темная фигура шарахнулась было назад, но потом, должно быть, переменила намерение. Фридерика Казимировна внезапно почувствовала себя в самых пламенных объятиях...
«Он принимает меня за Адель! — промелькнуло у ней в голове. — Боже, это не он, нет!..»
Она приготовилась было кричать, но по некоторым соображениям, решилась лучше выдержать геройское молчание.
Спустя несколько минут она поднималась уже по ступенькам террасы.
— Я не виновата... я нисколько не виновата, — утешала она сама себя, — я была только жертвой случайности — не более, как простой случайности...
Она тотчас же сравнила свое положение с положением многих героинь прочитанных ею романов.
«Однако, их было, кажется, двое!» — вспомнила она, уже совсем засыпая.
— А об этом Марфе Васильевне докладывать? — наивно спрашивал Подпругин, садясь на лошадь.
— Я те доложу! — припугнул его Набрюшников, тоже влезая на седло.
И оба всадника галопом понеслись по шоссе, взбудоражив всех собак, до этой минуты мирно спавших у заборов и под воротами.
Разнообразнейший лай и тявканье преследовали галопирующих наездников.
XXI В горах
Две недели прошло с тех пор, как Бурченко с Ледоколовым оставили Ташкент и уехали в горы.
Дней десять тянулись они по еле проложенным горным тропинкам. Их маленький караван состоял всего только из трех всадников; они захватили с собой в виде проводника, да кстати и слуги, одного из шатающихся бездомных байгушей, Насыра Кора, киргиза, служившего когда-то джигитом еще при черняевских отрядах. За всадниками, прыгая, скрипя на все лады, тащилась двухколесная кокандская арба в одну лошадь, которая, впрочем, нанята была только до известного пункта, откуда уже совсем было немыслимо пробраться на колесах, и где Бурченко рассчитывал нанять вьючного верблюда для доставки груза на место предполагаемых работ.
Негостеприимная горная природа представляла нашим путешественникам на каждом шагу тяжелые препятствия, казавшиеся с первого взгляда почти непреодолимыми. Настойчивость и энергия Бурченко брали верх над этими препятствиями, и, наконец, измучившись донельзя, путники достигли-таки благополучно замеченного и определенного малороссом пункта и расположились маленьким лагерем.
Уже несколько дней, как стояли они на месте. Временный бивуак начал принимать некоторый вид оседлости.
Для Бурченко время летело почти незаметно. Он по целым дням пропадал, рыская по окрестным горным кишлакам, добывая необходимые рабочие руки. Ледоколов оставался дома, если можно назвать домом маленькую коническую туземную палатку, растянутую пауком на кольях, обнесенную небольшим ровиком, за которым разбиты были коновязи для лошадей; он занимался исследованием горных пород и определением удобнейших пунктов для начала работ, для закладки будущих неисчерпаемых рудников фирмы «Бурченко и компания».
— Вот еще завтра на рассвете надо кое-куда смахать: может, удачнее дело будет! — говорил Бурченко как-то вечером, измученный и усталый, с наслаждением протягиваясь на ковре во всю длину своего роста. — Вы, пожалуйста, не смущайтесь, если меня дня три дома не будет. Далеконько, да и дело, может, подходящее!
— Опять за рабочими? — с нескрываемой досадой ворчал Ледоколов.
— А за ними самыми. Буевцы надули, подлецы, не пришли. Впрочем, еще завтра последний срок, да мало их будет; а тут надо рук столько!.. Эй, тамыр, гляди, у тебя из котла бежит... А вы все кончили?
— Все; по крайней мере, все, что только можно было сделать вдвоем с Насыркой... Скука! Поехал бы с вами, если бы было на кого все это оставить! — окинул взглядом Ледоколов все несложное хозяйство их бивуака.
— Терпение, терпение! — говорил, зевая во весь рот, Бурченко. — Вы меня разбудите, когда ужин поспеет!
— Разбужу, спите!
— Пешком долго шел. Лошадь засекла ногу-с! — зевал малоросс, засыпая.
Крепким сном заснул малоросс, утомленный своей горной поездкой. Эх, скучно! Тихо так, только огонь вот потрескивает легонько; Насырка скоблит тупым ножом какой-то лоскут кожи. Гул ветра в горах, однообразный, томительный, то стихнет немного, то снова усиливается.
Пробовал было Ледоколов приняться за свои чертежи и расчеты, но бросил их. Снова принялся, пометил кое-что, ни с того, ни с сего вывел на полях: «Ада, Адочка» и машинально проверил длинный ряд цифр, изображенный по соседству с какой-то геометрической фигурой. Наконец, снова все бросил, сложил этот ворох исписанной и исчерченной бумаги, сунул его в кожаный портфель самых внушительных размеров и бессознательно уставился на эти синеющие горные кряжи, бесконечно высокие, ушедшие куда-то в пространство, за эти сизые тучи, ползущие по самым снежным вершинам. Ручей сверкал и прыгал в нескольких шагах от лагеря; он вырывался оттуда, из той вон узкой щели, что видна между верхом палатки и согнутой, заплатанной спиной Насырки, сосредоточенно мешающего в котле деревянной надколотой ложкой (кашиком).
Собаки их, куда же это они забежали? Их что-то не слышно. А, тявкнула одна никак; вон за камнями белый пушистый хвост мелькает, это Полкашка!
И вот все это начало сливаться вместе, во что-то неопределенное, туманное, вновь стало складываться, но уже совершенно в иной форме. Иной образ вставал перед его глазами: чудный, дорогой образ красавицы-женщины. И припоминал он все мельчайшие подробности их встречи, и все столкновения, каждое слово, каждый жест возобновлялись в его памяти с самой поразительной отчетливостью. Все, все, от сцены в коридоре гостиницы в Самаре до последней сцепы проводов, на повороте чимкентской дороги.
«Это любовь! — припоминал он. — Не может быть и тени сомнения. Это высказывалось в каждом ее слове, в каждом пожатии руки. Вот даже тогда, когда мы одни оставались на пароходе, или...» И вдруг в его голову начало прокрадываться незваное, непрошеное сомнение. Он тотчас же припоминал и что-нибудь такое, что сразу подкашивало все его надежды, — хотя бы даже последнее мгновение, когда он подошел к их коляске.
— Когда вы нароете побольше золота, ну, тогда... — начала было она и не договорила. Лопатин так некстати подвернулся со своим проклятым «посошком».
«Зато маменька-то уж что-то очень нежно на вас поглядывает...» Тьфу! — припомнил он утешение своего товарища.
— Золота, денег! Ну, конечно! — находили на него минутами припадки трезвости. — А что же я могу дать ей, кроме этого? Она, по всему видно, особа не из очень чувствительных, голодать с милым дружком не намерена. Пожить любит! Лопатин может доставить ей все, что нужно. Разве вот физика его ей не по нутру? Ну, да обтерпится, найдет себе, пожалуй, утешителей, пополняющих то, чего не найдет она в Лопатине. В эдакие-то утешители попасть разве?
И холодом обдавало его от одной этой мысли. Он чувствовал, как ревность, мучительная, страшная ревность подступала к самому его горлу, душила его, жгла, рисуя перед его глазами самые томительные, невыносимые картины. Он хватался за сердце от этой жгучей боли, он пытался отогнать от себя эти видения — и не мог.
— Нет, или я, или он, но вместе, делить добровольно, я не могу!
Ветром, холодным, освежающим ветром подуло из глубины ущелья и освежило несколько его пылающую голову.
«Жениться разве, так сказать, законным? Она бы, пожалуй, пошла на это, но нельзя — женат. Венчать от живой жены никто не станет, даже сам Громовержцев не решится. Самое лучшее — бросить и перестать даже думать. Эх, хорошо бы! Ну, положим, красива, очень красива, так, что даже дух захватывает от одного только воображения... Черт знает, что делается! Глупо, глупо! Вон и Бурченко все подсмеивается — и прав, с какой стороны ни заходи — все прав. Действительно, смешно, — более, чем смешно! Вон он лежит в растяжку и во сне ворчит что-то. Эк, захрапывает, эк, захрапывает! А у меня вот и сна нету. Э, да, что тут — кончено!» — Эй, Насыр, готова шурпа, что ли?
— Скоро готова будет, еще мимножка, самая мимножка, и готова будет! — не оглядываясь, весь погрузившись в свое занятие, учащенно мешает в котле Насырка.
«Вот тут, благо, судьба послала дело. В горы подальше загнала. Все устраивается так, что даже легко забыть это... Легко!.. Ада! Ангел! Да можно ли забыть тебя, дорогая, ненаглядная!..»
И разом исчезало все трезвое настроение, точно оно, и в самом деле, было нанесено горным ветром, разом исчезала вся его отважная решимость.
«Вот пойдет наше дело — это верное, богатое дело. Бурченко так убедительно, так ясно доказывает всю колоссальную выгоду этого предприятия. Да, наконец, это очевидно: менее, чем в год-два, мы составим себе крупное состояние, настоящие жизненные средства, и тогда...»
— Ужинать будешь? — поднимается на ноги Бурченко. — Ого, что-то шумит в горах, как бы гроза к ночи не собралась. Насырка, ступай-ка, крепи веревки, да привали камнем потяжелее нижнюю кромку, вот так... Каков аппетит у вас, коллега?
— Ничего что-то не хочется, а впрочем...
И наши приятели сели ужинать, пропустив перед Насыркиной стряпнёй по серебряному стаканчику из запасного, обшитого кошмой, бочонка.
***
Мало-помалу, к их бивуаку подходили разные люди, то просто пешком, то верхом на лошадях или ишаках, оборванные, темно-коричневые; сразу взглянуть — ну, чисто волки одичалые, а приглядишься — совсем добродушные, наивные ягнята. Смотрят весело, немного глуповато, зубы свои, белые, как слоновая кость, скалят, наивно улыбаясь. Все внимательно слушают, что только ни говорят им Бурченко с Ледоколовым, даже сам Насыр-бай джигит, и ничему не верят.
— Что же вы с голыми руками пришли? — говорит им Бурченко. — Я же вам говорил, чтобы кетмени свои захватили с собой. Голыми руками, что ли, рыть землю и камень ломать будете?
— А зачем мы ее рыть будем?
— Да я же вам говорил, зачем! — удивился Бурченко
— А денег дашь?
— Дам!
— И кормить будешь?
— И кормить буду!
— Ну, давай денег прежде и накорми!
— А этого хочешь? Экаго себе дурака нашли!
— Нет, этого не хотим, сам ешь!
— То-то!
Бурченко заметил в толпе шестерых с кетменями на плечах. Это были дюжие ребята из кишлака Таш-Огыр; он подозвал их, указал отбитое шнуром место на полусклоне оврага и велел начинать. Подумали дикари, посмотрели на Бурченко, переглянулись между собой, поплевали на свои черные руки, взмахнули кетменями и приостановились.
— А как надуешь?
— Вот же вам, гляди!
Бурченко отсчитал из кожаного кошеля по кокану на человека и положил их на землю.
— Это ваше; кончите — возьмете. Начинайте же, Аллах вам в помощь!
Целый день работали таш-огырцы, а остальные сидели на корточках, перешептывались, пересмеивались. Бурченко на них и внимания не обращал.
— Ну, завтра и мы будем работать! — говорили они вечером, видя, как таш-огырцы прятали деньги в узелки своих поясов и садились ужинать. Сунулись было и остальные к котлу, да отогнали их. «Прежде, мол, наработайте себе на ужин».
И начались, таким образом, работы по каракольскому ущелью; за десять верст слышно было, как звякали железные кетмени о твердый камень: по всем горам прокатывался гул от обвалившихся и сдвинутых с кручи обломков. Бурченко торжествовал.
Раз было неприятность одна случилась — так, маленькое недоразумение. Подошли к палатке, где жили «русские савдагуры» (купцы), трое из буевских горцев, вызвали хозяина и говорят:
— Слушай, ты вот нам из твоего кошеля каждый вечер по кокану даешь; давай лучше теперь все, что есть, разом!
— Чего вы это еще захотели? — нахмурил брови Бурченко, а сам шепнул Ледоколову: — Вы револьверы приготовьте на всякий случай; я понимаю, к чему дело клонится, — я еще вчера заметил, как переговаривались они и других подбивали!
— Вас вот всего двое, а нас много; не дашь — все равно, силой возьмем, а будешь барахтаться, тебе же хуже будет, — понял?
— Понять-то понял... — немного побледнел Бурченко. Струсил было и Ледоколов, поспешивший на помощь товарищу с оружием.
Минута была критическая. Одни в горах, ждать помощи неоткуда — кругом все чужие лица, на которых не разберешь, чего от них ждать, — смотрят как-то тупо; работу бросили и палатку со всех сторон охватывают... Насырка к лошадям было кинулся, седлать на всякий случай принялся... Вот таш-огорцы стоят особняком: разве они помогут? Да мало их!
— А что у вас в головах? — решительно возвысил голос Бурченко.
— Как что? Что у всякого человека должно быть! — заговорил кто-то из передних.
— Не совсем; должно быть, что-нибудь похуже, или Аллах послал темноту на ваши мозги и залепил вам глаза грязью? Слушайте же! В кошеле у меня, вот в этом самом, что лежит у моей постели, столько денег, что придется вам коканов по десятку на брата, сами делить поровну будете; да еще, чтобы до них добраться, надо со мной и вот с ним тоже покончить (он покосился на Ледоколова), а это нелегко будет: человек пятнадцать околеют прежде, чем моя голова вам достанется, — вы эту штуку знаете?
Он протянул револьверы; толпа попятилась и расширила круг.
— А потом узнают в большом городе, пришлют солдат — опять вам беда будет; чай, слыхивали, что тогда бывает, и все это из десяти коканов на брата? Хорошо рассчитали! Эх, вы, верблюжьи головы! А добрым путем, работой, все эти коканы и без того ваших рук не минуют. Я вот еще в большой город съезжу, еще привезу такой мешок, а там еще, — так, ведь, последнее дело много для вас выгоднее будет; ну, сообразили?..
Толпа молчала; таш-огырцы начали вслух подсмеиваться.
— Ну, что ж, подходи, кто до моего мешка хочет добраться! Что же вы?
— Нет, мы не пойдем, зачем нам? Это мы так только... Вон эти трое нас подбивали, а мы не хотим! — заговорили в толпе.
И опять спокойно начались прерванные работы. Сила простой логики взяла верх над хищным инстинктом полудиких горцев,
В ту же ночь, неподалеку от общего лагеря, послышалось дикое вытье и отчетливые, сухие удары ременных концов по чему-то мягкому... На земле, ничком, были растянуты трое подстрекателей; руки и ноги их были крепко привязаны к вбитым в землю кольям, халаты сняты, рубашки тоже, и на их избитых спинах все прибавлялись и прибавлялись новые темно-багровые рубцы, резко обозначающиеся после каждого удара...
— Это зверство, этого допустить невозможно! — кинулся было Ледоколов.
— Оставьте! — остановил его Бурченко. — Вы только насмешите их своим непрошеным вмешательством. Понять ваших побуждений они не поймут и вас не послушают — значит, нам компрометировать себя неудачной попыткой не следует!
— Но эти вопли...
— А заткните уши, коли нервы слабы; да к тому же неужели вы думаете, что это целую ночь тянуться будет?
Вот они уже, никак, и перестали. Эх, знаете ли что: сами избитые и те бы над вами завтра смеялись...
— Эх, якши маклашка была! — прошел мимо Насыр, возвращаясь с экзекуции. — Я и сам раза два тронул... эх, славно!
На этом веселом, смеющемся лице не было и тени озлобления. Он произнес эти слова, как будто бы говорил: «Эх, славная выпивка была, я и сам стаканчика три выпил».
Наказанные на другой день, впрочем, не работали и отдыхали, лежа на животах и пересмеиваясь с работающими товарищами; несмотря на все увещания Ледоколова, Бурченко им не дал за этот день платы...
— За что? За то, что кверху затылком провалялись? Ладно! — говорил он, туго затягивая ремнем значительно отощавший кошель с коканами.
***
— Писал Лопатину давно, да что-то нет ответа, а деньги выходят. Как бы остановки в деле не было? — сказал раз Бурченко, придя с работ завтракать.
— В Ташкент съездить надо! — заметил Ледоколов и чуть не закашлялся.
Какое-то странное волнение сжало ему горло, и даже в жар его кинуло от одного предложения ехать туда, где... и т. д.
— Придется вам ехать! — решил Бурченко.
— Я готов хоть сию минуту!
— Ничего, завтра еще успеете. Смотрите, вы не подгадьте нашего дела, будьте дипломатом. Одно только обстоятельство смущает меня немного...
— Э, полноте! — произнес Ледоколов, и произнес таким тоном, что у Бурченко невольно промелькнула мысль:
«А, должно быть, проветрился!»
На другой же день Ледоколов собрался и уехал, захватив с собой Насырку-джигита и обещая ровно через двадцать дней приехать обратно.
XXII Тревожные слухи
Возвратясь из почтовой конторы, Иван Илларионович отправил джигита-почтаря с эстафетой. Адрес был такой: «по тракту до Казалы, Ивану Демьяновичу Катушкину; справляться на каждой станции»; из этого адреса видно было, что сам Лопатин не знал, куда именно надо отправить эстафету. Невесело было на душе у Лопатина. Даже не порадовало его сегодня утром то обстоятельство, которое всегда вызывало в нем самую счастливую улыбку и довольное потирание по округленно-выдающемуся из-под тонкого белья желудку, вздрагивающему от внутреннего довольства, — каждое утро с «дамской половины» барышня присылала справиться, каково, мол, почивать изволили и все ли в добром здоровье? Это осведомление, редактируемое, впрочем, всегда от имени Адели самой Фридерикой Казимировной, на этот раз не вызвало улыбки на осунувшемся лице Ивана Илларионовича, всю ночь проворочавшегося с боку на бок на своей постели, строившего различные предположения насчет судьбы Катушкина и его давно ожидаемых караванов; надо сказать, что предположения эти не имели в себе ничего утешительного.
Темные слухи вот уже скоро неделя, как носятся по всему городу; начались они в туземной части; через людей Перловича дошли до лопатинских приказчиков; даже официальное было извещение от казалинского коменданта, только извещение это было какого-то неопределенного, темноватого свойства; этого извещения, впрочем, никто не видал, но все его трактовали, каждый по своему, передавая новость от одного стола ресторана Тюльпаненфельда до другого. Дошли слухи и до Ивана Илларионовича, позже всех, конечно; сунулся он к генералу прямо за объяснением.
— Bon courage, mon ami... Еще пока ничего нет особенного; может быть, все еще вздором окажется! — утешил его генерал и предложил портеру с честером.
— Да что же именно, ваше превосходительство? — попытался было Лопатин.
— А это спросите там, в штабе... Что-то разграбили, кажется, перерезали, в воду опрокинули... Да там вам скажут; toujours à la votre! — любезно чокнулся он с Лопатиным своим стаканом.
— Да Катушкин, бестия, чего же не пишет? — рвал пуговку перчатки Лопатин, садясь в коляску.
В штабе ему посоветовали послать эстафету, если он не хочет терпеливо дожидаться «более толковых, то бишь, более подробных, официальных извещений», — поправился маленький штабной офицерик Штофус, придерживая пальцем одноглазку, никак не хотевшую держаться без этой помощи на своем месте.
Вот послал эстафету Иван Илларионович, вернулся домой и, не заходя даже, по обыкновению, на дамскую половину, насупившись, уселся в кресле в своем кабинете.
«Скверно, если правда! Главные расчеты лопнут, капиталу чуть не две трети затрачено; а этот-то „лях“, чай поди, там радуется, бестия», — думал Лопатин, воображая себе ликующую, веселящуюся фигуру Станислава Матвеевича.
И на «дамскую» половину забрели эти таинственные слухи и значительно смутили спокойствие Фридерики Казимировны.
— Адочка, ты слышала? — позвала она свою дочь.
— Вздор какой-нибудь! Опять кто-нибудь во сне мной бредит или аппетит потерял по моей милости? — отозвалась она, не отрываясь от книги, которую пробегала, лежа на кушетке.
— Ах, нет. Ада. Да пойди сюда! Ты думаешь, мне легко кричать через две комнаты?
— Ну, говори, в чем дело!
— Ты, Адочка, не волнуйся...
— Ну, же!
— Все его караваны, — помнишь, он все говорил, что ждет с таким нетерпением, — ах, все эти караваны разграблены, все перебиты... Иван Демьянович, добрый, внимательный Иван Демьянович...
Фридерика Казимировна поднесла платок к глазам.
— Что же Иван Демьянович?
— На кол посажен!
— Как на кол?! — удивилась и вместе испугалась Адель, мгновенно представляя себе все неудобство этой посадки.
— Как? — вздохнула madame Брозе. — Ужасно!.. А главное, что это бедствие грозит Ивану Илларионовичу окончательным... Более, это было бы ужасно, это было бы более, чем ужасно!.. Знаешь, я даже стараюсь гнать от себя эту идею!..
— Ну, что ж такое! — задумалась Адель.
— Как, что же!.. Гм... — задумалась тоже Фридерика Казимировна; помолчала, встала, подошла к дочери и нежно приложилась губами к ее голове.
— Я поговорю с капитаном парохода «Арал»: он, говорят, приехал из Чиназа... я с ним увижусь и устрою так, что он тебе его представит!
— Кого это, маменька? — подняла голову Адель.
Фридерика Казимировна немного замялась.
— Этого... ну, генерала; такой видный, красивый, bel homme, — еще совсем молодой человек: лет под сорок, побольше, и какая блистательная карьера!.. Куда же это ты, Адочка?
Адель ничего не сказала, быстро встала и пошла на террасу, даже не взглянув на свою немного озадаченную маменьку.
— Ого!.. — произнесла Фридерика Казимировна.
— Коляску прикажете закладывать? — высунулся из-за дверей парень в поддевке.
— Попозднее немного! — распорядилась Фридерика Казимировна.
«Кажется, я поторопилась немного», — соображала она, принимаясь наблюдать за дочерью из-за той самой портьеры, откуда Адель прислушивалась к разговору своей маменьки с Лопатиным.
Быстро ходила Адель по дорожке перед террасой взад и вперед и тяжело, продолжительно вздыхала, будто за один раз хотела захватить как можно больше воздуха. Ей было душно; ее давило что-то тяжелое, скверное. Ее прекрасные, влажные глаза совсем спрятались под нависшими дугами нахмуренных бровей; тонкие пальцы беспокойно бегали и дрожали, расстегивая крючки душившего ее корсета.
— Объездишься, матушка, объездишься! — усмехалась Фридерика Казимировна, закуривая папироску.
XXIII На дороге
Скрипучая почтовая повозка, запряженная парой худых, как скелеты, лошадей, дребезжа и побрякивая на всевозможные лады, катилась по чимкентской дороге по направлению к Ташкенту. В тележке сидел Ледоколов, с нетерпением поглядывая через плечо ямщика, солдата из бессрочно отпускных, на зеленеющие, зубчатые группы фруктовых садов и тополевых питомников, примыкающих с этой стороны к городским предместьям.
Тамыра Насырку с верховыми лошадьми он оставил дожидаться на той станции, где выходила на большую дорогу горная караванная тропа. Он рассчитал, что на переменных почтовых он, по крайней мере, целым днем раньше будет в Ташкенте.
А день, целый длинный, томительный день — как это много, особенно при том нравственном настроении, когда каждый час, каждая минута кажутся бесконечными!
— Трогай, братец, потрогивай! — торопил Ледоколов своего возницу.
— Поспеем, ваше степенство! — подергивал тот веревочными вожжами. — Эй, вы, корноухие, работай! Я те, дьявол, лягаться!.. А этого хочешь? Шшш! Тпру!
Повозка остановилась, подскакнув напоследок так, что седок еле удержался на своем месте. Надо было подвязать заднее колесо перед крутым спуском в овраг, на противоположном берегу которого виднелась какая-то декорация — павильон в виде русской избы, с резными украшениями, так оригинально выглядывающий из массы зелени, посреди чисто азиатской, типичной природы.
Эта изба была построена и предназначена исключительно для загородных удовольствий: прогулок, пикников, проводов, встреч и тому подобное. Поместившись как раз на перепутье, на том пункте, где кончаются красивые городские окрестности и, взамен их, начинается унылая, однообразная дорога на «Шарап-хана», изба эта превосходно выполняла свое назначение, и старик сторож каждый вечер, ложась спать, собирал у себя в коморке значительный запас пустых бутылок, которые и сбывал очень выгодно Алмазникову, Тюльпаненфельду и прочим ташкентским виноделам.
— Эх, братец, как ты копаешься! — нетерпеливо ворочался Ледоколов.
— В аккурат предоставим, ваше степенство. Сидите крепче! Ну, трогай!
— Стой! — выпрыгнул на ходу из повозки Ледоколов и бегом пустился вниз, напрямик, через кладки, перекинутые для пешеходов, не желающих делать длинный обход на мост.
Ледоколов заметил на другой стороне, под густой тенью карагача, коляску, запряженную парой гнедых. Откормленные лошади стояли спокойно, отмахиваясь от комаров хвостами и грызя металлические трубки нашильников; кучер сидел на камешке около и покуривал трубочку; две или три верховых лошади без всадников тоже виднелись сквозь живую изгородь. В окнах павильона мелькали фигуры, и слышались оживленные, веселые голоса.
Ледоколов узнал коляску, узнал мелькнувшую в окне вуаль, узнал голосок, только что сию секунду крикнувший: э-хо! и, должно быть, поджидавший, когда овраг ответит ему тем же криком, отраженным и повторенным несколько раз его скалистыми откосами.
***
Адель со своей маменькой сегодня поехали кататься одни, без Ивана Илларионовича. Более «подробные сведения» были, наконец, получены в штабе, и Лопатина вызвали за какими-то объяснениями к губернатору.
— Знаешь что, оставим мы это; говори о чем-нибудь другом, я и так уж совсем расстроена! — говорила Адель, сидя в коляске.
— Я только к тому, чтобы всегда иметь путь отступления, быть, так сказать, готовой ко всему...
— Ну, хорошо, хорошо, после!
Адель так нетерпеливо, капризно заворочалась на своем месте, что маменька поспешила действительно переменить разговор и начала, по обыкновению, с природы. Она вообще очень любила природу.
— Ах, какие мотыльки! Посмотри, Ада, вон на лопушник садятся!
Адель мельком взглянула на мотыльков.
— А вон птичка. Ада, сама зелененькая, носик желтенький!
— К павильону! — обратилась Адель к кучеру, заметив, что тот, доехав до обычного пункта, начал было поворачивать лошадей.
— Не далеко ли, Адочка?
— Чем дальше, тем лучше! — буркнула Адочка. — Я бы, пожалуй, совсем отсюда уехала, если бы...
Она не договорила и обратила теперь все свое внимание на группу всадников, рысью взбиравшихся на гору по извилистой тропинке, ведущей к какому-то строению, совершенно скрытому с этой стороны массой самой разнообразной зелени.
— Какой вид прекрасный! Павел, остановись; мы будем любоваться отсюда закатом солнца! — распорядилась Фридерика Казимировна.
Коляска остановилась.
Один из всадников, вероятно, слышавший последние слова madame Брозе, задержал свою лошадь, повернул ее кругом почти на одних задних ногах и лихо подскакал к экипажу.
— Прежде всего, — начал всадник, приложив руку к козырьку своей белой фуражки, — я прошу тысячу извинений, что, не имея чести и удовольствия быть знакомым с вами, позволил себе заговорить...
— Какой урод! Терпеть не могу этих белобрысых! — шептала Фридерика Казимировна.
— Барон Шнельклепс, а те — мои товарищи-стрелки; мы прогуливаемся по окрестности; вы, если не ошибаюсь, тоже? Вы, сударыня, изволили заметить, что вид хорош, он даже более чем хорош, но оттуда, с высоты окон этого павильона, вид открывается еще лучше, и если вам угодно присоединить вашу прогулку к нашей...
— Благодарю вас! — церемонно раскланялась madame Брозе. — Павел, поезжай домой!
— Ну, мама, пойдем наверх, в тот павильон! — решила совершенно иначе Адель.
— Но, Ада, эти господа совершенно нам незнакомы... и притом...
— Наш мундир, сударыня... — обиделся было барон и, заметив, что девушка хотела было выйти из коляски, поспешил заявить, что к павильону можно проехать даже в экипаже.
— За мной! — скомандовал он кучеру.
Коляска свернула за всадником и начала подниматься. Остальные члены кавалькады встретили дам, в самых почтительных позах, у входа.
Это все были офицеры вновь прибывшего стрелкового батальона. Они в настоящую минуту знакомились с окрестностями нового города и собирались немного покутить. У каждого в седельной кобуре было по бутылке местного красного вина и по куску швейцарского сыра.
— Скромно и благородно! — говорил рыжеватый подпоручик, помогая дамам выходить из коляски.
Грустное настроение Адели начало, мало-помалу, проходить; Фридерика Казимировна нашла, что формы барона Шнельклепса весьма недурно обрисовываются из-под кителя в обтяжку, и если бы только не эти льняные волосы... Поручик первый открыл превосходное эхо в овраге, особенно если кричать в окно из большой комнаты. Тотчас же началась проверка этого открытия.
— Ада, Ада... смотри, это он! — вскрикнула на всю избу Фридерика Казимировна и, не обращая ни на что внимания, забыв даже формы барона, ринулась к подъезду навстречу поднимавшемуся, запинавшемуся, красному как рак, Ледоколову.
— Какими судьбами? — дружески произнесла Адель и протянула прибывшему обе свои руки.
— Адель Александровна, какая встреча! Здесь!.. Да ведь я чуть не умер без вас. Как я рад, как я рад! — целовал Ледоколов протянутые руки.
— А здесь, вы думаете, не вспоминали о вас? — томно пропела madame Брозе.
Расчеты господ офицеров на дамское общество не сбылись. Адель грациозно кивнула им головкой и под руку с Ледоколовым начала спускаться к коляске; Фридерика Казимировна поспешила за ними.
Офицеры переглянулись между собой, посмотрели свысока на Ледоколова, а это было так удобно, принимая в расчет местоположение, и занялись своими съестными припасами.
Дамы усадили Ледоколова между собой. Почтовая повозка поплелась за коляской.
Если б Ледоколов не был в таком лихорадочном, восторженном состоянии, он, вероятно, заметил бы то полное спокойствие, с которым относилась к нему его красавица-соседка с правой стороны, а несколько дружески сказанных слов и легкое пожатие руки окончательно сбили его с толку.
Фридерика Казимировна млела, кисла и не без тоскливой ревности посматривала на дочь; особенно смущало ее колено Ледоколова: «зачем оно так близко?»
— Да вы двигайтесь больше сюда: здесь еще так много места! — дергала она своего соседа за рукав его парусиновой рубахи...
— Вам надо сесть в вашу повозку: мы сейчас въезжаем в город! — прервала Адель интересный рассказ о том, «как в горах скучно, дико, какая тоска грызла его, и даже пребольно; и что если бы только не надежда...»
— Так вы к нам завтра? — спросила она.
— Завтра утром, как только возможно рано; прямо из штаба!
— Я постараюсь, чтоб вас приняли... Мама, m-r Ледоколов протягивает тебе руку... Мама, да что ты так задумалась?
— Подождите, минуту подождите... — заторопилась Фридерика Казимировна. — В моей голове созревает план. Зайдите с этой стороны: мне надо вам сказать...
— Мне? — удивился Ледоколов и забежал с другой стороны экипажа.
— Нет, не могу, не могу... У меня не хватает решимости. Я лучше вам напишу...
Фридерика Казимировна вытащила записную книжечку и принялась что-то поспешно царапать карандашиком. Ледоколов терпеливо ждал; Адель готова была расхохотаться.
— Возьмите, но прочтите только тогда, когда мы успеем подальше отъехать! — сунула madame Брозе бумажку в руку Ледоколова. — До свиданья!
— До свиданья!
— Пошел!
Гремя полудюжиной бубенчиков и расколотым колокольчиком, вся окруженная облаками пыли, вынеслась из-за поворота почтовая тройка, обогнала коляску и приближалась уже к остаткам триумфальной арки. Проезжий приподнялся в своем тарантасе, изумленными глазами посмотрел на дам, потом на Ледоколова, приподнял фуражку, хотел было остановиться, но, вероятно, раздумал и понесся дальше.
— Катушкин! — вскрикнули разом обе дамы.
— Мама, ведь ты говорила... — начала было Адель.
— Ах, как у меня бьется сердце! Ах, как бьется! — волновалась madame Брозе.
— Что это ты написала Ледоколову?
— Не спрашивай... это решается моя участь... в этих строках... Ада, милая моя, ты ведь все уже знаешь! Ты молода, перед тобой еще так много, а для меня ведь это может быть уж последнее! — истерически зарыдала Фридерика Казимировна. — Не отнимай его у меня, Ада, не отнимай! — всхлипывала она, пытаясь удержать душившие ее рыдания. — Ты, Павел, не говори никому то, что видел, никому... я тебе пять рублей дам за это...
— Благодарю покорно... не наше дело; я вот ежели что насчет сбруи или там... Вправо держи там!.. Долгушка!
— Я думала было, что это так, ничего; но теперь, когда увидала его после такой долгой разлуки, Боже! Я не знаю, что со мной делается!
— Эк тебя! Да успокойся, мама. Да ну, полно! Смотри, вон сюда глядят, пальцами показывают!
— Дай флакон!
Коляска плавно покатилась по городским улицам.
***
Ледоколов быстро развернул полученную бумажку, пробежал ее и обомлел; пробежал еще раз и покраснел до самого ворота рубахи. Он, казалось, не верил своим глазам и еще раз принялся перечитывать неверным, дрожащим почерком нацарапанную записку.
«Сегодня ночью приходите к нам в сад, Лопатин не знает еще о вашем приезде — это отклонит всякое подозрение с его стороны. Садовая стена не так высока, особенно из переулка. Ваша...»
Больше ничего не было в этой записке.
«Садовая стена не так высока...» — бормотал ошеломленный Ледоколов.
— На станцию, что ли? — спрашивал его ямщик, придержав лошадей на перекрестке.
«Особенно из переулка...»
— Чего? В федоровские номера! — очнулся Ледоколов и еще раз принялся перечитывать курьезную записку.
XXIV Опять в саду
— Конечно, обидно-с, и далее весьма разорительно... но чтобы, на сем основываясь, полагать, что дело надо бросить, — это будет, как есть, напротив. А при должном окончании следствия и при открытии виновников, даже убытки все вернуть можно, потому — присудят! — говорил Катушкин в кабинете Ивана Илларионовича, прихлебывая с блюдечка и поглядывая на кончик своей сигары.
— Вернут убытки?! Где уже тут вернуть убытки! — уныло вздыхал Лопатин, совсем распустившись в своих покойных креслах.
— Как есть. Теперь извольте видеть, что здесь подведена механика, — это положительно известно: следы все в наших руках; откуда все дело шло, тоже не трудно угадать!
— Он, он, несомненно он... Ну, сторонка! — вздохнул еще протяжнее Лопатин.
— И ежели бы только в руки нам очевидную улику, такую, чтобы, значит, совсем мат, безо всякого разговору, ну, и шабаш...
— Ну, сторона!
— Ничего не сторона: везде так заведено, что друг под дружку подкапываются, а особливо по нашему коммерческому делу. Там вот на такой манер, а здесь вот на эдакой. Да это еще что; случается, что и до головы добираются, не то что...
— Ну, вот, вот! — тревожно заговорил Иван Илларионович. — Я и говорю: мы вот тут сидим, а они...
Он поспешно встал, подошел к окну и опустил тяжелую портьеру.
— Оно, конечно, осторожность не мешает, — улыбнулся Катушкин, глядя на хозяйский маневр, — но тоже и в уныние приходить не приходится!
— Осторожность — не уныние. Всяк должен себя оберегать; положим, без риска нельзя. Вот мы попытались рискнуть — приехали сюда, дело завели, а тут вот оно что вышло... Тс!.. Слышали?
— Ничего не слыхал. Гм!..
— Зачем дальше искушать судьбу, зачем?
— Так, значит, дело бросить?
Иван Демьянович бросил в камин окурок сигары и укорительно покачал головой.
— Что же, ваше дело хозяйское! — произнес он, кисло улыбнувшись и передернув плечами.
— Какое хозяйское! Разве я к тому... — заторопился Лопатин. — А кто мне поручится, что вчера вот одно случилось, сегодня, бац, другое, завтра опять и, наконец, дойдет дело до того...
— Кто кого, известно. Вот они нас бьют, а нам кто запретил им в отместку?
— Нет, уж я на разбой не пойду, нет!
— Хаживали!
— Что!? — Лопатин озадаченно взглянул на Ивана Демьяновича.
— Не в обиду будь сказано, а, по-моему, все равно... да опять же скажу, что в нашем торговом деле без этого никак невозможно!
— Положим, я интриговал против него. Вот в интендантстве насчет подрядов совсем дело ему испортил. С винокуренным заводом опять так подвел, что он должен был понести значительный убыток. Но ведь это борьба законная; кто ему мешает делать то же? Шансы равны!
— Тот же разбой-с. Вы его в интендантстве придушили, а он в Кара-Кумах вас подловил; и опять же нам много выгоднее, потому что, ежели мы его накроем, — а это весьма возможно, — то и убытки наши, и все прочее вернется, а его на каторгу сошлют, потому его разбой не облечен в законную форму. Вы вот не ожидали ничего подобного, духом от этого сильно упали!
— Не упал, нет, а есть во мне какое-то предчувствие скверное. Фу, ты, черт! Это ваше пальто там в углу? А я было... — перевел дух Лопатин. — Когда этот разбойник увидит, что он в наши руки попасться может, то мало ли на что пойдет! У него, я слышал, такие шайки подобраны.
— Люди с разбором, это точно!
— Ну, вот, мало ли на что с отчаяния пойдет человек, когда увидит, что все потеряно... А если мы ликвидируем покойно дела...
— Да, как зайцы из-под выстрела, отсюдова ходу, — так, что ли? То-то смеху нам в затылок будет!.. Эх, Иван Илларионович! Конечно, мое дело приказчичье, но ежели, как потому, что мы с малолетства, еще при покойном родителе нашем друг другу доподлинно известны, то, значит, поручите это дело мне-с; доверенность полнейшую пожалуйте, потому она завсегда мне потребуется. А уж коли робость берет, то на время можно и в Петербург, либо в Нижний отъехать... Верьте мне, не в начале наше дело, а к концу подходит, и то, что у нас в руках, выпускать задаром не приходится!
— Все это хорошо, есть только у меня это подлейшее предчувствие...
— Одни пустые слова-с!
— Лях проклятый! Что-то его вот уже давно не видать нигде?
— Болен, сказывают; я уже навел справку. Отчета сегодня принимать не будете?
— Да уж до завтра: поздно, первый час, никак?
— Второго четверть!
— Так, по дороге, скажи Павлу, чтобы здесь спать лег, в передней, а Дементию садовнику тоже накажи приглядывать!
— Распоряжусь! — улыбнулся Иван Демьянович, поднимаясь со стула. — Прощенья просим!
— Вот оно как! — вздохнул Лопатин, оставшись один.
— Ну, что, Иван Демьянович, как-с?.. — остановил Катушкина во дворе один из приказчиков, поджидавший все время его возвращения из хозяйского кабинета.
— Раскис! — махнул рукой Катушкин.
— Так-с! — кивнул головой приказчик и пошел проводить Ивана Демьяновича «вплоть до самого его флигеля».
***
Разделся Иван Илларионович, долго очень крестился, покачивая головой и слезливо глядя на эти сверкающие, ежом торчащие во все стороны иглы золоченого венчика, окружающие что-то темное, неопределенное; отвесил земной поклон, особенно продолжительный, и потому только не оставивший на его лбу знака, что пол под образницей был покрыт мягким ковриком, и, наконец, лег под одеяло. Повернулся на другой бок — не спится; опять отвернулся потом к стене — не спится. Так вот и представляется Лопатину вся эта кровавая сцена посреди голых песков: так вот и видит он, как с кручи каменистого утеса рушатся громадные массы и засасывает их бездонной тиной.
— Иван Илларионович! — легонько стучит в дверь его Павел.
— А, что такое? Кто там? — тревожно вскочил с постели Лопатин и дрожащей рукой принялся шарить по ночному столику.
— Иван Илларионович! У нас что-то в саду неладно... Дементий прибегал сейчас, сказывал: через стену лезут, снизу-то на свет видно было...
— Кто лез? Много народу? Да где сапоги? Куда ты, черт, сапоги затащил? — засуетился Лопатин.
— Тихонько, Иван Илларионович, огня не надоть, зачем? Там ребята пошли, снаружи-то, а мы из саду; может, и накроем...
— Господи, Господи! Что же это еще такое?
— Пожалуйте-с... халат наденете, али пальто-с?
— Тише!
Тихий говор доносился из сада. Это был шепот, прерываемый чем-то, весьма похожим на всхлипывания.
Скверное подозрение мелькнуло в голове Ивана Илларионовича. Страшные призраки гибели каравана, опасения за свою собственную голову — все исчезло перед другим, еще более тяжелым, невыносимым видением.
Подобрав полы халата, теряя на ходу туфли, Иван Илларионович, как кот на добычу, шмыгнул из кабинета в приемную, оттуда на балкон, и его разгоряченное, потное тело сразу обдало холодным, сырым предрассветным воздухом.
***
— Ты, Адочка, иди спать: уже пора! — произнесла Фридерика Казимировна, взглянув на часы.
— А ты? — спросила Адель.
— Я еще посижу здесь в саду: голова болит, и, я думаю, легче будет на свежем воздухе!
— Мне тоже что-то спать не хочется; я посижу с тобой!
— Ах, нет, Ада, зачем утомлять себя?.. Иди, мой ангел, иди. Ты так устала, глазки у тебя слипаются, ты положительно спишь, сидя...
— И не думаю!
Фридерика Казимировна не без досады двинула своим креслом, да так, что даже одно колесцо с ножки соскочило и зазвенело по усыпанной песком площадке сада, на котором вот уже с час как сидели маменька с дочкой, наслаждаясь ароматным воздухом фруктового сада.
Помолчали минут десять.
— Ада, иди же спать, дитя мое, не упрямься! — начала опять ласковым тоном Фридерика Казимировна.
— Мама, ты так настойчиво посылаешь меня в постель, что я могу подумать, бог знает что...
— Что же такое? Ничего нет особенного... я без всякой задней мысли!
— Может быть, я тебя стесняю... так? Или, по крайней мере, могу стеснять впоследствии... да? Говори откровенно!
— Ах, друг мой, какие глупости! Ах, да, на твоей ротонде, я видела, отпоролось кружево: знаешь, тут, около ворота...
— Ты что написала Ледоколову?
— Адочка!
— Хочешь, я тебе скажу...
— Адочка!
— Ты его ждешь теперь, и я, понятно, должна стеснять тебя — вот ты меня и гонишь спать... так? Да, ну, сознавайся... ведь меня не перехитришь!
— Адочка!
— Да нечего все: Адочка да Адочка. Ну, слушай, я тебе скажу откровенно: Ледоколов не годится... то есть, он мне не годится... Я было сначала думала иначе, но теперь...
— Адочка, уйди, друг мой, ради Бога!.. Тс!..
Кусок штукатурки отвалился от стенного гребня и ясно, отчетливо защелкал по листьям гигантского лопушника, росшего под самой стеной.
Сердце Фридерики Казимировны забилось так сильно, что эти учащенные удары должны были быть слышны, по крайней мере, на том конце сада. Мадам Брозе была убеждена в этом, и пухлым, округленным локтем поспешила заглушить это нескромное биение.
— Ну, прощай! Дочь твоя тебя благословляет и разрешает, и прочая, и прочая, и прочая!
Адель сделала театральный жест и, беззвучно смеясь, шмыгнула на террасу.
«Боже, что же я делаю?! Ведь он не ко мне... он воображает... что же я буду говорить? Я, кажется, не решусь!» — пробегало в голове Фридерики Казимировны.
Какая-то тень мелькнула шагах в трех от нее.
— Боже, он меня не видит, он идет прямо! Дмитр... — прошептала она, и прошептала так тихо, что даже сама себя не слышала.
Тень остановилась, внимательно посмотрела на освещенное окно спальни Адели, еще шагнула немного вперед.
— Сигнал бы какой-нибудь подать! — соображал Ледоколов и тихо кашлянул.
— Courage, maman, courage! — совершенно неожиданно произнесла Адель, нагнувшись к самому уху своей маменьки.
— Ай! — вскрикнула Фридерика Казимировна.
Ледоколов бросился на крик.
В темноте он видел два силуэта,
— Ах! Ах! Ах... Ха-ха-ха! — разрешилась Фридерика Казимировна истерическим припадком.
— Этого еще недоставало! — громко произнесла Адель. — Ледоколов, вы пришли кстати (она чуть не фыркнула); — расстегивайте платье, распустите шнурки, я сейчас принесу воды!
— Я умираю, я умираю, мне душно! — томилась Фридерика Казимировна, отдавшись в полнейшее распоряжение растерявшегося, озадаченного Ледоколова.
— Вот вода... подождите, я брызну в лицо! — подбежала Адель с графином в руках.
— Я не виновата, я не виновата! — коснеющим языком лепетала Фридерика Казимировна. — Сердцем повелевать невозможно... Я женщина с сердцем... Я еще молода... О, Боже мой!
— Тут так много булавок! — отдернул руку Ледоколов.
— Трите виски... Ай! Идут, сюда идут!
«Попался», — мелькнуло в голове нашего Дон Жуана.
— Куда? Держи его, Павлушка, держи! — кричал, задыхаясь, Иван Илларионович. — Там от стены отхватывай, от стены, живо! Уйдет!
— Поймал, Иван Илларионович, поймал-с! — навалился сзади на Ледоколова Павлушка. — Что, чего? Драться не велено! Ноньче не те времена! Ой, Дементий, держи, уйдет!
— Прочь... убью!
— Нет, шалишь!.. Веревку подай!..
— Бей его, подлеца, бей, сколько влезет: все беру на себя! — неистовствовал Лопатин.
— Иван Илларионович, не делайте глупостей, — слышите, я вам приказываю! — кинулась Адель к Лопатину.
— Чего-с? Глупости?! Нет, это не глупости! Что, не любишь? А, любовников заводить...
Он не докончил: звонкая пощечина так и врезалась в его одутловатую, раскрасневшуюся щеку.
Фридерика Казимировна заблагорассудила погрузиться в самый глубокий обморок.
На цветочных клумбах, взрывая рыхлую землю, ломая и коверкая кусты, растения, цветочные палочки с надписями, завязалась ожесточенная свалка. Ледоколов боролся один против трех.
— Иван Илларионович, что вы делаете? Бросьте, вы, эй, вы, там, бросьте! Павел, брось! Павлушка, черт, леший!
Катушкин с фонарем в руках прибежал на место катастрофы.
— Вот оно дело какое... да, вот дело! — бормотал Иван Илларионович, тяжело опускаясь на ступеньки террасы.
Свежесть ли ночи (Лопатин был в одном белье), пощечина ли, так неожиданно полученная, внезапное ли появление Катушкина повлияли на него, но только в нем совершилась реакция.
— Оставь, ребята: что его бить? Этим дело не поправишь! Оставь уж, бог с ним!
— Вы мне дорого поплатитесь! — налетел было на него Ледоколов.
— Уходите, батюшка, уходите... Эх, вы! — остановил его Катушкин.
— Помогите! — чуть слышно простонала Фридерика Казимировна.
«Поделом вам, Адель Александровна, поделом», — сама себе говорила Адель, стоя перед зеркалом в своей комнате и прислушиваясь к затихающей, мало-помалу, суматохе на садовой площадке.
***
На другой день Лопатин получил длинное письмо от Ледоколова. В этом письме говорилось о том, что личные их счеты не должны смешиваться с «общим делом», что он приехал в Ташкент именно по этому делу, и будет совершенно нелогично, если то «недоразумение» может помешать успеху их предприятия. Он обращался к здравому смыслу Ивана Илларионовича, предлагая лично от себя и даже требуя какого угодно удовлетворения.
В ответ на это послание, Ледоколов в тот же вечер, получил тоже довольно подробное и обстоятельное извещение, подписанное, впрочем, Катушкиным.
Иван Демьянович уведомлял господ горных инженеров, что дальнейшее участие в их деле Ивана Илларионовича прекращается, а что насчет личных счетов и предлагаемого удовлетворения, то чтобы они не беспокоились, ибо выданных денег обратно требовать не будут; что же до иного прочего, то Катушкин лично уже от себя просит господина Ледоколова всякие претензии прекратить, ибо сие самое для господина Ледоколова не может иметь хороших последствий. Для входа и выхода предназначены собственно двери и ворота, а что ежели через стену и, наипаче того, в ночное время, то государственными законами сей путь весьма неодобряем.
— Накось, раскуси! — ухмыльнулся Иван Демьянович, дописывая эту последнюю фразу.
— Так его, мошенника, так! — одобрительно кивал Лопатин, глядя через плечо своего старшего приказчика.
— Скверно! — произнес Ледоколов, дочитав послание. «Вы уж, батюшка, смотрите там, не подгадьте», — невольно припоминалась ему напутственная фраза его товарища.
На другой же день, рано утром, Ледоколов послал коридорного Максимку на почтовую станцию за лошадьми по чимкентскому тракту.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I Кишлак Таш-Огыр
В горном кишлаке Таш-Огыр было заметно какое-то особенное, необыкновенное оживление. Тихие, малонаселенные горные поселки казались и людны, и шумны.
Плоские, расположенные террасами по скатам гор крыши сложенных из дикого камня сакель пестрели группами детей и женщин; мужское население тесной кучкой стояло у выезда или же поодиночке бродило по улицам, переговариваясь и перекликаясь с теми, кто был на крышах. Все это указывало друг другу пальцами, смотрело вдаль, по направлению к западу, и поминутно прикрывало глаза руками, — так трудно было выносить ослепительный блеск известняка и обломков мрамора, сверкавших на солнце по ярко освещенным горным скатам.
Там змеилась узкая конная тропа, спускаясь с высот в ущелье. Шла эта тропа зигзагами — иначе совсем невозможно было бы спускаться и подниматься на эту гору. Собственно ничего особенного не было видно на этой тропе, кроме четырех всадников-туземцев, чалмы которых кивали вдали, то прячась за обломками скал, то снова показываясь, когда тропа выводила их на более открытое место.
Всадники эти ехали не в кишлак Таш-Огыр, а из него: это было заметно по тому, что чалмы их, очень большие, почтенные чалмы, на каждую из которых пошло по крайней мере по тридцати аршин индийской кисеи, не увеличивались в своем размере, а, напротив того, все уменьшались и уменьшались, и в настоящую минуту казались чуть заметными точками; они, наконец, исчезли совсем за выдвинувшейся почти на самую дорогу, изрытой, угловатой скалой «Шайтан-каиком» (Чертовой лодкой). Форма этой скалы ничем, впрочем, не напоминала лодку; зловещее же прилагательное «шайтан» она получила, вероятно, вследствие того, что особенно как-то мрачно смотрела своей черной массой между остальными светлыми горными породами.
— Уехали!
— Ну, и слава Аллаху!
— Пошли им пророк дорогу гладкую, как сама лысина почтенного муллы Касима!
— Это от нас; а к нам, чтобы она была корява и изрыта, как его собственные щеки!
— Все равно, доберется. Там ты что хочешь делай, а в свой срок доберется. Жди вот через восемь месяцев!
— Жадные!
— Да ведь они не от себя: посылают — ну, и едут. Они, может быть, сами, по своей воле, и не хотели бы, да посылают, — ну, как же тут быть?
— Да, «не хотели бы», ха-ха! Не бойсь, скажи ему: мулла, что хочешь — или сиди дома и спи со своими бабами, ешь шашлык, пилав, запивай его айраком или даже хоть русским араком, и вот тебе за эту благодать, ни за что, ни про что, сто коканов; или поезжай по кишлакам за сбором, шатайся но горам день и ночь, спи один, где попало, без крыши, да еще подай за это двести, — так он и думать не станет: сам побежит седлать свою лошадь!
— Тоже свою выгоду понимает!
— Мало ли ему в свой карман перепадет! Чай, из того, что наши аксакалы собрали с нас, Ак-паше и половины не видать!
— А заметили, какая у того лошадь хорошая: за две тысячи коканов не купишь! А халат-то — ух! Мне бы только хоть один часик поносить такой. Блестит, как чешуя на рыбе!
— Не по ишаку седло!
— Чего не по ишаку? Пошли меня сборщиком, — не такой заведу!
— То-то тебя и не посылают!
— А все-таки хорошо, что уехали! Слава Аллаху!
— Еще ладно, что только два дня прожили у нас!
Вот такие разговоры и болтовня шли по всему Таш-Огыру, с крыши на крышу, со двора на двор, из одного закоулка в другой, и разносились дальше, по другим кишлакам, пестрящим дикие горные скаты.
Суровый, неразговорчивый, старый Амин-Аллаяр, и тот даже веселей взглянул из-под своих нависших бровей, потер костлявые руки и произнес:
— Ну, теперь мы месяцев на восемь вздохнем посвободней; подати сдали, ну, и да благословит Аллах наши достатки!
Слышал эти слова другой старшина, Джан-Оглы, подошел к Амину и говорит:
— А все-таки мы теперь много меньше Ак-паше платим, чем платили прежде бекам да кокандскому хану!
— Это еще посмотрим! — пожал плечами Аллаяр и покосился влево, к востоку, где синела щель «Каракол-лощины».
— Ну, вот, чего бояться! — понял намек Джан-оглы. — Мы ведь теперь не ихние: мы под Ак-пашой состоим. Они не смеют!
— А кого они бояться будут? Спросят, что ли?
— Пришлют белых солдат (ак-сарбаз) — небось испугаются! Нет, не посмеют!
— А где эти ак-сарбазы? За сто верст стоят; что случится — они нас не прикроют. Ну, пожалуй, дадим им знать... Э, да что говорить: сам понимаешь, не маленький!
— Аллах многомилостив!
— На него больше и надеемся... Ты, мулла, домой?
— Домой, а что?
— Заходи ко мне, коли будет время: у моего сына бок вот как раздуло! (Аллаяр показал на пол-аршина от своего бока). Посмотри, что такое: ты ведь ученый!
— Зайду!
На одной из ближайших крыш, присев на клеверные снопы, старая Ханым угрюмо посматривала на свой опустелый дворик, гладко утоптанным квадратиком расстилавшийся у нее под ногами.
— Что, Ханым, — пошутил с ней мимоходом Джан-Оглы, — где твои белые куры? Здоровы, что ли? Много ли яиц теперь нести будут?
— В своих животах увезли, проклятые! — покосилась та опять на ту же тропинку. — Да что ты пристал ко мне с курами, — твои бараны целы ли? Поди, сосчитай лучше!
— О-ох! — вздохнул в ответ Джан-Оглы.
— Избави нас пророк от всякого лиха! — поддакнул ему Амин-Аллаяр.
И оба старика медленно, сановито пошли по улице, спускаясь все ниже и ниже, к опаленным кустам горного можжевельника, где расположились более просторные и почище немного на вид сакли аксакала Аллаяра Амина.
И остальные обитатели кишлака Таш-Огыр, должно быть, уж вдоволь нагляделись вслед уехавшим сборщикам и мало-помалу начали расходиться по домам.
Солнце не свой брат, печет так, что страсть; прогревает далее мохнатые бараньи малахаи, накаливает плечи и спины сквозь верблюжье сукно халатов и словно кричит сверху: «Эй, вы, там, убирайтесь-ка поскорее по своим норам, под крыши, куда кто может; коли не хочешь беды нажить, ищи себе такого места, куда моим жгучим лучам не под силу будет проложить дорогу!»
И покорные этому клику люди скоро все до одного попрятались по своим норам и осталось на виду только несколько бродячих кур-хохлаток да большой золотистый петух с красной головой, наивно поглядывающий кверху, в эту молочно-дымчатую мглу накаленного воздуха.
Там, распустив свои полуторааршинные крылья, плавал громадный ягнятник и зорко смотрел вниз, словно раздумывая; какую бы из этих вкусных хохлаток удобнее ему сцапать?
***
Солнечный зной, разогнавший по домам таш-огырских горцев, должно быть, не очень пугал всадника, приближавшегося в эту минуту к кишлаку.
Всадник был весь в белом; на нем был поверх всего костюма накинут широкий парусиновый плащ с капюшоном, напоминающий своим покроем бурнусы бедуинов; его степная, рыжая лошадь, с тяжелой, горбоносой головой, не привыкшая к горным тропинкам, бежала лениво, спотыкаясь, и, то и дело, получала по своему откормленному крупу легкие удары киргизской нагайки.
Старая Ханым, первая заметившая всадника, знала, что путешественник был хорошо вооружен. Она знала это, во-первых, уже потому, что по их местам никто без оружия не ездит, а во-вторых, она видела, как за плечами и у пояса всадника несколько раз вспыхнули на солнце яркие металлические отблески.
— Опять никак к нам тот же русский крот едет! — проворчала она и тихонько, поберегая свои старческие кости, стала спускаться с крыши.
Русский крот остановился на минуту, откинул капюшон на спину и слез с лошади. Закинув поводья на шею коня, он пешком начал взбираться на кручу, к кишлаку, а его рыжий, легонько заржав и покосясь по сторонам, поплелся следом за своим хозяином. Теперь ясно была видна русая борода приезжего и чехол от револьвера, от которого на шею шли красные шелковые шнурки с кисточками, двуствольный карабин топырился сзади из-под плаща, привязные шпоры резко звякали по камням извилистой дорожки.
— Ишь, словно повымерли все! — произнес Бурченко, приостановившись у сухой можжевеловой жерди, перегородившей вход в улицу. — Эй, тамыр, как тебя звать? Эй, ты, чего там за углом прячешься?
Он заметил темно-коричневое, смуглое лицо с желтоватыми белками, выглянувшее было из-за стены крайней сакли, и синеватые тряпки рваной рубахи.
— Да тебе кого? — хрипло окликнула его рваная рубаха.
— Аллаяр-бай дома или уехал куда из аула? — спросил Бурченко, откидывая жердь и проводя рыжего в улицу.
— Никуда не уехал... Эге! Да это вот ты кто! — веселей отозвалась рваная рубаха.
— Узнал? Куда это: кажется, сюда? Тут у вас запутаешься. Я вот четвертый раз приезжаю, а все не пригляжусь!
— За мной ступай!
Рваная рубаха пошла вперед, мелькая своими голыми, мозолистыми, как у доброго верблюда, пятками. Бурченко шел за ней, расправляя на ходу усталые от длинного горного переезда ноги.
— А у нас это время гости были из «русского кургана», закетчи, мулла Касим и амлакдари (сборщики). Сегодня только уехали; раньше бы пришел — застал бы! — сообщал Бурченко его провожатый.
— Жаль. Много собрали?
— Про то аксакалы знают... Ну, вот тебе и Аллаярова сакля; давай «силау»! (наше «на водку»!).
— Ладно, больно легко зарабатывать будешь! Чего на мои раскопки не идешь, коли деньги любишь?
— У тебя работы много, тяжело!
— Зато и зарабатывают акчи (денег) много!
— А очень они мне нужны, акчи-то эти! — зевнула во весь рот рваная рубаха. — Ну, прощай! Вечером чай будешь пить, меня зови: я это люблю. Позовешь, что ли?
И оборвыш, не дожидаясь ответа, пошел прочь, отмахиваясь от золотисто-зеленых мух-навозниц своими спущенными с плеч рукавами.
Мулла Аллаяр встретил своего гостя на пороге, и пока они разменивались обычными приветствиями, одна из трех жен хозяина, сухощавая Нар-беби, приняла рыжую лошадь от Бурченко и, прикрываясь стыдливо халатом, повела ее куда-то в угол, где уже махал какой-то белый хвост, и слышалось тихое приветственное ржание. Серый, старый, как сам хозяин, аргамак Амина-Аллаяра тоже приготовился встретить своего, знакомого уже ему, гостя.
Давно еще прежде бывал здесь Бурченко; последний раз он приезжал сюда почти месяц тому назад: ему нужны были рабочие руки; с большим трудом, с помощью самых красноречивых уговоров, а главное — раздачей денег частями вперед ему удалось добыть десятка два работников. Недоверчивые дикари были неподатливы и никак не хотели поверить, что у этого русского крота (так его все называли по роду его занятий) не было каких-нибудь других, враждебных им целей; а тут еще примешался и суеверный страх к гяуру-иноземцу, который осмеливается рыскать по их местам один-одинехонек: они так привыкли видеть русского тюра не иначе, как в сопровождении целого конвоя «ак-сарбазов». «Не без „шайтанлых“ (чертовщины) дело обходится. С ним, пожалуй, свяжись — беды наживешь. Ну, его, не надо нам его денег!» — думали наивные дикари. Но эти самые деньги были такие светленькие, новенькие, так приветливо звенели! «Что же, не все ли равно; деньги, как и везде деньги. Разве на них написано, от кого они в руки наши попали?» — подшептывал им другой, более убедительный голос, и находились смельчаки, рисковавшие связаться с гяуром и заработать у него десятка два-три этих беленьких, серебряных коканов. Ничего, все обошлось благополучно. Случилось, эдак недели через две, вернуться в кишлак одному из шести первых, решившихся идти за Бурченко работников. Смотрят все на него — ничего, человек, как человек; не скорчило его, не покрыло его никакой болезнью; говорит, что жить хорошо, кормят всякий день мясом; хотел было сказать, что араку дают каждый день тоже по два стакана, да промолчал: увидел в толпе муллу Аллаяра и побоялся.
Побыл в кишлаке денька два мардигор (работник) и назад в горы пошел, да еще не один: четверых с собой увел.
Случилось одно обстоятельство, подорвавшее было расположение горцев к русскому кроту. Разнесся слух по горам, что все подати будут увеличены вдвое против прежнего. Это приписали изветам Бурченко. «Вот он тут шляется, тычется всюду со своим носом, — верно, дал знать, что мы хорошо живем, вот на нас и набавили!» — говорили те, кто по каким-либо причинам был недоволен нашим инженером. Другие им охотно верили. Дело могло бы окончиться очень плохо; из одного кишлака Бурченко был просто-напросто выгнан силой; в одном из горных проездов по нему даже стреляли. Мардигор Джонгыр, привязавшийся к своему хозяину, шепнул ему как-то на ухо: «Уезжай, тюра, лучше отсюда, пока цел! Верь — дело тебе говорю». Но Бурченко не уехал, и дурное время миновало так же быстро, как и пришло: слух о надбавке остался только слухом, а аккуратно выплачиваемые заработные деньги своей привлекающей силы не потеряли; все шло хорошо до катастрофы с Лопатиным.
Теперь, когда присылка денег из Ташкента, из конторы Ивана Илларионовича, прекратилась, надо было приискивать другие средства. Долго ломал голову предприимчивый малоросс, как бы извернуться, не прибегая к просьбе об официальном пособии, и, наконец, додумался. С этим-то решением он и приехал в кишлак Таш-Огыр, в самый значительный из горных кишлаков; и теперь, когда чашка с пловом, поставленная перед ним гостеприимным хозяином, была покончена, выпит был и чай кирпичный, сваренный с молоком и бараньим салом, он принялся излагать перед Амином-Аллаяром свой план, убедительно и толково поясняя ему все обстоятельства.
Бурченко говорил спокойно, взвешивая и обдумывая каждое слово, внимательно выслушивал все возражения, как бы ни казались они наивны с первого раза, подбирал самые удобопонятные и неотразимые доказательства и с удовольствием видел, как на умном лице старшины ясно выражалось понимание и даже согласие с его доводами. Часа два битых говорили они. Джан-Оглы пришел в половине разговора, сел на корточки и тоже все поддакивал. Соглашались молчаливыми кивками головы и еще двое стоявших в дверях.
— Ну, так как же? — закончил Бурченко и глазами повел вокруг себя в ожидании ответа.
— Хорошо! — лаконически промолвил Амин-Аллаяр.
— Хорошо! — попугаем повторил за ним Джан-Оглы.
Еще раз молча кивнули чалмами гости в дверях.
— Так что же, пойдут? — варьировал свой вопрос Бурченко.
— А не знаю! — пожал плечами Аллаяр.
— Как тут можно знать? — также пожал плечами Джан-Оглы.
Гости в дверях только переглянулись.
— У сына твоего бок ничего, скоро пройдет, — обратился Джан-Оглы к хозяину, пододвинувшись поближе, — это его зеленая ящерица оплевала. Ты возьми черного козленка, перережь ему шею тем ножом, что после человечьей никакой еще крови не пробовал, — есть такой?
— У меня нет; откуда такого взять?
— У соседа Искандера есть; он третьего дня... — начал было гость в дверях.
— А ты рассказывай, бей в бубен по всему колодку! — шепнул ему другой.
— Я тебе принесу этот нож! — вызвался первый.
— Ну, так вот ты зарежь этим ножом козленка, — продолжал наставления Джан-Оглы, — а потом вымажи кровью больной бок и левую пятку. Печень же козлиную...
— Слушай, Аллаяр-бай, — не без досады перебил знахаря Бурченко, — я к тебе за десять ташей[15] приехал, о деле тебя спрашивал, как к своему лучшему другу за советом пришел, а ты настоящего ответа дать не хочешь!
— А что же я тебе скажу? — удивился немного мулла Аллаяр.
— Согласятся они на мое предложение или нет? Ты старшина ихний, ты знаешь. Коли ты мою сторону держать будешь...
— Ничьей я стороны держать не стану. Я вот соберу народ к вечеру, — всех соберу, кого найдут дома: ты им сам и говори. А мне что? Сам я к тебе в работники не пойду, других отговаривать не стану. Пойдут — их охота!
— Всякий знает, что ему лучше, так пускай и делает! — согласился тоже Джан-Оглы. — Так вот эту самую печень...
— Так сегодня вечером соберешь народ, это верно?
— А я разве когда тебя обманывал?
— Ну, ладно, буду ждать вечера... Э-эх, замаялся я по вашим дорогам! — потянулся Бурченко и подтащил к себе какую-то мягкую рухлядь.
— А ты отдохни до вечера. Здесь, в сакле, прохладно! — пригласил его хозяин.
— Да уж больше делать нечего! — произнес гость и, заложив шпору в какую-то щель, принялся стаскивать свои тяжелые походные сапоги, подбитые крупными остроголовыми гвоздями.
II Речь Бурченко
Солнце спустилось уже к самой зубчатой окраине гор; загорелись, словно залитые золотом, далекие ледники; вечерним холодом повеяло снизу. Прыгая с камня на камень, поднимая красноватые облака пыли, наполняя воздух разнообразным блеянием и ревом, подходили к аулам стада, пасшиеся днем по заросшим сухой травой и горькой полынью каменистым откосам.
Кучи навоза, зажженные у входа в кишлак, мимо которых должен был проходить скот, обкуриваясь таким образом во избежание чумной заразы, распространяли на далекое расстояние едкий дымный запах.
Оживленный говор пошел по кишлаку; со всех сторон потянулся народ к площадке перед саклями Амина-Аллаяра.
Проснулся Бурченко и начал одеваться. Та же женщина, что убрала его лошадь, принесла ему большую чашку с кислым молоком. Жажда морила русского крота, и он, окунув свои усы в густую белую массу, чуть не залпом вытянул всю чашку и отер рот рукавом своей рубахи.
— Собирается народ! — оповестил его Аллаяр, взглянув в саклю.
— Сейчас выйду! — отозвался Бурченко, заглянув на всякий случай в револьверную кобуру: все ли, мол, там в порядке?
Громче и громче становился говор вокруг. Слышалась топотня босых ног и сухой стук по камню кованных, остроконечных каблуков. Лошадь ржала и билась где-то неподалеку. Даже крыша той сакли, где одевался Бурченко, тряслась и вздрагивала под тяжестью взобравшихся на нее таш-огырцев.
«Ну, либо пан, либо пропал! Чем-то окончится этот митинг?» — промелькнуло в голове малоросса.
И он решительно шагнул через порог прямо на яркоосвещенную последними лучами вечернего солнца сборную площадку.
Шум толпы нисколько не стих и не усилился при появлении русского крота, словно его и не заметили. Только все разом взглянули на него, кто прямо, кто искоса, и в этом беглом взгляде отразилось минутное любопытство, тотчас же успокоившееся, как скоро таш-огырцы убедились, что Бурченко — все тот же самый Бурченко, которого они видели в последний раз, и в наружности его не произошло никаких перемен, более или менее могущих обратить их внимание.
— Здравствуйте! Да пошлет вам пр... Что же это они в самом деле?! — озадачился немного малоросс этой холодностью.
— Аман! Аман! Амапсыз! Кудак-кунак! — послышались в говоре толпы отрывистые приветствия.
— Вот я к вам в гости приехал, — начал Бурченко, — да кстати и дело надо сделать вместе с вами!
— Что ж, от дела никто не бежит!
— Дела всякие бывают: дурные и хорошие! — послышались голоса.
— С дурным делом я к вам не пойду: вы меня уж знаете! — возвысил голос Бурченко. — Говорил я об этом с тамыром своим, Аллаяр-баем; он вот вас собрал, чтобы я мог сообщить это дело всем вам разом. Будете слушать — я начну, а нет — так что и толковать: я даром ломать своего языка не стану!
— Что же, говори!
— Кричать очень громко приходится: вас ведь всех не перекричишь. А вы бы призатихли на часик!
— Эй! Вы, там, на крыше, тише! Вам говорят! — прикрикнул Джан-Оглы. — Да будет вам о своей ослице говорить: и после наговоритесь! — обратился он к двум «гальча», громче всех кричавшим и то и дело хватавшим друг друга за обшивки халатов.
— Молча-ать! Тс! — выскочил оборвыш с желтыми белками глаз, тот самый, что провожал Бурченко, и, вооружившись длинной палкой, стал изображать из себя полицейского коваса, гордо поглядывая на толпу и мерно шагая из одного угла площадки в другой.
— Наш-то дивона расходился!
— Дурак-то, дурак! Ха-ха-ха!
— Тс! Тише же, в самом деле!
— Зачем я в горы сюда к вам приехал и что здесь делаю — вы уже хорошо знаете! — говорил Бурченко.
— Знаем! — рявкнул желтоглазый.
— Молчи!
— Теперь ты говоришь, что тавро у ней на левой ляшке и ухо зубцом надрезано... — дошептывал гальча о своей ослице, да вовремя заметил нахмуренные брови самого Амина-Аллаяра и затих, одной мимикой дополняя окончание своей речи.
— Много ваших работали у меня и теперь еще работают; никто не жаловался; всем было хорошо. Все может и дальше так же хорошо пойти, только с небольшой переменой. Вот об этой-то перемене я и приехал говорить с вами. Я до сих пор вам за вашу работу платил деньги. Деньги эти мне давал другой человек; давал он их мне взаймы, потому что верил мне и рассчитывал получить их обратно с хорошим барышом. Ну, дело наше шло хорошо, больше половины сделано; осталось уже немного; барыш был на носу, и мы бы его с тем человеком поровну бы разделили...
— А нам что пришлось бы из этого барыша? — нерешительно выдвинулся молодой парень в синей длиннополой рубахе и в бязевых коротких чембарах, засученных по колено.
— Вам бы ничего не пришлось, потому что вы каждый день получали плату за свою работу. Вы на кость[16] ничего не ставили; барыш бы остался только тому человеку, что деньги свои тратил, да мне, потому что я, главный уста (мастер), заправа всему делу, тоже из одного этого барыша и хлопотал, и работал без жалованья!
— И много бы вам пришлось этого барыша-то? — полюбопытствовал кто-то из задних рядов.
— Полагаю, что на нашу жизнь хватило бы с излишком. Уж, во всяком случае побольше, чем вы все зарабатывали вместе!
— Ишь, вы какие ловкие! А вы с нами бы поделились, — заметил тот же голос.
— Вот за этим-то я и приехал сюда, чтобы предложить вам это. Только нам надо сговориться!
— Что ж, это хорошо!
— Надо прибавки к плате просить: он даст!
— Понимаем, к чему он клонит!
— Еще по ярм-теньга в сутки, и меньше чтоб не ходить!
— Не даст!
— Даст: за тем и приехал. Ты ведь слышал!
— Тише вы, слушайте! — перешептывалось многочисленное собрание.
— Теперь тот человек мне денег больше не дает, а работу кончить надо, вам тоже платить надо, а у меня самого денег нет, — значит, платить нечем!
— Эге! Вон оно что!
— Прогорел, значит!
В толпе послышался полусдерживаемый смех. Бурченко перевел дух. Дело его подходило к самой сути.
— Теперь, если вы будете по-прежнему работать у меня, то, вместо платы, вы разделите между собою весь тот барыш, что получил бы тот богатый человек, что отстал от нашего дела. И тогда на вашу долю придется гораздо больше, чем полтора кокана в сутки. По меньшей мере, каждый принесет домой свой «гамон» набитый деньгами, да навяжет, пожалуй, еще узелки на обоих концах пояса. И все за то только, что вы поработаете еще с месяц, не получая денег. Согласны на это или нет — говори прямо. Всяк, что хочет сказать против этого, говори!
Бурченко замолчал и с лихорадочным нетерпением выжидал ответа. Он не мог рассмотреть выражения лиц своих слушателей, потому что сгустившиеся сумерки рисовали перед ним только темные, движущиеся силуэты. Он заметил только, как несколько из этих фигур стали мало-помалу отходить дальше и уменьшаться в размере; он заметил даже несколько концов от чалм, висящих обыкновенно сзади: ясно было, что обладатели этих чалм повернулись к нему затылком.
У русского крота заворочалось на сердце что-то неловко: он предчувствовал неудачу своей миссии, а с этой неудачей если не полное прекращение, то, по крайней мере, длинный перерыв так успешно начатого дела.
Толпа же, как нарочно, молчала. Трудно было определить, что заключало в себе это гробовое молчание; полное ли пренебрежение и нежелание даже объясняться по поводу «такого дикого предложения русского крота», или же всякий пытался обдумать это предложение, и в таком случае...
— Ты вот нас, кроме денег, еще кормил на свой счет, и — зачем неправду говорить — хорошо кормил; теперь же кормить будешь?
— Нет, уж теперь кормитесь сами, как знаете, за то...
— Обещай хоть кормить, а то пропадет все! — тихонько шепнул на ухо Бурченко подошедший сзади Амин-Аллаяр. — Другой и шел к тебе больше из-за плова с бараниной, чем из-за денег!
— Ну, насчет корма, пожалуй, еще особо переговорим! — поправился Бурченко.
— А скажи ты нам, только, смотри, правду говори! — громко возвысился резкий голос справа.
Бурченко насторожил уши.
— Отчего тот человек деньги перестал давать? Может, увидал, что из всего-то дела проку не будет, и порешил лучше потерять то, что уже потрачено, чем еще больше вертеть дыру в своем кармане?
— Что ж я, по-вашему, совсем дурак, что ли? Вы же меня все умным человеком называли прежде! — уклонился от прямого ответа Бурченко.
Он не хотел раскрывать настоящей причины: она была слишком сложна, по его мнению, чтобы ее могли усвоить себе слушатели, а ко всему, что только останется непонятным, они, само собой, отнесутся с сомнением, чтобы не сказать больше — с полным недоверием.
— Нет, ты не дурак, этого никто не говорит, — дребезжал все тот же голос, — ты умный...
— Так как же это могло случиться, что я, который начал дело и всем им орудую, не увидал бы этого прежде? Я бы прежде его бросил, если б оно было невыгодно!
— Так-то так, так отчего же?
— Умер тот человек, вот и все! — отрезал Бурченко.
Он решился на этот категорический ответ. Ведь все равно: Лопатин, действительно, умер для их дела, — значит, малоросс вовсе не уклонился от истины.
Снова молчание воцарилось в толпе; кто-то даже присвистнул. Две или три груди протяжно вздохнули, с приличным этому печальному известию оттенком во вздохе.
— А ну, пошлет ему Аллах на том свете всего, что он заслужил хорошего на этом! — пробормотал Джан-Оглы.
Только совершенно наступившая темнота не позволила Бурченко заметить, что едва ли только треть всех слушателей осталась на месте; большинство разошлось по домам. Трудно было придумать более красноречивый ответ на предложение русского крота, как это молчаливое удаление.
— Так на чем же мы порешим, говорите? Ну, говори хоть ты первый!
Бурченко обратился в ту сторону, где слышался знакомый голос, задавший последний вопрос.
— Погоди до завтра! — отвечал за того Амин Аллаяр. — «Всякое дело яснее, когда на него светит солнце»; что мы тут впотьмах толковать будем? Они выслушали тебя, ну, и довольно пока. Теперь вот спать пойдут. Бабы-то их по саклям, думаю, уже заждались. Может, им Аллах во сне настоящий совет пошлет. Подожди до завтра!
— Подожди до завтра! — повторил за Аллаяром его подголосок Джан-Оглы.
— Прощай пока, спи спокойно! Завтра, может, и порешим на чем-нибудь. Прощай! — послышались голоса.
— До завтра, так до завтра! — согласился Бурченко.
Толпа начала расходиться.
***
Не прошло и часу после того, как разошлись по своим домам таш-огырцы, как весь кишлак затих, погруженный в глубокий сон. Погасли последние огни, чуть-чуть мерцавшие в горном тумане, и только вершины гор выплывали из этого тумана скалистыми островами да ближе виднелись темные, конусообразные силуэты расположенных на крышах куч клевера, джугарры и рогатые вязанки корявого топлива.
Душно было в сакле, да и не спалось к тому же. Бурченко выбрался на свежий воздух, влез по приставленной к стене сломанной арбе на одну из крыш и уселся на клеверной куче.
Весь аул виден был ему, как на ладони, только последние, крайние сакли расплывались как-то в тумане. Так же пропадала и светлая полоска кремнистой дороги. С легким треском вылетали из черного, закопченного дымового отверстия искорки; должно быть, там не совсем еще погас огонь под таганом, и тлели уголья, раздуваемые струей врывавшегося сквозь дверную щель ночного ветра. Вот его рыжий прядет ушами и чешет зубами в подстриженной холке своего серого соседа. Вот какой-то старик с длинной седой бородой тоже взобрался на крышу, столбом стал на самом краю, протянул сухие руки к востоку и медленно опустился на колени. Серая кошка, не слышно ступая, крадучись, шмыгнула по самому гребню стены.
«Как далеко слышно в горах тихой ночью! Раз-два, раз-два — ведь это там, внизу, за Шайтан-Каиком! Нет, это только отдается, а топочут лошади совсем не в той стороне, а напротив. Это, должно быть, едут по Каракол-ущелью. Только кого же это нелегкая несет по горам в такую пору? — прислушивался Бурченко. — Что ж, дороги в горах никому не заказаны, значит, им надо, коли едут. А ну, как?..»
Чуть заметная полоска утренней зари скользнула по вершинам, и заискрились по ледникам серебристые блестки. Холщовая рубаха отсырела на тумане; совсем мокрые стали снопы; утренний холод пробежал по всем жилам. Поежился малоросс и стал потихоньку спускаться с крыши.
«Что хорошего принесет мне день?» — подумал он и заснул с этой мыслью, завернувшись с головой в свое байковое одеяло-попону.
III Критическое положение
— Вставай, тамыр! Эй! — шепнул ему на ухо мулла Аллаяр. — Вставай, да тихонько, без шума!
И он сильно потряс его за плечо, прикрыв ему рот, на всякий случай, рукой, как бы не вскрикнул громко спросонья.
— А, что такое? Что случилось? — приподнялся Бурченко на локте и сразу догадался, что случилось что-то особенное, далеко из ряда вон выходящее.
Тревога и сильная озабоченность выражались на умном лице Аллаяра. Тревожная беготня слышалась и по всему кишлаку.
Яркий рассвет сквозил в дверные щели и чертил полосами шероховатые стены сакель. Заглянул Бурченко в одну из этих щелей. Вся площадка видна была отсюда, большая улица вплоть до самого поворота. Часть горы синела между двух сакель. Ярко-красное пятно так и рисовалось на этом синем фоне.
Всадник в красном халате, голова, шея и плечи в стальной кольчуге, держа в руках длинную пику, оперся тупым концом ее в землю и приготовлялся слезать с коня.
Другой всадник уже слез, привязывал коня к концу сухой жерди и зорко глядел сюда, прямо на их дверь. Так, по крайней мере, казалось Бурченко, сразу угадавшему, что такие за птицы прилетели! Еще несколько красных халатов высыпали верхом из-за поворота. За стеной, словно тонкие камышины, покачивались пики с волосяными кистями под острием.
— На вот тебе балту (топор). Тут стена тоненькая, всего в полтора вершка, не больше, сразу проломишь! — шептал ему Аллаяр. — В дверь тебе нельзя выйти — увидят, а там ты на женскую половину попадешь. Проползешь на крыши и в солому забейся. Там и лежи, пока я не приду. Проворней!
И он сунул в руки Бурченко короткий топор, а сам встал около двери, положив руку на задвижку и нетерпеливо поглядывая на своего гостя, скоро ли он выберется из сакли указанной ему дорогой.
С одного удара топор просунулся насквозь. Меньше, чем в полминуты, Бурченко выломал такую дыру, что в нее могли свободно пролезть его широкие плечи. Захватив свое оружие, он полез.
— Ай! — взвизгнула Ак-Алма (белое яблоко), молодая жена Аллаяра, заметив на своем дворе мужчину, да еще русского.
Она была в одной рубахе и расчесывала косы большим медным гребнем.
— Шайтан, сам шайтан! — закричала Тилля (золотая), другая жена, быстро отвернулась лицом к стене и присела на корточки.
Две остальные тоже разинули рты, чтобы кричать, да заметили в той же дыре, откуда вылез шайтан, строгое лицо Аллаяра, и его кулак, явно грозивший крикуньям, и затихли, недоумевая, что же такое все это значит?
Быстро перебежал Бурченко через женский дворик. Большая, желтая, как шафран, скирда соломы так и горела, освещенная восходящим над горами солнцем. Русский крот вскарабкался к ней и стал поспешно зарываться, оставив себе для наблюдения достаточное отверстие.
Только-только вовремя успел спрятаться Бурченко: вся площадь уже была покрыта всадниками.
— Ну, беда! От соседнего бека за сбором податей приехали! — говорил, проходя мимо, Джан-Оглы,
— Да ведь мы уже русским платим, мы уже очистились за две трети! — протестовал кто-то другой.
— И этим тоже платить придется. Не заплатим — хуже: силой возьмут... без счету!
«Вот оно что! — подумал Бурченко и стал пальцем ощупывать револьверные стержни — все ли капсюли на своем месте. — Неровен час, понадобится...»
***
Высокий, широкий в плечах мужчина, по типу узбек, слез с лошади, порасправился, не спеша, молча указал одним кивком своей чалмы место под навесом и расправил пальцами свою подстриженную бороду. Два джигита постлали коврик на указанное им место и расправили полы его халата, когда он грузно уселся, сердито поглядывая по сторонам, на группы растерявшихся таш-огырцев.
Это был сам сборщик. Ему подали кожаный мешок, висевший за его седлом, и он систематически принялся вытаскивать оттуда письменные принадлежности и цилиндрические сверточки прозрачной, мелко исписанной бумаги.
Красные джигиты, кто конный, кто пеший, рыскали уже по всему кишлаку, и только человек шесть осталось у навеса, в виде почетной стражи бекского сановника.
— Э-гм! — откашлялся сборщик. — Ну, мулла, здравствуй! Как тебе живется с новыми соседями? — обратился он к Аллаяру, угрюмо стоявшему перед ним и пощипывавшему концы пояса. — Обижают вас белые рубахи, должно быть? Коли что, можете пожаловаться, я передам хану, и он накажет русских!
— Угощение что же не приготовили? — вполголоса говорил Аллаяру один из приезжих джигитов. — Смотри! Вот он рассердится, — беды наживешь!
— Не ждали, потому и не приготовили!
— Не ждали! — пропустил сквозь зубы сборщик. — Мы вас нарочно прошедший год не трогали и сбора не брали. После войны с русскими хан дал вам немного поправиться. Ну, а теперь вот приехали... Все ли у тебя готово? Ты ведь прежде всегда был такой аккуратный!
— О чем тюра спрашивает — я не знаю. Ум у меня маленький, не то, что у тебя. Где мне попять? — говорил Аллаяр.
— Седая у тебя голова, а таких простых слов осилить не можешь. Сборы все, за прошедший год и за нынешний, готовы?
— Не то что готовы, а и уплачены сполна: у меня и записи есть с печатями!
— Кому же ты это платил? — грозно надвинул брови сборщик. — Белым рубахам?
— Да, русским. Под кем живем, тому и платим. Жили прежде под вашим ханом — вам платили, теперь под Ак-пашой состоим — ему платим!
— А вот за то, что платили неверным, хан вам прислал неласковое слово и подати за то увеличил. Вот ты и знай! На, смотри!
Он протянул Аллаяру развернутую полоску бумаги с болтающейся на шелковом шнурке треугольной печатью из зеленого воска.
— Слушай, тюра! — взглянул на бумагу Аллаяр. — Ну, твоя сила теперь: можешь все забрать — что видишь, то и забирай, да разве это будет по правде?
— По правде; зачем русским передались? — усмехнулся сборщик.
— В прошлом году, когда мир держали, и от русских, и от вас высланы были люди. Вместе, сообща, землю делили. Вон по ту сторону гор ваше, по эту — к русским отошло!
— А ты коран читаешь? Ты ведь грамотный?
— Где мне знать столько, сколько в твою голову входит!
— Разве такие договоры ведут с неверными? Эх, ты! А еще сам муллой считаешься! Знаешь, где русская граница?
— Где же, по-твоему?
— А только там, куда достают их пушки. Только то ихнее, где они солдат своих держат. А сюда когда могут прийти русские, по-твоему?
— А тогда, — понурил голову Аллаяр, — когда от нашего кишлака один пепел останется!
— Догадлив, то-то!
— Большой поклон тебе делаю!
Аллаяр нагнулся и тронул землю пальцами.
— Не жми ты нас, — начал он, — мы люди бедные, по два раза одну и ту же подать платить не под силу... Бери с нас, что делать, только бери хоть поменьше!
— Сколько по закону следует, столько и возьмем!
— Что закон? Он ведь в твоей воле! Что положишь, так и будет. Да уж за одно еще тебе поклон: уйми своих джигитов. Слышишь, на том краю какой крик? Как бы худа какого не сделали!
— А скорей сбирай, мы и уедем. Нам здесь долго делать нечего!
— Да что, к полудню все будет готово, а пока нашим хлебом тебе кланяюсь. Не взыщи на угощении!
Мулла Аллаяр посторонился и пропустил двух парней с блюдами плова в руках и мешком мелких, желтых, как лимоны, дынь и других сластей.
— Великий жар Аллах посылает! — сменил ханский сборщик официальный тон разговора на более частный.
— Я уж пойду хлопотать! — попятился Аллаяр.
— Не держу! — лаконически произнес сборщик и захрипел поданным ему тыквенным кальяном.
***
Долго лежал Бурченко в соломе. Большая половина всего происходившего была видна ему, как на ладони. Близко подходили красные джигиты (кызыл-чапан) к соломенному скирду. Один даже лег поваляться немного, не более как шагах в трех от спрятавшегося. Была минута, когда малоросс совсем уже считал себя погибшим, и чуть-чуть не пустил в ход свое оружие.
«Хорошо, что я в солому залез, а не во что другое! — думал он, посматривая, как рядом разбирались для корма клеверные кучи. — На солому-то никто не зарится... Э!..» — он вздрогнул и высвободил руку с револьвером.
Что-то холодное прикоснулось к его шее.
— Пей, а то сомлеешь, пожалуй! — тихо шептал ему женский голос. — Да лежи смирно; может, скоро уедут!
Бурченко узнал Нар-беби, ползком подобравшуюся к его скирду. Женщина протягивала ему кувшин с молоком, заткнутый мокрой тряпкой, и сухую лепешку (чурек).
Минута была удобная, все джигиты, как нарочно, собрались на площадке, где сгоняли баранов для податей, и Бурченко успел благополучно воспользоваться приношением. Ушла женщина и унесла с собой пустую посуду.
А с площадки несся металлический, тихий звук перебираемого серебра и меди, — это на разостланном белом войлоке Аллаяр вместе с ханским сборщиком считали коканы и чеки и раскладывали их в кучки по десяткам и сотням,
Потом одежду сносить начали: пятьдесят халатов простых, бязевых двадцать, верблюжьих зимних и двадцать адрасных полосатых. Чуть не со всего кишлака сбирал Аллаяр податную одежду и сам уж от себя поднес сборщику дорогой лисий халат, крытый красным сукном и вышитый на спине и полах шелками и мишурой.
— Якши... Алда-рас-былсых (Хорошо, благодарен)! — кивнул чалмой сборщик и, для соблюдения этикета, накинул поднесенный халат поверх своего костюма.
— Носи на здоровье! — приложил руки к желудку и потом поднес их ко лбу и губам Аллаяр, а сам подумал: «Чтобы тебе провалиться сквозь землю со всей твоей шайкой, чтобы на тебя Шайтан-каик обвалился, когда ты погонишь мимо него нашу скотину, чтобы...»
Далеко перешло за полдень, когда окончился сбор, и джигиты стали приготовляться к отъезду.
Вперед погнали баранов и коров (кара-мал). Джигиты тупыми концами пик подгоняли отсталых животных и сбивали их в кучи. Один только молодой, черный, как уголь, бычок, не хотел, должно быть, покидать свою родину, злобно косился все на красных джигитов и, наконец, нагнув свою широколобую голову с кудрявым завитком между рог, скачками кинулся на ближайшего всадника.
— Э-гей-кой! — крикнул джигит и подставил быку острие.
«Пикадоры! Просто Испания, да шабаш!» — думал Бурченко, глядя из-под скирды на всю эту живую, оригинальную сцену.
Ему почему-то стало очень весело; он чувствовал, как от его сердца отваливалось мало-помалу что-то тяжелое, скверное. Он чувствовал то, что должен чувствовать человек, наблюдая, как, шаг за шагом, все дальше и дальше удаляется от него смертельная опасность.
«Вот и сам толстый сборщик поднялся, наконец, на ноги; аргамака ему подвели, вот уж садится... Эк, его подхватывают и подсаживают со всех сторон! Сел, оправился. Аллаяра нет, он ушел куда-то. Джан-Оглы провожает: так и не разгибает спины, все за живот держится и напутственные пожелания произносит. А, подозвал его тот-то, нагнулся, говорит и рукой показывает, никак сюда!? Нет, это в другую совсем сторону, туда, где белеет тропа, ведущая к русскому кургану. Суматоха! Человек шесть красных дьяволов отделились в сторону, переговариваются о чем-то...»
— Сюда, скорее, спускайся проворней! — торопливо шепчет сзади сам Аллаяр и рукой тянет его за полу рубахи. — Тинтян (дурак) проговорился, искать тебя собираются!
Оглянулся Бурченко, смотрит, на Аллаяре лица нет, даже пожелтел весь, сам руками солому сзади спешно раскидывает.
— Ну, уж живой не дамся в руки, да и дешево тоже не обойдется им! — стиснул зубы Бурченко и спустился на женский дворик.
— Уходи лучше; там тебе баба лошадь держит, не твою, — твоя хороша, да к нашии горам не привычна, — а я тебе даю моего серого. Будешь гнать, не бей в бока гвоздями, что к сапогам у тебя прилажены, а гладь по шее рукой да кричи на левое ухо: «Гайда, карак-бар (Уходи, воры)!» Тогда тебя разве ветер один догонит!
За стеной проскакал всадник, еще и еще... Собака жалобно завыла, забившись в канаву: зад у ней отдавили и чем-то вдоль спины огрели.
— Здесь, должно быть, больше некуда ему спрятаться! — слышался близко хриплый голос желтоглазого.
Бегом пробежал Бурченко через женский дворик, пролез в калитку. Женщина, закрыв лицо накинутым на голову халатом, «серого» в поводу держит.
— Ну, прощай! Скоро проведаю; жив буду, даст Бог увидимся! — наскоро простился малоросс с хозяином и вскочил на седло.
— Ге-ге-гей! Мона-мона (вон)! — завыли джигиты, едва только белый плащ русского крота мелькнул между сакель, быстро спускаясь к лощине по узкому, кривому переулку.
— Лови, лови! Ур (бей)! — послышалось с другой стороны.
Словно дикая коза, прыгая с камня на камень, через глиняные стенки, сползая на заду с такой кручи, что в другое время и пьяному не пришла бы охота спускаться, несся серый. Он чувствовал, как рука всадника нежно гладила по его тонкой, сухой шее. Он слышал, как над самым его ухом хотя и незнакомый голос произносил знакомые слова: «Гайда, гайда, карак-бар!»
Да, хорошо, что Амин-Аллаяр догадался дать ему своего серого: на рыжем степняке он давно бы сломал себе голову и уж наверное с первой же угонки попался бы в руки красных халатов...
IV Старая лисица
Бржизицкий принадлежал к числу тех темных личностей, которые руководствуются одним правилом: ubi bene — ibi patria.[17] Он явился в Ташкент в то самое время, когда Перлович только что занял место первоклассного торгового деятеля.
Сочувственно отнесся Станислав Матвеевич к новоприбывшему; нетрудно было сообразить, что такая личность, как Юлий Бржизицкий, будет ему небесполезна.
Изучив в совершенстве, за последние года своего пребывания в Верном и ауле Ата, местные языки и обычаи, Бржизицкий оказался надежным помощником в торговых операциях Перловича. Не прошло и года, как он положительно стал правой его рукой. Он работал не из-за жалованья, а из известного процента в барыше; значит, его личные интересы были тесно связаны с интересами его патрона.
— Эка пройда, эка пройда! Кабы нашему такого! — говорили про него приказчики распадающейся фирмы Хмурова.
— Талейраном обзавелись, батенька! — заявил Перловичу даже сам генерал за завтраком.
— Земляк и преданная личность! — уклончиво произнес Станислав Матвеевич.
Появился Лопатин на ташкентском торговом горизонте. Бржизицкий первый натолкнул Перловича на ту идею, что новый деятель не может не повредить их делу, монополизированному уже потому, что с окончательным падением Хмурова остальные мелкие торговые деятели не представляли Перловичу опасной конкуренции.
Юлий Бржизицкий исчез.
— Куда это вы «своего» командировали? — спрашивал Иван Илларионович Станислава Матвеевича, встретившись с ним на туземном базаре!
— А я его в Ирбит послал: меха приторговать. Там еще кое-что я затеял! — отвечал Перлович.
Лопатин поверил и не справлялся, да и справки ни к чему бы не повели, потому что в чимкентской почтовой книге значилось, что Бржизицкий уехал именно на Верный, значит, по сибирскому тракту.
***
Почтовая тележка-тарантасик только что остановилась у навеса станционного дома. Весь в белой парусине, с дорожной сумкой через плечо, запыленный так, что невозможно было распознать цвета волос на голове и бороде, усталый и несколько разбитый, впрочем, несмотря на эту усталость, приветливо кругом улыбающийся, Юлий Адамович Бржизицкий вылез из повозки, произнес: «Наконец-то!» и послал сартенка, одного из тех, что толпились у крыльца с лотками винограда и абрикосов, за извозчиком-долгушкой.
— С приездом имею честь... Долгонько изволили в отсутствии находиться! — показался на крыльце смотритель из отставных казачьих офицеров.
— Да, таки повояжировал! — перехватил Юлий Адамович саквояж в левую руку, чтобы освободить правую для рукопожатия.
— Станислав Матвеевич приезжали намедни... очень беспокоились...
— Дела, да и далеконько!
— До Иркутска доезжать изволили?
— В ту сторону... Там никого нет?
Юлий Адамович кивнул на окно общей приемной комнаты.
— Офицера два из Чиназа: казначей с адъютантом, барыня с ними... Зайдете?
— Нет уж, я спешу... Сюда подкатывай, ближе к крыльцу. Ребята, помогите-ка!
— Вещи накладывай на дрожки, живо! — скомандовал смотритель ребятам, дюжим ямщикам-туземцам, дремавшим на припеке у завалинки.
— Иван Демьянович вчера приходил под вечер; справлялся, между прочим, не приехали ли... Прикажете?
Смотритель чиркнул о подошву своего собственного сапога спичкой, заметив, что приезжий вертел в руках только что обрезанную сигару.
Юлий Адамович пристально взглянул на смотрителя; тот щурился на солнце и прикрывал рукой мигающее пламя спички.
— Что это он так интересуется? — произнес Бржизицкий, помолчав немного. — А он сам давно приехал?
— С неделю будет. У них тут беда стряслась, не изволили слышать?
— Что такое?
Смотритель поспешил чиркнуть другую спичку, потому что первая была потушена неловким движением Бржизицкого при закуривании сигары.
— Караваны лопатинские, того-с, обработали дочиста: машины и все прочее; кто говорит тюркменцы, кто говорит адаевцы, кто думает, что ни те, ни другие, а...
— Какие машины?
Бржизицкий повернулся спиной к собеседнику. Надо было поправить какой-то ящик, слишком свесившийся с дрожек.
— А уж не знаю доподлинно. Говорят, шелкомотальные, прядильные и разные прочие. На большой капитал потеря! Загород или в караван-сарай?
— Загород! Трогай братец! — уселся Бржизицкий верхом на дрожки, поприжав чемодан коленом, прихватив все сверху левой рукой.
— Прощенья просим!
В углу двора, в стороне, противоположной той, где находились ворота, стоял большой полуразобранный тарантас. На фордеке этого тарантаса сидел красный петух, ворочал шеей, хохлился, расправлял крылья и, по-видимому, приготовлялся запеть; пониже его, на подножке козел, сидела мохнатая шавка, томно склонив голову, высунув язык набок и бросая на петуха самые умильные взгляды. Эта ли сцена, или что-нибудь другое так увлекло Юлия Адамовича, что тот сосредоточил все свое внимание в данном направлении и положительно не видел, как в ворота, навстречу выезжавшему экипажу, показалась конская голова, за ней светлое пальто, такая же светлая шапка из-под козырька которой краснелись полные, одутловатые щеки Ивана Демьяновича.
Катушкин нисколько не озадачился, встретившись на почтовом дворе с Бржизицким; он знал уже о его приезде — ему дали знать с этой же станции, и он поспешил сюда только для того, чтоб лично удостовериться в этом.
— Отвернулся, не глядит, совесть не чиста, видимое дело! — улыбнулся он, глядя на маневры Юлия Адамовича.
— Потрогивай, братец! — толкнул тот в спину кучера, все еще интересуясь сценой на сломанном тарантасе.
— Юлий Адамович! Сколько лет!..
Катушкин встал в воротах, так что дрожкам нельзя было миновать его лошадь. Бржизицкий видел, что избежать встречи невозможно.
— А! — повернулся он в эту сторону и изобразил на лице что-то вроде улыбки.
— А тут вас поджидали! Станислав Матвеевич даже захворал от беспокойства; что это вы так замешкались? Ну, что Ирбит, что новенького? Бывал я там, давно еще, мальчишкой... Да вы спешите, что ли, куда?
— Да, да, спешу! Ну, здесь что, как? Все ли благополучно? Я слышал, не знаю, насколько это верно, но еще в Чимкенте...
— Это насчет караванов нашей фирмы? — пристально поглядел Иван Демьянович прямо в глаза Бржизицкого и тихонько начал поворачивать лошадь.
— Да, говорили, что-то очень серьезное?.. Трогай же братец!
Извозчик почувствовал еще толчок в спину.
— Ничего, пустяки; оно точно, что убыток, да супротив судьбы нешто пойдешь? А, впрочем, дело маловажное... как по чьему, впрочем, капиталу. Сегодня вечером, может, посвободнее будет — приезжайте к Тюльпаненфельду, поболтаем!
— Не знаю, будет ли время; впрочем, меня так интересуют подробности «этого дела»...
— Какого это-с?
Бржизицкий вскинул глазами и усиленно затянулся дымом сигары.
«Ишь, пытает!» — подумал он.
— Да вот все насчет каравана. Ведь этакий, подумаешь, случай!.. Постараюсь быть, постараюсь! До свиданья!
— Прощайте!.. То-то, чай, Станислав Матвеевич обрадуется; а он, сердечный, сильно осунулся, сильно!
— Что так?.. Трогай же!
— От беспокойства душевного, полагаю... Так до вечера?
— До вечера!
Дрожки покатились по шоссе. Катушкин, не въезжая во двор станции, повернул лошадь и рысцой поплелся к дому Ивана Илларионовича.
Едва он отъехал несколько шагов, как ему навстречу продребезжала еще почтовая повозочка парой; что-то похожее на узел выскочило из этой повозочки и подкатилось к ногам его лошади.
— Стой, стой! — крикнул вслед Иван Демьянович.
— Стой! — ревела басом шинель в повозке, собственноручно хватаясь за вожжи.
— Обронили-с! — указал на узел Катушкин, взявшись за козырек фуражки.
— Покорнейше благодарю! Сам вовремя заметил! — произнесла шинель, тоже раскланиваясь.
Катушкин поехал дальше. Шинель снова уселась в повозку, втащив за собой узел, и крикнула: «Пошел!»
Повозка въехала во двор.
— Эк, их нынче разносила нелегкая: телега за телегой! — проворчал смотритель, глядя в окно на нового приезжего.
— А где тут комната для приезжающих? Покажи-ка, братец!.. Эй, ты, леший, скуластое рыло, тащи чемодан! Сюда, что ли? — озирался во все стороны приезжий, видимо, не узнавая местности. — Фу ты, дьявол! Ничего не пойму! Эка город выстроился на пустырях-то, ха-ха!.. Мое почтение! Вы здешний смотритель?
Он заметил в дверях форменную фуражку с кокардой.
— Точно так: хорунжий Дрыгин! Подорожную пожалуйте!
— Сипаков, из форта Забытого, по открытому предписанию!
— Проходите в горницу-с. Самовар потребуется?
— Не дурно бы... Эка обстроились, эка обстроились! То есть, ни за что бы не узнал... места бы не узнал даже!.. Осторожнее, братец, что об угол шаркаешь? Видишь — вещь ценная!.. Ух! Фу ты, ну и жара же!
— Вы, верно, давно не были в Ташкенте? — поинтересовался хорунжий Дрыгин, входя вместе с приезжим в горницу.
— С самого занятия... Я еще из черняевских — из старых... Да прошу со мной чашку чаю... что же, право?
— Ежели с благородным человеком в компании, притом же по нонешнему жаркому времени...
— Я, знаете, с ромом... из самого Забытого везу: «ром-головолом» прозывается!
— Да вы веселый! Может, на крылечко столик вынести?
— На вольном воздухе? Важно!
Два ямщика принесли стол, накрыли его чем-то вроде попонки, принесли и самоварчик, зеленовато-бурый, нечищеный, вероятно, тоже с черняевских времен. Самоварчик этот бойко шипел, посвистывал и во все стороны брызгал горячим паром. Уселись.
— В мое время вот и тут, и тут, и даже там-с — все это, верите ли, был чистейший пустырь: саклишки кое-какие татарские были, — впрочем, самая малость, а больше все так — пустопорожнее место... А теперь, ишь, ты, вплоть до Салара застроилось, и важно застроилось... я проезжал, видел. Воочию чудеса, право!
— Собор новый воздвигается... Позвольте, я наливать буду?
— Прошу покорно... Видал, видал, как же! Извозчики, биржа!.. А это что за домики на выезде?
— Бани громовские, а правее — окружный совет... Я сливок велю подать?
— А вот мы этих, от бешеной коровы, хе-хе!
— По казенной надобности или по своей?
— Я-то?
— Да-с!
— По своей... а, может, и по чьей другой... Еще прошу стаканчик, да лейте больше этого-то «головолому»!
— Можно-с!
— Знаете вы, позвольте вас спросить, милостивый государь, господина коммерсанта Перловича?
Сипаков подбоченился, глотнул из стакана и вопросительно посмотрел на собеседника.
— Как не знать! Вы это к нему?
— К нему, да-с... А не изволите ли вы, милостивый государь, знать господина Бржизицкого?
— Юлия Адамовича! Как же, и его знаю!
— Юлия Адамовича, вы говорите? Так, литера Ю действительно: «Ю. Бржизицкий», так, так.
— Да он сейчас здесь был. Вы должны были с ним встретиться: только что перед вами выехал!
— Полный такой, круглолицый, весь в белом?
— Он самый!
— Как же, встретились, точно, любезный господин: «Обронили-с!» говорит, а я ему: «Покорнейше благодарю, сам видел». Узел тут с тряпьем, ящик в повозке дырявый... Как же, встретились. Так это он самый и есть?
— Да, Юлий Адамович Бржизицкий, поверенный и компаньон Станислава Матвеевича!
— Гм! Будем знать, каков он из себя видом... Пожалуйте еще стаканчик!
— Не лишнее ли? Так у вас к ним и дело есть? Что же, по коммерции или так, административное?
Хорунжий Дрыгин долго силился, чтобы отчетливо выговорить последнее слово, и даже крякнул от удовольствия, — знай, мол, наших!
— А как придется. Оно, пожалуй, что коммерческое, а то и до администрации может коснуться, как выгорит... Лейте больше!
— Да вы-то что же сами? Позвольте-с, какое же такое дело-с?
— А такое, что секретности требует, — так-то-с!
— Конфиденциальное-с! Так сказать, инкогнитное... Долей, брат, самовар, да подбавь угольков... Разве яичницу с сухарями сработать?
— Не дурно бы!
— Мы ее, знаете, с луком...
— Первый сорт!
— Эй, позови тетку Марью!.. Да мы не переберемся ли на мою половину? А то, знаете, ежели, знаете, вплотную...
— Да, оно здесь немножко людновато!
— Сап-фасонисто очень... милости просим!.. Фу, ты, дьявол, эк качнуло!
— Потому «головолом»... Тащи все за нами!
— Пожалуйте наперед!
— «Обронили-с», говорит, хе-хе-хе! Политичный человек! Сами, мол, знаем, покорнейше благодарим!
— Ты слушай, ежели проезжающий будет или там что еще, так чтобы у меня все в порядке...
Хорунжий Дрыгин взглянул особенно строго на писарское пальто, наблюдавшее за всей сценой, сделал внушительный жест и метнулся к двери. Сипаков зашагал за ним, задев ногой за табурет и повалив его вместе с лежавшим на нем саквояжем.
— Ух, чуть не забыл! Подыми, братец!.. Вот оно тут, мы его для прочности через плечо, рукой за ушко прихватим! «Обронили-с!» Хе-хе!.. Покор...
За стеной загудел приближающийся колокольчик. Сипаков и хорунжий Дрыгин скрылись за дверями.
— Ежели, паче чаяния, сам генерал... — высунулась было из окна голова Дрыгина.
— Да уж будьте покойны: знаем свое дело! — успокоило его писарское пальто.
V Грозовые тучи уже над головой
— Вы мне писали об этом. В письме, как вы сами говорите, сообщались все подробности дела. Этого письма здесь нет. Где оно? Где оно может быть? Это письмо — ваша улика, — поймите вы это, Бржизицкий!
Станислав Матвеевич остановился перед своим поверенным и пристально взглянул ему прямо в глаза. В этом взгляде выражался и страх, и надежда. Он думал, он был почти уверен, что ответ Бржизицкого успокоит его; стиснув зубы, затаив дыхание, он ждал этого ответа с таким точно чувством, с каким приговоренный, стоя уже на эшафоте, смотрит, как вскрывают только что, сию минуту присланный конверт; в этом конверте, может быть...
«Может быть, опасность вовсе не так велика; может, она только мнимая? — пробегало у него в голове. — Вот сейчас Юлий Адамович вынет из кармана это письмо и скажет: „Да вот оно, почтеннейший Станислав Матвеевич; бросьте его в камин, если угодно, благо, он так жарко топится“. И сгорят на этих красных угольях все эти страшные улики, отнявшие у вас сон, спокойствие, сделавшие из вас в какие-нибудь три недели ходячую мумию».
— Ну, что же?
Перлович положил руку на плечо Бржизицкого; тот сделал невольное движение: такое неприятное чувство произвело прикосновение этих сухих, костлявых пальцев, холод которых ощущался даже сквозь парусину его пальто.
— Потеря или исчезновение этого письма для меня новость, и новость весьма неприятная! — произнес Юлий Адамович.
— Ага!
Перлович чуть не отскочил назад и нервно зашагал по комнате.
— Что же нам теперь остается делать? Ждать, как бараны, когда придут к нам с ножом? Ждать ареста, суда, потери всего? Письмо это теперь в руках...
— Оно может не находиться ни в чьих руках. Оно, может быть, потеряно на дороге и уничтожено. Наконец, оно могло попасть и в такие руки, которых нам опасаться нечего. Во всяком случае отчаиваться не следует, — по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что письмо попало именно туда, откуда нам может грозить настоящая опасность!
— Это письмо в руках Лопатина!
— Почем знать!
— У меня есть проклятое предчувствие, что оно именно там. Вчера я встретился с Катушкиным, сегодня утром я видел самого Лопатина: эти взгляды, эти намеки... я не могу их переносить!
— Это для нас было бы самое худшее!
— Вы говорите так спокойно. Вы говорите, как будто я не рискую потерять разом все — и средства, и..,
— Рискуете? И я рискую столько же, сколько и вы, даже больше!
Юлий Адамович задумался, пошевеливая щипцами уголья в камине. Он даже рукой отмахнулся, когда Перлович опять начал распространяться о своих предчувствиях. Озадачило сильно его исчезновение этого письма. Вот перед его глазами, застилая черный силуэт каминной решетки, стали проходить все подробности дела, все эпизоды его разнообразного, полного приключений путешествия «с коммерческими целями». Он взвешивал теперь каждый шаг, каждое положение. Он соображал.
Станислав Матвеевич шагал из угла в угол; проходя мимо своего поверенного, он задерживал шаг, словно хотел остановиться, пожимал плечами и нервно ломал свои пальцы.
— Да, они напали на след! — ясно и отчетливо произнес Бржизицкий после довольно продолжительного молчания.
— На след... — машинально повторил Станислав Матвеевич.
— Эта хитрая лисица гналась за мной от самых Барсуков, — говорил ровным голосом и, по-видимому, совершенно спокойно Бржизицкий. — Он обнюхал все мои следы, он рыскал по аулам и собирал сведения. Мне нужно было убедиться в этом; я нарочно выждал его в Большом форте — и убедился. Меня не спасло бы даже переодевание. Со всех сторон оцепили дворик, мне некуда было деться. Меня предупредили поздно, и я ушел только чудом!
Станислав Матвеевич перестал ходить по комнате, звук его шагов по ковру прекратился. Бржизицкий поднял голову.
— Они искали аптекаря Нигебауера, — продолжал он, — господина с рыжей бородой, в синих очках. Они не тронули оборванного «лаучи», протащившего мимо них верблюжье седло на своей спине.
— Аптекаря Нигебауера, вы говорите?
— Да, так думали другие, но эта старая лисица знала, за кем гонится; я обманул ее, я спутал свои следы так, что она потеряла меня из вида. Я пробрался на сибирскую дорогу. Катушкин был уже здесь, в Ташкенте!
— Он приехал уже давно?
— Не знаю. Он встретил меня на станции, и эта встреча не была случайной. Это ясно было видно по всему. Он ждал меня, ему надо было только видеть меня, только взглянуть на меня!
— И теперь, когда вы тоже убеждены, что Лопатин знает настоящих виновников этого «дела», когда мы уже открыты...
— Я этого не говорил!
— Но сейчас, сию минуту!
— Они могут догадываться, они могут знать даже наверное, но покуда нет улик — нет и опасности!
— Это письмо...
— Это письмо может нам только очень дорого стоить. Оно наших рук миновать не может!
— Я не понимаю вас!
— Допустим, что вскрывший это письмо сумел оценить его значение и намерен извлечь из него для себя пользу. Прежде всего, он обратится к нам. Кто даст ему дороже нас за его молчание? Кто более всего заинтересован этим? Мы. Это сообразить нетрудно!
— Но до сих пор еще никто не являлся!
— Это меня крайне радует. Может быть, никто и не явится. Во всяком случае, мы будем предупреждены вовремя. Нельзя же допустить, чтобы тот, в чьих руках находится это письмо, не предпочел бы скорее получить от нас хорошие деньги, чем удовольствоваться какой-нибудь грошовой официальной наградой!
— «От нас», — повторил Перлович. Его почему-то покоробило от этих слов, да и вообще фразы: «Мы, наше дело, наши средства» — производило на него какое-то весьма неприятное чувство.
— Да, от нас. Что делать, придется, может быть, поплатиться, а, может быть, и так сойдет; но чтобы отчаиваться и считать все потерянным...
— Вы мне дали этот совет, вы, ссылаясь на свою опытность, уверили меня в полном успехе этой интриги... — резко заговорил Станислав Матвеевич.
— А разве мы не успели, разве мы не достигли того, что нам нужно? Если бы только не это письмо...
— Проклятое письмо!
— Сегодня вечером я буду говорить с Катушкиным. Мы условились видеться с ним у Тюльпаненфельда. Если бы вы могли под каким-нибудь благовидным предлогом поехать к Лопатину, это было бы тоже очень недурно. Надо постараться выпытать у них все, что только возможно; надо хорошо изучить оружие своего противника, и я начну это сегодня же вечером.
— Бржизицкий!
Станислав Матвеевич хотел что-то сказать своему поверенному, но, должно быть, раздумал. Он потер себе лоб, глотнул из стакана, в котором, в чем-то розовом, плавал кусок льда, и начал закуривать сигару.
— Я слушаю! — произнес Юлий Адамович, не поворачивая головы.
— Видите, я хочу вам сказать, предупредить вас! — (В тоне голоса Перловича зазвучали нерешительные ноты). — Мне было бы очень грустно, если бы вы перетолковали мои слова в другую сторону!
— В чем же дело?
— Вы не можете быть настолько наивны, чтобы не знать, что мы оба, то есть, и вы, и я — (Перлович сделал особенное ударение на слове вы), — рискуем совершенно одинаково. Оба равно виноваты!
— Ну-с?
— Вы понимаете, что я хочу сказать; я не могу подыскать настоящего выражения!
— Говорите прямо. Вы боитесь, чтобы я того... не продал вас, просто-напросто? Ну, хорошо-с, откровенность за откровенность. Я приехал сюда и сошелся с вами года два тому назад; у меня не было тогда ничего, а теперь я смотрю на ваше дело, как на свое собственное, во всех отношениях, и, значит, поднимать руки самому на себя мне не приходится!
— Я вас понял! — произнес Станислав Матвеевич и взглянул на своего собеседника.
Хорошо, что Бржизицкий отвернулся в это мгновение и искал свою фуражку, иначе он заметил бы, сколько злости, сколько непримиримой ненависти блеснуло в этом, по-видимому, совершенно безжизненном, апатичном взгляде.
— До свидания пока! — поднялся Юлий Адамович. — А хорошо бы, если бы вы сегодня же съездили к Лопатину. Ведь у вас, за это время, до открытого разрыва не доходило?
— Буду. Вы к Тюльпаненфельду?
— Да; надо быть аккуратным!
И, не протягивая руки хозяину, Бржизицкий вышел из комнаты, притворил за собой дверь, постоял минутку, прислушался и, не спеша, направился по галерее, тянувшейся с этой стороны вдоль всего дома Станислава Матвеевича.
Весь день и вечер Перлович не выходил из дома. Поездку к Лопатину под каким-то благовидным предлогом он отложил до другого дня.
Запершись у себя в кабинете, он все время рылся в книгах, считал что-то такое, откладывал в сторону разные бумаги и документы, проверял сосчитанное и снова принимался щелкать костяшками счетов. Все это он делал торопливо, вздрагивая и даже озираясь по сторонам при каждом неопределенном стуке. Со стороны его можно было бы скорее счесть, за что угодно, только никак не за хозяина, занимающегося у себя в кабинете своими собственными делами.
Массивные металлические дверцы несгораемого шкафа несколько раз отворялись и затворялись, без шума поворачиваясь на своих ловко прилаженных, смазанных петлях.
С особенным вниманием Станислав Матвеевич отнесся к довольно увесистой пачке наличных денег, как нарочно вчера только полученных и не пущенных еще в оборот; он пачку эту положил особенно, тщательно уложив ее предварительно в дорожную сумку.
Далеко за полночь возился Станислав Матвеевич у себя в кабинете, наконец, кончил. — «Если придется бежать, то, по крайней мере, все будет готово», — решил он, кутаясь в плед и ежась от несносного лихорадочного озноба.
Он был почему-то убежден, что бегство неизбежно.
VI Недоразумение
В ресторане Тюльпаненфельда давно уже горели новые канделябры; зажжены были и матовые стеклянные шарики, развешанные на проволоках между кустами запыленного тутовника вдоль всей наружной решетки. Официанты во фраках и в кожаных туземных шароварах убирали остатки обеда с большого стола посреди залы и меняли залитые вином салфетки... Где-то за стеной наигрывала шарманка, и слышался сиплый женский голос, напевающий «Скажите ей»; в бильярдной щелкали шары, и кряхтели игроки, сытыми, переполненными желудками наваливаясь на бильярдные борта... Двое из посетителей спали в креслах, замаскировавшись газетами, из-под которых виднелись только ноги их в синих панталонах с лампасами и сапогах со шпорами. Человека три сидели в темноте на балконе, где виднелись только красные огоньки их сигар, то потухающие, то разгорающиеся, озарявшие на мгновение щетинистые усы и свежевыбритые подбородки... Старший приказчик Тюльпапенфельда сводил счеты и, между прочим, придерживая пальцем то место, где останавливался, объяснял облокотившемуся на прилавок чиновнику, почему, со вчерашнего дня, рюмка обыкновенной очищенной стала не пять, как прежде, а десять копеек.
— Так это для контроля? — недоумевал чиновник.
— Да-с, для правильности, потому как не у всякого совесть в должной наличности состоит...
— Ну, вот! Все народ благородный...
— Положим, а все-таки... Да вот, сами знаете, прежнее положение — рюмка пять, закуска — пять, итого те же десять, только порознь... За водкой я усмотреть всегда могу, потому графины у меня под рукой; а тут — где же? Один вилкой тычет, другой тычет — посетители навалят к прилавку, где углядеть?! С него десять следует, а он говорит только пять: «Я, мол, не закусывал», а где уж тут не закусывал, коли и прожевать не успел порядком... Нет-с, теперь я знать ничего не хочу. Не в пример удобнее!
— Так, так...
— Десять копеек подай, и шабаш!.. Ивану Демьяновичу-с!
— Здравствуй, брат, здравствуй! Комнатка желтенькая свободна?
— Пожалуйте-с!
— Придет «лях» — скажи ему, где я. Да он не был еще, не показывался?
— Юлий Адамыч-то? Слышал, что приехать изволили, а здесь еще не были!
— Чайку собрать и красненького... Здравствуйте, батюшка, здравствуйте! — наконец-то заметил Катушкин шестой раз возобновлявшего свои поклоны чиновника у прилавка.
— Иван Илларионович как-с, в своем здоровье?
— А ничего — что ему делается, Христос с ним!
— Сродственницы как?
— Сродственницы? Хе-хе! Сродственниц-то этих мы скоро того-с — тю-тю! Листок нынешний где? Да вон он никак на судке лежит? Подай-ка его сюда!
И, захватив газету, у которой один угол был уже оторван особенно любознательным читателем, Иван Демьянович бочком поклонился и с перевальцем направился в угольную.
— Сколько с меня? — полюбопытствовал как-то вскользь чиновник.
— Что кушали?
— Водки очищенной рюмка, этой вот, зелененькой, тоже, этой маленькая, вон той еще одна и один бутерброд с языком!
— Осетрину в уксусе кушали?
— Нет, осетрины не ел!
— Ох, кушали!
— Один только бутерброд... Четыре водки и один бутерброд!
— То-то вот оно и есть! Без пятачка полтина!
— Запишите там...
Последние слова были произнесены совсем уже на лету. Чиновничья спина, суетливо пробиравшаяся между стульями, виднелась уже у самой выходной двери и стушевалась во мраке.
— Это сукно уже было прорвано, мерзавцы! И здесь, и тут, и тут; вот еще наклеена заплата, — ишь, мошенники!.. — горячился чей-то баритон в бильярдной.
***
Недолго пришлось Ивану Демьяновичу дожидаться в «угольной желтенькой»: не успел он пробежать и первого столбца «Туркестанских», как в общей зале послышались приветственные восклицания, вкрадчивый, мягкий голос Юлия Адамовича, о чем-то осведомлявшийся, и фраза: «Сюда пожалуйте; проведи барина!» — «Один?» — «Одни-с!» — «Э... гм!»
Бржизицкий развязно вошел в комнату, произнес: «Каюсь, опоздал. Добрый вечер, коллега!» и еще издали протянул обе руки, обнаруживая намерение дружески заключить Ивана Демьяновича в свои объятия.
— Я только что, только что перед вами! — оставил газету Катушкин. — Сюда не садитесь: ножка что-то не того., на диванчик лучше. Ну, что, как патрон ваш, в добром ли все порядке найти изволили?
— Все, как должно: что хорошо, что дурно. В контору забегал, дела о подрядах просматривал... Вы нам с вашим-то немного... comme ça!
Бржизицкий наглядно изобразил ногой, как дают подножку.
— Дело торговое!
— To-то торговое! Вы бы меня подождали, а то двое на одного рады навалиться!
— Извините-с: Иван Илларионович все один орудовал, своим собственно только умом, потому я был в отлучке!
— Куда же это вы вояжировали? — крайне озадачился Юлий Адамович.
«Ишь, прикидывается, каналья»! — подумал Иван Демьянович.
— За мамзелью командирован был, а потом по степи колесил по случаю этой оказии!
— Да, да, слышал, еще на дороге слышал. Скажите, весьма любопытно! И как все это вышло? Рассказывайте!
Бржизицкий даже ближе немного подвинулся, так уж ему было любопытно. Поглядел искоса Катушкин на своего «коллегу»: «Смотрит так просто, ложечкой в стакане помешивает, сахарцу подложил кусочек, бестия!»
— Да что рассказывать: чай, сами все хорошо знаете! — неожиданно произнес он, да так и воззрился на своего собеседника, как ястреб на закопошившуюся в жниве перепелку.
— Позвольте, у вас муха в стакане! — качнулся к самому столу Бржизицкий и тщательно принялся ловить ее на кончик своей ложечки.
— Откуда же мне знать? — спокойно произнес он, окончив эту операцию.
— Откуда-с? — повторил Катушкин, сделал значительную паузу и добавил: — Хоть из газет, положим; чай, все уже давно описано в Листке-то?
— Не читал!
— Да-с, дела! Такой, я вам доложу, непредвиденный пассаж, что только разве наша фирма и могла выдержать. Все было кругом спокойно, ничего худого не слышно. Четыре каравана в Бухару перед нами прошли благополучно, а тут — накось! Симсона знаете?
— Какого Симсона?
— Не знаете? Гм! Англичанин, машинист. Да, позвольте, ведь вы еще с ним в Самаре, в «Златокрылом Лебеде» разговаривали!
— Я?! Я вас не понимаю. Я, в Самаре?!
Бржизицкий передернул плечами с видом полнейшего недоумения.
— Фу-ты! Все я забываю, что вы в Ирбит ездили. Мне показалось... черт знает, что это мне показалось. А тут еще Симсон, покойник, говорил мне, будто видел вас. Да-с, убили беднягу, ухлопали сердечного! Так, ни за что сгиб парень; если бы его в полон повели, ну, еще бы ничего; наш выручил бы, денег не пожалел бы, выкупил; а тут, без всякого проку, самым разбойничьим манером... Да и не один Симсон!
— Кто же еще? — закашлялся Бржизицкий, быстро поднялся и отошел в угол, где стояла плевальница.
Не то посмеиваясь, не то просто щурясь, глядел Иван Демьянович на эту спину и плечи, вздрагивающие от какого-то подозрительного кашля.
«Покусывает!» — подмигнул он одним глазом, словно в комнате был еще кто-нибудь третий.
«Пытка, это пытка! — процедил сквозь зубы Бржизицкий. — Он все знает. Он убежден теперь вполне, и если бы только улика, хотя какая-нибудь улика...»
Он вздрогнул и обернулся. Дверь приотворилась как-то подозрительно, откуда выглянула незнакомая физиономия, кашлянула легонько и опять скрылась. В голове Бржизицкого мелькнула мысль о западне, об аресте.
— Ну что же? Вероятно, было следствие; открыли что-нибудь? — говорил Бржизицкий слишком уже спокойным голосом, снова подходя к столу.
— Все открыли. Что надо было, то все открыли! — произнес Иван Демьянович, потирая руки и не спуская своих прищуренных глаз с лица Бржизицкого.
Положение Юлия Адамовича было невыносимое. В его мозгу копошилось страшное подозрение: неужели это письмо у него в руках? Этот решительный тон, эта уверенность...
Опять скрипнула дверь, опять мелькнуло там что-то воинственное. Бржизицкий невольно покосился на открытое окно, откуда лезли в комнату запыленные ветви. Он чувствовал, что начинает теряться, он чувствовал потребность перевести свободно дух, оправиться. Ему предстояла схватка, а он был к ней так мало подготовлен. Противник оказался гораздо сильнее, чем предполагалось.
— То есть, вот как! — продолжал в том же тоне Иван Демьянович. — Все дело теперь, как на ладони. Недаром сорок восемь дней по степи рыскал, зато вот-с...
Он протянул руку вперед, почти к самому лицу Бржизицкого, и сжал в кулак.
— Все тут! Так-то-с!
— Дай Бог! Дай Бог!
— Ровно знакомый кто-то? — присмотрелся Иван Демьянович через плечо Бржизицкого к еще раз приотворившейся двери. — В большом форте встретил я. Куда же это вы?
— Я сейчас, на одну минуту: портсигар в пальто!
Бржизицкий быстро поднялся и вышел из комнаты. Сюртук шарахнулся от двери, пропустил мимо себя стремительно пронесшегося Юлия Адамовича, подумал немного, пощупал что-то в грудном кармане своего сюртука, откашлялся основательно и шагнул через порог.
— Мое почтение-с! — начал Сипаков.
— Здравствуйте! — произнес Катушкин, узнав, наконец, встреченного им сегодня утром приезжего.
— Имея крайнюю надобность в личном объяснении, я покорнейше прошу уделить мне несколько времени для оного. Сипаков, имею честь рекомендоваться; приехал из форта Забытого!
— Что прикажете-с?
Сипаков стоял в той позе, в какой обыкновенно являются к начальству с докладом, только на физиономии его выражалась не та изысканная, доведенная до крайних пределов почтительность, а какое-то «себе на уме». Его осовелые немного глаза, его усы, лихо закрученные помадой с воском, эти шевелящиеся морщинки на висках так вот и говорили: «А как я тебя, любезный, сейчас передергивать стану, держись!»
— С господином Бржизицким имею честь говорить?
Иван Демьянович пристально посмотрел на капитана и ответил не сразу.
— Да вам что угодно? — предпочел он, немного помолчав, эту уклончивую форму.
— Не благоугодно ли будет устроить обстановку так, чтобы нам не могли помешать. Господин, что сейчас вышел, обещал скоро вернуться, а дело такое, что всяк посторонний...
— Подождите четверть часика в соседней горнице; я сейчас к вашим услугам! — заинтересовался Иван Демьянович и не без досады посмотрел на дверь, в которую снова должен был войти Юлий Адамович.
— Буду ожидать. Я здесь налево, сейчас у крайнего столика!
— Очень хорошо-с!
Сипаков вышел.
Катушкин начал соображать.
«Бржизицкий сегодня только приехал, этот тоже. Очевидно, они друг друга не знают. Хочет что-то сообщить; видимо, дело важное. А ну, как?..»
Иван Демьянович даже на диване заерзал от нетерпения.
В дверях появился Павлушка-официант.
— Юлий Адамович... — начал было он во все горло.
— Тс! Говори тише.
— Юлий Адамович просили извинить-с: нездоровье какое-то приключилось; взяли дрожки и домой поехали... — договорил Павлушка совсем уже шепотом.
— Домой уехал, гм... Это верно?
— Сам видел-с. Я им еще фуражечку на крыльцо вынес. Сели и поехали, говорят: «Поди, мол, скажи...»
— Ну, ладно, проси господина, что был здесь сейчас!
— Э, гм!.. — откашлялся за дверями Сипаков.
— Пожалуйте-с!
Иван Демьянович сделал рукой пригласительный жест. Сипаков собственноручно запер за официантом дверь и даже поискал глазами крючка или какой-нибудь задвижки.
— К вашим услугам! — привстал Катушкин.
— Это тоже, позвольте-с... все вернее будет, а то тут народ, я вам доложу, чуткий!
Сипаков направился к окну и тоже тщательно прихлоппул его, хотел было притворить каминную дверцу, да, должно быть, раздумал.
— Видите ли, в чем дело-с, — начал он, присев на стул. — Люди вы это богатые, с капиталом, я же человек маленький, кроме жалованья ничего не имею...
«Вот тебе раз, никак, просто-напросто, на бедность просить пришел?» — подумал было Катушкин.
— Не приобретете ли вы у меня один документик?
— Какой документик?
— Акция такая, что ни на одной бирже не появлялась еще, а на охотника ежели — больших денег стоит!
— Ну-с?
Катушкин смотрел на Сипакова, Сипаков на Катушкина. Первый недоумевал, в чем дело, второй, видимо, собирался, что называется, огорошить.
«Ведь и не сморгнет!» — подумал Сипаков, запуская руку за пазуху. — Да что тут долго тянуть. Это вот видали-с? Извольте прочитать!
И Сипаков, вытащив из кармана аккуратно сложенный большой лист, четко и крупно исписанный, подал его Ивану Демьяновичу.
Молча взял в руки Катушкип бумагу, развернул ее и начал читать, подвинувши к себе канделябр поближе. Сипаков наблюдал за читавшим, поглядывая через верхний край развернутого листа.
Лихорадка начала трясти лопатинского поверенного при чтении этого документа, пальцы впивались в прыгающий перед глазами лист и оставляли на нем потные пятна.
— Э, гм! — откашлялся Катушкин и, не отрывая глаз от строк, ощупал дрожавшей рукой стакан и жадно глотнул из него раза два. У него в горле все пересохло и даже в глазах зарябило от сильного прилива крови.
«Разобрало!» — замечал Сипаков все изменения на широком, побагровевшем лице читавшего.
Катушкин снова принялся перечитывать.
— Это не его рука, это копия! — произнес он и сам не узнал своего голоса.
— Копия-с! — улыбнулся Сипаков. — А вы думали, вам оригинал-то, документа самый, так и вручат сразу? Мы тоже не ногой сморкаемся...
— Письмо это с вами, настоящее?
— А там как придется... пока в нем не предстоит надобности. Вот мы, как следует порядочным людям, потолкуем, в цене сойдемся, а там из рук в руки...
— Однако вы из ловких!
— По простоте-с!
— Какую цену желательно вам получить за это письмо?
— А как вы полагаете?
— Где вы его взяли?
— Невидимо Господь снискал своей милостью!
— Дело, знаете, вышло серьезное... Что нам тута в трактире решать! Не поедем ли мы лучше к моему хозяину: совместно и порешим? Может, и кончим сразу... — вкрадчиво начал Катушкин.
— Если вы насчет чего такого замышляете, так это напрасно, потому со мной вы ничего не поделаете иначе, как по доброму согласию. Письма со мной в наличности нет; где оно находится — вам не будет известно!
— Напрасно беспокоитесь. Силой от вас ничего отнимать не будут, а потому больше, что много удобнее... Угодно-с?
— Что же, поедем; за городом живете, я слышал?
— В самом центре-с... пожалуйте. Павлушка, к счету приспособь! — кивнул Иван Демьянович на стол и, прихватив Сипакова под локоть, направился к двери.
Уж очень он боялся выпустить из рук так неожиданно появившегося Сипакова. Он даже нарочно черным ходом прошел с ним, чтобы не встретиться с кем-нибудь в залах ресторана.
— И притом позвольте предупредить... я не совсем с пустыми руками... — уперся было капитан.
— Э, батюшка! — махнул рукой Иван Демьянович. — Подавай, долгушка! — крикнул он, когда им в лицо пахнуло свежестью ночного воздуха, и тотчас же попятился назад, на крыльцо, — так неистово хлынули на него со всех сторон налетевшие из мрака конские морды, под самыми разнообразными дугами.
— Легче вы, черти! — отмахнулся Сипаков.
— Садитесь, милости просим! — приглашал его Катушкин, поправляя рваную полосатую подушку, из-под которой торчала солома.
Сели и тронулись
***
«Что за оказия», — думал хорунжий Дрыгин разбуженный стуком шагов и голосами в соседней комнате, которую занял для себя приезжий из форта Забытого. — «Вдвоем приехали, шепчутся о чем-то. А ну-ка!..» — И хорунжий, в одном белье, босиком, вылез из-под своего ватного одеяла, тихонько подобрался к двери, да так и впился в светящуюся сердцеобразно звездочкой замочную скважину.
А приезжий только что проводил Ивана Демьяновича и в десятый раз говорил: — «Владейте на здоровье. Топите их, разбойников, что их баловать», — на что Иван Демьянович отвечал: — «А вы, родной, богатейте с нашей легкой руки; ведь тысяча-то рублей большие деньги — с ними чего-чего нельзя поделать умному человеку, страсть!»
— Ишь, ты! — облизнулся за дверями хорунжий Дрыгин.
— Ну, бани! — глубоко вздохнул Сипаков, оставшись один, и сел пересчитывать полученную от Ивана Демьяновича пачку.
Он все еще не мог прийти в себя от всего, что случилось с ним в этот вечер.
«Продешевил, продешевил! — соображал он, припоминая, как они приехали к Лопатину, как его огорошило то обстоятельство, что Юлий Адамович Бржизицкий оказался Иваном Демьяновичем Катушкиным. На попятный было, да нельзя, судом припугнули, даром бы все пропало! — Да-с, влопался... и как это я мог ошибиться? Он самый, как хорунжий, бестия, сказывал намедни, так и есть из себя полный, в белом парусиновом пальто, только что со станции съехал... эка дьявольщина! Ну, куда ни шло: и тысяча — деньги. А все жаль! Много бы больше дали, если бы на настоящих покупателей напал, — жаль! Да и народ же какой аккуратный: все начистоту, из рук в руки... Ты ему письмо, он тебе деньги. Травленые волки!.. Тс! Что за леший!»
Под дверями послышался шорох и что-то вроде сопения.
Поспешно собрал свои деньги Сипаков, аккуратно обернул их листом сахарной бумаги, обвязал веревочкой и уложил к себе за пазуху. Потом он прислушался еще немного; шорох не повторился. Задул свечу капитан, разделся, обернулся лицом в угол и начал впотьмах отвешивать земные поклоны.
VII «Потому — шабаш!»
Со дня ночной сцены в саду прошла уже почти целая неделя. Иван Илларионович ни разу не показывался на дамской половине. Он даже избегал возможности показываться на глаза кому-нибудь из ее обитательниц.
С самого утра он, обыкновенно, или уезжал на весь день в свои караван-сараи, или же запирался с Катушкиным в кабинете. Даже заветная дверь из кабинета в спальню Адели была заперта на ключ и завешена массивным ковром. Недавно он получил записку, подписанную, впрочем, Фридерикой Казимировной. В этой записке умоляли его прийти выслушать объяснения, — объяснения, которые и для него были бы весьма полезны. В этой записке уведомляли его, что Адель очень дурно себя чувствует, что она так расстроена, и сама Фридерика Казимировна, как мать, хорошо знающая психическую натуру своей дочери, не может ручаться, что болезнь эта не примет серьезных размеров, если положение дел не изменится. В заключение дружески пожималась почтенная рука уважаемого Ивана Илларионовича, и высказывались надежды, что по получении этой записки... и прочая, и прочая. Лопатин не отвечал на эту записку. Иван Демьянович, уже от себя, зайдя перед вечером, сообщил, что напрасно, мол, беспокоят Ивана Илларионовича: «Потому — шабаш!»
— Но ведь он думает... он убежден! — пыталась было madame Брозе удержать раскланивающегося Катушкина и даже за рукав его прихватила.
— Напрасно и вы беспокоиться изволите, потому что Иван Илларионович, хотя и порешил, чтобы всю эту историю кончить, однако, обиды вам никакой не сделают, и все, как должно: на проезд обратно и прочее вознаграждение...
— Уйдите вон! — ворвалась в эту минуту Адель, слышавшая из своей комнаты эти переговоры. — Скажите этому старому дураку...
Но Иван Демьянович уже не слыхал остального. Он шарахнулся назад в двери и нисколько не поинтересовался узнать, что такое поручали ему передать «старому дураку».
— Хе, хе! Старому дураку! — посмеивался он, шагая через дворик к себе во флигель. — Не знаете вы этого старого дурака! Конечно, от сильного чувства, особенно ежели нелегко дается, можно в расстройство свою сообразительность привести, но при должном охлаждении, к тому же добрый совет со стороны... покажет вам себя этот старый дурак совсем в ином виде.
— Пешком пойду! Ни одной его тряпки, ничего из этой дряни не возьму с собой!.. — металась по комнатам Адель в истерическом припадке, расшвыривая разнообразные футлярчики и безделушки, стоявшие на туалете и шифоньерках.
— Адочка, благоразумие! Молю тебя о благоразумии! — бегала за ней со стаканом в руках Фридерика Казимировна, подбирая на ходу разбросанные вещи и припрятывая их в более благонадежное место.
— После всего этого... после таких оскорблений, чтобы я от него хотя бы одну копейку... — рыдала Адель, падая на кушетку.
— Но ведь согласись сама: ведь он обязан обеспечить! — обняла ее за талию madame Брозе. — Ведь это вовсе не какая-нибудь милость с его стороны, не подаяние: это должное... и если только он...
— Ничего мне не надо, ничего!
— Ах, Адочка! Ну, положим, слава богу, что все это обошлось без последствий, ну, а если бы?..
И она сделала округленный жест перед своим желудком.
— Я бы тогда отравилась... повесилась... утопилась... я бы тогда...
— Адочка, темнеет, скоро ночь, а ты говоришь такие ужасные слова...
— Старый, проклятый сатир! — нервно вздрогнула и съежилась на кушетке Адель, припоминая, вероятно, что-нибудь уж очень неприятное.
Фридерика Казимировна вздохнула очень глубоко и продолжительно, зевнула в руку, подняла еще один бархатный, яйцевидный футлярчик, попавший ей под ногу, и полезла осторожно на стул, придерживаясь за шнурки драпировки.
Она нашла необходимым зажечь лампадку перед образом и нежным, расслабленным голосом попросила дочь подать ей китайскую вазочку со спичками.
***
На другой день Адель, утомленная слезами и истерическими припадками, еще крепко спала у себя на постели, как в дверь кто-то легонько стукнул, подождал и еще стукнул, несколько громче.
— Кто там? — прислушалась Фридерика Казимировна.
— Письмецо от Ивана Илларионовича и посылочка! — говорил за дверью голос Катушкина.
— Ах, Иван Демьянович, подождите минутку, я сейчас! — заторопилась Фридерика Казимировна и торопливо начала одеваться.
— Ничего-с, подождем: время имеется! — успокоительно произнес лопатинский поверенный, и слышно было, как он задвигал креслами, рассчитывая, вероятно, на довольно продолжительное ожидание.
Фридерика Казимировна хотела было сначала разбудить Адель, но раздумала и притворила даже плотнее дверь ее спальни.
«Только мешать будет своими сценами», — решила она, наскоро проводя растушкой по своим бровям и ловко изображая в углах глаз черные, весьма эффектные точки.
— Мне так, право, совестно! — говорила она, наводя на затылок ручное зеркальце и невольно морщась (так много виднелось там чего-то серебристого).
— Не торопитесь! Что же, коли в окраску пойдет — нельзя тоже, чтобы скоро, дело известное! — шутливо говорил Иван Демьянович.
Фридерика Казимировна нисколько не обиделась этим замечанием, хотя кончики ее ушей побагровели мгновенно.
Немедленно повешенное на дверную ручку полотенце закрыло отверстие замка, и Иван Демьянович принужден был прекратить дальнейшие наблюдения.
— Ну-с, какие вести вы принесли нам? — произнесла madame Брозе, одной рукой принимая пакет, а другой любезно приглашая Катушкина переступить через порог.
— Самые прекрасные! Извольте прочитать, сосчитать, получить и расписаться в получении оного вот в этой книжечке...
— Что же это такое? — удивилась Фридерика Казимировна. — Садитесь!
Катушкин оглянулся кругом, покосился на дверь спальни Адели, прислушался, сообразил, что барышня, должно быть, еще почивают, и, произнеся шепотом: «Покорнейше благодарю-с», на цыпочках подошел к дивану и осторожно опустился.
Madame Брозе начала читать.
— Это к дочери? — остановилась было она и взглянула на Ивана Демьяновича.
— Все единственно-с, — привстал немного тот, — читайте!
«Милостивая государыня, Адель Александровна!» — читала madame Брозе, забегая глазами вперед, так уж ее заинтересовало содержание полученного послания.
«Года два тому назад я имел „несчастье“ познакомиться с вами. Извините, что я употребил именно это выражение; могло бы быть совершенно наоборот, но случилось так, что это выражение для меня совершенно уместно.
Ваша наружность произвела на меня такое впечатление, что я, несмотря на свои лета, несмотря на то громадное расстояние (я говорю про возраст), которое находилось между нами, я полюбил вас; я не мог сладить со своей страстью, я стал искать сближения, — это было очень смешно, очень, пожалуй, гадко, но вот мои оправдания.
Предложить вам своей руки я не мог, по причинам, вам хорошо известным; добиваться от вас любви, такой, конечно, которая бы отвечала моей, было бы сущей нелепостью; нелепость эту я мог себе представить, даже несмотря на мое ослепление. Я рассчитывал только на одно: вы были в крайнем положении, вы были почти нищий (положим, вы лично еще не успели испытать тяжесть этого положения), но у меня не хватило духу подвергнуть вас этому, и я спас вас в последнюю уже, крайнюю минуту. Вы были обставлены комфортом, лаской, предупредительностью, самым внимательным попечением. Все ваши капризы, прихоти исполнялись почти беспрекословно. Вам обещалась вся эта обстановка и впредь. Я полагал, я был так недальновиден, что смел рассчитывать, что вы способны, наконец, привязаться к человеку, от которого все это исходило. Сперва, думаю, чувство благодарности и признательности, затем, мол, и другое, конечно, не страстное, но спокойное чувство привязанности. К тому же, признаться вам сказать, и ваша маменька поддерживала меня именно в том приятном заблуждении, уверяя меня, что эту-то привязанность вы ко мне и питаете, только высказывать сего не желаете, по причине, мол, вашего капризного характера...»
Фридерика Казимировна, дочтя до этого места, подумала немного и тщательно зачеркнула пером последние строки.
Письмо Лопатина проходило, так сказать, через ее материнскую цензуру.
«К несчастью, — продолжала она читать, — я имел много данных, — я уже не говорю о последнем пассаже, — убедиться мало-помалу, что о подобной привязанности не может быть и речи; мало того-с: с каждым разом, когда я был с вами, я видел, что у вас растет другое чувство, — чувство крайнего ко мне отвращения и ненависти.
Поверьте, я умел понять, в каком ужасном положении находились вы, когда... И если я не мог сладить со своей страстью в данную минуту, то в другое время, при должном, хладнокровном взвешивании всех обстоятельств, при добром совете со стороны...»
Фридерика Казимировна не совсем-то ласково вскинула глазами на Ивана Демьяновича. Тот в эту минуту спокойно подлавливал рукой какую-то зелененькую мушку, летавшую над его лысиной.
«Я пришел к тому заключению, результатом которого явилось это письмо.
Ну-с, родная моя, поезжайте с Богом обратно в Питер! Будьте счастливы, если встретите человека по душе, а Иван Илларионович свое дело тоже знать будет. Известное обеспечение, подробно изложенное в приложенном при сем документе, будет высылаться вам аккуратно... Насчет обратнаго пути тоже все устроено, и дан будет вам, как и тот раз, надежный провожатый.
Прощайте и не поминайте лихом, а если что понадобится, то всегда помните, что я к вашим услугам. Маменьку вашу мне, признаться, видеть нежелательно: уж очень она мне не по сердцу за ее ложь, двуличность и всякие пакости (насчет последнего пассажа мне тоже все, как следует, известно). С вами же лично проститься мне бы очень хотелось. А впрочем, как вам Господь на душу положит».
Опять заиграло перо в пухлой руке Фридерики Казимировпы; на этот раз с несравненно большим ожесточением.
«За сим остаюсь все тот же самый Иван Лопатин».
«Р. S. Считаю долгом заявить вам, что, по случаю кончины супруги моей (я на прошлой еще неделе получил о сем извещение), по прошествии узаконенного траурного времени, намеревался я скрепить все законным браком с вами, но, при ваших чувствах ко мне, оное счел немыслимым».
У Фридерики Казимировны в глазах позеленело: она даже не заметила, что последние слова были написаны совсем другим почерком; она даже не заметила легонькой улыбочки, промелькнувшей на довольном лице Катушкина, когда тот заметил, какое впечатление произвела его приписка, сделанная, впрочем, без ведома Ивана Илларионовича.
— Где же расписаться, вы говорили? — томно спросила madame Брозе, окончив чтение и прикладывая платок к своим покрасневшим глазам.
— А вот книжечка-с! Тут уже все приготовлено. Черкните только-с звание, имя, отчество и фамилию вашу; извольте писать: по сему... вот и все-с! — окончил он диктовку, глядя через плечо на еле разборчивую, волнообразную строчку, изображенную дрожащей рукой Фридерики Казимировны.
— Прощенья просим-с. День отъезда Иван Илларионович просили назначить, как вам будет угодно, только чтобы дня за два их уведомить, для соответственного по сему распоряжения. Счастливо оставаться!
И Иван Демьянович, захватив разносную книжечку, бочком направился к выходной двери.
Фридерика Казимировна еще раз тщательно процензуровала письмо, заперла конверт с деньгами и документом к себе в бюро и пошла в спальню Адели.
Красавица дочь крепко спала, разметавшись в своей взбудораженной постели; ее сухие губы были раскрыты, и оттуда вылетало горячее, не совсем здоровое дыхание; щеки сонной горели, как в огне. Свеча на ночном столике, видимо, не была потушена и догорела сама собой. На полу, у постели, валялась закрытая книга.
Madame Брозе положила письмо на столик, на видное место, и разбудила свою дочь самым нежным, самым искренним материнским поцелуем.
VIII Тревога и побег
Старый, опытный волк бредет, понурив голову, опустив до самой земли хвост-полено, прищурив подслеповатые глаза, чуть поводя своими надгрызенными в прежних боях и схватках ушами. Бредет он, не спеша, шагом, по сторонам не смотрит — незачем! Все ему давно знакомо, все пригляделось: и эти пожелтевшие кусты орешника, между которыми, уныло воя, проносится осенний ветер, и эти обгорелые сосновые пни, и беленькие черточки березовых стволиков, и эта крикливая стая носатых грачей, только что слетевшая с размокшей пашни за опушкой. Даже вот этот шест с метлой наверху, торчащий на повороте новой межи, и тот не обращает на себя внимания старого бродяги. Плетется он по избитой, исстари проторенной тропе и все ниже и ниже клонит свою хищную морду с оскаленными клыками, с краснеющим между ними кончиком запенившегося языка.
Бредет «матерый» на выгон, что за оврагом, у самой опушки; там еще, должно быть, пасутся тощие «животишки» соседней деревни Преснохлебаловки, и не раз уже пользовался там серый разбойник то курчавой ярочкой тетки Маланьи, то поросенком дяди Никиты, а то так даже теленком самого отца дьякона. Очень уже ему эти обеды легко достаются. Пастушонки все маленькие, четырнадцать лет от роду старшему, дрыхнут себе в шалаше, прикрывшись с головой отцовскими тулупами, или на речке у огонька варят в котелке картошки, накраденные в огороде целовальника Парфена Карныча; собаки тоже все дрянь дрянью, десятерых на один волчий зуб мало. Лафа, да и только!
Вот и тащится теперь наш волк за съестным, ни о чем не беспокоясь, потому беспокойства ему ниоткуда не предвидится.
Вдруг он сразу остановился, даже назад попятился и хвост промеж задних ног поджал под самое брюхо, ушами повел, прислушался, — что за черт, что-то не ладно; подождал волк немного, присел, потом прилег, опять встал, за куст зашел, промеж двух кочек забился, — волнуется.
«Что за оказия? — думает он. — Все, по-видимому, в порядке, а что-то словно не того...»
А голод не свой брат: кишки ворочает, долго не дает раздумывать. Опять пошел волк вперед, только много тише; дошел уже до самого оврага: вон и дымок синеет у воды, влево бубенчик брякает близко, — знает он даже, на чьей шее это брякает. Эвось, волк те заешь, ягнят-то сколько. Которого бы сцапать? Да нет, свою шкуру уж очень вдруг жалко стало; подумал, подхватил языком липкую, тягучую слюну, повернул назад да и ходу, чем дальше, тем шибче, вот уж вскачь запрыгал, пугливо по сторонам озирается, от всякого шума в сторону бросается; версты четыре продрал, забился в самую чашу, на глухой болотине и залег, вздрагивая и ежась от совершенно неожиданного, бог весть откуда, налетевшего страха.
И все, что до сих пор казалось таким простым, таким знакомым, все это уже смотрит теперь не так, все словно грозит, все предваряет о какой-то скрытой, неминуемой, смертельной опасности.
И верно, что это не мнимая опасность: она, действительно, существует, не пригрезилась она волку, а ему подсказал ее и предостерег его верный таинственный инстинкт, никогда до сих пор не обманывавший опытного зверя.
Вот в таком точно положении струсившего волка чувствовал себя Юлий Адамович со дня разговора своего с Катушкиным. Он очень хорошо понял, что настала пора принять оборонительное положение. Он чуял теперь врага, и врага могучего, пренебрегать которым было бы более, чем неблагоразумно; он ясно сознавал, что опасность растет все более и более с каждой минутой, что скоро настанет та минута, когда будет уже поздно. Он решил, во чтобы то ни стало, предупредить эту скверную минуту и зорко стал приглядываться и прислушиваться ко всему окружающему.
Старый волк насторожил свои воровские уши.
И вот, под влиянием этого чувства, все обыденные явления, до сих пор казавшиеся самого невинного свойства, стали принимать для него совершенно иное, тревожное значение. Каждая встреча, каждый взгляд, совершенно случайно брошенный в его сторону, казались ему крайне подозрительными. В каждом слове он слышал скрытый намек; подчас ему становилось просто страшно в присутствии других людей, особенно принадлежащих по мундиру к предупредительным или карательным административным элементам, а между тем его так и тянуло в эту среду, так и подмывало во все вслушаться, вглядеться, взвесить, сообразить.
— А позвольте, милостивый государь...
Юлий Адамович вздрогнул всем телом и даже в сторону шарахнулся: рука в галунном обшлаге мелькнула чуть не у самого его лица и звякнуло что-то металлическое.
— ...позаимствоваться огоньком вашей сигарки! — докончил исправляющий должность городничего, капитан Широкошагаев, неожиданно подвернувшийся из-за покосившегося угла летнего барака пожарной команды.
— Я-с... я с большим удовольствием... Позвольте, я сначала раскурю. Ваше здоровье как... семейство ваше... супруга-с? — засуетился Бржизицкий.
— Э, гм… супруги не имею еще, семьей не обзавелся, покорнейше благодарю. Оревуар-с... я сюда!
И капитан солидно зашагал к дверям барака, у которого давно уже, вытянувшись в струну, жилился часовой, рассчитывающий, вероятно, этим напряженным жиленьем выразить всю свою исправность по службе.
«Знаем мы, мол, зачем тебе сигару закурить потребовалось», — думал и передумывал Юлий Адамович и поспешно свернул в переулок, — свернул потому, что заметил впереди еще какие-то два шитые воротника и кончик казачьей винтовки.
Сегодня утром в туземном городе, около ворот караван-сарая Перловича, завязалась свалка между евреями и сартами, — началась с пустяков, как обыкновенно; кончилось тем, что пришлось употребить целый казачий взвод, чтобы разогнать дерущихся. В другое время Юлий Адамович оставался бы самым равнодушным, спокойным зрителем со стороны, теперь же, оправившись от первого испуга, потому что всякий шум стал производить на него это неприятное действие, он поспешил подать самую деятельную помощь блюстителям порядка и с этой целью поднял на ноги всех служащих при караван-сарае.
— Ну, батюшка, спасибо, что со своими молодцами с энтого фасу их перехватили, а то бы где управиться! — говорил ему казачий офицер, вытирая рукавом кителя пот на своем красно-буром, загорелом лице.
Юлию Адамовичу было очень приятно слышать это одобрение.
— Я всегда за порядок, всегда за порядок... Отдохнуть заходите. Эй, отпереть ворота для господ казаков! Я им сейчас, с вашего позволения, по стакану водки... — засуетился он.
И не только, что угостил казаков водкой, но, особенно расчувствовавшись, выдал им по полтиннику на человека, а хорунжему презентовал качевский серебряный подстаканник, случайно подвернувшийся под руку.
Ехавши домой, он остановил лошадь у губернаторского подъезда и зашел с единственной целью потолкаться в приемной и прислушаться. В приемной было очень мало народу, человека три стояли в стороне и о чем-то горячо говорили; при входе Бржизицкого они разом замолчали и стали переглядываться; это показалось ему очень подозрительно.
— Генерал сегодня не принимает! — подошел к нему дежурный адъютант.
— Неужели? — удивился Бржизицкий. — Ах, как жаль! А мне было...
И он замолчал, потому что ему положительно незачем было видеть губернатора.
Быстро вошел в комнату знакомый ему штабной полковник, взглянул на него как-то странно, — так, по крайней мере, ему показалось, — вернулся, сказал что-то тихонько ординарцу у дверей и ураганом пронесся чрез приемную прямо во внутренние апартаменты.
«Попался, попался!» — проступил у Бржизицкого под бельем холодный пот, и он, неловко раскланявшись, поспешил отретироваться. Весь как-то нравственно съежившись, не глядя никуда определенно, а как-то в пространство, шмыгнул он мимо ординарца, мимо часового у дверей. «Вот, — думал он, — сейчас за шиворот схватят, дорогу ружьем загородят»; однако, никто его за шиворот не хватал, никто дороги ружьем не загораживал, и он благополучно добрался до своей лошади.
Он даже нарочно проехал мимо дома Ивана Илларионовича, хотя это было совсем уж не по дороге.
Сунулся было он в ресторан Тюльпаненфельда, слез с лошади, передал лошадь на попечение мальчика-сартенка, взошел на крыльцо, шагнул через порог, приостановился на мгновение и поспешно вернулся назад, — так уж его встревожила фраза, случайно долетевшая до его слуха.
— Я вам говорю, его еще не арестовали! — горячился кто-то в одной из боковых комнат.
— Как не арестовали? На другой же день и арестовали; как же иначе? Ведь он в рожу ему закатил; тот обиделся, подал рапорт. Ну, понятное дело, «военное положение...» Эй, опять салфетки все во вчерашнем шпинате... Свиньи!
— Пожалуй, серую шинель наденет?
— Как бы хуже не было!
Очевидно, речь шла не о Бржизицком, но Юлий Адамович не слышал уже дальнейшего разговора — он усиленно погонял свою лошадь, а вместе с топотом копыт по шоссе в его ушах звенели и варьировались на разные лады неприятные, роковые слова: арест... арестовали... еще не арестовали...
***
— Ну, что наш Юлий скажет хорошего? — в третьем лице отнесся к Бржизицкому Станислав Матвеевич, когда тот вошел к нему в кабинет, притворил за собой дверь и на мгновение приостановился, словно не соображая сразу: зачем он сюда зашел, что ему надо сказать?
— А что я вам могу сообщить? Рис выгрузили, с красным товаром нынче тихо. Вот еще...
Перлович резко позвонил и крикнул шарахнувшемуся за дверями Шарипу, чтобы тот подал свечи.
В комнате было довольно темно; багрово-красный луч заходящего солнца прорвался в окно и, нарисовав на стеклах узорчатую, кружевную тень какой-то ветви ближайшего к окну дерева, скользнул по выдающемуся углу массивного шкафа и разделил всю комнату на две почти равные части. В одной, благодаря слабому свету этого луча, можно было рассмотреть находившиеся в ней предметы, в другой же царствовала густая синеватая тень, и там-то чуть очерчивалась фигура Бржизицкого.
Перлович не мог видеть лица своего агента, но он очень хорошо слышал звук его голоса, поразивший его с самой первой ноты. Это говорил не Бржизицкий, — по крайней мере, он никогда не говорил так...
Вы одни; кругом глухой лес, гниющие болотины, подернутые туманом; фосфорические блестки мигают в воздухе над этой массой гнили. Из мрака сгустившихся сумерек со всех сторон тянутся сухие ветви, принимая самые фантастические образы. Эти ветви, словно костлявые руки лесных чудищ, пытаются сорвать вас с седла; рогатые пни торчат по сторонам исковерканной непогодой дороги; храпит пугливый конь, осторожно ощупывая копытом неверную почву. Вам жутко; нервы ваши напряжены до последней степени. Вы пытаетесь бороться с этим скверным чувством; силой воли и рассудка вы побеждаете его и бодрее вглядываетесь в темноту. Даже ваш конь инстинктивно чувствует это и заражается бодростью вашего духа. Чу! Что это? Крик, раздирающий душу, тоскливый, как-то хрипло скрипящий, пронесся в воздухе. Вздрогнул конь и осел на задние ноги; разом исчезло все ваше завоеванное спокойствие. Опять тоска, опять неприятное, тяжелое чувство одиночества, что-то очень близкое к паническому, бессмысленному страху.
А между тем вы очень хорошо знаете, что за существо издало этот отвратительный вопль. Вы знаете, что это не проделки какого-нибудь фантастического лесного духа. Скромный филин, сверкнув в темноте своими желтыми глазами, стряхнул с крыльев дождевую воду и, собираясь перелететь на соседнюю дуплистую липу, затянул свою негармоническую песню.
И в настоящую минуту звук голоса Бржизицкого был для Станислава Матвеевича чем-то вроде крика филина.
Быстро поднялся на ноги Перлович, подошел к своему поверенному, пристально взглянул на него и произнес:
— Что, плохо?
Тот не отвечал.
— Это письмо... Вы, верно, узнали, где оно? Оно...
— А дьявол его возьми, где оно! Я не знаю, я только могу догадаться. Вы вот сидите здесь, вы не видите ничего, не слышите этих постоянных намеков, не косятся на вас все встречные!
В первый раз еще Бржизицкий заговорил таким раздражительным голосом.
— Так, значит, коллега, нам надо... — начал Перлович,
— Погодите еще день, и я узнаю все... Бежать еще будет время, да, наконец, может быть, и не от чего будет бежать нам!
— Вы же говорили, что письмо это не может миновать наших рук!
— Да, я это говорил, это так бы и было, может быть, и будет, но меня смущает только одно обстоятельство!
— Что еще?
— Вчера вечером у Тюльпаненфельда, а, может быть, это было раньше, мне не сказали, когда именно... конечно, я не видел его сам, но мне говорили, это все равно... мне говорили, что... фразы были так похожи, сколько я припоминаю... проклятый листок переходит из рук в руки!
— Какой листок?
— Это письмо... копия ли это, самый ли оригинал — я не знаю; его нашли в одной из боковых комнат. Его нашли в той самой комнате, где был недавно я. Не я же сам, наконец, его потерял, — значит, другой, а я был там только вдвоем с Катушкиным, — только вдвоем с Катушкиным. Какая-то рожа еще заглядывала, — я не встречал ее прежде. Этот листок был потерян или забыт в этой комнате; не я его потерял, — значит, Катушкин; если же и не он, то эта рожа. Я заезжал после на почтовую станцию и узнал, что это был приезжий из Забытого форта. Он был пьян до потери сознания и спал. Добудиться было невозможно. Проклятая свинья мычала только во сне и ворочалась. Завтра рано утром я опять под каким-нибудь предлогом постараюсь увидеть этого приезжего и отисповедаю его.
— Это письмо исчезло на почте, на дороге... — соображал Перлович.
— Я догадываюсь, в чем дело, и завтра узнаю все. Кроме того, я бы вам посоветовал тоже съездить в город, а пока...
И Бржизицкий, не попрощавшись с хозяином, вышел из комнаты, оставив Станислава Матвеевича на досуге соображать и догадываться.
***
А на другой день Станислав Матвеевич, приехав в свой караван-сарай, не нашел там Бржизицкого. Дела в этот день почти не было, рабочие спали в тени навесов или же бродили под базарными сводами. Из туземных приятелей (тамыров) Перловича мало кто наведывался к «русскому баю»; только сосед, кожевенник, Мусса-Джан, зашел около полудня, да так и огорошил хозяина караван-сарая возгласом:
— Ба! А что же это народ болтает, что тебя русские в курган (крепость) посадили?
— Кто же это именно болтал? — спросил Станислав Матвеевич, и разом побледнел, как та выштукатуренная гипсом стена, около которой они сидели. «Уж если на базаре болтают...» — промелькнуло у него в голове.
— Все говорят, хе, хе, все говорят! — присаживался поудобнее на пестрый шлям Мусса-Джан. — Все говорят. И у Саида-Азима говорят, и в шелковом ряду говорят, и кузнецы эти корявые в русском городе на «больших» работах были — пришли, всем своим рассказали. Пойду, думаю, проведаю; прихожу, а ты здесь сидишь себе и угощаешься. Юлий-тюра где?
И Мусса начал осматриваться, не сидит ли где-нибудь в углу «Юлий-тюра», как обыкновенно называли все туземцы поверенного Станислава Матвеевича.
Пришел еще один сосед с другой стороны, остановился на минуту на самом пороге, изумленно взглянул на Перловича, потом на Мусса-Джана, еще раз переглянулся и тогда уже произнес приветственное «аман!»
— А нам говорили... — начал новый гость.
— Что, верно, мне голову отрезали, на кол посадили? — вспылил Перлович. Нервы его до такой степени были раздражены за последнее время, что он потерял способность удерживать порывы вспыльчивости.
— Что же ты сердишься, — равнодушным тоном заметил гость, — мало ли чего народ болтает; много всякого вздора и не про тебя одного говорят. Всего не переловишь, что носится по ветру!
И он усердно захрипел кальяном, зажав пальцем дырочку в верхнем тыквенном полушарии.
— Ты кого это зарезал? — прямо, без обиняков, рявкнул басом мулла Кулдаш, загородив всю входную дверь своей массивной фигурой.
— Ну, прощайте! Некогда мне тут с вами болтать: дело есть! — не выдержал Перлович, поднялся на ноги и пошел во внутренний двор, что бы только избавиться от докучных посетителей.
— Все знают, все говорят! — тоскливо сжималось у него сердце. — А, может быть, там?!
И холодный пот проступил у него от одного только страшного предположения.
***
Солнце стояло еще высоко, а уже Станислав Матвеевич прискакал к себе на дачу. Окольной дорогой, через туземные сады, пробрался он на чимкентский тракт. Он положительно боялся русского города. Даже во двор он не въехал, а привязав лошадь за калиткой, прошел через виноградники, прямо к своему балкону.
— Тюра-Юлий был у тебя! — докладывал ему Шарип, — Там записку, бумагу такую тебе оставил, вон на столе лежит!
— Давно он был?
— Давно. Долго сидел. Меня в кузницу посылал с лошадью, а сам все здесь сидел!
— Ну, ступай. Эй! А еще никого не было?
Перлович значительно понизил тон голоса при этом вопросе и даже оглянулся.
— Еще никого не было, никого... Да, купец из Коканда, что верблюдов у нас менял, приходил... ну, тот только так был: справиться о здоровье заходил. А больше никого не было! — еще раз повторил Шарип уже за дверями.
На видном месте, на темно-зеленом фоне столового сукна, так и лез в глаза маленький, белый четырехугольник. Эта была записка Бржизицкого.
«Дело наше безвозвратно проиграно. Я узнал, наконец, все, — писал четким, решительным почерком Юлий Адамович. — Письмо в руках Лопатина. Кажется, что уже сделано распоряжение об аресте. Все улики против нас, и мы сделаем самое лучшее, если позаботимся о спасении своей собственной шкуры. Я уже позаботился об этом. Я не хотел бежать вместе с вами, по той причине, что двоих гораздо удобнее ловить, чем одного. Если вам удастся благополучно перебраться через тянь-шаньские отроги, то постарайтесь увидеться со мной в Кашгаре или же далее, на пути к Кашмиру. А впрочем, это решительно предоставляется на ваше усмотрение. Не вздумайте только броситься к Бухаре: там вас непременно перехватят и выдадут обратно русскому правительству. Это мой совет.
Юлий Бржизицкий».
— Так скоро! — прошептали губы Перловича. — Так скоро!
Его даже не удивил поступок Бржизицкого: он находил это так естественным, что сам бы, пожалуй, поступил так же. Но только как же горько стало у него во рту, — казалось, вся желчь подступила к горлу, — когда в его пораженном мозгу возник ненавистный призрак Юлия Адамовича, спасающего свою собственную шкуру.
Вот мелькает в пыли круп его лошади. Чуть виднеется голова из-за согнутой спины; рука, вооруженная нагайкой, усердно сечет взмыленный конский круп.
Перловичу почему-то казалось, что Бржизицкий в эту минуту удирает именно таким патриархальным образом.
IX Сборы
Беспорядок, полнейший хаос царствовал в уютной, так комфортабельно устроенной квартире madame Брозе и ее дочери. Вся середина общей круглой комнаты была заставлена открытыми баулами, сундуками и разными укладками; тиковые полосатые внутренности чемоданов так и лезли в глаза, и в комнате преобладал запах ремней и экипажной кожи. На спинках кресел и стульев эффектно драпировались роскошные шлейфы всевозможных цветов и материй.
Фридерика Казимировна ловко лавировала между всеми этими предметами, соображала, распределяла и метала во все стороны самые хозяйственные, озабоченные взгляды. Адель, у себя в комнате, щелкала замочками бесчисленных туалетных ящичков.
— Утром, пораньше, как можно пораньше! — решительно произнесла Фридерика Казимировна. — Чуть свет. Я думаю, даже до восхода солнца. А ты как полагаешь, Адочка?
— Мне решительно все равно!
— Или уж вечером, попозже, как стемнеет? А то, знаешь, вставать надо так рано. В это время всегда так спать хочется... Разве вечером?
— Отстань!..
— Ну, так уж вечером! — перерешила madame Брозе. — Сегодня не мешало бы покончить с укладкой пораньше. Платья, те вот, с кружевами в большой баул. А то, знаешь, что я придумала? Действительно, лучше утром. Здешние мерзавцы всю ночь таскаются по улицам, и как бы поздно мы ни поехали, нам не избежать какой-нибудь демонстрации.
— Да, проводы будут! — задумчиво произнесла Адель.
— Ну, вот, вот... Итак, утром! Ты, Павел, так и доложи Ивану Илларионовичу, что, мол, решили завтра утром, чуть забрезжит свет, так и скажи: приказали, мол, сообщить, что рано утром, чуть забрезжит свет!
— Слушаю-с! Больше ничего не прикажете? — попятился Павел к дверям.
— Ничего, или нет, постой! Я сейчас напишу несколько слов, а ты передай эту записку лично Ивану Илларионовичу, так прямо в руки и отдай — никому больше. При Катушкине тоже не отдавай, а так, знаешь, — да ты понимаешь, в чем дело, понимаешь?
— Понимаю-с!
Фридерика Казимировна присела к бюро и торопливо принялась тыкать пером в фарфоровую чернильницу.
Так вот уже третий день madame Брозе с дочерью собирались в обратную дорогу.
Фридерика Казимировна совершенно уже освоилась с мыслью об отъезде и успокоилась. Ее несколько тревожил только самый процесс этого отъезда. Ей все казалось, что целый Ташкент собирается смотреть на них; из каждого окна так вот и будут высовываться разные физиономии и провожать их экипаж самыми насмешливыми, сатирическими взглядами.
— Архитекторша, та, подлая, непременно со всей своей ватагой выедет. Конечно, я ничего, мне наплевать! — соображала Фридерика Казимировна. — Но Ада с ее нервозностью! — Адочка, ангел мой, ты все свои вещицы: броши, серьги, — последние эти с большими камнями, — собери в одно место. Дай, я их уложу в мой несессер. Ведь это ценности все лучше, когда будет все в одном месте и под руками!
— А вот я их все отошлю сегодня к Лопатину! — буркнула Адель, с азартом захлопывая какой-то ящик. — Всю эту дрянь...
— Адочка, что ты это, что ты? Это будет капитальнейшей глупостью. Не смей и думать! Да, наконец, я не позволю: это капитал, это твои средства, и я, как мать... Вздор! — заволновалась Фридерика Казимировна.
— Ты что это писала Лопатину?
— А чтобы он хоть перед самым отъездом зашел показать свои ясные очи, лупоглазый болван! Этого, наконец, требует простое чувство приличия! — кипятилась мадам Брозе.
— Зачем? Вот еще очень нужно!
— А за тем, что ты ничего не понимаешь... Если б он хотя несколькими днями раньше мог освободиться из-под влияния этого негодяя, то дела наверное пошли бы совсем иначе!
— Все к лучшему! — задумчиво говорила Адель.
— Ничего не к лучшему. Сто раз можно ссориться, и не из-за таких пустяков, и потом сходиться еще прочнее!
— Бррр! — замотала головкой Адель.
— Нечего отфыркиваться! — со всего размаха уселась Фридерика Казимировна на диван, так что даже пружины крякнули, и отлетела одна из обойных пуговиц.
Минут через десять прерванная укладка возобновилась.
— Ну, а этот парюр, я думаю, сюда не влезет! — говорила мадам Брозе уже совершенно успокоившимся голосом.
***
— Сегодня утром я справочку навел-с; оказалось, что уже сделано распоряжение! — говорил Иван Демьянович, присаживаясь на стул рядом с креслом Ивана Илларионовича.
— Обещал губернатор, обещал, самые деятельные меры обещал. Ну, что там?
Лопатин глубоко вздохнул и принялся пухлыми пальцами отстегивать нижние пуговицы своего белого жилета.
— Укладываются, слава тебе, Создателю!.. Ну-с, батюшка, Иван Илларионович, как мы теперь с обоими этими делами пришли, так сказать, к благополучному окончанию...
— Не совсем еще, — ох, не совсем!
— В аккурат! Молодцов так теперь подловили, что им ни взад, ни вперед! Это верно-с, то есть, вот как! (Катушкин растопырил правую пятерню, поиграл в воздухе пальцами чуть не перед самым носом Лопатина и сжал их в кулак). Сегодня ночью (он понизил голос) облаву учинят и сцапают... Общий обыск — и пошла писать. Теперь уж не увернутся, где уж!.. Так мне и сам господин полковник сказывал. Насчет же иного прочего, так верьте вы мне, Иван Илларионович, не стоит дело выеденного яйца, потому этого добра завсегда достаточно... И ежели у человека капитал, так только свистнуть...
— Тяжело!
Лопатин покачал головой и потупился.
— Попривыкнете, это скоро. И ежели при подходящем развлечении...
— У ляхов что делается?
— Все в должном порядке и на своих местах. Платежи в конторе приостановили; Станислав Матвеевич будто поспокойнее стали, а этот что-то сильно мечется!
— Что так?
— Предчувствие, надо полагать. Со мной вчера на Большой улице встретился — свернул через кирпичный завод в переулок, — хе, хе, избегает!
— Слушай, Иван Демьянович, ты, брат, не сердись... что же, это ничего, это даже следует... и притом я только на самое малое время... Минута-другая, не больше...
Иван Илларионович беспокойно задвигался в креслах и как-то странно, почти просительно взглянул на своего собеседника.
— Это насчет чего-с?
— Когда они поедут — ты говорил, завтра, чуть свет, — так, кажется?
— Так-с!
— Ну, так вот, видишь ли, мы с тобой тоже... Я только посмотрю на нее, пожелаю ей... Ты ведь понимаешь? Нельзя же так сразу вырвать из сердца... и это...
Иван Илларионович нащупал рукой конец фулярового платка, торчавший у него из кармана, и потянул его.
— Понимаю-с. Что же, как прикажете, мне что же!
— Ну, вот, вот, ты сейчас воображаешь, что я там расчувствуюсь и... вовсе нет: этого, наконец, требует простое чувство приличия!
Иван Илларионович никак уж не предполагал, что в эту минуту, на разных половинах дома, по одному и тому же поводу произносилась одна и та же фраза.
— Верхом или шарабан прикажете?
— А как ты, брат, думаешь?
— Я полагаю, верхом будет сподручнее, потому в экипаже нам по одной дороге придется, а тут мы со стороны на дорогу выедем у русской избы. Много удобнее будет...
— Так уж ты...
— Слушаю-с, будьте покойны!
И Иван Демьянович поднялся со стула, почтительно и легонько сжав между двух ладоней протянутую ему руку.
X Арест
Вечерело уже, когда на задворки лопатинского дома прискакал казак-уралец, оставил своего маштака так, без привязи, посредине двора и прошел к флигелю, занимаемому Катушкиным.
Немало тревоги наделало появление этого всадника, и когда тот, в сопровождении самого Ивана Демьяновича, вновь показался на крыльце, уже все население лопатинскаго дома высыпало на двор и столпилось у конюшенных навесов.
— Иван Демьянович, куда это вы-с, на ночь-то глядя? — осведомился один из приказчиков, услыхав, как тот приказал седлать себе «бурого», да попроворнее, потому — спешно.
— А куда следует! — основательно ответил Иван Демьянович и, спешно застегиваясь на ходу, рысцой направился на хозяйскую половину.
— Куда это, землячок? — вкрадчиво обратился к казаку другой приказчик.
— На охоту! — ответил тот и стал копаться у подпруги своего седла.
— Это чего же-с?
— Какая такая охота?
— Шли бы спать; чего из нор повыползли! — сплюнул на сторону казак и замолчал.
А тут и Катушкин вышел на крыльцо, сел на подведенного к нему «бурого», и оба всадника выехали за ворота.
Страшная темнота царствовала кругом, такая темнота, что всякий опытный всадник предпочитает скорее довериться путеводному инстинкту своего коня, нежели своему собственному зрению. Поговорка «Хоть глаз выколи» — здесь как нельзя более уместна: в этом мраке органы зрения совершенно бесполезны. Это не тот белесоватый мрак наших ночей, в котором вы ясно различаете массы и очертания предметов, когда вы ясно видите более светлое полотно дороги под ногами и можете безошибочно определить место, где находитесь. Здесь не то. Густой, тяжелый мрак надвигается со всех сторон; он давит вас, он словно отделяет вас от всего остального, и вы ощущаете неприятное, жуткое чувство одиночества.
Все ваше внимание сосредоточивается только на одном звездообразном кружке света под вашим фонарем. В черте этого света каждая мелочь, камушек, черепок, след конского копыта, брошенный окурок сигары, — все получает значение. Вне же этого ограниченного пространства все исчезает, поглощенное мраком ночи. Вы не видите даже черты, отделяющей горизонт; даже самые звезды, неподвижно висящие в пространстве, не дают вокруг себя мерцающих лучей, словно на черное сукно нашитые бляхи.
Минут через двадцать всадники выбрались из европейской части города; это было заметно уже по тому, что окончились прямые, ровные линии шоссе, и кони поминутно начали вязнуть в грязи и спотыкаться, пробираясь по узким, кривым переулкам «кокандского» предместья.
Несмотря на довольно позднее время, по саклям кое-где виднелись огни, и слышались голоса. Откуда-то понесло гарью, падалью потянуло от мясных лавок, притаившихся у самой полуразрушенной стены прежней крепости.
В одной из сакель, более обширных, в которой, вопреки туземному обычаю, были проделаны на улицу окна, заклеенные промасленной бумагой, собралось довольно многочисленное общество. Судя по форме силуэтов, поминутно рисовавшихся на грязно-матовом фоне бумаги, нетрудно было догадаться, что большинство посетителей были туземцы.
Вот массивная чалма загородила собой почти весь четырехугольник окна, вот мелькнули рога оригинальной киргизской войлочной шапки, вот суетливо движутся две кругленькие, словно обточенные, верхушки столбиков тюбетейки. Пьяный говор и крик, унылые ноты монотонной туземной песни , дикое завывание совершенно опьяневшего, пришедшего в экстаз индийца, русская характерная брань, комично произнесенная, очевидно, нерусским языком, и жалобное, слезливое всхлипывание какого-то, совсем почти голого байгуша-сарта — несутся из отворенных настежь дверей, во все дыры прорванной оконной бумаги.
Затхлый запах чего-то гнилого, едкая, спиртуозная вонь кабака так и шибают в нос. «Там-там-там», — глухо гудит сторожевой бубен больше от скуки развлекающегося сторожа.
Большой бумажный фонарь тусклым пятном виднелся под черной аркой ворот «Кокан-Дерваз», отбрасывая на эти старые, почерневшие своды растянутые тени всадников. Проехав ворота, казак тронул своего коня вперед, Катушкин поехал за ним. Тот переулок-щель, по которому пришлось ехать, был слишком узок даже для двух всадников рядом. Металлические стремена поминутно визжали, чертя по шероховатым поверхностям стен бедных сакель «жидовского квартала».
Тихо было в уснувшем квартале мирных красильщиков.[18] Только собаки, заслышав топот коней и тихий говор всадников, вскакивали во сне и выли, глядя с крыш на ночных путешественников. Кучки клеверных снопов, привезенных еще с вечера, уборка которых на крыши отложена была до утра, поминутно загораживали дорогу. Грязные струи воды, прорвавшиеся из какого-то внутреннего «хяуза» (пруда), бежали самой серединой переулка, плескаясь по камням мостовой и пенясь в трещинах. От этой струи распространялся в ночном воздухе едкий запах кубовой краски и сандала.
— Эка дорога! — шептал Иван Демьянович.
— Скоро лучше пойдет, — ободрял его казак, — а там в сады выедем. Их высокоблагородие, чай, уж на повороте дожидаются!
— Погоняй, братец, погоняй! — торопил казака Катушкин.
Выбрались, наконец, на относительный простор; проехали через двор мечети, на которой, под окружающим четырехугольное здание мечети навесом, прямо на голых циновках спали седобородые муллы; чуть не задавили индийца Тэрли, растянувшегося поперек улицы, и выехали на обрывистый берег Бо-су. Шум быстробегущего арыка и глухой плеск мельничных колес доносились откуда-то снизу, из этих сырых, беловатых волн медленно поднимающегося тумана.
Прямо виднелось что-то черное, приземистое, бесконечно расползающееся вправо и влево. Там кое-где мигали желтоватые и белые точки фонарей и слышны были периодические удары сторожевых бубнов и сухой звук трещоток. То был большой ташкентский базар. Отсюда всадники свернули направо, спустились под гору, и скоро прохладный, свежий воздух, сменивший вонючую атмосферу города, дал знать, что близки были сады, широким кольцом окаймляющие все городские предместья.
Красноватая точка вдали то вспыхивала, то погасала. Весело заржал казачий маштак, из темноты послышалось ответное ржание.
— Вон полковник, сигарку курит! — сообщил казак.
Всадники погнали лошадей полной рысью.
— Очень благодарен, ваше высокоблагородие, очень премного благодарен, что уведомили! — говорил через минуту Катушкин, усердно раскланиваясь по тому направлению, где мигала полковничья сигара.
— Вы просили, и притом генерал приказал. Вы ему таких чудес наговорили об этом Бржизицком, что он боится, как бы не прозевали его и на этот раз, тем более, что он или извещен кем-то об аресте, или догадывается! — цедил сквозь зубы офицер.
— Оборони Господь!
— Я полагаю, весь двор окружить, у калиток поставить часовых и потом сразу: одни во флигель, а другие прямо к Перловичу! — говорил кто-то еще в темноте.
— То есть, верите, просто сквозь пальцы несколько раз прорывался... Ну, ты, черт!.. — чуть не оборвался вместе с лошадью Иван Демьянович в какую-то яму у самой дороги.
— Не вывернется!
— Очень уж прекрасно, что мы объездной дорогой!
— Вы находите?
— Как же-с: таперича мы прямо от садов, а человек пяток со стороны большого тракта зашлем, — куда им деться?.. Эх, важно!..
Катушкин даже на седле заерзал от подступающего нетерпеливого волнения.
— В «Большом форте» тот раз... — начал было он.
— Тс! — предостерег один из передних.
Невдалеке показались два светлых четырехугольника, на которых можно было различить темные переплеты окон. Внизу слышно было, как тяжело сопели и чавкали дремавшие верблюды; собака рычала в стороне. Вдоль какой-то стены медленно двигался бумажный фонарь, то скрываясь на мгновение за толстыми стволами тополей, то появляясь снова.
— Это мы вот много выше стоим теперь, нам через стену и видно, — объяснял Катушкин. — Те два окна, что светятся, его кабинет и есть. Не спит еще, значит… А правее, вон чуть трубы видны, то, «приказчичья»; тут сейчас и Бржизицкого квартира, нам ее теперь нельзя за стеной видеть!
— Так не уйдут! — улыбнулся полковник, осторожно слезая с лошади.
— Пошли Господи... — шептал Иван Демьянович.
Человека три казаков остались при лошадях, остальные, подхватив свои шашки, чтобы не звякали даром, потихоньку, ощупью, спотыкаясь и чуть не падая, отправились оцеплять загородную дачу Станислава Матвеевича.
***
— Стойте, ребятушки, стойте, голубчики мои, тут вот калиточка должна быть, я помню! — суетливо говорил Иван Демьянович, ощупывая руками вдоль стены и путаясь ногами в высоком, сухом бурьяне, выросшем у самого фундамента. — Есть, нашел; заперта никак!
И он легонько потрогал железную скобу.
— Становись, Илья, к самой стене, я на тебя, а там через стену махну, — шептал один из казаков.
— Оборвешься!
— Да понапереться плечом — и так отскочить... а ну-ка!.. Ну еще!..
— Чу!..
Чьи-то шаги послышались за калиткой и остановились.
— Тс! — даже присел на месте Катушкин, и сердце у него забилось так сильно, так сильно, что вот-вот готово было выпрыгнуть из-под жилета; так, по крайней мере, казалось самому Ивану Демьяновичу.
— Зашли ли наши с той-то стороны? — сомневался кто-то.
— Эвось, сколько времени!
— Кто там? — окликнул голос со двора.
— Ну, так как же? — недоумевали казаки.
— Отворяй! — решительно произнес Катушкин.
— Да кто такие?
— Отворяй скорее... дело есть...
— Какое такое дело по ночам; приходите завтра!
— Навались разом! Ну, все вместе. У-ух!
— Караул!
— Бегом, братцы, за мной бегом! — перелез Иван Демьянович через сорванную вместе с косяками калитку. — А, ты драться! Сюда, сюда! Вот крылечко; за окнами смотри, чтобы не выскочили. Полковник сам где?
Разбуженные неожиданным шумом, приказчики Перловича и служившие у него туземные работники поднимались на ноги и положительно не понимали, что такое происходит перед их заспанными глазами.
А между тем Катушкин, хорошо зная топографию всех дачных построек, ломился уж в двери квартиры Юлия Адамовича.
К его крайнему удивлению, дверь оказалась незапертой и тотчас же уступила усилиям отворявшего. В комнатах было тихо и, как казалось, пусто. Неприятная догадка промелькнула в голове лопатинского поверенного. Он нащупал спички в кармане, чиркнул. И вот из мрака мало-помалу выделяются различные подробности меблировки, освещенные колеблющимся синеватым пламенем. Стол письменный с разбросанными в беспорядке бумагами, опрокинутый стул посреди комнаты, углы каких-то шкафов, вот кровать, застланная одеялом, даже не смятая, неприготовленная далее к спанью. Ясно, что обитателя не было дома.
«Когда он ушел: сейчас ли, давно ли?.. — пробегало в голове Ивана Демьяновича. — А ну, как и на этот раз! Да нет, не может этого быть: он здесь, должно быть, у хозяина».
— Вы, ребята, пошарьте здесь хорошенечко, ведь знаете его, каков он из себя? А я туда... я разом... не может быть!..
И он, бегом, еле переводя дух, пустился через двор к балкону, у которого все еще ярко светились окна хозяйского кабинета.
***
Ярко горела лампа на письменном столе Станислава Матвеевича, ярко и весело пылал камин, докрасна накаливая забытые в угольях щипцы, во весь рот улыбались шафранные китайцы на спущенных шторах, мягким разноцветным узором пестрели ковры на полу и диванах; мириадами металлических искр сверкало развешанное по стенам туземное оружие и сбруя, блестели полированные бока шкафов и этажерок. Все смотрело как-то празднично и уютно. Только сам хозяин составлял резкий контраст с обстановкой своего жилища.
Бледный, небритый, в смятом парусиновом пальто и с всклокоченными волосами, он то шагал из угла в угол по комнате, то садился к столу и, подперев свою пылающую голову, неподвижно уставлялся взглядом на карту, разложенную на столе и занимавшую чуть не большую его половину. Иногда карандаш, дрожа и прыгая в худых пальцах Станислава Матвеевича, чертил на этой карте какие-то, ему одному понятные заметки. По временам он судорожно стискивал себе обеими руками голову, словно силясь унять этим движением невыносимую боль, или же, откинувшись назад, на спинку кресел, обдумывал что-то и соображал, шевеля поблекшими, сухими губами, выделывая руками непонятные жесты.
— Бежать, бежать, пока еще не поздно! — произнес он, наконец, довольно ясно.
К этому решению он пришел еще вчера; он инстинктивно чувствовал, что вокруг его творится что-то недоброе.
Так же, как и Бржизицкий, он уже несколько дней метался по городу. Приятель его, один из чиновников губернаторской канцелярии, даже намекнул ему довольно ясно о серьезной опасности; сегодняшняя же записка Бржизицкого окончательно решила дело.
Весь вечер был проведен над картой. Перлович изучал маршрут своего предполагаемого бегства, соображал, обдумывал; пытливым глазом вглядывался он в эти кривые и ломаные линии, в эти красные кружочки — города и кишлаки, в эти лабиринты горных цепей; ему казалось, что он видит уже новые страны, пробирается по этим чуть заметным дорожкам. Топот погони слышится за плечами... голоса!.. Уйдет ли он, доберется ли вот хоть до этого ущелья? А там... А что же там? Пустынная, неизвестная местность, полудикий народ... лишения... Хорошо еще, если он встретится с Бржизицким, если они доберутся до английских владений. Ну, тогда еще, действительно, не все потеряно; а если... И у Перловича перед глазами начали проходить все страшные сцены плена у этих дикарей и тяжелого, безвыходного, бесконечного рабства... И припомнил он, что давно, уже несколько лет тому назад, он слышал рассказ об этой ужасной жизни, — непосредственно от человека, лично испытавшего, слышал он это.
— Как холодно... как холодно... — дрожал и стискивал стучащие зубы Станислав Матвеевич и подсаживался к самому камину, словно думая этим жаром унять нестерпимый внутренний холод.
То на него находили минуты совершенного спокойствия, даже какого-то забытья. Его клонило ко сну, в ушах стоял тихий, монотонный звон; все предметы колебались перед его глазами и застилались каким-то туманом. То вдруг его охватывало положительное бешенство, он порывисто вскакивал на ноги и, сжав кулаки, дико оглядывался, словно искал глазами, на ком бы это ему все выместить.
Его караван-сараи, его склады, начатые громадные обороты, от которых предвидятся не менее громадные барыши, все это устройство, положение, — и все это надо было бросить... Из-за чего? Из-за глупой, бессмысленной ошибки подлеца Бржизицкого...
Если бы в эту минуту «подлец Бржизицкий» явился в хозяйский кабинет, вряд ли это посещение обошлось бы ему благополучно; но он не мог явиться. Он в это время находился, может быть, уже далеко... Он вовремя позаботился о своей личной безопасности и счел даже нужным скрыть от Перловича настоящий своей след, сообщая ему в известной нам записке, что, мол, будет поджидать прибытия Станислава Матвеевича в Кашгар, если ему удастся так же благополучно пробраться через «тянь-шаньские отроги». В своем же благополучном прибытии в Кашгар Бржизицкий не сомневался.
«Сто тысяч, только сто тысяч»... — возникли в мозгу Перловича новые представления. Это все, что он мог увезти с собой. Если б знал раньше, если бы он мог мало-помалу обратить все это в деньги, в такой вид, что вот, мол, взял все, уложил в маленький чемоданчик, привязал за седлом. И он остановился перед своим несгораемым шкафом, отразившим на металлическом щите половину его белой фигуры, — остановился и пристально стал вглядываться в эти львиные бронзовые морды, закрывающие отверстия бесчисленных замков и засовов.
— Ну, вот, не может быть... вздор!.. — произнес он довольно спокойно, хотел еще что-то сказать, да горло не пропустило звука, конвульсивно сжавшись, задерживая ускоренное дыхание... Только похолодевшие пальцы, словно машинально, протянулись к личинкам и стали ощупывать их, быстро перебегая с одной на другую.
Вдруг он засуетился, непонятная энергия охватила все существо. Хитро воткнутый ключ завизжал в первом замке — не подается... к болтам — они не заперты, они только наложены для вида. Сильно потянул Станислав Матвеевич за скобы; тихо, без шума отворилась тяжелая дверца, и перед глазами Перловича, освещенные светом камина, показались пустые металлические полки.
Его предупредили.
Какой-то глухой шум несся со двора; за дверью, по голым плитам пола, зашлепали босые ноги Шарипа... Говор... Звякнуло что-то. За окном шелестят кусты, лошадь заржала неподалеку.
— Ну, пусти, дурак! — спокойно говорил за дверью чей-то баритон.
— Погоди, нельзя так; тюра докладывать велел. Не ходи! — горячился Шарип, загораживая дорогу.
Слышится легкая возня.
— Я очень рад, господин Перлович, что застал вас еще на ногах и совершенно одетым — это сократит церемонию! — любезно раскланиваясь, говорил полковник, входя в распахнувшуюся дверь.
Из-за его плеч виднелись еще две официальные фуражки; между ними протискивалась вперед недоумевающая, заспанная физиономия старика Шарипа.
— Я также очень рад. Благодарю, от души благодарю! — сжимал руку полковника Станислав Матвеевич.
Тот невольно обернулся, чтобы видеть, на кого это так пристально уставился Перлович.
— Итак, господа, садитесь, милости просим! — Перлович говорил ровным, беззвучным голосом, говорил куда-то в пространство, ни к кому особенно не обращаясь, и все сильнее сжимал руку полковника. — Садитесь! Мы собрались здесь, чтоб обсудить, главным образом, цели нашего предприятия... Ах, да... место для дам... я вообще немного стесняюсь в дамском обществе... дамы — женщины, они испугали нашего верблюда... Только двое... посреди Кашгара... сто тысяч за седлом... Шарип! Чаю и вина, и позаботься об лошадях господина губернатора!
— Вы, кажется, больны? — мягко заговорил офицер. — Успокойтесь немного. Мы должны сейчас ехать вместе с вами. Берите вашу фуражку, вот она!
— Pardon! Я, кажется, наступил на ваш шлейф?
— Да нет, куда ему уйти? Это пустяки, — слышался все ближе и ближе голос Ивана Демьяновича. — Пустяки... сегодня еще утром в городе видели. Вероятно, где-нибудь спрятался. По сараям поискать надо, а то по хозяйским комнатам. Пропустите-ка, ребята, раздайся! А сам-то налицо?
И Катушкин, запыхавшийся, взволнованный, протискался вперед, сквозь толпу, собравшуюся у дверей кабинета Станислава Матвеевича.
Перлович выпустил руку полковника и, заложив руки в карманы своих панталон, стал медленно прохаживаться по комнате, осторожно переступая через более яркие пятна коврового узора. Его окаменевшее с первой минуты лицо стало как-то странно улыбаться. Что-то идиотическое, животное начало проявляться в этих искаженных чертах.
Мозг его не выдержал и на этот раз изменил своему хозяину.
***
Решено было не употреблять силы и дать знать в городе обо всем случившемся. К кабинету Перловича приставили часовых; из комнаты вынесли все, что могло бы служить оружием. Казаки ходили на цыпочках, говорили шепотом; им жутко было прислушиваться к нелепой, бессвязной болтовне несчастного.
— Вы думаете, притворяется? — спрашивал полковник Катушкина, выйдя с ним в соседнюю комнату.
— А кто его знает, ваше высокоблагородие, будто как и взаправду, а то пожалуй, что... Да вот доктора утром подъедут, те порешат. А то скверно, что самого настоящего-то волка из рук выпустили!
И Катушкин подал «его высокоблагородию» найденную им на столе Перловича записку Бржизицкого.
По прочтении этого клочка бумаги продолжать дальнейшие поиски и ворочать вверх дном все на дачах Перловича было совершенно бесполезно.
XI «Коляска Ивана Илларионовича теперь свободна»
Как ни хлопотала Фридерика Казимировна, чтобы выбраться пораньше из города, пока эти мерзавцы не начали таскаться по улицам, но когда из ворот лопатинского дома выехал знакомый нам дормез, солнце поднялось уже над проснувшимся Ташкентом, и на его базарных площадях и улицах с каждой минутой все разгоралось и разгоралось обыденное движение.
Глухо гремели по шоссе колеса громадного экипажа, навьюченного и нагруженного сундуками, баулами и чемоданами. Зеленоватые шторки дормеза были спущены, и только с одной стороны, с той, где находилась Фридерика Казимировна, по временам сквозила небольшая щелка, и виднелись толстые, пухлые пальцы, унизанные кольцами и перстнями.
Появление на улицах этого экипажа, единственного во всем Ташкенте по своим размерам, выкрикивание ямщиков, особенно передового киргизенка, просто бесновавшегося на своем седле, не могли не возбудить любопытства всех, кто только ни встречался на улицах. Прохожие и проезжие останавливались, переглядывались, делая различные замечания и догадки. А тут еще, на одном из поворотов, дорога оказалась загорожена арбами с клевером; пришлось остановиться на несколько минут.,.
— Как ты там ни говори, Адочка, как ни рассуждай, а мне все-таки жаль его! — с чувством говорила маменька. — Как-то грустно и тяжело становится на душе, как подумаешь... Ну, чего смотрят, чего глазеют, болваны? Ишь, пальцами показывают! Вот уж не понимаю этого провинциального любопытства!
А красавица-дочь ничего не отвечала на замечания своей мамаши. Она была немного утомлена бессонной ночью, проведенной в сборах и укладках, и, откинувшись в угол кареты, дремала под эту глухую, ровную стукотню колес и дробный перебой копыт почтового шестерика.
Едва они выбрались из города, как им навстречу, из-за триумфальной арки, в облаках пыли, пронеслась открытая коляска, — спереди казаки, с боков казаки, сзади казаки. В этой коляске сидел Станислав Матвеевич и с ним рядом знакомый нам штаб-офицер. На передней скамеечке, придерживаясь за скобы козел, торчала тщедушная фигурка какого-то жидообразного брюнета с докторскими погонами на плечах.
Перлович тупым, безжизненным взглядом уставился в лицо своего vis-a-vis и ощупью пересчитывал пуговицы на докторском кителе; полковник раскинулся в коляске «à lа Napoléon» и, вытянув бесцеремонно ноги, с сознанием необыкновенной важности своего поста, поглядывал то искоса на арестованного, то вопросительно на доктора, то внушительно на трясущихся и подпрыгивающих казаков сборной сотни.
— Сто тысяч одна, сто тысяч другая, сто тысяч третья, — бормотал Станислав Матвеевич, — сто тысяч четвертая, сто тысяч пятая...
— Однако, черт возьми! И чаю хочется, и закусить хочется, и спать до смерти хочется. Всю ночь напролет провозились! — мечтал полковник о предстоящем отдыхе, по исполнении возложенного на него поручения.
— Кто же мне теперь за визит заплатит: из следственной ли комиссии, или это уже Лопатина дело? Терпеть не могу вот эдаких неопределенностей! — недоумевал доктор, все крепче и крепче придерживаясь за скобы, так уж его поддавало и подкидывало на неудобном сиденье.
Наши путешественницы не видели этого поезда. Едва только заслышан был вдали стук колес, Фридерика Казимировна поспешила опустить шторку. Она все еще боялась «враждебной демонстрации».
— Мне, наконец, душно, мама! Долго ты еще будешь закупориваться? — словно проснулась Адель.
— Теперь, я думаю, можно: кажется, мы уже довольно далеко отъехали! — сообразила Фридерика Казимировна.
Раскупорились.
Ярко-зеленые стены садов потянулись по обеим сторонам экипажа. Бесконечно высокие тополи и развесистые карагачи покрывали сплошной тенью всю дорогу, еще не успевшую просохнуть от ночной росы; из-за гребней глиняных стен выглядывали туземные детские головки, смуглые, в красных шапочках, сверкающие глазенками и ярко белыми зубами. Арбы и верблюды, попадающиеся на встречу, сворачивали и жались к сторонам; стаи розовых скворцов с шумом перелетали с одной группы деревьев на другую. Дормез начал потихоньку спускаться к Бо-су, подтормозив колеса, и на том берегу, в массах темной зелени, показался знакомый уже нам, изукрашенный мелкой резьбой фасад «русской избы».
Два всадника, довольно тучных по очертаниям своих фигур, распустив поводья, как-то сутуловато сидя на своих седлах, виднелись на повороте или, правильнее, над поворотом, потому что они находились на довольно высоком обрыве, у подошвы которого пролегала самая дорога. Лошадь под одним из всадников, развесив уши, мотала головой и отфыркивалась от какого-то, слишком уж назойливого овода; под другим — спокойно обкусывала себе молодые, желтоватые побеги ближайшего куста и забиралась все дальше и дальше в чащу, так что всадник принужден был потянуть, наконец, за повод и этим хотя сколько-нибудь унять расходившиеся порывы утреннего аппетита своей лошади.
— Адочка! Смотри, смотри скорее! — заволновалась Фридерика Казимировпа.
— Что такое? Чего ты это так?
— Лопатин! Смотри, вон стоит! И с ним этот... Что, что, что я тебе говорила? Видишь теперь, как этот человек умеет чувствовать. Разве остановиться на минуту?
— Это его дело, а не наше!
— Ну, отчего же? Эй, послушай! Стой! Постой, придержи лошадей! — крикнула ямщику madame Брозе, торопясь спустить стекло переднего окна.
Дормез остановился: Лопатин и Катушкин начали спускаться с обрыва.
— О, как вы добры, Иван Илларионович, как вы великодушны! — запела Фридерика Казимировна.
Иван Илларионович раскрыл было рот, хотел было сказать что-то, — и вдруг учащенно заморгал глазами и поспешил вытереть себе нос перчаткой.
— Что ж! Так, значит, Господу Богу угодно! — поспешил ему на помощь Иван Демьянович. — И все это к общему благополучию. Мы, значит, сами по себе, вы тоже ни в чем в обиде не состоите. Всякого вам счастья и благополучия во всех начинаниях; главное — пошли, Господи, здоровья! Трогай, братец! — закончил он свою речь, кивнув ямщику.
— Стой! Стой! Стой! — послышалось внутри дормеза, но этот голос был покрыт грохотом экипажа, в карьер подхваченного шестериком на крутой подъем противоположной стороны оврага.
Когда экипаж был на самом уже верху, то на мгновение еще раз показались обе верховые фигуры.
Иван Илларионович подсмаркивал носом, — уж очень щекотали там бежавшие по его оплывшему лицу слезинки, — и махал своей фуражкой. Фридерика Казимировна поспешила поднести платок к глазам. Адель откинулась назад, в самый угол дормеза, и начала отыскивать в своем кармане коробочку с мятными лепешками. Она вдруг почувствовала припадок тошноты. Вероятно, опять какие-нибудь воспоминания произвели это неприятное действие.
***
И в тот же день, после обеда, Иван Илларионович получил маленькую треугольную записочку, от которой за несколько шагов пахло ванилью и розами.
«Что такое?» — подумал он, понюхал, присмотрелся к почерку и распечатал, немало повозившись-таки с хитро сложенным конвертом.
«Добрейший и любезнейший, Иван Илларионович!
Мне очень приятно было бы покататься сегодня в вашей прелестной коляске; я немножко прихворнула, и доктор запретил мне на некоторое время прогулку верхом.
Ваша коляска, кажется, теперь свободна, и я вполне уверена, что вы не затруднитесь исполнить эту маленькую просьбу.
Все та же М.Л.»
— Видишь, братец? — протянул Лопатин эту записочку Ивану Демьяновичу.
— Вижу-с! — улыбнулся Иван Демьянович.
— Понимаешь, к чему дело идет?
— Как не понять!
— Послать, что ли?
— Чего-с?
— Коляску-то?
— Что же, поразвлекитесь немножко, оно очень вам полезно будет в теперешнем вашем душевном состоянии!
— Ну да, да, я и сам так думаю!
— Ежели уж нельзя обойтись, то, во всяком случае, эта статья, по нашему коммерческому делу, много подходящее будет!
Лопатин сделал распоряжение приготовить к вечеру его щегольскую коляску.
XII Каракольские рудники
Дело Бурченко после описанных нами событий не клеилось. Только малороссийская настойчивость и упрямство удерживали его на месте работ. Не раз уже ему приходила в голову идея либо бросить дело, либо начать хлопотать об официальной поддержке; с нескрываемой грустью поглядывал на все эти груды взломанного камня, на эти холмы вырытой земли, на эти зияющие отверстия шахт, из которых белели крестообразные брусья скреп и подпорок.
«А что, разве и в самом деле? — думал он, и тут же сам разбивал вдребезги возникшее в его голове предположение. — Эх, да что толку. Ну, пришлют казенного инженера, пришлют роту пехоты, казаков полсотни. Укрепление, пожалуй, еще возведут, какое ни на есть! Этих-то, настоящих работников, спугнут с насиженных мест, тогда из кишлаков горных уже никто ни ногой, разве в базарный день, раз в неделю».
Ледоколов из кожи лез, лишь бы усердием и своим знанием хотя как-нибудь поддержать испорченное им дело. Он положительно надрывался над работами и рысканьем для вербовки вольных рабочих.
А этих-то вольных рабочих с каждым днем становилось все менее и менее. Они уходили часто так, сами по себе, не предупредив «русских уста» (мастеров), не сказав даже слова, и уносили с собой свои инструменты, а подчас даже и хозяйские.
Прошла еще неделя — и остались только те, кто положительно не знал, где бы ему чего-нибудь поесть, — остались единственно только потому, что каждый день, в большом котле, вделанном в камни у самого обрыва Каракол, варилось несколько фунтов рису, и торчала какая-нибудь верблюжья или лошадиная кость, — все, чем только мог кормить их Бурченко, кошелек которого тощал в наводящей уныние прогрессии.
К чести «русских уста» надо отнести то обстоятельство, что они не позволяли себе лично иметь другой стол, кроме общего котла; жидкий кирпичный чай по утрам — это вся роскошь, которую они допускали в отношении своих желудков.
— Скверно! — вздыхал Бурченко.
— Ну, еще, может быть, справимся. Придет неожиданный перелом, дело обернется к лучшему! — бравировал, впрочем, весьма унылым тоном, Ледоколов. — Случается, что вот, думаешь, совсем плохо, а...
— Что же, с небес, что ли, свалится? Поверьте, если и свалится что-нибудь сверху, так разве вон тот кряж. Его что-то уж очень подмывает за последнее время. Я вот ходил смотреть после той бури: сомнительно, шибко сомнительно!
— Обвал нас, во всяком случае, не заденет! — и тут попытался сунуться с утешением Ледоколов.
— Вчера еще четверо ушли, сегодня в ночь двое... Осталось...
— Девять человек осталось, целых девять человек. Это чего-нибудь да стоит!
— Ничего-таки не стоит!
И не мог не согласиться Ледоколов, что оставшиеся девять человек ленивых бродяг, работающих только из-за того, чтобы их подпустили к котлу, действительно ничего не стоят при деле, где еще полторы недели тому назад двести кетменей и лопат поднимали стукотню на всю каракольскую лощину.
***
Сегодня рано утром подошел к Бурченко один из работников, последний таш-огырец, и, опустив кетмень на землю, сказал:
— Ты, брат, уходи лучше!
— Что так? — приподнялся на локоть Бурченко.
— Видел, ночью трое наших с той стороны приходили?
— Ну?
— Так вот они сказали нам такое слово, что вам уходить надо — тебе и тому бородатому. Куда это он поехал?
— Неподалеку; что же они тебе сказали такого?
— Не мне одному, все слышали. Ты говоришь, неподалеку, куда же именно, в какую сторону? — И работник поглядел вниз по Караколу, где между двумя темно-синими скалами виднелась белая зубчатая полоса далеких ледников. — Как бы он не попался! Если теперь он там... гм! — начал он соображать вслух и чесать своими черными, заскорузлыми пальцами широкий, потный затылок.
— Да ты говори толком, что обиняками закидываешь? — поднялся совсем на ноги Бурченко, заинтересованный соображениями таш-огырца.
— Назар-барантач идет со своими шайками; человек сто будет, вот что! Может, сегодня к ночи нашими местами проходить будет, а может, еще... Гляди, вон едет!
Даже побледнел малоросс от такой неожиданности и при слове «едет» схватился за оружие.
— Не Назар, погоди еще! — усмехнулся работник. — Твой тамыр едет; вон он с горы, за красными камнями, спускается!
И действительно, вдали, по тропе, вьющейся между тёмно-красными грудами железистой почвы, белел широкий плащ Ледоколова, во всю прыть коня спускающегося к ручью.
В безопасную минуту, когда никто не гонится сзади, когда не слышно за спиной топота вражеского коня, никто бы не рискнул так галопировать по этой опасной дороге.
Бурченко невольно почуял близость тревоги. Даже Карим взялся за седло и покосился в ту сторону, где стоял на приколе серый конь — подарок муллы Аллаяра.
— Беда, беда! — еще издали кричал Ледоколов. — Назаркины люди Таш-Огыр прошли; я сам четырех «казыл-чапан» (красный кафтан) видел, — чуть было не попался!
Взмылился конь Ледоколова, и передние ноги дрожали от скачки по горным дорогам.
— А что они нам сделают: взять у нас нечего! — пожал плечами Бурченко.
— Если бы все рабочие, что прежде работали, налицо состояли, мы бы не побоялись назаркиной сволочи, а теперь…
— А теперь мы-то уйдем, а вас заберут всех троих и погонят туда, откуда уже не вывернетесь! — оскалил зубы таш-огырец, сплюнул табачную жвачку и пошел себе, не простившись, по той самой тропинке, на которой еще виднелись кованые следы ледоколовской лошади.
Не прошло и четверти часа, как еще гонец прискакал на каракольские рудники. Это был посланный от муллы Аллаяра из Таш-Огыра. Очень лаконическую весть принес он — только два слова было в этой вести.
«Уходите скорее», — вот все, что прислал им сказать Аллаяр, и в доказательство того, что это именно идет от таш-огырского старшины, гонец вынул из кожаного гамана маленькую сердцеобразную печать, которую и оттиснул сейчас же на холодном кусочке бараньего сала.
Печать оказалась знакомой, как Бурченко, так и его товарищу, и сомневаться не представлялось никакой возможности.
— Седлай, Карим, лошадей! — вздохнул, глубоко вздохнул малоросс и отвернулся лицом на север, чтобы не видеть того, что ему так трудно, так тяжело было оставить.
— Мясо-то не забирай с собой: нам оставь! — окружили его оставшиеся рабочие, оборванные, полуголые, с худощавыми, скуластыми лицами какого-то буроватого, землистого цвета.
— А куда мне его? Берите, жрите на здоровье!
И Бурченко указал на распяленную на шестах красную тушу вчера только зарезанного верблюда.
Дня три тому назад, в десяти верстах от рудников, проходил караван из Андижана. Один из верблюдов оступился, рухнул вниз, сажень на пять высоты, и переломал себе ноги. Издыхающее животное куплено было малороссом за бесценок, и его мясо было последним подарком от «русских уста» несчастным, проголодавшимся горцам-бездомникам.
Скоро собрался печальный караван из трех всадников и одного вьючного верблюда и потянулся к северу, уходя от «кызыл-чапанов» страшного Назара-Кула.
И в этот же день, только что солнце спустилось к горам, и понизу начали темнеть глубокие лощины, на Каракол нагрянули «кызыл-чапаны».
С любопытством дикарей бродили джигиты-барантачи по рудникам, осматривали все, руками трогали для большей наглядности и никак не решались спуститься вниз по лестницам в эти черные, зияющие провалы, откуда, казалось им, вот-вот, в массах красного огня, вылетит разная, напущенная гяурами, чертовщина. Наивных разбойников особенно интересовал и смущал забытый впопыхах Ледоколовым испорченный барометр-анероид.
— Не тронь! — остерегал один кызыл-чапан другого. — Как хватит во все стороны — будешь тогда знать! Брось его на землю!
— Шайтанлык (чертовщина), одно слово; рук не погань, брось!
А на другом конце, на выезде, собралась густая толпа около двух смельчаков-работников, рискнувших остаться на месте и выжидать прибытия шайки.
— Так, что ты говоришь, чего они здесь искали, под землей-то? — спрашивала стальная кольчуга, придерживая одного из работников за ворот — для верности, должно быть.
— Как же это вы, собаки поганые, уйти им дали, а?.. — горячилась рогатая войлочная шапка, тряся за ворот другого.
— А поди, тронь их, как же! — оправдывался работник. — Мы было сунулись к ним, а они только плюнули в нашу сторону, — мы и попадали на землю. Ну, кто-то ноги так и подкосил... Не попусти мне Аллах никогда больше есть баранины!
— Разве пойдешь против самого шайтана? А они его родные дети! — собирался в свое оправдание врать другой.
И барантачи убедились, что, действительно, против самого шайтана ничего не поделаешь. Одно только удивляло их: отчего эти шайтановы дети от них удрали, если им стоит плюнуть, чтобы подкосились вражеские ноги?
Впрочем, этот непонятный страх тешил самолюбие барантачей и они не тревожили больше оставшихся на месте работников, изъявивших желание на другой день идти вместе со всей шайкой.
***
А через неделю после этого события тревожные слухи с быстротой электрической искры разнеслись по всему Ташкенту и его окрестностям; говорили, что в Манкенте ночью сделано нападение на почтовую станцию, будто бы зарезан там проезжавший какой-то казачий офицер, уведены в плен двое русских, служивших при этой станции. На Черчике, во время переправы, чуть было не попался в руки барантачам даже сам уездный начальник. В другом кишлаке порезали русских сборщиков податей; разбойники прошли даже дальше и появились на большом почтовом тракте, у станции Апыр. Слухи эти, мало-помалу, оказывались справедливыми.
Высланы были немедленно небольшие конные отряды для противодействия разбойникам. В городе засуетились.
Новый слух пробежал по Ташкенту и возбудил еще более толков и говору: мадам Брозе и ее красавица-дочь не избегли рук назаркиных кызыл-чапанов... Передавались даже все мельчайшие подробности этого ужасного события. Словно кто-нибудь был на месте происшествия и видел своими глазами разыгравшуюся драму.
Как громовым ударом, поражен был Иван Илларионович этой вестью; он сразу даже не понял, не сообразил, в чем дело, и несколько минут сидел, словно ошалелый, поводя во все стороны бессмысленными глазами. И вот на этих глазах заблистало что-то, налилось в крупные капли, потекло по щекам...
— Что же убиваться изволите, Иван Илларионович; разве это от вас? Воля Божья, значит! — сунулся было с утешением Катушкин.
— Загубил я ее, загубил! — зарыдал Лопатин и припал лицом на шитую шелками диванную подушку.
И — странная случайность! — от этой подушки, от вышитого на ней букета китайских роз и фантастических лилий пахнуло на него запахом резеды — преимущественными духами хорошенькой архитекторши.
XIII Это она
— Вон там, внизу, давно ли ехали, часа два не больше, тепло так было, славно, а здесь... бррр!
И Бурченко передернул плечами под своим плащом из верблюжьего сукна и затискал плотнее полы между седлом и коленями, чтобы не так продувал снизу сыроватый, пронизывающий горный ветер.
— Это только пока за тот уступ переберемся, а там опять будет затишье... Однако, черт возьми, действительно прохватывает!
И Ледоколов тоже начал поправлять свой плащ и башлык, приостановив лошадь и повернув ее спиной к ветру, так что пушистый хвост его коня путался между задних ног и хлестал по брюху.
— Закурили?
— Не могу сладить: все тухнут... Фу, ты, проклятый ветер!
— Постойте, у меня, кажется, удачнее дело идет. А, готово! Хотите?
— Благодарю. Ну, однако, надо погонять... Что у вас, хромает никак?
— Кажется, засекся немного. Ну, не бойсь, чего ушами прядешь!
И приятели подбавили ходу, чтобы хотя к ночи успеть пройти за перевал, где они ожидали найти относительное затишье.
***
Как ни крепился Бурченко, как ни представлял себе, что дело их не выгорело, что его надо бросить, что самое лучшее — и не возвращаться более «на погорелое место», как шутливо сам же он называл преждевременно скончавшиеся каракольские рудники, — однако, не выдержал и, тронув Ледоколова за плечо, произнес:
— А что, не съездить ли нам?
— Куда?
— Гм, куда! Проведать, посмотреть, что там и как; может, завалили их эти казалы-то, а может быть, и все в порядке!
— А попадемся?
— Мы осторожно: ночью, что ли... два всадника всегда могут так пробраться, что никому и в глаза не бросятся. Вот раз мне случилось тоже вот так, вдвоем: поехали мы — я да еще один топограф такой неважный...
И Бурченко для примера привел один из бесчисленных эпизодов своего шатанья по горам и долинам.
— Да что же, поедем!
— Знаете, может быть, в Таш-Огыр проехать можно. Поговорю опять с приятелем Аллаяром, — кто знает, народ ведь так думает: сегодня одно, а завтра — другое. Больше, откуда ветер дует... Да вы не улыбайтесь: случаются такие неожиданные вещи!
А Ледоколов еще шире улыбнулся и готов был, что называется, фыркнуть, потому что вспомнил, как дня три тому назад совершенно в том же духе утешал своего приятеля, уверяя его, что всегда может случиться что-нибудь такое непредвиденное, и прочая, и прочая.
Велели Каримке оседлать своих лошадей, забрали у маркитанта провизии дня на четыре, не больше, сели и поехали, никому в укреплении не сообщив о цели своей поездки.
Прислал уездный начальник казака спросить, куда это господа частные инженеры собираются ехать? Он видел из окна своей квартиры, как Бурченко приторачивал к седлу походные чемоданчики.
— Так, прогуляться! — удовлетворил любопытство начальника Ледоколов.
— Неподалеку! — пояснил от себя Бурченко, садясь на лошадь. — В горы!
И вот теперь-то Ледоколов с Бурченко ехали посмотреть на свое пепелище и попытаться еще раз оживить совсем уже умершее на вид дело.
Добрых шесть часов езды осталось им до каракольского ущелья. А уже дело становилось к вечеру. Сырой, жидкий туман полосой сползал с гор и мелким дождем наискось несся навстречу путешественникам. Унылый гул ветра слышался в далеких ущельях. Все небо затянуло сизыми, тяжелыми тучами. Горные орлы-ягнятники забились в свои расщелины, где чернелись их косматые гнезда, усеянные кругом белеющими костями козлят и горных куропаток. Даже архары, и те не виднелись больше на вершинах торчащих особняком скал, а попрятались со своими самками и ягнятами в более безопасные убежища. Все предвещало сердитую непогоду, собирающуюся разыграться во всем своем грозном величии.
— Раньше, как на Караколе, негде укрыться! — решил Бурченко. — Во всяком случае, ночевать уже будем на месте.
— Доедем ли мы, как стемнеет? — сомневался Ледоколов.
— Хотя за полночь, но доедем: дорога знакомая.
И восемь кованых конских ног дружно работали по каменистой дороге под глухой, монотонный аккомпанемент усиливающегося ливня.
***
Два ярких костра пылали на самом берегу Каракола, и далеко разбегались во все стороны лучеобразные колеблющиеся полосы красного света. Десятка два лошадей, заседланных, навьюченных по-дорожному, стояли на приколах, поодаль одна от другой. У огней толпились темные фигуры, заслоняя их своими силуэтами, слышался громкий говор, выкрикивания муллы, нараспев гнусившего какие-то стихи из Корана, злобно взвизгивал статный жеребец, покрытый полосатой попоной, норовящий как бы половчей лягнуть в бок своего соседа.
Это остановилась на ночлег шайка «кызыл-чапанов», возвращавшаяся со своего удачного набега.
Удачным их набег можно считать уже потому, что, во-первых, число барантачей уменьшилось только на четыре человека, между тем как частенько случалось, что из шайки в сорок человек возвращалось только четыре, бог-весть, какими судьбами уцелевших батыра. Во-вторых, еще потому, что, кроме их верховых коней, на длинных чумбурах стояло еще с десяток благоприобретенных лошадей и штук шесть верблюдов, навьюченных почти что по самые уши. Что было в этих вьюках, накрытых от непогоды и пыли широкими узорными войлоками, Аллах ведает. Вернее спросить: чего только там не было. А главное, что составляло венец всей добычи, это были вон те темные, закутанные с головой фигуры, неподвижно, словно не живые люди, а какие-то камни, полулежащие на разостланном у огня ковре-гиляме.
Давно уже, еще с вечера, шайка пришла на Каракол и теперь только выжидала рассвета, чтобы тронуться снова в дорогу. Лошади уже выкормились и отдохнули, торбы с ячменем давно уже сняты были с их сухих, породистых морд. Джигиты тоже все уже из общего котелка вылакали, и только один красный халат, очищая посуду, чтобы привязать ее снова к седлу, усердно сбирал пальцем с краев закопченного котла побелевшие остатки застывшего сала. Кунганчики чайные тоже были убраны. Даже выспаться успели барантачи, а если и растягивала кое-кому рты конвульсивная зевота, так это было скорее влияние сырости и холода ночи, чем навязчивый позыв к сладкой, неотразимой дремоте.
***
Совершенно спокойно расположились барантачи в каракольской лощине; они и не подозревали, что за ними, из боковой расселины, зорко наблюдают четыре посторонних, враждебных глаза.
Ничком, совершенно растянувшись на мокрой земле, притаившись за вывороченными каменными глыбами, лежали Бурченко с Ледоколовым и выжидали, скоро ли уберутся «эти бродяги» и уступят им свое место. Уже с добрый час, как подползли они сюда. Толстые плащи не пропускали мокроты, и каменистая почва успела уже нагреться несколько под их телами.
Лошадей они оставили версты на полторы сзади, тоже в удобном месте; Бурченко не рискнул держать их ближе; он совершенно справедливо опасался, что они своим ржанием и фырканьем выдадут неприятелю их присутствие.
— Что же, долго это мы созерцать их будем? — шептал Ледоколов.
— Погодите, они скоро уйдут. Вон, уже собираются. Видите, приколы вытягивают. Эка, награбили, эка, награбили сколько!
— Смотрите, смотрите, пленные есть! — волновался Ледоколов. — Вон совсем почти голый, вон связанный на брюхе лежит. Вон еще, кажется! Женщины!
— Да, да. Несчастные, эк, их закутали! Это их так, за седлами, и поволокут?
— А то как же?
Кое-кто из джигитов оправили уже своих лошадей и начали садиться. У одной вьючной лошади, только что успели тронуться с места, лопнула веревка, охватывающая весь вьюк снаружи. Лошадь подбрыкнула; одеяла стеганые, полосатые, тканые, различная одежда, какая-то медная утварь — посыпалась, на землю. Послышались крики, сумятица; наконец, сладились.
— Что с вами, что с вами? — озадачился Бурченко, взглянув на фигуру своего соседа. — Да что же такое, говорите! Осторожнее, сумасшедший!
И он с силой схватил Ледоколова за шею и попытался пригнуть к земле, чтобы спрятать эту полупомешанную, бледную, дрожащую от волнения фигуру, до половины поднявшуюся над камнями-баррикадами.
Одну из пленных женщин в эту минуту сажали на седло. Два дюжих джигита подняли ее на руках, усадили верхом на круп лошади, а третий джигит, уже сидевший на этом же коне, размотал чалму и приготовился припоясать несчастную к своему поясу.
Не сопротивлялась несчастная усилиям разбойников, хотя ее нежные, белые руки были совершенно свободны. Она только, и то каким-то машинальным движением, поправила волосы, выбившиеся из-под платка и закрывшие ее лицо. Она открыла это лицо, — на одно только мгновение открыла его. Не то слеза, не то свет костра сверкнул в этих больших, темных глазах, окруженных густой синевой.
— Это она... это она! — неистово, вскрикнул Ледоколов, рванулся, вскочил на ноги и ринулся вперед, ничего перед собой не видя, потеряв всякое сознание.
— Несчастный! — схватился за голову Бурченко.
Не сразу понял он, что такое произошло перед его глазами, там, внизу, между двух разметанных, полупотухших костров разбойничьего бивуака.
Вслед за этим отчаянным, потрясающим душу воплем послышались тревожные, гортанные крики барантачей. Две или три лошади шарахнулись с перепугу, вырвались, смяли державших и, задрав хвосты, трепля свои вьюки, поскакали по ущелью. Несколько выстрелов коротко стукнули, замолкли на мгновение и гулко зарокотали по горам, подхваченные эхом. С визгом защелкали по камням неизвестно кем, неизвестно куда пущенные пули.
Да и сами барантачи не сразу поняли, в чем дело; особенно один, приземистый, кривоногий «китабец», с комичным недоразумением на своем широкоскулом, изуродованном оспой лице, посматривал то на свою саблю (клынч), то на лежавшее перед ним навзничь, конвульсивно вздрагивающее в последней агонии тело.
— И когда это я ее из ножен выволок? — косился джигит на кривой, серпообразный клинок, по глубоким, прорезным долам которого струились и сбегали буроватые, липкие капли. — Эк, я его свистнул, го-го-го! А зачем?
— Да, зачем?
— Да ведь не я один, кажется! Ловко пришлось...
И джигит, нагнувшись к телу Ледоколова, ощупывал пальцем кровавые рубцы его расколотого черепа.
— Словно живым не могли взять! — пожал плечами другой. — Чего обрадовались! Нас много, он один — связать арканом, да и все тут...
— Сам ножом пырнул!
— Где? У меня и ножа-то в руках не было!
— А вон из-под ребра торчит!
— И откуда это он выскочил?
— А черт его знает, откуда!
— Из ям, вон тех, что русские колдуны нарыли. Вон оттуда и выскочил. Я сам видел! — горячился бараний малахай и суетливо указывал на темные отверстия шахт, видневшиеся сквозь предрассветную дымку.
— Нет, не из ям, а вон откуда! — тряхнул головой джигит в кольчуге. — Я там еще что-то видел, да одному пойти посмотреть боязно!
И джигит покосился в ту сторону, где теперь уже совершенно ясно были видны камни, служившие прикрытием нашим инженерам.
Началось совещание.
Осторожно, с трех сторон зашли барантачи, осмотрели все место, даже камни с места своротили, переглянулись и торопливо пошли прочь, к лошадям, стороной обходя окровавленное тело.
А Бурченко в это время успел уже, сначала ползком на брюхе, а потом бегом, согнувшись в полфигуры, уйти из опасного пункта и, едва переводя дух от усталости и волнения, невольно дрожавшими пальцами распутывал как нарочно затянувшиеся в узел поводья.
Примечания
1
Здесь слово «курома» употреблено, как общее выражение — сброд, потому и целый уезд Куроминский получил свое название, что население его составилось из сбродных киргизских племен, выходцев из разных мест.
(обратно)2
В некоторых степных пунктах — у святых мест — устраивают каменный таган и в него вмазывают плоский чугунный котел с прикованной на цепи ложкой. Котлом этим может пользоваться всякий проходящий и проезжающий, и котлы эти называются божьими котлами. Это один из видов степной благотворительности.
(обратно)3
Нынешний форт Перовский.
(обратно)4
Ласкательное слово, относится только к женщинам.
(обратно)5
Яркоцветная полушелковая ткань местного производства.
(обратно)6
Казы — высшее лицо, «сартовский митрополит», как его называют наши солдаты.
(обратно)7
Чека — треть копейки.
(обратно)8
Кокан — двадцать копеек.
(обратно)9
Намек на бухарское владычество, когда вся сила была в руках духовенства.
(обратно)10
Местная пословица, по смыслу подходящая к нашей: «Не все коту масленица».
(обратно)11
Одна из проповедей, записанных доктором Авдиевым в 1867 году; мусульманское духовенство, возбуждая народ к поголовному восстанию против русских, к «газавату» (священной войне), рассылало по городам своих агентов — «дивона» с подобными подстрекательными речами.
(обратно)12
Хмельной напиток — первобытное пиво.
(обратно)13
Угощение из разных сластей, настолько же неизбежное, как угощение чаем в Москве.
(обратно)14
Характерная брань уральских казаков.
(обратно)15
Таш — восемь верст.
(обратно)16
Не рисковали.
(обратно)17
Ubi bene — ibi patria — латинское выражение, означающее «Где хорошо, там и родина».
(обратно)18
Главнейший промысел местных евреев.
(обратно)



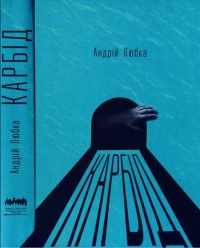
Комментарии к книге «Погоня за наживой», Николай Николаевич Каразин
Всего 0 комментариев