Роберт Каплан Балканские призраки. Пронзительное путешествие сквозь историю
© Robert D. Kaplan, 2003
© Бавин С., перевод на русский язык, 2016
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016
Издательство КоЛибри®
* * *
Предисловие
Сюжет «Балканских призраков» представляет собой историю, поучительную для авторов. В принципе это книга о моих путешествиях 1980-х гг., но в следующее десятилетие, когда разразился жестокий конфликт в Боснии, она приобрела политическое звучание, на какое я никогда не рассчитывал.
В 1980-х гг. я как внештатный журналист находился в Греции и освещал вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Балканы стали предметом моего особого внимания. Оттуда не поступало никаких новостей, но можно было почувствовать, что экономический спад, эрозия коммунистических властных структур и вся история этнического соперничества в какой-то момент способны привести к конфликту. В июле 1989 г., за несколько месяцев до падения Берлинской стены и буквально накануне кризиса с восточногерманскими беженцами, который мог ускорить это событие, я писал в Atlantic Monthly:
В 1970-х и 1980-х гг. мир был свидетелем ограниченности влияния сверхдержав в таких регионах, как Вьетнам и Афганистан. В 1990-х гг. эта ограниченность стала очевидна в регионах третьего мира и в самой Европе. Балканы могут оказаться определяющим фактором для завершения XX в. – таким же, каким явились в начале столетия.
30 ноября 1989 г., в тот месяц, когда рухнула Берлинская стена, я написал в Wall Street Journal Europe:
На руинах коммунистической Восточной Европы возникают две исторические концепции. Одна, «Центральная Европа», уже затерта журналистами до дыр; другую – «Балканы» – журналистам еще предстоит открыть…
Далее я предположил возможность этнического раскола в Югославии. «Балканские призраки» в некотором смысле родились из этого предположения.
Я закончил «Балканские призраки» в 1990 г., до того как в югославском конфликте прозвучали первые выстрелы. Несколько издателей отказались публиковать эту книгу. Они посчитали, что Балканы – слишком непонятный регион, чтобы рассчитывать на существенный объем продаж. Это характерная книга путешествий, и Босния – центр последней Балканской войны – не занимала много места в моих путешествиях 1980-х и 1990 гг.; в это время на Балканах можно было встретить относительно мало журналистов. В Македонии тогда не было даже стрингеров. Сейчас это международный очаг напряженности, где находится американский военный контингент из опасения, что война в Боснии может распространиться на юг.
Книга хорошо продавалась в переплете, а в обложке стала бестселлером. Мне рассказывали, что президент Клинтон, размышляя о необходимости принятия силовых мер для прекращения войны в Косове, вместе с супругой читал «Балканские призраки». Как говорили, история этнических противостояний, которую я описывал, укрепила пессимизм президента относительно этого региона и – по слухам – повлияла на его решение не начинать открытые военные действия в поддержку боснийских мусульман, которых осаждали боснийские сербы.
У меня это вызывает недоумение по двум причинам. Прежде всего, в «Балканских призраках» очень мало говорится о Боснии. Как увидит читатель, это субъективная, набросанная широкими мазками книга о путешествии по Балканскому полуострову, а не о политике. Только четыре из семнадцати глав посвящены бывшей Югославии. Из них одна о Хорватии, другая – о Сербии и Косове, третья – о Македонии и четвертая – о покойном диссиденте Миловане Джиласе. Если политики, включая президента, могли принять судьбоносное военное решение, полагаясь на мою книгу, – это пугает. У меня лично сложилось подозрение, что в 1993 г., в начале своего президентского срока, Клинтон просто был настолько нерешителен, что искал любой повод, чтобы не предпринимать никаких действий.
Но это лишь подчеркивает вторую причину, по которой я с огорчением воспринимаю отношение к «Балканским призракам» как антиинтервенционистскому трактату: я лично был «ястребом» в этом вопросе. Начиная с первой половины 1993 г. я публично выступал на каналах CNN, C-SPAN, в разделе Outlook газеты Washington Post и на других форумах за военные действия в поддержку боснийских мусульман, даже преувеличивая способности американских наземных войск. О возможности вмешательства армии США я неоднократно говорил и в форте Ливенворт, и в Карлайл-Барраксе.
И я настаиваю, что нет никакого противоречия между книгой путешествий, которая высвечивает традицию этнического соперничества, и мыслью о том, что в наше время американская военная сила способна остановить такое кровопролитие в одной части Балкан. И вот почему.
Сложная история этнических взаимоотношений сама по себе не обязательно должна стать причиной потери сотен тысяч жизней в условиях, напоминающих холокост. Для такого бедствия нужны дополнительные факторы: замешательство и бездействие Запада, что, в свою очередь, создает вакуум власти. Без этих дополнительных компонентов ужасов 1990-х гг. могло и не быть.
В особенности хочу обратить внимание на ложность утверждения, что боснийцы – исторически миролюбивая нация. Очень достойные авторы отмечали традицию добрососедских межэтнических отношений, особенно в таких городах, как Сараево. Но эта этническая гармония часто балансировала на лезвии ножа. В коротком рассказе «Письмо из 1920 года» югославский писатель, лауреат Нобелевской премии Иво Андрич пишет об этой невидимой границе между любовью и ненавистью в Боснии, о «нежности и любовной пылкости», под которыми «в мутных глубинах скрываются бури ненависти, целые ураганы связанных, сплоченных между собой разных видов ненависти, которые вызревают и ждут своего часа»[1]. Более того, нельзя не признать, что на протяжении большей части истории в Боснии существовали не только миролюбивые межэтнические традиции, но и раздоры, начиная с 1992 г. (и в 1941–1945 гг.). Боснийских мусульман убивали не президент Клинтон и не марсиане. Это делали другие боснийцы.
Но в таком случае что же делать? Что делать, если Балканы представляют собой кипящий этнический котел, который время от времени взрывается насилием? Добро пожаловать в реальный мир. Это не означает, что вы вторгаетесь в изоляционистский кокон. Вы вводите войска туда, где сложнейшие нравственные соображения пересекаются со стратегическими вне зависимости от характера местного населения. То, что происходит в Боснии, окажет непосредственное влияние на то, что происходит в Косове, Македонии, Албании, Греции и Турции – в местах, которые в одних случаях страдают от разваливающейся власти, в других – имеют соглашения с Соединенными Штатами о защите и обладают новейшим вооружением. Если посмотреть дальше, то, что происходит в Боснии, окажет существенное влияние, хотя и косвенное, на политику всей остальной Европы и России. Как говорил бывший заместитель государственного секретаря США по европейским делам Ричард Холбрук, мы не можем себе позволить провал в Боснии.
Апрель 1996 г.Избранные комментарии автора
Следующие статьи публиковались в Washington Post и New York Times. Первая появилась вслед за выполнением Дейтонских мирных соглашений, вторая – во время дипломатических переговоров об организации военных действий союзных войск против Сербии в Косове, третья – в ходе войны, когда события, казалось, складывались неудачно для Запада, четвертая – по завершении этой войны, когда «Балканские призраки» подверглись критике, а пятая – в тот день, когда в результате свободных выборов был отстранен от власти Слободан Милошевич.
«НЕМЕДЛЕННО ОТЛОВИТЬ ЭТИХ ЗЛОДЕЕВ»
Washington Post. 10 июля 1996 г.
У президента Клинтона есть выбор: либо отдать войскам НАТО приказ в ближайшее время арестовать главных боснийских военных преступников, либо его вынудят это сделать позже в течение года. Это классическое президентское решение, которое может принять только он один: решение настолько символичное в контексте политики, которую мы стремимся проводить, что его значимость превосходит символизм.
Проведение выборов в атмосфере вопиющих угроз и ограниченной свободы перемещения, при которой беженцы не могут вернуться домой, – дело весьма сомнительное, но проводить их, когда главные, почти осужденные военные преступники сохраняют реальную политическую власть, – значит, в принципе, использовать демократию как средство легитимизации военных преступлений и этнического раскола. Пусть Радован Караджич, Ратко Младич и компания остаются на свободе, а войска НАТО в нашей самой выдающейся операции за океаном превратятся в полицейских апартеида, патрулирующих этнические Берлинские стены.
Эта неспособность действовать слишком хорошо знакома. Клинтон, международное сообщество и армия США ведут себя по отношению к новейшему вызову так же, как все они относились к вопросу о натовских бомбардировках до июля 1995 г. Клинтон предпочитает избегать жесткого выбора. Международное сообщество, сейчас в лице Карла Бильдта, опять произносит вялые угрозы лишь для того, чтобы через несколько дней от них отступиться. Угроза Бильдта снова наложить на Сербию санкции, которая растворится через некоторое время, до боли напоминает множество пустых угроз со стороны ООН сурово поговорить с сербами. Что касается американских военных, то, вместо того чтобы четко очертить перед Караджичем и Младичем опасность быть арестованными (что следовало бы сделать), они тихонько прячутся за роль советников, чтобы активно лоббировать бездействие – как это делалось очень долго относительно ударов с воздуха.
Военные говорят журналистам, что «негодяи блокированы», хотя признают, что захват этих негодяев представляет слишком большую опасность. Однако даже притом, что сербские силы блокированы (что соответствует действительности, иначе нашу миссию на данный момент можно было бы считать проваленной), риск захвата заложников и другие формы мести сербов за захват Караджича и Младича, о чем теперь предупреждает Пентагон, гораздо меньше риска, существовавшего во время воздушных налетов в 1992–1995 гг., когда сербы обладали большей мобильностью.
Военные эксперты, равно как специалисты по региону, настолько хорошо осведомлены о сложных и разнообразных факторах, определяющих ситуацию на местах, что эти знания их едва не парализуют. Тем временем европейские официальные лица, такие как Бильдт, демонстрируют застенчивость и склонны предоставить Соединенным Штатам право принимать важнейшие решения. Но у нас нет права обвинять Бильдта в слабости, если наши сухопутные силы ничего не предпринимают в отношении Караджича и Младича.
У Клинтона тоже его нет. Он не может поставить себе в заслугу организацию серьезных выборов без того, чтобы по меньшей мере арестовать тех самых персонажей, чьи преступления и этническая воинственность окажутся санкционированными через избирательные урны. Президент не может ни отменить выборы, ни поймать злодеев. Я выступал против проведения выборов на Балканах. Но, учитывая, что президент решительно на это настроен, он должен действовать. Если он начнет действовать сейчас, он наберет очки за решительность во внешней политике; если он сделает это позже, то вся ответственность все равно ляжет на его плечи, но очков он наберет гораздо меньше.
В ряду тяжелых решений по Балканам, включая решение о нанесении авиаударов в 1995 г., это выглядит относительно простым. В отличие от того времени сейчас мы в Боснии – доминирующая сила. Более того, НАТО – это не ООН. Молниеносный захват нескольких человек повлечет за собой не активизацию военных действий сербов, которые НАТО может легко подавить, а скорее остановит не только сербов, но и другие группы, подобно тому как повлияли на них бомбардировки, и приведет к более благоприятному развитию событий.
В середине 1995 г. несколько негодяев, пользуясь накалом этнических распрей, обусловленным историческими причинами и отягченным спадом югославской экономики в 1980-х гг., развязали войну. В тот момент Соединенные Штаты не смогли определиться со своими обязательствами. Сейчас эти обязательства ясны: стабилизация в Боснии и перевооружение НАТО. Эти задачи неразделимы, поскольку Босния – единственный регион, в котором войска НАТО вовлечены в боевые действия. И поимка этих негодяев – будь то военные преступники или плутониевые террористы – является прямой задачей НАТО (если организация хочет продолжать играть свою роль) и будет иметь гораздо большее значение в XXI в., по мере того как традиционные угрозы будут сокращаться, а нетрадиционные – нарастать.
Босния представляет собой мост из мира старых, знакомых угроз в мир новых и незнакомых. Настаивая на проведении выборов, Клинтон сделал поимку Караджича и Младича важным шагом для успешного перехода НАТО в этот новый мир. Редко когда нравственные соображения так тесно переплетаются с интересами национальной безопасности.
ПОЧЕМУ К БАЛКАНАМ НЕПРИМЕНИМЫ СООБРАЖЕНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ
Washington Post. 28 февраля 1999 г.
Несколько лет назад я принимал участие в конференции, где интеллектуалы спорили о моральной ответственности Соединенных Штатов на Балканах. В ходе дискуссии упоминались и холокост, и философы-гуманисты. Все было очень впечатляюще. Когда я потом возвращался на такси в аэропорт, водитель спросил у меня: «Если там нет нефти, что нам там нужно?»
Это вопрос, на который не мог ответить ни один из интеллектуалов. Не может дать внятный ответ и администрация Клинтона, хотя и пытается (пока безуспешно) заключить соглашение по Косову, что позволит ввести больший контингент американских войск на территорию бывшей Югославии. Ирония заключается в том, что есть хороший ответ на вопрос, зачем мы на Балканах, – разумный, хотя и не простой, не имеющий никакого отношения ни к холокосту, ни к нравственности.
На протяжении ряда лет существовало два отношения к бывшей Югославии. Одно – высоколобых интеллектуалов, другое – прагматиков, хорошо понимающих пределы, до которых готово терпеть американское общество. Белый дом Клинтона с его типичным для демократов нежеланием производить впечатление на интеллектуалов разрывался между этими двумя позициями. В случае Косова результатом стали моралистические пустые угрозы, за которыми последовали нерешительность и бездействие.
Интеллектуальная точка зрения на Балканы выглядит примерно таким образом:
Война в Боснии спровоцирована не столько этнической ненавистью, сколько отдельными негодяями, и ее можно прекратить в любой момент. Действительно, между мусульманами и христианами в Сараеве существует долгая история мирных взаимоотношений. Есть сербы, воюющие на стороне боснийцев, и боснийцы, воюющие на стороне сербов. Противоречий и парадоксов предостаточно, и поэтому характеризовать ситуацию в бывшей Югославии как межплеменную войну – значит дегуманизировать личности. Более того, памятуя о холокосте, Запад несет особую ответственность за предотвращение еще одного геноцида в Европе. В ином случае какой смысл в Первой и Второй мировых войнах?
Такая точка зрения частично подкрепляется тем фактом, что многие из поколения бебибумеров выросли с ложным представлением, что Вторая мировая война велась ради спасения евреев или должна была вестись по этой причине. Но спасение евреев как оправдание гибели американских солдат не помогло бы администрации Рузвельта удержаться у власти и в течение одной недели войны. Только когда японцы разбомбили Перл-Харбор и нацисты объявили нам войну, мы приняли решение сражаться. Настаивать на мысли о том, что наша миссия на Балканах – нравственная, при всем эмоциональном удовлетворении, отчасти неверно и совершенно не по теме. Десятки тысяч слов и сотни книг, написанных в последние годы о наших нравственных интересах в этом регионе, не перевесят одной фразы о наших национальных интересах.
Разумеется, если внимательно присмотреться к Боснии, так же как к Кавказу или Руанде, можно увидеть, что там происходит очень многое помимо этнических споров. Но это не означает, что следует преуменьшать этнический характер этих войн. Каждая война полна разрушающих мифы деталей. Тем не менее обобщение необходимо, поскольку в ином случае дискуссии будут парализованы. Четко очерченная линия политического поведения возникает не в результате научной деконструкции, а на основе размышлений по существу.
На самом деле в этом десятилетии в бывшей Югославии шла большая война и линии фронта определялись этническими разногласиями, у которых давняя и богатая история. Разумеется, если бы США действовали более решительно, эту войну можно было закончить намного быстрее. Но одна из причин, почему она не кончалась – и до сих пор не кончается в Косове, – в том, что ни администрация Клинтона, ни интеллектуальное сообщество не артикулировали четко и ясно национальный интерес, который немедленно восприняли бы миллионы рядовых американцев, людей типа моего таксиста, которого совершенно не интересуют тончайшие нюансы внешней политики.
Медиа как-то сделали посмешищем Джеймса Бейкера, который, будучи госсекретарем США, заявил, что Война в заливе велась «из-за рабочих мест». Но Бейкер гораздо успешнее сформулировал мысль о том, почему нужно направить американские войска в опасную зону, чем это удалось администрации Клинтона относительно Балкан. Если бы в Персидском заливе погибло еще больше наших солдат, общество все равно не выступило бы против администрации Буша. Если завтра в Боснии от взрыва террориста-смертника погибнет двадцать наших солдат, администрации Клинтона придется изобретать практически с чистого листа национальный интерес, который удерживает нас там.
История внешней политики США в этом смысле однозначна. Нравственных аргументов порой будет достаточно, чтобы направлять наши войска за рубеж, но как только войска начнут нести потери, потребуется сформулировать национальный интерес, который заставляет держать их там дальше. И он не имеет никакого отношения к нравственности. Взгляните на Сомали: большинство американцев поддержало интервенцию США, чтобы накормить голодающих, но потребовало возвращения солдат домой, как только войска начали нести потери, – потому что не было сформулировано ни одного четкого национального интереса.
Наши войска находятся на территории Боснии уже три года, и вполне вероятно, что они останутся в этом регионе в ближайшие несколько лет, так что вполне логично предположить, что американская армия будет нести потери. Американское общество должно иметь основания смириться с этими потерями. В ином случае наши войска окажутся ограниченными в своих действиях до такой степени, что утратят всякое доверие – если не в Боснии, то в Косове наверняка. При неспособности четко сформулировать государственные интересы, не имеющие отношения к нравственности, такие, которые оправдывали бы нахождение американских солдат в опасной зоне, администрация цепляется за надежду, что никаких потерь не будет.
В данный момент на Балканах есть два варианта: империализм или анархия. Чтобы прекратить насилие, мы должны действовать так, как всегда действовали великие державы в этом регионе: как миротворцы-завоеватели. Пример нравственного решения, которого многие жаждут, можно найти в опыте римлян и австрийских Габсбургов, очень хорошо знавших, как его обеспечить. Они стремились к расширению территорий ради собственного экономического обогащения, улучшения стратегического положения и славы. В отличие от них у нас, в Западном альянсе, есть кучка людей, которые ведут себя как адвокаты по трудовым отношениям, решающие споры между сторонами так, чтобы всем все было предельно ясно, чтобы ни у кого больше не появлялось желания убивать американских солдат. Потому что, если это произойдет, наша политика надувательства рухнет.
Нравственное решение балканского насилия, как большинство нравственных решений, известных в истории, можно обеспечить только интересами, не имеющими отношения к нравственности. И такие решения, я уверен, существуют.
Две мировых войны XX в. можно было остановить раньше, сохранив бессчетное количество жизней и сэкономив миллионы долларов. То же самое справедливо и в отношении Боснии, что могло бы избавить нас от риска и расходов, связанных с направлением войск на эту территорию. Но насилие в Косове может привести к чему-то гораздо более дорогому в плане денег и жизней наших солдат. Дело в том, что Косово – песчинка посреди очень нестабильного и важного региона, где Европа встречается с Ближним Востоком. На самом деле Европа сейчас делится заново по историческим и культурным границам. Образуются опасные новые альянсы, как перед Первой мировой войной. Предотвратить их нарастание – значит установить мир в Косове.
После принятия в НАТО Польши, Венгрии и Чешской Республики возникло две Европы. Есть Западная, католико-протестантская Европа, и Восточная, православная Европа, которая беднее, политически более нестабильна и больше страдает от организованной преступности. Это православное царство отгорожено НАТО, оно становится злее день ото дня и является яростно антимусульманским. Греция и Турция следят друг за другом в прицелы ракетного наведения, и каждая страна является частью динамичного и опасного нового культурного альянса. Театр военных действий, которые возникнут из разжигания балкано-ближневосточной ненависти, отнюдь не исключен. Да, Греция до сих пор является членом НАТО, но, если обстановка с безопасностью на Балканах ухудшится, она может втянуться глубже в необъявленный, но психологически реальный православный альянс.
Такие опасности, разумеется, гипотетические – как и многие, возникавшие перед двумя мировыми войнами. Необходимо не допустить их, остановив кровопролитие в Косове.
Если там продолжится война, она, вполне вероятно, приведет к дестабилизации в Македонии, представляющей собой эпицентр вековой борьбы между греческим православием и турецким исламом. Но Косово имеет огромное значение и по более важной причине. Остановить нарастающее разделение Европы, потенциально более опасное, чем разделение периода холодной войны, потому что оно основано на религии и культуре, означает принятие как минимум еще одной православной страны (после Болгарии и Румынии) в НАТО. Но это невозможно, пока в Косове продолжается насилие. На самом деле война в Косове географически связывает Болгарию, потому что множество сухопутных торговых путей Болгарии проходит по южной части Югославии. Если мы скажем нашим европейским союзникам, чтобы они сами занимались Косовом, мы можем тут же распрощаться с Западным альянсом.
Можно сказать, что периодические небольшие войны и оккупации полезны для нас. Они позволяют американским и натовским вооруженным силам накапливать боевой опыт, оттачивать мастерство в преддверии возможных по-настоящему серьезных конфликтов. (Эйзенхауэр совершенствовал свои аналитические способности в преддверии Второй мировой войны, помогая реорганизации филиппинской армии в 1930-х гг., когда там находились наши оккупационные войска.) При отсутствии Красной армии в Европе многонациональный контингент войск НАТО теперь должен набираться опыта совместных действий, иначе наш альянс распадется. НАТО до сих пор сохраняет большое значение еще и потому, что Европа и ее окружение не настолько безопасны, как многим кажется. Кроме того, мы не одни несем ношу Боснии и Косова. Мы делим ее с нашими союзниками. Мир после холодной войны – место многосторонних операций именно потому, что всегда будут поводы для вмешательства, которые окажутся не совсем убедительными для любой отдельной страны.
Президент Клинтон, государственный секретарь Мадлен Олбрайт и представитель Соединенных Штатов в ООН Ричард Холбрук – очень хорошие коммуникаторы, и я не сомневаюсь, что они смогут сжато выразить многое из этого в непринужденной форме. Но говорить и писать для элитной аудитории недостаточно. Они должны раз за разом обращаться к среднему американцу через средства массовой информации. Потому что, когда войска начинают нести потери, это сразу же касается всей страны, а не только политической элиты. И это гораздо сложнее, чем причины Войны в заливе. Но в международных делах нравственные причины редко способствуют достижению нравственной победы.
НА БАЛКАНАХ «ЛОКАЛЬНОЙ ВОЙНЫ» НЕ БЫВАЕТ
New York Times. 7 апреля 1999 г.
Гуманитарная катастрофа в Косове может быть достаточным поводом для вмешательства НАТО в ситуацию в бывшей Югославии, но у Соединенных Штатов здесь есть жизненно важные стратегические цели. Эти цели оправдывают применение натовскими войсками любых мер, необходимых для поражения Сербии, в том числе использование сухопутных войск, потому что сейчас определяются не более и не менее чем контуры будущей Европы.
Когда в 1989 г., после крушения Берлинской стены, европейское разделение на Восток и Запад исчезло, немедленно, еще до начала войны в Югославии в 1991 г., стало формироваться новое разделение: между Центральной Европой и Балканами. Центральноевропейские страны – Польша, Венгрия и Чехословакия – резко опережали такие Балканские страны, как Румыния и Болгария, в плане продвижения к стабильному демократическому обществу.
У этих северных стран бывшего Варшавского пакта было несколько преимуществ: они были наследниками традиций Габсбургской империи и до начала Второй мировой войны и последующего прихода к власти коммунистов имели вполне развитый средний класс. Балканские страны веками страдали от византийского и турецкого абсолютизма, и даже до прихода к власти коммунистов их средний класс представлял собой мелкие песчинки в безбрежном море крестьянского населения.
Принятие Польши, Венгрии и Чешской Республики в члены НАТО формально закрепило этот опасный исторический и религиозный передел Европы: между римско-католическим и протестантским Западом и православным христианским и мусульманским Востоком.
Тем не менее кампания Слободана Милошевича в Косове сейчас дает Западу шанс повернуть вспять этот процесс. Реальная победа НАТО, которая не только обеспечит защиту косоваров, но и лишит Сербию позиции главной военной угрозы в регионе, станет большим шагом вперед к обеспечению стабильности на континенте.
Дело в том, что непосредственный эффект продолжающейся борьбы ощущается далеко за пределами стран бывшей Югославии, которые занимают лишь треть Балканского полуострова. Три самых крупных Балканских страны – Болгария, Румыния и Греция, даже притом что не испытывают непосредственной угрозы наплыва беженцев, которые досаждают Албании и Македонии, находятся в переломном моменте своей политической судьбы.
В Румынии, крупнейшей и самой густонаселенной Балканской стране, существует непрочный мир между православным христианским большинством и этническим венгерским меньшинством, представляющим и католиков, и протестантов и живущим на северо-западе страны, в Трансильвании. Это относительное спокойствие – значительное достижение, учитывая тот факт, что в XX в. каждая группа захватывала территорию другой.
Социальному спокойствию угрожает отсутствие модернизации в сельской местности и кабинетный хаос в Бухаресте. Экономические реформы движутся слабо, инвестиционный климат существенно ухудшается. В Румынии только армия чувствует себя хорошо. Хотя румыны – православные христиане, кошмарные воспоминания о мрачных сталинских десятилетиях заставляют их отчаянно стремиться в НАТО, что должно вывести армию из политики, усмирить политиканов-националистов и подтолкнуть элиту к формированию хорошего правительства.
Греция – наиболее неверно понимаемая из всех Балканских стран. Из-за наличия в стране среднего класса и членства в НАТО Запад требует, чтобы Греция вела себя так же, как остальные члены альянса. Но она не может, потому что расположена на Балканах и должна выстраивать свою внешнюю политику применительно к географическому положению. Греки понимают, что им суждено жить бок о бок с сербами и после того, как будут выведены натовские войска.
Более того, на протяжении многовековой турецкой оккупации греки получали поддержку от своих собратьев по вере – православных сербов и русских. Этот исторический факт имеет огромное значение. К тому же греки, не испытав на себе советской оккупации и коммунистического режима, сохраняют романтическую привязанность к России, чего нет в Румынии и даже в Болгарии.
Греческое правительство по мере сил поддерживает Соединенные Штаты, невзирая на давление, оказываемое политическими радикалами левого и правого толка. Но если сербы унизят НАТО, греки будут действовать исходя из собственных интересов: их связь с НАТО сократится до официальных контактов, даже если они будут отрицать этот факт, и они начнут потихоньку укреплять связи со своими православными друзьями в Москве и Белграде. После сорока семи лет членства в НАТО Греция может быть потеряна.
Призывы к совести не сохранят Грецию – ни де-факто, ни де-юре – членом НАТО, так же как не помешают Румынии и Болгарии все больше отдаляться от России. Требуется не более и не менее как полная победа сил НАТО. Греки и македонские славяне презирают друг друга; точно так же православные христиане презирают мусульман-косоваров. В этом регионе трудно ожидать сочувствия к исламским беженцам, которые разрушают хрупкий религиозный и этнический баланс в соседних странах, и без того страдающих от слабых правительств и высокого уровня безработицы.
Таким образом, если кампания бомбардировок проваливается и НАТО уступает за столом переговоров, это оставляет Европу в рамках средневековых границ, а новое расширение НАТО становится просто вариантом древней Священной Римской империи, то есть старым христианским Западом, а Ближний Восток начинается там, где когда-то проходила граница Османской турецкой империи, примерно по границе между Хорватией и Сербией и в Трансильвании, между этническими венграми и румынами.
В 1834 г., выезжая из Габсбургской империи в автономное княжество Сербия, входившее в состав Османской Порты, английский путешественник и писатель Александер Кинглейк писал: «Я приехал, как оказалось, на край колесной Европы, и теперь мои глаза увидят всю роскошь и хаос Востока». Такая же демаркационная линия может появиться вновь, если господин Милошевич не будет уничтожен воздушными и наземными ударами, а Косово и Македония не будут взяты под протекторат НАТО. Только западный империализм – хотя мало кому нравится использовать это слово – в состоянии теперь объединить Европейский континент и спасти Балканы от хаоса.
Стокбридж, МассачусетсВ КНИГЕ НАПИСАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО НАПИСАНО
New York Times. 13 июня 1999 г.
Ничто не обладает такой силой и не представляет такой опасности, как книга. Это я выяснил на собственном опыте. В 1989–1990 гг. я писал книгу путевых заметок «Балканские призраки» – о том, что увидел и услышал на Балканах в 1980-х гг., когда жил в Греции. В 1993 г., после того как в Югославии разразилась война, книгу использовали в качестве аргумента против американской интервенции. Говорили, что ее прочитал президент Клинтон и сделал вывод, что народы этого региона очень долгое время не жили в мире между собой.
Я бы не обратил внимания на такого рода сообщения, если бы, как многие другие, был противником интервенции. К сожалению – и я с тех пор не изменил своего мнения, – я таковым не был. С конца 1992 г. и до того момента, когда я пишу эту статью, я был и остаюсь откровенным интервенционистом. Это было легко выяснить, просто спросив меня или обратив внимание на то, что я говорил на телевидении или писал после публикации «Балканских призраков».
Читатель тоже несет ответственность. Я не знаю, что читал и не читал президент Клинтон и что повлияло на его решение относительно Балкан. Но в принципе любой президент должен рассматривать то, что он читает об отдаленном регионе мира, через фильтр национальных интересов. Любой президент не должен принимать решения о вмешательстве на основании эмоциональных симпатий и антипатий или на основании того, что данный регион имеет приятную или неприятную историю.
Он должен вмешиваться только тогда, когда его страна может получить выгоду от этого вмешательства: стратегическую, моральную или и ту и другую. И если уж поддерживать интервенцию в местах с трудной историей, по крайней мере, нельзя строить иллюзий относительно того, что сербы, к примеру, могут сделать в ответ.
Книги, особенно книги о путешествиях, не так часто читаются или используются неправильно. Дело в том, что автор-путешественник должен записывать впечатления от того, что существует в реальности в то время, когда он путешествует: то, что ему рассказывают люди, и обстановку, в которой ему это рассказывают, а не то, что, по мнению идеалистов, он обнаруживает.
Поскольку то, что он видит, может вызывать неприятные ощущения, такие репортажи оказываются полезными людям с изоляционистскими тенденциями, предпочитающим закрывать глаза на международные проблемы, вместо того чтобы постараться понять их. Никто не оспорит тот факт, что президент Клинтон в 1993 г. был человеком, которого всю его сознательную жизнь больше занимали несовершенства американского общества, нежели место Америки в мире.
Книги используются неправильно, когда читатель не владеет контекстом. Первая книга по любому вопросу может ошеломить, но к десятой читатель в состоянии определить для нее надлежащее место в ряду подобных благодаря расширению кругозора. К примеру, Ницше – опасный философ в руках самоучки или психопата, но в руках хорошо начитанного студента-философа Ницше полезен. То же самое относится к Макиавелли и прочим.
Но поскольку очень многие читатели не владеют контекстом, автор несет ответственность за то, чтобы погрузить их в этот контекст, особенно политический контекст, в самом начале книги. Именно это мне и не удалось сделать в «Балканских призраках», поскольку я никогда не предполагал, что книга о путешествии по региону в его последние моменты пребывания в неизвестности позже будет читаться как политический трактат.
Есть и другая проблема – тенденция политизировать любую книгу, и тут мы возвращаемся к ответственности читателя. Я, как и другие авторы, могу представать в разных обличьях – в моем случае как писатель-путешественник или как аналитик по международным вопросам. Я понимаю, что опыт путешественника – одно, а военно-политическое решение, принимаемое спустя несколько лет, – совсем другое. Слишком много комментаторов читают чей-то отчет о конкретном месте и оценивают его в категориях «прогрессивности» или «антилиберализма», «детерминизма» или «гуманизма», «интервенционизма» и т. д., в то время как реальный вопрос заключается в следующем: насколько живо представлены персонажи и ситуации, достаточно ли увлекается читатель, чтобы с нетерпением ждать, что будет на следующей странице, вызывают ли свидетельства автора у читателя желание больше узнать об этих местах и т. д. Книги путешествий – повествования, а не политические наставления.
Впрочем, реалисты все это знают. Им не нужно идеализировать регион, народ или его историю для того, чтобы предпринять какие-то действия, и поэтому им не нужно рассматривать книгу сквозь призму того, во что они хотят верить, пусть даже это президент, который в 1993 г. искал повод, чтобы ничего не делать, а в 1999 г. – вдохновение для того, чтобы сделать хоть что-нибудь.
Ашхабад, ТуркменистанСУДЬБА ЮГОСЛАВИИ И ЕВРОПЫ
New York Times. 6 октября 2000 г.
Падение Слободана Милошевича в Сербии может уничтожить последние следы коммунистической партии в Восточной Европе, появившейся там в 1945 г. вслед за советской оккупацией. Хотя Югославия Тито порвала с Советским Союзом в 1948 г., югославские коммунисты в Республике Сербия не поддались контрреволюционной волне 1989 г., которая смела окружающие их коммунистические режимы.
Вместо этого они взяли на вооружение этнический национализм как средство сохранения своих вилл, охотничьих домиков и прочих привилегий власти. Господин Милошевич и его ближайшее окружение – не только военные преступники, крайние националисты и мафиози, но еще и аппаратчики, обладающие бюрократическим ноу-хау проведения губительной политики.
Падение господина Милошевича должно открыть многие двери для реконструкции как в Сербии, так и в Боснии и Косове. Реальной задачей следующей вашингтонской администрации будет не столько проблема бывшей Югославии, сколько интеграция всего Балканского полуострова, включая Болгарию и Румынию, в Европу. На данный момент существуют две Европы. Юго-восточная часть континента – это группа нестабильных, бедных стран, имеющих в основном неблагоприятные политические и экономические перспективы. Подтверждение тому – поражение на этой неделе господина Милошевича.
Победа Воислава Коштуницы над господином Милошевичем – очередное подтверждение того, что Дейтонские мирные соглашения 1995 г., пусть и просуществовавшие недолго, сработали очень хорошо. Крушение криминального режима покойного Франьо Туджмана, если оно последует за крушением режима Милошевича в Сербии, будет означать, что Загреб и Белград перестанут быть источником проблем в Боснии, как это было раньше, что существенно облегчит задачи НАТО.
Хорватия и Сербия всегда будут искать возможности продвижения интересов своих этнических соотечественников в Боснии за счет друг друга и за счет боснийских мусульман вне зависимости от того, кто будет у власти – демократ или автократ. Но если обеим суждено перейти к демократии, вначале им предстоит консолидировать свою собственную власть через создание государственных институтов и благодаря помощи, которая может прийти только с Запада. И вполне вероятно, что поимка обвиняемых в военных преступлениях боснийских сербов Радована Караджича и Ратко Младича – просто вопрос времени, поскольку господин Милошевич уже не сможет прийти им на помощь.
И, если традиционная вражда между сербами и албанцами в Косове не прекратится, а, возможно, даже усилится по мере того, как этнические албанцы консолидируют свою власть и криминальные структуры, демократическая Югославия, по крайней мере, не будет источником проблем для НАТО в Косове в такой степени, как это было раньше. НАТО поистине становится имперским властелином в бывшей Югославии, поскольку исторически сложившееся влияние России на Балканах исчезает.
Но бывшая Югославия – лишь часть беспокойных Балкан. Расширяющийся разрыв между Центральной Европой и Балканами особенно заметен, если сравнить скорость, с которой развивается Румыния, чье 23-миллионное население превышает по численности население всех бывших югославских республик вместе взятых, и ее северо-западная соседка Венгрия. На этой неделе исполнилось десять лет с момента воссоединения Германии. За это время в Венгрию пришло в шесть раз больше иностранных инвестиций, чем в Румынию, хотя по численности населения она уступает Румынии вдвое. Средняя месячная зарплата венгров вдвое выше, чем у румын. Если не считать нескольких крупных городских центров, Румыния – это море нищеты, безработицы, устаревших заводов и фабрик и примитивного сельского хозяйства.
Первый с начала XX в. демократически избранный президент Румынии Эмиль Константинеску покидает свой пост после четырех лет безуспешных попыток провести реформы. На ноябрьских выборах победу предрекают бывшим коммунистам. В отличие от Польши, где бывшие коммунисты вернулись к власти демократическим путем, румынские коммунисты ничуть не изменились.
В Болгарии обстановка не лучше. Безработица, коррупция, недостаточные темпы развития настолько заметны, что, согласно недавним социологическим опросам, только 4 % населения надеются на улучшение жизни, а 67 % считает, что живут хуже, чем до падения Берлинской стены.
Начиная с 1989 г. экономика таких католико-протестантских стран, как Польша, Венгрия, Словения и Чешская Республика, развивалась быстрее или, по крайней мере, испытывала меньшую стагнацию, чем экономика православных Румынии, Болгарии и Македонии и преимущественно мусульманской Албании. Балканы всегда были беднейшей частью Европы, но не настолько, как в настоящее время. В 1999 г. НАТО провело авиационную военную операцию против Сербии. Румыния и Болгария показали себя верными союзниками Запада, предоставив свои базы и право использования своего воздушного пространства. Среди населения этих стран появилась надежда, что великодушная помощь будет щедро вознаграждена. Но их ждало горькое разочарование.
Если эпоха Милошевича действительно заканчивается, на Балканах может зародиться новая надежда. Господин Милошевич потерпел поражение не из-за собственных ошибок и не из-за того, что сербы связывают надежды на лучшую жизнь с новым режимом, но потому, что американские демократические идеалы подкреплялись экономическим давлением и военной силой Запада. Военно-воздушная операция НАТО, сколь бы плохо подготовленной она ни была, в сочетании с экономическими санкциями и существенной поддержкой Западом югославской оппозиции положила начало процессу, который, судя по всему, выводит Сербию из категории стран-изгоев.
Президент Клинтон и госсекретарь Мадлен Олбрайт заслуживают одобрения за применение реалистичного принципа: для распространения каких-либо ценностей требуется ощутимая сила. В 1930-х гг. нацисты использовали военное влияние и поддержку местных политических партий на Балканах, предоставляя им деньги, информацию, печатные станки и другую помощь. Неудивительно, что фашистские идеи обрели популярность. Мы не должны тешить себя иллюзиями о том, что распространение открытых обществ на Балканах и в других местах – естественный и неизбежный процесс. Только вследствие непосредственной экспансии американской имперской власти, пусть в мягком и недекларируемом виде, население этих стран увидит, что в их собственных интересах присоединиться к нашему курсу.
Разумеется, мир слишком велик и его проблемы слишком сложны, чтобы стабилизация осуществилась исключительно силой американской власти, но Балканы – регион, прилегающий к европейской зоне влияния НАТО, – естественный объект нашей экспансии. Перед новой администрацией встанет задача расширения НАТО до Черного моря и недопущения возвращения Балкан под влияние Ближнего Востока. Падение последнего коммунистического диктатора Европы представляет беспрецедентную возможность, но не решение проблемы нынешнего раскола Европы.
ВашингтонВведение
В современном мире, где границы между культурами быстро стираются благодаря массовому туризму, роскошным отелям и спутниковым коммуникациям, остается все меньше и меньше возможностей для настоящих приключений. Но огромный поток информации означает, что происходящие события все быстрее и быстрее забываются. Следовательно, настоящее приключение может стимулировать человека использовать ландшафт как средство для знакомства с прошлым и историческим процессом.
Американский ученый Пол Фассел в исследовании «За границей: британские литературные путешествия между войнами» (Abroad: British Literary Travelling Between the Wars) пишет, что «секрет книги путешествий» заключается в умении писать так, чтобы «эссеистические рассуждения возникали естественным образом на основе лично пережитых реальных впечатлений». Иными словами, путевые записки в идеале – это умение исследовать историю, искусство и политику в наиболее живой манере. «Камни Флоренции» Мэри Маккарти и «Черная овца и серый сокол» дамы Ребекки Уэст, на мой взгляд, являются лучшими образцами такой литературы. Я старался, пусть и неуклюже, следовать их примеру.
«Балканские призраки» – не типичная книга путешествий. Повествование строится в особой манере, вертикально, от наиболее частного к наиболее общему: от эссе о военном преступлении (или его отсутствии) одного хорватского священнослужителя до рассуждений о падении империй. Мой опыт знакомства с каждой из стран различается. Я интенсивно поездил по Румынии, встречался с самыми разными людьми. С Болгарией я знакомился благодаря личной дружбе с одним человеком. По Греции я путешествовал гораздо меньше, чем жил в этой стране, точнее в Афинах, на протяжении семи лет. Надеюсь, различный стиль повествования отражает разнообразие моих впечатлений от Балкан.
Я не касаюсь таких регионов, как Черногория в Югославии и Марамуреш в Северо-Западной Румынии; Боснии и Албании уделено гораздо меньше внимания, чем они, безусловно, заслуживают. Несмотря на злодеяния, совершавшиеся против местного мусульманского населения, боснийский конфликт наиболее убедительно можно объяснить как продолжение сербско-хорватского противостояния. Поэтому я пишу о Боснии в главе, посвященной Хорватии. Рассказ об Албании включен в главу «Старая Сербия», потому что я решил объяснить сербов преимущественно через их исторический конфликт с албанцами-мусульманами. Сейчас, очевидно, внимание всего мира приковано к Югославии, но моя личная одиссея больше сосредоточена на Румынии и Греции, и в книге это видно. Балканы – полуостров, и Босния – лишь одна часть его. Если сегодня Босния постоянно возникает в заголовках новостей, то завтра ее место может занять другой балканский регион, поскольку весь полуостров входит в период катаклизмов, которые продлятся многие годы. Тем не менее ничто из того, что я написал, не следует воспринимать как оправдание, с какими угодно оговорками, военных преступлений, совершенных войсками этнических сербов в Боснии. На самом деле я их категорически осуждаю.
В 1980-х гг. я неоднократно – обычно тщетно – пытался заинтересовать издателей и широкую публику Балканами и назревающими там проблемами. Грустная ирония заключается в том, что мои худшие опасения оправдались. Одной из жертв этой войны стал журналист из ABC News, которого звали почти так же, как и меня, – Дэвид Каплан (мой второй инициал означает «Дэвид»). Надеюсь, эта книга поможет лучше понять регион, за репортажи из которого другой Каплан, которого я никогда не знал, поплатился своей жизнью.
Карта Балкан
Балканы, что по-турецки означает «горы», протянулись от Дуная до Дарданелл, от Истрии до Стамбула, и этот термин имеет отношение к некоторым территориям Венгрии, Румынии, Югославии, Албании, Болгарии, Греции, а также части Турции, хотя ни венгры, ни греки не приветствуют своего включения в этот регион. Это веселый, жизнерадостный полуостров, населенный жизнерадостными людьми, которые едят острую пищу, пьют крепкие напитки, носят яркие одежды, любят и убивают легко и обладают потрясающим талантом развязывать войны. Лишенные воображения люди Запада смотрят на них сверху вниз со скрытой завистью, фыркают на их королевства, насмехаются над их претензиями и боятся их жестоких террористов. Карл Маркс называл южных славян «этническим мусором». В двадцатые годы я, босоногий мальчишка, обожал их.
С. Л. Сульцбергер. Длинный ряд свечейНенавижу трупы империй, ничто так не смердит, как они.
Ребекка Уэст. Черная овца и серый соколПролог Святые, террористы, кровь и святая вода
Я продрог и брел на ощупь. Я специально выбрал этот кошмарный предрассветный час для посещения Печского монастыря в Старой Сербии. Духовное наставление Восточной православной церкви строго предписывает тяжкий труд и вознаграждает за него откровением о том, что ад и искупление в равной степени реальны. Если пришелец с Запада не готов прочувствовать это всем своим существом, он не может надеяться на понимание.
Я вошел в церковь Святых Апостолов, расписанную в 1250-х гг. Глазам нужно было привыкнуть к темноте. Минуты тянулись долго, как целые века, полные поражений. Я не взял с собой ни свечей, ни фонарика. Ничто не концентрирует волю лучше, чем слепота.
А слепому очи не мешают, И одной он держится дороги, Будто пьяный, за забор схватившись[2], –писал Петр Петрович Негош в величайшей поэме на сербском языке «Горный венец». В ней массовое убийство «потурченцев» – славян, перешедших в мусульманство, – оправдывалось как способ выиграть местную битву против турок-мусульман[3]. Довольно быстро, по мере того как рассеивался мрак, я осознал, что такое настоящая борьба, отчаяние и ненависть.
Так передо мной открылся первый закон национального выживания: весь мир может быть создан из одного небольшого огонька. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы увидеть, как из мрака проступают лица – тревожные, изможденные лица из далекого сербского прошлого, демонстрирующие духовность и примитивизм, которые Западу лучше всего известны по героям Достоевского. У меня возникло ощущение, что я оказался в черепе, в котором горит коллективная память народа.
Видения обретали форму, галлюцинировали: святой Николай в пурпурной мантии, с черными пронзительными глазами у меня за спиной; святой Савва, покровитель Сербии и основатель этой самой церкви, прошедший водную преграду, чтобы предложить дары милосердия и вдохновения; вознесенный Иисус – лишенный человеческой сущности Бог в крестьянском обличье после окончательной стадии земных страданий, более устрашающий, чем любой завоеватель или мирская идеология.
Апостолы и святые перемешались со средневековыми сербскими королями и архиепископами. Они все изображены через кривое зеркало веры: удлиненные тела, монструозные руки и головы. У многих святых выцарапаны глаза. Согласно крестьянскому поверью, штукатурка и краска, которые использовались для изображения глаз святых, могут излечить слепоту.
Предрассудки, идолопоклонство? Это слова западного мышления. Мышления, которое, по словам Джозефа Конрада, «не имеет наследственного и личного представления о средствах, которыми историческая аристократия подавляет мысли, охраняет свою власть и защищает собственное существование». В романе «Глазами Запада» Конрад пишет, что «западному гражданину никогда не придет в голову… что его могут избивать кнутами в качестве обычной меры наказания или допроса».
Эта церковь предупреждает: чем больше сгущается мрак, тем менее рациональным и более жестоким становится сопротивление.
«В Болгарии, Греции, Югославии, во всех странах Европы, что были под турками, то же самое, – горестно восклицает арестованная мадам Делчева, жертва сталинистских чисток, в романе Эрика Эмблера «Суд над Делчевым». – Тогда наш народ жил за стенами в маленьких мирах иллюзий… они разрисовывали стены сценами народной жизни. ‹…› Теперь, когда мы снова за стенами, привычки наших родителей и нашего детства возвращаются».
Расстояние, которое пришлось преодолеть этим монументальным формам, пока мои глаза привыкали к темноте, огромное: сквозь века османского владычества, самые жестокие войны и власть коммунистов. Здесь, в святилище догмы, мистицизма и варварской красоты, существует народная жизнь. Только отсюда она и могла появиться.
– Знаешь, как это, когда убивают молотками, гвоздями, дубинками?
Исмаил перекрикивал громкую музыку, по его лицу переливались яркие химические цвета прожекторов. Я еще был в Пече, в Старой Сербии, в диско-баре, популярном у албанских мусульман, недалеко от сербского монастыря.
– Ты знаешь, почему я не пью сливовицу, почему я всегда пью только пиво? Потому что четники [сербские партизаны периода Второй мировой войны] напивались сливовицей, а потом шли убивать! Ты знаешь, как это, когда детей подбрасывают в воздух и насаживают на штык на глазах у матерей? Когда привязывают к горящим бревнам? Когда тебе рубят зад топором, и ты умоляешь сербов, умоляешь их пристрелить тебя, а они этого не делают? А после этого идут в свою церковь. Идут в свою проклятую церковь. У меня нет слов… – Исмаила передернуло. – Есть вещи за пределами зла, об этом даже говорить невозможно.
Исмаил кричал. Ему было всего двадцать шесть лет, он лично не мог быть свидетелем событий, о которых рассказывал. Он сказал, что крысы заполонили его дом. Виноваты сербы.
30 ноября 1940 г., десять тридцать утра. В Бухаресте идет снег. В храме Святого Илии Горгани, построенном в XVII в. в честь румынского полководца, сражавшегося с турками, сотни свечей освещают образ Иисуса Христа в красном облачении, изображенного на куполе. По обеим сторонам нефа стоят гробы, покрытые зелеными флагами с золоченым шитьем. Алтарники на подносах разносят коливо (поминальное блюдо – пшеничная каша, политая медом). Священники Румынской православной церкви всю ночь пели псалмы и размахивали кадилами, готовясь к захоронению останков четырнадцати членов Легиона Архангела Михаила, фашистской Железной гвардии, включая лидера организации Корнелиу Зеля Кодряну, и последующей канонизации их как «национальных святых».
Два года назад полиция короля Кароля II повесила четырнадцать человек, а обнаженные трупы бросила в общую яму, залив тела серной кислотой, чтобы ускорить процесс разложения. Но в конце 1940 г. Кароль II бежал, и Румыния оказалась под властью режима Железной гвардии. Останки жертв, не более чем кучки земли, были выкопаны и помещены в четырнадцать гробов для перезахоронения. В конце поминальной службы собравшиеся услышали запись голоса покойного лидера легионеров Кодряну. «Вы должны дождаться дня, чтобы отомстить за наших мучеников!» – пронзительно воскликнул он.
Через несколько недель настал день мести. В ночь на 22 января 1941 г. легионеры Архангела Михаила, исполнив церковные гимны, повесив на шею мешочки с румынской землей, испив крови друг друга и окропив себя святой водой, захватили двести мужчин, женщин и детей в их домах. Легионеры погрузили жертв в грузовики и отвезли на городскую скотобойню – квартал зданий из красного кирпича в южной части Бухареста на берегу реки Дымбовица. Ледяной ночью они заставили своих жертв – евреев – раздеваться догола и заползать на четвереньках на ленту конвейера. Конвейер потащил воющих от ужаса евреев к автоматическим устройствам для разделывания туш животных. Легионеры цепляли обезглавленные и лишенные конечностей окровавленные торсы на крюки и ставили штампы «пригодно для человеческого употребления». Туловище пятилетней девочки, подвешенное вверх ногами, «было залито кровью… как ягненок», свидетельствовал очевидец.
17 декабря 1989 г., десять часов вечера. В монастыре Молдовица в Молдавии[4] слишком темно, чтобы рассмотреть фрески, но мать Татулица Жоржета Бенедикта представляет сцены Страшного суда: дикие звери изрыгают пожранных людей, на весах правосудия несколько добрых дел перевешивают многие злые дела, ангелы, нарисованные ярко-желтой краской, облаченные в знаки зодиака, символизирующие, что само Время подошло к концу.
Мать Бенедикта провела свои обычные восемь часов в молитвах. В отличие от Бухареста здесь нет стукачей, нет потайных микрофонов в исповедальне. В буковых рощах румынского крайнего севера у нынешнего режима – как и у турецкого давным-давно – «меньше глаз». Погода оказалась неожиданно теплой. На днях мать Бенедикта видела радугу, хотя дождя не было. В тот день она услышала об убийстве детей. Впервые в жизни она осталась на всю ночь в церкви и молилась.
«И тогда Бог творит свое чудо. Он вкладывает в голову Драко [дьявола] мысль о телевизионной встрече, на которой люди, которые больше не боятся, всячески оскорбляют Драко. И таким образом тот, кто убивал детей в Тимишоаре, как Ирод убивал младенцев в Палестине, оказывается казнен в тот самый день, когда родился наш Господь».
– В Румынии Библия жива, – заявляет мне мать Бенедикта. – Рождественская история повторилась. Теперь люди ходят на службу, чтобы молиться и осмыслять все свои исторические грехи.
В конце XVIII в., в самый черный час долгой ночи турецкой оккупации, болгарский монах по имени Рафаил провел двенадцать лет в стенах Рильского монастыря, вырезая деревянное распятие. На нем изображены 600 человеческих фигур, каждая величиной с рисовое зернышко.
– Сколько стоит такой крест? – восклицает отец Бонифаций, маленький горбун с развевающимися серо-стальными волосами, с бородой и мягкой, почти детской кожей, который живет за монастырскими стенами двадцать семь лет. И, отвечая на свой вопрос, снова кричит: – А какова цена человеческой жизни? Рафаил ослеп, вырезая это распятие!
Турки периодически нападали и разоряли Рильский монастырь. Каждый раз он восстанавливался. Ободранные своды, деревянные резные балконы, колокольня, комплекс фресок, в которых цвета обретают новую красоту на фоне горных снегов. Во время турецкого владычества в Рильском монастыре обитали 300 монахов. Когда в Болгарии власть перешла к коммунистам, их количество сократилось до двенадцати человек.
Двенадцать душ в населенных мышами коридорах, хранивших наследие целой нации! Там были запертые помещения, в которые веками никто не входил.
Теперь они все открыты.
Я вернулся в Рильский монастырь в 1990 г., через девять лет после предыдущего визита. Отец Бонифаций уже умер. Церковь, тогда темная и страшная, была полна прихожан. Потрескивал лес горящих свечей. В углу – фотография короля Бориса III, похороненного в монастыре в 1943 г. Коммунисты, придя к власти, в 1946 г. перенесли его захоронение. Вокруг фотографии Бориса – свечи, полевые цветы, хлебы причастия. Люди наклоняются и целуют ее. «Иисус Христос вернулся в Болгарию, – обыденным тоном сообщает мой проводник. – Мы должны заставить коммунистов сказать, где они захоронили Бориса. Теперь в Болгарии откроется много тайн».
«Кровь прольется в Северном Эпире», – гласят придорожные граффити близ северо-западной границы Греции с Албанией. «Северный Эпир», то есть Южная Албания, – историческая часть Греции, родина матери Александра Македонского Олимпиады и царя Пирра, чья непростая военная судьба запечатлена в выражении «пиррова победа».
Но на основании «позорного» Флорентийского протокола 1913 г., который включил «Северный Эпир» в «доныне не существовавшее мелкое государство Албания», Греция сегодня является «расчлененной» нацией, объясняет мне Севастианос, архиепископ этого пограничного региона[5]. На его карте Северный Эпир, в котором проживает почти полмиллиона греков, занимает 5 % албанской территории. Севастианос, которого некоторые называют «греческим Хомейни», по слухам, пытался внедрить вооруженных партизан на территорию Южной Албании для подготовки воссоединения этого региона с Грецией после падения власти коммунистов.
Мой автобус спускался по лабиринту известняковых каньонов, голых, безлесных, направляясь к государственной границе с Албанией. Телеги, запряженные волами, которыми правили бритоголовые солдаты, заполоняли ухабистую дорогу. Толпы женщин в белых халатах и головных платках, с серпами и лопатами на плечах, молча брели с пшеничных и табачных полей. Многоквартирные дома, выстроенные из плохо скрепленных кирпичей и обшитые ржавыми железными листами, стояли на пустых площадках, окруженные колючей проволокой и бетонными бункерами. Все рукотворные предметы – грубые куски мыла, водопроводные краны, дверные ручки – демонстрировали примитивное убожество. Бурые и свинцовые дымы, висящие в небе, придавали всему ландшафту зернисто-желтую ауру старых фотографий. Под светом натриевых ламп я всматривался в лица этих этнических греков – жителей Албании. У всех было какое-то отсутствующее выражение. Они выглядели почти что тенями. В городке Саранда («Агиос Саранда» по-гречески) я зашел в один дом. Пять членов семьи сгрудились у старого черно-белого советского телевизора, чтобы посмотреть «Династию» и новости CNN по греческому каналу. «Как вам живется здесь?» – спросил я. «Все отлично. У нас есть все необходимое», – ответил глава семьи. Дети промолчали.
Старший сын отправился проводить меня до отеля. «Меня тайно крестили, – признался он в сумерках. – Я грек. Кем я еще могу быть? Я верю в Бога… Мы все здесь фукарадес [бедные несчастные ублюдки]». Через несколько дней двое греков из соседней деревни были убиты при попытке пересечь границу с Грецией. Их тела были повешены вниз головой на центральной площади.
Это был мир, в котором время остановилось: смутный период, в котором люди бушевали, проливали кровь, жили мечтами, впадали в экстаз. Но выражение их лиц оставалось отстраненным, застывшим, как на запыленных изваяниях. «Мы здесь все полностью погружены в нашу историю», – сказал мне Любен Гоцев, бывший министр иностранных дел Болгарии.
Здесь у меня возникла страсть к средневековым церквям и монастырям с их старинными книгами и фотографиями. По пути, встречаясь с людьми, я всегда расспрашивал их о прошлом. Только таким образом становится понятно настоящее.
Эти земли требуют любви к тайне. Я месяцами обшаривал антикварные книжные магазины, общался с книготорговцами. Я знал, что книги, которые лучше всего могли бы объяснить жесткость румынской революции декабря 1989 г., не публиковались десятилетиями, а некоторые и того больше.
Американский журналист и политический радикал Джон Рид в компании с художником Боурдменом Робинсоном с апреля по октябрь 1915 г. путешествовал по Сербии, Македонии, Румынии, Болгарии, Греции и Турции. Отчет об этом путешествии Рид опубликовал в книге «Война в Восточной Европе», которая вышла в 1916 г., за год до его поездки в Россию, которую он описал в книге «Десять дней, которые потрясли мир». Из всех книг Рида «Война в Восточной Европе» наименее известна. Мне пришлось выложить 389 долларов и 11 центов за первое издание с автографом автора. Карандашные рисунки прикрывает вощеная бумага. Рид пишет: «В возбуждении внезапного вторжения, отчаянного сопротивления, захвата и разрушения городов люди, кажется, теряют свои характерные персональные и национальные отличия и становятся похожими друг на друга в безумной демократии битвы». Рид предпочитал наблюдать их после того, как «они стали относиться к войне как к работе, стали приспосабливаться к этому новому образу жизни и говорить и думать о других вещах».
Мне хотелось поступить так же: увидеть забытые задворки Европы не в разгар революций или эпохальных выборов, а непосредственно после, когда разные народы стали приспосабливаться к этому новому образу жизни.
Среди старых фотографий мне попалась фотография эрцгерцога Франца Фердинанда на военных маневрах близ Сараева 27 июня 1914 г., за день до его убийства – преступления, которое послужило поводом для начала Первой мировой войны. Лошадиные копыта взбивают пыль. Франц Фердинанд сидит, выпрямившись в седле, нога прочно стоит в стремени, сабля на боку. Бородатое лицо выражает явную принадлежность к более невинной и впечатлительной эпохе, к миру, имеющему смутное отношение к реставрации Меттерниха и находящемуся в неведении (пусть и последние дни и недели) относительно технологических жестокостей современной войны и тоталитаризма.
На другом фото изображен убийца Франца Фердинанда – боснийский серб Гаврило Принцип. На момент покушения ему не исполнилось и двадцати лет. Выглядит он обманчиво хрупким, но это – пружина мышц. Его взгляд полон животной энергии, он совсем не такой, как мертвый взгляд современных террористов, которые убивают с большого расстояния, с помощью автоматического оружия и бомб, приводимых в действие воздушными гироскопами.
С тех пор как были сделаны эти снимки, пролетели как единый миг, самые напряженные семьдесят пять лет мировой истории. Но при сравнении с лицами людей, которых я встречал на пути, и с голосами, которые я слышал, эти фотографии уже не кажутся столь старыми.
Белград, Бухарест, София, Афины, Адрианополь. Это были самые притягательные точки для амбициозных журналистов, своего рода Сайгон, Бейрут и Манагуа более ранней эпохи. Эрнест Хемингуэй в 1922 г. отправил один из своих самых знаменитых репортажей из Адрианополя (ныне Эдирне в турецкой Фракии), в котором описал, как греческие беженцы «слепо бредут под дождем» со всеми своими пожитками, сваленными на повозки, запряженные волами.
Балканы с самого начала были третьим миром, задолго до того, как западная пресса придумала этот термин. На этом гористом полуострове, граничащем с Ближним Востоком, газетные корреспонденты писали первые в XX в. репортажи об исчерченных грязью маршах беженцев, сочиняли первые книги в жанре гонзо-журналистики и путевых дневников в ту эпоху, когда Азия и Африка казались еще где-то слишком далеко.
Что бы ни происходило в Бейруте и других подобных местах, сначала, задолго до этого, происходило на Балканах.
Балканы породили первых террористов XX в. ВМРО (Внутренняя македонская революционная организация), существовавшая в 1920–1930-х гг. на деньги болгарских спонсоров с целью возвращения частей Македонии, захваченных Грецией и Югославией после Второй Балканской войны, – это прототип Организации освобождения Палестины. Подобно современным шиитам из южных пригородов Бейрута, киллеры ВМРО, приносившие клятву на оружии и православной Библии, были выходцами из безродного сельского пролетариата трущоб Скопье, Белграда и Софии. Захват заложников и массовые убийства невинных людей были в порядке вещей. Даже фанатизм иранского духовенства имеет прецеденты на Балканах. Во время Балканских войн 1912 и 1913 гг. греческий епископ в Македонии распорядился убить болгарского политика, а отрубленную голову доставить в храм, чтобы сфотографировать.
На Балканах зародилась история XX в. Здесь нищета и этническое соперничество разделяли людей, обрекая их на ненависть. Здесь политика была сведена почти до уровня анархии, которая время от времени поворачивала течение Дуная в сторону Центральной Европы.
Нацизм, к примеру, может претендовать на балканские корни. В венских ночлежках, этом рассаднике этнических обид, близких южному славянскому миру, Гитлер учился столь заразительной ненависти.
Как выглядит земля, на которой люди совершают чудовищные преступления? Есть ли там дурной запах, или гений места, или что-то в ландшафте, способствующее злодеяниям?
Я отправился в путешествие из Центральной Европы, из Нюрнберга и Дахау, но там я почти ничего не почувствовал. Эти места превращены в музеи; они больше не живут и не извергают огонь. Сохранившаяся стена стадиона, где проходили массовые сборища нацистов, теперь часть корта для сквоша, в который играют немецкие яппи.
Впервые я что-то почувствовал в Вене. Вольфганг Амадей Моцарт в австрийской столице удостоен памятника, его именем названы улица и площадь. Доктор Карл Люгер удостоен более крупного памятника, в его честь названа более крупная улица в самой величественной части Рингштрассе – Доктор-Карл-Люгер-Ринг[6]: здесь расположены здание парламента в стиле неоклассицизма, университетские здания эпохи Ренессанса, барочный Бургтеатр, готическое здание ратуши и Фольксгартен (Народный сад).
Люгер, бургомистр Вены начала XX в., наряду с Георгом фон Шонерером, другим австрийским политиком того же периода, считается отцом политического антисемитизма. Адольф Гитлер пишет в Mein Kampf: «Я считаю этого человека величайшим немецким бургомистром всех времен… если бы доктор Карл Люгер жил в Германии, он бы находился среди величайших умов нашего народа». Гитлер пишет, что свои идеи он почерпнул непосредственно у Люгера. Вечером 29 мая 1895 г. Теодор Герцль, узнав, что Люгер победил на выборах в Венский городской совет, сел за стол набрасывать план исхода евреев из Европы.
Я смотрел на памятник Карлу Люгеру на площади Карла Люгера (не путать с Доктор-Карл-Люгер-Ринг). В роскошном наряде, с рукой прижатой к сердцу, der schöne Karl («прекрасный Карл») устремил взгляд в будущее. Постамент украшен фигурами обнаженных по пояс рабочих, вооруженных лопатами и кирками.
В современной Германии такой памятник стал бы причиной скандала. Но в Австрии не извиняются. «Карл Люгер был величайшим бургомистром Вены, – сказал местный австрийский журналист, пожав плечами. – На самом деле он не был антисемитом. Он использовал антисемитизм только как политический метод».
Я двигался дальше. Меттерних говорил, что Балканы начинаются с Реннвег – дороги, ведущей на юго-восток от Вены.
Чем ближе оказываешься к восточной или южной окраине немецкоязычного мира, другими словами, чем ближе оказываешься к представляющим угрозу и более многочисленным славянам, тем более нервным и опасным становится германский национализм. На восточной границе германского мира, в Померании и Силезии, немцы оспаривают законность польской границы. На юге, в Австрии, где в «германских» венах на самом деле течет кровь славянского мира, отрицание этого неоспоримого факта принимает форму косной пангерманской паранойи.
Я приехал в Клагенфурт, столицу южной австрийской федеральной земли Каринтия, известный как «Эльдорадо для бывших нацистов». Из Каринтии, если считать пропорционально размерам, вышло больше охранников лагерей смерти, чем из любого другого региона Австрии или Германии. В 1980-х гг. в Клагенфурте возникло движение за сегрегацию школ: не приведи господи, если немецкие дети будут учиться вместе со словенцами, которые являются этническими славянами. Я побывал в офисах правой политической Партии свободы и Kartner Heimatdienst[7] – полувоенной организации, основанной после Первой мировой войны и воскресшей – с неонацистской ориентацией – в 1950-х гг. Я попытался спровоцировать партийного представителя. Но был разочарован.
Вопрос: Симон Визенталь говорил мне, что любая политическая партия в демократической стране типа Австрии, которая использует в своем названии слово «свобода», является либо нацистской, либо коммунистической. Что вы на это скажете?
Ответ: Герр Визенталь очень уважаемый человек. Он имеет право на свое мнение. Тем не менее позвольте пояснить, чем мы отличаемся…
Мне сказали, что идея Великой Германии, включая Австрию, умерла. Австрийские правые заинтересованы только в сохранении чистоты немецкого языка в лингвистически пограничном регионе.
Стены офиса Партии свободы украшают не лозунги или старые полковые фотографии, а безвкусные произведения современного искусства. Затем следующее разочарование: на улицах Клагенфурта я увидел не опасный коричневорубашечный провинциализм, а самый настоящий праздный класс, о котором писал Торстейн Веблен.
Подростки явно из богатых семей рассекали на раскрашенных во все цвета радуги маунтинбайках. Я видел мужчину в малиновом замшевом блейзере и очках от Giorgio Armani и женщин в одежде от Jil Sander и Gerlain, в шелковых шарфах самых изысканных осенних тонов. Если не обращать внимания на тонированные, в хромированных рамах окна офисов, здания в псевдобарочном стиле напоминали изящно нарезанные ломтики вишневого торта «Шварцвальд». Модели железных дорог, сумки и чемоданы от Samsonite, космические станции Lego и schmuck (ювелирные украшения) от Тиффани заполняли стеклянные витрины, выставленные посередине тротуаров. В паре шагов от магазина Mothercare в другой лавке продавалось женское нижнее белье из Парижа – столь же дорогое, сколь и неприличное. Парфюм продавщицы-блондинки имел явно выраженный потный, животный запах.
Потомки эсэсовцев стали ухоженными, дрессированными тиграми, безопасно размещенными в домах-коробочках среднего класса.
Все куда-то спешили по своим делам. Единственные баннеры, которые мне попались на глаза, рекламировали компании кредитных карт. В витрине туристического агентства Израиль был представлен лишь как одно из зимних направлений отдыха для местных солнцепоклонников. Правоверные сторонники Партии свободы и Heimatdienst были надежно изолированы и вынуждены поддерживать облик респектабельности. Вместо антисемитизма и прочих традиционных крайностей здесь торжествовал безудержный консьюмеризм. Каринтийцы стали одомашненным видом.
Начиная с 1989 г. Партия свободы, стремясь увеличить свое представительство в парламенте, все больше и больше говорит о сотрудничестве со словенцами. Старый охотник за нацистами Визенталь объяснил мне причину: «При отсутствии экономического кризиса Партии свободы не остается ничего иного, как адаптироваться». Для излечения зла, застывшего в его скелетной форме, говорил этот старец, требуется не покаяние и страдания, а седативное воздействие буржуазной демократии и процветания на протяжении не одного десятилетия. Только тогда система настолько окрепнет, что на нее не повлияет даже экономическая катастрофа.
Начиналось последнее десятилетие XX в. Я поверил Визенталю, а не Меттерниху. Балканы отныне начинаются не от ворот Вены и даже не от Клагенфурта.
На южной границе Австрии с тем, что некогда было Югославией, отопление, даже в вагонах первого класса, отключили. Вагон-ресторан отцепили. То, что появилось на его месте, оказалось всего лишь помещением с цинковой стойкой, за которой продавали пиво, сливовицу и вонючие сигареты без фильтра. С каждой остановкой у стойки скапливалось все больше людей с грязными ногтями. Они курили и пили. Когда они не кричали друг на друга и не заглатывали алкоголь, то тихо коротали время за порнографическими журналами. В отличие от их австрийских коллег-работяг у них не было причесок в стиле унисекс, и они явно не планировали провести зимний отпуск в Тунисе или Израиле. Если бы Партии свободы и Heimatdienst повезло заполучить здесь бедный нативистский избирательный округ, они могли бы запросто отбросить свое современное искусство и обманчиво нейтральные ответы на вопросы корреспондентов.
Снег бил в окно вагона. Клубы черного угольного дыма поднимались из кирпичных и железных труб. Здешняя земля имела вид грубой, изможденной проститутки, грязно ругающейся между приступами кашля. Ландшафт злодеяний оказался легко узнаваем: коммунизм оказался Великим Таксидермистом.
У меня было мало времени. Вскоре, к концу 1990-х или в следующем десятилетии, этот холст потускнеет, как это уже произошло в Клагенфурте.
Часть I. Югославия: историческая увертюра
Я приехала в Югославию, чтобы увидеть историю в ее плоти и крови.
Ребекка Уэст. Черная овца и серый соколГлава 1. Хорватия: «Только так они могут попасть в рай»
Прошлое в Загребе лежало под ногами: мягкий, толстый ковер листьев, мокрых от дождя, в котором тонули мои ноги, тем самым привнося в него настоящее. От железнодорожного вокзала я шел сквозь полосы тумана, желтоватого от горящего угля, химического эквивалента сжигаемой памяти. Туман двигался быстро, в его разрывах время от времени можно было четко увидеть кованую железную решетку или барочный купол. Я понял, что это – тоже прошлое: просвет в тумане, сквозь который что-то можно различить.
Столица бывшей югославской республики Хорватия – последний европейский город с железнодорожным сообщением, в который путешественник совершенно ожидаемо может прибыть поездом, поскольку отель «Эспланада», построенный в 1925 г. и до сих пор считающийся одним из лучших отелей мира, находится всего через улицу от вокзала.
Величайшая книга путешествий XX в. начинается с Загребского железнодорожного вокзала дождливой весной 1937 г.
В 1941 г., когда впервые была опубликована книга дамы Ребекки Уэст «Черная овца и серый сокол», New York Times Book Review назвало ее апофеозом жанра путешествий. Обозреватель New Yorker заявил, что ее можно сравнить только с книгой Т. Э. Лоуренса «Семь столпов мудрости». Строго говоря, эта книга – рассказ о шестинедельном путешествии по Югославии[8]. Говоря в целом, эта книга, как сама Югославия, – самостоятельный, широко раскинувшийся мир. Двухтомный, состоящий из полумиллиона слов энциклопедический реестр страны; династическая сага Габсбургов и Карагеоргиевичей; диссертация по византийской археологии, языческому фольклору и христианской и исламской философии. Книга представляет также увлекательнейший психоанализ немецкого мышления и корней фашизма и терроризма, уходящих в XIX столетие. Она была предупреждением, почти идеальным провидением опасности, которую представлял для Европы 1940-х гг. и последующих десятилетий тоталитаризм. Эту книгу, как Талмуд, можно перечитывать бесконечно, находя в ней все новые смыслы.
«Если бы Ребекка Уэст была богатой женщиной Средневековья, она могла бы стать великой аббатисой. Если бы она была бедной женщиной XVII столетия, ее бы сожгли на костре как ведьму», – пишет Виктория Глендиннинг в книге «Ребекка Уэст. Биография» (Rebecca West: A Life). Глендиннинг называет «Черную овцу и серого сокола» «центральной книгой» Ребекки Уэст, автора еще двадцати романов и публицистических книг, молодой любовницы Г. Д. Уэллса, социального изгоя, сексуальной бунтовщицы, которая на протяжении всей жизни конструировала «свои взгляды на религию, этику, мифологию, искусство и отношения полов».
Само название книги – атака на христианскую доктрину распятия и искупления, согласно которой Иисус, принеся себя в жертву, искупил все наши грехи перед Богом.
«Черная овца» представляет собой животное, которое принесли в жертву на мусульманском обряде плодородия в Македонии. «Вся наша западная мысль, – пишет Уэст, – основана на отвратительном представлении, что боль – достойная цена за любое доброе дело». «Серый сокол» символизирует трагическую реакцию человечества на принесение в жертву «черной овцы». В сербской поэме пророк Илия, обратившись в сокола, предлагает сербскому полководцу выбор между земным и небесным царством. Полководец выбирает последнее, возводит церковь вместо того, чтобы готовить войско, поэтому турки наносят ему поражение. Иными словами, неистовствует автор, перефразируя тайное желание пацифистов, «поскольку плохо быть священником и приносить в жертву овцу, я стану овцой, которую принесет в жертву священник».
Проблема противостояния добра и зла, определения должного отношения между пастырем и паствой мучает Загреб и по сей день.
Проведя в городе лишь несколько дней, Ребекка Уэст поняла, что Загреб, к сожалению, представляет «театр теней». Люди оказались настолько поглощены своим собственным разъединением, противостоянием хорватов-католиков и сербов-православных, что превратились в фантомы задолго до прихода нацистов.
Нацистская оккупация стала детонатором существующего напряжения. В первобытной ярости – если не простой численности – убийства православных сербов в католической Хорватии и соседней Боснии и Герцеговине абсолютно сопоставимы с теми, что творились в оккупированной нацистами Европе. Сорок пять лет систематической бедности при режиме Тито не способствовали исцелению ран.
Я приехал в Загреб поездом из Клагенфурта. Последнее десятилетие века лежало передо мной. Мой слух был настроен на призрачные, тлеющие голоса, и я чувствовал, что они готовы громко зазвучать снова.
Этнический серб, с которым я познакомился в поезде, говорил мне: «У хорватских фашистов в Ясеноваце не было газовых камер. У них были только ножи и дубинки, которыми они и убивали сербов в огромных количествах. Бойня была хаотичной, никто не удосуживался вести счет. Так что мы здесь на десятилетия отстали от Польши. Там евреи и католики ведут борьбу вокруг значимости. Здесь хорваты и сербы до сих пор спорят о цифрах».
Цифры – это все, что имеет значение в Загребе. Например, если вы скажете, что хорватские усташи («повстанцы») убили 700 000 сербов в Ясеноваце – лагере смерти периода Второй мирровой войны, расположенном в ста километрах к юго-востоку от Загреба, – вас признают сербским националистом, который презирает и хорватов, и албанцев, считает покойного хорватского кардинала и архиепископа Загреба Алоизия Степинаца «нацистским военным преступником» и поддерживает лидера Сербии Слободана Милошевича – подстрекателя и националиста. Но если вы скажете, что фашисты-усташи убили лишь 60 000 сербов, вас заклеймят хорватским националистом, который считает кардинала Степинаца «любимым святым» и презирает сербов и их лидера Милошевича.
Кардинал Степинац, символ Хорватии конца 1930–1940-х гг., – оружие против Милошевича, сербского символа 1990-х гг., и наоборот. Поскольку в Загребе история не движется, конец 1930-х – 1940-е гг. все еще кажутся настоящим временем. Нигде в Европе с наследием военных преступлений нацизма не разобрались так плохо, как в Хорватии.
В городском ландшафте Загреба главную роль играют объем и пространство; цвет имеет второстепенное значение. Городу, чтобы показать себя, не нужен солнечный свет. Облачность – хорошо. Ледяной моросящий дождь – еще лучше. Я прошел под дождем сто метров от здания железнодорожного вокзала до отеля «Эспланада». Это огромное, цвета морской волны сооружение, которое легко принять за правительственное здание, демонстрирующее роскошь декаданса – восхитительный сумрак – эдвардианской Англии или Вены периода fin-de-siècle. Я вошел в ребристый, из черно-белого мрамора вестибюль с зеркалами в золоченых рамах, бархатными гардинами и ламбрекенами и малиновыми коврами. Мебель насыщенного черного цвета, плафоны светильников – золотисто-зеленого. Вестибюль и ресторан похожи на художественную галерею, картины которой вызывают в памяти вселенную Зигмунда Фрейда, Густава Климта и Оскара Кокошки: модернистская иконография, указывающая на социальный распад и торжество насилия и полового инстинкта над властью закона.
Славенка Дракулич – журналистка из Загреба, которая пишет по-хорватски для местного журнала Danas («Сегодня») и по-английски для New Republic и Nation. На ней дизайнерские темные очки, в волосах ярко-красная ленточка, идеально гармонирующая с красной кофточкой и цветом помады. Она, как и другие женщины в баре отеля, одета с щегольством, дополняющим дерзость оформления интерьера отеля. Общая идея вычитывается безошибочно: несмотря на бедность, организованную коммунистами, сырые, плохо прогреваемые дома и скудные магазинные витрины, мы, хорваты, римские католики, а Загреб – восточный бастион Запада; ты, гость, все еще в орбите Австро-Венгрии, Вены, где практически изобрели современный мир, и не смей забывать об этом!
Славенка, жестикулируя пальцами, которые порхают, как крылья бабочки, разъясняет мне югославскую дилемму. «Тут у нас не Венгрия, Польша или Румыния. Скорее это Советский Союз в миниатюре. Например, в Литве происходит одно, в Таджикистане – другое. В Хорватии происходит одно, в Сербии или Македонии – совсем другое. Каждая ситуация уникальна. И легких проблем не бывает. Из-за того что Тито порвал со Сталиным, враг Югославии всегда был внутри, а не вовне. Многие годы нас дурили тем, что было только иллюзией свободы».
Я сразу уловил, что контрреволюция в Восточной Европе захватила и Югославию. Но, поскольку давление недовольства распространялось по горизонтали, в форме борьбы одной группы с другой, а не по вертикали – против коммунистической власти Белграда, революционный путь Югославии оказался вначале более извилистым и, соответственно, более искаженным. Именно поэтому внешний мир до 1991 г., пока не началась война, не обращал на нее внимания.
Не надо обладать даром предвидения, чтобы понять, что последует дальше. Мой визит в Югославию оказался мистически точно рассчитан: каждый, с кем мне довелось разговаривать, от местных жителей до иностранных дипломатов, уже как бы смирился с тем, что впереди – большое насилие. Югославия распадалась не в одночасье, а постепенно, методически, на протяжении всех 1980-х гг. становилась беднее и запущеннее. Год за годом накапливалась ненависть. Поэтому все разговоры, которые я вел, имели грустный оттенок. Мы все кричали окружающему миру о надвигающейся катастрофе, но никто не хотел слышать нашу страшную тайну. Это никого не интересовало. Мало кто даже представлял, где именно находится, к примеру, Хорватия. Когда я звонил по телефону из своего номера в «Эспланаде» и объяснял, что нахожусь на Балканах, многие считали, что я на Балтике.
«Тебе нужно побыть в Загребе хотя бы пару недель. Нужно встретиться с очень многими людьми. Нитки здесь очень тонкие. Все так переплетено, все очень сложно». Пальцы-бабочки Славенки, казалось, поникли от отчаяния и упали на стол. Здесь, как она сказала, борьба между капитализмом и коммунизмом – лишь одно измерение борьбы, которую ведет католицизм против православия, Рим против Константинополя, наследие габсбургской Австро-Венгрии с наследием османской Турции, иными словами, Запад с Востоком. Абсолютный исторический и культурный конфликт.
В ближайшие дни Загреб и отель «Эспланада» сжались до пронзительной эхокамеры: череда блестящих монологов, продолжительных и особо запоминающихся из-за дождя, от которого ландшафт и архитектура размывались и становились заметнее абстрактные идеи.
Совершенно не случайно книга «Черная овца и серый сокол» начинается в Загребе, посвящена Югославии и написана женщиной. Для подобной книги такое сочетание практически необходимо. Яркость и изобретательность талантливой вышивальщицы и кулинара в сочетании с земной восприимчивостью сельской женщины и будущей бабушки стали, несомненно, необходимыми компонентами, которые позволили даме Ребекке проникнуть в лабиринт мыслей, страстей, национальных историй Азии и Европы и выткать из них цельный, нравственно ориентированный гобелен.
9 октября 1934 г., за два с половиной года до своей поездки, дама Ребекка впервые произнесла слово «Югославия». В тот день, прикованная к постели после недавней операции, она услышала по радио, что агент хорватских усташей совершил покушение и убил главу сербского королевского дома короля Александра I Карагеоргиевича, который прибыл в Марсель с государственным визитом. Через несколько дней она увидела кинохронику, посвященную этому убийству. Когда камера показала крупным планом лицо умирающего сорокашестилетнего короля, у Ребекки Уэст зародилась страсть к его стране. Она инстинктивно почувствовала, что это благородное лицо умирающего человека – еще одна веха на пути к кошмарному катаклизму, еще более ужасающему, чем Первая мировая война, который она еще не в состоянии определить. Поэтому она отправилась в Югославию исследовать природу грядущего катаклизма. Политика Югославии идеально отражает исторический процесс и поэтому более предсказуема, чем думают многие.
«Черная овца и серый сокол» привели меня в Югославию. До 1990-х гг. путешествие здесь не представляло собой ни опасного для жизни приключения, ни бегства в визуальную экзотику; напротив, оно предполагало столкновение с самыми важными и страшными вопросами века. Югославия – также история тончайших этнических различий, напластовавшихся за долгое время и сопротивляющихся конденсации на верхних слоях, на новых страницах. Как человек, ранее освещавший военные конфликты в Африке и Азии, я чувствовал себя одновременно отравленным и неадекватным. Моим проводником была умершая женщина, чьи совершенно актуальные мысли казались мне более страстными и точными, чем у любого возможного писателя-мужчины. Я предпочел бы потерять паспорт и деньги, нежели зачитанную, испещренную пометками книгу «Черная овца и серый сокол». Она, наряду с «Войной в Восточной Европе» Джона Рида, никогда не оставалась в гостиничном номере. Я возил их с собой всюду по Югославии.
Слово «Загреб» означает «за холмом». На холме расположен верхний город, который господствует над нижним. В нижнем городе – железнодорожный вокзал, отель «Эспланада», здания и павильоны в стиле неоренессанс, ар-нуво и сецессион, разделенные большими зелеными пространствами. Высоко на холме, над нижним городом, величественный готический кафедральный собор с крепостными стенами, настоящий мини-Кремль. В XIII в. он был разрушен и восстановлен в конце XIX. Этот собор – крупнейшее сооружение Римско-католической церкви на Балканах. В нем располагается Загребская архиепархия-митрополия. Посетив его в канун Пасхи 1937 г., дама Ребекка восклицала: «Яркость чувств возникала не только от ощущения огромной и бодрящей силы, но и от осознания благородного происхождения реальной страсти, целостной веры».
К тому моменту очень многое говорило в пользу столь возвышенного описания. На протяжении сотен лет, отчасти откликаясь на беззакония австро-венгерского правления, католические теологи Хорватии интенсивно выступали за христианское единство среди южных славян. Эти теологи смотрели дальше раскола между Римом и Константинополем, произошедшего в 1054 г., смотрели на деяния апостолов IX в. Кирилла и Мефодия, которые обратили славян в христианство. Но после раскола 1054 г. большинство обращенных Кириллом и Мефодием стали членами конкурирующей православной церкви, и хорваты оказались практически единственными в католическом мире почитателями этих двух апостолов.
В XIX в. фигуры Кирилла и Мефодия стали появляться в хорватских церковных кругах как символы единства между католической и православной церквями. Активно выступал за это епископ Йосип Штросмайер – многогранная личность, хорватский патриот, филантроп, основатель Загребского университета, талантливый лингвист и садовник, заводчик лошадей липицианской породы, знаток вин и прекрасный рассказчик. Как интеллектуал-католик и хорват, Штросмайер полностью признавал равенство и легитимность Сербской православной церкви. Когда он направил поздравительное письмо православным епископам в связи с тысячелетием со дня рождения Мефодия, коллеги-католики в Австро-Венгрии и Ватикане его осудили. Император Франц Иосиф бросил оскорбление в лицо Штросмайеру. В ответ Штросмайер предупредил Габсбургов, что продолжающиеся беспорядки в Боснии и Герцеговине, провинции к юго-востоку от Хорватии, где жили и сербы, и хорваты, и местные мусульмане, могут привести к крушению всей империи. Именно так все и произошло. Дама Ребекка с почтением охарактеризовала Штросмайера как «бесстрашного обличителя австро-венгерской тирании». Она пишет, что Штросмайера, сражавшегося как против антисемитизма, так и против антисербского расизма, Ватикан XIX в. ненавидел потому, что считал его «прискорбно лишенным нетерпимости».
Однако когда дама Ребекка посетила Загреб весной 1937 г., в умах хорватских католиков вызревала новая мысль о единении славянских христиан, отличная от той, которую проповедовал Штросмайер. Изменения происходили под активным влиянием архиепископа-коадъютора Алоизия Степинаца, который к концу этого года станет архиепископом Загреба.
Степинац родился в 1898 г. в зажиточной крестьянской семье к югу от Загреба. Он был пятым из восьми детей. Принимал участие в Первой мировой войне, затем изучал агрономию и стал активным участником католической студенческой ассоциации. В 1924 г. он разорвал помолвку с местной девушкой и перешел в духовенство. Последующие семь лет провел в престижном иезуитском Грегорианском университете в Риме. Обучение смог оплатить его состоятельный отец. По окончании Степинац попросил назначить его в небольшой приход. Но архиепископ Загреба Антун Бауэр (безусловно, учитывая научные достижения Степинаца, который уже обладал докторской степенью по философии и теологии), привлек тридцатидвухлетнего одаренного человека к работе в своей канцелярии.
Трудно представить двух более непохожих хорватов-католиков, чем Штросмайер и Степинац. Штросмайер был южнославянским националистом, боровшимся против австрийцев и Ватикана, а Степинац – чисто хорватским националистом, который поддерживал Ватикан и австрийцев в их борьбе против своих южнославянских братьев – сербов. Степинац, по словам архиепископа Бауэра, с юных лет был «чрезвычайно праведным», в то время как Штросмайер любил вино, лошадей и красивую жизнь.
Молодой Степинац считал своих коллег по католической студенческой ассоциации недостаточно религиозными. На церемонии помолвки, еще до того, как обратиться в духовенство, Степинац отказался поцеловать невесту, сказав, что «это не таинство». Заняв в 1934 г. пост архиепископа-коадъютора, Степинац облачился в пояс и наплечник францисканцев, чтобы публично идентифицировать себя с идеалом бедности. Вскоре он стал проводить службы и шествия против богохульства и плотских грехов. Его страстные выступления, особенно против совместного купания и загорания на пляжах мужчин и женщин, несли явно кромвельский дух. Судя по дневнику Степинаца, он был убежден, что католические идеалы чистоты следует распространить и на православную Сербию. «Если бы было больше свободы, – писал Степинац, – Сербия за двадцать лет стала бы католической». В своем догматизме он считал всех православных изменниками. «Самым идеальным для сербов было бы вернуться к вере своих отцов, то есть преклонить голову перед наместником Христа на земле – Его Святейшеством. Тогда мы наконец смогли бы свободно дышать в этой части Европы, поскольку византинизм играл устрашающую роль… в связи с турками».
Стелла Александер в подробном и сочувственном описании карьеры Степинаца «Тройной миф: Жизнь архиепископа Алоизия Степинаца» (The Triple Myth: A Life of Archbishop Alojzije Stepinac) пишет, что когда он «позже, во время Второй мировой войны, увидел на практике плоды своих идей, то пришел в ужас».
Я вошел в Загребский собор и обратил внимание на ряд плакатов с изображениями папы Иоанна Павла II. Образ папы всегда имел особое значение в Хорватии благодаря одному-единственному факту: несмотря на близость Хорватии к Италии и Ватикану и несмотря на пограничное положение между западным и восточным христианством, о примирении с которым папы давно думали, этот папа, который уже посетил самые дальние уголки Африки и Азии, за свои первые десять лет в роли понтифика все еще не добрался до Хорватии. Это объясняется в первую очередь наследием кардинала Степинаца.
В нефе мое внимание привлекла массивная бронзовая скульптура с изображением страданий Христовых, «Голгофа» хорватского скульптора Ивана Орлича. Расположенная справа у входа в собор, она источает силу и мощь. Группа монахинь в белых одеждах преклонили колени перед ней в молчаливой молитве. Над ними, на голубом потолке, сияют золотые звезды. Я прошел вперед, к левой стороне алтаря, где расположен каменный барельеф с изображением коленопреклоненного Степинаца, которого благословляет Христос. Это гробница Степинаца. На этом месте он был захоронен в стене собора в 1960 г. Памятник сделан другим, более известным хорватским скульптором Иваном Мештровичем. Его создание оплатили американцы хорватского происхождения. Он преднамеренно мал, преуменьшен и наивен. Мелкие детали прочерчены словно ножом. Люди проходят мимо и преклоняют колени так же, как делают перед гораздо более крупной и впечатляющей статуей Христа на Голгофе. Папа Иоанн Павел II тоже хотел преклонить колени перед этим скромным монументом. Именно из-за этого конкретного пожелания федеральные чиновники Загреба, по преимуществу сербы, долго отказывали ему в разрешении посетить Загреб.
Когда я впервые посетил гробницу Степинаца в 1984 г., ко мне подошла пожилая женщина и с мольбой в голосе попросила: «Напиши хорошо о нем. Он – наш герой, а не военный преступник». А официальные представители тогда еще коммунистического Белграда заявили мне следующее: «Наше решение окончательное. Степинац – двурушник и палач, священник, который одной рукой крестил, а другой отправлял на бойню». Официальные лица затем рассказали мне, как католические священники по указанию Степинаца совершали обряды массового обращения в католичество православных сербов за минуты то того, как их казнили хорватские усташи, – потому что «только так они могут попасть в рай».
Я тогда решил, что у меня есть замечательная тематическая статья. Но потом мне попались мемуары «Длинный ряд свечей» (A Long Row of Candles) С. Л. Сульцбергера, ведущего международного корреспондента и колумниста New York Times. Оказалось, что он описал эту самую историю тридцать четыре года назад, в 1950 г. Сульцбергер вспоминал: «Православные сербы всех политических оттенков подходили ко мне и сурово заявляли: «Степинаца следовало повесить. Именно он потворствовал убийству тысяч православных». Когда я вернулся в Загреб, ко мне подошли двое мужчин и сказали: «Ты американский журналист? Ты встречался с архиепископом (который в свое время сидел в коммунистической тюрьме)? Он прекрасный человек. Святой. Расскажи американцам, что он наш герой».
Когда я снова спустя пять лет оказался в Загребе, уже в 1989 г., вина или невиновность Степинаца все еще оставалась под вопросом. За три года до этого, в 1986 г., из Соединенных Штатов в Загреб был депортирован Андрия Артукович, бывший министр внутренних дел нацистского марионеточного государства Хорватия периода Второй мировой войны. Его должны были судить как военного преступника. Появление Артуковича на родной земле пробудило старые воспоминания, и коммунистические власти смогли отреагировать только плохо организованным судилищем в сталинском духе, которое воспламенило страсти, имеющие отношение и к Степинацу. Артукович, больной старик, был признан виновным и приговорен к смертной казни, но умер в заключении до того, как приговор успели привести в исполнение. Место его захоронения оставили в тайне: белградские коммунисты, в основном сербы, боялись, что хорваты превратят его могилу в место поклонения. Судьбой Артуковича стало бесчестье.
Наблюдатель мог заметить, как год за годом накапливалась ненависть. В конце 1980-х гг. масштаб дела Степинаца стал разрастаться, по мере того как позиции конфликтующих сербов и хорватов ужесточались под давлением нарастающей бедности, роста ежегодной инфляции в несколько тысяч процентов и собственно фрагментации Югославской федерации. Все чаще можно было слышать слово геноцид.
В ходе моего последнего визита в Загреб в 1989 г. появился новый фактор: публикация фрагментов личного дневника Степинаца в еженедельнике Danas. Дневники нашел местный историк Любо Бобан. Бобан, хорват, отказался говорить, когда и каким образом они к нему попали. «Это секрет», – сказал он мне в своем кабинете в Загребском университете и подчеркнул, что записи за наиболее острый период первой половины 1942 г. «таинственным образом исчезли». Он намекнул, что их может скрывать церковь. Опубликованные дневники, подлинность которых не подвергается сомнению, представляют Степинаца не в самом лучшем свете. Они показывают его как человека, который, несмотря на университетское образование, полученное в Риме, оказался под влиянием глубоких деревенских предрассудков и вполне серьезно относился к таким вещам, как масонские заговоры.
Я покинул собор и направился вдоль по улице к дому монсеньора Дуро Коксы, который великодушно меня принял, как и пять лет назад, хотя я даже предварительно не позвонил, чтобы договориться о встрече. Ближайший сподвижник кардинала Загреба Франьо Кухарича, монсеньор Кокса был самой важной фигурой в хорватской церкви 1980-х – начала 1990-х гг. Поскольку монсеньор Кокса много лет жил за границей и владел иностранными языками, он считал своим долгом принимать всех посетителей, сколь бы враждебно они ни были настроены, чтобы объяснить миру позицию хорватской церкви относительно болезненного исторического эпизода, который он считал слишком сложным, чтобы судить или упрощать. На такое способны только враги церкви.
– Степинац – великое духовное лицо Европы. Мы не позволим его губить. Мы будем защищать его. Допустим, он ненавидел масонов. Но у христиан всегда было к ним такое отношение. Что вы хотите?
Монсеньор Кокса сидел под распятием, в простом черном одеянии с белым воротничком священника. Кабинет украшали типичные балканские ковры и скатерти. Это был пожилой человек с седыми волосами. Лицо было искажено гримасой не только от отчаяния, но и от явной слабости. Морщины на лбу казались шрамами от давних битв.
– Это очень несправедливо. Дневники представляют личные мысли человека. Их опубликовали слишком рано. – В этом раскаленном политическом климате половина века не кажется достаточно большим интервалом. – Только церковь имела право давать разрешение на публикацию этих дневников, а не коммунисты.
Монсеньор Кокса намекает на то, что тот историк, Бобан, был агентом югославских коммунистических властей (то есть сербов), которые стремились подорвать католическую церковь и хорватскую нацию. В глазах здешней католической церкви Югославское государство после начала мучений Степинаца в 1946 г. при режиме Тито не имело легитимных оснований для существования.
– Это коммунисты должны встать на колени, как Брандт, а не церковь! – Монсеньор Кокса напомнил о знаменитом инциденте в Варшаве летом 1970 г., когда канцлер Западной Германии Вилли Брандт опустился на колени в жесте раскаяния перед памятником евреям, погибшим в Варшавском гетто. – Война в любом случае наполовину преступление. Почему один Степинац? Мы ничего не можем отрицать. То, что произошло в Ясеноваце, – трагедия. Может, там было убито шестьдесят тысяч, может, немного больше, но никак не семьсот тысяч. – Монсеньор продолжал: – Хорватия – главная страдалица во всей Югославии. Наш национализм молод, он еще даже не реализовался. Но все это слишком сложно, и вам не понять. Это вопрос менталитета.
Все тело монсеньора Коксы напряглось от отчаяния, как и морщины на лбу. Он понимал, что, если будет продолжать в таком духе, все пойдет неправильно, я посчитаю его неперестроившимся антисербским расистом, к тому же равнодушным к евреям. Он прищурился, глядя на меня, словно хотел сказать: «Вы считаете меня врагом, молодой человек, но это не так. Вы не представляете, что здесь творилось во время Второй мировой войны. Вам очень легко приехать из Америки, где ничего плохого не происходит, и судить нас. Но вы не лучше нас. Будьте осторожны в своих суждениях!»
Я встал, собираясь уходить. Монсеньор Кокса сказал, что всегда рад меня видеть и что я могу возвращаться и задавать ему вопросы о Степинаце сколько угодно. Я поблагодарил его. Я знал, что, если я даже напишу чудовищные вещи про него или Степинаца, он всегда будет готов встретиться со мной снова. Монсеньор Кокса славился поиском противников. На каком-то приеме он зацепился за Славко Гольдштейна, одного из лидеров местной еврейской общины. Они поехали в собор, чтобы продолжить дискуссию, но спор получился столь горячим, что они даже не вышли из машины. Они сидели в салоне автомобиля, остановившегося перед собором, над спящим городом, и спорили несколько часов, бросая друг другу в лицо дико несопоставимые цифры. Гольдштейн говорил, что хорватские усташи убили в Ясеноваце 20 000 евреев и 30 000 цыган. Но если верны цифры Гольдштейна и верно общее количество жертв Ясеноваца, признаваемое церковью, – 60 000, то там должно было погибнуть только 10 000 сербов. Обе стороны согласны в том, что главной целью усташей – в численном измерении – были православные сербы, поэтому монсеньор Кокса не соглашался с цифрами Гольдштейна относительно цыган и евреев. Но, несмотря на цифры, добавил монсеньор Кокса, Степинац все равно невиновен.
– Приходите ко мне еще, – предложил монсеньор Гольдштейну. Мне он предложил то же самое. – Это моя судьба: такую мне выбрал Бог.
Призрак Степинаца – основной символ сербско-хорватского конфликта, вокруг которого строятся все остальные этнические противоречия в этой ныне фрагментированной, но крупнейшей и имеющей решающее значение из всех Балканских стран. Чем больше будет пролито крови в югославской гражданской войне 1990-х гг., тем более актуальной будет становиться история Степинаца. Этот сюжет можно рассмотреть с точки зрения психологической теории масс, выдвинутой лауреатом Нобелевской премии по литературе Элиасом Канетти, уроженцем Болгарии, которая основана на «массовых символах».
Например, Канетти пишет, что массовым символом англичан является «море… Все катастрофы англичанина связаны с морем. ‹…› Его жизнь дома – лишь дополнение к жизни в море; ее основные характеристики – безопасность и монотонность». Для немцев массовый символ – «марширующий лес». Для французов – «их революция». Для евреев – «Исход из Египта. ‹…› Образ массы, движущейся год за годом по пустыне, стал массовым символом для евреев»[9]. К сожалению, Канетти не стал рассматривать балканские народы. Психологически замкнутая, племенная природа сербов, хорватов и прочих делает их столь же подходящими для массовых символов, как и евреи, и гораздо более подходящими, чем англичане или немцы.
Хорваты этнически неотличимы от сербов. Они принадлежат к одной славянской нации, говорят на одном языке, их имена обычно тоже не различаются. Поэтому их идентичность основывается только на римском католицизме. Следовательно, массовым символом хорватов может быть Церковь, или, более конкретно, запутанное и критикуемое наследие архиепископа Степинаца.
Факты, связанные с его карьерой архиепископа во время войны, психологически раскалывают сербов и хорватов (и, следовательно, Югославию) сильнее, чем что бы то ни было иное. По этой причине – и чтобы быть честным по отношению к этому человеку – некоторые из этих фактов требуют нашего внимания.
10 апреля 1941 г., вслед за вторжением немецких и итальянских войск, фашисты-усташи провозгласили создание «Независимого государства Хорватия». Реакция архиепископа Степинаца была «радостной», поскольку он считал создание «свободной» Хорватии божественным благословением на тринадцатый век с начала формирования тесных уз Хорватии с Римской церковью. 16 апреля он нанес официальный визит лидеру усташей Анте Павеличу. 28 апреля в послании хорватскому духовенству он писал:
Настали времена, когда говорит не язык, а кровь с ее мистической связью со страной, в которой мы появились на свет Божий. ‹…› Разве надо говорить, что теперь кровь струится быстрее по жилам, что сердца в груди бьются чаще… Ни один честный человек не может отрицать этого, ибо любовь к своему народу прописана в законах Божьих. Кто может упрекнуть нас, если мы как духовные пастыри внесем свой вклад в гордость и радость народа… В этом легко видеть руку Божью.
Нельзя сказать, чтобы Степинацу нравились немцы или что он доверял им. Нацистскую идеологию он считал «языческой». Но на протяжении многих лет у него выработался маниакальный страх перед коммунизмом, и он, как и многие его современники в Ватикане, усматривал связь этой идеологии с Русской православной церковью и, по ассоциации, с православной церковью Сербии. В 1935–1936 гг., когда он был архиепископом-коадъютором, под его влиянием полуофициальная газета хорватской церкви Katolicki List агрессивно нападала на «иудомарксистов» в России, «чуждых народу, над которым захватили власть». Но к 1937 г. Степинац увидел, что нацисты превратили традиционный антисемитизм, с которым он вырос, в нечто гораздо более экстремальное. С тех пор из антикоммунистических выпадов Katolicki List исчезли антисемитские мотивы.
Такая двойственность была трагически типична для архиепископа. Например, когда усташи, через месяц после прихода к власти, приказали всем хорватским евреям носить специальные отличительные знаки, Степинац в частной беседе с министром внутренних дел Андрием Артуковичем (который потом найдет прибежище в Соединенных Штатах) сделал предложение о том, чтобы евреи покупали эти знаки, как бы возмещая государству расходы на их выпуск, но на самом деле не обязаны были их носить. Затем Степинац выступил с требованием, чтобы все меры против евреев и сербов, особенно детей, выполнялись «гуманным» образом.
На этой развилке Степинац обладал настолько бесчувственной наивностью, что его осведомленность граничила со слепотой. Приветствуя установление режима усташей, он, например, сказал: «Зная людей, которые сегодня определяют судьбу хорватского народа… мы верим и надеемся, что церковь в нашем возродившемся Хорватском государстве окажется способна совершенно свободно объявить об установлении неоспоримых принципов вечной правды и справедливости».
Архиепископ, очевидно, не сознавал, что Хорватия при усташах стала не более чем марионеточным государством, поделенным между нацистской Германией и фашистской Италией. В «Тройном мифе» Стелла Александер пишет: «Два момента бросаются в глаза. Более всего он опасался коммунизма (особенно более фашизма); и ему было трудно представить, что все, происходящее за границами Хорватии, разумеется, за исключением Святейшего престола, является реальностью».
В то время, когда подразделения усташей-фашистов в соседней Боснии сбрасывали со скал православных женщин и детей, а войска Адольфа Гитлера маршировали по территории Советского Союза, создавали лагеря смерти и совершали всяческие злодеяния, Степинац твердо заявлял: «Весь цивилизованный мир борется против кошмарной опасности коммунизма, который сейчас угрожает не только христианству, но и всем позитивным ценностям человечества».
Александер пишет, что дневниковые записи до начала 1942 г. «ясные». Какие бы сомнения ни возникали у Степинаца в связи с участившимися слухами о государственно организованном насилии против православных сербов и евреев, они смягчались другими действиями лидера усташей Павелича, такими как запрет на вывешивание вызывающих изображений женщин в витринах магазинов и установление кратких тюремных сроков для тех, кто публично богохульствовал или работал в полях по воскресеньям.
Но затем, как показывает Александер в своей книге, Степинац постепенно приходит в ужас от сообщений о массовых убийствах. В результате он начинает понимать правду и обретает свой голос. Выступая перед студентами в марте 1942 г., архиепископ заявляет, что «свобода без полного уважения законов Божьих – пустая фикция». А в одно апрельское воскресенье 1942 г. Степинац встретил диктатора Павелича на ступенях Загребского собора с хлебом и солью. Глядя ему в глаза, архиепископ произнес: «Шестая заповедь гласит: «Не убий». Разъяренный Павелич даже отказался войти в собор[10].
В марте 1943 г., когда усташи приказали всем оставшимся евреям зарегистрироваться в полиции, Степинац заявил на открытой проповеди:
Каждый, независимо от расы и нации, к которой принадлежит… несет в себе печать Бога и обладает неотчуждаемыми правами, лишить которых его не имеет права ни один земной властитель. ‹…› На прошедшей неделе было много случаев видеть слезы и слышать стоны мужчин, крики беззащитных женщин, которым угрожали… потому что их семейная жизнь не подходит под теории расизма. Как представители церкви, мы не можем и не смеем молчать…
Спустя полгода Степинац выражался еще более откровенно:
Католическая церковь не знает о расах, рожденных править, и о расах, обреченных на рабство. Католическая церковь знает все расы как творения Бога… будь то негры в Центральной Африке или европейцы. ‹…› Система расстрела сотен заложников за преступление [которую систематически применяли усташи] – языческая система, которая не дает ничего, кроме зла.
Наконец, в разгар холокоста, архиепископ публично выступил против усташей. Степинац, которому фашисты перестали доверять, а коммунисты ненавидели, отказывался от всех предложений бежать в Рим, хотя прекрасно понимал, что при любом исходе войны он может оказаться подходящим козлом отпущения. Но он и не окончательно порвал с усташским режимом, хотя мог предположить, что такого рода действие могло бы спасти его репутацию. По мнению Александер, Степинац полагал, что такой разрыв лишит его «возможности помогать кому бы то ни было; самым главным было спасти то, что можно спасти». Постепенно с ходом войны Степинац обретал доверие со стороны евреев, сербов и участников Сопротивления, которые видели в нем единственного союзника посреди ада.
С другой стороны, до последних дней войны он продолжал организовывать шествия против богохульства и верил в «честный» аспект движения усташей. На фото, сделанном 22 февраля 1945 г., Степинац обменивается рукопожатиями с диктатором Павеличем. В то время как его отношение к коммунизму всегда было четким и бескомпромиссным, невзирая на риск для себя и других, отношение к преступлениям усташей против человечности искажалось постоянными компромиссами и противоречивыми действиями. Во время войны он скрывал еврейского раввина с семьей на территории собора. После окончания войны встретился и (пусть невольно) помог бывшему начальнику полиции усташей спрятаться от новых коммунистических властей. Он всегда демонстрировал сводящее с ума отсутствие политической проницательности и узость взгляда; это, более чем что-то иное, отличает его от Штросмайера. Степинац искренне верил, что «без преувеличения… ни один народ во время войны не пострадал столь жестоко, как несчастный хорватский народ». Что происходило в остальной Югославии (и по всей Европе) с сербами, евреями, цыганами, мусульманами и другими, просто не представляло для него ни малейшей реальности.
Давая, возможно, самую благожелательную среди специалистов нехорватского происхождения оценку этой темной фигуре, Стелла Александер пишет: «Он жил среди событий апокалипсического масштаба, и на него выпала ответственность, о которой он даже не помышлял. ‹…› В итоге создается ощущение, что он оказался недостаточно велик для своей роли. Учитывая его ограниченность, он вел себя очень хорошо, гораздо лучше, чем большинство его соотечественников, и в ходе суровых духовных испытаний вырос в значительную фигуру».
«Католическая церковь здесь никогда не искала свою душу. Молодые священники сейчас сплошь необразованные. Только когда в духовенство придут молодые образованные люди, давление снизу может заставить церковь всерьез взглянуть на свое прошлое и на Степинаца», – пояснял мне Жарко Пуховски, хорватский католик и либеральный политик, за рюмкой сливовицы в баре «Эспланады».
Эта церковь, как и многое другое в Загребе, десятилетиями была раненым существом. Начиная с 1945 г. raison d’être («смысл существования») этой церкви с ее всепоглощающей ответственностью за свою паству было простое физическое выживание. Коммунисты прижали католическую церковь к стене как последний независимый остаток хорватской нации – загнанную, подавленную, привлекающую лишь малообразованную бедноту в ряды своего духовенства. Православная церковь, напротив, приспособилась к такого рода угнетению. Под османами они научились искусству выживания: как иметь дело с правителями, чья враждебность представлялась как обычная, неуправляемая сила природы, подобно ветру или дождю, чтобы сохранить то, что наиболее важно. Но хорватская церковь, не обладая сопоставимым опытом в составе католической Габсбургской империи и, более того, чувствуя поддержку внешнего защитника – Святейшего престола в Риме, не была готова уступить ни пяди спорной исторической территории, отстаивая даже то, что не нужно было и не следовало отстаивать. Монсеньор Кокса был прав: он не был врагом – ни евреев, ни даже сербов. Он был просто очередной жертвой. В Загребе я понял, что борьба за существование оставляет мало места для обновления или творчества. В то время как украинцы и другие открыто принесли извинения за свои действия против евреев во время холокоста, хорваты все отрицали. Мне говорили, что статистика массовых убийств в Хорватии сильно преувеличена. Не виноваты ли и сербы в злодеяниях периода Второй мировой войны? И разве плохо обращались в Хорватии с оставшимися евреями? Несомненно, эти утверждения имеют под собой некоторое основание. Меня тревожит другое – то, что хорваты вынуждены что-то скрывать, словно простое извинение без уточнений может поставить под сомнение легитимность их как нации. Трагедия Хорватии в том, что ее современный национализм совпал по времени с разгулом фашизма в Европе, что вынудило его сторонников оказаться связанными с нацизмом. Чтобы развязать все эти узлы, необходима смелая и однозначная оценка прошлого.
Почему украинцы ведут себя так, а хорваты иначе? Потому что украинцы в 1991 и 1992 гг. не пережили бомбардировку своих городов, а народ не испытал жестокостей неспровоцированной агрессивной войны. Война в Югославии – борьба за существование – отложила хорватский самоанализ истории холокоста. Но это время должно прийти.
Не католическая церковь, а Тито и коммунистический режим сделали Степинаца героем-мучеником для хорватского народа. В 1945 г., несмотря на ранние заявления Степинаца о поддержке усташей и открытое сотрудничество многих католических священников с убийцами в лагерях смерти Ясеноваца, Тито дважды встречался со Степинацем. На этих встречах он пытался принудить архиепископа создать «национальную католическую церковь», независимую от Ватикана, которая, как и православные церкви в Югославии, была бы послушна его коммунистическому режиму. Степинац, мучительно сознающий, что у Тито есть доказательства, связывающие его с усташами, тем не менее не поддался на шантаж. Он не только не согласился порвать с Ватиканом, но и продолжал публично выступать против коммунистов. За этим в 1946 г. последовал арест Степинаца и постановочное судилище над ним как «военным преступником».
Насильственное обращение православных верующих в католичество в Боснии вызвало жажду крови среди сербов, но одновременно дало правительству повод уничтожить архиепископа. Не писал ли архиепископ о своем желании вернуть сербских еретиков в лоно истинной веры? Не католические ли священники (как минимум номинально под руководством Степинаца) с энтузиазмом совершали этот обряд над сербами за минуты до того, как они подвергались массовому уничтожению?
На самом деле у Степинаца не было абсолютно никаких способов образумить духовенство в Боснии, где и совершалось большинство злодеяний. Если посмотреть на карту, Босния расположена рядом с Хорватией, и при взгляде издалека, особенно в те десятилетия, когда Югославия была единым государством, эти два региона для чужеземца могут показаться неразличимыми. Но Босния всегда на световые годы отставала от Хорватии. Хорватия – урбанистическое, этнически однородное общество, живущее на равнинах, в то время как Босния – мешанина этнически разнородных деревень в горах. Босния – сельская, изолированная, и до такой степени полна подозрений и ненависти, что образованным хорватам в Загребе это просто трудно представить. Босния – это усиление и осложнение сербско-хорватских разногласий. Так же как хорваты более остро ощущают свой западный католицизм, чем, скажем, австрийцы или итальянцы, именно из-за своей непростой близости к восточному православному и мусульманскому мирам, так и хорваты в Боснии – поскольку живут в одних горах с православными сербами и мусульманами – чувствуют свою хорватскость гораздо острее, чем хорваты на хорватской земле, которые пользуются психологической роскошью существования только с этническими соотечественниками в качестве непосредственных соседей. То же самое, разумеется, справедливо по отношению к сербам в Боснии. Усложняет ситуацию в Боснии существование большого мусульманского сообщества. Это славяне, сербы и хорваты, которые были обращены в мусульманскую веру при турецких оккупантах еще в позднее Средневековье, и их религиозная принадлежность постепенно стала синонимом этнической идентичности. В Боснии только один развитый урбанистический центр – Сараево, где хорваты, сербы, мусульмане и евреи традиционно жили в относительной гармонии. Но окрестные деревни полны дикой ненависти, подогреваемой бедностью и алкоголизмом. Тот факт, что наиболее ужасающие злодеяния – как во время Второй мировой войны, так и в 1990-х гг., – происходили в Боснии, не случаен. В конце 1991 г., когда в Хорватии вовсю бушевали страсти, Босния оставалась странно спокойной. Но ни у хорватов, ни у сербов не было иллюзий по поводу той трагедии, которая еще впереди. Тогда появилась такая шутка: «Почему в Боснии не ведется борьба? Потому что Босния вышла прямо в финал».
Как только Степинац наверняка понял, что обращение в Боснии происходит не добровольно, он выпустил секретный циркуляр, разрешающий ускоренное обращение в католичество иудеев и православных сербов, если это может помочь «спасти их жизни… Роль и задача христианства в первую очередь спасать людей. Когда пройдут эти печальные и суровые времена», те, кто перешел в другую веру вопреки своему убеждению, «могут вернуться к своей [вере], когда опасность минует».
Но прокуроров Тито не интересовали подобные мелочи. Тито был совершенно искренен, когда в выступлении 26 сентября 1946 г. заявил: «Мы арестовали Степинаца и арестуем всех, кто выступает против существующего порядка, нравится им это или нет». Милован Джилас, в то время входивший в ближайший круг соратников Тито, впоследствии написал, что Степинаца «наверняка бы не привлекли к суду за его поведение во время войны и его сотрудничество с лидером хорватских фашистов Анте Павеличем, если бы он не продолжал выступать против коммунистического режима».
Степинац был признан виновным по всем пунктам. Он провел пять лет в одиночном заключении, после чего был выслан в свою родную деревню Красич.
После суда на протяжении ряда лет были арестованы сотни католических священнослужителей; некоторые подвергались пыткам и были убиты. В 1950 г. журналист С. Л. Сульцбергер взял интервью у Степинаца, который сидел в тюрьме Лепоглава, в сотне километров от Загреба. Архиепископ оставался непреклонен: «Я готов пострадать за католическую церковь». Через два года, признав, что коммунисты препятствуют Степинацу осуществлять свое служение церкви, папа Пий XII сделал его кардиналом. С тех пор Ватикан не подал ни единого знака, что готов видеть Степинаца в какой-то иной роли, нежели как героического борца против коммунизма.
Но ожиданий здесь много.
Когда схлынули воды коммунистического потопа и земля снова стала узнаваемой, многое из того, что было возможно понять и легко простить в 1980-х гг., в последнее десятилетие послевоенной эпохи перестало быть таковым. Только на фоне мрачного индустриального феодализма Тито и стальной хватки его тайной полиции наследие габсбургской Австро-Венгрии и Римско-католической церкви и, далее, папы Иоанна Павла II выглядит столь невинным. На самом деле хорватский национализм, который ставит хорватов в культурном отношении гораздо выше сербов, та самая националистическая традиция, которая вдохновляла желание Степинаца обратить всех сербов в католицизм, не могли возникнуть без активного подстрекательства габсбургского двора и Ватикана.
Из всех славянских племен, которые расселялись в западной части Балканского полуострова в VI–VII вв., хорваты были первыми, кто избавился (в 924 г.) от византийского правления и создал свое собственное королевство. Первым королем Хорватии стал Томислав, чья статуя украшает главную площадь перед загребским железнодорожным вокзалом. Бронзовая скульптура представляет собой воина на коне, поднявшего руку с крестом.
Я всматривался в памятник. Казалось, конь и всадник слились воедино в одном сгустке мускулов, не просто человек и конь, а оружие, пронизывающее и безжалостное, как хорватские равнины, на которых возросла и пала угроза османов, сменивших в 1453 г. византийцев в Константинополе. В XVI–XVII вв. Хорватия была оккупирована турками. Когда турки ушли с этих равнин, они удалились лишь на прилегающие территории Сербии и Боснии и Герцеговины, где армия султана оставалась еще на протяжении 200 лет[11]. Скульптор, возможно, с умыслом изобразил Томислава в таком виде: для того чтобы западный католический народ выжил на Балканах, на полуострове, где сначала доминировали православные христиане, а потом мусульмане, он должен был ожесточить свою душу так, чтобы не осталось ни одного не защищенного броней уязвимого места.
В 1089 г. Крешимир, последний из королевской линии, восходящей к Томиславу, умер, не оставив наследника, и Хорватия (вместе с Адриатическим побережьем Далмации) оказалась под властью венгерского короля Ладисласа I. Опасаясь Венеции, союзницы ненавистной Византии, Хорватия и Далмация на самом деле с удовольствием перешли под протекторат Венгрии. Они не возражали и против вмешательства Ватикана, который тоже был полезной защитой от Византии. Эта психологическая схема формировалась и далее: в 1278–1282 гг., когда появились альпийские владения Габсбургов, и в 1526–1527 гг., с экспансией Габсбургской империи в Венгрии и Хорватии. Страх перед Востоком, символом которого был Константинополь – византийский или турецкий, толкнул хорватов в руки католических пап, венгерских королей и австро-габсбургских императоров. Короли и императоры использовали хорватов как обычных колониальных подданных и обеспечивали психологическую поддержку хорватской враждебности по отношению к православным сербам вопреки усилиям таких католических теологов, как Штросмайер, объединить эти два этноса.
Для католических властителей Европы, как и для многих хорватов, не имело значения, что сербы и хорваты – братья-славяне. Сербы были восточным православным народом и, следовательно, представляли такую же часть ненавистного Востока, как и турки-мусульмане.
«Сербы и хорваты, если говорить о нации и языке, изначально один народ, и два названия просто указывают на географическое положение», – пишет британский специалист Невилл Форбс в своем классическом исследовании 1915 г. о Балканах. Если бы не религия, для враждебности между хорватами и сербами практически не было бы никакой почвы.
Но в данном случае религия имеет большое значение. Поскольку католицизм возник на Западе, а православие – на Востоке, различия между ними сильнее, чем, скажем, между католицизмом и протестантизмом или даже между католицизмом и иудаизмом (который благодаря диаспоре также развивался на Западе). Если западные религии придают особое значение идеям и делам, восточные религии акцентируются на красоте и магии. Служба в восточной церкви – почти физическое воссоздание рая на земле. Даже католицизм, наиболее барочная из западных религий, по меркам восточного православия аскетичен и интеллектуален. Католические монахи (францисканцы, иезуиты и прочие) ведут активную жизнь, принимают участие в таких мирских занятиях, как преподавание, литературная и общественная деятельность. Напротив, православные монахи тяготеют к созерцательности, труд для них почти помеха, поскольку отвлекает от поклонения божественной красоте.
Такие различия на протяжении веков порождают конфликтующий подход к повседневной жизни. В кафе на улице напротив Загребского собора один мой приятель-католик пояснял: «Когда я пошел служить в югославскую армию, я впервые в жизни встретился с сербами. Они мне рассказывали, что традиционная сербская свадьба длится четыре дня. Четыре дня для молитв и празднования. Кому это надо? Одного дня вполне достаточно. После этого надо возвращаться к работе. Сербы для меня странные люди, иррациональные, как цыгане. Им действительно нравится армия. Как можно любить армию? Я ее терпеть не могу. Армия для словенцев и хорватов – пустая трата времени. Вместо этого мы могли бы зарабатывать деньги. И кто хочет ехать в Белград? Белград – это третий мир. Вена мне гораздо ближе».
А Карла Кунц-Цизель, переводчица романов Джона Стейнбека на хорватский язык, сообщила мне с сознательной гордостью: «Я чувствую себя ближе к Вене, чем к Белграду. Загреб – это еще Европа. Помню, после последней войны Лоуренс Даррел, британский писатель, который в то время работал в британском посольстве в Белграде, каждые выходные ехал на своем джипе пару часов по пыльной ухабистой дороге, после чего восклицал: «Слава богу, Карла, я снова на Западе».
Какими бы эксплуататорами ни были габсбургские австрийцы, как бы хорваты ни жаждали от них освободиться, в Хорватии блеск Вены всегда был символом Запада и католицизма, и по этой причине хорваты простили габсбургской династии все ее грехи.
Для современных хорватов Габсбурги представляют собой последний нормальный и стабильный период в истории Центральной Европы перед кошмарным провалом нацизма и коммунизма. Но хорваты забывают, что до нацизма и коммунизма образованные личности мало что могли сказать хорошего о Габсбургах. Как писала дама Ребекка, «это семейство, с того самого несчастного дня 1273 года, когда собравшиеся князья Римской империи выбрали Рудольфа Габсбурга королем Германии на основании его заурядности, и до Карла I, отстранившегося от управления государством в 1918 г., не произвело на свет ни одного гения, не считая таких способных правителей, как Карл V и Мария Терезия; в остальном это были все тупицы, слабоумные или психопаты».
На самом деле богатство габсбургских Вены и Будапешта строилось на костях их славянских подданных. В ответ на периодические восстания волнения подавлялись сочетанием массовых казней и таких коварных методов, как предоставление сербскому меньшинству в Хорватии особых привилегий с целью настроить хорватов против сербов. Современные хорваты предпочитают от этого отмахиваться, но начиная с середины XIX в. их предков очень увлекала идея «южнославянской» федерации с сербами, независимой от Австро-Венгрии. Эта мысль укрепилась в 1878 г., когда на Берлинском конгрессе Габсбурги прибрали к рукам прилегающие территории Боснии и Герцеговины (только что освободившиеся от турецкого ига) и вскоре продемонстрировали, что способны править столь же жестоко, как турки. В 1908 г. Габсбурги формально аннексировали Боснию, население которой составляли мусульмане-славяне, хорваты и сербы.
Гаврило Принцип, убийца престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда, был боснийским сербом. Габсбурги-католики отреагировали на гибель Франца Фердинанда захватом сотен сербских крестьян православного вероисповедания, которые знать ничего не знали об убийстве престолонаследника, и казнили их. Затем Габсбурги объявили войну Сербии, после чего началась Первая мировая война. «Война австрийской армии началась с полевых судов, – пишет Йозеф Рот в романе «Марш Радецкого», посвященном закату империи Габсбургов. – По целым дням висели подлинные и мнимые предатели на деревьях церковных дворов, наводя ужас на всех живущих»[12]. Габсбургская империя скончалась точно так же, как и безмерно презираемая ею Османская империя: среди хаоса жестокостей, направленных против ряда мелких стран, борющихся за свою свободу.
Однако к 1930-м гг. хорваты обо всем этом забыли. Века габсбургского правления убедили хорватов, что в культурном смысле они превосходят сербов. Таким образом, когда после Первой мировой войны сербскому королевскому дому Карагеоргиевичей передали власть над хорватами в новообразованном государстве Югославия, в Хорватии к общей ненависти присоединилась и жажда мести. В 1934 г. произошло преступление, из-за которого дама Ребекка впервые услышала о Югославии: хорватские террористы-усташи организовали убийство короля Югославии серба Александра Карагеоргиевича. В 1980-х и начале 1990-х гг. появилась популярная ревизионистская теория, согласно которой Габсбурги создавали миролюбивый климат этнической толерантности, но в Хорватии толерантность явно не является частью этого наследия.
Ватикан также несет свою долю вины. Самые сильные стимулы для формирования антисербских настроений в Хорватии всегда исходили от Римско-католической церкви, которая предпочитала, чтобы хорваты-католики находились под властью их единоверцев из Австрии и Венгрии, нежели оставались меньшинством в государстве, где господствуют сербы, исповедующие восточное православие и по исторически сложившимся причинам психологически близкие русским большевикам. Ватикану никогда не нравилась Югославия, даже до Второй мировой войны, когда страна не была коммунистической. И, отказываясь ступить на югославскую территорию до тех пор, пока ему не будет позволено публично помолиться у гробницы символа (противоречивого и для многих скомпрометированного) хорватской набожности Алоизия Степинаца, папа Иоанн Павел II на протяжении 1980-х гг. демонстрировал явное равнодушие к коллективной памяти православных сербов, а также евреев и цыган, для которых Степинац сделал слишком мало и слишком поздно. На протяжении десятилетий Ватикан судил и вознаграждал исключительно с позиций антикоммунизма, тем самым откладывая обсуждение его исторической роли в широком масштабе и поведения в этой части мира. Но так больше продолжаться не может.
Я уходил под дождем от памятника Томиславу, мимо здания Художественной галереи в неоклассическом стиле, с фасадом желтым, как на старых дагеротипах. За галереей, в глубине усыпанного палой листвой парка, скрывался памятник епископу Штросмайеру.
Скульптор изобразил Штросмайера с рогами, как Микеланджело – Моисея. Высокая, жилистая фигура, воплощающая в себе внутренний свет и силу, заставила меня подойти ближе, словно бронза была реальной теплой плотью. «Мы оставили прекрасную статую улыбаться под проливным дождем», – вспоминала дама Ребекка о своем посещении этого места.
Скульптором, изваявшим фигуру Штросмайера, был Иван Мештрович, тот самый Мештрович, который много лет спустя, в 1960 г., сделал надгробие на могиле другого местного патриота – Алоизия Степинаца. И в этом нет противоречия. Мештрович лично был свидетелем благородного поведения Степинаца. В 1943 г., во время краткого визита к Степинацу в Рим, Мештрович уговаривал того не возвращаться в Хорватию, где его жизни угрожала смертельная опасность. Степинац ответил, что уже смирился с судьбой: если его не убили усташи, то убьют коммунисты. Изначально проявив полнейшую политическую слепоту, архиепископ жестоко применил к себе справедливый урок «черной овцы» и «серого сокола»: он был готов стать жертвенным агнцем, и не из самоуверенности, а ради защиты других.
История этого города, украшенного глубокой сединой, действительно претерпела множество изменений. Свое собирался внести и папа Иоанн Павел II[13]. Если бы папа посетил этот аванпост западного христианства, такой близкий и такой далекий от Ватикана, он бы мог переломить традиционное отношение Ватикана к Югославии и принести исцеление и примирение. Я стоял под холодным дождем перед памятником епископу Штросмайеру, поклоннику Кирилла и Мефодия, испытывая уважение к нему и в глубокой уверенности, что папа мог бы преклонить колени именно перед этим памятником, а не перед тем, что установлен в Загребском соборе.
Глава 2 Старая Сербия и Албания: балканский Западный берег
Мать Татьяна подняла руку, загораживая глаза от луча солнечного света, и сказала: «Здесь наследие сербского народа».
Со стены северного придела на меня осуждающе смотрели глаза Иоанна Крестителя. Иоанн был изображен выходящим из Иудейской пустыни. Длинные космы волос и бороды напоминали сплетенные клубки змей; изможденное голодом тело изображено в художественной манере, характерной для Эль Греко и Уильяма Блейка. Ни один западный художник, ни одно произведение итальянского Возрождения не могли повлиять на способность малоизвестного сербовизантийского мастера XIV столетия понять и, соответственно, передать образ Иоанна Крестителя в этой церкви Святого Марка[14]. «Сам Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед» (Мф. 3: 4). Лик Иоанна, озаренный откровением, светился, как пламя в апсиде: не человек вовсе, а бестелесный, огнедышащий дух в человеческом обличье.
Поскольку Иоанн крайне стремился испытывать физические страдания, он их не чувствовал. Эта специфическая восточная особенность дает отправную точку для понимания того, почему сербы вели себя именно таким образом в этом столетии.
Мать Татьяна вела меня дальше. Ступени круто спускались под сводчатые цилиндрические арки. Было ощущение, что земля расступается перед нами.
«Здесь наши корни, наша вертикаль». Фразу ее можно было понять и в буквальном, и в переносном смысле. Центральный купол опирается на четыре колонны высотой около 12 метров, что с учетом их близкого расположения создает ощущение головокружительного, сужающегося кверху пространства. Я смотрел сквозь клубы ладана на сотни и сотни живых образов, не менее ярких, чем Иоанн, облаченных в багрово-гранатовые одеяния, с трагическими золотистыми лицами цвета умирающей осенней листвы. Представьте простоту и монументальную грацию классических греческих скульптур, наложенную на роскошество восточных ковров. Если на земле существует отображение рая, то оно находится здесь, в сербском монастыре Грачаница.
Какое «богатство, не поддающееся исчислению, – воскликнула дама Ребекка, стоявшая на этом же самом месте более полувека назад. – Наша чаша не была пуста, но она никогда не была наполнена так, как в этом мире, где Азия встречается с Европой».
Покинув кажущиеся безграничными темные недра храма через двери нартекса, я попал в другого рода тишину, подчеркнутую перезвоном колокольчиков овец, пасущихся на лужайке, и щебетом ласточек, гнездящихся в щелях тонкой кирпичной кладки. Снаружи церковь кажется почти крохотной. Идеально организованная вертикаль четырех бледно-голубых куполов, вплотную окружающих узкий, возвышающийся над ними пятый, вызывает очень привлекательную архитектурную иллюзию: то, что кажется изящно малым снаружи, видится бесконечно большим изнутри.
Грачаница, Печ и три десятка других сербских монастырей определяют ландшафт Южной Югославии. Я приехал сюда с севера, прямо из Загреба. Я пытался понять остроту национальных проблем хорватов через их собор; то же самое я постарался сделать по отношению к Сербии через ее монастыри.
Сербские монастыри – наследие династии Неманичей, родоначальником которой в конце XII в. был великий жупан Стефан Неманя, создавший первое сербское государство, независимое от Константинополя. При нем Сербия вошла в число наиболее цивилизованных стран Европы. Стефан уже мог написать свое имя, в то время как король Германии, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса ставил лишь отпечаток большого пальца.
Сын Стефана Немани, странствующий монах, известный как святой Савва, стал основателем и организатором Сербской православной церкви. Поздний потомок Стефана Немани, король Милутин, в начале XIV в. превратил Сербию в великую христианскую православную империю, превосходящую Византийскую империю своего времени.
Милутин отличался необычайными мужскими достоинствами. Подобно королю Генриху VIII Тюдору, он был ненасытен к женщинам, выбирая новых жен и отправляя в отставку прежних в соответствии со своими сексуальными склонностями и имперскими амбициями. Каждое новое желание превосходило прежнее, по мере того как он захватывал южные и восточные земли и кооптировал архиепископов, которые благословляли очередные разводы и браки. Его сексуальные аппетиты можно сравнить лишь с его страстью к строительству и украшению храмов, которые, по его мнению, должны были обессмертить его так же, как и его многочисленное потомство. Милутин финансировал строительство храмов и дворцов в Константинополе, Салониках и по всей Сербии. Он дарил золото, драгоценности и иконы религиозным организациям даже в Иерусалиме и на священной горе Афон в Северо-Восточной Греции. На стене южного придела монастыря в Грачанице начертаны слова Милутина: «Я видел руины церкви Пресвятой Девы Марии Грачаницкой… построил на том же самом фундаменте и украсил ее снаружи и изнутри».
В период строительства Грачаницкого монастыря Милутин женился в четвертый раз на Симониде, дочери византийского императора Андроника II Палеолога. Чтобы не допустить армию Милутина в Константинополь, Андроник предложил ему свою шестилетнюю дочь. Милутин, не дожидаясь, когда девочка повзрослеет, немедленно консумировал брак. Тем не менее короля сербов в некотором смысле можно считать более цивилизованным, чем его английского коллегу из династии Тюдоров: он всего лишь отказывался от предыдущих жен, но не умерщвлял их.
На королевских портретах на нижней стене Грачаницы Милутин уже дряхлый старик, а Симонида – взрослая женщина. Их лица тронуты смертельной бледностью. Один глаз Милутина выцарапан. Они смотрятся гораздо менее реальными, чем их короны, одежды, украшенные драгоценностями, и макет Грачаницкой церкви, которую король держит в руках. Сербовизантийский художник словно хочет сказать: человек смертен, но его материальные творения неразрушимы.
Грачаница со всеми ее фресками была построена в 1321 г., когда по ту сторону Адриатического моря только-только восходило солнце флорентийского Возрождения. На стенах Грачаницы я видел свидетельство чувства анатомии и телесной сексуальности (отсутствующего в других школах византийской иконографии, в которых тело – исключительно символ нематериального духа), вскоре достигшего своей кульминации в работах Микеланджело и Леонардо да Винчи. Но ни одному художнику Возрождения не удастся так же передать сверхъестественные и духовные черты, как это удалось средневековым сербам. Мать Татьяна не преувеличивала, когда говорила: «Мы стали бы более великими, чем итальянцы, если бы не турки».
Этот рефрен на Балканах слышится всюду. Дама Ребекка пишет: «Турки разрушили Балканы, и разрушения были столь велики, что их не ликвидировали по сей день. ‹…› Теперь, когда турки изгнаны, здесь высвободилось много эмоций по поводу Балкан, которые лишились своего законного занятия».
Если вы, подобно нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому, рассматриваете коммунистическую империю как эквивалент Османской империи в XX в. со стрелкой исторического компаса, указывающей на упадок, то вы можете увидеть движение восточного деспотизма на север, от Стамбула (бывшего Константинополя) к Москве, от султанского дворца Топкапы – к Кремлю, и понять, что дама Ребекка уже зафиксировала основные черты ситуации, которая сложится в 1990-х гг. в Сербии, на территории бывшей Югославии и в других Балканских странах. Теперь, когда коммунизм пал и Советы изгнаны, здесь высвободилось много эмоций по поводу Балкан, которые лишились своего законного занятия.
На протяжении десятилетий режима Тито у матери Татьяны были другие заботы, другие направления борьбы. Но сейчас, когда чума кончилась, она вернулась к борьбе с турками, хотя теперь называет проблему по-другому.
Поскольку сербы расселялись в лесистой и гористой местности, которую покорить было не так-то просто, и поскольку в географическом смысле они находились дальше от Турции, чем Болгария или Греция, османское иго в Сербии никогда не было таким абсолютным, как в этих странах. Всегда существовали подвижные очаги сопротивления, особенно в черной гранитной цитадели соседней Черногории. Но все-таки Сербия была недостаточно далеко.
Согласно сербской легенде, королевство Неманичей принесло себя в жертву турецким ордам, чтобы обрести новое царство на небесах. Тем временем на земле жертвенность Сербии дала возможность Италии и Центральной Европе остаться в живых и продолжать развиваться.
«Величие Италии и других европейских стран создано на наших костях, – с горечью говорит мать Татьяна. – Идем, – приглашает она меня, – я расскажу тебе о наших страданиях».
Я вошел в типичное турецкое здание под красной черепичной крышей, с желтыми каменными стенами и нависающими балконами, украшенными зеленью. Мать Татьяна назвала это «типично сербской» архитектурой. В Болгарии такие здания относят к «типично болгарской ревивалистской» архитектуре; в Греции – к «типично греческой». В гостиной было темно. Я сидел в пальто, спасаясь от холода. Под ногами лежал ковер в турецком стиле. Мать Татьяна в черном монашеском одеянии казалась силуэтом на фоне белых занавесок. Другая сестра налила из цилиндрического золотистого кофейника густой, очень сладкий турецкий кофе. Затем разлила по стаканчикам прозрачную монастырскую сливовицу. Мать Татьяна выпила залпом. Потом из темноты вновь показались ее крупные крестьянские руки.
– Я не пророк Самуил, но лучше умереть честно, чем жить во лжи… Я добрая христианка, но я не подставлю другую щеку, если какие-то албанцы будут выкалывать глаза соседям-сербам, или насиловать маленькую девочку, или кастрировать двенадцатилетнего сербского мальчика. – Она резко махнула рукой в районе бедер. – Ты знаешь про такие случаи, верно?
Я не знал, но кивнул утвердительно.
Мать Татьяна поставила локти на стол и наклонилась поближе. Мои глаза привыкли к темноте, и мне удалось впервые хорошо разглядеть ее лицо. У нее была яркая, энергичная внешность, высокие скулы и горящие материнские глаза. Это была представительная пожилая женщина, которая в молодости явно была привлекательной. Горящий взгляд одновременно был как-то расфокусирован, словно размазан религиозной страстью, как глаза святых на церковных иконах. Белые пальцы шевелились в ритме ее слов. Я вспомнил, что писал Джон Рид после путешествия по Сербии в 1915 г.: «Быстрый, гибкий слог сербской речи вливался нам в уши, словно струя свежей воды».
– Ты знаешь, – продолжала мать Татьяна, – что албанские мальчишки спускали штаны на глазах у наших сестер?
Я снова кивнул.
– Эти люди обескровили Сербию. То, что они нищие и безработные, – чистая ложь. Ты знаешь, они вписывают своих умирающих стариков в списки безработных. А плохо и грязно одеваются, потому что так у них принято. Албанцы хотят завоевать наш мир своей численностью. Ты знаешь, что ни один ходжа [албанский мусульманский священник] не войдет в дом семьи, где меньше пяти детей? А ты знаешь, что Азем Власи [албанский политик] – распутник, который живет с местной шлюхой? А ты кто по национальности? – внезапно переменила она тему.
– Американец, – ответил я.
– Это я знаю, но все американцы – кто-то еще. Ты кто? Ты темный, ты выглядишь не так, как должен выглядеть настоящий американец.
– Я еврей.
– Ха-ха. Мне нравятся евреи. Но я все равно хотела бы тебя крестить. – Она рассмеялась, и лицо осветилось доброй улыбкой. – Меня восхищают израильтянки, которые берут в руки оружие. Если бы мне снова стало лет сорок, я бы тоже взяла в руки оружие. В Югославии нет веры. Настоящая вера осталась только в Сербии… Да, я знаю, я сербская националистка. Между нами и албанцами дальше будет только хуже, вот увидишь. Никакого примирения быть не может. – Мать Татьяна взяла мою руку двумя руками и стиснула, словно благословляя. – Я живу в этих стенах тридцать пять лет. У нас два гектара земли, мы обеспечиваем себя, выращивая свиней и овец. В 1539 году здесь был печатный станок. Там, – она показала рукой куда-то в сторону, – сплошная грязь и запустение.
Там – это то, что Джон Рид и Невилл Форбс в 1915 г., дама Ребекка в 1937-м и мать Татьяна сейчас называют Старой Сербией. «Иудея и Самария» сербского национального сознания, место, где все произошло, где зародилось королевство Неманичей, обрело свое величие и было уничтожено. Впрочем, в последние десятилетия эта священная земля демографически захватывается не турками, а их историческим приложением – албанскими мусульманами. И про этот регион теперь говорят не «Старая Сербия», а «Косово».
Тем не менее мать Татьяна по-прежнему ненавидит «турка». Если бы не культурная и экономическая тюрьма пяти веков турецкого владычества, коммунизм не мог бы так легко укрепиться здесь, а албанцы, возможно, никогда не стали бы мусульманами и не расселились бы в таких больших количествах на территории Старой Сербии.
У сербов, если говорить словами Элиаса Канетти, тоже есть свои «массовые символы». Точнее, у сербов даже два массовых символа – два огненных столба, которые определяют их национальное поведение и историческое предназначение. Оба восходят к династии Неманичей.
Первый (пониже) – это средневековые монастыри, хранилища искусства и магии, наиболее символичный из которых – в Грачанице благодаря ее близости к другому (и более высокому) столбу – Косову полю, «полю черных птиц», где 28 июня 1389 г. турки нанесли решающее поражение сербам, оставив тела побежденных на растерзание птицам-падальщикам.
Многим народам 1989 г. запомнился как год окончания холодной войны и крушения коммунистической системы. Для матери Татьяны и еще восьми с половиной миллионов сербов этот год означает нечто совершенно иное: шестисотлетнюю годовщину их поражения.
Король Милутин умер в 1321 г., в тот год, когда его мастера-художники закончили расписывать фрески в Грачанице. Сербский трон перешел по наследству его сыну, королю Стефану Урошу, а еще через десять лет – внуку Милутина, Стефану Душану. Душан – ласковое уменьшительное от слова «душа», и от короля с таким именем можно было ожидать, что Сербия достигнет зенита своей славы. Душан санкционировал религиозные свободы и разрешил находиться при своем дворе чужеземным посольствам. Он создал налоговую систему и правовые нормы – кодекс Душана, – которые предполагали осуществление правосудия судом присяжных. Империя Душана простиралась до границы с Хорватией на севере, до Адриатического моря на западе, до Эгейского моря на юге и до ворот Константинополя на востоке. В нее входили Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Северная Греция и Болгария. Если бы Душану не помешало вторжение венгров-католиков, что вынудило его передислоцировать свои силы на северо-запад, он мог бы провести осаду Салоник с последующим наступлением на Константинополь.
В 1354 г. Душан снова выступил в роли покорителя Византии. Власти Константинополя от безысходности позволили турецким армиям сосредоточиться на востоке, пройти Малую Азию и создать форпост на Галлипольском полуострове, что должно было помешать продвижению сербских войск Душана. Маневр оказался необязательным, поскольку на следующий год Душан неожиданно умер, но имел непреднамеренные последствия: турки остались на Галлиполи и использовали его для вторжения в Болгарию и Грецию. А спустя столетие, в 1453 г., поглотили и сам Константинополь со всей Византийской империей.
Сын Душана Урош оказался последним королем государства Неманичей. Как правитель он был слаб, и сербские феодалы укрепили свою власть за счет королевского двора. В 1371 г. Урош скончался. Чтобы отразить турецкую угрозу, сербская знать избрала национальным лидером князя Лазаря Хребеляновича. В последующие годы турки завоевывали все новые и новые территории на Балканах. Сербы представляли собой главную христианскую преграду в Европе для наступления мусульман, но Лазарь не получал особой поддержки от народов Центральной и Западной Европы. В 1389 г. произошло решающее сражение, которое определило судьбу Сербии и всего Балканского полуострова более чем на пятьсот лет – вплоть до Первой Балканской войны 1912 г.
Я ехал на север от Грачаницы. Дорога петляла между пологих, яблочно-зеленых холмов. Из кассетного магнитофона водителя лились буколически нежные звуки сербской народной музыки, балканский эквивалент мелодий Стивена Фостера. Пейзаж впереди превращался в плоскую, невыразительную равнину – Косово поле, «поле черных птиц».
В тот жаркий июньский день сербские рыцари выступали в боевом порядке, облаченные в тяжелые кольчуги, отливающие серебром и золотом. На шлемах развевались величественные плюмажи. Легковооруженные турки на неутомимых монгольских лошадях раскалывали ряды сербов на части, как партизаны, совершающие дерзкие выпады против регулярной армии. В отчаянной попытке спасти ситуацию сербский князь Милош Обилич перебежал к туркам. Когда его привели в шатер к султану Мураду, Обилич выхватил припасенный кинжал и заколол турецкого военачальника. Но военного эффекта это не дало. Командование немедленно перешло к наследнику Мурада Баязиду («Молниеносному»), который завершил разгром сербов и казнил их вождя Лазаря. (Через несколько лет Баязид уничтожит десятую часть населения другой восточной православной страны – Болгарии.)
Но в сербской поэзии легенда звучит иначе:
Сизый сокол пролетал по небу От святого Иерусалима, Ласточку в своих когтях держал он. Это не был сизокрылый сокол, Это был Илья, пророк гремящий, И не ласточку держал святитель, Богородицы он нес посланье. Он отнес на Косово посланье; Опускает царю на колени. И само письмо проговорило: «Лазарь царь, честной владыка сербов, Выбирай, какое хочешь царство: Предпочтешь ли ты земное царство Или царство вечное на небе?» Выбрал Лазарь небесное царство, А земное царство он отринул. Он воздвигнул на Косове церковь… Причастил он и построил войско. Тут на Косово напали турки. Вот выходит против турок Лазарь, За собою сербский князь выводит Семьдесят семь тысяч храброй рати. Был их подвиг хваленья достоин. Все случилось по воле Господней[15].Попав в полную зависимость от Османской империи и влача жалкое существование с физическими страданиями, экономической эксплуатацией и бедной духовной жизнью, сербы исказили миф о благородной жертвенности. Они наполнили души мстительной горечью поражения. Это чувство поразительным образом напоминает то, что на протяжении столетий движет иранскими шиитами.
Ни Стефан Неманя, ни Милутин, ни Стефан Душан, ни даже святой Савва не вызывают столь ярких эмоций у сербов, как князь Лазарь. Странный персонаж, даже не принадлежавший к королевскому роду Неманичей, провел лишь одно сражение (которое проиграл); как пишет дама Ребекка, он «не сохранил свой народ и остался почерневшей мумией, которая после долгих скитаний нашла покой в монастыре на Фрушке-Горе» [холмистый регион к северо-западу от Белграда].
28 июня 1988 г. начались мероприятия в честь шестисотлетия героической гибели Лазаря на Косовом поле. Гроб с его мощами провезли по всем городам и деревням Сербии, после чего вернули в Раваницу, монастырь, где они находились изначально, до того как их пришлось перенести в монастырь Врдник на Фрушке-Горе. На всем пути при каждой остановке у гроба собирались огромные толпы плакальщиц в черных одеждах.
Сербы крайне чувствительно относятся к поражению Лазаря и его мученической гибели. Толпы визгливых плакальщиц, окружавших деревянный гроб с его мощами, напоминают траурные толпы у гробницы имама Хусейна, еще одного неудачника (но святого для шиитов), который был убит войсками халифа Язида в 680 г. в сражении на территории Месопотамии. Подобно шиитам, неперестроившиеся сербы, подобные матери Татьяне, не признают законность своих временных правителей, будь то османы или югославские коммунисты. В известном смысле они игнорируют реальный мир. Они верят, что недалек тот день, когда князь Лазарь на небесах вернет то, что ему по праву принадлежит на земле. «Каждый [сербский] солдат-крестьянин знает, за что сражается, – отмечает Джон Рид на фронте Первой мировой войны. – Когда он еще был ребенком, мать встречала его словами: «Привет, маленький мститель за Косово!»
Для матери Татьяны и многих других сербов Югославия Тито означала – как и прежняя Османская империя – лишь очередной заговор против сербов. Это объясняется тем, что югославский национализм, как определял его Тито (наполовину хорват, наполовину словенец), предполагал сокращение власти количественно доминирующих сербов с целью умиротворения других групп, прежде всего хорватов и албанцев.
Выделяя албанцам автономную провинцию Косово и определяя ей место в границах югославской республики Сербия, Тито надеялся удовлетворить чаянья как албанцев, так и сербов. Но сербы посчитали иначе. Почему это мусульманские чужестранцы, которые только триста лет назад появились в Старой Сербии, на исторической родине наших предков, должны получить там автономию? Никогда!
Коммунизм подсыпал соли на эту рану. Он утверждал, что сербы должны стыдиться всего, что было в их коллективном прошлом до прихода Тито, что такие персонажи, как Милутин, Душан и Лазарь, были «империалистами», что сербы, погибшие вместе с Лазарем на Косовом поле, повинны в «реакционном национализме»[16].
Накануне битвы князь Лазарь провозгласил:
Каждый сербин сербского колена, Сербской крови и сербского рода, Кто не выйдет на Косово поле И не будет на Косове биться, Пусть наследников не ожидает. Сыновей, дочерей не увидит. От руки его не уродятся Красное вино и хлеб пшеничный; Пусть иссохнет род его проклятый![17]Я видел эти слова высеченными на мрачном, цвета запекшейся крови камне высотой около тридцати метров, установленном на продуваемом всеми ветрами холме с видом на Косово поле. Памятник располагается на постаменте, окруженном бетонными башенками в виде пуль. На постаменте – изображение меча и даты: «1389–1989». На каждой башне – свежий лавровый венок.
28 июня 1987 г., в годовщину поражения Лазаря, сюда приехал амбициозный лидер сербской коммунистической партии Слободан Милошевич. Он указал пальцем в определенном направлении – то, что мать Татьяна называла там, – и, как гласит легенда, поклялся: «Они никогда больше с вами такого не сделают. Никто больше не победит вас».
В этот момент толпа взорвалась радостными криками. Началось сербское восстание против Югославской федерации. Вскоре оно перебросилось и на другие республики. Сербы один за другим находили в себе мужество снимать вселяющие страх изображения Тито со своих домов и магазинчиков и заменять их фотографиями пухлощекого, круглолицего Милошевича. Единственный лидер восточноевропейской коммунистической партии конца 1980-х гг., которому удалось сохранить свою партию от развала, сделал это благодаря прямому призыву к национальной ненависти.
Милошевич лично распорядился возвести этот мрачный монумент на вершине холма. Когда он впервые указал пальцем на пятнистые, безликие холмы Старой Сербии, покрытые клубами дыма от близлежащей фабрики и перекрещенные линиями электропередачи, и произнес «Никто больше не победит вас», он прекрасно понимал, какой эффект произведут эти слова[18].
Весной 1937 г. дама Ребекка побывала в этих же самых местах. Милошевич тогда еще не родился. Она увидела, что означает выражение «поражение отнимает все»:
Истертые, пустые холмы, которые во времена Милутина кипели жизнью… теряются в бескрайних просторах, и путешественник может проехать по ним многие мили, прежде чем встретится с приличной жизнью, где в изобилии изысканной пищи. ‹…› Когда была построена Грачаница, люди питались жирным мясом и дичью на серебре и злате. ‹…› Но, поскольку христиане проиграли битву на Косовом поле, вся эта жизнь исчезла. ‹…› Ничего… не осталось… следы ее прискорбно слабы, слабы, как тень от солнца, подернутого облаками.
Спустя сорок лет слово «поражение» – не просто историческая метафора автора. Это ошеломительная реальность, начертанная рядами черных, закопченных домов с проржавевшими металлическими трубами, хорошо видимых с холма над знаменитым полем битвы. У поражения есть даже имя: Приштина, построенная Тито, населенная албанцами трущобная столица «автономного» Косова, расположенная, словно умышленное оскорбление, между двумя массовыми символами сербов – Грачаницей и Косовым полем. Чтобы добраться от одного к другому, нужно проехать через Приштину.
Приштина была одной из нескольких столиц кочующего двора Неманичей. Дама Ребекка описывает ее как «скучную и пыльную деревушку», которую населяют «мужчины в одеждах западного образца, но более фантастических, чем любое крестьянское одеяние, потому что их портные впервые увидели костюмы только в зрелом возрасте». Сегодня, за вычетом кубистской архитектуры и рынков-толкучек, Приштина, население которой разбухло до 150 000 человек, та же самая «пыльная деревушка», полная мужчин, которые по-прежнему выглядят так, словно до вчерашнего дня не видели ни одного западного костюма.
Только оказавшись в Приштине, я осознал масштаб преступления, совершенного Тито и прочими султанами вплоть до Мурада.
На задних сиденьях автобуса, идущего на юг из Загреба, вокруг меня теснились албанцы с глазами пораженными трахомой. На них были потертые штаны с булавками в тех местах, где обычно располагаются застежки-молнии. Они были мусульманами, но от всех несло перегаром. Даже в самых общепризнанно светских исламских странах это большая редкость. Как везде в Югославии, здесь на каждом шагу – порнографические журналы, и всюду из дешевых транзисторов на полную громкость звучит западный рок-н-ролл. Начался спор за место. Двое мужчин стали кричать друг на друга. К этому я уже привык. Потом они стали толкаться, и дело дошло бы до драки, если бы не вмешались окружающие. Такого я никогда не видел в мусульманском мире, где почти все насилие – политического толка. Внезапно мне стало тревожно. Такого чувства среди мусульман я никогда не испытывал, за исключением территорий военных действий.
Первым приветом Приштины оказалось множество деревянных ларьков, освещенных натриевыми лампами и прилепившихся к стенам блочных многоквартирных домов, как пьяные на изрытых ямами склонах холмов. Угольная пыль, смешиваясь с запахами цемента и помойки, забивала ноздри. Вспомнились пыльные, печеночного цвета пригороды Анкары и Стамбула. Приштина казалась отрыжкой не только турецкого прошлого, но и турецкого настоящего. Автобус по серпантину поднимался на вершину очередного холма. Горлышко пивной бутылки, торчащей из кармана моего соседа, давило мне в спину. Показался новый домостроительный проект: мешанина из бурого кирпича, стекла и кафельных плиток, используемых для оформления фасадов.
«Гранд-отель» Приштины, самый высокий небоскреб города, имел под крышей гордые пять звезд. Лифт напомнил мне исписанную граффити туалетную кабинку. Замок в двери моего номера оказался сломан. Внутри сохранился запах прежнего постояльца – дезодоранта и дыма сигарет без фильтра. Желчно-зеленый ковер испещрен бесчисленными пятнами. Несмотря на кнопочный телефон, все звонки из отеля проходили через оператора, который втыкал штырьки с проводами в старинный деревянный ящик.
Коммунистическое правительство Югославии оснастило отель тремя ресторанами. Каждый зал вместимостью в пару сотен человек имел свой оркестр и одинаковое меню. Все три были пусты. Официанты и оркестранты сидели на длинных кушетках, курили и раздражались при виде каждого посетителя. Немногочисленные гости отеля предпочитали обедать и ужинать где-нибудь в других местах. Когда я задумываюсь, куда делись займы, выделенные в 1970-х гг. западными банками Югославии и другим восточноевропейским странам, я всегда вспоминаю «Гранд-отель» Приштины.
Проблема заключалась в том, что в конце 1960-х и в 1970-е гг. Тито и израильтяне мыслили схожим образом. Но Тито, будучи марксистом-ленинцем, действовал в более крупном и более сумасбродном масштабе. И те и другие считали, что, если ты что-то сделаешь для людей, они перестанут тебя ненавидеть. На Западном берегу Иордана израильтяне строили систему водоснабжения, прокладывали электролинии, создавали систему здравоохранения. Это повышало качество жизни и разжигало массовые волнения, подогреваемые демографической ситуацией и высокими ожиданиями. Разумеется, я чрезмерно упрощаю. Было множество различий между палестинской и албанской интифадами; но были и схожие черты, и знание одной помогало мне разобраться в другой. Ознакомившись с «Гранд-отелем», первый день в Приштине я провел, гуляя по улицам и изучая все остальное, что сделали Тито и его наследники для того, чтобы албанцы перестали ненавидеть сербов.
Выше на холме, над «Гранд-отелем», расположено здание библиотеки Приштинского университета, отделанное разноцветными мраморными плитами. Довольно дерзкое по замыслу сооружение, вызывающее одновременно ассоциации с пустыней и космической эрой, которое скорее можно увидеть на всемирной выставке или в университетском кампусе американского юго-запада. Библиотека располагается посреди огромного пустыря, усеянного битым стеклом и различным мусором. Пейзаж оживляют несколько коз и цыганских детей. Проходя по бурой земле мимо попрошайничающих цыганят, я сообразил, что единственный цвет, которого не встретить в Приштине, – зеленый.
За «Гранд-отелем» возвышается похожая на купол собора крыша футбольного стадиона и спортивного комплекса. А напротив спорткомплекса, словно чудовищный кожный нарост, – блочный многоквартирный дом с провисшими бельевыми веревками, к которому тоже прилепились базарные ларьки. Стрелки выхода со стадиона ведут на рынок – поле боя, усеянное горами мусора и перевернутыми и разбитыми скамейками. Я стоял там вместе с небольшой группой югославских журналистов и подразделением федеральной милиции. На милиционерах, набираемых преимущественно в Сербии, была сине-серая униформа и синие шлемы с металлопластиковыми забралами. Все были с автоматами. Неподалеку стояла бронемашина с работающим мотором, посреди улицы стратегически важное место занимал автомобиль с водометом. Футбольный матч только что завершился. Мы все ждали, когда со стадиона повалят толпы молодых албанцев.
На самом деле мы ждали очередного бунта, которые уже не один год происходили в Приштине. Если бы мир в 1980-х гг. уделял больше внимания этим бессмысленным бунтам, он был бы меньше удивлен той жестокостью, с которой сербы, доведенные до отчаяния неразрешимой дилеммой отношений с албанцами, обрушились позже на беспомощных хорватов и боснийских мусульман.
В конце XVIII столетия Эдвард Гиббон, глядя из Англии, охарактеризовал Албанию как «страну в поле зрения Италии, которая известна меньше, чем американская глубинка». Даже допуская, что в то время американская глубинка оставалась практически неисследованной, замечание Гиббона об Албании остается справедливым и для 1990-х гг.
Устроившиеся в своей горной крепости на Адриатике, как черные орлы, в честь которых их страна названа Шкиперией – «страной орлов», албанцы и в последнее десятилетие XX в. практически оставались загадкой. Подвергшееся тирании сталинского режима, 3,4-миллионное население Албании было готово бросить вызов всему миру.
Албанцы – потомки древних иллирийских племен, которые, по некоторым сведениям, появились на Балканском полуострове даже раньше древних греков и на тысячу лет раньше славян. Албанский язык, шкип, тоже по происхождению близок к тому языку, на котором говорили иллирийцы, и не похож ни на один известный язык. Жестокость и ксенофобия сталинистского режима, проводившегося лидером партизанского движения периода Второй мировой войны Энвером Ходжой, направленные против всего мира и против Югославии в особенности, имеют под собой некоторые исторические основания.
Сербы предпочитают об этом не говорить, но национальное развитие албанцев тоже было приостановлено турками. Единственным ярким пятном в их долгой, темной ночи неволи является личность Георгия Кастриоти (Скандербега), албанского офицера османской армии, который дезертировал, чтобы возглавить антиосманское восстание на родной земле, закончившееся успехом – созданием княжества Кастриоти. После его смерти в 1468 г. начался новый раунд османского владычества, но его пример вдохновил албанцев на множество смелых (хотя и безнадежных) актов сопротивления турецкому султанату, а также стал сюжетом поэмы Генри Лонгфелло и оперы Антонио Вивальди.
Во время Первой Балканской войны 1912 г. турецкое господство в Албании стало рушиться, но албанцы снова оказались один на один с более сильным врагом. Сербы, греки, болгары вторгались в Албанию под предлогом ее освобождения от турок, но на самом деле имея в виду поделить ее на сферы влияния. Встреча великих европейских держав 1913 г. привела к созданию независимого государства Албании, за вычетом мусульманской провинции Косово, которую захватили сербы.
Через год, в 1914 г., сербские войска снова вторглись на территорию Албании. Когда в страну затем пришли преследующие сербов австро-венгерские войска, албанцы их встретили с радостью. «В своей крайней беспомощности роскошь выбирать себе защитника им была недоступна. Они [албанцы] обратились бы за помощью к самому дьяволу», – пишет албанский автор Антон Логоречи в книге The Albanians: Europe’s Forgotten Survivors.
Поражение и распад Австро-Венгерской империи везде на Балканах были встречены с радостью, но для албанцев это означало, что они утратили своего единственного друга и опять остались один на один с алчными соседями.
Вторая мировая война для Албании ничего не изменила. В апреле 1939 г. в Албанию вторглась фашистская Италия, что, по словам Логоречи, «едва ли вызвало хоть морщинку на водах умиротворения». Когда войска Муссолини в октябре 1940 г. вторглись в Грецию, греческий премьер-министр Иоаннис Метаксас заявил, что его войска будут бороться не только за возвращение греческих территорий, но и отвоюют Албанию. Албанцам, таким образом, пришлось сражаться не только с оккупантами-итальянцами, но и с греками-освободителями.
Летом 1943 г. режим Муссолини рухнул. На смену итальянским войскам в Албании пришли войска нацистской Германии. Сопротивление возглавил тридцатипятилетний Энвер Ходжа, который получил образование во Франции и там же стал сторонником коммунистических идей. Он нанес поражение не только нацистам, но и всем албанским силам Сопротивления, не разделявшим его коммунистических взглядов.
Вторая мировая война для албанцев закончилась потерей 7,3 % населения убитыми и искалеченными, а остальные оказались на грани голода. Все мосты и заводы были разрушены. Ходжа чаще применял оружие, поставляемое западными союзниками, против своих соотечественников-партизан, которые не были коммунистами, чем против нацистов. Но Запад слишком мало интересовался Албанией, чтобы обращать внимание на то, как используется его оружие. На встрече в Москве Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля в октябре 1944 г., когда два лидера делили Балканы страна за страной, Албания не упоминалась. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции вопрос об Албании также не стоял на повестке дня.
Тем временем Тито передал соседнюю провинцию Косово под юрисдикцию входящей в состав Югославии Народной Республики Сербия. Сербские партизаны уничтожили большое количество косовских этнических албанцев, которых обвиняли в коллаборационизме с итальянскими войсками Муссолини. Эта бойня лишила последних иллюзий даже албанских коммунистов, которые до той поры сотрудничали с Тито. Волнения среди миллиона албанских мусульман продолжались несколько десятилетий. Тито ответил «стеклом и бетоном» для новой Приштины, в которой даже построили университет. В марте 1981 г., вскоре после окончания строительства города, взбунтовались студенты нового университета, обучение которых оплачивалось коммунистическим югославским правительством. Тогда массовые беспорядки стали уже обычным явлением. Через шесть лет к власти в Сербии пришел Милошевич и пообещал со всем этим покончить. Но когда он попытался лишить Косово статуса автономии, беспорядки только усилились.
В этот период в самой Албании часы только начали тикать. В конце 1990 г. я побывал в портовом городе Дуррес (древнеримский Диррахий) в составе плотно охраняемой группы туристов. Мне удалось на несколько часов улизнуть. Я увидел римский амфитеатр II в., окруженный горами мусора, стена которого использовалась в качестве общественного туалета. Кругом царило запустение. В изобилии попадались только лавки портных и сапожников. В Албании существовала лишь примитивная экономика услуг. Импорта почти не было, ни одна фабрика не занималась массовым выпуском одежды или обуви. Одноглазый молодой цыган, полуголый, с бритой головой, попросил у меня жвачку. Даже в самых бедных странах третьего мира дети торговали жевательной резинкой. Здесь торговать было нечем. Я увидел группу людей, собравшихся у киоска поглядеть на выставку лезвий для безопасной бритвы, которыми пользовался мой отец в 1950-х гг., когда я еще был мальчишкой. Надежду и удивление можно было прочитать на их лицах.
За амфитеатром я увидел апсиду византийской церкви X в. Черно-бело-желтая мозаика изображала ангела. Я восхитился качественной, с любовью сделанной кирпичной кладкой. Во все стороны от этих нескольких метров истории строительные стандарты были ужасающими. Из-за экономии воды и цемента кирпичные стены албанских домов обычно полны щелей.
Я прошелся вдоль пляжа вечернего Дурреса, мимо бетонных бункеров, во множестве построенных в 1960-х гг. для защиты Албании от вторжения «англо-американских империалистов» и «советско-болгарских ревизионистов». Откуда-то из тумана, в нескольких десятках метров от берега, слышалась музыка Deep Purple. Я обнаружил мостки, ведущие в море, прошел по ним и оказался перед ветхим сооружением, в котором несколько молодых парней сидели, развалившись в креслах с сигаретами и бутылкой ракии. Мощные стереодинамики стояли буквально в метре от их ушей. Один из парней, как выяснилось, был инженером и говорил по-английски. Чтобы услышать друг друга, нам приходилось кричать. Но никто не собирался уменьшать громкость; это, как я понял, было своеобразной формой протеста.
– Ты из какой страны?
– Из Америки.
– Знаешь писателя Джека Лондона?
– Знаю, – ответил я. – В начале века он писал рассказы про американский Северо-Запад.
– Да, нам говорили. Мы слышали, что в библиотеке скоро появятся кое-какие его книги.
Наступило молчание, только громко звучала музыка. Берег был едва виден в тумане.
– Наши сердца стучат. Мы знаем, что происходит в Румынии и в других странах Восточной Европы. Албания по-прежнему одна, и нас это не радует. Нас вдохновляет пример Югославии. Нам нужна свобода, чтобы бороться вместе с нашими братьями в Косове.
Я сообразил, что только в Южной Албании можно услышать о Греции, где многие албанцы – этнические греки имеют родственников. Здесь, в Центральной Албании, самый главный сюжет – Косово и борьба косоваров против сербов. На протяжении десятилетий эта маленькая страна умудрялась прятаться за своими известняковыми крепостными стенами. Теперь появилось ощущение, что горы внезапно расступились. Греция и Сербия снова стали угрожать Албании. А Запад, который мог бы помочь, был практически неизвестен – так же, как прошлое, которое описывал Джек Лондон.
– Вот, идут, – произнес стоявший рядом со мной журналист, серб из Белграда. – Ранкович был прав, он знал, как найти управу на этот народ[19].
Толпа грозно выглядевших прыщеватых парней, сжимавших в руках пивные бутылки, вывалилась с футбольного стадиона и двинулась в нашу сторону. Они были в куртках из искусственной кожи с множеством молний. Некоторые – в бурых шлепанцах на босу ногу. Я встречал таких мужчин в Приштине повсюду. По субботам они прогуливались с женами, чьи лица были наполовину закрыты темными головными платками. По воскресеньям они шли на футбол. Всю остальную неделю они ходили на плохо оплачиваемую, тупую работу или сидели без дела.
Милиция стояла с окаменевшими лицами. Один даже, как мне показалось, закатил глаза. Такое происходило уже на протяжении почти десяти лет – на шесть лет дольше, чем палестинская интифада.
– А-зем Вла-си, А-зем Вла-си, А-зем Вла-си! – начала скандировать албанская молодежь, словно пыхтящий паровоз. Азем Власи был местным албанским политиком, «распутником», по словам матери Татьяны, которого сербские власти Милошевича недавно привлекли к суду по обвинению в заговоре.
– Э-Хо, Э-Хо, Э-Хо! – это уже относилось к Энверу Ходже, покойному албанскому тирану-сталинисту.
– Ублюдки, – заметил сербский журналист. – Ходжа – единственный герой, который у них есть.
Один парень бросил в нашу сторону пивную бутылку. Милиция включила водяную пушку и погнала демонстрантов вверх по холму. В отдалении другая группа албанской молодежи подожгла гору автомобильных покрышек. Люди высыпали на балконы. «Фашисты!» – начали выкрикивать они, глядя, как милиционеры бодро вооружаются дубинками. Дальше началось настоящее избиение. Подо мной простирался горизонт «новой Приштины»: блевотина геодезических бетонных форм, созданных Тито, чтобы ликвидировать вызывающее распри «реакционное» прошлое. В ответ в Приштине прошлое восстало и развалило эти сооружения.
Темнело. Стаи крупных черных ворон громко каркали в голых акациях, высаженных вдоль главного бульвара Приштины. Я невольно вспомнил о черных птицах, которые пожирали трупы воинов Лазаря. Я вернулся в «Гранд-отель» и включил новости BBC.
Было 8 ноября 1989 г. Югославия еще не присутствовала в мировом сознании. Власти Восточной Германии только что сообщили, что собираются проделать проходы в Берлинской стене и в полночь объявить Берлин открытым городом. Холодная война и искусственное разделение Европы заканчивались. Я понимал, что начинается другое, исторически более обоснованное разделение Европы. Вместо демократической Западной Европы и коммунистической Восточной Европы отныне будут Европа и Балканы. Но кого это интересовало? Я, безусловно, оказался не там, где творилась История. И меня поразило, насколько далеко от Истории – во времени и пространстве – находятся Балканы.
Глава 3 Македония: «рука, рвущаяся к звездам»
Местный ландшафт надо читать, а не только разглядывать. Я закрыл глаза, стараясь представить зернистые, закопченные списки национальных и лингвистических требований и различных интерпретаций истории. Шрифт был мелким, предложения длинными и запутанными.
Путь мой лежал на юг, из Старой Сербии в Македонию. Скошенные крыши плавильных фабрик тянулись параллельно склонам, покрытым снегом, но не белым, а сероватым от угольной пыли. Я видел хвойные леса и величественные тополя. Снег лежал не везде. Гладкие бархатистые шали красно-коричневого и охряного цвета покрывали холмы, между которыми петляли речушки с поросшими ивняком берегами. Снова появилась пелена сажи, и я закрыл глаза. Когда вместо реальности только утраченный идеал, изысканная красота земли лишь усиливается. Теперь я понял, почему в поэзии этой земли много горечи и гипербол.
В Скопье, столице Македонии, над серебристыми куполами и расходящимися во все стороны базарными рядами парят турецкие минареты, подчеркивающие монотонное горизонтальное пространство долины, где нет преград ветру: намек на азиатский хаос.
Турецкий след в Скопье заметен везде. Мужчины в белых тюбетейках играют в нарды и пьют каркаде из конусообразных стаканчиков. Я снял грязные ботинки и погрузил ноги в глубокий ковер мечети Мустафа-паши XV в. Взгляд заблудился в арабской вязи, покрывающей стены. Непонятные узоры тянулись бесконечно. Ислам, как очертания пустыни, – мир абстракции, математической в своей строгости, пугающий и чуждый самым завзятым мистикам из восточных христиан.
На этих границах православное христианство защищается благожелательной магией. В близлежащей церкви Святого Димитрия я видел иконы за стеклом, которое отражает свет таким образом, что лики святых находятся в постоянном движении и выглядят как живые. Их фигуры, скрытые окладами из дешевого серебра, изображают скорбь; у этих святых больные просят об исцелении. Я вдыхал запах пчелиного воска от леса горящих свечей. Стены церкви были практически черными от свечного дыма, похожего на теплое дыхание патриотов. Это был мир, навеянный волшебным мраком предрождения, мир, в который еще не пришли турки.
Я прошел по мощеному мосту через Вардар, построенному на римских опорах, выдержавших сильные землетрясения 518, 1535 и 1963 гг. (последнее оставило без крова сто тысяч человек). Ветер дул в лицо идущим мимо людям, увеличивая их в моих глазах. Они могли быть греками, турками, сербами или болгарами в зависимости от конкретной народной мелодии, которую я насвистывал, или от последней книги, которую прочитал. На мосту мальчишка-цыган разложил на картонной коробке наручные часы. Часы придавливали стопку купюр достоинством в сто динаров, чтобы их не разнесло ветром. Инфляция превратила эти деньги почти в ничто даже по скромнейшим цыганским стандартам.
Впереди у меня был «новый» Скопье, упрямо поднявшийся из руин землетрясения 1963 г.: массивные треугольники и сферы из монолитного бетона, которые, как и в Приштине, уже потрескались и позеленели от сырости. Всюду попадались граффити не на македонском, а на причудливом английском жаргоне «Заводного апельсина»:
Hors hav hardons… bad end… no future, mucky pup
Гане Тодоровски, поэт города, понял, что все это значит:
Вардар безмолвно мчится и бурлит, веками день и ночь в воде смывая иллюзии и скверну, имена умерших, похороненных, забытых, несет стволы и пни, людские судьбы, империи былые и величье, уносит все в своем водовороте, и все крушит, и снова катит волны. Все зыбко, недостойно и непрочно[20].Похоже, только у турецкой мечети, церкви с закопченными стенами и опор древнеримского моста есть прочная основа. Македония, откуда Александр Великий отправился покорять мир, где началось знаменитое восстание Спартака, была историческим и географическим ядерным реактором. Здесь во времена упадка Османской империи впервые прозвучали взрывы этнической ненависти, излучая радиацию европейских и ближневосточных конфликтов XX в. Македония была словно хаос, существовавший до начала времен, в котором, как сказал мне поэт Тодоровски, «маленький лучик света мог зародиться, а мог и умереть».
«Кто, как не дьявол, мог создать такой склеп?» – восклицала британская писательница и историк Мерсия Макдермотт в книге «Свобода или смерть: Жизнь Гоце Делчева» (Freedom or Death: The Life of Gotse Delchev) – истории о человеке, который возглавил в Македонии партизанское движение против турок. По словам Макдермотт, Делчев был болгарином, а Македония в то время – Западной Болгарией. Претендентов на македонскую землю и кровь – легион. Здесь сталкивались европейские, азиатские и африканские тектонические плиты, формируя наиболее причудливые земные ландшафты и изливая самые широкие потоки лавы. К примеру, племя африди из Восточного Афганистана хвалится происхождением от македонцев – воинов Александра Великого, дошедшего на востоке до Индии.
Я закрыл глаза, пытаясь избавиться от очевидного эффекта сорокапятилетнего влияния югославского коммунизма. В этот момент я увидел ландшафт Северной Греции: ясность эгейского света; озера, подобные запылившимся зеркалам, которые усиливают самые миролюбивые мысли; осеннюю листву, хотя и менее впечатляющую, чем в Северной Америке, но все же не имеющую себе равных в тонких оттенках серого и красновато-бурого. И я видел – игнорируя завывания ветра из Центральной Азии – восточную форму тайны и магии, освоенную Западом и превращенную в нечто совершенно безопасное: в основу волшебной сказки. «Македония – страна, которую я всегда представляла между сном и явью, – пишет дама Ребекка, – с самого детства, когда мне надоедало то место, где я находилась, мне хотелось, чтобы оно превратилось в город наподобие Яйце… Битолы или Охрида».
XX в. начался и может закончиться упоминанием об этих городах. Я достал из рюкзака книгу Джона Рида «Война в Восточной Европе». В 1916 г. Рид писал:
В последние пятьдесят лет македонский вопрос был причиной каждой крупной европейской войны, и, пока он не разрешится, мира не будет ни на Балканах, ни за их пределами. Македония – самая дикая смесь наций, какую только можно представить. Турки, албанцы, сербы, румыны, греки и болгары живут здесь бок о бок, не смешиваясь, – и жили так со времен святого Павла.
Продолжая тему Джона Рида, Македония, по словам лорда Кинросса, – это «проекция в миниатюре» всей Османской империи. Она расположена в самом центре Южных Балкан: в начале века этот регион назывался «Турцией в Европе», а сами турки называли его Румелия – от арабского названия Византии «Рум», что означает «Восточная Римская империя».
«Турция в Европе» начала разваливаться в начале XIX столетия, когда греки, сербы и черногорцы победили в ожесточенной борьбе за независимость от Османской империи. Однако война русского императора Александра II за освобождение болгар от турецкой оккупации, начавшаяся в апреле 1877 г., заронила первые вполне различимые семена современного конфликта великих держав.
Русская армия, к которой по пути присоединились румынские войска и болгарские партизанские отряды, постепенно поднялась на перевал Шипка в Центральной Болгарии. Турецкие войска имели четырехкратный численный перевес, но летом 1877 г. все же потерпели поражение. В декабре русские заняли столицу Болгарии Софию. В марте, когда русские войска были уже в Адрианополе (день пути на машине до Стамбула), граф Игнатьев, русский посол при дворе султана Абдул-Хамида II, прибыл в пыльный фракийский городок Сан-Стефано[21], где продиктовал побежденным туркам условия мирного договора: так был заложен первый запал в «балканскую пороховую бочку».
По условиям Сан-Стефанского мирного договора, в частности, возникало княжество Болгария, которое, хотя и должно было выплатить Турции номинальную контрибуцию, на самом деле стало сильным и независимым воссозданием Болгарского царства. В него территориально входила не только современная Болгария, но и вся прилегающая географическая Македония, то есть югославская республика Македония, часть Западной Албании и огромная часть греческих земель, буквально окружающих город Салоники, что давало Болгарии выход к Эгейскому морю.
Как ни фантастически это может выглядеть, но «Великая Болгария», созданная при помощи России, удивительным образом соответствовала стандартам национального самоопределения, выдвинутым Вудро Вильсоном много десятилетий спустя, когда он начал размышлять над картой Европы. Например, бо́льшая часть греческой Македонии, доставшаяся Болгарии, в то время была заселена преимущественно болгарами, хотя и со значительными вкраплениями греческих, турецких и еврейских меньшинств. На остальной части Македонии, хотя здесь сейчас это категорически отрицает почти каждый, болгарский национализм был гораздо сильнее, чем национализм греков и сербов. Джон Рид, который мог наблюдать это с более близкой временной дистанции, чем я, заметил, что «подавляющее большинство населения Македонии – болгары. ‹…› Они первыми, когда Македония еще была турецкой провинцией, создавали здесь национальные школы, а когда болгарская церковь выступила против греческой патриархии… турки позволили ей создать свои епархии, поскольку всем было очевидно, что Македония – болгарская». Далее Рид объясняет, что создание в Македонии школ сербами и греками – как и повстанческих отрядов – было исключительно реакцией на рост болгарского национализма в этом регионе.
Объединение Македонии с Болгарией, несмотря на всю толерантность в этническом смысле, способствовало созданию на Балканах нового и исключительно сильного пророссийского государства, с чем не могли смириться Великобритания, Германия и в особенности союзница Германии Австро-Венгрия, имеющая собственные интересы на Балканах, которые требовалось защищать.
Условия Сан-Стефанского мирного договора следовало изменить. Эта мысль подтолкнула канцлера Германии князя Отто фон Бисмарка-Шонхаузена в июне 1878 г. организовать встречу, чтобы решить эту и другие проблемы, касающиеся великих держав. Она стала известна в истории как Берлинский конгресс.
Бисмарк, циник, обладавший даром предвидения, четко понял, куда могут завести Балканы великие державы. «Все Балканы, – предостерегал он, – не стоят жизни одного померанского мушкетера».
Немецкий канцлер этим заявлением сделал двойное предупреждение. Первое – Великобритании, которой следовало бы приложить больше усилий по сдерживанию России на Балканах, поскольку Германия, по крайней мере пока он находится у власти, вмешиваться не будет. Второе – своему главному союзнику, Австро-Венгрии, о том, что габсбургскому двору не стоит рассчитывать на поддержку Германии, если он проявит глупость, ввязавшись в войну с Россией из-за такой богом забытой земли, как Болгария. В результате Бисмарк оказался не прав. Война началась из-за кризиса в Сербии, но корни этого кризиса тянутся к притязаниям Болгарии на Македонию.
Бисмарк в своей гениальности, равно как и в своих главных просчетах, сопоставим с другим выдающимся политиком немецкоязычного мира XIX в. – князем Клеменсом фон Меттернихом. Оба были изобретателями, способными задержать будущее построением хрупкого настоящего из обломков прошлого. Символом этой техники стал Венский конгресс 1814 г., организованный Меттернихом, чтобы восстановить в Европе порядок периода до Наполеоновских войн. То же самое можно сказать о Берлинском конгрессе 1878 г. Бисмарка.
Бисмарку оказал помощь представитель Британии на конгрессе, Бенджамин Дизраэли, который дал понять русским, что продолжение создания Великой Болгарии будет означать войну с Великобританией. Таким образом конгресс Бисмарка смог расчленить Великую Болгарию до того, как она стала реальностью. Бо́льшая часть Северной Болгарии, между Дунаем и Балканским хребтом, получила свободу, как и было предписано Сан-Стефанским договором[22]. Но южная половина Болгарии, между Балканскими горами и границей с Грецией, стала турецкой провинцией с местной автономией под управлением болгарского губернатора – православного христианина. Македонию оставили под непосредственным турецким правлением, словно русская армия вообще никогда не освобождала Болгарию и Сан-Стефанского договора не существовало.
Однако русские уехали из Берлина не в обиде. Бисмарк компенсировал им потерю Македонии предоставлением новых земель в Бессарабии, отнятых у Румынии, и Северо-Восточной Анатолии, отнятой у Турции. Более того, Берлинский договор гарантировал полную независимость славянским союзникам русских – сербам. А Австро-Венгрии в качестве этой новой провокации досталась соседняя с Сербией Босния, в которой сербское население тоже жаждало независимости. Это стало непосредственной причиной Первой мировой войны. Великобритания, в свою очередь, получила бывший турецкий остров Кипр.
Вместо того чтобы тонко решить проблему Македонии, Берлинский конгресс Бисмарка обострил ее: «восточный вопрос», в конце концов полыхнувший в 1914 г., оказался во многом следствием более раннего «македонского вопроса», который и в 1990-х гг. раздирает бывшие турецкие доминионы в Европе с такой силой, на которую способна только ненависть.
В Македонии итоги Берлинского договора мгновенно вызвали вспышку насилия. Войска султана, вместо того чтобы покинуть эту территорию согласно условиям Сан-Стефанского договора, получили возможность действовать без ограничений. В Охриде турки насиловали девушек, а затем пытали их кипящим маслом и раскаленным железом. Они воровали скот, вламывались в магазины, топили людей в навозных лужах свинарников за то, что те не могли платить заоблачные налоги. В городке Скачинци, к югу от Скопье, турецкие солдаты выкололи глаза и отрезали уши и нос некоему Петуру Лазову и заставили его мучиться несколько дней, прежде чем отрубили голову.
Кроме того, наступление русской армии, освобождавшей северную половину Болгарии, вызвало массовый исход разъяренных этнических турок, которые вместе с боснийскими мусульманами, бежавшими от Габсбургов, хлынули в Македонию, где присоединились к турецким войскам, терроризировавшим местное православное христианское население.
Местные православные священники под руководством митрополита Охридского Нафанаила отреагировали немедленно. Они организовали сеть по сбору огнестрельного и холодного оружия по всей Македонии, чтобы экипировать четы – мобильные отряды повстанцев, которые в октябре 1878 г. подняли восстание против турецких оккупационных сил. На протяжении последующего полувека македонское партизанское движение претерпело ряд радикальных изменений. Македонии суждено было стать своеобразным инкубатором не только современной войны и политических конфликтов, но и современного терроризма и клерикального фанатизма.
Первое македонское партизанское восстание в 1881 г. захлебнулось под кнутами и винтовочными прикладами турок в душных камерах тюрьмы Битолы. Турки были еще достаточно сильны, чтобы подавить открытое сопротивление, но не могли ничего поделать с проникновением на эту территорию новых бойцов и пропагандистов.
В тот же год Сербия сквозь зубы признала австро-венгерскую оккупацию Боснии, санкционированную Берлинским договором тремя годами ранее, и в ответ получила благословение от Габсбургского двора на отправку людей и снаряжения в Македонию в качестве противовеса османам и пророссийским болгарам. В 1885 г. непрекращающееся давление России на Турцию привело к объединению южной половины Болгарии с уже получившей независимость северной частью. Опасаясь, что болгары в итоге могут добиться своей цели – воссоздания Великой Болгарии, – турки сообразили, что могут получить выгоду, помогая сербам в борьбе с болгарами в Македонии.
В 1897 г. ситуация немыслимо осложнилась. Восстание на Крите стало поводом для войны между Грецией и Османской империей. Чтобы помешать Болгарии выступить на стороне Греции, турецкий султан Абдул-Хамид внезапно изменил свою политику в Македонии. Вместо того чтобы продолжать помогать сербам в их борьбе против болгар, султан выдал болгарскому царю Фердинанду carte blanche на помощь сербам в борьбе с греками.
Тем временем в городе Штип, что к юго-востоку от Скопье, шестеро заговорщиков, в том числе двадцатиоднолетний школьный учитель Гоце Делчев, на развалинах четнического восстания основали Македонскую революционную организацию. Чтобы отличить свое местное движение от еще одного македонского подпольного движения, возникшего в Софии, Македонская революционная организация вскоре была переименована во Внутреннюю Македонскую революционную организацию, или ВМРО. ВМРО в 1890-х гг. быстро набрала силу. Деньги они добывали грабежом банков и похищением людей ради выкупа.
К концу века в Македонии образовался вакуум власти при постоянных стычках между разными религиозными общинами. Отсутствие жизнеспособного правительства или определяющей концепции государственности давало возможность различным внешним силам (которые все испарились в результате того, что начинало твориться в Македонии) соперничать между собой на фоне величественного горного пейзажа. Христианские вооруженные формирования сражались с мусульманскими вооруженными формированиями и друг с другом; бородатые, перепоясанные патронташами террористы типа Гоце Делчева закладывали бомбы в кафе, открытых театрах и на железнодорожных станциях; члены отколовшихся группировок убивали членов соперничающих группировок, устраивали тайные трибуналы, казнили гражданских лиц, уличенных в сотрудничестве с «врагом», брали заложников, в том числе американку Эллен Стоун, прибывшую в Македонию с протестантской миссией. «В горах действовали двести сорок пять банд. Сербские и болгарские comitadjis, греческие andartes, албанцы, валахи… все вели террористическую войну», – пишет Леон Сциаки в книге «Прощай, Салоники: портрет эпохи» (Farewell to Salonica: Portrait of an Era). Когда начался XX в., Македония представляла собой территорию злодеяний и лагерей беженцев. Западу все это уже наскучило и вызывало лишь презрение. Казалось, эту ситуацию никогда не удастся разрешить, а газеты уделяют ей слишком много внимания.
Но к 1990-м гг., если не считать горстки черно-белых фотографий под запылившимися стеклами музейных витрин в Скопье и некоторых других городах, все это стало давно забытым прошлым. По крайней мере, для Запада.
Македония, от названия которой произошло французское слово macedoine (салат из фруктов или овощей, мешанина), определяет основную болезнь Балкан: конфликт мечтаний об утраченной имперской славе. Каждая нация требует восстановления своих границ в тех пределах, которые были достигнуты в зените средневекового развития. Поскольку Филипп Македонский и его сын Александр Великий в IV в. до н. э. создали великое царство Македонское, греки уверены, что Македония принадлежит им. Поскольку в конце X в. царь Самуил, а затем в XIII в. царь Иван Асен II раздвинули границы Болгарии на запад до Адриатического моря, болгары убеждены, что Македония принадлежит им. Поскольку Стефан Душан завоевал Македонию и основал Скопье – «великий город», по словам дамы Ребекки, «где он был на Пасху коронован царем и самодержцем сербов и византийцев, болгар и албанцев», сербы считают Македонию своей. На Балканах история рассматривается не как череда последовательных исторических событий, что принято на Западе. Напротив, история здесь совершает скачки и ходит по кругу. А там, где история воспринимается таким образом, рождаются мифы. Евангелос Кофос, выдающийся греческий историк, специалист по Македонии, пишет, что «это историческое наследие… поддерживало нации в их движении вперед к государственному строительству, национальному единству и, возможно, к возрождению давно исчезнувших империй».
– Как ты разделишь прошлое? – вопрошал меня поэт Тодоровски. В Скопье было девять утра, и он угощал меня сливовицей и турецким, прошу прощения, «македонским» кофе.
– Ты споришь о том, что имел в виду покойник, – отвечал я.
Возьмем Гоце Делчева с его густыми закрученными усами, гривой черных волос и тяжелым взглядом черных глаз, чьи портреты украшают музеи и государственные здания Болгарии и бывшей югославской Македонии. Делчев родился 4 февраля 1872 г. в Османской империи, в небольшом городке к северу от Салоник. Болгарские жители называли его Кукуш. 2 июля 1913 г., во время Второй Балканской войны, они бежали из города перед наступающими частями греческой армии, будучи в полной уверенности, что через несколько дней, после того как болгарские войска «утопят греков в море», они смогут вернуться. Но греки сожгли Кукуш дотла, и его болгарские обитатели никогда не вернулись. Греческий город Киклис, возникший на пепелище, сейчас может похвастаться обилием ресторанов быстрого питания. «Не говори мне про Киклис, – заявил мне краснолицый болгарский дипломат в Афинах в 1985 г., когда эксперты отмахивались от Болгарии как от верного кремлевского сателлита. – Ты из Америки и ничего не понимаешь в этих делах. Запомни одно: нет никакого Киклиса, есть только Кукуш. Наступит день, когда не будет ни НАТО, ни Варшавского договора, и тогда снова будет Кукуш».
Делчев получил среднее образование в болгарской гимназии в Салониках (сейчас это греческий город). Затем поступил в военное училище в столице Болгарии Софии. Остаток своей короткой жизни он провел как школьный учитель и партизан-террорист в «Македонии» – на территории, которая ныне охватывает северные части Центральной Греции, юго-запад Болгарии и юго-восток бывшей югославской республики Македония. 4 мая 1903 г. он погиб в стычке с турецкими войсками. «Плащ взметнулся над левым плечом, белая феска, обернутая голубоватым шарфом, упала, винтовка повисла на левом локте», – так описывал смерть Делчева находившийся рядом его товарищ Михаил Чаков. Стычка произошла в болгарском селении Баница. Сейчас это греческая деревня Карие. Для болгар это ничего не меняет. «Эта земля помнит каждого, даже убитых нерожденных младенцев, у которых нет имен», – восклицает Мерсия Макдермотт, проболгарски настроенный агиограф Делчева.
После его гибели история о том, кем (или скорее чем) был Гоце Делчев, чрезвычайно усложнилась. В 1923 г. греческие власти согласились передать останки Делчева Болгарии. В 1947 г., стремясь умиротворить Тито (до того как Югославию исключили из Коминформа), Сталин настоял, чтобы болгарские коммунисты отдали кости Делчева. Сегодня могила Делчева, отмеченная каменным саркофагом и украшенная венками, находится в Скопье, под елью во дворе церкви XVIII в. Свети Спас. Допустить, что болгары когда-нибудь простят Сталину или русским этот акт, – значит ничего не понимать в страстях, которые правят Балканами.
– Не говори мне про Македонию, – бушевал тот болгарский дипломат в Афинах. – Нет никакой Македонии. Это Западная Болгария. Там язык на 80 % болгарский. Но ты не понимаешь, ты не улавливаешь наших проблем… Гоце Делчев – болгарин. Он учился в Софии. Болгария финансировала его партизанскую деятельность. Он говорил на западном болгарском диалекте. Как он может быть тем, что не существует?
Дипломат вручил мне биографию Делчева, написанную Макдермотт (другой болгарский чиновник уже дал мне такую же), а также тяжелый, в синем переплете фолиант, содержащий почти тысячу страниц мелким шрифтом, озаглавленный «Македония: документы и материалы» и изданный Болгарской академией наук. Я открыл книгу и прочитал:
Обзор ряда важнейших работ, посвященных Македонии и проанализированных в данном томе, убедительно доказывает, что славянское население этого региона – болгарское. ‹…› Это исторический факт, нашедший отражение во множестве документов.
– Болгары – известные во всем мире фальсификаторы документов. Чего еще ждать от татар? – говорил мне Орде Ивановски, историк из бывшей югославской Македонии, у которого я брал интервью после того, как выпил сливовицы с поэтом Тодоровски.
И мне пришло в голову, что, поскольку истеблишмент мировой журналистики слишком долго игнорировал Балканы (до 1992 г. телеграфные агентства в Македонию не направляли даже стрингеров), здесь не научились, в отличие от арабов и израильтян, выражать свои мысли завуалированно, чтобы не оскорблять западную чувствительность своей национальной ненавистью. На Балканах люди говорят более честно, чем на Ближнем Востоке, и, соответственно, более откровенно.
– Понимаешь, у болгар есть специальные команды, которые сочиняют книжки про Гоце Делчева, – продолжал доктор Ивановски. – Они подкупают иностранных авторов, дают им профессорские звания, чтобы поставить их фамилии на обложки этих книг. Я знаю, что болгары сейчас покупают рекламное время в Индии, чтобы вести пропаганду по поводу Македонии и Гоце Делчева. Какой Гоце Делчев болгарин? Он родился в Македонии. Он говорил на македонском языке, не на болгарском. Он был космополитом. Он хотел создать демократическое содружество наций, примерно такое же, как в Центральной Европе. Шовинизм отравляет душу человека. Мы, македонцы, никого не ненавидим и ни к кому не имеем претензий. Мы во мраке ищем друга.
Доктор Ивановски взял меня за плечо, а потом вручил биографию Делчева, опубликованную в бывшей Югославии.
– Ты должен помочь нам, – твердо заявил он.
Если бы Делчев мог восстать из могилы, кем бы он назвал себя – македонцем или болгарином?
Специалисты соглашаются с тем, что язык, на котором он говорил (и тот, на котором здесь сейчас говорят), ближе к болгарскому, чем к сербскому. Но вследствие разрыва Тито со Сталиным югославское правительство, подогреваемое сербами, продвигало особую этническую и лингвистическую идентичность Македонии, чтобы порвать все эмоциональные связи между местным населением и болгарскими соседями, чье правительство подчинялось приказам Москвы. При жизни Делчева никто не говорил об особой македонской идентичности.
Обе стороны соглашаются лишь в одном: Делчев, вопреки некоторым фактам, не был террористом.
– Он был апостолом, – сказал доктор Ивановски.
2 августа 1903 г., через три месяца после гибели Делчева, Македония взорвалась. Новое восстание ВМРО началось в Илинден – Ильин день. Илья-пророк, в болгарской православной традиции, вариант Перуна, языческого бога-громовержца, которому дохристианские славяне приносили в жертву быков и людей. Зазвенели колокола, бойцы ВМРО перерезали турецкие телеграфные линии, сожгли налоговые регистрационные книги, крестьяне продавали жертвенных быков, чтобы купить оружие. В городе Крушево, расположенном на высоте 1200 метров в горах Западной Македонии, ВМРО провозгласила образование Крушевской республики. Она просуществовала десять дней, до тех пор пока 2000 турецких солдат при поддержке артиллерии не смяли 1200 партизан в Крушеве. Сорок партизан, не желая сдаваться в плен, поцеловавшись на прощание, покончили с собой выстрелом в рот. Стало известно, что турки в Крушеве изнасиловали 150 девушек и женщин. Обнаженные трупы бросили на съедение собакам и свиньям.
По всей Македонии творилось то же самое. В ходе двухмесячного восстания погибли 4694 гражданских лица и 994 партизана ВМРО. По некоторым оценкам, количество изнасилованных турками девушек и женщин превысило 3000 человек[23]. В Северо-Западной Македонии пятьдесят турецких солдат изнасиловали одну девушку, после чего убили. Другой девушке турецкие солдаты отрубили руку, чтобы забрать браслеты. Корреспондент лондонской Daily News А. Г. Хейлс 21 октября 1903 г. писал в публикации: «Я постараюсь рассказать эту историю хладнокровно, спокойно, бесстрастно… Необходимо приглушить кошмары, поскольку в своей наготе они просто непечатны». В Великобритании и других западных странах поднялась волна общественного возмущения против действий турецкого султаната. Давление британского премьер-министра Артура Бальфура, российского императора Николая II и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа привело к тому, что в 1904 г. в Македонию были введены международные миротворческие силы.
Не случайно, что «хюрриет» (младотурецкая революция), поставившая своей целью свержение османского султаната, началась в Македонии. 23 июля 1908 г. в городе Салоники молодой майор турецкой армии Энвер (вскоре ставший известным под именем Энвер-паша) с балкона отеля «Олимпус-Палас» под бурные одобрительные возгласы многонациональной толпы провозгласил: «Свобода, равенство, братство, справедливость».
Мустафа Кемаль Ататюрк[24], будущий основатель современной Турции, тоже из Македонии. Он родился в 1881 г. в Салониках. Стоя в тот исторический день на балконе рядом с Энвер-пашой, Кемаль уже испытывал сомнения по поводу революции. Помимо стремления заставить султана Абдул-Хамида принять либеральную конституцию, у младотурок во главе с Энвер-пашой не было четко продуманной программы. Подобно Михаилу Горбачеву и его соратникам-реформаторам в Советском Союзе, Энвер-паша и другие младотурки были намерены сохранить – хотя и в более мягком, либеральном виде – империю, для которой, по их мнению, основную угрозу представлял реакционный султанат и его тотальное сопротивление реформам. Но, как и подозревал Кемаль, Энвер-паша и младотурки недооценили силы балканских народов, очень давно страдавших под турецким владычеством. Православные христиане хотели большего, чем простые конституционные гарантии в рамках мусульманской конфедерации. «Революция, – пишет лорд Кинросс, биограф Кемаля Ататюрка, – вместо того чтобы остановить дезинтеграцию империи, как надеялись младотурки, напротив, только ускорила ее» и на Ближнем Востоке, и на Балканах.
В октябре 1908 г. царь Болгарии Фердинанд провозгласил полную независимость своей страны, которая уже давно существовала де-факто, но не де-юре. На той же неделе остров Крит (являвшийся частью Турции) проголосовал за присоединение к Греции, а австрийские Габсбурги аннексировали турецкую провинцию Босния и Герцеговина, находившуюся под их управлением по решению Берлинского конгресса.
Иными словами, финансируемое Болгарией партизанское движение в Македонии подтолкнуло к революции находившихся там молодых турецких офицеров; революция охватила всю Османскую империю; эти события, в свою очередь, позволили Австро-Венгрии аннексировать Боснию и подвергнуть местное сербское население такой тирании, что впоследствии совершенное боснийским сербом убийство эрцгерцога Франца Фердинанда стало толчком к началу Первой мировой войны.
Распад Османской империи вызвал негодование среди мусульманских фундаменталистов в самой Турции. В апреле 1909 г. взбунтовались армейские части; присоединившиеся к ним студенты-теологи и духовенство в тюрбанах, выкрикивая: «Мы хотим шариат», потребовали реставрации абсолютной власти султана. Младотурки жестоко подавили контрреволюционное выступление, вынудив султана Абдул-Хамида искать убежища в Салониках. Когда султан узнал, что оказался в македонском городе, где началась революция против него, он упал без сознания на руки стоявшего рядом евнуха.
Авторитарный характер режима младотурок достиг своей кульминации в 1915 г., когда произошло убийство примерно полутора миллионов армян – это был первый холокост XX в. Кампания геноцида, организованная правительством, была развязана потому, что армяне, в отличие от других православных народов Балканского полуострова, представляли демографическую угрозу в Центральной Анатолии – исторической родине турок-мусульман. У империи – любой империи, как мудро предвидел Кемаль Ататюрк, – в новом веке не было будущего.
Превращение младотурок в еще более жестоких и решительных убийц, чем сам султан, вместе с нежеланием вмешательства западных держав подтолкнуло Болгарию, Сербию и Грецию к невиданному до сих пор акту: они наступили на горло своим разногласиям и сформировали альянс.
В 1909–1912 гг. три государства наращивали свои армии. В октябре 1912 г. они объявили войну Османской империи. Пехота и артиллерия на конной тяге под проливными дождями, утопая в грязи, перешли в наступление. Их главной целью было освобождение Македонии.
Первый период Первой Балканской войны закончился в декабре 1912 г. тем, что все европейские владения Турции были очищены от турецких войск. В Македонии сербская армия оккупировала Скопье, древнюю столицу Стефана Душана, а греческая армия заняла Салоники. Тем не менее Болгария, чья армия заняла территорию турецкой Фракии, подошла к воротам Стамбула и закрепилась на плацдарме у Эгейского моря, оказалась отрезана от региона, который десятилетиями – при поддержке дипломатов, партизанских отрядов и лингвистического влияния – казалось, находился буквально на грани присоединения.
Джон Рид описывал, как после Первой Балканской войны сербы и греки стремились ликвидировать болгарское влияние в Македонии:
Тысяча греческих и сербских публицистов принялись вопить на весь мир о преимущественно греческом или сербском характере населения в своих сферах влияния. Сербы давали несчастным македонцам двадцать четыре часа на отказ от своей национальности и провозглашение себя сербами. Греки делали то же самое. Отказ означал смерть или изгнание. Греческие и сербские колонисты заполонили оккупированную страну. ‹…› Болгарских школьных учителей убивали… Болгарским священникам предлагали выбор: смерть или переход в другую веру. ‹…› Греческие газеты стали писать о том, что Македония населена исключительно греками, а то, что никто из них не говорил по-гречески, объясняли просто: их называли «болгароязычными» греками. ‹…› Греческие солдаты входили в деревни, где никто на говорил на их языке. «Почему это вы говорите по-болгарски?!» – кричали офицеры.
Тем временем в Болгарии настроения народа и правительства накалялись. 30 июня 1913 г. в час ночи, без предупреждения и объявления войны, болгарская армия форсировала Брагальницу, приток Вардара, и атаковала сербские войска, расположенные на другом берегу. Началась Вторая Балканская война.
Сражение длилось несколько дней. Сербы с помощью греческого подкрепления восстановили преимущество. Затем к сербско-греческому альянсу присоединилась Румыния и напала на Болгарию с севера. В этой кампании больше людей умерло от холеры, чем погибло под пулями. В августе того же года в Бухаресте состоялась конференция, на которой был подписан мирный договор, по условиям которого Болгария потеряла все: выход к Эгейскому морю, приобретения во Фракии в ходе Первой Балканской войны и всю территорию Македонии.
Эта катастрофа имела тяжелые последствия для мировой истории.
Когда Джон Рид посетил Софию летом 1915 г., город представлял собой то, на что много лет спустя станут похожи Бейрут, Дамаск и Амман: «Половина населения Софии состоит из македонских беженцев, можно посетить лагерь на окраине города, где шестнадцать тысяч из них живут в палатках. Их содержание требует больших расходов и вызывает большую тревогу у правительства. Каждый день пресса публикует печальные истории, рассказанные беженцами, и выражения ненависти по отношению к сербам».
Осенью 1915 г. Болгария вступила в Первую мировую войну на стороне Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии) в надежде отобрать Македонию у Сербии, которая присоединилась к Антанте (России, Великобритании и Франции). Габсбургская армия вторглась в Сербию с севера, болгарские войска наступали на Македонию с востока. Но вместо того чтобы сложить оружие, сербская армия организовала зимнее отступление, в котором приняли участие большие массы гражданского населения, в заснеженные просторы албанских гор. У сербских войск не было транспорта и даже мулов. Они не могли взять с собой дополнительный провиант, а раненых пришлось нести на носилках. Это было одно из самых мучительных зимних отступлений в истории, сопоставимое лишь с отступлением наполеоновских войск из России в XIX в. и отступлением греческих войск Ксенофона из Месопотамии в горы Анатолии в 401 г. до н. э.
Французские и итальянские корабли встретили остатки сербской армии численностью 125 000 человек на Адриатическом побережье Албании и перебросили их на греческий остров Корфу, где был организован процесс восстановления. По всей Македонии с 1916 г. и до перемирия в 1918 г. шла окопная война, в которой французские, греческие и реорганизованные сербские части, а также войска Британского Содружества, выведенные с Галлипольского полуострова, сражались с австро-венгерской и болгарской армиями. Для болгар Первая мировая война завершилась так же, как Вторая Балканская война: им пришлось уступить всю Македонию сербам и грекам.
Македония полна исторических уроков, но историю, к сожалению, плохо учат и запоминают. Так же как распад Советского Союза при Горбачеве в последнее десятилетие XX в. зеркально отражает развал Османской империи при Энвер-паше в первое десятилетие XX в., политическая трагедия арабского мира во второй половине XX в. отражает то, что происходило с Болгарией в его первую половину.
Болгарский царь Фердинанд, развязав две войны против Македонии и проиграв обе, в 1919 г. отрекся от престола. В последующие два десятилетия, вплоть до начала Второй мировой войны, страной управлял его сын, царь Борис II. Ему приходилось бороться с попытками переворотов и другими заговорами, связанными с утратой того, что болгары считали своей исторической родиной. ВМРО, радикализованная поражениями 1913 и 1918 гг., превратилась в террористическое государство в государстве и благодаря своей эмблеме с черепом и перекрещенными костями стала для внешнего мира синонимом ненависти и насильственного нигилизма. Вооружение ВМРО приобретала на доходы от торговли опием. Стандартная цена за политическое убийство членами ВМРО составляла двадцать долларов, поэтому болгарские политики перемещались в окружении отрядов телохранителей. По этому поводу журналист New York Times С. Л. Сульцбергер заметил: «По неясной причине болгары – лучшие в Европе убийцы».
Террористы, направляемые православным духовенством, были выходцами из семей македонских беженцев, осевших в софийских трущобах. К 1930-м гг. македонские террористы нанимались в самые радикальные группировки по всей Европе, особенно часто они шли на службу к хорватским усташам, существовавшим на средства диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини. Македонский болгарин, известный как Владо-шофер, совершил убийство короля Югославии Александра. Именно это громкое преступление вызвало особый интерес дамы Ребекки к этой стране.
Вторая мировая война явилась отвратительным повторением Первой мировой и Второй Балканской войны. Как и в Первую мировую, Болгария присоединилась к возглавляемому Германией союзу против Югославии с доминирующим сербским населением в надежде вернуть себе Македонию. В то время как немцы оккупировали Сербию с севера, болгарские войска вступили в Македонию с востока. И опять силы сербского и греческого сопротивления при поддержке Великобритании оттеснили болгар обратно к ненавистным им границам, установленным в августе 1913 г. после Второй Балканской войны. В этот момент коммунистический тоталитаризм до последнего десятилетия XX столетия остановил ход истории. С тех пор здесь не решен ни один вопрос.
Во время Второй мировой войны болгарские оккупационные войска в Македонии действовали заодно с нацистами. Насильственная «болгаризация» населения на практике оказалась не менее жестокой, чем действия сербских и греческих оккупационных войск в 1913 г. Режим царя Бориса II оказывал помощь евреям, проживавшим на территории Болгарии, но в Македонии болгары помогали нацистам отлавливать и отправлять в лагеря смерти евреев. Такое поведение свело на нет всю симпатию, которую на протяжении десятилетий испытывало к болгарам негреческое и несербское население Македонии и стимулировало новый ирредентизм. Теперь, в добавление к болгарским, греческим и сербским притязаниям на Македонию, возник доморощенный «македонизм», требовавший вернуть территории, отошедшие к Болгарии и Греции.
«Две трети Македонии оккупированы чужеземцами и должны быть освобождены», – говорил мне другой местный поэт, Анте Поповски, с которым я встретился в то самое утро, которое началось со сливовицы. Он одну за другой курил сигареты и непрестанно что-то записывал в блокнот. Его лицо напоминало сжатый кулак.
«Вся Европа в 1989 году добилась своих национальных прав, только не македонцы в Греции и Болгарии. Они все еще под оккупацией. Части нашего народа не доступны никакие права человека. Это разделение – результат империалистических мирных договоров», – говорил доктор Ивановски, имея в виду «неудовлетворительные» итоги Второй Балканской, Первой и Второй мировых войн. По его мнению, у Болгарии следовало бы отнять еще больше территорий и передать Республике Македония всю Северную Грецию.
В тот день мне неоднократно показывали географические карты, на которых была отмечена территория в форме листа, гораздо бо́льшая, чем территория современной Македонии. В пределах этих жирных черных пограничных линий идеального македонского государства находится треть материковой Греции, греческий остров Тасос, называемый «Эгейской Македонией», кусок Юго-Западной Болгарии, называемый «Пиринской Македонией» по расположенным там Пиринским горам; ломоть «македонской» земли в Албании и бывшая югославская Македония, единственная «свободная» часть страны, называемая «Вардарской Македонией» по реке Вардар, протекающей через Скопье.
Заново открытый «македонский язык» пропагандируется множеством книг, заполненных поэзией и историей. Заявления о том, что Стамбул тоже может быть частью Македонии, слишком напоминают фантастический пейзаж, изображенный в стихотворении Богомила Джузела «Тишина»:
Когда на ровный снег набросит вечер копоть, Под тяжестью ветвей умолкнут зверь и птица… Пространство скроется за горизонтом, И лев одним прыжком сойдет с горы. А на рассвете солнце вознесет Свой красный нимб над тающей землею. Пронзенный пиками вершин до крови, Невольно вскрикнет воздух… И ты не различаешь, где молитва, Где скорбь, где горькое вино…[25]А на стене рядом с греческим консульством в Скопье я видел надпись: «Солун наш!»
Солун – македонское название Салоник, второго по величине города Греции. Подобные проявления ирредентизма вызывают волну враждебности в Греции – такую, что даже когда новое македонское государство, объявившее о своей независимости от Югославии, официально отказалось от всех притязаний на греческие территории, этого оказалось недостаточно для греков, которые боятся, что само слово Македония в устах этих славян является признаком дальнейшего ирредентизма по отношению к Греции. Когда греки заявили, что для официального признания Грецией нового государства оно должно отказаться от названия «Македония», это насмешило весь мир. Греческий ученый Кофос в своих статьях объяснил суть аргументации греков гораздо лучше, чем греческое правительство через средства массовой информации. Кофос пишет, что македонизм – изобретение Тито, направленное против Болгарии, которая жаждет заполучить этот регион. По мнению Кофоса, эта часть бывшей Югославии на самом деле – Южная Сербия. Возможно, это правда. Так или иначе, здешние славяне сейчас считают себя македонцами, а не сербами, и сербы, равно как и греки, должны смириться с этим фактом.
В итоге вся эта мешанина в 1990-х гг. привела к той же системе альянсов, что существовала в 1913 г., во время Второй Балканской войны: Греция, Сербия и Румыния против Болгарии и славян Македонии[26].
– Я родился в Штипе во времена турецкого владычества. Мой отец был учеником Гоце Делчева. Я настоящий македонец. Я знаю, кто я. Я воробей, а не болгарин и не сербский орел.
Митрополит Михаил вознес руку, как Пантократор (Спас Вседержитель), чей строгий лик украшает купола множества православных церквей. У него прямые седые волосы, спускающиеся на плечи. Когда он говорит со мной, кажется, изо рта у него вырывается пар.
– У нас в крови есть что-то от Александра, это правда. Нас распяли, как Христа, на кресте балканской политики. Ты сейчас пьешь кофе по-македонски, а не по-гречески или по-турецки. Настоящая родина Ренессанса – не Сербия, а Македония. Что такое Грачаница по сравнению с Охридом? Как можно сравнивать Джотто с нашими художниками? Скажи, как можно сравнивать Джотто?
Затем митрополит Михаил рассказал мне о своей церкви.
– Ты должен набраться терпения, молодой человек. Это долгая история.
Я сокращу ее. Два апостола, Кирилл и Мефодий, которые принесли славянам христианство, родились в IX в. в Салониках. Это делает их греками, болгарами или македонцами – в зависимости от вашей точки зрения. Митрополит Михаил не сомневается, кем они были. Более того, ученики Кирилла и Мефодия, свети (святой) Климент и свети Наум, преподавали в Охриде, в Юго-Западной Македонии, где, наиболее вероятно, кириллица, изобретенная Кириллом и Мефодием в процессе перевода греческой Библии на славянский язык, была усовершенствована и впервые вошла в повседневное употребление.
Также в Охриде македонцы при царе Самуиле приблизительно в конце X в. основали независимый православный патриархат. Когда сербский король Стефан Душан в XIV в. завоевал Македонию, он санкционировал независимость македонского патриархата.
– Но в 1767 году турки ликвидировали наш патриархат, потому что мы организовали выступления против султана. Независимая Македонская православная церковь была воссоздана лишь в 1967 году. Почему бы сербам, грекам и болгарам не признать нашу церковь? Македония – родина славянского христианства. Мы больше христиане, чем они. Скажи мне, почему мы не дружим?
Митрополит Михаил не отпускал меня. Ему нужно было рассказать еще про царя Самуила, «македонского феодала», который в 976 г. покинул свою крепость в Охриде, чтобы создать империю, простиравшуюся от Адриатического моря на западе до ворот Константинополя на востоке.
– Но Самуил также был царем Болгарии, – заметил я. – Михаил Пселл, советник нескольких византийских базилевсов, чья «Хронография» является важнейшим источником информации об этом периоде, называет Самуила болгарином. Более того, базилевс Василий II после победы над армией Самуила в 1014 году стал известен как Василий Булгароктон – Василий Болгаробоец.
– Нет, нет! – воскликнул митрополит Михаил, вознеся взгляд к небу. – Ты не понимаешь. Материал такой огромный, такой обширный, что тебе нужны годы изучения, чтобы осмыслить наши проблемы.
Среди книг, которые он подарил мне, когда я покидал его кабинет в Скопье, был томик стихов Блаже Конески, который называет поиск идентичности и любви к Македонии «движением руки, рвущейся к звездам».
Златко Блаер, главный редактор крупнейшей ежедневной газеты Скопье «Вечер», – один из двадцати семи евреев, оставшихся от 3795 евреев, живших в городе до Второй мировой войны. Он сидел напротив зеркала в ресторане Скопье, где я договорился встретиться с ним после дня интенсивных бесед и бесконечного количества кофе и алкоголя. Пока он говорил, я смотрел на его отражение. Его голос обладал свойством бестелесности, как у свидетеля, закрытого экраном. Он оказался единственным человеком в Скопье, который не подарил мне ни книжки стихов, ни исторического труда.
– Это наиболее неустойчивый балканский регион. Мы слабое, новое государство, окруженное врагами. Несколько стран могут прийти к нам с войной, как они делали это в начале века. Югославская федерация на протяжении нескольких десятилетий защищала нас. Когда Югославия развалилась, в Македонии опять наступил вакуум власти. И не забывай, что мы – тихое Косово: 23 % населения Македонии – албанцы, а уровень рождаемости у них гораздо выше, чем у нас. Нас ждет та же судьба, что и сербов на их исторической родине. В конце XX века мы пытаемся распутать запутанные нити, отделить одно от другого, потому что это может быть македонским, а то – болгарским… Здесь мужчины сидят, как старики на Крите, говорят о национализме и ненависти, а женщины делают всю работу.
Чем непонятнее и необъяснимее истоки ненависти и чем более мелкие группы она затрагивает, тем сложнее и глубже кажется ее история. Не могу не задуматься: как будет воспринимать Ливан студент-историк через сто лет?
Глава 4. Белый город и его пророк
Я приехал в Белград из Скопье автобусом и остановился в отеле «Москва». На следующее утро я исполнил свой традиционный белградский ритуал, дающий возможность прочувствовать, где я нахожусь в историческом и географическом смысле. Это всегда было необходимо, поскольку из-за хаотичного развития города иностранные корреспонденты, приезжавшие в Белград в холодные десятилетия после Второй мировой войны, могли не понимать, где они находятся.
Здание отеля «Москва», расположенное в самом центре Белграда, обладает всеми подкупающими качествами опустившегося гранд-отеля: предупредительными официантами, комковатыми матрасами, шумным центральным отоплением… Пока Вторая мировая война не коснулась Югославии, главным отелем Белграда был Srpski Kralj («Сербский король»), а не «Москва». Здесь останавливались дама Ребекка с мужем, корреспондент New York Times С. Л. Сульцбергер, писатель и журналист Роберт Сент-Джон и другие, кто приезжал запечатлеть подготовку к войне.
Судя по описанию Сульцбергера в его книге «Длинный ряд свечей», отель «Сербский король» несколько отличался от «Москвы». Это было «большое, старомодное» здание, в котором «сочетание хорошей кухни и приветливого сервиса обеспечивало некий старомодный физический комфорт». Но главное, что привлекало иностранных журналистов в «Сербском короле», было его расположение. Он находился буквально через улицу от обширного парка, который окружает крепость Калемегдан, построенную на лесистом мысу у слияния Дуная и Савы. Именно здесь в III в. до н. э. кельты основали первое поселение в этих местах, тем самым определив, где будет писаться история Белграда и большей части Сербии. Дама Ребекка отметила, что от ее туалетного столика в «Сербском короле» открывался захватывающий вид на пойму Дуная и Савы.
Крепость Калемегдан строили римляне, византийцы, средневековые сербы, османы, габсбургские австрийцы (в период краткой оккупации) и снова османы. За ее прочными стенами разрастался Београд («Белый город»), по которому и получил свое название Белград. Для путешественников XVIII и XIX столетий этот мыс у слияния двух рек означал в буквальном смысле границу между Западом и Востоком: тут заканчивалась Габсбургская империя и начиналась Османская. Действительно, гуляя по длинным пологим зеленым берегам двух рек, я всегда испытывал волнующее ощущение, словно нахожусь в приграничном районе, на каком-то краю.
Весной 1915 г., когда Джон Рид был в Белграде, Калемегдан представлял собой передний край обороны сербской армии. На противоположных берегах Дуная и Савы окопались австро-венгерские войска и артиллерия. В декабре предыдущего года они захватили Белград, но через две недели были выбиты из города. Вернутся они в октябре 1915 г. и простоят три года – до окончательного поражения. Визит Рида пришелся на период между двумя оккупациями, когда в городе бушевала эпидемия тифа.
Мы посетили древнюю турецкую цитадель, которая венчает обрывистый мыс у слияния Савы и Дуная. Здесь стояли сербские пушки и обстрелы австрийской артиллерии были наиболее интенсивными. Вряд ли осталось хоть одно целое здание. Дороги и открытые пространства все в воронках от тяжелых снарядов… мы подобрались ползком на край обрыва с видом на реку.
– Не высовывайтесь, – предупредил капитан, сопровождавший нас. – Швабы, как только заметят какое-то движение, сразу стреляют.
С края обрыва открывался величественный вид на мутный Дунай… и венгерские равнины…
Эту войну «Сербский король» пережил, но следующую уже нет. В Вербное воскресенье, 6 апреля 1941 г., 234 нацистских бомбардировщика обрушили свой смертоносный груз на Белград. Отель оказался одним из семисот разрушенных заданий. В номерах в это время было много журналистов. «Мне казалось, что самолет целится не в крышу, а в меня лично, – вспоминал Роберт Сент-Джон. – По крайней мере десять самолетов спикировали на «Сербского короля».
Я шел по улице Париска к парку Калемегдан, рядом с которым находился «Сербский король». Мне попались на глаза остатки византийского крепостного вала, несколько турецких зданий, православный собор и восстановленные памятники в необарочном стиле. Если смотреть отсюда, то есть от «Сербского короля», центр города выглядит не только красиво, но и понятно. От «Москвы» – нет.
«Мы шли по территории, характерной для всех парков, – пишет дама Ребекка. – Среди кустов сирени и маленьких прудов играли дети, встречались почти прекрасные бюсты знаменитостей. ‹…› Затем мы оказались в изящно спланированном цветочном саду, где стояла величественная и очень красивая скульптура – памятник французам, погибшим в Югославии в Первую мировую войну, работы Ивана Мештровича. Скульптура излучала динамику и мужество. Многим, наверное, хотелось убрать ее и заменить более благородной мраморной статуей».
Скульптура работы Ивана Мештровича по-прежнему стоит у входа в парк Калемегдан. Она пережила и бомбардировку Вербного воскресенья, и всю Вторую мировую войну. Никто ее не убирал и не заменял «более благородной мраморной статуей». «Изящно спланированный» цветочный сад тоже был на месте, равно как и кусты сирени, и так же сюда приходят играть белградские дети. Стоя рядом с памятником, я ощутил плотность времени как комок в горле, словно можно было куда-то убрать долгие и закаменевшие коммунистические десятилетия.
Но я понимал, что это невозможно. Поэтому двинулся обратно, по направлению к «Москве», чтобы понять, что ждет Югославию впереди.
Я не раз приезжал в Югославию в 1980-х гг. в качестве журналиста. Обычно это были одиночные поездки, поскольку мало кого интересовало, что здесь происходит или может произойти. И в каждой поездке я бывал в квартире Милована Джиласа. После первых встреч наши беседы стали приобретать мистический оттенок, потому что я понял, что Джилас всегда оказывается прав. Он обладал способностью предсказывать будущее. Его техника была очень проста для человека из Восточной Европы, но очень сложна для американца: похоже, он игнорировал ежедневные газеты и мыслил исключительно исторически. Настоящее для него было просто этапом прошлого, быстро переходящего в будущее. То, что традиционным аналитикам казалось непостижимым, для него всегда было естественным результатом.
В 1981 г., когда я впервые встретился с Джиласом, ему уже было семьдесят. Во время партизанской войны с нацистами он был одним из ближайших сподвижников Тито. После войны он стал вице-президентом Югославии. Считалось, что он – самый вероятный наследник Тито. Действительно, Джилас проводил с глазу на глаз со Сталиным трудные переговоры, подготовившие почву для разрыва Югославии с советским коммунизмом в 1949 г. Воспоминания Джиласа об этих полуночных встречах, во время которых было выпито много водки, изложенные в книге «Разговоры со Сталиным», представляют собой уникальный личный взгляд на одного из величайших преступников в истории. В начале 1950-х гг. у Джиласа появились серьезные сомнения в титоизме. Требования Джиласа о демократизации системы – о перестройке за три десятилетия до того, как появился этот политический термин, – привели его к исключению из коммунистической партии Югославии; в общей сложности ему пришлось девять лет провести в тюрьме. В камере Джилас написал «Новый класс» и другие критические работы о коммунизме, ставшие диссидентской классикой, а также два романа, две автобиографические книги и несколько сборников рассказов. В середине 1960-х гг. его амнистировали, но лишили гражданских прав; он жил в безвестности. Джилас был величайшим диссидентом-интеллектуалом в истории коммунистической Восточной Европы, великим стариком – инакомыслящим задолго до того, как мир узнал о существовании Леха Валенсы. По мере того как лучи предвечернего солнца покидали его сумрачный, уставленный книжными полками кабинет, лицо мудреца уходило в тень, на передний план выступало прошлое и одновременно вырисовывались очертания будущего.
В 1981 г., когда в Косове началась албанская интифада, к которой внешний мир не проявил ни малейшего внимания, Джилас говорил мне:
– Наша система была построена исключительно под Тито. Теперь, когда Тито нет и экономическая ситуация становится критической, появится естественная тенденция к большей централизации власти. Но централизации не получится, потому что она идет вразрез с интересами этнополитических центров власти в республиках. Это не классический национализм, а более опасный, бюрократический национализм, основанный на экономических эгоистических интересах. Вот так начнет разваливаться югославская система.
К 1982 г. его предсказания начали оправдываться, хотя внешний мир это опять не интересовало. В ноябре этого года мировое внимание было приковано к новому лидеру Советского Союза Юрию Андропову, который, по слухам, коллекционировал современную венгерскую мебель – всю подряд – и мог оказаться великим реформатором. Джилас относился к этому скептически:
– Андропову шестьдесят восемь. Столько же было Шарлю де Голлю, когда он вернулся во власть. Но ты увидишь: Андропов – это не де Голль. У него нет новых идей. Андропов – переходная фигура, он может лишь проложить путь настоящему реформатору, который придет позже.
В 1985 г. такой реформатор пришел: Горбачев. Но на Джиласа он не произвел особого впечатления.
– Увидишь, Горбачев тоже переходная фигура. Он проведет важные реформы и даже создаст до определенной степени рыночную экономику, но потом станет очевиден настоящий кризис всей системы, и отчуждение в Восточной Европе только усилится.
– А что с Югославией? – спросил я.
Он криво усмехнулся:
– Как с Ливаном. Подожди, увидишь.
В начале 1989 г. если не Америка, то Европа точно наконец начала беспокоиться по поводу Югославии, и в особенности по поводу нового сербского лидера, сторонника жестких мер Слободана Милошевича. Но беспокойство было поверхностным. Еще оставалось несколько месяцев до того, как первые беженцы из Восточной Германии ринулись в Венгрию, чтобы попасть на Запад, что спровоцировало цепь событий, в результате которых по всей Восточной Европе начали рушиться коммунистические режимы. Восточная Европа доживала последние месяцы отсутствия в мировой прессе.
Но мысли Джиласа уже были в 1990-х:
– Авторитаризм Милошевича в Сербии провоцирует серьезный сепаратизм. Помнишь, как говорил Гегель: история повторяется, из трагедии превращаясь в фарс. Я хочу сказать, что, когда Югославия начнет разваливаться, внешний мир не станет вмешиваться, как это было в 1914 году. ‹…› Югославия – лаборатория коммунизма. Ее распад будет предвещать распад Советского Союза. Мы зашли дальше, чем Советы.
Мне тогда в голову пришла мысль: если Югославия – лаборатория коммунизма, то коммунизму суждено испустить последний вздох здесь, в Белграде. И судя по тому, во что стал превращаться Милошевич в начале 1989 г., коммунизм покинет мировую сцену, обнаружив свою подлинную сущность: фашизм, но только без способности фашистов заставить поезда ходить по расписанию.
Шел последний месяц десятилетия. Прошло одиннадцать месяцев с тех пор, как я последний раз видел Джиласа. Одиннадцать месяцев, за которые изменился мир. В декабре 1989 г. в Словении и Хорватии произошел ненасильственный переход к демократическому правлению, и даже здесь, в Сербии – такой византийской, такой православной, такой восточной – безошибочно чувствовалось дыхание либерализации. Впервые на сербохорватском – родном языке Джиласа – были изданы все его книги, десятилетиями находившиеся под запретом. Появились даже предположения, что Милошевич – «человек вчерашнего дня» и что он вскоре лишится власти. Джилас не разделял подобного оптимизма. Он рассмеялся своим злобным смехом и сказал:
– У Милошевича еще есть возможности. ‹…› Эта либерализация – вынужденная. Это следствие национальной конкуренции между Сербией и остальными республиками. Со временем Югославия может стать похожей на Британское Содружество – свободной федерацией экономически самостоятельных стран. Но до этого, боюсь, будут межнациональные войны и восстания. Здесь очень сильна ненависть.
Часть II. Румыния: латинская мистерия
Дьявол в Румынии ведет энергичную и неутомимую жизнь.
Э. О. Хоппе. В цыганском таборе и королевском дворцеГлава 5. «Атене-Палас», Бухарест
Вечерним портье в отеле «Атене-Палас» оказался очень аккуратный юноша с веселой улыбкой и жизнерадостным взглядом. Он поменял мне деньги по курсу, в пять раз отличающемуся от официального, выложив стопку леев прямо на стойку администратора. Затем предложил мне женщину. Когда я ответил «нет», он немного смутился, но добавил, что может обеспечить все, что я пожелаю.
От стойки администратора открывался вид на мраморную колоннаду с золочеными капителями коринфского ордера. Я почувствовал себя словно в соборе. На диванчике за одной из колонн сидела привлекательно худощавая женщина с темной эмалевой кожей, черноволосая, со стрижкой под мальчика, с оливковыми глазами и губами, подчеркнутыми пурпурной помадой, гармонирующей с ее мини-платьем.
– Не хочешь купить у меня шампанское?! – воскликнула она, протягивая бутылку.
– Нет, спасибо, – ответил я.
Она встала с диванчика и двинулась в мою сторону.
– Пойдем к тебе в номер, – предложила она. – Разопьем бутылочку вместе.
– Нет, спасибо.
– Почему ты говоришь «нет»? Я же иду вместе с шампанским. За ту же цену.
Позже, на дискотеке в цокольном этаже отеля, ко мне подошла другая женщина, с зеленоватыми волосами и бледным лицом. Подойдя к столику, она опустила мне на тарелку свернутую бумажку. Я развернул ее и прочитал: «Меня зовут Клаудиа Кардинале. Мой телефон 708254».
Я отрицательно покачал головой. Она забрала бумажку и направилась к другому мужчине.
Я купил две бутылки минеральной воды и направился к себе в номер. В лифте меня зажала в угол брюнетка с шампанским:
– Отведи меня к себе в номер.
– Оставь меня в покое, я с женой, – ответил я с внезапным озарением. – Видишь, у меня две бутылки воды, одна для меня, другая для нее.
– Я тебе не верю, – твердо заявила она. – Я видела, как ты регистрировался. Ты один. Видно, тебе просто не нравятся женщины.
Под ледяной маской коммунизма и жестокой революции Румыния продолжала жить своей не поддающейся разрушению, неизменяемой жизнью.
Джон Рид поселился в «Атене-Палас» в 1915 г. Отель открылся лишь за год до этого. «Десять тысяч публичных женщин, выставленных напоказ истинным бухарестцам, – написал он, – служат наглядным свидетельством того, что их город в состоянии прокормить большее в процентном отношении к населению число проституток, чем любые четыре города мира вместе взятые».
«Это все западные женщины, – писала графиня Уолдек в 1941 г., – но вокруг них чувствуется атмосфера гарема».
«Бухарест, – заметил корреспондент New York Times С. Л. Сульцбергер перед началом Второй мировой войны, – восхитительно порочен. Конкуренция с любительницами-энтузиастками из всех слоев населения, от принцесс и донизу, оставляет мало возможностей изобилию платных проституток».
«Незаконное предпринимательство процветает, – продолжал он. – Первый же чиновник, с которым я встретился, выдвинул ящик стола, демонстрируя пачки иностранной валюты с явным намерением меня соблазнить, и предложил обменять деньги по курсу черного рынка – на 15 % больше, чем обменял мне портье в «Атене-Палас».
Ханна Пакула, биограф румынской королевы Марии, ссылаясь на мнение одного представителя старой аристократии, пишет, что в румынском языке нет слова «самообладание»: «И термин, и идея в равной степени непереводимы и чужды румынскому сознанию».
Николай II, последний царь Российской империи и двоюродный брат королевы Марии, презрительно заметил: «Румыния – это не страна, это профессия».
Проституция, черный рынок, доносительство на друзей и соседей – настолько глубоко укоренившиеся в Румынии традиции, что в этом есть какая-то очаровательная естественность и невинность. Сначала это шокирует. Затем, после нескольких недель пребывания в Румынии, ты воспринимаешь это как окружающую среду. Извращенная сторона твоей натуры позволяет тебе влюбиться в страну и ее народ. Возможно, ты даже начнешь думать, что румыны обладают особой мудростью отношения к жизни и существованию, которой не хватает остальному миру. И так ты начинаешь понимать…
Такая страна неизбежно манит писателей и иностранных корреспондентов. В первые годы Второй мировой войны «в «Атене-Палас» в любой момент можно было встретить не менее пятидесяти корреспондентов», – отмечал Роберт Сент-Джон, шеф бюро Associated Press в Бухаресте. «Атене-Палас» был единственным отелем в воюющей Европе, где под одной крышей находились нацисты и официальные представители союзников, где американские и британские журналисты могли встретиться за рюмкой с офицерами СС в форме. Но основное внимание привлекали сами румыны, которые с энтузиазмом восприняли новый фашистский порядок, хотя и глубоко исказили его, значительно смягчив его эффект. У нацистов, как отмечала графиня Уолдек, «вызывали сладостное волнение ясноглазые дочери благородных семей, ухитрявшиеся затаскивать их в постель прежде, чем те успевали удостовериться в арийском происхождении их бабушек».
Графиня Уолдек была натурализованной американкой, родившейся в богатой семье берлинских евреев. Под псевдонимом Р. Г. Уолдек эта энергичная и симпатичная журналистка написала желтоватые мемуары о сексуальных интригах в отеле, озаглавив их «Атене-Палас, Бухарест» (Athenee Palace Bucharest). Роберт Сент-Джон в своем «Иностранном корреспонденте» (Foreign Correspondent) также пишет о моральной распущенности в Бухаресте и отмечает, что, «когда немцы присвоили ресторан гостиницы «Атене-Палас», одним из самых странных зрелищ здесь была графиня Уолдек, которую за ланчем или за ужином развлекали нацистские офицеры высокого ранга, хотя некоторые из них заслуживали казни как военные преступники».
Книга графини Уолдек, последний раз опубликованная более полувека назад, дает исключительно детальный «крупный план» поведения румын. Оливия Мэннинг, молодая жена лектора Британского совета, которая также провела много времени в «Атене-Палас», нарисовала более широкую картину в своей «Балканской трилогии» (The Balkan Trilogy), в бумажной обложке ставшей бестселлером и легшей в основу телевизионного мини-сериала. Были и другие. Погружение Румынии в фашизм в 1939–1941 гг., которое наблюдали постояльцы гостиницы «Атене-Палас», породило целый ряд романов и журналистских воспоминаний, познакомивших читателей с богатой исторической подоплекой перехода Румынии к другого рода фашизму в 1970–1980-х гг. На фоне исторического процесса, происходящего в Румынии в 1990-х гг., эти книги приобретают особое значение, объясняя то, что постороннему наблюдателю может показаться необъяснимым.
«Атене-Палас» расположен на краю просторной площади. С одной стороны с ним граничит королевский дворец, с другой – концертный зал в стиле парижской Opera, перед которым – зеленый газон с гладиолусами. В дни Джона Рида отель имел «ослепительный фасад в неофранцузском стиле» с башенками и кариатидами. В 1938 г., перед приездом графини Уолдек и супругов Мэннинг, башенки и кариатиды были демонтированы, и фасад приобрел модернистскую облицовку из хрома и белого камня. Весной 1990 г., когда там побывал я, этот белый фасад был изрешечен пулями вследствие революции, произошедшей в декабре предыдущего года.
В самом отеле тоже произошли изменения. За колоннами коринфского ордера начинался коммунизм 1950-х гг. с темной лестницей-серпантином и пурпурным ковром от стенки до стенки. Секуритате, румынская служба государственной безопасности, с помощью КГБ превратила «Атене-Палас» в фабрику по сбору информации. Секуритате прослушивала телефоны, устанавливала микрофоны под столиками в ресторане, барах и во всех номерах. Менеджером отеля был полковник госбезопасности, все три сотни сотрудников отеля – агентами, вплоть до уборщиц, которые фотографировали все листочки бумаги в номерах.
Гостиничные проститутки в обмен на предоплату и дополнительные продуктовые карточки доносили в Секуритате обо всем, что говорили их клиенты. Но в 1980-х гг. даже проститутки впали в отчаяние. В один из моих первых визитов в «Атене-Палас», в 1983 г., я около полуночи услышал стук в дверь моего номера. Я открыл. В темном коридоре стояла женщина, приспустив с плеча кофточку. Она сказала, что хотела бы в качестве платы получить кофе.
В то время кофе в Бухаресте был редкостью. Стояла зима, и, хотя я платил за номер семьдесят пять долларов в сутки, у меня не было ни отопления, ни горячей воды, а помещение освещали лишь две 25-ваттные лампочки. Благодаря своему африканскому опыту я догадался захватить фонарик и туалетную бумагу. «Будь у нас побольше еды, мы бы жили как в войну», – гласила местная шутка.
Зимой 1988/89 г., никто не может сказать точнее, с улиц вокруг «Атене-Палас» исчезли цыганки, торговавшие цветами. Эти цыганки были последним сентиментальным напоминанием о частной жизни в городском ландшафте, оставленным историей до наступления коммунистического ледникового периода.
В декабре 1989 г. лед наконец треснул, из расщелин хлынула кровь. Первыми вернулись цыганки. «Устроившись, как тропические птицы», говоря словами Оливии Мэннинг, они торговали красными розами и желтыми и красными тюльпанами. Цветы покупали горожане и выкладывали их в знак памяти на тротуарах, на местах гибели революционеров. Везде чувствовался запах восковых свечей. Румынская столица, более четырех десятилетий лишенная публичного проявления религиозности, превратилась в церковь на открытом воздухе.
«Pace voua, morti nostri», – прочитал я надпись на стене. «Покойтесь с миром, наши погибшие».
Зрелище было поистине сюрреалистическим. Ни одна восточноевропейская страна в ходе революций 1989 г. не вызывала у Запада столько недоумения, как Румыния. Первые зернистые телевизионные картинки, передаваемые в эфир с помощью допотопного румынского оборудования, открывали мир, в котором только что закончилась Вторая мировая война. Солдаты в шинелях и больших касках напоминали русских под Сталинградом. Погода была зимней, славянской. Но люди были смуглыми и выглядели почти как южноамериканцы. Язык звучал романский и в некоторых аспектах был ближе к латыни, чем современный испанский или итальянский. Сцены насилия вместе со сценами религиозных церемоний, сопровождавших похороны погибших, выглядели театрализованно и отвратительно, словно людей раз за разом толкала страсть выплеснуть свои эмоции перед зеркалом.
Попробуйте представить: горящие свечи, поставленные рядом с обнаженными и разлагающимися трупами на улицах. Правитель, который фотографировался со скипетром в руке, попирая ногой тушу кабана; который построил Запретный город в духе фашистской архитектуры, окружающий сооружение, похожее на свадебный торт, но размерами превосходящее здание Пентагона; тот, кого сикофанты провозгласили «карпатским гением», а народ называл Дракулой и Антихристом; репортаж о казни которого неделями повторяли по местному телевидению; чье тело, по слухам, загадочным образом исчезло или было сознательно спрятано.
Здесь происходило нечто большее, чем падение коммунистической тирании. Сталин, возможно, заложил основы, но все остальное произросло на местной почве естественным путем.
Я стоял на обширном бухарестском кладбище Генча и смотрел на деревянный крест над небольшим земляным холмиком, втиснутым между двумя другими могилами и едва видимым за кустами. На кресте надпись белой краской: «Полковник (запаса) Попа Дан, 1920–1989».
Так был похоронен Николае Чаушеску, правивший Румынией четверть века и казненный вместе с женой Еленой военными 25 декабря 1989 г.
Метрах в пятнадцати, также втиснутый между двумя могилами, я увидел другой крест с надписью: «Полковник (запаса) Энеску-Василе, 1921–1989».
Так была похоронена Елена Чаушеску.
Несколько европейских журналистов, и я в том числе, нашли эти могилы, руководствуясь «подсказкой» властей. Посреди моря мраморных и гранитных памятников на гражданской части кладбища эти деревянные кресты на могилах двух полковников запаса выглядели действительно странно и подозрительно. Спустя несколько дней, в мае 1990 г., в ту же ночь, когда вандалы оскверняли еврейские кладбища в Румынии, два этих деревянных креста загадочным образом исчезли, и больше их никто не видел. Но Чаушеску – не первая супружеская пара, правившая Румынией в XX в., чье место захоронения хранится в тайне.
Отправимся в Лиссабон. Пройдем по узким петляющим улочкам района Алфама, который основали римляне, и выйдем к церкви Сан-Висенте-де-Фора (церковь Святого Винсента за городской стеной). Войдем в придел храма, но, прежде чем подойти к алтарю, заглянем за дверь, что справа от нас. Мы попадем в ряд каменных коридоров, украшенных бело-голубой керамикой с росписью на сюжеты басен Лафонтена. Теперь повернем налево, пройдем по длинному залу и окажемся в помещении с мраморными гробницами португальских монархов начиная с середины XVII в. Около двери – два гроба без всяких надписей на дешевых войлочных подставках, словно приготовленные для носильщиков. Гроб, обернутый желто-сине-красным румынским флагом, хранит останки короля Кароля II Гогенцоллерна, правившего Румынией с 1930 по 1940 г. В другом гробу, покрытом грубым голубым покрывалом с белым крестом, покоится любовница Кароля, еврейка Елена (Магда) Лупеску, которая, как и Елена Чаушеску, некогда была «серым кардиналом» при румынском троне.
Крайне избалованный своей матерью, королевой Марией, воспитанный наставником – «угрюмым швейцарским гомосексуалистом», а затем направленный в прусский армейский полк своего отца для завершения образования, будущий король Румынии Кароль, несмотря на английские и немецкие корни, перенял все местные обычаи в худшей их форме. Во время Первой мировой войны, перед тем как австрийские войска оккупировали Бухарест, королевская семья перебралась в бывшую столицу Румынии Яссы. Местное население обвинило в поражении своих правителей иностранного происхождения. Кароль дезертировал из своей воинской части – преступление, караемое смертью, – и сбежал с местной аристократкой Жанной (Зизи) Ламбрино. Поскольку румынским монархам ветви Гогенцоллернов не разрешалось сочетаться браком с местными (чтобы не дать возможность румынской аристократии извлечь из этого политические преимущества), Кароль был вынужден отречься от престола. Но вскоре он оставил Зизи и вернулся в Румынию. В 1921 г. он женился на греческой принцессе Елене. Однако через два года бросил Елену ради Лупеску, которая стала его официальной любовницей. В январе 1926 г., несмотря на требования народа вернуться к законной жене и матери своих детей, Кароль вторично отрекся от трона.
В 1930 г. после смерти отца Кароль опять приехал в Румынию, чтобы занять трон при условии, что оставит Лупеску и вернется к законной жене Елене. Кароль не сдержал обещания, и Лупеску скоро появилась в королевском дворце.
Впрочем, одной Лупеску Каролю было недостаточно. Согласно популярному румынскому мифу, который я неоднократно слышал от историков в Бухаресте в 1990 г., Кароль страдал «недугом приапизма», что вынуждало его проводить длительное время в постели, в постоянной сексуальной активности. «Он бросил Зизи Ламбрино… в Париже… Теперь он подбирает шлюх на Калеа Викторие [проспект Победы] или к нему во дворец привозят певичек», – пишет Петру Думитриу в давно не переиздававшемся историческом романе «Заблудшие» (Prodigals) о румынской аристократии, которая продавала свою страну и друг друга вплоть до фашистского переворота в 1941 г.
Существует легенда о том, что Кароль был настоящим половым гигантом и единственным, кто мог удовлетворить Ворону, знаменитую в 1930-х гг. бухарестскую шлюху. Ворона была высокой стройной брюнеткой с короткой стрижкой под мальчика (все еще модной, как я обнаружил в вестибюле отеля «Атене-Палас») и с черными глазами, расширенными от кокаина. «Эту черную шлюху приходилось выносить из спальни Кароля в бреду и полубессознательном состоянии», – со всей ответственностью заявлял мне профессор Клужского университета в 1990 г. Скорее всего, он был недалек от истины. В «Заблудших» Думитриу описывает такую сцену:
Она [Ворона] вышла снова и бродила по улицам… некоторое время безрезультатно. Затем услышала хриплый голос:
– Эй, ты! Поди сюда!
Оглянувшись, она увидела длинную черную машину со сверкающим радиатором. Дверца была открыта, водитель делал призывные жесты. Это был король. Раньше она уже имела с ним дело. Она покорно села в машину, понимая, что об удаче не может быть и речи, поскольку его величество был невероятно скуп.
Кароль испытывал ненасытную жажду не только к сексу, но и к деньгам. Каждое казино и ночной клуб Бухареста ежемесячно платили ему дань. Кароль покупал доллары за леи на черном рынке. Однажды он распространил слух, что все стодолларовые банкноты, имеющие хождение в Румынии, поддельные. Это обрушило стоимость леев, и Кароль скупил их. Кароль имел долю в каждом государственном контракте и владел акциями всех крупных компаний. Когда Сталин аннексировал Бессарабию, Кароль потребовал и получил от своего собственного правительства миллион долларов в качестве компенсации за утраченную недвижимость, хотя всем остальным его соотечественникам, многие из которых вообще остались ни с чем, даже не было позволено заявить претензии. Зная, что болгары намереваются установить суверенитет над Южной Добруджей, Кароль продал государству летнюю резиденцию покойной королевы Марии, где в золотом гробу покоилось сердце его матери. Получив за поместье 250 000 долларов, Кароль начал переговоры о передаче этой территории Болгарии. По некоторым сведениям, между 1930 и 1940 гг. он разместил за границей от сорока до пятидесяти миллионов долларов – по тем временам гигантскую сумму.
В 1938 г. Кароль запретил все политические партии и объявил королевскую диктатуру. Фашистский легион Архангела Михаила, антисемитская организация, которую Кароль финансово поддерживал много лет, выступил против него из-за любовной связи с еврейкой Лупеску. Кароль приказал убить лидеров легионеров. Это вызвало гнев Гитлера, которого румынский король в то время игнорировал. Но после того как нацисты оккупировали Францию, Кароль сформировал собственную фашистскую партию, которая приняла ряд антисемитских законов, вынудив 800 000 румынских евреев перейти практически на подпольное существование. Когда летом 1940 г. Сталин потребовал от Кароля уступить Бессарабию, тот обратился за помощью к Гитлеру. Гитлер в ответ заставил Кароля отдать северную часть Трансильвании профашистскому режиму Венгрии.
Население переживало эти территориальные утраты как удары молота. Толпы, собиравшиеся на площади перед отелем «Атене-Палас», скандировали: «Abdica!» (Долой!). Кароль «перехитрил сам себя», пытаясь вести дела одновременно и с Гитлером, и со Сталиным, пишет Мэннинг в «Балканской трилогии». «Он повел двойную игру и проиграл».
Кароль и Лупеску покинули Бухарест глухой ночью в конце 1940 г. Они уехали в железнодорожном составе из девяти вагонов, набитых золотом и произведениями искусства, принадлежавшими Румынии. Фашистский легион прознал о бегстве парочки и попытался задержать поезд, но тщетно. «Разве не здорово было бы провезти ее [Лупеску] в клетке по улицам, голую, чтобы все видели?!» – восклицал один голодный крестьянин после посещения роскошной виллы Лупеску. «Ее следовало бы провести голой по улицам, чтобы народ забрасывал ее камнями», – говорил другой голодный крестьянин, побывав на вилле Елены Чаушеску полвека спустя.
Нацизм и коммунизм развили трагические пороки румынской политической системы до невообразимых пределов. Елена Чаушеску была монстром. Хотя она появлялась на экранах наших телевизоров, тем не менее ее трудно вообразить. Лупеску, напротив, вообразить очень легко, хотя ее давно нет на свете.
Лупеску родилась в 1895 г. в Яссах, бывшей столице Молдавского княжества, одном из худших мест в Европе, где еврейка могла появиться на свет. В Румынии, если не считать сообщества этнических немцев в Трансильвании и соседнем Банате, евреи были буржуазией. Гораздо в большей степени, чем в любой другой восточноевропейской стране, они практически представляли собой весь средний класс страны, располагаясь между землевладельцами-аристократами и крестьянской массой. Это делало евреев объектом ненависти даже среди наиболее просвещенной, либеральной части румынского общества. Выдающиеся румынские поэты и интеллектуалы, такие как Михай Эминеску и Николае Иорга, были, по выражению графини Уолдек, «в общем и целом антисемитами». А поскольку Молдавия в географическом смысле была наиболее уязвимой частью страны и к тому же традиционным центром румынского национализма, антисемитизм здесь выражался в более экстремистских формах, чем в остальной Румынии. В начале 1920-х гг. антисемитизм в Молдавии распространился с религии на нацию. В Яссах родился фашистский Легион Архангела Михаила. Родители Лупеску приняли христианство, но это им не слишком помогло. Еврей мог тысячу раз подтверждать свой переход в другую веру, но для румынских крестьян он все равно оставался евреем.
Лупеску недолго была замужем за артиллерийским лейтенантом, но активно вступала в любовные связи с офицерами его части. Вскоре они развелись. Высокая, с «огненно-рыжими» волосами, зеленоглазая, с «белой, цвета магнолии» кожей, «покачивавшая на ходу бедрами», Лупеску была решительно настроена использовать по максимуму свои достоинства. Благодаря хитрому и глубоко продуманному плану она обеспечила себе присутствие на двух мероприятиях, где Кароль не мог ее не заметить. По мнению Ханны Пакулы, биографа королевы Марии, Кароля привлекла «самоуверенная вульгарность Лупеску». Покорив Кароля, Лупеску стала появляться на публике в черных платьях от Шанель, которые, по словам графини Уолдек, «оттеняли белизну ее кожи и огненный цвет волос».
Румыния короля Кароля была историей Пурима наоборот. Поскольку расовый климат в предвоенной Румынии был гораздо суровее, чем в Персии Ветхого Завета, Лупеску, даже если бы и попыталась, не могла бы использовать свои таланты в королевской опочивальне для спасения своего народа, как сделала библейская Эсфирь. Напротив, румыны чувствовали себя униженными тем, что их король бросил жену ради еврейки.
В то время как фашисты-легионеры приступили к уничтожению евреев в Бухаресте, Лупеску с покинувшим страну Каролем пересекала Европу с востока на запад, решив уехать в Мексику. Проведя в этой стране годы войны, пара перебралась в Бразилию, где Кароль женился на Лупеску, пожаловав ей титул «королевская принцесса Елена». Затем они уехали в Португалию. После смерти Кароля в 1953 г. Лупеску сошлась с бывшим премьер-министром Кароля Эрнесто Урдаряну. С Урдаряну они жили в португальском приморском курортном городе Эшторил в роскоши, которую обеспечили золото и прочие ценности, некогда вывезенные в том самом железнодорожном составе из девяти вагонов. Лупеску скончалась лишь в 1977 г. глубоко удовлетворенной женщиной.
Лупеску словно сошла со страниц романов Петру Думитриу: хваткая, безжалостная, по-уличному сообразительная. В «Заблудших» даже есть персонаж – Эльвира Ворворяну, урожденная Ласкарти, с «большими зелеными глазами», которая, попав в королевскую спальню, оказывается совершенно не в состоянии удовлетворить короля. Понимая, что ей теперь предстоит сгинуть в безвестности, Эльвира бросается на пол, «заламывая руки, кусая стиснутые кулаки и испуская странные вопли мелкого животного». Можно представить на ее месте Лупеску, если бы судьба не поступила с ней иначе.
Родившаяся во враждебном мире, в окружении расовой ненависти, не имея явных средств к самозащите, Лупеску сделала то, что только могла сделать: она выставляла на продажу свое тело – единственное, что она могла продать, – всем и каждому, меняя одного покупателя за другим, пока не добралась до короля. Как всегда на Балканах, элементарное выживание оставляет исключительно мало места для нравственного выбора.
История Лупеску – это история Румынии. Думитриу, самый одаренный современный романист этой страны, должен был это понимать, поскольку все его наиболее яркие персонажи – ее вариации. Румыния тоже всегда была одинокой, всегда окруженной врагами, которые хотели ее тела.
Румыны считают себя латинской нацией, говорящей на языке романской группы, брошенной в бушующее море славян и забытой остальным латинским миром.
Для румын история начинается в 101 г., когда римские легионы под предводительством императора Траяна завоевали территорию на юго-востоке Европы, именуемую Дакией. На протяжении полутора веков римские солдаты вступали в половые отношения с местными женщинами, создавая, по мнению румынских историков, латинскую нацию, которая остается чистой и по сей день. На самом деле римляне были лишь первыми из многих волн захватчиков, которые проходили по этой земле и смешивались с ее обитателями. Американский историк венгерского происхождения Джон Лукас достаточно убедительно отмечает: «Официальная румынская пропаганда и официальная румынская историография утверждают, что румыны – прямые потомки римлян, легионеров Траяна. С тем же успехом Рональд Рейган мог бы заявить, что он – прямой потомок Покахонтас. Однако во многих румынах есть нечто псевдороманское, и это забавно напоминает нечто псевдоевропейское в аргентинцах».
Тем не менее нельзя отрицать, что внешне румыны ближе к представителям других латинских народов, чем к окружающим их славянам или венграм. Румынский язык, хотя и имеет заимствования из славянского, турецкого и греческого языков, относится к романской группе. Да и сами румыны в своей политике, личной жизни, даже жестикуляции и мимике демонстрируют чувственную театрализованность, напоминающую итальянцев. Такой манеры поведения путешественник больше не встретит нигде в Восточной Европе.
Адриан Поручиуч, специалист по румынской истории и этнографии из Ясского университета имени Кузы, отмечает: «Сто пятьдесят лет – это крупица в океане времени. Римские легионы находились в Британии гораздо дольше, чем в Румынии. Но какие расовые и лингвистические следы они оставили среди англичан? Почти никаких. А посмотрите на нас. Вот почему я считаю, что в нашем народе, помимо римского, должен был быть еще какой-то латинский элемент, о котором мы до сих пор не знаем».
Мы не можем исключить возможности другого латинского влияния на протяжении темных веков после ухода римских легионов. Румыния обладает самым незавидным географическим положением среди всех европейских стран. Ее историческая придунайская родина – Молдавия и Валахия – находится к востоку и юго-востоку от Карпатских гор и совершенно открыта для вторжения со стороны России и Украины на востоке и со стороны Турции на юге. Даже Польша не так уязвима. В разные времена на этих территориях побывали византийцы, вестготы, гунны под предводительством Аттилы, авары, гепиды, славяне, болгары, венгры, монголо-татары, турки и многие другие. Девятивековая оккупация принявших христианство болгар вынудила румын отказаться от своей западной, латинской формы христианского богослужения (принесенной в Румынию императором Константином в 325 г.) и перенять восточнославянские религиозные обряды. Это событие порвало важнейшую психологическую связь с остальным латинским миром.
С XIV в. турки держали румынское крестьянство в постоянном страхе и унижении. Лишь изредка местные воеводы оказывались достаточно сильны, чтобы заключать сделки с турецкими захватчиками и обретать некоторую степень самоуправления. В 1391 г. Мирча I Старый сумел выплатить туркам большую дань в обмен на прекращение их бесчинств в Валахии. Спустя шестьдесят пять лет Влад Цепеш (исторический Дракула) и Штефан Великий, пролив множество крови и заключая хитроумные сделки с венграми, турками и прочими, установили слабые княжества в Валахии и Молдавии, которые рухнули после их смерти.
Жестокость Влада символизирует XV в. на Балканах. Его излюбленной казнью было сажание на кол (отсюда и прозвище)[27]: длинную заостренную палку загоняли в анальное отверстие жертвы, а конец выходил через живот. Затем солдаты поднимали жертву в воздух, втыкали кол в землю и дожидались смерти несчастного, которая иногда наступала лишь через несколько часов. Таким образом Влад убил десятки тысяч турок и немалое число своих соотечественников.
В 1600 г. Михай Храбрый на короткое время впервые объединил под своим владычеством Валахию и Молдавию, но княжество рухнуло уже на следующий год. Крестьяне страдали даже в периоды независимости: налоги и преследования со стороны своих воевод оказывались не менее суровыми, чем при турках. В 1630-х гг. турки передали управление Валахией и Молдавией в руки фанариотов – греков из богатого района Фанар европейской части Константинополя. Те носили меха, бархатные мантильи, тюрбаны, украшенные бриллиантами, и вполне могли сравниться с турками по умению выжимать все соки из крестьянства. В Трансильвании, регионе, лежащем по другую сторону Карпатских гор и находившемся в сфере интересов Центральной Европы, крестьяне стояли на нижней ступени средневековой системы апартеида под властью венгров и этнических немцев.
«Румынские крестьяне как мамалыга, – гласит местная пословица. – Сколько ни вари, через край не побегут».
Но когда негодование все-таки перехлестывало через край, как во время крестьянских бунтов в Трансильвании в 1437 и 1514 гг., в Валахии и Молдавии в 1784 г., результаты оказывались ужасающими: тела врагов рвали клещами, варили заживо, трупами насильно кормили других жертв. Схема румынской истории, как и во время революции 1989 г., свергнувшей Чаушеску, остается неизменной: долгие периоды покорности, прерываемые краткими, но впечатляющими вспышками насилия.
Турки и венгры были не единственными хищниками, от которых страдало местное крестьянское население. В XVIII и XIX вв. на Румынию полдюжины раз посягала и царская Россия. В 1878 г., после того как Румыния помогла России освободить Болгарию от османского ига, Берлинский конгресс Бисмарка «отблагодарил» ее тем, что настоял на передаче Бессарабии русскому царю[28]. «Румыны, – пишет живущий в Париже журналист Уильям Пфафф, – всегда были слишком хорошо знакомы с предательством и готовностью к неудачам».
Благодаря дипломатической поддержке Франции Валахия и Молдавия наконец воссоединились под началом одного лидера – полковника Александру Иона Кузы. 23 декабря 1861 г. было провозглашено независимое румынское государство – Соединенные княжества Молдавии и Валахии. Но правление Кузы представляло собой сочетание дикой коррупции и невежества. Местная аристократия и крестьянство вскоре потребовали его головы. В 1866 г. офицеры румынской армии ворвались в дом Кузы в Яссах, чтобы потребовать его отречения, и обнаружили его в постели с невесткой короля Сербии. «Румыния, – пишет Мэннинг в «Балканской трилогии», – похожа на глупца, который унаследовал огромное состояние [леса, реки, нефть, полезные ископаемые]. И все промотал в вульгарном сумасбродстве».
Румыны, решив, что им лучше подойдет иностранный правитель, пригласили на царство прусского кузена кайзера Вильгельма I принца Карла Гогенцоллерн-Зигмаринена. Впоследствии он стал известен под румынским именем Кароль I (двоюродный дед Кароля II).
Весной 1866 г. двадцатисемилетний Карл приехал в Бухарест инкогнито в железнодорожном вагоне второго класса (он опасался быть узнанным в Австрии, которая, наряду с Россией и османской Турцией, мечтала расчленить новообразованное румынское государство). На нем были розовые очки, предохранявшие глаза от пыли, а с собой он вез ранец с деньгами. Таким малообещающим выглядело начало монархии, которая на обломках, оставшихся после Кузы, создаст жизнеспособное и значительно расширившее свои границы румынское государство – лишь для того, чтобы Кароль II промотал его.
Хотя Джон Рид и отозвался презрительно о Кароле I как о «невзрачном маленьком немецком царьке… в невзрачном маленьком дворце», он оказался как раз тем, кто был нужен Румынии: дотошным прусским трудоголиком, который предпочитал спартанские условия жизни роскоши, а работу с документами – плотским утехам. Несмотря на свое прусское происхождение, Кароль до самой смерти, наступившей осенью 1914 г., отказывался вступать в войну на стороне своего кузена. Это решение имело далеко идущие последствия, поскольку Румыния в итоге вступила в войну в качестве союзницы Великобритании и Америки и по результатам мирного договора обрела новые территории.
Однако не все решения Кароля I были столь мудрыми. Его невнимание к крестьянству в 1907 г. вызвало общенациональную вспышку насилия, после которого был проведен ряд неэффективных земельных реформ. Другой его ошибкой была женитьба на принцессе Елизавете цу Вид, чудаковатой поэтессе, известной под псевдонимом Кармен Сильва и устраивавшей в королевском дворце артистические салоны, на которых не допускалась никакая критика. Елизавета постановила, что при дворе все должны носить народные костюмы. Она, несомненно, оказала Румынии (по крайней мере, одному поколению) одну великую услугу, не произведя на свет наследника. Каролю I пришлось назначить своим преемником племянника, принца Фердинанда Гогенцоллерн-Зигмаринена.
Фердинанду не хватало уверенности в себе. На протяжении всей жизни ему было трудно принимать решения. К счастью для Румынии, он удачно женился. Урожденная принцесса Мария Эдинбургская, внучка королевы Виктории, Мария Виндзор Гогенцоллерн, королева Румынии, словно сошла со страниц романтической литературы.
Мария была красивой, энергичной женщиной и неисправимым романтиком. Умелая наездница, она командовала своим собственным подразделением румынской кавалерии. Она научилась бегло говорить по-румынски и завела себе любовника из местной аристократии – блестящего и симпатичного Барбу Штирбе. Во время Второй Балканской войны она посетила расположенные в Болгарии румынские войска, страдавшие от холеры, и ходила «по грязи в своих кавалерийских сапожках… подбадривая солдат и раздавая провизию», – пишет ее биограф Ханна Пакула в книге «Последний романтик» (The Last Romantic). В Первую мировую, после того как румынская королевская семья покинула Бухарест, уехала в Яссы и, оказавшись в окружении немецких войск, ухаживала за солдатами в тифозных бараках. В отличие от других медсестер она отказывалась надевать резиновые перчатки и подносила к губам умирающих обнаженные руки. Ее готовность поддерживать войска с небезопасного расстояния безусловно способствовало появлению прозвища «Королева-воин».
В последние годы жизни королеву Марию чрезвычайно беспокоило усиление влияния фашизма и коммунизма и судьба Румынии, которой грозил политический хаос, порожденный ее сыном Каролем II.
К счастью для нее, королева Мария скончалась в 1938 г., до того как начали сбываться ее худшие опасения[29].
После бегства за границу Кароля II и Лупеску в сентябре 1940 г. румыны посчитали, что страна наконец избавилась от своих демонов. На самом деле демоны румынской истории, поощряемые сначала Гитлером, а потом Сталиным, только готовились взбунтоваться.
Румынские традиции всегда представляли собой неудачный и опасный палимпсест, что в первую очередь и влекло сюда писателей и журналистов. Поверх латинской склонности к мелодраме лежит византийская склонность к интригам и мистицизму, унаследованная от православной церкви и многовекового византийского политического и культурного влияния. Эту мистическую сторону подчеркивает сам карпатский ландшафт с темными хвойными лесами, где полно волков и медведей. Из всего этого возник пантеон духов и суеверий и богатейшая в Европе народная культура. Не случайно уроженец Дублина Брэм Стокер, автор «Дракулы», избрал местом действия своего романа именно Румынию.
Из этого мира вышел и Корнелиу Зеля Кодряну. В 1927 г. двадцатиоднолетний Кодряну услышал божественный голос, обратившийся к нему с иконы с изображением архангела Михаила, главы небесного воинства ангелов и архангелов, с которым балканские крестьяне ассоциируют борьбу против турок-мусульман. Кодряну, образованный крестьянин, испытавший влияние антисемитских настроений профессуры Ясского университета, внял голосу и сформировал Легион Архангела Михаила, военизированное крыло которого позже станет известно как Железная гвардия. В представлении Кодряну легион был «религиозным орденом», объединяющим всех румын, «посвятивших себя героическому существованию», – живых, еще не родившихся и тех, кто уже умер. Легион состоял из cuiburi (гнезд), в каждое из которых входило тринадцать человек. Чтобы стать членом гнезда, претендент должен был выпить крови из ран на руках, наносимых себе остальными членами гнезда, а затем написать клятву собственной кровью о готовности беспрекословно совершать убийства. А прежде чем отправиться убивать, каждый член гнезда должен был выпустить немного собственной крови в общий кубок, из которого все делали по глотку, таким образом объединяясь в готовности к смерти. Легионеры также должны были носить на груди кресты и мешочки с румынской землей. Румынский фашизм, как и румынский коммунизм, был явлением весьма неординарным.
Высокий, представительный Кодряну обладал жестким взглядом и чеканными чертами лица римской статуи. Сторонники называли его Капитанул (капитан). Он любил одеваться во все белое и скакать на белом коне по карпатским селам. Там его почитали как крестьянского бога, представителя архангела Михаила на земле. Когда Кодряну женился, в свадебной процессии участвовало 90 000 человек.
Король Кароль II видел в Кодряну опасного соперника, особенно после того, как Гитлер при личной встрече с ним в 1938 г. в Берхтесгатене заявил, что «румынским диктатором» он предпочитает видеть именно Кодряну. Кароль, возможно, благодаря своему чрезвычайному высокомерию не был трусом. Он ответил Гитлеру. В ноябре 1938 г. по его приказу Кодряну и еще тринадцать человек (к тому времени сидевших в тюрьме) вывезли в лес и задушили. Затем распространили слух о том, что Кодряну «продался евреям». Именно в этом обвинял Кодряну самого Кароля на основании связи короля с Лупеску.
Но румыны никогда не поверили бы, что их Капитанул продался евреям. Для крестьянских масс Кодряну остался жив. «Трибун, который сохранился в представлениях румын как великомученик и пророк», – написала графиня Уолдек. Многие крестьяне спустя недели и месяцы после предполагаемой казни Капитанула уверяли, что видели его, скачущего ночью на белом коне по лесам. Позже Румынская православная церковь провозгласила Кодряну «национальным святым».
Призрак Кодряну оказался слишком силен для Кароля. Толпы, собиравшиеся летом 1940 г. на площади перед «Атене-Палас» и скандирующие «abdica», были уверены, что захват Бессарабии Советским Союзом, Южной Добруджи – Болгарией и Северной Трансильвании Венгрией – это возмездие Бога румынскому народу за то, что он терпит короля, который спит с еврейкой и убил их Капитанула. После того как Кароль с Лупеску бежали из страны, в Бухаресте появились плакаты с изображениями Кодряну и словами «Корнелиу Зеля Кодряну жив».
Революция 1940 г., которая свергла короля Кароля II, сделала номинальным королем его восемнадцатилетнего сына Михая. Но реальная власть оказалась в руках поддерживаемой нацистами военной хунты во главе с высоким рыжеволосым кавалеристом, участником Первой мировой войны генералом Ионом Антонеску, который страдал приступами сифилитической лихорадки и больше был известен по прозвищу Рыжий Пес. Первым актом Антонеску как фактического главы государства стало назначение в свой кабинет нескольких легионеров и приказ всем румынам пойти в церковь и проклясть бывшего короля.
Но легионеры на этом не успокоились. Землетрясение в ноябре 1940 г., которое только в Бухаресте разрушило 10 000 домов, явно придало дополнительный вес их требованиям. Графиня Уолдек пишет: «Возможно, без землетрясения давно откладывавшаяся «ночь длинных ножей» могла бы и не произойти. Для глубоко религиозных и полных предрассудков людей типа румын это страшное землетрясение было очевидным божественным наказанием за неспособность отомстить за своих мучеников».
И легионеры принялись мстить за своих мучеников. Сначала они убили 64 чиновника из ближайшего окружения бывшего короля; затем штурмовали еврейский квартал Бухареста, «убивая, грабя и сжигая все» на своем пути, по словам бухарестского корреспондента Associated Press Роберта Сент-Джона. Далее они убили самого известного румынского интеллектуала XX в. доктора Николае Иоргу. Они выдрали все волосы из его длинной седой бороды, затолкали в горло газету либерального направления и продолжали мучить, пока он не умер. (Иорга был широко известным антисемитом, но, по румынским и особенно легионерским стандартам, считался либеральным интеллектуалом.) И наконец, организовали в Бухаресте официальные похороны останков Кодряну и тринадцати других легионеров, убитых по приказу Кароля два года назад[30]. Сент-Джон описывает огромную толпу, собравшуюся на похоронах: «Они были похожи на сумасшедших. ‹…› Это воспоминание останется у меня навсегда, потому что я своими глазами увидел, насколько страшным может быть религиозный экстаз, если он выходит из-под контроля. ‹…› Толпа в 155 000 человек была готова растерзать кого угодно».
И опасения Сент-Джона оправдались. Спустя несколько недель, начиная с 21 января 1941 г., легионеры трое суток громили город, стремясь таким образом отобрать власть у Антонеску, которого они считали неэффективным фашистом. Легионеры сожгли семь синагог, шли от дома к дому по еврейскому кварталу, насилуя и мучая женщин до смерти на глазах их мужей и детей. Одну группу евреев они вывезли в лес Бениса к северу от Бухареста (рядом с аэропортом, который сейчас используется для внутренних линий), заставили их раздеться догола в снегу и расстреляли. Наутро туда пришли цыгане, чтобы выдрать у трупов золотые зубы. На следующую ночь легионеры захватили еще две сотни евреев и отвезли на городскую скотобойню, где также раздели и погрузили на ленту конвейера, подвергнув всем стадиям разделки туш животных.
«Свидетельствам злодеяний, совершенных легионерами во время… погрома, мог бы никто не поверить, если бы мы сами отчасти не видели, что происходило. Мы считали трупы, мы видели расчленения… Универсальная еврейская энциклопедия называет это «одним из самых жестоких погромов в истории». Для этого утверждения есть все основания, поскольку оно сделано после Второй мировой войны», – пишет Сент-Джон.
Легионеры продолжали борьбу на заснеженных улицах Бухареста и в конце января. Снайперы с крыш вели огонь по прохожим, солдатам и танкам Рыжего Пса Антонеску. Те, кто не погиб и не был захвачен в плен, нашли убежище в нацистской Германии, фашистской Италии и (в особенности) в фашистской Испании. Среди бежавших был и Хория Сима, длинноволосый маньяк, ставший лидером легионеров после гибели Кодряну, который более других несет ответственность за погромы и злодеяния на скотобойне. По некоторым слухам, Сима еще в 1990 г. в полной анонимности жил в Испании, забытый даже израильскими спецслужбами и всеми охотниками за нацистами.
Легионеры оставили свои попытки захватить власть после того, как Гитлер резко отказался от них в пользу Антонеску. После встречи с Антонеску в конце 1940 г. в Берлине фюрер сказал своему окружению, что «из всех латинцев» (подразумевая под этим Муссолини, Франко, Петена и Лаваля) он предпочитает рыжеволосого румынского генерала. Для Гитлера Румыния стала «сырьевой базой», в особенности источником нефти, добываемой на богатых месторождениях в Плоешти, в сотне километров от Бухареста. Нефть была нужна, чтобы заправлять немецкие танки в ходе планируемого вторжения в Россию. На Антонеску в гораздо большей степени, чем на нестабильных легионеров, можно было рассчитывать в плане обеспечения необходимого порядка и бесперебойной работы местной экономики, что позволит немцам качать и транспортировать ценную нефть. В качестве дополнительной задачи уничтожения евреев выбор Гитлера оправдался дважды. Антонеску, которого вскоре стали называть кондукатором (по-румынски «вождь», титул, которым пользовался и Чаушеску), проявил себя в равной степени способным решить организационные проблемы уничтожения огромного количества людей в рамках гитлеровской программы геноцида.
И здесь для взгляда на румынскую историю из холла отеля «Атене-Палас» опускается занавес. Покидая отель в конце января 1941 г., после разгрома легионеров и начала наводнения Румынии немецкими военными советниками и логистиками, графиня Уолдек записала: «Бухарест, последняя столица международного гламура на Европейском континенте, превратилась не более чем в перевалочный пункт для немецких войск, стремящихся на юг». И, словно делая подсознательный намек на грядущие события, добавила: «В день, когда я уезжала на бухарестский вокзал, подул резкий ветер из России».
В декабре 1989 г., впервые после января 1941 г., номера бухарестских отелей вновь заполонили иностранные журналисты. Хотя на этот раз они предпочли останавливаться в другом отеле – в «Интерконтинентале», – революционный спектакль, которому они стали свидетелями, мистическим образом напоминал то, что наблюдали из «Атене-Палас» графиня Уолдек, Сент-Джон, Сульцбергер и другие.
На той же самой просторной площади перед «Атене-Палас», где румыны некогда скандировали «долой» королю Каролю II и Лупеску, теперь скандировали «долой диктатора» в адрес Николае и Елены Чаушеску. Подобно Каролю и средневековым воеводам, супруги Чаушеску пытались вести двойную игру с великими державами и проиграли. Войска службы безопасности диктатора захлебнулись в оргиастической волне насилия, напоминая самоубийственное сопротивление легионеров танкам и войскам Антонеску на таких же зимних улицах. Те сотрудники органов госбезопасности, которые остались в живых и не попали в плен, по слухам, вместо Италии и Испании нашли прибежище в Ливии. И теперь Иона Илиеску и его Фронт национального спасения – группа, состоящая не только из бывших коммунистов, но и из мистиков и демагогов с криминальным прошлым, – приветствовали как «спасителей нации». Так же называли квазилегионерское правительство Антонеску, которое свергло короля Кароля II.
Но мало кто из нынешнего поколения журналистов читал книги, посвященные тому же самому месту предыдущим поколением журналистов[31]. Они преподносили румынскую революцию как уникальное явление, хотя на фоне современной истории Румынии в ней не было ничего уникального.
Я пробыл в отеле «Атене-Палас» лишь несколько дней. Потом положил в рюкзак другие книги, в основном британских авторов, которые путешествовали по румынской глубинке в первые десятилетия XX в., во времена королевы Марии и короля Кароля II. Там было что посмотреть. После Польши Румыния – самая крупная и густонаселенная страна бывшей восточноевропейской империи Советского Союза. В центре страны пролегают Карпатские горы, разделяя территорию на несколько заметно отличающихся регионов. В результате сельская Румыния гораздо более разнообразная и зрительно впечатляющая, чем Польша (или любая другая страна Восточной Европы), и гораздо менее исследованная. Мне хотелось понять, как пять лет нацизма, за которыми последовали четыре с половиной десятилетия сталинизма, повлияли на этот ландшафт и обитающее здесь население.
Итак, в начале весны 1990 г. одним ранним утром перед рассветом я вышел из вестибюля гостинцы «Атене-Палас» и направился в сторону железнодорожного вокзала.
Глава 6 Дунайский тупик
Сиденья в темном и леденяще-холодном вагоне первого класса были драными и сломанными. На Северном вокзале Бухареста никакой еды не продавали. В поезде через несколько вагонов от моего я обнаружил буфет с жирным металлическим прилавком, где торговали черствыми пирожками и тепловатым, цвета печени, кофе. Я вспомнил князя Якимова, нищего русского аристократа из «Балканской трилогии» Оливии Мэннинг, наиболее симпатичного из всех персонажей: он «жевал сухие кексы из соевой муки и запивал серым кофе» в поезде, уходившем в 1940 г. с Северного вокзала в Трансильванию, где, по словам одного из его попутчиков, «есть вообще было нечего».
Трансильвания лежала на северо-западе. Я планировал попасть туда, но позже. Сейчас я направлялся на восток, к Черному морю, после чего намеревался повернуть на север, описать дугу против часовой стрелки по всей Румынии и вернуться в Бухарест. В вагоне поезда пахло цементной пылью, мочой, заплесневевшим сыром, колбасой, табаком, сливовицей, кислым потом и давно не стиранной одеждой. Это была странно теплая и даже уютная смесь, в целом совсем не такая противная, как составляющие ее компоненты. В той или иной степени она сопровождала меня во время всего путешествия по Румынии. В книге Мэннинг этот запах напомнил князю Якимову «несвежее пиво».
Вид из окна не менялся на протяжении двух часов: мрачная, плоская, пыльная земля, перемежающаяся зелеными полями. То тут, то там попадались здания зернохранилищ и многоэтажных жилых домов, стоящие по отдельности, как тюремные корпуса. Дешевые, быстро возводимые трущобы, из которых появлялись фигуры цвета грязи в головных платках или бурых шапках-ушанках. Это была историческая родина Румынии – Валахия, занимающая южную часть страны – от долины реки Жиу, угледобывающего региона страны на западе, и до Дуная на востоке.
Протяженность Дуная превышает любую из европейских рек, кроме Волги, и составляет более 2850 километров. Его исток – в Германии, в горах Шварцвальда (Черного Леса). Он протекает по территории семи стран[32] и впадает в Черное море. Таким образом, он представляет собой объединяющий символ: река надежды, вдохновения и клише. Воды Дуная «гармонизируют все разногласия и нации; его дух – это дух Пан-Европы», – пишет Уолтер Старки, ирландский чудак, который в 1929 г. путешествовал с цыганами по Венгрии и Румынии и чью книгу Raggle-Taggle я вез в своем рюкзаке.
Но я направлялся к забытому устью реки, которое мало кто из путешественников (и Старки в том числе) считал нужным посетить, особенно в последние десятилетия.
В большей своей части Дунай идиллически течет через альпийские луга Южной Германии и Австрии, затем мимо Будапешта и Белграда, а потом обозначает юго-западную границу Румынии с Югославией и южную границу с Болгарией. Но недалеко от Черного моря река меняет направление. Вместо того чтобы продолжаться как интернациональная река, Дунай вдруг приобретает чисто румынский характер: поворачивает на север, на протяжении полутора сотен километров протекает по Румынии и лишь потом снова поворачивает на восток и разбивается на мириады проток, которые и впадают в Черное море.
Мой поезд подошел к Дунаю в городе Чернаводэ (Черная вода), название которого зловеще напоминает Чернобыль. Здесь, в одной из самых сейсмоопасных зон в мире, Чаушеску решил построить первую в Румынии атомную электростанцию. АЭС должна была стать дополнением к уже действующим гидроэнергетическому и транспортному комплексам на Дунае, которые с 1949 г. были главным индустриальным «героическим проектом» румынских коммунистов, символизирующим, как говорилось в пропагандистской брошюре, «социалистический союз человека и техники».
Говорили, что Сталин во время встречи с лидером румынских железнодорожников Георге Георгиу-Дежем решил, что именно он должен править Румынией[33]. Ставя перед Георгиу-Дежем эту задачу в 1947 г., Сталин якобы дал ему совет: «Вам нужно занять народ. Дайте им для воплощения большой проект. Пусть построят канал или что-то в этом роде». Таким образом, Георгиу-Деж, который правил Румынией до своей смерти в 1965 г., обнародовал план по строительству канала Дунай – Черное море. В случае постройки канала грузовым судам не пришлось бы проходить дополнительные 400 километров на север, а затем на восток, поскольку канал протяженностью 65 километров должен был напрямую соединить Чернаводэ с румынским морским портом Констанца.
На самом деле это был безрассудный план. Не было никаких оснований считать, что речное судоходство между Центральной Европой и Черным морем может принести Румынии значительные дивиденды от платы за пользование каналом. Романист Петру Думитриу утверждает, что с 1949 по 1953 г. при строительстве первых участков канала от несчастных случаев, перенапряжения и недоедания погибли более 100 000 рабочих. Большинство строителей были заключенными, в том числе и политическими, имевшими отношение к деятельности еврейской интеллектуалки Анны Паукер. Георгиу-Деж с помощью бывшего сапожника и мелкого вора из Валахии по фамилии Чаушеску жестоко разгромил «интернационалистское» крыло коммунистической партии Паукер.
В 1953 г., после того как Георгиу-Деж ликвидировал в Румынии все следы политической оппозиции как внутри партии, так и вне ее, работы по строительству канала внезапно прекратились. Румыния в наименьшей степени оказалась подвержена коммунистической либерализации. На двадцать лет проект был официально заморожен. В 1973 г., создавая свой культ личности как часть полномасштабного возвращения к сталинизму, Чаушеску объявил, что будет продолжено не только строительство канала, но еще и рядом с Констанцей будет построен новый порт и атомная электростанция.
Восемь лет спустя, зимой 1981 г., я побывал на канале и на месте строительства атомной электростанции. Я вырядился в самую грязную одежду и взял в руку бумажный пакет с бутылкой сливовицы, чтобы не вызывать подозрений у милиции или Секуритате, которые не хотели, чтобы иностранцы видели, что там происходит. Помню замерзшие поля и подъемные краны, стоящие на платформах посреди покрытого льдом Дуная и в котлованах, предназначенных для будущего канала и фундамента АЭС. На километры тянулись колонны самосвалов, вывозящих землю. Всюду слышался оглушительный грохот работающих бетономешалок. Грязь, лес и река сливались в единую бесформенную массу. Помню улицу с мерзлой грязью, кое-где покрытой снегом, вдоль которой выстроилась молчаливая очередь минимум из сотни работяг в шапках и комбинезонах, ожидающих своей пайки – жидкого супа, хлеба и десяти граммов масла. За ними наблюдали милиционеры в шинелях до колен и с автоматами в руках. Так выглядела эта часть Дуная в начале 1980-х, сильно напоминая сталинскую Россию 1930-х гг. По мнению некоторых западных дипломатов, количество «рабов» в «румынском ГУЛАГе» Чаушеску могло достигать 700 000 человек.
Сейчас была ранняя весна 1990 г. В результате революции строительные площадки оказались частично заброшенными, и Чернаводэ выглядел не таким мрачным. Но стройка не закончилась. Я подумал, а было ли у Чаушеску – и у Георгиу-Дежа – действительно желание завершать этот фараонских масштабов проект. Возможно, все эти сталелитейные, чугунолитейные, нефтехимические предприятия – которые все устареют к моменту их ввода в строй – были задуманы в полном соответствии с предложением Сталина: занять народные массы каким-нибудь делом, свести их жизнь к элементарному существованию, при котором о каких-то духовных потребностях уже и не может быть речи. Это вполне подтверждала Елена Чаушеску, неоднократно называвшая миллионы своих подданных «червями», которых надо контролировать с помощью тяжелого труда и продуктовой карточной системы.
Мой поезд, идущий на восток, пересек Дунай и повернул на север, параллельно реке. Эта часть Румынии между Дунаем и Черным морем называется Добруджа. Сюда был сослан и здесь умер римский поэт Овидий. Равнина превратилась в бурное море цвета серого ила. Крутые известняковые скалы нависали над низинами, в которых, словно оспины, лепились голые современные поселки и фабрики. При ближайшем рассмотрении эти «поселки» оказывались кучками хижин, построенных из дерева и ржавого листового железа, окруженных такими же ржавыми металлическими заборами, перемежающимися кривыми бетонными стенками, каждая из которых выглядела как миниатюрная копия Берлинской стены. Садики между хижинами больше напоминали мусорные свалки. Фабрики требуют дополнительного описания.
Во всем коммунистическом мире фабричные здания представляли собой жуткое, отвратительное зрелище, но в Румынии они, похоже, принадлежали к нижним кругам ада: территории, окруженные колючей проволокой с бетонными воротами, заваленные горами угля, мусора, ржавыми деталями тракторов, облепленными грязью, между которыми слонялись случайные коровы или овцы. Посередине стоял сам завод, словно ободранная туша: масса желчно-зеленых, напоминающих кишки труб, оснащенных ржавыми металлическими трапами, которые тянулись вдоль стен из почерневшего бетона и стекла. Надо всем этим громоздилась асбестовая крыша с металлическими трубами, которые выбрасывали в небо клубы абсолютно черного дыма.
В ворота этих заводов въезжали повозки с горючим, запряженные лошадьми и быками, чем-то похожими на животных долины Нила: «слоновьего цвета, неловкие и неуклюжие, как скот в центре Африки», как писал сэр Сачеверел Ситвелл, чью книгу «Румынское путешествие» (Roumanian Journey), написанную в 1937 г., я взял с собой. Румынский ландшафт напоминал Ситвеллу «Тартарию в самом центре Азии». Действительно, Добруджа и сейчас напоминает Тартарию, хотя, в отличие от времен путешествия Ситвелла, совершенно непривлекательную.
Мой поезд шел уже пять часов. Несмотря на холод, сломанные сиденья и отсутствие пищи, это путешествие на поезде оказалось в физическом плане наиболее комфортным из всех, что я проделал в Румынии. Последней станцией была Тулча, ворота в дельту Дуная. Здесь величественная река распадается на несколько крупных рукавов и сотни мелких проток, которые в сумме создают болотистый выступ между Тулчей и Черным морем протяженностью 80 километров и площадью более 3000 квадратных километров. Теоретически Тулча должна была быть живописным городом с рыбацкими лодками, заполонившими гавань, и домиками конца XIX в., между которыми могли возвышаться турецкие минареты и серебристые купола церквей. Но я увидел ряд многоэтажных жилых домов, перекрывающих вид на гавань со стороны старинных зданий, церквей и мечетей. Бетонные фасады этих домов были выкрашены в тошнотворный коричневатый цвет. За окнами на каждом этаже висели цветочные горшки, но по какой-то странной причине и они не радовали глаз. Приглядевшись, я понял причину. В этих горшках, явно предназначенных для цветов – ярких тюльпанов и роз, к которым румыны испытывают особое пристрастие, – выращивали овощи, преимущественно лук и чеснок. Видимо, обитатели этих квартир не имели возможности найти их в местных овощных лавках.
Я заглянул в подъезд одного из таких домов. Лестничные пролеты из голого бетона, двери фанерные. Все компоненты дешевые и примитивные. Пространство между зданиями занимали монументальные пики железной арматуры и бетонные перекрытия недостроенных сооружений, которые выглядели не такими варварскими, как американские трущобы и уж точно менее опасными. Но если американские трущобы зачастую представляют собой достойные сожаления ошибки их эксплуатации собственниками и землевладельцами, то в зданиях, которые я увидел в Тулче, не было ничего ошибочного или случайного.
Проходя по боковой улочке вдоль набережной, я обратил внимание на табличку с надписью, которую можно было перевести как «союз художников». Заинтригованный, я толкнул металлическую дверь, поднялся по лестнице и постучал в следующую дверь. Она со скрипом приоткрылась. В дверном проеме показался мужчина в рабочем халате, накинутом на старый костюм. Он был при галстуке. Взгляд нервно вопрошал, кто я такой и что мне нужно. Я спросил, говорит ли он по-французски. Он кивнул. Я сказал, что я – американский писатель, путешествую по Румынии. Дверь открылась шире.
Как оказалось, это был пятидесятиоднолетний художник Штефан Штирбу, у которого даже были выставки в Америке – в 1974 г. в Мемфисе и в 1977 г. в Питтсбурге. Он заварил мне чаю, после чего гордо вытащил из укрытия каталоги американских выставок и вырезки с рецензиями. Хорошая печать на гладкой бумаге разительно отличались от зернистых изображений на переработанной бумаге, которую использовали в Румынии для печати книг и газет. После 1977 г. Штирбу стал невыездным. Постепенно он превратился в узника в своей комнатушке с почерневшими от сажи окнами. Он каждый день перечитывает эти рецензии, напоминая себе, что где-то существует другой мир и он даже дважды побывал там.
– В начале восьмидесятых приобретать нормальные холсты, краски и прочие материалы стало трудно, почти невозможно. Зимой жилье не отапливается.
После революции с материалами стало полегче, и Штирбу снова начал рисовать. Он рисует иконы сочными, яркими цветами в наивной, крестьянской манере, каждая из них повествует об одном: как коммунизм пытался, но так и не смог разрушить румынскую семью. В последние недели он нарисовал десятки таких икон, по одной в день. Я купил одну. На ней изображен деревянный крест с распятой крестьянской парой, раздавленный серпом и молотом. Но в расположенной рядом сцене воскрешения торжествующая пара стоит, держа в руках изображения своей фермы и домашнего скота.
– Религия поддерживала меня в восьмидесятые, и после революции я решил писать только на религиозные темы.
Он предложил мне койку в своей студии и сказал, что я могу оставаться у него сколько угодно. Он сказал, что я – первый иностранец, с которым он разговаривает после 1977 г. Я в этом не сомневался. Чаушеску запретил румынам общаться с иностранцами без последующего донесения о содержании разговора в органы безопасности. Пригласить иностранца к себе домой без предварительного разрешения значило рисковать тюремным заключением.
Распрощаться с ним потребовало определенной дипломатии. Дело происходило как раз после Пасхи, и я сказал ему на прощание по-румынски:
– Hristos a inviat! [Христос воскрес!]
– Adeverat a inviat [воистину воскрес], – откликнулся он.
Было похоже, что мое легко принятое решение заглянуть на несколько минут в эту дверь положило конец мрачной эпохе в жизни этого художника.
Разглядывая катера на реке, я вдруг ощутил некоторое беспокойство. Я поблагодарил себя за решение отправиться в шестинедельное путешествие с одним рюкзаком, половину которого занимали старые книги и туалетные принадлежности, а это означало, что я смог взять с собой только одну смену одежды. Я подумал, что внешний вид значения не имеет, поскольку я буду среди румын, чья одежда еще более потертая, чем моя. И я уже ощутил преимущества этого решения: у меня появилась возможность перемещаться спонтанно, останавливаться где захочу и не беспокоиться об оставленном багаже, такси и бронировании мест в гостиницах. Сейчас я решил подняться на борт одного из катеров, на который как раз шла посадка. Я выбрал катер, идущий в Сфынту-Георге, по двум причинам:
Из всех поселений в дельте Дуная Сфынту-Георге – самый удаленный, он находится прямо у Черного моря, в 65 километрах от Тулчи по извилистому каналу.
Там не побывали даже бесстрашные авторы «Примерного путеводителя по Восточной Европе» (The Rough Guide to Eastern Europe). Им не разрешили сесть на катер, поскольку в Сфынту-Георге не было гостиницы, а до недавнего времени останавливаться в домах у румын иностранцам было запрещено.
Прыгнув на борт за несколько минут до того, как катер покинул гавань, я почувствовал, что прыгнул в неведомое. Поскольку первые месяцы после румынской революции прошлого декабря были холодными и снежными, я мог почти наверняка считать, что окажусь первым иностранцем, забравшимся так далеко в низовья реки. Сейчас был полдень. Катер должен прийти в Сфынту-Георге уже в сумерках, и потом мне еще придется искать, где переночевать. Кто знает, в какую дверь мне вздумается постучаться?
Я заплатил за билет 66 леев – 66 центов по курсу черного рынка благодаря персоналу «Атене-Палас». Тратить лишние 26 леев на отделение «первого класса» я не стал – там тоже было битком набито и лишь чуть менее грязно.
Катер был скорее переполненной пассажирами баржей: ржавый скелет с прогнившим настилом палубы и отваливающейся краской, воняющий бензином, – о таких время от времени сообщают в маленьких газетных заметках на третьей полосе, что они перевернулись в какой-то далекой стране и большинство пассажиров утонуло. Все сидячие места были заняты за пару часов до отплытия, а коридор, ведущий в единственный туалет, напоминал вагон поезда в час пик; там невозможно было даже присесть на корточки. На борту не было ни воды, ни пива, ни вина, только цуйка – румынский фруктовый самогон, который гонят из слив, яблок или груш.
Судно еще эксплуатировалось, поскольку государство не выделяло средств на покупку новых. А поскольку государство строго ограничивало расход энергии, катера в Сфынту-Георге ходили редко, с большими интервалами, поэтому каждый оказывался переполнен. Из-за режима экономии здесь было столь же скверное железнодорожное сообщение, а система междугородных автобусных перевозок просто рухнула. Чаушеску говорил, что суровые меры необходимы из-за долга Румынии иностранным банкам, который он требовал выплатить досрочно, чтобы сделать страну «полностью независимой» (какой была Албания). Но, чувствуя в боках чужие локти и ощущая сильный запах перегара, я этому не верил. Я верил в то, что долг – лишь повод для сокращения расходов на топливо и соответствующие инфраструктуры, целью которого, как строительство и канала, и многоквартирных домов, было подавление воли людей.
Упадок был настолько глубок, что страдало даже производство алкоголя. Во всех странах коммунистического режима власти заставляли крестьян сдавать часть урожая государству. Но ни в одной стране квота не была столь велика, а система столь коррумпирована, как в Румынии. Здесь крестьянам удавалось выполнять норму, сдавая самые гнилые сливы. В Румынии можно найти хороший крепкий алкоголь, но это всегда самогон. Бутылки закрывались затычками из газет, потому что пробки тоже были дефицитом.
Борьба за то, чтобы пробиться на палубу, того стоила. Несмотря на ветер и холодную сырость, снаружи оказалось немного комфортнее. Точно такие условия отпугивали меня от речных путешествий вверх по Нилу в Судане и вниз по реке Заир (Конго) в Заире, где был подобный ландшафт.
Последний катер у берега и телефонные линии Тулчи остались позади, а впереди простиралось бурое и зеленое однообразие: бурой была вода в этом, одном из двух главных каналов, ведущих к морю, а зеленым – намытый грунт, огромные, подвижные полосы ила, на котором чудом выживали тощий ивняк, тополя, камыш и прочие ползучие растения. Согласно «Примерному путеводителю по Восточной Европе», это «самый молодой, неустоявшийся европейский ландшафт». Сюда прилетают соколы из Монголии, утки и бакланы из Китая, журавли и бекасы из Сибири и множество иных птиц из Индии и других мест. В этот момент своего путешествия Ситвелл пишет: «Дунай выходит из границ цивилизации в ничто, прямо в тартарские степи». Э. О. Хоппе, еще один британец, путешествовавший по Румынии в первой половине XX в., автор книги «В цыганском таборе и королевском дворце» (In Gipsy Camp and Royal Palace), описывает дельту Дуная как состоящую «из пространств Конрада – пространств из «Сердца тьмы».
Окружавшие меня пассажиры укрепляли чувство, что я покинул пределы Европы. Среди них были русские липоване с длинными прямыми бородами и в высоких цилиндрических шапках, чьи фанатичные предки перебрались в дельту Дуная в конце XVII – начале XVIII в., спасаясь от религиозных гонений, обрушившихся на них из-за сопротивления светским реформам Петра Великого. Я видел светловолосых украинцев, чьи предки, православные христиане, переселились сюда двести лет назад, спасаясь от преследований украинских католиков. Были и цыгане в браслетах и пестрых одеяниях, потемневших от грязи. Согласно одной гипотезе, монголо-татарские орды хана Батыя в XIII в. привезли их в Румынию в качестве медников.
В 1970–1980-х гг. цыганское население Румынии увеличилось с двух до четырех миллионов человек. При этом общее число жителей страны оставалось неизменным в пределах двадцати трех миллионов. Хотя Чаушеску запретил аборты и противозачаточные средства, чтобы румын стало больше, чем ненавистных венгров, созданный им режим нищеты и полуголодного существования не только повысил младенческую смертность, но и вынуждал женщин делать нелегальные аборты, чтобы не плодить новые голодные рты. А цыгане продолжали рожать детей как ни в чем не бывало. Они всегда жили в бедности и не подчинялись законам.
Цыгане, которых я видел на палубе, соответствовали самым худшим стереотипам: пьяные, опасные, с беспокойными руками, так и тянувшимися что-нибудь хапнуть. Э. О. Хоппе пишет, что для румынского цыгана «самая большая ценность» – скрипка. «Отними у цыгана скрипку – и он пропащий человек». У тех цыган, которых я видел, скрипок не было. Уолтер Старки написал целую книгу – Raggle-Taggle – про цыганских бродячих музыкантов в Венгрии и Румынии. Но я нигде, ни на борту этого катера, ни в других местах, где мне довелось побывать, не слышал такой «музыки со странными ритмами и витиеватыми трелями», которую описывает Старки. Чаушеску уже давно распорядился, чтобы у исполняемых публично цыганских песен было марксистское содержание, поэтому играли и пели мало, и традиции постепенно были утрачены. Из транзисторов на борту катера неслась самая пошлая западная попса. Но меня больше нервировал алкоголь.
Не только цыгане, но и почти все мужчины на этом катере (а мужчин было гораздо больше, чем женщин) были пьяны и пьянели все больше очень неприятным образом. Когда в буфете закончилась цуйка, бутылки стали извлекать из дорожных мешков. В одних был самогон, в других – медицинский спирт. Пассажиры постепенно сходили на остановках, толпа редела. Но я заметил, что самые крутые пьяницы оставались на борту и перебирались с палубы внутрь. Непогода вынудила меня сделать то же самое.
Воздух во внутреннем помещении был как невидимая стена, в которую я ткнулся лицом. Окна наглухо запечатаны, кислорода, казалось, почти не осталось, вместо него был сплошной углекислый газ, пары самогона, тяжелый запах пота и сизый табачный дым. На столах громоздились пустые бутылки. Цыгане, украинцы и прочие разговаривали криком, предвещавшим насилие. Они были одеты в свитера и спортивные куртки, потерявшие цвет и форму, поскольку их носили ежедневно и никогда не стирали, и обуты в тапочки, серебристые пластиковые туфли с заостренными мысами и прочие не поддающиеся описанию опорки. Я был голоден, устал стоять на ногах, поэтому решил занять свободное местечко среди этой компании.
По-румынски я говорил плохо, но зато знал французский и немецкий. К сожалению, парень, сидевший напротив, кое-как объяснялся по-немецки.
Он перегнулся ко мне через широкий стол, смахнув на пол пустую бутылку, и, глядя на меня мутным взором, характерным для сильно выпившего человека, стал кричать, брызгая слюной мне в лицо:
– Ja, ich spreche Deutsch [да, я говорю по-немецки], ja, ja, ja…
Я пытался сделать вид, что не понимаю, но он уже рассказывал историю своей жизни. Он родился в деревне, расположенной в дельте, в смешанной румынско-украинской семье. В 1960-х гг., когда Георгиу-Деж и Чаушеску начали строить крупнейший в Румынии металлургический комбинат в Галаце, что в 70 километрах к северо-западу от Тулчи, там, где в Дунай впадает река Прут, берущая свое начало в Молдавии, он нанялся туда на работу и остался насовсем, лишь изредка навещая родителей в деревне. Он женат, у него есть дети, но живет он по-прежнему в общежитии для работников комбината. Он говорит по-румынски и по-украински и каким-то образом немного нахватался немецкого.
Когда я наконец открыл рот и сказал, что я американец, он закричал:
– Чаушеску nicht gut [плохой], Илиеску gut, sehr gut [очень хороший].
Это он повторил несколько раз, словно я не слышал. Затем продолжил:
– Studenten auch nicht gut [студенты тоже плохие].
– Почему? – спросил я.
– Faschisten! – крикнул он, брызгая слюной.
Я решил не спорить. На столе под бутылками лежала проправительственная газета. Я увидел, что в заголовке статьи упоминается бывший румынский король Михай, и поинтересовался его мнением насчет короля.
– Nicht gut, nicht gut… Он Гогенцоллерн, Гогенцоллерн, иностранец, иностранец.
Мужчина перевел мой вопрос окружающим, которые начали что-то кричать про Михая. Я не понял ни слова, но звучало все весьма злобно. Он объяснил мне, что в 1947 г. Михай бежал из Румынии на личном поезде и увез из страны все деньги и произведения искусства. Это, конечно, было очень похоже на то, что сделал отец Михая, король Кароль II, в 1940 г.[34]. Но когда я попытался сказать об этом, мой собеседник закричал: «Nein, nein!» Я закрыл глаза, сделав вид, что сплю. Пьянка продолжалась.
Еще одно наследие Чаушеску – этот низший класс, словно сошедший со страниц романа Джорджа Оруэлла «1984»: слегка урбанизированные крестьяне, «не конь и не осел», согласно местной поговорке, покинувшие свои деревни, где десятилетиями, а то и веками жили их предки, оторвавшиеся от всех традиций и поселившиеся в рабочих общежитиях, где в дефиците было все, кроме алкоголя и государственной пропаганды. Поскольку Кароль умер в 1953 г., непосредственной угрозой считался Михай; соответственно, коммунисты давно стали вешать на Михая все преступления Кароля. Полуголодные, трудившиеся до полусмерти, эти люди при Чаушеску не были способны ни на что. Шахтеры из долины Жиу, которые металлической арматурой и топорами разгоняли студентов на Университетской площади Бухареста в июне 1990 г., – выходцы из той же социальной среды. То же в некотором смысле можно сказать про украинцев, которые служили охранниками в нацистских лагерях смерти. Крестьяне, жертвы сталинской коллективизации 1920–1930-х гг., эти люди стали орудием в руках нацистов просто потому, что немцы в начале войны обеспечили некоторую степень безопасности им и членам их семей. Илиеску этими шахтерами очередной раз продемонстрировал, что, если таким людям дать немного больше пищи и уверенности в завтрашнем дне, они могут стать потрясающе эффективной преторианской гвардией.
Я сошел на берег в Сфынту-Георге в темноте. Фонари не горели. Я видел лишь смутные очертания оград и обшитых старым листовым железом хижин. Волны лениво накатывались на илистый берег. Одинокая барочная крыша служила единственным признаком того, что я не в Африке. Мягкие илистые наносы и запустение сильно напоминали верховья Нила в Уганде и Южном Судане, где я когда-то путешествовал.
Среди толпы на пристани я обратил внимание на пожилого мужчину с ухоженной бородкой, в берете и с тростью. Инстинктивно я обратился к нему по-французски. К моему облегчению, он меня понял и пообещал подыскать место, где я мог бы переночевать. Затем к нему энергичной походкой подошла высокая женщина лет тридцати. Эта исключительно привлекательная блондинка с изящным макияжем не походила на жительницу Сфынту-Георге; одежда на ней была явно западного происхождения. Мужчина и женщина о чем-то сразу заспорили. Мне стало неловко. Когда она в ярости развернулась и ушла прочь, я спросил мужчину, кто она.
– Моя жена, – ответил он.
Он сказал, что ему шестьдесят три. Но выглядел он старше своих лет. Когда-то он был юристом, но по каким-то причинам – детали он так и не выяснил – в 1960-х гг., в начале правления Чаушеску, у него возникли проблемы с режимом. Отсидев срок в тюрьме, он пошел работать на завод по производству свинца. «Моя жизнь рухнула. Теперь я просто живу здесь и немного рисую. Недавно я женился, но две недели назад она от меня ушла».
– Постой здесь, – сказал он. – Я поищу, с кем бы ты мог побеседовать, с кем бы тебе было интересно.
Я простоял один в темноте минут десять. Затем появился молодой человек, взял мой рюкзак и на прекрасном английском сказал:
– Идем. Меня зовут Мирча, я местный врач. Мы с женой приглашаем тебя к себе. Мы очень многое можем тебе рассказать. До утра не уснешь.
Мирча привел меня к одноэтажному бетонному зданию с черепичной крышей. Мы вошли внутрь. На полу комнаты сидела женщина и что-то читала. Из кассетного магнитофона звучала винтажная музыка Нила Янга начала 1970-х гг.
Женщина быстро встала и протянула мне руку.
– Иоанна, моя жена, – представил ее Мирча. – Тоже врач. Мы из Бухареста. Попали в Сфынту-Георге по распределению на год. Прошу прощения за несовременную музыку. Это лучшее, что у нас есть.
Я заверил его, что музыка замечательная. Такими же замечательными оказались минеральная вода, вареные яйца, копченая молодая акула, помидоры и свежие фрукты. Но больше всего мне помогло прийти в себя нормальное выражение лиц Мирчи и Иоанны. Мирча был брюнетом с бородкой, Иоанна – блондинкой, но мне они казались близнецами. В их ясном, прямом взгляде не было и намека на мутное невежество мужчин с катера, на коварное лукавство проституток и жуликов, на печаль, которую я видел в глазах очень многих их соотечественников. Путешествие по Румынии зачастую напоминало романы Достоевского.
– Добро пожаловать в Африку, – усмехнулся Мирча. – Мы врачи, но здесь нет пенициллина, нет пива, нет водопровода, нет ничего, кроме того, что ловят рыбаки и что мы можем купить у пиратов и браконьеров. В Сфынту-Георге живет полторы тысячи человек, в основном украинцы. У сорока диагностирован рак. Причину никто не знает. На том берегу Черного моря – Чернобыль. Между нами никаких гор. И река, и море сплошь в нефтяных пятнах. Дельфины дохнут. Весной из Азии прилетает все меньше и меньше птиц. По моим подсчетам, половина населения городка – алкоголики. Дельта могла бы стать туристическим раем. А стала зоной социальной и экологической катастрофы. В прошлом декабре здесь не было никаких политических выступлений. В какой-то день поснимали портреты Чаушеску, и все. Общество полностью разрушено. Тут нужны десятилетия. Не знаю, хватит ли нам с Иоанной терпения. В первые недели после революции мы постоянно слушали радио. Мы думали о своей стране и о том, как помочь окружающим нас людям. Но очень быстро все опять стало плохо. Мы с Иоанной снова думаем о себе, об эмиграции, поскольку теперь это разрешено.
Я закончил ужинать. Мирча с Иоанной решили сводить меня в дом местного мэра. Чтобы найти дорогу, потребовался фонарик. Мы прошли мимо маленькой православной церкви.
– Украинцы построили пару лет назад, когда на берег выбросило баржу с цементом, – пояснила Иоанна. – В каком-то смысле Сфынту-Георге повезло больше, чем другим румынским городкам. Море приносит нам подарки. А поскольку мы так изолированы, режим обращал на нас мало внимания.
Мэра дома не оказалось. Тем не менее его жена приготовила ужин, а Мирча представил меня с такими церемониями, что я почувствовал себя обязанным сесть к столу. Я вполне подкрепился вареными яйцами и копченой акулой, но теперь меня ждал еще салат с икрой, приправленный чесноком, и тарелка жареной свинины. Справиться с этим можно было лишь с помощью домашней цуйки.
Вошел мужчина и сел за стол ужинать с нами. Он был средних лет, толстый, краснолицый, с набухшими венами на лбу и на шее. На нем были широкие подтяжки, и от него сильно несло перегаром. Громко чавкая, он принялся просвещать меня почти в драматической манере, выпячивая нижнюю челюсть, как Муссолини. Мирча переводил.
– Во всем виноват Рузвельт. Во всем, что у нас сейчас. – Он широко повел рукой. – Он продал Румынию в Ялте. Иначе бы в Румынии сейчас было бы все как во Франции.
– Он прав, – добавил Мирча с некоторой злостью. – Из-за Рузвельта, этого проклятого калеки, мы сорок пять лет страдали.
– Рузвельт приехал в Ялту при смерти, он умер через несколько недель, – попробовал я объяснить. – Договор, который он заключил со Сталиным, предполагал проведение свободных выборов во всех странах Восточной Европы. Он не виноват в том, что присутствие Красной армии в этих странах сделало невозможным реализацию договоренностей. В первую очередь надо винить Гитлера, винить Сталина за то, что они развязали войну. Не надо винить Рузвельта.
– Рузвельт – предатель! – выкрикнул мужчина в подтяжках, чуть не забрызгав меня слюной.
– А теперь нас продают снова, – подхватил Мирча. – Этот Буш, мы ему не верим. Только Рейган нам нравился.
При имени Рейгана все, сидящие за круглым деревянным столом, – жена мэра, мужчина в подтяжках, Мирча и Иоанна прекратили жевать и стали кивать, словно одобряя благословение. Невозможно спорить с людьми, которым пришлось столько вынести и которые могут представить себе большой мир только со своей узкой и мрачной наблюдательной площадки.
– «Империя зла», я помню это выступление Рейгана по румынскому «Голосу Америки», – произнес Мирча. Все снова кивнули и посмотрели на меня. – Он был единственным из ваших президентов, кто говорил правду. А Буш – это просто второй Рузвельт. Вот увидишь, Румынию продадут снова. С нами всегда так.
– Мир с берегов Прута и Дуная видится не так, как с берегов Потомака, – заметил мужчина в подтяжках, словно высказывая упрек мне лично. – Прут – это наше проклятие. Это не настоящая наша восточная граница. Русских надо гнать. – Он рубанул воздух жестом каратиста. – Бессарабия принадлежит нам, а не Горбачеву. Почему Буш так любит Горбачева? Потому что Буш хочет помочь этой России против Румынии.
– Это мэр? – шепотом спросил я у Мирчи.
– Нет, – так же тихо ответил Мирча. – Я вообще его не знаю.
После ужина Мирча предложил мне прогуляться на берегу, там, где дунайский канал встречается с Черным морем и где с моего катера побросали в воду пустую тару. Ночь была облачная, беззвездная, я с трудом различал ландшафт. Но на самом берегу воздух был полон звуков, которые могли издавать, как мне показалось, миллионы лягушек и множество птиц. Я их слышал, но не видел. Мне показалось, что я внутри огромного черного пузыря, а все эти звуки – человеческие голоса, отражающиеся от внешней мембраны, сквозь которую они тщетно стремятся пробиться.
– Ты должен понять, – произнес Мирча извиняющимся тоном. – Нас веками били по голове. Как мы можем быть оптимистами? Ты говоришь, что ситуация в Европе гораздо более обнадеживающая, чем та, что была в сорок пятом, и умом я тебе верю. Но мой инстинкт румына подсказывает, что я не должен тебе верить.
– Как ты можешь так говорить? Вспомни, что у вас было в декабре. Только не говори, что ты ждал этого.
– Оглядись вокруг. Что ты видишь? Чаушеску казнили – я этому очень рад, – но зло, которое он натворил, снова победит нас. И все эти сволочи остались у власти.
Мы подошли к воде. Плеск волн немного заглушал голоса лягушек и птиц. Мирча показал туда, где воды Дуная сливаются с Черным морем. Но я видел лишь темноту.
– Во времена Чаушеску время от времени кто-нибудь уплывал в море, где его на якоре ждала лодка, и пытался на веслах добраться до Турции. Удавалось немногим. Большинство погибало.
Я хорошо плаваю, но при мысли о том, чтобы войти в эту ледяную черную бездну, меня пробрала дрожь.
– Это же до какой крайности нужно было дойти, – пробормотал я.
– Мы все так жили, – ответил Мирча.
На обратном пути к дому, освещая дорогу фонариком, я пытался и не мог найти в себе силы разделить его мрачный пессимизм. Меня переполняло чувство путешественника, благоговеющего перед всем, что я увидел и услышал в этот первый долгий день пути по дорогам Румынии. Всего несколько месяцев назад Чаушеску еще был у власти, и мысль о том, что я смогу приехать в Сфынту-Георге, встретиться с Мирчей, попросту не могла прийти мне в голову. Более десяти лет я путешествовал по разным странам Восточной Европы, обзаводился друзьями. Наконец я могу начать считать друзей и в Румынии. Разве это не добрый признак?
Мирча рассказал, что за пару недель до меня в Сфынту-Георге побывали два западногерманских орнитолога, изучающие влияние загрязнения окружающей среды на птиц. У меня появилась уверенность, что в ближайшие месяцы и годы здесь появится много новых гостей с Запада. Спустя сорок пять лет после завершения Второй мировой войны кошмар наконец закончился. Я присутствовал при зарождении нового дня. Но как «день первый» в Книге Бытия, это туманное, тревожное утро может растянуться на долгое время.
Глава 7 Молдавия: «привыкшие к ненависти»
Следующий маршрут моей железнодорожной поездки пролегал на север, параллельно румынской границе с Советским Союзом. От Галаца, речного порта на Дунае, в Яссы, центр Западной Молдавии.
К тому моменту, как я нашел себе местечко в вагоне второго класса, на полу образовались бурые лужи, натекшие с мокрой одежды, чемоданов и картонных коробок, перевязанных веревками. Струйки дождя тянулись и по внутренней стороне потрескавшегося вагонного окна. Вагон был двухэтажный, со стоячими местами на каждом уровне и металлическими сиденьями без подушек. Кругом кашляли и чихали. Как в Азии и Африке, народ сморкался двумя пальцами. Непрестанно плакали дети.
Тулучешти, Фолтешти, Тыргу-Бужор. Каждый город в Молдавии похож на предыдущий. Клубы дыма от сжигаемого бурого угля и прочие виды загрязнения окружающей среды, которые не влекут за собой никакого развития. При всем дискомфорте, который я уже испытывал, вид из окна вызывал сильное желание никогда не покидать этот поезд. Казалось, кто-то раскинул огромный желто-зеленый восточный ковер и обильно полил его дегтем.
Купола церквей, напоминающие тюрбаны, отсутствие автомобилей, процессии крестьянских телег, запряженных лошадьми (Брэм Стокер в «Дракуле» называл их leiterwagen – арба), ожидающих у переезда, пока пройдет поезд, и горизонтальность ландшафта, в котором один длинный пологий холм незаметно переходил в другой, при других обстоятельствах могли вызвать у романтически настроенного путешественника мысли о встрече Европы с азиатской степью. Но все это существовало в грязи и потоках воды, которые несли всевозможный мусор. В поле моего зрения не попалось ни одной мощеной улицы. На протяжении километров над землей тянулась одна, казалось, бесконечная канализационная труба. Эта покрытая струпьями, ржавая труба около метра в диаметре проходила через кварталы жилых домов, детские площадки, поля, заводские дворы, к ней присоединялись вспомогательные трубы… В Южной Молдавии мне встретилось поистине незабываемое зрелище: пастух, перегонявший стадо через горный ручей, над которым проходила такая же канализационная труба, в некоторых местах подвязанная почерневшими тряпками.
Поезд проходил через ряд туннелей. Поскольку в осветительных приборах на потолке вагона лампочек не было, кое-кто из пассажиров в туннеле зажигал свечки, которые очень выразительно освещали их темные блестящие глаза. В их взгляде читался глубочайший, почти набожный пессимизм, отражающий, словно генетический процесс, все кошмары, которые выпали на долю многих поколений их предков.
Дальше мне надо было пересесть на другой поезд.
В Румынии, как отметил ирландский путешественник Уолтер Старки, в 1929 г. железнодорожный «перрон» являлся «эвфемизмом» узкого пространства между путями. Спустя шестьдесят лет я стоял на таком же «перроне» под проливным дождем: это был ряд бетонных блоков шириной не более двух метров, отделяющих один путь от другого. Два поезда – один товарняк, другой пассажирский – пришли одновременно с противоположных сторон. Созданный ими ветер чуть не сбил меня с ног, а торчащая из одного товарного вагона металлическая балка едва не лишила жизни. Вокруг меня люди стояли ровно посередине «перрона», прижавшись плечом к плечу, со стоическим выражением на лицах. Они так жили всегда.
В следующем поезде народу оказалось еще больше. Толпа загнала меня в угол, где я стоял на клочке пространства между двумя рядами сидений. Я сосредоточил взгляд на очередной бесконечной канализационной трубе, чтобы подавить позыв к мочеиспусканию. Этого хватило на пятнадцать минут. Вытерпев еще пятнадцать, я понял, что дальше не продержусь.
– Toaleta, – произнес я в окружающую толпу.
Молодой парень приподнял брови, словно выражая свое сочувствие, и показал пальцем в дальний конец вагона. Люди стояли, тесно прижавшись друг к другу, по колено в багаже. Тем не менее, практически не выражая недовольства, эта суровая на вид толпа каким-то образом стала раздвигаться, освобождая мне путь. «Multsumesc» (спасибо), – бормотал я. В туалетной кабинке я обнаружил семью цыган, расположившуюся там со всеми своими пожитками. Женщина выскользнула. Мужчина ясно дал понять, что намерен остаться и охранять свои мешки. Не протестуя, я молча сделал свое дело.
В туалете оконное стекло попросту отсутствовало, и дождь заливал всю кабинку. Но, по крайней мере, воздух здесь был свежее. На стенке над унитазом кто-то нацарапал: «Jos nomenklatura!» (Долой номенклатуру!)
Через девять часов после отъезда из Галаца я прибыл в Яссы – голодный, замерзший, заляпанный грязью и слегка униженный. Как бы повлияла на мое сознание такая жизнь день за днем, год за годом, задумался я. Но ответ я уже знал: я вспомнил Мирчу и мужчину в широких подтяжках.
Город Яссы сами румыны называют Яш (Iaşi). Ситвелл писал, что из всех румынских городов Яссы «чаще всего упоминаются в истории».
Начиная со Средних веков Яссы были важнейшим городом в Молдавии, территории, протянувшейся вдоль украинских степей и защищаемой лишь невысокими холмами, которые, словно обнаженные заключенные, стоят на ледяном ветру. На протяжении XVIII–XIX вв. русские шесть раз захватывали город. В 1850-х гг., когда Бухарест еще был маленьким городком, Яссы стали рассадником румынского национализма. В 1859 г. Александру Ион Куза провозгласил здесь рождение первого румынского государства современности. В 1870–1880-х гг. великий румынский поэт Михай Эминеску, живший в Яссах, написал «Сатиру III» о длинноносых и крючконосых иностранцах:
На смену гению народному грядет отребье грязное и нечестивый сброд[35].В те же годы, когда Эминеску писал эти стихи, в Яссах жил Николае Иорга, величайший румынский интеллектуал, которого в старости до смерти замучили фашисты-легионеры за то, что он был недостаточно убежденным националистом и антисемитом. Немного раньше, на рубеже веков, в Яссах родилась Лупеску. Во время Первой мировой войны там же нашла убежище королева Мария и другие члены королевской семьи, когда немцы захватили Бухарест. В 1916–1918 гг. Яссы были столицей свободной Румынии. После войны в Ясском университете преподавал профессор А. Л. Куза (не имевший никакого отношения к Кузе, который в 1859 г. провозгласил независимость). Профессор Куза позже будет гордиться тем, что его первое антисемитское выступление пришлось на год рождения Гитлера (1889). Одним из учеников профессора Кузы был Корнелиу Зеля Кодряну, основатель фашистского Легиона Архангела Михаила. В 1920-х гг. Кодряну начал политическую карьеру в Яссах с организации антисемитских демонстраций в кампусе Ясского университета имени Кузы (того, кто провозгласил независимость).
Во многом за этой ненавистью скрываются давние страхи и чувство уязвимости. До 1918 г. Яссы находились всего в двух десятках километров от российской границы, проходившей по реке Прут. На другом берегу Прута – восточная половина Молдавии, известная как Бессарабия – по фамилии семейства валашских феодалов Басарабов, которые первыми поселились в этом регионе. По условиям мирного договора, заключенного после Первой мировой войны, от расчлененной Австро-Венгерской империи к Румынии отошла не только Бессарабия, но и северная часть Молдавии. Но факта обретения дополнительной сотни километров между Яссами и советской границей, которая стала проходить не по Пруту, а по Днестру, оказалось недостаточно, чтобы погасить вспыхнувший в Яссах после Первой мировой войны костер национальной вражды, который поддерживался демократизацией румынской политики, мировым экономическим кризисом, подъемом фашизма в Европе и неудачным правлением короля Кароля II в 1930-е гг.
В июне 1940 г. Сталин захватил Бессарабию. На последующие полвека граница вновь передвинулась к Пруту и оказалась почти в переделах видимости из Ясс. В результате революции 1989 г. жители Ясс наконец получили свободу – впервые за пятьдесят лет – выразить все, что они обо всем этом думают.
Отель «Траян» представлял собой огромный свадебный торт в стиле ампир и располагался на краю центральной площади Ясс. Вестибюль и прилегающий ресторан несли на себе все следы былого величия: красно-коричневые ковры, заляпанные темными пятнами; заплеванные ведерки для шампанского с горами окурков; кутающиеся в пальто мужчины и женщины с грязными лицами и желтыми от никотина пальцами; попрошайничающий цыганенок, бродящий от стола к столу; официантки в белых носках, частично прикрывающих волосатые ноги, сидящие стайкой в углу и не обращающие внимания на посетителей.
За стойкой администратора грозно возвышалась пергидрольная блондинка с массивной грудью, дешевой бижутерией и плохо накрашенным лицом. Чувствуя себя грязным и замерзшим, я спросил по-французски, есть ли у них одноместные номера.
– Vous, – фыркнула она. – C’est trop cher pour vous [для вас слишком дорого].
Она предложила мне пойти в отель «Унирея», настоящую ночлежку по соседству.
Я спросил, сколько стоит одноместный номер в «Траяне». Она сказала – 63 доллара.
– О, это меня устроит, – воскликнул я, доставая карточку American Express.
Она повертела ее, изучая со всех сторон. На лице выразилось непонимание.
– Валюта, – сказала она, для доходчивости потерев большим и указательным пальцами.
Я показал пачку американских долларов. Она улыбнулась и протянула мне ключ от номера. Коридорных в отеле не предполагалось.
Номер, со всей его белой мебелью в стиле ампир, ярко-красной обивкой и фиолетовыми обоями, создавал впечатление вульгарного борделя. Не было мыла, не было туалетной бумаги, и, как я позже выяснил, временами не бывало воды. Я позвонил администратору. Мне сказали, что туалетную бумагу принесут немедленно. Впрочем, мыло оказалось дефицитом. Я позвонил в обслуживание номеров. Мне сообщили, что красного вина, пива и минеральной воды в ресторане нет. Есть только белое, но теплое, потому что нет льда. В меню была только свинина. Она оказалась холодной, и ее трудно было резать.
Румыния представляет собой оригинальную смесь: люди с итальянской внешностью, но выражением лиц как у русских крестьян; архитектурный фон, часто напоминающий Францию и Центральную Европу, но сервис и материальные условия почти как в Африке.
Ближе к вечеру дождь перестал, из-за облаков стало проглядывать солнце. Я решил прогуляться.
Если бы я мог как-то отгородиться от оскорбляющих взгляд и вызывающих раздражение сооружений коммунистической эпохи, размещенных в стратегически важных в зрительном отношении точках по всему городу, Яссы могли бы показаться вполне зелеными и монументальными. Достоверная, хотя и провинциальная копия Вены с атмосферой университетского города. Парк перед покрытым позолотой зданием Национального театра в необарочном стиле (построенном в конце XIX в. и считающимся одним из самых красивых зданий Румынии) украшен статуями поэтов, композиторов и педагогов прошлого. Среди них и памятник национальному поэту Эминеску. Но лабиринт зеленой изгороди, из-за которой выглядывают все эти скульптуры, не подстрижен, из-за чего парк вызывает ощущение запущенности, словно человек, забывший побриться. Рядом с парком – угловатое кирпичное здание уже не функционирующего комитета коммунистической партии.
Расположенный неподалеку кафедральный собор построен в 1833 г. в неоклассическом стиле. Он стоит на зеленом возвышении, с которого открывается вид на дымовые трубы нижнего города. Но он не господствует на этом возвышении: сбоку врезается гигантская жилая застройка – сознательный бетонный блицкриг, направленный против всех религий и традиций, – чудовищного вида трущобы, все еще недостроенные, расположены настолько близко к собору, что торчащие балки почти касаются его.
В соборе хранятся мощи святой Параскевы Пятницы – в золотом гробу со снятой крышкой. Я видел толпу румын, стоящих в очереди, чтобы прикоснуться губами к скелету. Меня поразили религиозный пыл и ужас на лицах верующих. Люди не просто непрерывно осеняли себя крестным знамением; они делали это, опускаясь на колени, при этом их лица были в поту. Они буквально обливались потом, хотя в соборе было холоднее, чем снаружи. Некоторые верующие писали святой Параскеве записки – причем не по одной. Каждое прошение писалось с максимально возможной скоростью, записка за запиской. Только в священных местах шиитов на Ближнем Востоке я ощущал подобную напряженную и удушливую религиозную атмосферу, заряженную взрывчатой энергией. Это меня испугало.
– Румыния слишком далеко, чтобы Запад нам помогал. Чем тяжелее и кровавее будет идти распад Российской империи, тем лучше для нас. Для нас это единственный способ прийти к демократии и воссоединиться с нашими братьями в Бессарабии.
Петру Бежан – редактор еженедельной газеты Timpul («Время»), которая родилась через несколько недель после декабрьской революции 1989 г. и создавалась студентами Ясского университета имени Кузы. Лозунгом газеты Timpul стало религиозное выражение «Adverat a inviat» («Воистину воскресе»). Выпуск, с которым позволил мне познакомиться Бежан, содержал несколько статей о присоединении Бессарабии к Румынии в 1918 г. и о «культурном геноциде», который совершали русские в Бессарабии с начала Второй мировой войны. Еще была статья о православных святых и колонка, посвященная поэзии Эминеску.
Бежан говорил мне, что Румынии необходима «вторая революция», чтобы искоренить «все следы насилия, бюрократии и социализма. Им не купить нас яйцами, кофе и мясом». Бежан утверждал, что генерал Ион Антонеску, пронацистский вождь и правитель Румынии во время Второй мировой войны, был патриотом и всегда действовал исключительно в интересах Румынии.
Кабинет Бежана был заставлен старыми пишущими машинками. На нем была фиолетовая рубашка и узкий коричневый галстук, судя по всему, из искусственной кожи. Короткой стрижкой давно не мытых волос и нарочито суровым выражением лица он напоминал русского революционера 1917 г. А зеленые глаза были как у заключенного в глубокой шахте, который пристально смотрит на маленький кружок солнечного света вверху, не зная, как до него добраться.
Я покинул кабинет редактора Timpul и отправился в редакцию Opinia Studeneasca («Студенческое мнение»), еще одного еженедельного издания, которое стали выпускать студенты Ясс после свержения Чаушеску. Найти Opinia Studeneasca оказалось непросто. Я обратился за помощью к студенту, которого встретил на улице. Он рассказал, что работал техником на строительстве дунайского канала в Чернаводэ. Мы заговорили о революции, и этот студент сказал, что Чаушеску «не умер, а просто скрывается». Вероятно, Чаушеску часто использовал двойников для публичных мероприятий, и одного из таких двойников и казнили. «Если приглядишься внимательно к лицу на видеозаписи, поймешь, что это не Чаушеску». Я заметил, что у некоторых людей лицо после смерти резко меняется. «Но не настолько», – возразил он. Я вспомнил «Дракулу», где Брэм Стокер пишет о том, что «все известные предрассудки мира сосредоточились в подкове Карпатских гор, словно она – эпицентр какого-то водоворота воображения».
Время шло к полуночи. Накрапывал дождь. Большая комната редакции Opinia Studeneasca была полна студентов, сидевших вокруг стола с несколькими старыми пишущими машинками, которые я уже видел в Timpul. Впрочем, никто не печатал. Все непрерывно что-то говорили пониженным, заговорщицким тоном. Все курили дешевые сигареты без фильтра. Но чем-то эти студенты походили на интеллектуалов американских кампусов 1960-х гг. Суровые парни, в дырявой обуви и поношенной одежде, которая была действительно поношенной, с грязными руками, безжизненными волосами и землистым цветом лица, говорившим о жизни в вынужденной бедности. Глаза их напоминали одинокого человека, оказавшегося в темном переулке; страхи этих студентов были реальными и физическими.
– Студенты в декабре погибли на улицах, а коммунисты и Секуритате остались. Продажные профессора, которые брали взятки у иностранных студентов, чтобы они могли перейти на другой курс, по-прежнему преподают в Ясском университете, а Секуритате их защищает, – говорил Кристиан Мунджиу.
У Мунджиу было дружелюбное выражение лица. Он легко улыбался, черные волнистые волосы были нормальной длины, на нем была джинсовая куртка западного производства. В отличие от всех присутствующих в редакции Opinia Studeneasca его легко можно было принять за студента американского университета. Он говорил мне:
– В Румынии сегодня такое отсутствие политической культуры, что этого просто невозможно представить… Чаушеску уже нет, но Илиеску почти такой же, как он, и станет еще хуже. Эти люди – Петру Роман [в то время премьер-министр] и Силвиу Брукан [бывший посол Румынии в США, интеллектуал и член коммунистической партии] – такие же автократы, которые используют проблемы власти.
Мунджиу испытывал страх и унижение. Страх – потому что «Секуритате по-прежнему в силе», а унижение – потому что декабрьская революция 1989 г. должна была начаться в Яссах, а не в Тимишоаре.
14 декабря, за два дня до первой демонстрации в Тимишоаре, здешние студенты подготовили публичное протестное выступление на центральной площади у отеля «Траян». Но службе безопасности стало об этом известно, и они заблокировали площадь, использовав для этого все трамваи, такси и прочий транспорт, оказавшийся поблизости.
– Нас оказалось легко подавить, – с горечью говорил Мунджиу. – Мы не смогли выступить так, как студенты в Тимишоаре. Тимишоара теперь – город румынской революции. Она ближе к Западу. Яссы могут гордиться великими традициями национализма, но мы слишком близко к России, к Востоку. Все влияние, которое мы испытываем, идет с Востока. Плохое влияние.
Через несколько дней я снова встретился с Кристианом Мунджиу в редакции Opinia Studeneasca. На этот раз он был со своей старшей сестрой Алиной, дипломированным врачом, которая хотела бросить медицинскую практику и стать писателем. Она уже собиралась опубликовать свой первый роман.
Мунджиу рассказывал мне о своей семье. Время от времени сестра перебивала его и уточняла детали.
– Обе мои бабушки и мать родились на том берегу Прута, в Бессарабии. Мой дед был в русском плену во время Второй мировой войны, когда Румыния была союзницей Германии. Нацисты неплохо к нам относились, совсем неплохо. Поверь, при нацистах мы жили гораздо лучше, чем при коммунистах. Дед два раза бежал из русского лагеря для военнопленных. В первый раз его поймали и вернули в лагерь. Во второй раз он шел пешком много ночей, но его снова поймали, уже около Прута. Русские собирались его казнить, но что-то произошло, я точно не знаю, и другой румын спас ему жизнь. Десять лет после окончания войны дед с бабушкой каждую ночь слушали радио «Свободная Европа». Они надеялись, что американцы избавят Румынию от русских. Они верили, что американцы могут что-то сделать. Но вы, американцы, горько разочаровали их. Когда румынская армия в конце Второй мировой войны отступала из Бессарабии, у другой моей бабушки было сорок восемь часов, чтобы оставить дом, родителей, брата и все, что у нее было. Позже она узнала, что русские казнили ее отца и брата. Она винит в этом американцев, потому что они не помогли Румынии в борьбе против русских. Даже сейчас, когда мои старшие родственники собираются вместе, они постоянно говорят о Бессарабии, о том, какие там произошли изменения, о том, что сделали русские их бывшим соседям по деревне. В школе нас учили, что Кароль II и Антонеску потеряли румынские территории, потому что вступили в союз с нацистами. Но от родителей мы узнавали правду. Мы знаем, что Антонеску – великий патриот, герой. Преступниками были русские и румынские коммунисты.
Я спросил его про евреев.
– Евреи – не патриоты. Румыния сотрудничала с нацистской Германией, а румынские евреи помогали русским. Пойми, во время войны евреи здесь, в Яссах, контролировали все. Даже к концу войны они были очень влиятельными.
– Но в начале войны в Яссах был еврейский погром. Какое влияние могло после этого остаться у евреев? – спросил я.
– Многие евреи пережили погром. Они до сих пор обладают большим влиянием в местной экономике.
– Сколько тебе лет? – спросил я.
– Двадцать два.
– Ты веришь всему, что тебе рассказывали бабушки с дедушками?
Некоторое время он помолчал, потом произнес:
– Да, я верю всем фактам. Но допускаю, что их интерпретация не всегда верна.
– Кстати, вполне понятно, почему евреи помогали русским, – заметила Алина. – Я их в этом нисколько не виню. Здесь все – и мы, и евреи – зажаты между великими историческими державами. В Румынии каждый защищается с помощью хитроумных альянсов.
Из-за географически непонятного положения Румынии на задворках Европы события в этой стране, сколь бы ужасными они ни были, для людей Запада всегда имели отдаленное, второстепенное значение. Холокост в Румынии не стал исключением из этого правила. Графиня Уолдек и другие журналисты покинули «Атене-Палас» в январе 1941 г., но история продолжила свой зловещий ход, хотя и без западных наблюдателей, которые могли бы его описать.
В январе 1941 г. кондукатор Антонеску подавил танками и войсками путч легионеров Архангела Михаила в Бухаресте. Далее на повестке дня у него стояло возвращение Бессарабии, которую Сталин аннексировал семью месяцами ранее при полном бездействии Кароля II. Это можно было сделать, только заключив союз с нацистской Германией. Антонеску ясно дал понять Гитлеру, что румынские войска с энтузиазмом поддержат его вторжение в Советский Союз, если частью сделки будет освобождение Бессарабии. 22 июня 1941 г. нацисты напали на Советский Союз. 25 июня румынская армия начала форсирование Прута для освобождения Бессарабии. Некоторые румынские солдаты дезертировали и укрылись в домах местных жителей, в том числе, вероятно, и местных евреев. По Яссам распространился дикий слух, что еврейские семьи укрывают дезертиров. Затем запустили новый – что это вообще не румынские солдаты, а советские парашютисты, высадившиеся ночью на окраинах города. Слухи, ложные от начала и до конца, стали причиной погрома. В ближайшие дни румынская армия в Яссах и соседних деревнях уничтожила 4000 евреев. Затем из ясского региона депортировали еще 8000 евреев. Солдаты заперли их в вагонах для скота, которые из-за общей неразберихи и отсутствия четких приказов несколько дней колесили по Молдавии, пока все люди в вагонах не погибли от жажды и удушья.
Евреи, оставшиеся в Яссах, всю войну жили в страхе перед новыми погромами и поездами смерти. Но этого не произошло – по крайней мере, на этой стороне Прута.
Румынские войска форсировали Прут. Антонеску был одержим захватом новых территорий. Даже после того как армия вышла к берегам Днестра (реки, текущей параллельно Пруту в сотне километров к востоку и служившей восточной границей Бессарабии с Украиной), он не успокоился. Антонеску отдал приказ войскам продолжать наступление на территорию Украины и в августе 1941 г. провозгласил образование «республики Транснистрия». Поскольку нацистская Германия занималась уничтожением евреев, а Румыния была союзницей Германии, Антонеску решил, что евреи, живущие на пути наступления румынской армии, являются потенциальной пятой колонной. Это предположение подкреплялось рассказами и слухами, доходившими до Антонеску, будто бессарабские евреи помогают русским, а еврейские дети забрасывают гранатами румынских солдат. «Евреи встречали Красную армию цветами», – говорил Антонеску.
В 1941–1942 гг. при Антонеску произошла депортация 185 000 евреев из Бессарабии и северной части Молдавии (тоже недавно отвоеванной у русских) в Транснистрию, где передовые части румынской армии создали лагеря уничтожения – единственные в Европе, организованные не Германией. С конца 1941 до середины 1942 г. на этом отдаленном и невнятном театре военных действий румынская армия уничтожила их всех до единого, предварительно раздевая догола на морозе, а затем расстреливая. В нескольких случаях, когда не хватало патронов, они расстреливали только взрослых, а детей хоронили заживо.
Это оказалось чересчур даже для Адольфа Эйхмана, главного эсэсовца, ответственного за уничтожение европейского еврейства. В начале 1942 г. Эйхман обратился к Антонеску с просьбой временно прекратить убийства, чтобы эту работу более чисто выполнили Einsatzgruppen (айнзацгруппы – специализированные эскадроны смерти нацистской Германии) после того, как нацисты завершат завоевание Украины, на что, по мнению Эйхмана, потребуется всего несколько месяцев. Но румын уже обуяла лихорадка убийств. К несчастью для евреев из Бессарабии и северной части Молдавии, Антонеску проигнорировал просьбу Эйхмана.
Но к концу лета 1942 г. созданные румынами лагеря смерти в Транснистрии стали закрываться. Антонеску при всех его злодеяниях всегда обладал острым нюхом к политическим переменам. Он рано понял необходимость альянса с нацистской Германией. В 1944 г. он предвидел собственное падение. Но уже в сентябре 1942 г., в разгар Сталинградской битвы – ключевого момента войны – Антонеску начал рассматривать возможность того, что Гитлер может и не победить. Он понял, что наведение мостов с Западом требует кардинального изменения политики Румынии в отношении евреев. В 1943 г., когда наступающая советская армия стала отвоевывать территории, захваченные Румынией, – сначала в Транснистрии, затем в Бессарабии, – Антонеску озаботился созданием у международных еврейских организаций собственной репутации как пронацистского лидера, готового сотрудничать с этими организациями в стремлении спасти евреев и даже помогать переправлять их в Палестину.
Впрочем, политические соображения не могут адекватно объяснить его невероятный поведенческий кульбит. Историк Рауль Хильберг, описавший холокост в Румынии в своей книге 1961 г. «Уничтожение европейских евреев» (The Destruction of the European Jews), утверждает, что во время Второй мировой войны ни в одной другой европейской стране, за исключением самой Германии, национальный характер не сыграл в судьбе евреев такой решающей роли, как в Румынии.
К сожалению, румынская история представляет собой бесконечную чехарду суетливых и противоречивых действий, направленных на то, чтобы избежать катастрофы. Схема отношения Антонеску к евреям мало чем отличается от отношения его и его соотечественников к нацистам и русским. Как указывает Хильберг, румынские солдаты быстро завоевали у немецкого военного командования репутацию смелых и беспощадных воинов. Но в 1944 г., когда советские войска форсировали Прут и вступили на территорию Румынии, румыны не просто перешли на их сторону, чтобы воевать с нацистами, но сделали это с энтузиазмом. Румынские войска так же быстро произвели впечатление на военное командование союзников своей агрессивностью в борьбе против своих бывших немецких и венгерских соратников в Трансильвании, на территории, которую румыны очень хотели вернуть себе – так же, как раньше мечтали о присоединении Бессарабии.
Для румынской истории также характерны взрывные и краткосрочные пароксизмы страсти. Эта особенность в сочетании с умением совершать выгодные и противоречивые сделки, вдобавок к приступам сифилитической лихорадки Антонеску, проливает свет на характер холокоста в Румынии. По мнению Хильберга, румыны просто устали. Вторжение в Бессарабию вызывало всплеск национализма и антисемитизма. Ликуя в связи с глубоким вторжением на территорию Советского Союза, румынские войска обезумели. Тем не менее в практическом смысле программа уничтожения, эмоциональная траектория действий румынской армии в Транснистрии была более характерна для погрома: невероятная жестокость, особенно по отношению к детям, на протяжении относительно краткого промежутка времени. Случайно или сознательно, но Антонеску и его армия стали утомляться от убийств именно в тот момент, когда ход войны начал оборачиваться против Румынии и нацистов. Антонеску пресытился убийствами евреев. Его ненависть к ним полностью рассеялась. «Из-за этих ужасных убийств у меня будет дурная репутация», – произнес он в середине 1942 г.
Но кондукатор мог не переживать по поводу своей будущей репутации. В 1944 г. он был свергнут, а в 1946 г. казнен коммунистами как военный преступник. Однако в 1990 г. Антонеску считался в Румынии самой популярной исторической личностью XX в., заметно превосходящей любого члена бывшей королевской семьи.
В 1990 г. мало кто помнил о короле Кароле I и королеве Марии, хотя именно они в Первую мировую войну удержали страну от альянса с кайзеровской Германией, что оставило королеве Марии пространство для маневра, в результате которого страна в 1918 г. получила Бессарабию, Северную Молдавию и Трансильванию.
Свергнутый король Михай по-прежнему страдал от десятилетий коммунистической дезинформации, которая прочно засела в головах как крестьянских слоев населения, так и интеллектуалов[36]. В качестве номинального короля молодой Михай продумывал заговор против Антонеску и нацистов, когда это было и непопулярно, и просто опасно. В 1944 г., когда ему было всего двадцать два года, он умело организовал свержение Антонеску, после чего повел политическую борьбу против коммунистов. Несмотря на слабую поддержку со стороны Соединенных Штатов и западноевропейских государств, Михай отчаянно маневрировал за спиной русских, пока они все-таки не вынудили его в 1947 г. покинуть страну. С тех пор Михай жил в благородном изгнании в Швейцарии. Михай – первый из Гогенцоллернов, для которого румынский – родной язык, и он говорит на нем без немецкого или английского акцента.
Но Антонеску удостоился от румын только похвалы. Он – «патриот», который всегда действовал в интересах Румынии, и «жертва» коммунистов, безосновательно обвинивших его в военных преступлениях, хотя всем известно, что евреев в Транснистрии убивали либо русские, либо немцы. В Румынии единодушно считают, что румыны не имеют к этому никакого отношения.
Несмотря на свое отношение к истории Второй мировой войны, Петру Бежан, Кристиан и Алина Мунджиу и другие студенты Ясского университета, с которыми я разговаривал, больше не испытывают ненависти к евреям. Теперь их гнев направлен на арабов. Это нуждается в пояснении.
Чем дольше Чаушеску оставался у власти, тем больше стиль его правления напоминал Кароля II. Кароль своим примером поощрял официальную проституцию. Чаушеску поддерживал сопоставимые виды деятельности, хотя и не столь прямо. Исходя из политических соображений, Чаушеску распорядился принимать в университеты Ясс, Бухареста и Клужа большое количество арабских студентов. Арабы быстро завоевали репутацию злостных прогульщиков, направляя свою энергию на другие занятия. Румынские студенты, с которыми я разговаривал, – и западные высокопоставленные чиновники, у которых мне доводилось в течение ряда лет брать интервью на эту щекотливую тему, – были глубоко убеждены, что значительное количество арабских студентов, приехавших «по обмену», были вовлечены в нелегальную деятельность, в первую очередь – в переправку наркотиков из Турции и Болгарии через Румынию на Запад при непосредственном участии Секуритате. Наркоторговля приносила многим арабам, не говоря уж о сотрудниках Секуритате, значительные суммы денег в твердой валюте. По словам одного румынского профессора, в эпоху Чаушеску холлы отелей «Траян» и «Унирея» в Яссах, «Интерконтиненталь» в Бухаресте и отеля «Напока» в Клуже превратились в «бордели», где «румынские проститутки открыто соперничали между собой и унижали друг друга в стремлении привлечь внимание этих арабских парней», чьи карманы были набиты долларами.
– Мы ненавидим арабских студентов. Мы знаем, что наша культура – вне зависимости от режима – европейская. Арабы – представители другой культуры, менее развитой, и не уважают нас. Они только покупают и унижают нас и наших женщин. Они и профессоров покупают. Все в университете знают, что арабы – самые слабые студенты. В их странах такие студенты были бы нищими. А здесь они богачи, – бушевал Мунджиу.
Другой студент говорил мне, что «арабы относятся к нам как новые феодалы. Когда им нужно приготовить барана или козла для какого-то своего религиозного праздника, они едут в деревню и платят крестьянам, чтобы те это сделали. В этом нет ничего плохого. Но видел бы ты выражение их лиц! Арабы ведут себя так, словно крестьяне – это их собственность».
Я пытался возразить, что румынам не следовало бы судить об арабской культуре по студентам, которых направляли на учебу в Румынию, поскольку в арабских странах принято отправлять своих лучших студентов учиться на Запад, а самых слабых и несерьезных – в страны Восточной Европы.
Мне не верили.
– Арабы притесняют нас! – выкрикнул один из студентов.
Адриан Поручиуч, специалист по румынскому фольклору, для объяснения того, что происходит в Румынии, рассказал мне местную притчу о молодом герое, который отрубил голову злому дракону. Из шеи хлынула кровь, и брызги на десятилетия заразили окружающую местность.
– Представь себе, что студенты из Тимишоары, которые начали декабрьскую революцию, и есть этот молодой герой, – говорил Поручиуч, – а все остальное, что ты слышишь и видишь вокруг, – невежество людей в отношении собственной истории, бесчувственность, нетерпимость, пьяное насилие – капли драконьей крови. Особенно в Молдавии, – продолжал он, – румыны были зажаты в клещи между тремя империями – Австро-Венгерской, Османской и Российской, царской или советской, не имеет значения. Люди здесь привыкли к ненависти.
Поручиуч, высокообразованный человек, родился в крестьянской семье в небольшой молдавской деревушке. Мы сидели за бутылкой белого молдавского вина в ресторане отеля «Траян».
– Это одно из лучших румынских вин, – сказал он. – В нем нет химикатов, как в прочих.
Я рассказал ему о теории массовых символов Элиаса Канетти.
– У хорватов – их католическая церковь. У сербов – средневековые монастыри и Косово поле, у евреев – Исход из Египта и т. д. Что, на твой взгляд, можно назвать массовым символом для румын? – спросил я.
Поручиуч не спеша налил себе полный бокал вина.
– Мне нравятся такие вопросы, – наконец произнес он, и я увидел знакомый блеск в его глазах. – Карпатские горы и леса – первая естественная крепость на пути Понтийской степи [степи на юге России и Украины]. В Средние века румыны защищали свои церкви от иноземных захватчиков, перенося их глубоко в лес. Посмотри, где расположены все наши монастыри. Во времена турецкого господства наша церковь, как все православные церкви, стала центром нашей культуры. Но психологически церковь – нечто большее. Она стала высшим символом нашей души и нашего дома, чья безопасность всегда была под угрозой разорения и голода. Дом, семья, сидящая за скромным столом, на котором есть еда, – это массовый символ румын. Таким образом, ты должен обеспечивать неприкосновенность своего дома и не допускать его разрушения. Мы – народ, у которого чувство ненависти, если проанализировать, может быть сведено к страху за пустой желудок. Высшей гордостью для румын в эпоху Чаушеску было обеспечение едой своей семьи. Правление Чаушеску не сильно отличалось от турецкого. Сознанием наш народ все еще живет в лесах, только начинает снимать запоры с дверей и с опаской, подозрительно оглядывается вокруг.
Глава 8 Земля за замком Дракулы: расписные монастыри Буковины
Брэм Стокер никогда не бывал в Румынии. Но он хорошо поработал в Британском музее. В романе «Дракула», впервые опубликованном в 1897 г., Стокер расположил «Замок Дракулы» «на границе трех стран: Трансильвании, Молдавии и Буковины, посреди Карпатских гор… это один из самых диких и малоизвестных уголков Европы».
На самом деле Буковина – северная часть Молдавии, аннексированная австрийскими Габсбургами в 1774 г. Они и назвали новое приобретение «Буковиной», «страной буков», по господствующей в этих местах породе деревьев. Для большей запутанности ситуации Буковина сама делится на две части – северную и южную. В 1940 г. северную часть вместе с Бессарабией быстро прибрал к рукам Сталин, но в 1941 г. эти территории освободила армия Антонеску. Евреев из Северной Буковины собрали и переправили в Транснистрию, где они погибли от рук румынских солдат. В 1943 г. советские войска снова заняли и Бессарабию, и Северную Буковину. Южная часть Буковины всегда принадлежала Румынии. Стокер поместил замок Дракулы в том месте, где Южная Буковина граничит с Молдавией и северо-восточной оконечностью Трансильвании. Джонатан Харкер, один из повествователей в романе «Дракула», отправляется в конном экипаже к замку Дракулы с трансильванской стороны горного перевала. Но экипаж и остальные пассажиры продолжают путь, минуя замок, и после перевала оказываются уже в Южной Буковине. Этот регион, видимый из окон мифического замка графа Дракулы, и сейчас, спустя сотню лет после публикации романа, остается «одним из самых диких и малоизвестных уголков Европы».
Накануне Второй мировой войны Сачеверелл Ситвелл сделал наблюдение, которое справедливо по отношению к Буковине и в 1990 г.: «Ни в одном уголке мира, где я побывал, будь то в Испании или Португалии, в Швеции или в гэлтахтах Северной Ирландии, нет такого ощущения отдаленности… это земля зеленых лугов и хвойных лесов. Она на непостижимом расстоянии от газет и поездов».
По совету Адриана Поручиуча я отправился из Ясс в леса крайнего румынского севера, то есть в Южную Буковину, которая благодаря своей чрезвычайной географической удаленности, подмеченной Стокером, Ситвеллом и другими давно покойными авторами, и в социальном, и в экологическом плане сумела избежать губительного влияния коммунизма.
Как и в других сельских регионах Румынии, я видел стога сена и повозки, на которых восседали крестьяне в овчинных безрукавках, белой домотканой одежде и черных флисовых головных уборах. По всей стране такие картины сплошь и рядом соседствовали с промышленными сооружениями и дешевыми жилыми кварталами, создающими впечатление индустриальной нищеты. Но в Буковине они напоминали идиллические картины Европы начала века.
Пологие холмы были покрыты не только буками, но и березами, соснами и массивными елями с чернеющими остроконечными верхушками. Вдоль дорог росли тополя и липы, и, насколько хватало глаз, всюду тянулись яблоневые сады. Наслаждаясь отсутствием дымящих труб и блаженствуя под синим небосводом после нескольких дождливых дней, я испытывал ощущение, словно черно-белая часть моего румынского путешествия внезапно закончилась и началось цветное кино.
Угнездившаяся между Карпатскими горами и советской границей, Южная Буковина была по большому счету забыта Чаушеску. Коллективизация здесь вряд ли проводилась, и большинство сельскохозяйственных земель осталось в частном владении. Эти факторы наряду с традиционной аккуратностью, которая, по словам местных, передалась от австрийцев, чье правление здесь закончилось только в 1918 г., объясняют, почему почти каждый аспект ландшафта просто светится гордостью за своих хозяев.
Вместо бетонных заборов я видел свежевыкрашенные деревянные палисадники. В длинных гривах крестьянских коней красные помпончики. Жилые дома украшены резными деревянными наличниками и металлическими решетками. Я видел оригинальные пугала на огородах и простые деревянные кресты под покрытыми дранкой крышами: они, как пишет Старки в Raggle-Taggle, «говорят об очаровательной скромности религии, которую исповедуют крестьяне».
В течение нескольких дней путешествия по Буковине мне попались на глаза лишь один или два трактора; местные крестьяне пользуются мотыгами и серпами. Но из всех регионов страны, которые я уже повидал и которые мне предстояло увидеть позже, сельская часть Буковины, расчерченная зерновыми и картофельными полями, оставляла впечатление наиболее процветающей и благополучной.
Джон Рид проехал по Южной Буковине в повозке, которую одолжил ему местный фермер-еврей: «Здесь земля застыла величественными волнами. ‹…› Края холмов обрываются в долины, как резкое падение сокола. На пестрых склонах множество рощиц, издалека пушистых на вид. Далеко на западе уходит за горизонт бледно-голубая гряда Карпатских гор. В огромных складках местности прячутся утопающие в деревьях поселения с глинобитными домишками, неровно и прекрасно вылепленными вручную, выкрашенными безупречно белой краской и аккуратно крытыми соломой».
Поразительно, но здесь мало что изменилось. Леса Буковины, похоже, существуют в райской петле времени. Здесь я путешествовал пешком и автостопом, поднимая указательный палец (в отличие от остальной Румынии, где голосуют большим пальцем). Автостоп в Румынии не требует особой смелости, как в иных местах. В данном случае безумство Чаушеску сработало в мою пользу. Нехватка личного транспорта, кошмар железнодорожных поездок и коллапс системы междугородного автобусного сообщения сформировали неформальную сеть взаимопомощи автомобилистов, действующую по всей стране. В сельских районах Румынии голосуют все, от детей до бабушек. Большинство водителей останавливаются. Я собирался в основном ходить пешком и испытывал даже некоторое разочарование, когда рядом со мной останавливалась машина, притом что я и не выставлял палец. По традиции таксисту платят примерно 10 % от стоимости поездки. Но, когда водители выясняли, что я американец, они обычно отказывались брать мои леи. Прошло всего несколько месяцев после революции, и встреча с человеком с Запада для румын, погрязших в рутине, пока еще была в новинку.
После нескольких дней такого блуждания я захотел посмотреть монастыри Буковины, о которых упоминал Поручиуч, и поговорить с их обитателями. Но для этого мне нужен был переводчик. Я нашел его в туристическом бюро в Сучаве, главном городе Буковины. Переводчика звали Мирча, так же как моего друга из Сфынту-Георге. Позже он рассказал: «Отец с матерью хотели назвать меня Михаем, а не Мирчей. Но при коммунистах имя Михай вызывало подозрения из-за короля Михая, живущего в Швейцарии. Так что перед Богом я Михай». В дальнейшем, чтобы избежать путаницы, я буду называть его Михаем.
Сучава – современный город, выстроенный на руинах от бомбежек советской авиации во время Второй мировой войны, поэтому один из немногих в Румынии, не имеющих своей особой атмосферы. И при этом он не вызывает такого гнетущего ощущения, как другие города и села. Здесь много парков, качество строительства (по румынским стандартам) высокое, жители не выглядят подавленными. «Бухарест гораздо дальше от Сучавы, чем Яссы, и австро-венгры оказали хорошее влияние», – пояснил Михай.
При нашей первой встрече в Сучаве Михай пригласил меня в местный бар, довольно безвкусно оформленный коврами машинной работы, которые были и на полу, и на стенах. В этой странной и обезличенной обстановке Михай совершил ритуал, аналогичный тем, что совершали и другие румыны, с которыми я встречался: он изложил мне историю своей жизни.
Михай родился в 1959 г. в Трансильвании, в городе Тыргу-Муреш, который исторически был яблоком раздора между румынами и венграми. Отец Михая румын, мать венгерка.
Перед Второй мировой войной отец Михая работал бухгалтером на целлюлозно-бумажном комбинате, которым владели евреи. Во время войны Тыргу-Муреш, как и почти всю Трансильванию, оккупировали венгры, союзники нацистской Германии. Хозяина-еврея отправили в концлагерь, откуда он не вернулся. После войны коммунисты под руководством Георгиу-Дежа, консолидируя власть, прибрали к рукам комбинат, а отца Михая оставили на месте бухгалтера.
– Новое начальство оказалось из самых низших слоев общества, – рассказывал Михай. – Они были просто бандитами, без всякого образования. На комбинате их интересовало только то, что можно было украсть. Они разваливали комбинат, лучшую бумагу продавали на черном рынке. Отец, поскольку вел всю документацию, прекрасно знал, что происходит. Но, конечно, сделать ничего не мог. Вы, на Западе, не представляете, что значит работать под руководством крестьян. Так продолжалось несколько лет. Но отец никак не мог к этому привыкнуть. Он был нервным человеком, но все держал в себе. Однажды на работе он потерял самообладание и наорал на начальство: «Я знаю, чем вы занимаетесь. Ненавижу вас и вашу партию. Вы развалили прекрасное производство, на организацию которого другие люди положили всю свою жизнь».
Ночью в дом Михая нагрянула полиция и арестовала его отца. Был 1964 г., последний год правления Георгиу-Дежа. Михаю было четыре с половиной. Он спал и не помнит, как уводили отца. Самым ярким воспоминанием раннего детства у него остался новый визит полиции, которая через пару дней пришла с обыском.
– Отец любил читать. У него было много книг, помню, они забрали из его кабинета все книги и бумаги. Забрали часы, кольцо. У нас в наволочке был спрятан персидский ковер. Полиция пришла с нашим соседом, который однажды был у нас в гостях и оставался ночевать. Он знал, где мы прячем ковер. Он рассказал полиции, и ковер забрали. Отец год просидел в тюрьме: 366 дней, потому что год был високосный. Он сидел в камере и ничего не делал. Надзиратели не разрешали ему читать.
После ареста отца мать с Михаем переехала жить к своим венгерским родственникам, которые настаивали, чтобы она подала на развод.
– Поскольку отец был румыном, бабушка всегда хотела развалить их брак. Теперь у нее появился шанс. Мать не знала, что делать. Она обратилась к знакомому юристу, румыну. Юрист сказал ей: «Нет проблем. Начинай бракоразводный процесс, как хотят родственники. Процесс растянется на год. Твой муж выйдет из тюрьмы раньше, и ты сможешь отозвать заявление». Мать так и сделала. Когда отца выпустили, мы снова стали жить вместе. Но родители не могли найти работу. Давние друзья отца боялись с ним разговаривать. Это, видимо, подорвало его сердце. Через несколько лет, в 1969 году, отец умер. Он считал Чаушеску хорошим человеком, который сможет изменить систему, потому что Чаушеску критиковал советское вторжение в Чехословакию [в 1968 году]. Поворот произошел летом 1971 года. Чаушеску впервые побывал с визитом в Китае и Северной Корее. Я этого никогда не забуду. В местном кинотеатре показывали фильм «Буч Кассиди и Сандэнс Кид». Чаушеску вернулся в Бухарест в воскресенье или понедельник, точно не помню. В среду «Буча Кассиди» уже сняли и начали показывать советскую кинохронику. Мы поняли: что-то изменилось. До вас, американцев, это дошло через десять лет. Представь, люди едут в Азию, возвращаются с идеями о торговле и электронике. Чаушеску вернулся с культом личности Мао и Ким Ир Сена.
Полностью трагедию отца Михай осознал уже в юности.
– Мы сидели в кафе с друзьями. К нам подошел выпивший мужик и стал говорить, что мой отец преступник. Тогда я возненавидел родителей. Теперь я ненавижу себя за это.
Михай овладел не только венгерским языком благодаря семье матери, но и немецким. На филологическом факультете института в Сучаве он выучил еще английский и французский. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить работу в туристическом бюро Сучавы, сотрудники которого не знали никакого языка, кроме румынского. Директором турбюро был близкий друг Эмиля Бобу, советника Чаушеску, уроженца Сучавы (после революции его приговорят к пожизненному заключению). Михай устроился на машиностроительный завод переводить с английского техническую документацию.
– Понимаешь, при Чаушеску владение иностранным языком не давало преимущества. Наоборот, такой человек вызывал подозрения. Властям меньше всего хотелось иметь в турбюро человека, способного общаться с иностранцами. Кто знает, что он им наговорит? А как сын бывшего политического заключенного я был вдвойне подозрителен.
17 декабря 1989 г., когда в Тимишоаре Секуритате начала расстреливать студенческую демонстрацию, Михай сказал жене: «Скоро все это кончится, поверь мне. Когда румыны видят кровь своих детей, они звереют».
Вскоре после этого в жизни Михая начались изменения. Негативные аспекты его резюме превратились в достоинства. В Сучаву стали приезжать иностранцы. Сначала только французские журналисты и представители Международного Красного Креста. Но кто мог с ними общаться? Растерянное начальство турбюро послало за Михаем. Иностранцы расплачивались с Михаем твердой валютой. По закону, принятому через несколько недель после революции, румынские граждане получили право владеть валютой и открывать сберегательные счета. Директор турбюро был уволен. Михай занял должность заместителя директора. Но вскоре он начал работать преимущественно как частный гид. Иностранцев в Сучаву приезжало немного, но каждый из них обращался к Михаю и платил по пятьдесят долларов за день.
Когда выяснилось, что борьба Чаушеску против контроля за рождаемостью привела к появлению большого количества сирот, иностранцы стали обращаться к Михаю за помощью в усыновлении этих детей. Михай организовывал канцелярскую работу за вознаграждение в твердой валюте.
Но у Михая были и свои идеи. Когда я с ним познакомился, он пытался организовать в Сучаве отделение Rotary International, чтобы «объяснить людям, что уметь зарабатывать деньги еще не все; часть заработанного нужно отдавать на благотворительность».
У Михая мало времени для сна.
– Я не могу. Вся моя жизнь была подготовкой к этому моменту, – говорил он. Посмотри сам: леса, монастыри. Вокруг Сучавы самые живописные места в Румынии. Это туристический рай, но для туризма нет инфраструктуры. Я создам ее.
Ближайшая цель Михая, как он говорил, – это накопить достаточно валюты и купить импортный мини-вэн, чтобы заниматься не с каждым туристом в отдельности, а возить небольшие группы.
– Когда у меня будет мини-вэн, я смогу попробовать создать настоящую компанию, в которую сможет вложиться иностранная фирма или даже выкупить ее целиком, оставив меня менеджером, разумеется.
Михай хотел еще свозить семью в Америку.
– Пойми меня правильно. Эмигрировать я не хочу. Зачем мне быть бедным румынским иммигрантом в Америке, когда столько возможностей заработать деньги в Сучаве? Но я хочу побывать в Аламо, посмотреть мемориал Линкольна, удостовериться, что все это существует. Хочу, чтобы мой сын увидел Америку, понял, как выглядит общество, где мечты становятся явью. Думаешь, я лукавлю? Да я лучше тебя знаю американскую историю. А даже если и нет, то ценю ее все равно больше.
Михай среднего роста и телосложения. Как многие румыны, он черноглазый брюнет. Одежда у него поношенная. Но достоинство ему придают выражение глаз и манера говорить. Этот парень строит карьеру. Он обращается к тебе агрессивно и, ничуть не смущаясь, предлагает на продажу свой товар: в данном случае услуги гида-переводчика. Его глаза горят смелой, жизненно важной расчетливостью, как у того русского таксиста в Нью-Йорке.
Михай обладал энциклопедическими знаниями об истории Молдавии, но эмоционально он выглядел очень далеким от истории. Я попытался спровоцировать его обвинениями в адрес Антонеску. Его это не сильно интересовало. Даже Чаушеску был ему не интересен. Зачем тратить эмоции на прошлое, когда нужно сделать так много, чтобы улучшить настоящее? Михай нашел землю обетованную в собственной стране. Он оказался единственным румыном в Румынии, который не тратил энергию на ненависть.
Михай рассказал мне о том, как в конце XV в. Штефан чел Маре (Штефан Великий) создал независимое романоязычное государство в Османской империи. Чтобы просветить своих неграмотных крестьянских подданных в христианской религии и молдавской истории, Штефан и его приближенные распорядились строить монастыри глубоко в лесах. Подальше от турок-мусульман. Монастыри украшались традиционными росписями, причем не только внутри, но и снаружи. На следующее утро Михай заехал за мной на машине, и мы поехали смотреть эти «расписные монастыри».
Проехав сорок пять минут, мы оказались у монастыря Хумор. Это самый маленький из расписных монастырей, окруженный не каменными, а деревянными стенами. Он построен в 1532–1536 гг. под руководством Петру Рареша, внебрачного сына Штефана Великого.
Я сразу попал под обаяние Хумора. Проехав с Михаем десятки километров по живописным румынским лесам, я словно совершил путешествие назад во времени, и передо мной развернулись живописные сцены страданий и искупления далекого прошлого. Мрачный мир индустриальной бедности остальной Румынии оказался на расстоянии световых лет от этого царства сияющей меди, лакированного дерева и чистых минеральных и растительных красок.
Несмотря на влажный климат и почти 500-летний возраст, росписи на наружных стенах церкви Хумора находились в великолепной сохранности. Веерообразная крыша, выходящая далеко за пределы стен, чтобы прикрывать росписи от дождя, напоминала о надежном уюте крестьянского жилища. Так же выглядело кольцо сосен вокруг главной церкви. Но основной причиной сохранности росписей были натуральные краски, которыми они выполнены: марена для красного цвета, кобальт и лазурит для синего, сера для желтого и т. д. Как написал Ситвелл, посетив эти места в 1937 г., «эти наружные фрески в Буковине выписаны со средневековыми тщательностью и вниманием, характерными для миниатюрной живописи».
Господствующий цвет в Хуморе – красная марена. Желтая сера и синий кобальт играют вспомогательную роль. Понизу внешних стен изображены древние пророки, посередине отцы православной церкви, а поверху святые покровители воинов, прежде всего святой Георгий Победоносец и архангел Михаил. Безымянные средневековые художники разместили библейские сцены в специфическом молдавском антураже. Например, дьявол, искушающий Авраама, одет как турецкая гурия. В сцене Страшного суда на задней внешней стене падшие ангелы изображены как турки и габсбургские австрийцы, а трубящий ангел как молдавский пастух.
В симпатичной долине в нескольких километрах от Хумора мы с Михаем обнаружили еврейское кладбище. Могилы и покосившиеся надгробия охраняет и поддерживает в хорошем состоянии цыганская семья, живущая в доме, выстроенном по соседству. Это кладбище совсем не печальное место. Даты на надгробиях свидетельствуют, что покойники прожили долгую жизнь и были избавлены от знания о том, что происходило во время Второй мировой войны. В частности, их миновала судьба евреев из Северной Буковины, которых переправили в Транснистрию.
– Мне трудно поверить, что румыны могли причинить зло евреям, – заметил Михай. – Возможно, коммунисты, типа тех, что так жестоко обошлись с моим отцом, способны на нечто подобное, но не простые люди или наши солдаты.
Я был в слишком умиротворенном настроении, чтобы развивать эту тему.
Мы приехали в монастырь Воронец, расположенный в буковой роще на другом берегу реки Молдова. Воронец, основанный лично Штефаном Великим в 1488 г., самый древний из расписных монастырей. План внешних стен сходен со стенами Хумора и других монастырей, за исключением того, что господствующий цвет здесь синий, и монастырь известен под названием «Синий Воронец». Фреска с изображением Страшного суда здесь даже еще более впечатляющая, чем в Хуморе. Ад изображен как бесконечный туннель с кровью, в которой тонут души грешников. На весах правосудия немногие праведные деяния, представленные ангелами, перевешивают множество неправедных, изображенных в виде обезьян и драконов.
Главный вход в церковь, ведущий к иконостасу, довольно низкий. Мне пришлось пригнуть голову. «Этой высоты было как раз достаточно, чтобы прошел Штефан Великий с короной на голове, не наклоняясь», – пояснил Михай. Получается, что его рост составлял примерно сто шестьдесят сантиметров. «Nu mare de stat» [Не велик по размеру], – сказал Михай, цитируя молдавского летописца XVI в.
Хумор и Воронец необитаемые, в отличие от других монастырей, которые мы собирались посетить.
Монастырь Молдовица возник в 1532 г., в одно время с Хумором. Построенный лично королем Петру Рарешем, а не его боярами монастырь Молдовица крупнее Хумора. При подъезде над лесом возвышаются его длинные каменные крепостные стены. Основной цвет Молдовицы желтый, который под солнцем сияет как золото.
– Теперь ты понял, почему наш государственный флаг красно-сине-желтый? – спросил Михай. – Это господствующие цвета наших великих монастырей: красный – Хумора, синий – Воронца, желтый – Молдовицы.
Запах хвои, смешанный с росой, создавал аромат, приближенный к божественному запаху пчелиного воска. Во внутреннем дворе нас встретила матушка Жоржета Бенедикта Татулица. Она прожила в монастыре Молдовица двадцать три года. У нее необыкновенный оранжево-зеленый цвет глаз. Матушка Бенедикта показала на группу местных школьников, приехавших на экскурсию в монастырь.
– При тиране такого и быть не могло. Скоро сестры снова станут жить и в Хуморе, и в Воронце. Зачем пустовать этим монастырям, если в Румынию вернулся Закон Божий? Румыния находится под особым покровительством Богородицы. Поэтому сорок пять лет коммунистического владычества не уничтожили нас.
Матушка Бенедикта рассказала мне, что она с другими сестрами, услышав первые известия о демонстрациях в Тимишоаре, вечером пришла в церковь и молилась до рассвета. Так они поступали каждую ночь, пока «Драк [Дьявол] не сбежал из Бухареста». Тот факт, что Драка казнили «в день Рождества Христова», подтвердил, что Бог, по мнению матушки Бенедикты, выбрал Румынию в качестве места, где произойдет возвещение нового тысячелетия. Матушка Бенедикта не отрицает «прошлые грехи нашего народа». Но она подчеркивает, что в «царстве Божьем на земле», которое теперь установится в Румынии, праведные деяния будут твориться с той же страстью, как раньше неправедные.
– Люди должны очистить души. Должна возродиться вера. И это уже происходит. На Пасху люди собрались не только в церкви, но и во дворе. Никогда еще я не видела столько народу. В полночь мы звонили в колокола. Все зажгли свечи. Были тысячи свечей. Люди плакали. Никто не ушел до утра. Казалось, это первая Пасха на земле. Раньше я только верила, что Он воскрес. Теперь это стало свершившимся фактом.
Сучевица стала последним расписным монастырем, который я посетил с Михаем. Она была построена в 1584 г., намного позже остальных, в момент перемирия с турками. Этот период относительной стабильности вдохновил на строительство двух молдавских бояр Иеремию и Симиона Могилу. Сучевица с ее трехъярусными башнями и крепостными стенами – крупнейший из монастырей. «Несомненно, при первом взгляде на Сучевицу, – пишет Ситвелл, – испытываешь совершенно новые ощущения. Византийцы на пике своего духовного развития обладали способностью представить образ Града Небесного».
Сучевицу окружают буковые и еловые леса. С внешней стороны стены выкрашены темно-зеленой краской. По словам Михая, она символизирует «темную зелень лесов Буковины». Среди изображений те же самые, что и в других монастырях: Страшный суд, лествица добродетелей, древо Иессеево, святые, Отцы Церкви, пророки. Только здесь крупнее масштаб.
За монастырскими стенами кельи монашек[37]. Мать-настоятельница Адриана Кожокару пригласила нас с Михаем на обед. Мы устроились за длинным деревянным столом в большом и очень холодном зале с каменными стенами. Сестра подала салями, козий сыр, овощной суп с лапшой, квашеную капусту, сливовицу и розовое вино. Это была лучшая трапеза из всех, что мне довелось отведать в Румынии. Все, представленное на столе, было приготовлено своими руками и выращено на монастырских землях. Чтобы согреться, я выпил несколько стаканчиков сливовицы и только потом перешел к розовому.
Игуменья села на другом конце стола. Это была пожилая женщина с крупным ртом и большой бородавкой на носу. Она пришла в монастырь в 1948 г. и практически весь период коммунистического правления прожила за массивными стенами монастыря Сучевица.
– У нас всегда были гости. Люди приходили на день, на два, просто поразмышлять, набраться духовных сил для дальнейшей жизни во внешнем мире.
Ее трактовка декабрьской революции не отличалась от той, что дала матушка Бенедикта:
– Господь сделал все руками юных и невинных, повторив сцену двухтысячелетней давности, когда Ирод убивал младенцев в Палестине. Теперь государственные законы не обязательны, потому что у нас есть Закон Божий. – Игуменья продолжала говорить со своего конца стола. В пустом зале от каменных стен гулко отдавалось эхо. – Революция стала Божьим даром румынскому народу. Румынский народ теперь должен ответить на этот подарок, открыв сердца людям всех вероисповеданий, в особенности тем, кто пострадал здесь в прошлом. Румыния одна из древнейших христианских стран в мире. В Констанце проповедовал Андрей, один из двенадцати апостолов. Пятьсот лет назад молдавские монастыри стали примером того, что может сделать небольшой народ. Мы снова можем многое сделать для мира.
Очевидно, разгорячившись сливовицей и розовым, Михай воскликнул:
– Когда-то мы имели значение. Мы снова будем иметь значение!
Сестра внесла кофе по-турецки и тягучие сласти.
– Теперь у нас не будет проблем с погодой, – сказала игуменья. – При тиране нам запрещали выносить иконы и мощи из сокровищницы. Теперь, когда устанавливается слишком сухая погода, мы выносим иконы и мощи наружу, чтобы молиться о дожде. И дожди приходят. И аисты вернулись. Многие годы, до этой весны, мы не видели аистов.
Позже Михай пояснил мне, что после революции власти Сучавы закрыли фабрику синтетического волокна, которая загрязняла воздух всего региона. Возможно, этим и объясняется возвращение аистов.
Мне осталось посетить только один монастырь, не расписной, – его стены не украшены фресками, – но тем не менее тоже очень важный.
На следующий день мы с Михаем поехали на север. Через два часа мы оказались на дороге, идущей в пяти километрах параллельно румынско-советской границе по еловому лесу. Дорога привела нас к зубчатой стене монастыря Путна. Монастырь построил Штефан Великий в 1466 г., раньше всех остальных. Здесь, в главной церкви, он и был похоронен 2 июля 1504 г.
Штефан Великий твердо установил северную и восточную границы Молдавии по Днестру. В настоящее время они проходят в 80 километрах в глубине бывшего Советского Союза. На Днестре Штефан возвел несколько крепостей для защиты своих романских владений от русских и турок. Михай перечислил мне их названия: catatea [крепости] Алба, Тигина (Бендеры), Орхей (Оргеев), Сорока (Сороки), Хотин. Поскольку монастырь Путна располагался глубоко в лесах и далеко от врагов, Штефан распорядился, чтобы его похоронили здесь, где могила была бы под надежной защитой. Но начиная с 1940 г., за исключением краткого периода оккупации Северной Буковины армией Антонеску, могила Штефана находилась практически на советской границе.
Мы вошли в церковь: молдавский пантеон. В первом зале мраморные саркофаги, в которых хранятся останки королей Петру Рареша и Богдана Кривого[38], жены Петру Рареша Марии и дочери Штефана Великого, тоже Марии.
Подсвечивая себе фонариком, Михай провел меня в последний зал за алтарем. Слева я увидел гробницу второй жены Штефана и двух их сыновей, умерших в детстве от болезней. Справа простая гробница каррарского мрамора самого Штефана чел Маре. Гробница покрыта румынским красно-сине-желтым триколором, на котором лежат свежие цветы. Высоко над гробницей висит канделябр, украшенный семью яйцами страуса, которые были снесены при жизни Штефана.
Холодное, голое каменное окружение вызывает ощущение торжественной строгости. Над входом в неф смутный портрет маслом сурового Штефана. «Ни один румынский художник, – пояснил Михай, – не смеет нарисовать портрет улыбающегося Штефана, пока вся Бессарабия и Северная Буковина не объединятся с остальной Молдавией под румынским флагом, чтобы могила Штефана и остальных оказалась снова в глубине молдавской территории, защищенной от славян». Михай произнес это совершенно спокойным тоном, сухо, словно хотел сказать: «Так к этому относятся люди, нравится вам это или нет».
Глава 9 Голоса Трансильвании
Именно на равнинах режим вцеплялся зубами в население. Как и в Средневековье, горы представляли собой природные оборонительные сооружения. Перебираясь из Буковины через Карпаты на запад, я видел мало следов коллективизации. Характерными чертами ландшафта были скорее дерево и природный камень, нежели бетон и металлические конструкции. Бесконечная дорога тянулась вниз, и я даже несколько минут проехался на задке leiterwagen, но понял, что пешком получится быстрее. Автомобили попадались очень редко. Мне представилась возможность увидеть кусочек румынской глубинки в очень любопытный исторический момент: после революции, что позволило мне путешествовать свободно, но до того, как начался процесс модернизации.
Первым городом в Трансильвании на моем пути оказался Тыргу-Муреш. Я прибыл утром, когда солнце съедало остатки тумана с окружающих холмов. Предо мной открывались очертания островерхих крыш, шпилей, свинцового цвета куполов. Я стоял на обширном зеленом пространстве, которое называется площадью Роз. Ее окружали различные статуи и фасады зданий в стиле готики и барокко. В отличие от Ясс здесь есть католические церкви, и не только румынские, но и венгерские. На улице слышался язык народа, покорившего Центральную Европу, но не Балканы. Осматривая площадь, я ощутил своего рода уют и отсутствие отчужденности – производного от мощного и в принципе непрерывного культурного развития, символом которого является вертикальная архитектура. Это культура кофеен, хотя тут много лет не было кофе. Я снова оказался в Центральной Европе, хотя и на самых ее задворках.
На Западе само слово «Трансильвания» вызывает ассоциации с волчьим воем, ночными грозами, злобного вида крестьянами и образом графа Дракулы в исполнении Белы Лугоша. На самом деле у Влада Цепеша, исторического прототипа Дракулы, был замок в Валахии. А роман Стокера имеет больше отношения к реалиям Буковины и Молдавии, нежели Трансильвании.
Я не педант. Валахия, Буковина и Молдавия – это Восток, мир православного христианства, народных поверий и мистического экстаза. А Трансильвания, по сути, часть того, что для Востока является не более чем предметом осмеяния: западного мира.
На пристрастный взгляд историка Джона Лукача, западная идентичность Трансильвании – «ключ к ее истории» и к ее «человеческой фауне». Лукач утверждает:
Трансильвания знала свое высокое Средневековье, соборы, цистерцианцев, дух Ренессанса, барокко, Просвещения всех исторических эпох, которые создали Европу… и которых не знали Россия, Румыния, Молдавия, Олтения, Валахия, Бессарабия, Болгария, Сербия, Македония, Албания, Фракия, Греция и Украина.
Как отмечают Лукач и другие, в Средние века турки завоевали все Балканы и половину Венгрии, но не смогли покорить Трансильванию. В то время как Афины, прозябавшие вокруг своего Парфенона, не говоря уж о Молдавии и Валахии, пребывали в восточной, османской дремоте, Трансильвания переживала Просвещение с полной свободой и равенством как для католиков, так и для протестантов. Это произвело такое впечатление на Уильяма Пенна, что он собирался назвать колонию американских квакеров Трансильванией. Впрочем, религиозные свободы были относительны. Массы крестьянского населения, то есть православные румыны, не могли пользоваться благами Просвещения. Они находились в самом низу средневековой системы апартеида, при которой все права принадлежали венграм и саксонским немцам вне зависимости от того, католиками или протестантами они были. (Граф Дракула носил румынское имя Влад, поскольку был из Молдавии. В Трансильвании венгерская элита не допускала образования румынской знати.) Соответственно, румыны не в восторге от исторической роли Трансильвании как восточного символа Запада и Центральной Европы, примерно так же, как черные южноафриканцы не в восторге от роли белого населения как символа западного прогресса и процветания на Африканском континенте.
Конфликт культур обостряется еще и особой ролью, которая принадлежит Трансильвании как в румынской, так и в венгерской истории. Для румын Трансильвания (Ardeal – Эрдей, «залесье») – их латинская родина, поскольку на территории современной Трансильвании находилась древнеримская колония Дакия. Для венгров Трансильвания (Erdely – Эрдели) – место их самых знаменательных побед над турками и демократических восстаний против австрийского правления, которые в 1867 г. привели к созданию Австро-Венгерской дуалистической монархии. Воевода Янош Хуньяди, защищавший Центральную Европу от Османской империи, Матьяш I Корвин, величайший король в венгерской истории, который принес в Венгрию Возрождение, Янош Бойяи, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии, композитор Бела Барток – все они венгры из Трансильвании.
После окончания Первой мировой войны по Трианонскому мирному договору Трансильвания вместе с Бессарабией и Северной Буковиной была передана Румынии. Наряду с венгерскими появились румынские названия городов. Колошвар стал также называться Клуж, а Марошвашархей – Тыргу-Муреш. После Первой мировой войны в этих городах румыны построили православные соборы, затмившие венгерские католические и протестантские церкви. В православном соборе в Тыргу-Муреш, расположенном на центральной площади, есть фреска, изображающая Иисуса Христа в костюме румынского крестьянина, которого бичуют люди в одежде венгерской знати и воинов. В соборе, помимо свечей из пчелиного воска и почтовых открыток неважного качества, продаются также книги, в которых повествуется о гонениях на Румынскую православную церковь во время Второй мировой войны, когда Трансильвания была вновь оккупирована Венгрией.
Во время Второй мировой войны и Венгрия, и Румыния были союзницами Гитлера. В обеих странах установилась фашистская диктатура. Преследования местного православного населения в Трансильвании (и в особенности евреев) вполне сопоставимы с тем варварством, которое румыны проявляли повсеместно. Когда стало ясно, что Гитлер проигрывает войну, Румыния переметнулась на сторону союзников и в итоге смогла заполучить Трансильванию. После войны коммунистический режим, восторжествовавший в Румынии, особенно при Чаушеску, вернул Трансильванию к средневековой системе апартеида, только на сей раз с главенством православной церкви.
Чаушеску запретил публичное использование венгерского языка и отменил венгерские наименования городов. Он запретил венгерские газеты, закрыл сотни венгерских школ, полностью румынизировал венгерские факультеты Университета в Колошваре-Клуже, который в XIX в. венгры сделали одним из лучших университетов мира. Чаушеску не только запретил использовать название Колошвар для Клужа, он еще и переименовал его в Клуж-Напока, напоминая о названии располагавшегося неподалеку поселения древнеримской провинции Дакия и проводя своего рода квазиисторическую связь, соответствующую его криптофашистскому, человеконенавистническому чувству национализма. Чтобы изменить демографический баланс, Чаушеску запретил румынским женщинам делать аборты и пользоваться средствами контрацепции, запретил венграм давать своим детям при крещении венгерские имена. И наконец, он переселил в Трансильванию сотни тысяч сельскохозяйственных и промышленных рабочих из Молдавии и Валахии, а венгров согнал с их исторических земель в другие районы Румынии. Граница между Румынией и Венгрией, странами-союзницами по Варшавскому договору, на десятилетия стала самой страшной границей в Европе, несомненно более страшной, чем Берлинская стена. Пересекающих ее, вне зависимости от того, какой у них был паспорт, могли среди ночи задержать на несколько часов, пока подозрительные румынские полицейские обыскивали каждый чемодан в поисках мадьярских (на венгерском языке) публикаций и других подрывных материалов. В 1983 г. мне пришлось дать взятку румынскому пограничнику, чтобы не лишиться своей пишущей машинки.
2,1 миллиона венгров в Румынии представляли собой крупнейшее этническое меньшинство в несоветской Европе и вдвое превышали число арабов, живущих на Западном берегу Иордана, оккупированном Израилем. Но даже притом что этнические венгры при Чаушеску подвергались таким же, а то и более суровым притеснениям, какие испытывали палестинские арабы, – 120 000 еврейских поселенцев на Западном берегу ничто по сравнению с числом румын, которых Чаушеску переселил в Трансильванию, – знания американского медийного сообщества о Трансильвании до декабря 1989 г. ограничивались образом графа Дракулы.
Как показало развитие событий, именно притеснения этнического венгерского меньшинства в Румынии при режиме Чаушеску стали той искрой, от которой вспыхнула декабрьская революция 1989 г.
Преподобный Ласло Текеш, венгерский пастор кальвинистской реформаторской церкви в Тимишоаре (Темишваре по-венгерски), в своих проповедях открыто выступал против режима и его дискриминационной политики. Тимишоара находится не в Трансильвании. Это исторический центр области Банат западного приграничного региона Румынии, где межобщинные трения между венграми и румынами никогда не были такими сильными, как в Трансильвании. Когда власти вознамерились выселить Текеша из его собственного дома, на улицы Тимишоары в знак протеста вышли не только венгры, но и румыны, положив начало процессу, который через десять дней привел к казни Чаушеску.
Впрочем, в Трансильвании груз истории вкупе с социологическими последствиями политики массового переселения, проводимой режимом Чаушеску, быстро подавил зарождавшееся проявление доброй воли в отношениях между венграми и румынами, обусловленное событиями в Тимишоаре.
– Пожалуйста, давай не будем говорить про Текеша, – сказал мне румынский преподаватель английского языка, с которым я встретился в Тыргу-Муреш. – Даже у меня, человека широких взглядов, есть предел. Этот человек прежде всего венгерский шовинист. Ты читал его высказывание о том, что «для венгров при Чаушеску румынский язык стал языком угнетения»? Как может румынский язык быть языком угнетения?
– Парадокс в том, что страдали мы вместе, – размышлял Ион Паску, невропатолог и ректор Медицинского института в Тыргу-Муреш. – Но теперь вдруг все кажется отравленным.
Сама атмосфера Трансильвании парадоксальна: местные жители более вестернизированы, чем в Молдавии или Валахии, но внутренние предубеждения сказываются и в самых интеллектуальных беседах в уличных кафе. В каком-то смысле Трансильвания 1990 г. напоминала Вену или Берлин 1930-х гг. Я приехал в Тыргу-Муреш в конце апреля, спустя пару недель после того, как банды румын и венгров из близлежащих деревень, вооруженные ножами и дубинками, приехали выяснять отношения на площади Роз. В результате несколько человек погибли, 250 получили ранения.
На площадь Роз в Тыргу-Муреш были выведены танки. В тот день, когда я приехал в Клуж (официально Клуж-Напока), расположенный в сотне километров, на площадь Свободы вышли румынские студенты. Они покрыли подножие памятника венгерскому королю Матьяшу Корвину румынским флагом, вырезав из центра коммунистический символ. Студенты под барабанную дробь пели песню «Пробудись, румын!», написанную в 1848 г. Андреем Мурешану во время восстания против венгерских правителей Трансильвании. Студенты требовали второй революции для освобождения Румынии от неокоммунистического Фронта национального спасения.
На меня ни один балканский город не производит такого пьянящего впечатления, как Клуж с его остроконечными крышами и желтыми барочными фасадами домов, выходящих на узкие, мощенные брусчаткой улочки, на которых теплыми вечерами ощущается запах земли от окружающих город полей. Есть что-то от бабьего лета в этом провинциальном аванпосте Центральной Европы. В те дни, когда Клуж еще назывался Колошваром, пьяные от любви и возвышенных речей венгерские романтики долгими вечерами спорили в кафе на центральной площади. На мой взгляд, их дух еще сохранился, такой же явный, как воспоминание о хорошем кофе или страстном поцелуе.
Патрик Ли Фермор, известный британский путешественник и специалист по Балканам, считал, что опера Моцарта «Дон Жуан» была исполнена в Клуже раньше, чем в Бухаресте, и что здесь давал свои концерты Лист. Я остановился в отеле «Континенталь» на центральной площади. До прихода к власти коммунистов он назывался «Нью-Йорк». Это здание в стиле барокко с бело-желтыми стенами и серебристыми куполами. В кафе отеля, оформленном в неороманском стиле с золочеными коринфскими колоннами, Фермор выпивал и беседовал со своими венгерскими друзьями в июле 1935 г. В книге воспоминаний о путешествии по Венгрии и Трансильвании «Между лесом и водой» (Between the Woods and the Water) Фермор пишет о «приглушенных волнах вальса» из «Летучей мыши», которые долетали в кафе из ресторана отеля. В 1990 г. из ресторана не доносились ни звуки вальсов, ни цыганские мелодии. Только оглушительный металлический рок, который шумным и пьяным мужчинам, сидевшим за столиками, казался символом западной свободы и процветания. В отличие от времен Фермора здесь не было людей в смокингах, посасывающих коктейли. Посетители сидели в пальто. Пустые бутылки из-под сливовицы и пива, разбавленного и, как говорили, с добавлением стирального порошка для образования пены, батареями стояли на заляпанных скатертях. В вестибюле цыгане предлагали иностранцам импортные сигареты, розовые воздушные шарики и проституток.
Но, несмотря на потрясения в социальной и культурной жизни, которые вызвали коммунисты, перемещая в город румынских крестьян и вытесняя из него местных венгров, дух Клужа и Колошвара каким-то образом сохранился. В 1929 г. Старки увидел Клуж как «идеальный город для думающего путешественника. С его студентами и традиционными зданиями его можно назвать Оксфордом Восточной Европы». Хотя некогда великий университет уже не тот, каким был в дни Старки, он продолжает определять жизнь города, в чем я убедился на собственном опыте.
За ужином, на который меня пригласили в первый вечер моего пребывания в Клуже, я познакомился с Найджелом Таунсоном, университетским преподавателем английского языка, который в 1990 г. был единственным преподавателем в Румынии, связанным с Британским советом. Британский совет поддерживает английские библиотеки и преподавателей по всему миру. Хотя это исключительно культурная организация, не имеющая официального отношения к британскому Министерству иностранных дел, Британский совет во многих странах пользуется зданиями британских посольств, что придает ему двусмысленный имидж: люди принимающей страны порой считают преподавателей Британского совета шпионами. Романистка Оливия Мэннинг была замужем за преподавателем Британского совета Р. Д. Смитом, который работал в Бухаресте в 1940–1941 гг. В то время у некоторых румын сложилось абсурдное, но опасное представление, что он и прочие неуклюжие «книжные черви», сотрудники Британского совета, были шпионами, образы которых легли в основу сюжета «Балканской трилогии».
Чаушеску тоже считал преподавателей Британского совета шпионами. При его правлении условия их работы стали настолько жесткими, что в 1980-х гг. произошло значительное сокращение штата сотрудников этой организации. В результате Найджел, преподаватель в Клуже, оказался единственным действующим связующим звеном с персонажами «Балканской трилогии».
Найджел полностью оправдал мои ожидания. Как и Гай Прингл, вымышленный преподаватель Британского совета из «Балканской трилогии», Найджел крупного телосложения, носит очки в металлической оправе и глубоко погружен в жизнь и проблемы своих румынских студентов. Он переживает, получит ли один студент стипендию для продолжения обучения в Англии, как вытащить из депрессии другого… Найджел читал по одной книжке английской беллетристики в день; владел румынским, португальским, немецким и другими языками. Он, его пылкая жена-сербка и их дочь жили в многоквартирном доме на окраине Клужа, преодолевая все типичные румынские трудности. Например, появление яиц или пива в местном магазине могло вызвать у Найджела такую же радость, как и у его соседей. Жизнь Найджела протекала непросто, но у него сложилось лучшее представление о том, что представляют собой румыны и их страна, чем у многих изнеженных иностранных дипломатов.
Без Найджела я бы не встретился с некоторыми из тех, с кем мне удалось пообщаться в Клуже. Все они, независимо от своего происхождения и рода занятий, поставили меня лицом к лицу с неприятным фактом: западное просвещение в Трансильвании до сих пор остается преимущественно венгерским делом и очень мало сказывается на местном румынском населении.
Сандра Данчу переводит книги покойного греческого автора Никоса Казандзакиса на румынский язык. В первое мое утро в Клуже она пригласила меня к себе на чашечку кофе.
– Ты читал «Грека Зорбу»? – спросила она. – Значит, ты знаешь, что дьявол скрывается в монастыре. Это очень по-нашему. Например, в Алба-Юлии в церковной исповедальне устанавливали подслушивающие устройства… Я не припомню ни одного честного правителя в румынской истории. В Румынии всегда торжествует дьявол. А теперь венгры все еще больше усложняют. Они действительно шовинисты, это правда. Они так говорят о своей мадьярской культуре, что можно подумать, будто это святые мощи.
Я спросил, что происходило в Клуже 22 декабря 1989 г., в тот день, когда Чаушеску бежал из Бухареста.
– Мне не нравится вспоминать тот день, потому что у меня он ассоциируется с отчаянием. Даже притом что Чаушеску уже нет, мы до сих пор не освободились сами от себя.
– Ты можешь описать, что видела и чувствовала?
– Вечером 21 декабря я не могла заснуть. Я молилась. Днем была демонстрация на площади. Военные убили много людей. 22 декабря, примерно в половине седьмого утра, я встала и пошла с дочерью посмотреть, что происходит. Не знаю, что нас толкнуло. Всюду были следы насилия. Всюду были стукачи. Это было очень опасно. Улицы патрулировали солдаты и сотрудники Секуритате. Но мне хватило смелости смотреть на них с ненавистью. Мне хотелось отомстить за трагедию моего народа. Я никогда не прощу их, никогда. Они не заслуживают никакого сочувствия. Мы с дочерью были не единственными, кто вышел на улицу, чтобы понять, что происходит. Были и другие. Все стекались на площадь к памятнику Михаю Храброму. Выступала Дойна Корня[39]. Каждый из нас поклялся перед духом Михая Храброго, что будет приходить к памятнику каждое утро в одно и то же время, пока не свергнут Чаушеску. Потом все вместе пошли в православный собор. Мы шли между двумя колоннами танков. Я сказала дочери, что нас могут убить. Потом, помню, из собора вышел молодой священник. Он был очень серьезный, очень интеллигентный. Я чувствовала, что его слова доходят до небес: «Tatal nostrum esti in ceruri…» [Отче наш, иже еси на небесех…] Потом вся толпа переместилась на площадь Свободы. Там кто-то выкрикнул из окна: «Tyrannul a fugit Bucuresti!» [Тиран бежал из Бухареста!] В тот момент я готова была обнять любого попрошайку, любого прохожего. Казнь Чаушеску была очищением души, кровопусканием, первым духовным праздником для нашего народа. Таким кровавым, таким чистым… Наше сознание металось между Христом и Чаушеску. Но это было нехорошо. Этого и до сих пор недостаточно. Кажется, мне хотелось наесться его плоти. Нет, в тот день мы не освободились.
– А как звали того молодого священника, который вышел к вам из собора? – спросил я.
– Его зовут Ион Бызу. Ты всегда можешь найти его в соборе.
Я обнаружил отца Иона Бызу в церковном нефе. В руках он держал буханку хлеба. На нем была черная ряса и черная цилиндрическая скуфейка православного священника. Я представился. Он улыбнулся и по непонятной для меня причине вручил мне буханку.
– Идем, будешь моим гостем за трапезой.
Отец Ион продолжал улыбаться. Из-под черной шапочки виднелись черные волосы, а длинная борода была рыжей. Внешне он показался мне ровесником, около сорока лет. Лицо его хранило блаженное выражение человека, который несколько дней постится. Он был невысок ростом, но, когда он передал мне буханку хлеба, я обратил внимание на крупные руки, очень жилистые, с выступающими венами. Я тут же вспомнил статую Давида работы Микеланджело во Флоренции: у него руки тоже непропорционально велики по сравнению с телом. Смутно помнилось где-то прочитанное, что Микеланджело сознательно преувеличивал руки своих героических скульптур, подчеркивая этим мужественность и божественную благосклонность.
В доме отца Иона стоял крик. У них с женой оказалось двое маленьких детей. (Православные священники вступают в брак, если не становятся монахами.)
– Иону-младшему шесть, – сказал он. – А Думитру родился в прошлом октябре. У нас двенадцать лет не было детей. Потом появился Ион-младший. А когда в прошлом октябре родился Думитру, я посчитал это божественным знаком – видимо, должно произойти нечто хорошее. Идем в кабинет, там потише.
Кабинет отца Иона был заставлен книжными полками. Среди религиозных книг и произведений румынских авторов я заметил томики Шекспира, Камю, Платона, О’Нила, Бодлера и Джойса.
Священник читает Камю, экзистенциалиста и атеиста, изумился я.
Потом я узнал, что, когда отцу Иону хочется кричать, он только шепчет, воздевая к небу свои огромные руки.
– Камю больше святой, чем любой из тех, что правили нами со времен короля Фердинанда и королевы Марии. Без Бога и Иова не было бы экзистенциализма! Ну, давай выпьем цуйки, закусим хлебом, – проговорил он, беря у меня из рук буханку и ломая ее на части над столом. – Видишь, на бутылке с цуйкой венгерская этикетка. Это хорошо. Румыны и венгры должны научиться любить друг друга.
– Мне говорили, ты сыграл важную роль в революционных событиях прошлого декабря.
– Никакой важной роли я не сыграл, – возразил отец Ион Бызу. – Своим молчанием мы все делали себя коллаборационистами. Мы все несем ответственность, и не только за преступления, совершенные здесь, но и за преступления коммунистических режимов на Кубе, в Эфиопии, Северной Корее. Именно мы несем ответственность за голод в Эфиопии. На протяжении многих лет нашему королю Михаю Гогенцоллерну, человеку, который не был ни язычником, ни вором, как коммунистические правители, не разрешали ступить на румынскую землю. Зато приглашали такого бандита, как Ясер Арафат! Скажи, ну как такое возможно? Как? – Отец Ион развел руками и нахмурил лоб, став похожим на великомученика с какой-то иконы. – Пей, пей, – подтолкнул он меня. – Эта сливовица изготовлена румынской церковью и хранится в венгерской бутылке. Видишь ли, – продолжал он, – задача священника говорить, что есть добро, а что зло. Говорить, где свет, а где тьма.
Его жена подала обед в кабинет: красное вино, жареную свинину и яйца.
– Ты присоединишься ко мне в христианской молитве? – спросил он.
– Разумеется, но я не христианин.
– А кто? Надеюсь, верующий?
– Я иудей.
– Тогда можешь прочитать свою молитву. Жена может убрать свинину и принести что-нибудь другое.
– Нет-нет, – смутился я. – Все нормально. Я не очень религиозен. Так что пожалуйста…
Он посмотрел на меня осуждающе.
Запивая свинину красным вином, я решил сменить тему:
– Расскажи, что было 22 декабря 1989 года, когда к собору пришла толпа народу.
– Местное отделение компартии через площадь, напротив собора. Когда я увидел, что между колоннами танков идут люди, идут к церкви со стороны здания партийного комитета, я заплакал. Заплакал. Я понял, что это не человеческих рук дело. Румынский народ уходит от языческого капища и возвращается на коленях к дому Господа. Я встал на колени и произнес: «Tatal nostrum esti in ceruri…» [Отче наш, иже еси на небесех…]
– А теперь?
– Теперь предстоит много работы. У людей все еще недостаточно веры. Они с подозрением относятся и к Дойне Корне, и к Ласло Текешу, потому что он венгр. Текеш герой, но никто не скажет про него доброго слова. Истина в наших душах. Но мы еще боимся произнести ее вслух. Мы религиозный народ, но мы стали духовно искалеченным народом.
На прощание отец Ион Бызу вручил мне бутылку домашней сливовицы и пригласил приходить к нему ужинать каждый день, пока я буду в Клуже. Я познакомился с ним меньше двух часов назад и появился без приглашения.
Возвращаясь сильно подвыпившим в отель «Континенталь», я думал о том, что Румыния – одно из тех мест, где кипят страсти, где встречаются самые прекрасные и самые ужасные люди, и о том, что монашки из Буковины, вероятно, правы: спаситель может появиться только в том месте, где сотворено такое количество зла.
– Думаю, тебе пора пообщаться с Георге, – сказал Найджел, расплываясь в хитроватой улыбке. – Похоже, вы с Георге найдете общий язык.
Я встретился с Найджелом и Георге за ланчем в ресторанчике близ университета. Георге оказался человеком весьма атлетического телосложения. Коротко стриженные черные волосы с проседью, аккуратная черная бородка. В нем чувствовалась определенная харизма и одновременно скрытность. Когда я достал блокнот, Георге произнес:
– Я бы предпочел, чтобы ты не использовал мое настоящее имя.
Так что «Георге» на самом деле зовут иначе. Позже, когда я достал бумажник, чтобы расплатиться за ланч, он заметил:
– Вижу, ты поменял деньги на черном рынке. Кстати, эти банкноты вышли из обращения.
Все официанты хорошо знали Георге. Нас обслуживали быстро и вежливо, не забыв предварительно поменять скатерть и принести сверкающие бокалы. В Румынии это большая редкость.
Но, даже если бы они его не знали, думаю, обслужили бы не хуже. Георге принадлежит к тому завидному типу людей, которые могут войти в полный зал и рассчитывать на быстрое обслуживание. Позже Георге похвалится, покачивая указательным пальцем:
– Это страна очередей. Но я никогда, никогда в жизни не стоял в очереди.
Георге оказалось немного за сорок. С лица не сходило озабоченное выражение. Он жил по принципу, что в ту минуту, когда ты перестанешь беспокоиться и предполагать худшее, оно как раз и случится. В Румынии это полезная жизненная стратегия.
Понять впечатление, которое производил Георге, волны, которые от него исходили, поможет сравнение с Виктором Комаровским, персонажем «Доктора Живаго», сыгранным Родом Стайгером в фильме Дэвида Лина. В начале романа Комаровский – видный представитель русской аристократии, выступающий за царя и соблазняющий дочь друга, женщину вдвое моложе его, которая родит от него ребенка. Следующий раз Комаровский появляется ближе к концу романа, после революции 1917 г. Теперь он работает на большевиков, и у него такое же озабоченное выражение лица. «Большевики тебе доверяют!» – наивно восклицает Юрий Живаго (его играл Омар Шариф). Комаровский фыркает, словно разговаривает с ребенком: «Они никому не доверяют. Они считают меня полезным».
Георге был членом Румынской компартии. Теперь он входит в «Ватра Романеска» («Румынская отчизна»), секретную националистическую организацию, которая, по сообщениям и слухам, представляет собой современную версию Легиона Архангела Михаила, ставшую после окончания эпохи Чаушеску прибежищем для бывших сотрудников Секуритате, которые по-прежнему находятся у власти в Румынии под крышей Фронта национального спасения Иона Илиеску. Георге также издает две газеты в Клуже: одна из них поддерживает Фронт национального спасения, другая, студенческая, состоит к нему в оппозиции.
Впрочем, Георге случалось и ошибаться. В середине 1970-х гг. он получил стипендию для обучения в Лондоне. Там он занимался некоторой побочной деятельностью: продавал арабам подержанные автомашины, договорился с одним румынским дипломатом о продаже местным коллекционерам молдавских вин из погребов румынского посольства. Вернувшись на короткое время домой в Румынию, он узнал, что его паспорт больше недействителен.
– У меня осталось семьсот фунтов в лондонском банке. Для Румынии это большие деньги. Эти ублюдки меня больше не выпустили, – произнес он, цокая языком и воздевая брови. На Востоке этот знак выражает презрение.
В Клуже поговаривали, что Георге был полковником Секуритате. Но мне не верится, что Георге кто-то более зловещий, нежели классический пройдоха, умеющий приспосабливаться, циник и пессимист, презирающий в равной степени и систему, и тех, кто достаточно наивен, чтобы открыто противостоять ей. Георге из тех людей, кто никогда не начнет революции, но всегда придумает, как получить выгоду от нового режима, каким бы он ни был.
Георге владеет английским, немецким и другими языками. Он оказался еще и специалистом-любителем романов Джона Стейнбека.
– Стейнбек – единственный писатель, который мог бы полностью раскрыть то, что коммунисты сделали с крестьянством. То, что происходило в Румынии начиная с 1950-х годов, сюжет, который Стейнбек всю жизнь готовился описать. «Гроздья гнева», ха, – снисходительно усмехнулся он, – это детская история по сравнению с тем, что здесь происходило.
Для Георге на первом месте всегда были он сам, его прекрасная рыжеволосая жена Аугуста и их сын. Через несколько недель после революции он начал давать частные уроки английского, присоединился к «Ватра Романеска» и вступил в Фронт национального спасения. Имея деньги, он купил на черном рынке тарелку спутниковой связи и установил ее в гостиной своего дома. Теперь семья смотрит SNC, «Лодку любви» и другие программы, а Георге вычисляет, какая из сторон победит в Румынии после Чаушеску и не лучше ли будет его семье уехать из Клужа куда-нибудь за границу.
Аугуста убеждает мужа уехать в Америку, туда, где семья «сможет жить как люди, а не как дикари. Теперь нам разрешили иметь загранпаспорта, давай уедем, пока не поздно. Здесь никогда не знаешь, что может произойти завтра». Георге колеблется. Жестикулируя, он говорит:
– Мне уже за сорок. Я не хочу начинать все заново. Кем я буду в Америке? – вскидывает он свои черные брови. – Каким-то грязным иммигрантом, который пашет двадцать четыре часа в сутки, чтобы жена могла сходить в магазин и купить микроволновку? Нет, – качает он пальцем. – Я лучше подожду, посмотрю, возможно, и здесь появятся какие-то перспективы.
Найджел был прав. Мы с Георге легко нашли общий язык. Найджел покинул нас после ланча, а Георге пригласил меня к себе домой познакомиться с семьей. Весь следующий день мы разговаривали без остановки. Беседа подогревалась запасами домашней сливовицы Георге. Часто я был не в состоянии делать записи. Но большие куски из монологов Георге запомнились хорошо.
– Разумеется, я был членом компартии! Думаешь, я дурак, что ли? – говорил он, выпячивая челюсть и разводя руками. – А как бы я выучил английский, немецкий? Как, по-твоему, я мог в семидесятые годы заработать деньги и получить разрешение съездить в Англию и Америку, где узнал про Стейнбека? Будучи диссидентом? Конечно, я играл по правилам. В Румынии все, кто мог ездить за границу и получить хорошее образование, были членами партии. Поэтому в данный момент нет альтернативы Фронту национального спасения. Румыния не Чехословакия или какая-то другая страна Центральной Европы. Это полукрестьянская страна. Все образованные люди бывшие коммунисты. И поверь, никто больше не ненавидит коммунизм, чем бывшие коммунисты. Видишь ли, у румын есть преимущество перед югославами. Югославы из-за их партизанского движения во время Второй мировой войны действительно в это верили, в коммунизм, я имею в виду. Мы, – он опять вскинул брови, выражая превосходство, – никогда ни во что не верили. Это был один большой рэкет. Вот почему нам можно было верить и почему югославские коммунисты так облажались. Боб, я тебе скажу кое-что, в чем ты можешь не сомневаться. Если бы эти люди на площадях в Клуже, Бухаресте, студенты, которые хотели избавиться от Илиеску и коммунистов, победили или, точнее, если бы вдруг возникло опасение, что они могут добиться успеха, началась бы кровавая бойня. Потому что каждый человек в нашей стране, который не выходил на площадь, чувствует себя безопаснее с Илиеску, чем со студентами.
Георге говорил мне это в мае 1990 г. Через месяц полиция очистила Университетскую площадь Бухареста от митингующих студентов. Но студенты неожиданно вернулись. Вдохновившись успехом, новые тысячи студентов осадили правительственные здания. На этот раз ни полиция, ни армия не вмешивались. Появилась версия, что Илиеску могут вынудить подать в отставку. Однако через двадцать четыре часа из долины Жиу, что в Северной Валахии, в Бухарест приехали тысячи шахтеров. Шахтеры, вооруженные железной арматурой и топорами, устроили кровавую бойню. Медицинский персонал городских больниц отказывался оказывать помощь раненым. Очень мало кто из румын, к ужасу иностранных дипломатов и журналистов, высказывал сочувствие пострадавшим студентам.
– Давай я тебе скажу, что будет дальше, – продолжал Георге. – Илиеску будет избран президентом подавляющим большинством голосов [так и произошло]. Через несколько лет Фронт национального спасения начнет разваливаться изнутри. Пока он будет разваливаться, появятся новые оппозиционные партии, более зрелые, чем те, что мы имеем сейчас. В итоге Румыния наконец получит настоящее некоммунистическое правительство. Но это произойдет не раньше середины девяностых, а политики, которые войдут в это некоммунистическое правительство, еще не проявили себя. Сейчас я с Фронтом. С той минуты, когда он начнет разваливаться, мне с ним будет не по пути.
– А что насчет «Ватры», Георге? Это действительно новый Легион Архангела Михаила?
– Ты имеешь в виду «Ватра Романеска»? Это интересно. «Ватра» появилась после революции, когда румыны внезапно очнулись и поняли, что должны вместе выступить против венгерской угрозы. Я ее член, но до сих пор не понимаю, что именно «Ватра» собой представляет и каковы ее цели. Это может оказаться лавиной. Если помнишь, Легион Архангела Михаила начинался точно так же, как «Ватра», – идеалистическое, почвенническое национальное движение, которое было вне политики и, соответственно, не подвержено коррупции. Что касается «Ватры», поживем – увидим.
Георге часами говорил про Чаушеску. Я запомнил только основные моменты.
– Чаушеску худший вид румына. Он из валашских крестьян, а те нечто среднее между турками и цыганами. Это важно для понимания его образа мыслей. Думаешь, он хотел расплатиться с внешними долгами ради независимости страны? Кто в здравом уме станет выплачивать долги раньше времени? Он решил: «Как только долги будут выплачены, страна окажется полностью в моих руках, и я смогу делать что захочу». Точно как крестьянин, расплачивающийся с землевладельцем: закладную выкупил – и дом принадлежит ему. Он может делать пристройки, спалить дом – все, что угодно. Примерно так думал Чаушеску. Чаушеску держал ослов в качестве домашних животных. Подумай об этом. – Георге выставил палец и покрутил им у виска. – Ослы определяли политику. В 1965 году, когда умер Георгиу-Деж и появился Чаушеску, никто про него не слышал. Он был неизвестен, потому что до этого занимался вопросами внутренней безопасности. Чаушеску был как Сталин – мелкий грабитель, который освоил искусство бюрократии, не умный, но хитрый. В Румынии есть выражение «hirtia suporta maimult ca betonul» – «бумага прочнее камня». С помощью карандаша и бумаги ты можешь организовать пытки и убийства в огромном масштабе. У Сталина было хоть какое-то образование. Он учился в Грузии на священника. Вот почему его речи, которые позже стали образцом для всех коммунистических речей, звучат как православная литургия. А Чаушеску был необразованным. Он бросил школу в пятнадцать лет. У него был дефект речи. Отец его бил. Рассказывали, что однажды Чаушеску, в очередной раз сев в тюрьму за воровство, оказался в одной камере с коммунистами. Они решили, что он им пригодится. Вот так Чаушеску стал коммунистом. Опять рэкет. – Георге поднял брови и пожал плечами. – Чаушеску вырос в Скорничешти, в Олтении, это самые задворки Валахии. Это один из таких городов, где все друг на друга похожи, слегка тронутые, – он опять покрутил пальцем у виска, – как у вас в Аппалачских горах. Его создали вы, американцы. Никсон пригласил его с визитом в 1968 году. Хорошо, согласен, в то время мы все думали, что он, может, окажется лучше, чем Георгиу-Деж. В конце концов, Чаушеску критиковал советское вторжение в Чехословакию. Понимаешь, мы все строили планы, думали только о себе, и Чаушеску нас просто засосал. Это было как зыбучий песок. Каким идиотом я был, решив вернуться в 1974 году! Надо было мне остаться за границей. В Англии или Америке я уже был бы богачом. Но, когда Картер пригласил его в Америку в 1976 году, это уже было непростительно. Нас словно изваляли в дерьме. Мы-то уже все понимали, кто такой Чаушеску. Помню, тогда в газетах написали, что во время визита в каком-то штате, то ли в Мэриленде, то ли в Пенсильвании, в честь Чаушеску назвали супермаркет. Вероятно, окружение Картера старалось всячески ублажить Чаушеску, он в это поверил, и ему хотелось, чтобы и мы поверили. – Георге изобразил плевок. – А ты еще спрашиваешь, почему в семидесятые годы я был коммунистом…
– А мы хоть что-нибудь сделали правильно?
– У вас был один хороший человек. Один.
– Кто?
– Ваш посол, Фандербурк.
Я с недоумением уставился на Георге.
Дэвид Б. Фандербурк был назначен послом Соединенных Штатов в Румынии в 1981 г., вскоре после того, как Рональд Рейган в первый раз стал президентом. Назначение Фандербурка было политическим решением, одним из самых интересных и противоречивых из всех, принятых Рейганом. Фандербурк был протеже сенатора от Северной Каролины Джесси Хелмса, республиканца, чьи крайне правые взгляды на аборты, молитвы в школах и прочее Фандербурк громко и с гордостью поддерживал. Но в резюме Фандербурка были и другие позиции, более существенные, хотя пресса не обращала на них должного внимания. Он говорил по-румынски; он учился в Румынии по программе Фулбрайта; в диссертации он писал о том, как политика умиротворения, которой придерживались в 1930-х гг. Франция и Британия, оставила Румынию один на один с Гитлером и Сталиным, практически вынудив ее стать пронацистской в начале войны и просоветской в конце. Фандербурк был не просто денежным мешком, желавшим получить должность посла в обмен на финансовую поддержку избирательной кампании. Молодой, сурового вида брюнет с очками в черной оправе, он был целеустремленным ученым, которого интересовала только одна работа: должность посла в Бухаресте.
Государственный департамент США не жаловал Фандербурка; он платил той же монетой. В 1970–1980-х гг. Румыния была единственной страной в Восточной Европе, вокруг которой в Вашингтоне шли серьезные политические дебаты, порой напоминающие маленькую войну.
Румыния и Венгрия были единственными странами Варшавского договора, которым правительство США предоставило статус наибольшего благоприятствования в торговле. В случае с Венгрией это не вызвало особых разногласий: по восточноевропейским стандартам в Венгрии была либеральная экономика и либеральное отношение к правам человека. Румынии Соединенные Штаты предоставили такой статус по другим причинам. Чаушеску, по мнению Государственного департамента, проводил «независимую» внешнюю политику, которая не полностью совпадала с линией Советского Союза. Например, он признал Израиль и установил тесные отношения с Китаем. «Пинстрайперы»[40], как Фандербурк называл своих противников из Государственного департамента, понимали, что, как бы ни было мало значение этой «независимой» политики для Соединенных Штатов, лишение Румынии статуса наибольшего благоприятствования приведет только к тому, что Вашингтон утратит и без того незначительное влияние на Чаушеску, а это ухудшит ситуацию с правами человека в Румынии. На это Фандербурк отвечал так: «Ухудшит? Как она может стать в Румынии еще хуже?»
В Вашингтоне говорили, что Фандербурк дилетант, он ничего не понимает в дипломатии и совсем не так хорошо владеет румынским. «Он только усугубил ситуацию. Новому послу в Бухаресте пришлось долго выправлять положение», – пояснял мне один политический аналитик.
Но у сотрудников американского посольства в Бухаресте было иное мнение. Один из них прямо сказал: «Фандербурк хорошо говорит по-румынски. Но более важно то, что он хорошо понимает, что здесь происходит». Другой американский чиновник в Бухаресте заявил: «Меня не интересует, что о нем говорят. После того как я посмотрел, как посол Фандербурк ведет дела с румынами, я не испытываю к нему ничего, кроме глубочайшего уважения».
Фандербурк оставил свой пост в 1984 г. весьма впечатляющим образом. Он публично назвал Чаушеску «schmecher», румынским жаргонным словом, означающим «мошенник», и добавил, что он успешно «дурил» Государственный департамент своим внешнеполитическим курсом, который был далеко не таким «независимым», как могло показаться. В Госдепе это вызвало лишь охи и вздохи, зато очень понравилось Георге.
– Когда ваш посол Фандербурк использовал это слово «schmecher», я даже не могу передать, какие чувства это у меня вызвало. Я впервые почувствовал: все-таки есть надежда, что кто-то в другом мире понимает, что тут происходит. – Георге покачал головой. – Да, schmecher, именно таким и был Чаушеску. Может, Чаушеску нравился вам, потому что установил дипломатические контакты с Израилем, – саркастически заметил Георге. – Чушь собачья! Он установил отношения с Израилем, чтобы продавать евреев, так же как продавал немцев в Западную Германию: четыре тысячи долларов за выездную визу. Чистый рэкет! Деньги шли брату Чаушеску Марину, тот клал их на счет в швейцарском банке. Тому самому, про которого говорят – говорят! – что он покончил с собой. Пойми, братец [Марин Чаушеску] просто был, как у вас говорят…
– Человек-мешок.
– Именно мешок, – улыбнулся Георге. – Зачем, по-твоему, он проводил столько времени в румынском посольстве в Вене? Он переправлял деньги в Швейцарию. Говорят, он повесился в подвале посольства. Его пытали, хотели выведать номера банковских счетов, а потом повесили.
– Кто его пытал? Другие дипломаты? – спросил я.
– Конечно, другие дипломаты, почему бы и нет!
– Значит, румынское правительство теперь знает номера банковских счетов Чаушеску в Швейцарии? – Я безуспешно пытался уловить логику Георге.
– Нет. – Георге прикрыл глаза и воздел руки к небу. (Какие же наивные эти американцы!) – Они убили Марина и отправились в Швейцарию забрать деньги. Теперь они во Франции или еще где-то. Ты думаешь, что румын, убив другого румына из-за денег, отдаст эти деньги румынскому правительству? – Он опять взмахнул руками. – Конечно же он оставит их себе!
Я ехал на поезде мимо покрытых зеленым бархатом холмов Мунтении, гористого района Валахии, граничащего с северо-западной частью Трансильвании, в город Куртя-де-Арджеш, собираясь посетить местный монастырь.
Вход в церковь охраняла монашка со строгим лицом. Войдя в церковь, справа можно увидеть белые мраморные гробницы короля Кароля I, его жены Елизаветы цу Вид (Кармен Сильвы) и Негое Басараба, валашского князя XVI в., чей род и основал Бессарабию. Слева гробница короля Фердинанда, как и те, что справа, украшенная резным орнаментом и отмеченная его именем и королевскими регалиями. Но с левой стороны нефа, рядом с Фердинандом, есть еще одна гробница, безымянная, с простым резным крестом на верхней плите. Распоряжение оставить эту могилу безымянной стало одним из множества знаков неуважения, которые король Кароль II проявил к своей матери, королеве Марии.
На мраморной плите монашки поставили табличку: MARIA, REGINA ROMANIEI, 1914–1938.
Я заметил, что несколько школьниц тайком рвали цветы в саду. Когда монашка повернулась спиной, девчонки проскользнули под ограждающей веревкой и молча, затаив дыхание, быстро положили цветы на гробницу Негое Басараба, о котором им наверняка рассказывали в школе.
Выйдя из церкви, я подошел к группе школьниц и спросил, кто такая королева Мария. Они пожали плечами. Похоже, они не поняли, о ком я спрашиваю. Я попытался еще раз, другими словами. Они явно не знали, кто это.
Какая ирония, подумал я. Королева Мария более чем кто-либо другой обеспечила присоединение к Румынии Трансильвании (а также Бессарабии и Северной Буковины) после Первой мировой войны. Она бывала на полях сражений Второй Балканской и Первой мировой войны, ночевала рядом с солдатами, одевалась как языческая богиня-воительница древней Дакии. Исключительно благодаря силе воли эта родившаяся в Британии принцесса сделала себя румынкой и дала почувствовать своим подданным, что значит быть румынами, так, как не смогли это сделать никакие местные фашисты и коммунисты, пришедшие к власти после нее.
Я сорвал в саду желтый цветок. Чувствуя некоторую неловкость, дождался, когда монашка на что-то отвлеклась, и положил желтый цветок на мраморную плиту, под которой покоятся останки последнего доброго и достойного правителя Румынии Марии Виндзор Гогенцоллерн. Уходя, я обернулся и увидел улыбку на строгом лице монашки.
Глава 10. Трансильванская история: дети гамельнского флейтиста возвращаются домой
После часа езды на попутной машине обратно в Трансильванию я переместился из грязноватой комнатушки в частном секторе Куртя-де-Арджеша в очень опрятный, с резной мебелью номер отеля «Императул Романилор» («Римский император») в Сибиу, причем он обошелся мне в ту же сумму.
Я словно оказался на небесах. Кафельная плитка и металлическая фурнитура в ванной сияли, отполированные до блеска. Мыло лежало в нераспечатанной упаковке. В кафе отеля подавали капучино со взбитыми сливками. Ресторан со стенами, отделанными мрамором, и зеркалами в золоченых рамах, тот самый, в котором подкреплялись Лист и Иоганн Штраус, предлагал суп без пятен жира и свежий салат. Румынские официанты, как и румынские горничные, которые обслуживали мой номер, работали тихо и качественно, при этом не шептали мне в ухо про курс обмена валюты и проституток.
Глядя в окно гостиничного номера, я, как и Уолтер Старки более шестидесяти лет назад, «в изумлении протер глаза. Город, в котором я оказался, совсем не напоминал Трансильванию, поскольку был лишен характерной румынской или венгерской специфики. Узкие улочки и островерхие крыши домов напомнили мне о Гамбурге». Я вышел на прилегающую к отелю площадь Республики и увидел мощенное плиткой пространство в окружении разноцветных барочных фасадов домов с геральдическими деревянными знаками, крытыми черепицей крышами, поросшими мхом, и мансардными окнами. В прилегающих боковых улицах, местами перекрытых сводчатыми арками, виднелось множество островерхих куполов-луковок, венчающих «прочные башни», которыми восхищался в 1935 г. Патрик Ли Фермор. Если добавить свежевыкрашенные фронтоны домов и несколько бутиков с заоблачными ценами, эту площадь в Сибиу легко можно было принять за такую же где-нибудь в Германии. Я оказался на юго-восточной оконечности немецкого и австро-венгерского миров, но при этом оставался в самом центре Румынии. Никогда еще в моем путешествии по Румынии парадоксы восприятия не были столь магическими и реальными. Поистине история, которую может поведать эта архитектура, граничит с фантастикой.
Когда флейтист увел всех детей из средневекового Гамельна, что в Нижней Саксонии, в гору, которая сомкнулась за ними, они вышли на свет в полутора тысячах километров юго-восточнее, в центре Карпатских гор, недалеко от Черного моря. Эта легенда, которую обессмертили Иоганн Вольфганг фон Гете, братья Гримм и Роберт Браунинг, на самом деле основана на истории колонизации Трансильвании германцами в XII в. Браунинг пишет:
…Есть в Трансильвании племя одно, От всех туземцев отлично оно – Обычай чуждый, иной наряд, – И соседи упорно про них говорят, Что отцы и матери их появились Из подземной тюрьмы, где годами томились И куда их ввергли и завели Мощные чары еще издали, Из города Гамельна, Брауншвейгской земли; Но как и за что, объяснить не могли[41].«Брауншвейгская земля» – это Саксония, регион в Центральной Германии. Хотя первыми германскими поселенцами в Трансильвании были, скорее всего, фламандцы из районов, граничащих с Голландией, название «Саксония» прижилось. По легенде, флейтист был крысоловом, который умел извлекать из своей дудочки такие чарующие звуки, что все крысы города Гамельна пошли за ним и низверглись с набережной в полноводный Визер. Когда же бургомистр отказался выплатить обещанный гонорар, флейтист в отместку увел из города всех детей под землю, и с тех пор их никто не видел.
Широко распространенное убеждение, что цыгане воруют детей (не говоря уж о репутации цыган как великолепных музыкантов), подсказывает, что фигура флейтиста напоминает цыгана, который заманил своей музыкой детей к себе домой, в Трансильванию.
На самом деле пригласил саксонцев поселиться в местах, по которым в то время проходила восточная граница Венгрии с Византийской империей, венгерский король Геза II. Там саксонцы основали семь городов-крепостей, или Зибенбюрген («Семиградье»), образец провинциальной барочной архитектуры. До того как Клуж стал именоваться Клужем, Клужем-Напокой или Колошваром, первые саксонские обитатели называли его Клаузенбургом. Брашов был раньше Кронштадтом, Сигишоара – Шессбургом и т. д. Самым крупным из этих городов был Германштадт, названный в честь саксонского барона. Позже Германштадт стал известен под венгерским названием Надьсебен, а еще позже под румынским названием Сибиу (от латинского названия протекающей через город реки Чибин – Cibinum).
Несмотря на румынские названия на картах, эти города до сих пор известны немцам и австрийцам под своими тевтонскими раскатистыми первоначальными наименованиями. Влияние суровых, трудолюбивых саксонцев на путешествующих в этих местах было столь велико, что, когда Джонатан Харкер из романа Стокера «Дракула» ехал через Трансильванию к замку графа Дракулы, он, естественно, остановился не в Клуже, а в Клаузенбурге.
«Мое знание немецкого языка, хотя и поверхностное, очень помогло мне: не знаю, как бы я обошелся без него»[42], – записал Харкер в дневнике.
Саксонцы ни на кого не полагались, создавая тесные и эффективные сообщества за крепостными стенами. Чем меньше контактов с румынами, венграми и евреями, тем лучше, считали они. Румыны и венгры называли Трансильванию поэтическими терминами Эрдей и Эрдели, что означает «залесье», но для саксонцев Трансильвания всегда была просто Зибенбюрген – «Семиградье».
Протестантская Реформация укрепила в саксонцах осознание своих германских корней. Они стали, по словам историка Лукача, «самыми непреклонными лютеранами во всем христианском мире». Крушение Австро-Венгерской империи в 1918 г. и последовавшая передача Зибенбюргена Румынии укрепили в саксонцах чувство этнической изоляции, что сделало их особенно восприимчивыми к нацистской пропаганде в 1930-х гг. При Гитлере статус саксонцев повысился до «фольксдойче» – непереводимого термина, говорящего о сопричастности по расе, крови, почве, хоть и означающего, в общем, просто «немецкий народ». Во время Второй мировой войны, когда немецкая армия мощным катком прошлась по всей Восточной Европе, многие молодые саксонцы вступали в войска СС. Прежде всего они воевали в 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц Ойген», ответственной за наиболее жестокие злодеяния на территории Югославии[43]. Лукач называет саксонцев «самыми верными приверженцами фюрера». Лукач, в 1981 г. проезжавший через саксонскую деревню в Трансильвании, отметил: «Мальчик в ледерхозе, увидев венские номера моей машины, вытянул руку в гитлеровском приветствии».
В качестве фашистского, мелкобуржуазного и нерумынского населения, насчитывающего несколько миллионов человек, саксонцы стали первыми жертвами коммунистического режима, установившегося в Румынии после Второй мировой войны. Власти Румынии и Советского Союза депортировали всех саксонских мужчин в возрасте от 18 до 50 и всех саксонских женщин в возрасте от 18 до 45 лет в донецкие угольные шахты на востоке Украины и в Сибирь. Впоследствии в Румынию вернулась лишь четверть из них. Еще четверть после освобождения отправилась непосредственно в Западную Германию. Оставшаяся половина просто растворилась на территории Советского Союза в начале 1950-х гг.; есть предположения, что все они умерли от болезней, холода и непосильной работы.
Начиная с 1960-х гг. Чаушеску относился к саксонцам так же, как к венграм, всеми силами стремясь разрушить их культуру. Он понемногу торговал выездными визами, за твердую валюту выпуская желающих уехать в Западную Германию, подобно тому как выпускал румынских евреев в Израиль. По словам Иона Михая Пачепы, заместителя начальника внешней разведки Румынии, в 1978 г. бежавшего на Запад, Чаушеску однажды признался, что «евреи и немцы» наряду с нефтью «лучшие экспортные товары» Румынии.
К концу 1980-х гг. в Трансильвании оставалось лишь около 200 000 саксонцев. После революции 1989 г., когда стали доступны паспорта и выездные визы, они толпами повалили в Германию.
В 1989 г. в Мюнхене я брал интервью у пожилой саксонки – репатриантки из Румынии Доротеи Пастиор.
– Я могу проследить родословную по материнской линии в Кронштадте [Брашове] вплоть до XVII века, – говорила фрау Пастиор. – Но уверена, наши корни в Зибенбюргене еще глубже. Мать познакомилась с отцом, когда он был на маневрах австро-венгерской армии близ Кронштадта. У меня было прекрасное детство. Мы, немцы, жили в своем, замкнутом социальном мире. Нам не было особого дела до румын и прочих, а им до нас. Смешно, мы жили бок о бок, но не имели желания учить их язык, знакомиться с ними. Наши школы были гораздо лучше. В саксонских городах ввели обязательное школьное образование раньше, чем в Габсбургской империи, и уж намного раньше, чем в Румынии. Экономический кризис двадцатых годов на нас не повлиял, наши общины были самодостаточными. В то время немцы из Германии отправляли своих детей в Зибенбюрген на каникулы в детские лагеря, потому что у нас было лучше с питанием. В Кронштадте мы вели очень буржуазный образ жизни. Отец пел в церковном хоре. Мы сами ставили оперы Вагнера. У нас была собственная национальная гордость… Своя массовая психология, благодаря которой многие молодые люди уходили служить в войска СС. Когда приходило печальное известие, что у кого-то из моих одноклассниц погиб брат, они несколько дней проводили дома, а потом приходили в класс в черном. А в остальном война была от нас далеко. Гитлеровские годы были вполне приятными. Переломным моментом в моей жизни, когда все стало плохо, было поражение немецкой армии в 1945 году.
Советские солдаты с винтовками со штыками ворвались в дом семьи Пастиор, забрали отца и пятнадцатилетнего брата и угнали на принудительные работы. Брату удалось бежать. Отец умер в 1946 г. на угольной шахте в Донецком бассейне. Семью официально известили о его смерти только в 1973 г. Все эти годы были одним бесконечным потоком страданий. Румынские власти выселили семью из дома. Четырнадцать лет им пришлось ютиться в одной комнате.
– Я не виновата в войне, – со слезами на глазах говорила фрау Пастиор. – Я – это я, обычная немка. И я тоже сильно пострадала.
«Семьсот лет назад здесь не было ничего, кроме диких лесов. Мы пришли с Рейна по просьбе венгерского короля. Мы здесь поселились и построили город, который ты видишь», – говорил старый саксонец путешественнику Э. О. Хоппе в Сибиу в 1923 г.
Я заглянул в Национальный музей Брукенталя на площади Республики, основанный в XVIII в. австрийским губернатором Германштадта. Я проходил из зала в зал. После нескольких недель путешествия по Румынии мой взгляд радовали подлинники Рубенса и Ван Дейка, зеркала в золоченых рамах, мебель в стиле бидермейер, двустворчатые окна до пола на фоне красно-коричневых шелковых обоев. Я подумал, что люди, выросшие в такой обстановке, например фрау Пастиор или тот старый саксонец, могли воспринимать материальные проявления румынской культуры – примитивные иконы, кроваво-красные деревянные кресты, разрисованные в ярком восточном стиле пасхальные яйца – как нечто отталкивающее и варварское.
Рядом с площадью я обнаружил старую книжную лавку, возможно, ту же самую, которую нашел Хоппе в 1923 г., «то и дело переходя с одной стороны улицы на другую, чтобы полюбоваться великолепными старинными зданиями». После недель рысканья по румынским книжным магазинам с полупустыми железными полками, на которых пылились дешевые брошюры технического содержания, написанные авторами из Восточного блока, встретить такую лавку тоже было подлинным удовольствием.
В 1990 г. из 170 000 жителей Сибиу лишь 7000 были саксонцами. Но саксонский дух определял не только атмосферу города, но и его деловой стиль. Я обнаружил, что работа в отеле, как и во многих магазинах и заведениях общественного питания, организована по необычно высоким для Румынии стандартам. Саксонцы могут отрицать, что соседство с румынами было им в чем-то полезным, но румынам оно явно пошло на пользу.
Как-то вечером в отеле я встретился с Беатрис Унгар, молодой и энергичной саксонской журналисткой из Hermannstadter Zeitung, местного немецкоязычного еженедельника, созданного, как и многие румынские газеты, сразу после революции. Но в отличие от румынских журналистов Унгар со своими коллегами использовала новообретенную свободу, чтобы пролить свет на прошлое своего сообщества. «И мы, и румыны сотрудничали с нацистами, – говорила Унгар. – И нам, и им есть в чем себя винить. Но разница в том, что мы открыто признаем вину и готовы говорить об этом, а румыны все отрицают».
На следующее утро на площади Республики я торговался с цыганом из-за стоимости газеты. Проезжавший мимо на старом велосипеде молодой человек остановился и помог нам договориться. Он был небрит, грязен, одет в застиранную белую рубаху. Соломенно-желтые волосы и умные голубые глаза выдавали в нем саксонца. Его звали Лоренц Лук. Он пригласил меня к себе домой на ужин.
Жилище Лоренца и его жены Катарины представляло собой однокомнатное помещение в большом дворе на частично разрушенной улице у железнодорожной станции. Кругом было столько пыли и мусора, что я снова ощутил себя словно в Северной Африке. Мы втроем устроились за столом на расшатанных стульях во дворе. Лоренц разлил по стаканам домашнюю сливовицу. Потом взял несколько щепок, собранных на улице, и сунул их в металлический бак. Полив дровишки алкоголем, он поднес спичку. Костерок вспыхнул, и Лоренц пристроил на него куски свинины и рыбы.
– Вот все, что у меня есть после одиннадцати лет тяжелой работы в этой цыганской стране. Я плачу восемьсот леев в месяц за жилье, свет и воду [во дворе я увидел один-единственный кран]. Работаю техником, зарабатываю десять леев в час. Мы покупаем еду, и к концу месяца денег не остается.
Лоренц показал мне большой пластиковый чемодан. В нем хранилась одежда его и Катарины. Это все, что семья возьмет с собой в Германию: через несколько дней они навсегда покинут Румынию.
– Здесь хорошо было только в Hitlerzeit [во времена Гитлера]. Нацистская армия, в отличие от русских и румынских soldaten, хорошо относилась к саксонцам. Когда я служил в армии, румыны обращались с саксонцами как со свиньями. Сами ходили с оружием, а мы выполняли всю черную работу. Ты знаешь, что нацисты даже угощали Kindern [саксонских детей] шоколадками? А теперь кругом сплошные цыгане, – с гримасой продолжал Лоренц. Цыганами он называл и цыган, и румын. – Все эти демонстрации на площади, разговоры о выборах – это все цыганские штучки. До декабря тут был цыганский коммунизм, теперь будет цыганская демократия. Все то же самое. Цыган не изменить. Я саксонец, мне до всего этого нет дела.
Лоренц пил часто, постоянно подливая всем в стаканы сливовицу. Его жена, тоже саксонка, говорила мало. Лоренц достал коробку с семейными фотографиями и протянул мне одну. Это была их свадебная фотография.
– Возьми на память, – сказал он. – В честь нашей дружбы.
Зернистая черно-белая фотография была сделана в 1986 г., но выглядела так, словно ей было минимум полвека.
Лоренц пошел проводить меня до отеля. Лунный свет играл на брусчатке и фасадах домов в готическом и барочном стиле. Темнота скрывала румынскую бедность. Разговаривая с Лоренцем по-немецки, мне легко было на минутку представить, что мы не в Румынии, а где-нибудь в Германии или Австрии.
– Здесь одни цыгане, – продолжал Лоренц. – Но, знаешь, в Германии немцы будут называть меня цыганом, потому что я отсюда. Плевать. Я только хочу найти работу, зарабатывать нормальные деньги, купить автомобиль, стиральную машину, видео…
В последний день моего пребывания в Сибиу мы с Лоренцем пошли получать их с женой паспорта. В паспортном столе люди толпились у небольшого окошка, из которого служащий выкрикивал фамилии. Через несколько минут прозвучала фамилия Лоренца. Он пробился к окну, протянул туда документы и получил в руки два паспорта – свой и жены. Мне вся процедура показалась быстрой и ординарной.
Проталкиваясь обратно, Лоренц просто светился от счастья.
– Ты не представляешь, сколько лет я ждал этого момента! – Несколько минут он тщательно изучал каждую страницу, даже пробовал их на ощупь. – Теперь я понял, что действительно могу уехать.
Затем мы вышли на окраину Сибиу и поймали попутку, чтобы съездить в деревню к родителям Лоренца.
– Официальное название деревни – Русы, – сказал Лоренц. – Но ее настоящее название Ройссен. Она основана в Средние века саксонцами.
Ройссен находится к северу от Сибиу. Малонаезженная проселочная дорога петляла мимо зеленых холмов. Справа на склоне одного из таких холмов показалась барочная церковь, а затем кластер домов с красными черепичными крышами, по виду XVIII–XIX вв. Лоренц попросил водителя остановиться. Предложение позволить мне расплатиться, подкрепленное заверениями, что в карманах полно леев, которые мне девать некуда, осталось без ответа. Лоренц расплатился с водителем сам, и мы двинулись по грунтовой дороге, вдыхая ароматы ромашек и мяты вперемешку с навозом. Родителей Лоренца мы нашли на картофельном поле. Прикрывая глаза от солнца крепкими загорелыми руками, они осмотрели меня и застенчиво произнесли: «Hello». Лоренц заговорил с ними, но я не мог разобрать ни слова. Они говорили на саксонском диалекте, который сформировался в XIV в., через двести лет после того, как в Трансильвании появились первые переселенцы. Произношение немецких слов в нем искажено до такой степени, что с трудом распознается даже самым тренированным слухом. Лоренц вытащил из кармана паспорта и торжествующе помахал ими в воздухе. Все заулыбались. Мать с отцом взяли паспорта в руки и так же внимательно стали их ощупывать, разглядывая каждую страницу.
Я огляделся. Вокруг была сплошная идиллия. Родители Лоренца выращивали картофель, кукурузу, чеснок, лук, сельдерей и прочие овощи и фрукты. На большом дворе под яблонями они держали несколько овец, свиней, кур с петухом и кроликов. В подвале, как я выяснил позже, хранились бочки с бродящим вином и сливовицей.
– Почти все, что мы пьем и едим, мы делаем сами. В магазинах ничего нет, – пояснила мать Лоренца.
У нее были темные волосы с проседью и красноватое, обветренное лицо. Руки похожи на мужские. Выглядела она лет на шестьдесят – но как знать? Лоренцу было двадцать шесть, а выглядел он на сорок. Отцу Лоренца, как мне сказали, пятьдесят восемь, но выглядел он на все семьдесят пять.
– Отец много пьет, поэтому выглядит намного старше, – сказал Лоренц.
– Больше тебя? – изумился я.
– Намного больше. Я столько не пью. Это вы не привыкли так пить.
При этих словах родители расхохотались. Но пили они действительно много. Полдня я пытался за ними угнаться, опрокидывая рюмку за рюмкой сливовицы и запивая красным вином. Впрочем, они не пьянели и позже пошли в поле работать.
Дом состоял из двух комнат. На стенах плакаты с простыми христианскими изречениями на немецком. Туалет на улице, у амбара.
– Мы всю жизнь прожили в Румынии. Уезжать нам нет смысла, – говорила мать Лоренца. – Но у Лоренца в Румынии нет будущего. В этой стране вообще нет будущего.
– Но ваша деревня выглядит совсем неплохо, – заметил я.
– Да, – кивнул Лоренц. – У нас есть родственники в Германии. Они передавали родителям марки, чтобы давать взятки коммунистам. За это те никогда не покушались на наш урожай. С цыганами без взяток никак.
Родители согласно кивали. Мать Лоренца сказала, что на ближайших выборах будет голосовать за Илиеску.
– Но он же коммунист, – удивился я. – Фронт национального спасения – та же Румынская компартия, только без Чаушеску.
– Да, – согласилась она. – Но от Илиеску мы знаем, чего ждать. А от других нет. В этой стране нельзя никому верить. Румыны не любят саксонцев. Мы работаем. Они нет. Когда в 1945 году пришли русские, мы бежали в леса и прятались несколько недель. Румыны помогали русским искать нас. Мою сестру поймали и услали в Россию работать. Там она и умерла.
Мать Лоренца открыла банку присланных из Германии мясных консервов, чтобы закусывать сливовицу и вино. От такого количества выпитого посреди жаркого дня я уже был готов заснуть прямо в кресле. Но Лоренц с матерью захотели показать мне местную церковь.
Церковь была построена в XVIII в. Мы с Лоренцем поднялись на колокольню. Деревянные детали сильно обветшали и крайне нуждались в покраске. Коммунисты запрещали ремонтировать церковь, а теперь в деревне осталось лишь несколько саксонцев. Лоренц сказал, что когда-то на колокольне были часы, но их украли турки после сражения с Габсбургами. В самой церкви было просторно и чисто, как в любой церкви в Германии, за исключением прогнивших балок. Ветер посвистывал через отверстия в потолке, странным образом напоминая о звуках органа. Я задумался о том, как течет время. Когда-то в деревянных органных трубах звучали хоралы Баха. У алтаря я обратил внимание на мемориальную пластинку. На ней были высечены имена примерно двух десятков жителей деревни, которые погибли в Первую мировую войну, сражаясь в рядах австро-венгерской армии.
– А как насчет памятной доски саксонцам из Ройссена, которые погибли во Вторую мировую? – спросил я Лоренца.
Он сказал, что не знает, и переадресовал вопрос матери. Она пожала плечами. Лицо приняло какое-то грустное и неоднозначное выражение. Я инстинктивно понял, что мне пришлось бы пить с ней несколько дней, чтобы понять, что она действительно думает по этому поводу. Она произнесла несколько слов по-саксонски. Лоренц пересказал:
– Она говорит, что при Hitlerzeit было хорошо, но это было ошибкой. Лучше об этом забыть.
Потом они показали мне деревенское кладбище. На каждой могиле были цветы. Некоторым надгробиям было по паре сотен лет, другие недавние. Среди них оказалась и могила молодой двоюродной сестры Лоренца, которая умерла в результате подпольного аборта. Я сообразил, что еще через несколько лет того «поверхностного немецкого», который весьма пригодился Джонатану Харкеру в Трансильвании, хватит лишь на то, чтобы прочитать надписи на этом саксонском кладбище. Когда уйдет из жизни поколение родителей Лоренца, с этим кладбищем произойдет то, что произошло с еврейским в Буковине: его будут охранять и поддерживать цыгане, которым станет переводить деньги из Германии Ассоциация саксонских иммигрантов. А когда-нибудь, возможно, цыгане и поселятся в доме родителей Лоренца. Я задумался, осознает ли это сам Лоренц. Может, поэтому он всегда произносит слово «цыгане» как ругательство: от обиды.
На обратном пути в Сибиу Лоренц опять сказал, что в Германии хочет только зарабатывать деньги:
– Я буду браться за любую работу, лишь бы получать марки, а не леи.
И торжествующе расхохотался.
То, что потеряет Румыния, станет приобретением для Германии. Очередное подтверждение тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Саксонцы наряду с евреями были единственными этническими группами в Румынии с традиционными буржуазными ценностями. Экономически они располагались между богатым дворянством и массой угнетенного крестьянства. Но в тот момент, когда Румыния начнет освобождаться от коммунизма и ей потребуются саксонцы как движущая сила, способная направить румынское общество к формированию капиталистического среднего класса, последние саксонцы трудоспособного возраста уедут в Германию.
Но в Германию уезжают не только саксонцы. В Германию едут миллионы этнических немцев из Силезии и Померании в Западной Польше, из Восточной Пруссии, с Поволжья, из советской Средней Азии. Все, как и Лоренц, хотят работать, работать и работать. Они готовы браться за работу, которой пренебрегают процветающие немцы, и постепенно становиться средним классом.
Я подумал об огромном потоке ирландцев, итальянцев, поляков и евреев, иммигрировавших в Америку в первое десятилетие XX в., и о том, сколько они сделали для процветания своей новой страны. Германия станет гораздо более сильной державой, чем можно было предположить после ее объединения с Восточной Германией. Эпоха советского господства на Балканах сменится эпохой немецкого господства. Как мне представляется, немецкий экономический империализм способен дать наиболее практические и эффективные средства для укоренения в Румынии западных традиций свободного предпринимательства, демократии и других ценностей свободного мира. Единственная надежда Румынии – это Германия. Европейская история конца XX в. создается Лоренцами, и в этом я вижу большую иронию.
Глава 11 Последний взгляд: Тимишоара и Бухарест
Поезд уносил меня на запад, из холмистой Трансильвании на плоскую, монотонную равнину, в Банат[44], граничащий с Венгрией и Югославией, население которого составляют румыны, венгры, сербы, евреи и этнические немцы[45].
Историю и особенности Румынии во многом определяют горы. А кровь – определяющий принцип жизни в горах. Карпаты не только отделяют Молдавию от Трансильвании, а Трансильванию от Валахии, но и одну этническую группу от другой. В Карпатах одна деревня может быть румынской, соседняя венгерской, третья немецкой и т. д. Но на равнине, в приграничном районе, где государственные границы часто менялись на протяжении веков, различные группы перемешивались. Как в Центральной Европе, формировалась некоторая социальная сплоченность. Таким образом, общество представляло собой намного более прочное социальное образование, противостоящее зубодробительным ударам коммунизма.
Более того, из-за близости Баната к Венгрии и Югославии местные жители могли смотреть иностранное телевидение и получать представление о том, как выглядит общество, где нет Чаушеску.
Тимишоару, главный город Баната, называют «лбом» Румынии. Румыны из Ясс, Клужа и даже Бухареста многие годы считали Тимишоару воротами во внешний мир. Тимишоара, наиболее удаленный от Востока и наиболее близкий к Западу, – наименее румынский из всех румынских городов.
Когда в декабре 1989 г. вспыхнула революция, румынский народ был явно удивлен. Века цинизма приучили его к тому, что ситуация может изменяться только в худшую, а не в лучшую сторону. Не удивило их только одно: что революция началась в Тимишоаре. «Это могло произойти только в Тимишоаре» – этот рефрен я слышал неоднократно (хотя студенты Ясского университета надеялись, что революция начнется у них). Тем не менее такой простой и очевидный географический и исторический факт остался не замеченным журналистами, освещавшими ход румынской революции, поскольку их внимание было сосредоточено прежде всего на личностях.
Никто из тех, с кем я разговаривал в Тимишоаре, не был, так сказать, «чистым» по крови. У каждого был как минимум один родственник из другой этнической группы. У многих в роду оказывалось намешано столько, что почти невозможно определить, кто они есть. У одного журналиста из Neue Banater Zeitung («Новая банатская газета»), с которым я подружился, отец «сербский коммунист», а мать «немецкая нацистка».
– И какие у них отношения? – поинтересовался я.
– Спорят о политике, – ответил он. – Трудно сказать, какая еще кровь течет в моих венах, – добавил он, заметив, что вполне вероятно наличие в роду румын, венгров, болгар и евреев. – Здесь у нас больше космополитизма, меньше ненависти. Вся ненависть была направлена против режима. Карточная система во время Первой и Второй мировых войн была лучше, чем при Чаушеску. При кайзере и Гитлере был свежий хлеб и даже иногда апельсины. При Чаушеску ничего этого не существовало.
Я приехал в Тимишоару просто так. В моем блокноте не было ни имен, ни номеров телефонов. Утром я спросил у администратора гостиницы, как связаться с редакциями местных газет, и мне дали их телефоны. Я отправился брать интервью. В каждой редакции, где я побывал, работали секретарши, было чисто, пепельницы не были завалены окурками, стены украшали произведения современного искусства, а не иконы или плакаты с изображениями рок-звезд. Но что более важно, я не встретил ни одного обозленного человека, ни от кого не услышал чего-то возмутительного.
В Тимишоаре мне быстро стало скучно. Город беден, как и другие румынские города. Люди плохо одеты, с фасадов домов облезает краска, меню ресторанов предлагают одно-два блюда, но в Тимишоаре я больше не чувствовал, что нахожусь в Румынии. Румыния была эхом мира Достоевского: внутренней стороной дьявольского византийского символа, населенной страдающими, одержимыми страстями людьми, чье сознание искажено собственной яростью и верой в дикие домыслы и заговоры. В Тимишоаре Румыния стала не столько реальностью, сколько ярким воспоминанием.
Из Тимишоары я вернулся в Бухарест. Вечерами в «Атене-Палас» открывался «дипломатический салон». Столик нужно было заказать заранее или дать взятку: место получит тот, кто сунет больше леев в руки метрдотеля. В отличие от всего отеля дипломатический салон служил прекрасным напоминанием о прошлой эпохе, отраженной в книгах «Атене-Палас, Бухарест» или «Балканская трилогия».
На потолке в виде купола, выкрашенного в желто-зеленый цвет, сияли восемь хрустальных люстр. Их свет отражался в отполированных до блеска зеркалах. Барочные колонны увивала позолоченная лепнина в виде растительного орнамента, гардины украшало золотое шитье. Цыган негромко играл на скрипке. Официанты подавали черную икру и французское шампанское. С учетом курса лея к доллару на черном рынке цена была вполне приемлемой. В мае 1990 г. большинство столиков занимали журналисты, приехавшие освещать первые за пятьдесят три года (после того как Кароль II установил королевскую диктатуру) свободные выборы. Было также несколько молодых и серьезных пар из Англии и Америки, которые приехали в Румынию в надежде взять приемных детей. По некоторым сообщениям, около 40 000 брошенных детей томились в румынских детских домах-приютах средневекового типа, где многие умирали от голода и болезней. Проблемой для потенциальных приемных родителей было не найти ребенка, а одолеть свору коррумпированных чиновников, чтобы вывезти ребенка из страны. Все возбужденно разговаривали, обмениваясь именами юристов и посредников, а также новейшими политическими слухами. Проститутки кучковались у входа в салон, настойчиво предлагая мужчинам-иностранцам пригласить их на ужин.
Выборы я проигнорировал. Победа Илиеску и Фронта национального спасения была очевидной. Гуляя по Бухаресту в предпоследний день моего пребывания в Румынии, я понял, что, несмотря на все маниакальные попытки стереть прошлое, призраки местной истории встречают меня на каждом шагу.
Последние пять лет пребывания Чаушеску у власти были одной непрерывной оргией безумного уничтожения. Бо́льшая часть южного района Бухареста, за рекой Дымбовица, в том числе шестнадцать церквей и три синагоги – все памятники архитектуры, была снесена бульдозерами. На руинах возник Чентру Чивик (Гражданский центр) – Запретный город сталинизма Чаушеску, строившийся с такой яростью, что местным жителям давали буквально несколько часов на то, чтобы собрать пожитки, прежде чем динамит превратит в прах их старинные дома XVIII–XIX вв.
Бульвар шире Елисейских Полей, вдоль которого выстроились облицованные белым мрамором многоэтажные жилые дома с неоклассическими, квазифашистскими фасадами, ведет к Дому республики[46]. Это свадебный торт из дешевого мрамора с шестьюдесятью четырьмя огромными залами и тысячами помещений. На Дом республики, по размерам превышающий здание Пентагона, ушло столько мрамора, что теперь в Бухаресте камень для надгробий можно купить только на черном рынке. На многие километры вокруг ничего, кроме гигантского пустыря, застроенного вульгарными сооружениями: реализованная мечта мстительного крестьянина.
Впрочем, самое жуткое не в том, что все было уничтожено, а в том, что избежало бульдозерного натиска.
На одном краю Гражданского центра, как раз у границы уничтожения, находится abator – бухарестская скотобойня, не действующая, с заколоченными окнами, но (каким-то чудом) сохранившаяся: ряд напоминающих бараки зданий из красного кирпича, с ржавыми трубами и дымоходами. Именно здесь в январе 1941 г. легионеры совершили самый, вероятно, жестокий акт холокоста.
На другом краю Гражданского центра, примерно в сотне метров от границы уничтожения, находится храм Святого Илии Горгани. У входа в рамке под стеклом текст, представляющий трехсотлетнюю историю этой церкви. В нем перечислены все имеющие к ней отношение события, за исключением одного. Именно в этой церкви в 1940 г. были провозглашены «национальными святыми» Корнелиу Зеля Кодряну и другие легионеры, казненные вместе с ним. В 1990 г. у алтаря в окружении цветов находился портрет Феоктиста, патриарха Румынской православной церкви. Сразу после декабрьской революции 1989 г. он был вынужден подать в отставку, но вскоре снова занял свой пост. Феоктист более чем кто-либо иной является символом сотрудничества церкви с режимом Чаушеску.
День выборов я провел в компании с исландскими журналистами Ториром и Аттой Гудмундссон. Мы хотели найти могилу Чаушеску. В разгар поисков в южной части Бухареста, рядом с Гражданским центром, ко мне подошел старик в черном берете.
– Ты журналист, нет? – обратился он ко мне по-немецки, бесцеремонно разглядывая меня так, словно я должен был знать его лично.
– Да, – ответил я.
Проницательный взгляд маленьких глаз цепко держал меня, не отпуская. Я присмотрелся к нему повнимательней.
На нем была полушинель, порванная в нескольких местах и такая грязная, что мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что когда-то она была белой. Под шинелью драный темный свитер неопределенного цвета, а под свитером рубашка с почти оторванным воротником. Воротник заметно натер ему шею.
Но больше всего меня поразил исходящий от него запах. Это был запах гнили, говорящий об унижении и близости смерти. Гнилостный запах старика, живущего в условиях, где нет возможности помыться или сменить одежду.
Маленькие глазки язвительно сверкали. Он знал, что от него дурно пахнет, и ему явно нравилось, что меня это задевает.
– Ты – еврей из Америки, – хрипло произнес он не вопросительным, а утвердительным тоном.
Я промолчал.
– Я тоже еврей. Евреи должны держаться вместе. Твои друзья? – показал он на Торира и Атту. – Гои. Но ничего. Думаю, они хорошие люди. В смысле, они любят евреев.
В этот момент Торир и Атта подошли к нам. Они знали немецкий и могли понять все, о чем мы с ним говорим. Мы спросили так, на всякий случай, слышал ли он, что тело Чаушеску захоронено в безымянной могиле на кладбище Генча.
– Возможно, – ответил он. – Вы хотите посмотреть могилы? Я покажу вам могилы.
Торир, Атта и я переглянулись и решили: почему бы и нет? Я сказал себе, что это может быть интересно. Поначалу смущенный его натиском, я вспомнил про журналистский цинизм.
Мы помогли ему сесть в машину Торира. Он сильно хромал, но ходил без палки.
По его указаниям мы приехали на одно из «кладбищ героев», где похоронены студенты, убитые Секуритате по приказу Чаушеску в декабре 1989 г.
– Идите фотографируйте, – сказал старик. – Я посижу в машине.
Выборы проходили 20 мая 1990 г. в воскресенье, и на кладбище героев было многолюдно. Мы увидели душераздирающие сцены. Одна пожилая женщина безотчетно била кулаками по деревянному кресту. Пожилой мужчина сидел на бетонной плите у могилы своего сына с совершенно отрешенным выражением лица. Я подумал, что может получиться сильная фотография, и попросил разрешения его сфотографировать. Он посмотрел на меня невидящим взглядом, полностью погруженный в свое горе. Я ретировался. Такое количество могил молодых людей в одном месте угнетало. Это было просто противоестественно.
Я вернулся к машине.
– Кошмар, – сказал я.
Наш загадочный гид только кивнул. У него было отстраненное выражение лица. Мне показалось, что он не испытывает особых эмоций по отношению к этим людям.
– Ты сегодня голосовал? – спросил я его.
– Голосовал. За Илиеску, за коммунистов.
– Почему?
– Илиеску приближает к себе евреев. Петру Роман – еврей. Сильвиу Брукан тоже еврей. В такой стране у тебя нет выбора. Удовлетворен? – резко закончил он, увидев подходящих к машине Торира и Атту. – Ну что, получились хорошие снимки? – спросил старик, обращаясь ко всем нам.
– Да, – ответил я.
– Может, у вас найдется немного валюты для меня? Скажем, долларов десять?
Я потянулся за бумажником.
– Нет, – остановил он меня взмахом руки. – Может, потом сделаешь мне подарок. Мы, евреи, должны помогать друг другу.
Когда мы сели в машину, он произнес: «А теперь вы увидите могилы», словно те, у которых мы только что были, не считались или были лишь прелюдией.
– Езжай прямо, – сказал он Ториру, который был за рулем. – Там впереди цветочный базар. Мне надо купить цветы на могилы родителей.
Мы с Аттой переглянулись.
Учитывая хромоту старика, Атта предложила сама сходить и купить ему цветы. Он предпочел пойти вместе, потому что всегда покупает цветы у одного и того же продавца. Чтобы перейти узкую улицу, ему понадобилась вечность.
Они вернулись в машину. Старик положил цветы на колени. По его указаниям мы приехали к краю свалки металлолома, рядом с заброшенной железнодорожной веткой. Торир остановил машину.
– Ты уверен, что кладбище здесь? – не удержался я.
– Да, – ответил он, в первый раз улыбнувшись. – Я хожу сюда каждую неделю.
Мучительно медленно, подволакивая ногу, он повел нас вдоль путей. Похоже, удовольствие, которое он испытывал оттого, что кого-то сюда ведет, перевешивало его физические страдания. Вдали виднелась громада Дома республики.
– Ты всегда здесь ходишь? – спросил я.
– Да, всегда. Обычно один.
Рельсы, местами заросшие травой, кажется, вели его в прошлое. Хромая, он рассказывал нам, что родился в Северной Буковине и вместе с родителями оказался в Бухаресте незадолго до того, как румыны начали вывозить евреев из Северной Буковины в Транснистрию, в лагеря смерти. В Бухаресте родители поселились в старом еврейском квартале (уничтоженном Чаушеску ради строительства Гражданского центра). Так получилось, что незадолго до еврейского погрома, устроенного легионерами в январе 1941 г., родители переехали из еврейского квартала и сняли жилье рядом с православной церковью. Когда легионеры громили еврейские дома и увозили евреев в лес Бениса и на скотобойню, их дом пропустили.
Родители дожили до преклонных лет. Он был у них единственным ребенком. Когда он приподнял берет, поправляя его, я увидел на обтянутом кожей черепе редкие торчащие волоски. В старой болтающейся полушинели, полы которой доходили ему почти до щиколоток, он выглядел как оставшийся в живых узник концлагеря, хотя, как он только что сказал мне, в концлагерях он не был.
– Твоей семье очень повезло. Вы чудом избежали страшных бедствий, – сказал я.
– Das ist das (Так вышло), – откликнулся он, пожав плечами.
На лице его ничего не отразилось.
– Вот, – сказал он, показывая на ворота еврейского кладбища, которое внезапно возникло слева, – оазис чистоты и порядка среди заброшенного пустыря.
Он извлек из кармана грязную черную кипу и протянул мне.
– Тебе понадобится. Но для твоего друга второй у меня нет.
Торир натянул на голову куртку. Старик посмотрел на него, довольный.
– Идем, – сказал он. – Смотрите.
Мы вошли в ворота кладбища. Слева стоял каменный лес. Каждый памятник был выполнен в виде ствола дерева с обрубленными ветвями – как человеческий торс без рук и ног. Памятники были разной величины, каждый по-своему уникален. Эффект был жуткий. Я прочитал текст. Памятники поставлены в честь 185 000 евреев из Северной Буковины и Бессарабии, уничтоженных в Транснистрии. Каждый памятник знаменовал конкретный город или деревню.
Мы фотографировали. Старик улыбался. Потом сказал:
– Идем дальше.
Он привел нас к двум невероятно длинным рядам могил, каждый длиной с футбольное поле. Все могилы были оформлены одинаково строго. Их однообразие и близость друг к другу создавали устрашающий эффект бесконечности. На некоторых надгробиях были маленькие черно-белые фотографии покойных. Я увидел фотографию пожилой женщины, затем молодой девушки. На всех надгробиях была указана одна дата смерти: 21–23 ЯНВАРЯ 1941.
– Они не могут отрицать abator [скотобойню], – сказал он, качая головой с торжествующей улыбкой вырезанного из тыквы фонаря, который ставят в окно на Хеллоуин. – Что бы тебе ни говорили, доказательство здесь.
Затем резко произнес:
– Ну, прощайте. К родителям я пойду один.
Я протянул ему кипу.
– Нет, оставь себе. На память.
Кипа, как и он, пахла смертью: черной, неизбывной памятью.
Часть III. Болгария: истории коммунистического Византия
Когда я невольно сравниваю жизнь среднего гражданина Запада и жизнь среднего болгарина, различия настолько велики, что жизнь западного человека может быть представлена как детский рисунок, в то время как жизнь в болгарских реалиях неразрывно связана с символикой и абстракциями. Мы подвержены влиянию гораздо большего количества факторов и сил, чем могут себе вообразить люди Запада. Если на Западе люди постоянно стремятся приобрести еще больше, наш основной инстинкт – сохранить то, что есть.
Георгий Марков. Правда, которая убиваетГлава 12 «Теплота каждого тела»
«Покидая Бухарест в грязном маленьком поезде, ты медленно тащишься на юг по жаркой равнине, проезжаешь мимо деревушек с домишками из соломы и глины, похожими на жилища убогого племени из Центральной Африки. ‹…› Останавливаешься на каждом полустанке, словно румынское правительство относится ко всем, кто едет в Болгарию, с презрительным равнодушием, а в Джурджу подвергаешься совершенно необязательному суровому досмотру мелких деспотичных таможенников…
Но за желтым Дунаем совершенно иной мир. ‹…› Добродушные, неуклюжие солдаты делают вид, что досматривают твой багаж, и приветливо улыбаются. ‹…› Так замечательно снова увидеть простые, открытые лица горцев и свободных людей».
Так писал Джон Рид в 1916 г. В конце XX в. ощущения были такими же, как в начале. В 1980-х гг. я несколько раз на поезде пересекал Дунай, направляясь из Румынии в Болгарию. Больше всего мне запомнилась поездка зимней ночью. На румынском отрезке пути вагоны не отапливались, невозможно было купить никакой еды. Таможенники в Джурджу были неприятными. Но в Русе, на болгарском берегу Дуная, в поезде включили отопление. Можно было купить еду. А дружелюбных таможенников больше интересовала возможность попрактиковаться в английском, чем содержимое моего багажа. Дальше была «холодная ночь на большой высоте». Утром я уже ехал вдоль горного хребта, поросшего буками, соснами, елями и черным кустарником. Рядом с полотном бурлила горная река.
Первый раз я попал в Софию в ноябре 1981 г. Шел снег. Белый. Только через несколько часов он побурел от угольного дыма. Но сладковатый, напоминающий о смерти запах бурого угля вызывал ассоциации со старыми паровозами и кострами из осенней листвы. Туман, пропитанный дымом, обволакивал провода трамвайных путей, ветви тополей, акаций, стриженых каштанов. На желтых, мощенных булыжником улицах стояла такая давящая тишина, что даже голоса школьников звучали как шепот. Почему-то вспомнилось, как в середине 1950-х гг. я приезжал в гости к дедушке с бабушкой на бульвар Истерн-Паркуэй в Бруклине, в мир салфеточек, обивки в цветочек и баночек с вареньями и соленьями.
Вдалеке, на другом краю обширного пространства из булыжника, высилась громада «Гранд-отеля Болгария» с маркизами и размещенным на балках крутой остроконечной крыши названием. Отель населен призраками покойных иностранных корреспондентов и журналистов.
В 1915 г. здесь останавливался Джон Рид. В начале Второй мировой войны С. Л. Сульцбергер и Роберт Сент-Джон. В 1949 г. в ресторане отеля устроил свадьбу знаменитый австралийский журналист-международник и предполагаемый агент КГБ Уилфред Бэрчетт. В 1920 г. в 29-м номере «Гранд-отеля Болгария» умер от пневмонии Джеймс Дэвид Баучер, лондонский корреспондент Times на Балканах, проработавший там четверть века и освещавший события двух Балканских войн и Первой мировой. Баучера хорошо знали и любили в Болгарии. Он поддерживал притязания Болгарии на Македонию. Известие о его смерти собрало перед отелем множество людей. Тело его несколько дней было выставлено в храме-памятнике Александра Невского. Спустя несколько лет Баучеру была оказана честь, способная растрогать даже самых матерых журналистов: его именем была названа марка местных сигарет.
«Гранд-отель Болгария» был практически домом для Баучера, тугого на ухо холостяка, все имущество которого умещалось в одном чемодане. Он называл его «старой доброй гостиницей». Баучер, Рид, Сульцбергер и все остальные журналисты предпочитали останавливаться в «Гранд-отеле Болгария» потому, что он расположен напротив царского дворца (ныне музея) – зеленоватого домика-игрушки со свинцовой барочной крышей: трогательная претенциозность по сравнению с гигантскими каменными памятниками королевскому величию в Вене или Бухаресте.
Как и Баучер, я впервые остановился в «Гранд-отеле Болгария» (в 1981 г.) только из-за его расположения в центре города и дешевизны: одноместный номер тогда стоил всего 19 долларов. Как малоизвестный журналист-фрилансер, я не мог себе позволить ничего более дорогого. Впрочем, в 1981 г. былая слава отеля осталась в прошлом. Он работал в основном как гостиница для туристических групп из стран Восточного блока и третьеразрядных бизнесменов из Турции, Индии и т. д. Стены ресторана были выкрашены в коричневый цвет и обшиты красными панелями. Номера практически не отапливались, и многие хлюпали носом. Гости кутались в пальто. Горничные были одеты в синюю униформу с высокими белыми носками на голых волосатых ногах. В то первое утро на завтрак подавали густой нефильтрованный сливовый сок, свежий йогурт, козий сыр, салями, яблоки и огурцы. Все холодное и очень вкусное. Был еще чай из самовара, но кофе не было. Я не возражал. Вид из окна на парк и бывший царский дворец не изменился со Второй мировой войны. Баучер, как пишет его биограф леди Гроган, «почувствовал прелесть балканских пейзажей даже раньше, чем подпал под очарование балканской политики». Я прошел примерно такой же путь влюбленности в Болгарию.
В 1982 г. в Софию впервые после Второй мировой войны прилетело множество иностранных журналистов. Их привлекли обвинения, выдвинутые против болгарской Державна Сигурност (госбезопасности) в причастности к покушению 13 мая 1981 г. на папу Иоанна Павла II на площади Святого Петра. Я решил, что они упустили нечто важное, остановившись не в «Гранд-отеле Болгария», а в безликом, созданном по японскому проекту отеле «Витоша-Отани», расположенном в неинтересном пригороде. Их выбор объяснялся тем, что в этом отеле, прежде чем отправиться со своей миссией в Рим, жил Мехмет Али Агджа – турок, нанятый для убийства папы органами госбезопасности Болгарии.
Третьей вершиной треугольника зданий на центральной площади, помимо царского дворца и «Гранд-отеля Болгария», был белый, в неоклассическом стиле, мавзолей Георгия Димитрова. Его охраняли, печатая шаг, солдаты в головных уборах с перьями и прочих опереточных одеяниях. Димитров – герой знаменитого процесса 1933 г. о поджоге Рейхстага. Он дерзко защищал себя и других коммунистов в берлинском цирковом судилище, организованном нацистами. Позже Димитров оказался в Москве, стал главой Коминтерна, а затем, после Второй мировой войны, был направлен Сталиным в Болгарию присутствовать при родах болгарского коммунистического государства. Затем, решив, что Димитров перестал быть ему полезным, Сталин распорядился отравить его медленно действующим ядом. Этот факт исключен из официальной биографии Димитрова. По словам болгарского диссидента писателя Георгия Маркова, Димитров «был тем, кто ввел в практику черные лимузины и плотными занавесками отгородил себя от остального народа… кто позволил безжалостно грабить и разорять свою страну тем, кто послал его ее колонизировать». После смерти в 1949 г. тело Димитрова несколько десятилетий пролежало в стеклянном саркофаге, залитое формальдегидом. Лицо с бородкой и руки подсвечивались особым светом. Саркофаг был помещен в мавзолей – точную копию Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Болгария – маленькая страна, но в первый визит мне показалось, что у нее большие амбиции, а это требует большого, впечатляющего фасада.
За попытку раскрыть, что скрывается за этим фасадом, за попытку выяснить, зачем последнему коммунистическому преемнику Димитрова, Тодору Живкову, понадобилась целая сеть обширных поместий, каждое более роскошное, чем игрушечный дворец с протекающей крышей, в котором жили царь Фердинанд и царь Борис, писателю и диссиденту Маркову был уготован кошмарный конец.
7 сентября 1978 г. Марков, к тому времени эмигрировавший в Великобританию и работавший в болгарском отделе ВВС, шел по лондонскому мосту Ватерлоо и вдруг почувствовал болезненный укол в ногу. Обернувшись, он увидел мужчину с зонтиком, который пробормотал: «Извините». На следующее утро Маркову стало плохо. Через три дня мучительных болей он умер так же, как Димитров. На кончике того зонтика была маленькая капсула с рицином, смертельным ядом. Такое же оружие применялось при попытке убить другого болгарского перебежчика в Париже.
Но, когда тем снежным утром в конце 1981 г. я впервые приехал в Софию, я почти ничего не знал о Болгарии и о Маркове, за исключением странных обстоятельств его смерти. При отсутствии других знаний о стране они выглядели обманчивыми и предвзятыми.
В первый вечер моего пребывания в Софии, после утомительных, растянувшихся на весь день попыток договориться об интервью через официальное агентство София Пресс (в предыдущую ночь в поезде из Бухареста я совершенно не выспался), я поднимался по темной, затянутой ковровой дорожкой лестнице «Гранд-отеля Болгария» (лифт часто оказывался на ремонте) к себе в номер. За спиной послышались решительные шаги.
– Прошу прощения, не вы ли мистер Роберт Каплан, известный международный корреспондент из Америки?
Про себя я рассмеялся. На протяжении десятилетий иностранные журналисты были в этой далекой маленькой стране такой редкостью, что приезд любого из них становился событием, а журналиста считали очень известным.
– Да, как вы узнали? – спросил я скорее устало, нежели подозрительно.
– Я представляю агентство София Пресс, мне сказали, что вы остановились здесь. Меня зовут Гильермо. Гильермо Ангелов. Я бы хотел пригласить вас на ужин в клуб журналистов.
Я только что поужинал, и единственное, чего мне хотелось, – это спать.
– Нет, спасибо. Может быть, завтра?
– Почему? – оскорбленно воскликнул человек, который поднимался по ступенькам уже буквально у меня за спиной. – Вы считаете, что если я коммунист, то начну промывать вам мозги? У вас что, за день пребывания в нашей стране уже сложилось такое впечатление? Да, правда, я коммунист, я интернационалист. И я хочу пригласить вас на ужин, чтобы послушать, что вы можете нам сказать. Вы отказываетесь от приглашения. Боитесь? Может, вы боитесь иных точек зрения?
Я наконец остановился и обернулся к нему. Мы уже были в холле, который освещала единственная тусклая лампочка. Передо мной, тяжело дыша, стоял смуглый мужчина лет шестидесяти, с длинными седыми бакенбардами и седыми бровями. Плечи выступали вперед. В руке он держал потрепанный портфель. На нем был черный берет, мешковатое пальто и кроссовки. Под глазами и на верхней губе виднелись капли пота. Пожилой, но взгляд энергичный, целеустремленный, как у молодого.
– Послушайте, я всего лишь хочу пригласить вас на ужин. Вы знаете, что в 1981 году исполняется тысяча триста лет образования нашего государства? Мы уже тысячу триста лет народ, со своими корнями, со своей идентичностью. Сколько лет Америке? Вы же просто младенцы! Вы еще многого не знаете. Прошу, уважьте старика. Не обижайте меня.
Затем он снял берет (под которым оказалась лысина), прижал его к сердцу и галантно поклонился.
Как я мог отказать?
Гильермо вел меня по темным улицам, крепко держа за руку и постоянно пытаясь что-то говорить прямо в ухо. Мы оказались на углу улиц Алабина[47] и Графа Игнатьева, где сходятся две трамвайные линии[48]. Я увидел приближающиеся огни звенящего трамвая и едва успел оттащить Гильермо в сторону. Он так увлекся своей лекцией, что остановился почти посредине трамвайных путей, цепко держа меня за локоть.
– Дорогой мой, мы великая нация. У нас лучшие вина, лучше, чем у французов. Наши женщины самые прекрасные – посмотри на их благородные фракийские фигуры! Просто статуи! У мировой цивилизации три основных корня: французский, китайский и болгарский. Робби, – перешел он на ты, словно уже считал меня своим сыном, – посмотри, что мы потеряли! Добруджа у румын, Фракия у турок, Эгейское побережье у греков, и, что хуже всего, Македония у сербов. – Он произнес слово «сербы» с оттенком величайшего презрения. – Но я не националист…
Гильермо уже водил меня кругами по холодной, заснеженной улице перед зданием клуба журналистов: он не успевал донести до меня свою мысль.
В 1981 г. в этом клубе царило ощущение вакханалии. В помещении стоял неприятный запах куриного бульона, сливовой и виноградной ракии, сигаретного дыма и тяжелого пота. Тарелки с сосисками и козьим сыром стояли вперемешку с винными и пивными бутылками на столиках, покрытых грязными, в пятнах скатертями. Руки мужчин лежали на толстых женских задницах. Раздавались крики и смех. Почти все стулья, обтянутые красным бархатом, были заняты. В огромном, от стены до стены, зеркале отражались волны сигаретного дыма. Я чувствовал кипение эмоций – вероятно, обусловленное закрытостью общества, – которое просто невозможно воспроизвести на Западе. Если на Западе сексуальные связи на стороне, скорее всего, следствие скучной жизни среднего класса, здесь они, как мне показалось, отвечали иным, более глубоким потребностям. При такой ограниченности политической и общественной жизни здесь бил мощный источник подлинных эмоций, который не в состоянии заглушить даже самая идеальная семейная жизнь. И возможно, оттого что нигде нельзя было укрыться от холода, даже в помещении, теплого тела по ночам было недостаточно, такая же потребность возникала и днем.
Крупный, краснолицый, с волосами серо-стального цвета официант в черном смокинге обнялся с Гильермо.
– Это Лупчо, – сказал Гильермо. – Он умеет читать по руке.
– Он похож на Брежнева, – заметил я.
Гильермо перевел мои слова Лупчо, тот просиял, благодаря меня за комплимент.
Лупчо подвел нас к столику.
– Сливова вредна для печени, – заметил Гильермо.
Он заказал нам обоим гроздову – виноградную ракию. Коренастая пожилая женщина подошла и прильнула щекой к Гильермо.
– Робби, помнишь, я говорил, какие красивые у нас женщины?
Он перевел свои слова на болгарский. Женщина прижала Гильермо к груди. Он улыбнулся мне. У него были очень выразительные глаза. Взгляд постоянно менялся в соответствии с его мыслями. Сейчас он говорил: почему бы не доставить удовольствие старушке?
Над столиком навис Лупчо.
– Он хочет погадать тебе по руке, – сказал Гильермо.
Я положил ладонь на стол. Лупчо стал водить по ней пальцем.
– Лупчо говорит, что в ближайшем будущем ты встретишь свою настоящую любовь. (Действительно, через пятнадцать месяцев я встретил свою будущую жену.)
– Я женат третий раз, – сказал Гильермо. – Женщины любят нас только за наши недостатки. Если у нас, мужчин, их много, они готовы простить нам все. Оглянись вокруг, посмотри, как мы счастливы. Все время, даже ночью, когда вы в Америке спите, мы работаем, догоняем, догоняем. Болгария первая на Балканах по роботехнике, – сказал он, словно выдавая строжайшую тайну.
Лупчо вернулся с супом, салатом, виноградной ракией и бутылкой сухого красного вина из региона Мельник, что рядом с греческой границей.
– Я уже поужинал, – заметил я Гильермо.
– Да брось ты, – откликнулся он, проводя широким жестом над столом.
Дальше, как помнится, я горячо защищал Рейгана от первой из многочисленных нападок Гильермо на американского президента.
– Перестань, Робби, не говори, что ты один из этих ковбоев! Один из этих реакционеров из Скалистых гор!
– Ковбой? Лучше быть ковбоем, чем рабом русских. Вы не можете говорить, что вы независимая страна!
Я начинал пьянеть. Гильермо истолковал мое поведение – то, что я начал кричать, спорить и пить с ним наравне, – как комплимент. Думаю, именно в этот момент зародилась наша долгая, сохранившаяся до сих пор дружба. И в этот момент я начал кое-что понимать о Болгарии.
– Ты называешь нас рабами. На Западе еще придумали дурацкое слово сателлит, словно мы, болгары, находимся где-то в космосе. Чушь полная. Ты не представляешь, что делали с нами турки, что значило жить под игом султанов. Русские освободили нас, но мы гордый народ. Мы воевали против них в Первую мировую. Да, сейчас мы слабы и окружены врагами. Поэтому мы используем русских в качестве защитников, пока договариваемся с греками, турками и прочими. Дорогой мой, русские дают нам огромную свободу действий в отношениях с турками, греками, сербами. Как ты можешь говорить, что мы не свободны? Русские дают нам дешевую нефть и сырье. Мы используем русских. Но вы, на Западе, не имеете представления, что происходит в этом уголке мира. Вы, ковбои, даже не найдете Болгарию на карте. Вас интересует только борьба Америки с Россией. Для нас борьба сверхдержав всего лишь преходящее явление в нашей долгой истории. Мы самые интеллигентные из крестьян и поэтому гораздо лучше вас знаем, как выживать.
Эти аргументы подействовали на меня, потому что я только что приехал из Румынии, которая в 1981 г. пользовалась наилучшей репутацией в Америке из всех стран Восточного блока в связи с так называемой «независимой внешней политикой» Чаушеску, а Болгария самой худшей. Но мне уже стало очевидно, что болгары, при всей своей бедности, экономически находятся в лучшем положении по сравнению с румынами, а также пользуются бо́льшими личными свободами. Такая непринужденная, пьяная дискуссия была бы просто немыслима на том берегу Дуная, под тенью Чаушеску, стране которого американские политики предоставили статус наибольшего благоприятствования в торговле.
– Но я более проамерикански настроен, чем любой болгарин, – продолжал Гильермо. – В 1942 году я учился в выпускном классе Американского колледжа в Софии. Я был первым корреспондентом БТА [Болгарское телеграфное агентство, официальная новостная служба болгарского коммунистического режима] в Китае в 1957 году. Как мне тебе объяснить? Наши журналисты не такие, как вы. Я был в каком-то смысле официальным представителем Болгарии в Китае. Я дружил с Мао, с Чжоу Эньлаем. И знаешь, как я попал на эту должность, дорогой мой? Благодаря образованию, полученному в Американском колледже.
– Нацисты закрыли колледж? – спросил я.
– Нет, – несколько смутившись, ответил Гильермо. – Во время войны, после 1942 года, колледж не мог работать, но официально он не был закрыт. Его закрыли в 1946 году…
– Коммунисты, – закончил я фразу.
Гильермо поднял брови и пожал плечами. Это восточный способ сказать: да, а что тут поделаешь?
– Гильермо – это же не болгарское имя? – поинтересовался я.
Он улыбнулся.
– Видишь ли, мой отец в самом начале века уехал в Египет, в Александрию, чтобы сколотить состояние на торговле текстилем. У него там появился лучший друг, испанец, по имени Гильермо. Меня назвали в его честь. Мой отец участвовал в обеих Балканских войнах. Во Вторую мировую я скрывался в лесах и не попал в армию. Ты же знаешь, Болгария воевала на стороне фашистов. Никогда не забуду, как пришли русские в сентябре 1944 года. Наконец я смог свободно вздохнуть.
– А сейчас свободно дышится?
Гильермо усмехнулся и поднял глаза к потолку.
– Ох, Робби, то, что с тобой сделали эти реакционеры, – просто трагедия. Ты такой умный, но, похоже, они запудрили тебе мозги.
К столику подошел седовласый, пожилой и на вид усталый мужчина. Они с Гильермо обнялись и постояли так пару секунд.
– Робби, позволь представить тебе величайшего международного журналиста XX века. Уилфред Бэрчетт.
Мы обменялись рукопожатиями.
– Этот человек, – продолжал Гильермо, снова взяв его за руку и прямо лучась от гордости, – как бы тебе сказать, величайший! Он автор сорока книг. Он был первым в Хиросиме после того, как Трумэн, этот преступник, сбросил свою бомбу! Единственный западный журналист, который освещал войну в Корее с севера! Он первым напал на след Хо Ши Мина. Видишь мой берет? Уилфред купил его в Испании, когда наблюдал за падением фашизма в семидесятых годах.
Гильермо преувеличивал лишь отчасти. Бэрчетт действительно был очевидцем практически всех войн и революций в мире после окончания Второй мировой войны и обо всех опубликовал книги. Он владел несколькими азиатскими языками, был в близких отношениях с Мао, Хо Ши Мином, Ким Ир Сеном и прочими, к которым мало у кого из иностранных журналистов (если вообще у кого-то) был доступ. Бэрчетт родился в австралийской глубинке в 1911 г. и приобрел радикальные взгляды из-за бедности своей семьи, Великой депрессии 1930-х гг. и ужасов немецкого и японского фашизма. Он появился на мирных переговорах 1953 г. по окончании корейской войны как полуофициальный представитель северокорейской делегации. На протяжении многих лет циркулировали слухи и косвенные свидетельства, никогда официально не подтвержденные и не опровергнутые, что Бэрчетт был платным агентом КГБ. В 1950-х гг. австралийское правительство аннулировало его паспорт, после чего он стал путешествовать по миру с laissez-passer[49], выданным коммунистическим режимом Северного Вьетнама.
Если Бэрчетт и был на содержании у КГБ, платили ему мало, потому что и он, и его семья часто существовали на грани бедности. Он зарабатывал на жизнь в качестве стрингера и автора многочисленных книг, которые раскупались плохо. Постоянно без гроша, очень эмоциональный, полиглот, брызжущий эрудицией, Бэрчетт легко обзаводился друзьями. Он нравился всем, кому доводилось с ним сталкиваться, в том числе Генри Киссинджеру. В ходе мирных переговоров 1972 г. в Париже Киссинджер использовал Бэрчетта в качестве посредника для общения с представителями Северного Вьетнама.
Бэрчетт стал с воодушевлением рассказывать мне о своем новейшем проекте.
– Я сейчас пишу книгу о Болгарии и включаю в нее записи, которые делал на протяжении многих лет.
Он сказал, что его жена – уроженка Болгарии. В 1980 г., незадолго перед тем, как президентом США был избран Рональд Рейган, семья с детьми перебралась жить в Софию. Про Рейгана он сказал, что его президентство предвещает новую холодную войну и новые атаки на «народные демократии». Через два года после нашего знакомства, в 1983 г., Бэрчетт умер в Софии.
– Не руби с плеча, Робби! – кричал Гильермо. – Не подражай этим подонкам, которые называют нас сателлитом! Смотри глубже, глубже в нашу историю и постарайся сам понять, кто мы такие!
Бэрчетт и Гильермо все еще стояли, обнимая друг друга за плечи.
Потом мы втроем вывалились на улицу. Алкоголь, оживленная дискуссия и возбуждение от новых знакомств в новой стране придали мне второе дыхание. Прощание с Бэрчеттом оказалось длительной процедурой. Не обращая внимания на легкую метель, Гильермо перечислял книги, которые хотел дать мне почитать.
– Кстати, Робби, – негромко произнес Гильермо, – уж раз я обеспечиваю тебя информацией, не мог бы и ты мне кое-что раздобыть?
– Что именно?
– В американском журнале Current History недавно вышла статья о Китае. Можешь ее достать? Как давний друг Китая, я стараюсь следить за его успехами.
– Ты запросто можешь прочитать ее в Американской библиотеке в Софии.
– Робби, – он всплеснул руками, – зайти туда не так просто. Кто-нибудь с улицы, как у нас говорится, может меня увидеть.
– Значит, у вас не такая уж свобода?
– Ну что ты все время судишь нас по своим стандартам? Ты не представляешь, что здесь было во время войны. – На лице Гильермо впервые появилось победоносное выражение. Я пытался понять, кто он. Неужели очень обаятельный человек, свободно владеющий английским, в молодости ставший первым болгарским корреспондентом в коммунистическом Китае, просто захотел пообщаться с таким бедным фрилансером, как я? По всем расчетам, он уже должен был быть как минимум послом, а не рядовым сотрудником агентства София Пресс. Я пообещал, что мы увидимся утром, и мы расстались.
В этот первый вечер в Софии я решил немного прогуляться, прежде чем возвращаться в отель. Я понял, что у этого небольшого города очень мощная образная система. Волны золоченых и темно-зеленых куполов залитого светом храма-памятника Александра Невского вызывали образ средневекового Византия, что действовало как-то тревожно с учетом близости храма к зданию компартии с его массивными колоннадами и арками и к мавзолею Димитрова с хранящимся в нем отвратительным трупом. Казалось, в воздухе повисла смесь средневековых и современных заговоров, шепотов и многозначительного молчания.
«Болгария: маленькая страна, которая легко воспринимается душой, но щедро одаренная, как континент в миниатюре. ‹…› Кусочек рая, которым завладели демоны», – пишет Мерсия Макдермотт в книге «Апостол свободы» (The Apostle of Freedom), посвященной Василю Левскому, в XIX в. возглавившему борьбу болгарского народа против турецкого господства.
Болгары, так же как мадьяры и турки, позже пришедшие в Европу, изначально были тюркским племенем из Средней Азии. Примерно в 681 г. двухсотпятидесятитысячное войско под началом хана Аспаруха перешло Дунай и оказалось на территории, которая позже станет Болгарией. Болгары смешивались со славянами, которые пришли на Балканский полуостров на сто пятьдесят лет раньше. «Как часто происходит в случаях такого смешения, – пишет историк Невилл Форбс, – новая раса продемонстрировала впечатляющую «сплоченность, энергичность и силу».
В раннем Средневековье Болгария была одним из наиболее влиятельных и развитых царств Европы, своего рода мини-Византией, которая неоднократно угрожала императорам Константинополя. В IX–X вв., задолго до возвышения Сербии, болгарские цари Борис I и Симеон создали империю, простиравшуюся от Албании на западе до Черного моря на востоке, от Карпатских гор на севере до теплых вод Эгейского моря на юге. В 865 г. Болгария первой из всех славянских народов приняла православное христианство. Именно из Болгарии монахи Кирилл и Мефодий со своими учениками распространили кириллический алфавит в России и далее. Болгария более чем любая другая страна может считаться родиной славянских языков и культуры. По сей день болгары полагают родной язык прародителем всех славянских языков.
Лингвистическая гордость, встроенная в концепцию национальности, – явление весьма либеральное по балканским стандартам. Поскольку болгарские евреи владели болгарским языком так же, как все окружающие, их не считали какими-то особенными. И пронацистский режим царя Бориса III, и болгарские партизаны, воевавшие против него, в равной степени помогали спасать евреев от депортации. В результате Болгария наряду с Данией предстает самой незапятнанной в истории холокоста среди всех стран оккупированной фашистами Европы, по крайней мере в пределах собственных границ[50]. Гильермо неоднократно заверял меня, что «болгарские» (то есть болгарские евреи) являются самой влиятельной силой в политике Израиля и всегда действуют в интересах Болгарии. Ему было трудно понять, как люди, родившиеся в Болгарии, говорящие на болгарском с детства, могут считать себя кем-то иным, нежели болгарами. Он рассказывал, что знал одного израильтянина с болгарскими корнями, который стал понимать болгарский, как только приехал в страну, хотя никогда раньше даже не слышал, как говорят на этом языке. «Наш язык передается через гены», – утверждал Гильермо.
В начале XI в. византийский император Василий II нанес поражение царю Самуилу в долине Струмицы[51], после чего приказал ослепить 14 000 захваченных в плен воинов. Это был самый страшный момент в болгарской истории. В результате Болгария снова оказалась во власти Византийской империи. Но в XII–XIII вв., при царе Калояне и царе Иване Асене II Болгария вернула все утраченные территории и поднялась до еще больших культурных и экономических высот.
Но в отличие от других империй, которые переживали расцвет, а затем постепенно сходили в безвестность, Болгария в результате ряда нашествий, кульминацией которых стало пятисотлетнее владычество Османской империи, оказалась разрезанной на куски. Турки использовали Болгарию как основную военную базу для дальнейшей экспансии в Европу, поэтому режим здесь был более кровавым и жестоким, чем где-либо еще. Из городских центров изгонялось все население; покоренным крестьянам предписывался принудительный труд; относительно развитая феодальная система была заменена более примитивной. Болгария наряду с Сербией – первая балканская страна, завоеванная турками, и последняя, которая от них избавилась. «Можно смело сказать, что с 1393 до 1877 года у Болгарии не было своей истории», – пишет Форбс и продолжает:
Из всех балканских народов болгары оказались в наибольшей степени раздавлены. Греки благодаря своей вездесущности, уму и деньгам вскоре сумели сделать так, чтобы турецкий шторм крутил их мельницу; румыны были в известной степени защищены Дунаем и своей удаленностью от Константинополя; на сербов тоже не со всей силой обрушилась турецкая ярость, к тому же защитой служила относительная недоступность большей части их страны. Болгария же была попросту уничтожена.
То, что существовало во второй половине XIX в., представляло собой обуглившиеся и расчлененные останки нации.
– Турецкое рабство до сих пор неотвязно преследует сознание нашего народа, – говорил мне Гильермо.
Важно отметить, что самым важным днем в болгарском календаре является не какой-то христианский или коммунистический праздник, а дата гибели тридцатишестилетнего лидера партизанского восстания Василя Левского, казненного турками в 1873 г. Каждый год 19 февраля с самого рассвета толпы людей с цветами идут по софийским улицам к площади, на которой турки повесили Левского. К середине дня мемориальный обелиск уже утопает в цветах. Левский был величайшим болгарским юнаком – это слово обозначает молодого героя почти мифологического масштаба. Изначально православный монах, Левский создал сеть национального сопротивления. Его база находилась в Стара-Планина (Старая гора) – огромном горном массиве, простирающемся через всю территорию Болгарии, иначе называющемся Балканы от турецкого слова, означающего «гора». От этого хребта появилось и само название Балканского полуострова.
Казнь Левского стала искрой, от которой в апреле 1876 г. вспыхнуло общенациональное партизанское восстание, жестоко подавленное турками. Оно явилось первым этапом длившихся в течение четверти века партизанских восстаний и операций по их подавлению, в ходе которых турки сожгли сотни болгарских деревень и уничтожили множество местных жителей. Примерно в эти же годы прошлого века борьба болгар против дряхлого султаната привлекла внимание западных (и восточных) либералов примерно в той же степени, как спустя много лет война во Вьетнаме. Писатели Оскар Уайльд, Виктор Гюго и Иван Тургенев подняли голос в поддержку болгарского сопротивления. Выступали также британский политик Уильям Гладстон и герой борьбы за объединение Италии Джузеппе Гарибальди. Уолт Уитмен, пересматривая свою эпическую поэму «Листья травы», написал страстные строки о свободе, больше всего имеющие отношение к Болгарии. Болгария стала первой «модной темой» современного мира. Запад об этом давно забыл. Болгары не забудут никогда.
В этот поздний и важнейший для болгарской истории момент появляются русские. В 1877–1878 гг. русская армия вступила на болгарскую территорию, освобождая страну от османского владычества с целью создания пророссийского буферного государства, противостоящего туркам. Хотя по условиям Берлинского мирного договора 1878 г. только что созданной независимой Болгарии пришлось уступить Фракию и Македонию Турции, что стало толчком к новой партизанской войне, благодарность болгар русским никогда полностью не рассеивалась. Русское освобождение стало одним из немногих счастливых моментов в болгарской истории начиная со Средних веков. В память о 200 000 погибших за освобождение Болгарии русских воинов в 1882 г. в Софии началось сооружение храма-памятника Александра Невского. Но это поклонение «деду Ивану», как болгары иногда называют Россию, имеет нюансы, которые редко пробивают стену клише, возведенную западными комментаторами в период холодной войны. Как упомянул Гильермо, благодарность к царской России не помешала Болгарии выступить против нее в годы Первой мировой войны.
Территориальный ирредентизм, особенно в отношении Македонии, привел Болгарию к поражению во Второй Балканской войне 1913 г. и к катастрофическим альянсам с Германией в Первую и Вторую мировую войну. Потеря Македонии, плацдарма на Эгейском море, и других территорий в первой половине XX в. превратила Болгарию в озлобленную и иррационально мыслящую нацию. Болгары возненавидели всех: сербов, греков, румын, турок. В период между Первой и Второй мировыми войнами македонский терроризм способствовал нестабильности и постоянному насильственному характеру политики Софии. В межвоенный период Болгария в политическом смысле напоминала Сирию периода постоянных переворотов 1950–1960-х гг. Поэтому в сентябре 1944 г., когда русские войска вторично вступили на болгарскую почву, болгары были духовно сломленной нацией, испытывающей обостренное (даже по балканским стандартам) чувство обделенности, чем и смогли воспользоваться Советы.
В смысле военной оккупации и утраты территорий советское господство на Болгарии почти никак не сказалось. Страна не имела общей границы с Советским Союзом, поэтому русские и не предъявили никаких территориальных претензий, в отличие от Румынии, Венгрии, Чехословакии и Польши, – их после Второй мировой войны вынудили уступить определенные территории, продвинув на запад границы СССР. Болгария, расположенная дальше всех от линии противостояния между Востоком и Западом в Центральной Европе, имела также наименьшее стратегическое значение из всех стран Варшавского договора. Таким образом, после того как местные коммунисты под руководством присланного из Москвы Димитрова в декабре 1947 г. консолидировали власть, советские войска покинули территорию Болгарии и никогда не возвращались, не считая ежегодных военных учений. Болгары ощетиниваются при заявлении, что они были «вассалами» Советского Союза, и напоминают, что в Венгрии (которая в 1970–1980-х гг. пользовалась хорошей репутацией на Западе) постоянно находилась 60-тысячная группировка советских войск, в то время как в Болгарии не было ни одного советского солдата.
Помимо отсутствия оккупационных войск, территориальных притязаний и позитивной исторической памяти русские предложили болгарам крепкий психологический напиток: гарантированную защиту от Турции и многочисленные возможности говорить со своим бывшим колониальным господином с позиции силы, а не слабости. Как заметил один болгарский дипломат, «этот медведь защищал нас от лающей собаки».
В сентябре 1982 г., после моего первого визита в Софию, журнал Reader’s Digest опубликовал статью Клер Стерлинг, журналистки, специализировавшейся на международном терроризме, под названием «Заговор для убийства папы» (The Plot to Kill the Pope). Идея Стерлинг заключалась в том, что турецкий террорист Мехмет Али Агджа, который стрелял и ранил папу Иоанна Павла II в 1981 г., не был психопатом-одиночкой, как утверждалось ранее. По мнению Стерлинг, за Мехметом стояли сотрудники болгарской службы государственной безопасности (Державна Сигурност). Через несколько недель после публикации статьи итальянская полиция арестовала руководителя римского представительства авиакомпании Balkan Airlines (национального авиаперевозчика Болгарии) Сергея Антонова, предъявив ему обвинение в причастности к покушению на папу римского.
Стала вырисовываться такая картина.
В 1970-х гг., в рамках усилий по дестабилизации хрупкой парламентской системы в Турции – восточном бастионе НАТО, КГБ посоветовал болгарам, имеющим общую границу с Турцией, организовать контрабанду оружия для всех турецких сепаратистских или экстремистских группировок как правого, так и левого толка. В то же время болгары разрешили Бекиру Челенку, видному деятелю турецкого подполья, под контролем которого находились криминальные структуры турецких иммигрантских сообществ по всей Европе, использовать Софию как базу для своих операций. Болгары через государственную фирму грузовых перевозок «Кинтекс» доставляли в Турцию оружие и способствовали вывозу оттуда героина и других наркотиков. Агджа, наемный убийца, связанный как с неонацистской турецкой группировкой «Серые волки», так и с марксистской Армией освобождения турецкого народа, был хорошо известен и деятелям турецкого подполья, и службам госбезопасности Болгарии.
В 1978 г. кардинал Краковский Кароль Войтыла стал папой Иоанном Павлом II. Выборы первого папы из поляков способствовали созданию в Польше в 1980 г. антикоммунистического движения «Солидарность». Наличие польского папы подрывало стабильность в крупнейшем и по территории, и по численности населения государстве Восточной Европы – сателлите Кремля. И кто лучше всех мог организовать контракт на ликвидацию папы, чем болгары, чья Сигурност в большей степени, чем другие восточноевропейские секретные службы, находилась под влиянием КГБ и имела благодаря связям с турецкими контрабандистами доступ к неведомым наемным убийцам «правого толка», которых практически невозможно было заподозрить в связях с Москвой?
«Мы с самого начала были убеждены, что за этим заговором стоит КГБ», – сказал корреспонденту журнала Newsweek высокопоставленный представитель Ватикана[52].
По сведениям Стерлинг и итальянской полиции, Агджа в 1980 г. прибыл в софийский отель «Витоша-Отани», где получил поддельный паспорт, после чего его познакомили с Бекиром Челенком, лидером турецкого подполья, который предложил Агдже 1,7 миллиона долларов за убийство папы. Агджа два месяца провел в роскошном «Витоша-Отани», где все было насквозь пронизано подслушивающими устройствами болгарских спецслужб.
Затем Агджа, выросший в лачуге в небольшом поселении Центральной Турции, потратил 50 000 долларов на путешествие по Европе, запутывая по возможности следы между Болгарией и Италией, и наконец прибыл в Рим, где Антонов с двумя соотечественниками организовал ему пристанище и привез на площадь Святого Петра в день преступления. Агджу задержали сразу же после выстрела. Как сообщали, полиция обнаружила при нем пять телефонных номеров: два принадлежали болгарскому посольству в Риме, один болгарскому консульству, один офису компании Balkan Airlines и последний, не включенный в телефонную книгу, Тодору Айвазову, сотруднику болгарского посольства.
Я вернулся в Софию в конце 1982 г., снова поездом из Румынии. Я вез с собой экземпляр романа Эрика Эмблера «Маска Димитриоса» – историю о знаменитом международном преступнике по имени Димитриос, который побывал в Болгарии по пути в Европу и был вовлечен в серию темных интриг, связанных с контрабандой наркотиков и политическими убийствами. Книга впервые опубликована в 1939 г. В конце Эмблер пишет: «Он [Димитриос] представляет особый вид преступника, сформировавшегося в весьма специфических условиях. Я затрудняюсь их перечислить, но ясно по крайней мере одно: такие, как он, появляются тогда, когда хаос и анархия выступают под маской порядка и культуры»[53].
«Русские дают нам огромную свободу действий в отношениях с турками… Как ты можешь говорить, что мы не свободны?» – говорил мне год назад Гильермо. Мне пришло в голову, что если те обвинения были обоснованны, то идея контроля над турецким преступником Агджой должна была показаться болгарам очень соблазнительной. Это можно рассматривать как окончательный реванш: определять поступки и судьбу Агджи так же, как его предки из Османской империи определяли судьбу болгар. Способ этого реванша – убийство главы католической церкви – имел второстепенное значение. Балканы – регион с ограниченным видением мира, а поскольку болгары больше всего натерпелись от турок, их мировоззрение было еще у́же.
Гильермо встретил меня у входа в «Гранд-отель Болгария». Я сообщил ему заранее о своем приезде.
– Поторопись, Робби, нам надо идти. Ты приехал как раз вовремя. Вещи разберешь позже. Тебя ждут хорошие новости, друг мой! Руководитель БТА дает пресс-конференцию в клубе журналистов по поводу преступных провокаций Запада. Помнишь, Уилфред говорил о «новой холодной войне»? – Гильермо трепетал от предвкушения.
Было одиннадцать утра 1 декабря 1982 г. В клубе журналистов на улице Графа Игнатьева уже плавали облака табачного дыма и явственно чувствовался запах сливовой ракии. В глубине зала стоял лысеющий мужчина с землистым цветом лица, который только что прервал свое выступление, чтобы закурить сигарету. Боян Трайков, директор Болгарского телеграфного агентства, был идеальным официальным оратором для жесткого коммунистического режима. После того как международная пресса заговорила о «болгарском следе» в покушении на папу, впервые появилась возможность услышать реакцию высокопоставленного болгарского чиновника на это событие. Не считая нескольких западных дипломатов, я был единственным иностранцем в зале. Гильермо переводил мне.
– Тебя ждет сенсация, дорогой мой! Сейчас ты узнаешь, как все было на самом деле.
Трайков сказал, что статья Стерлинг и задержание Антонова итальянской полицией являются «частью заговора, организованного западными спецслужбами, чтобы подорвать процесс разрядки и разжечь антиболгарские настроения в Польше в тот момент, когда там только стала нормализоваться ситуация». По мнению Трайкова, «нормализация» началась в предыдущем году после разгона «Солидарности» и заключения в тюрьму ее лидера Леха Валенсы. Выступление Трайкова подавалось как пресс-конференция, но никто не задал ему ни одного вопроса. Я не заметил, чтобы болгарские журналисты спешили передавать в свои редакции горячий материал. После того как Трайков закончил говорить, все остались и продолжили выпивать.
Позже Гильермо договорился для меня об интервью с Трайковым в его офисе, располагавшемся неподалеку. Трайков сообщил мне, что Стерлинг, как и все остальные журналисты, с пренебрежением пишущие о Болгарии, является либо платным агентом ЦРУ, либо дурочкой, которая стала невольной жертвой манипуляций со стороны спецслужб. Обвинения в адрес Болгарии, безусловно, являются провокацией против Советского Союза и его нового лидера, Юрия Андропова (который был руководителем КГБ в момент покушения Агджи на папу), и, если эта «полнейшая чушь» о болгарском следе не прекратится, это будет означать конец разрядки. Может, именно этого добивается Запад? Когда я пытался задавать вопросы о конкретных обвинениях, в частности, находились ли или продолжают находиться на территории Болгарии известные деятели турецкого преступного мира, Трайков менял тему. Он ни разу даже не приблизился к тому, чтобы сообщить мне какие-то реальные факты или хотя бы намекнуть на них.
Впрочем, более интересным мне показалось поведение Трайкова и Гильермо в его присутствии. БТА занимало массивное здание на бульваре Ленина в Софии. Кабинет Трайкова представлял собой длинную, темную, прокуренную щель, производившую устрашающее впечатление. Чтобы в него попасть, нужно было пройти череду кабинетов поменьше, в которых сидели секретарши и охранники. Атмосфера больше соответствовала полицейскому управлению или Министерству внутренних дел, нежели информационному агентству. У Трайкова была блудливая и развратная ухмылка. Блуждающие глаза, налитые кровью, буквально пожирали собеседника. Будь я женщиной, я бы не чувствовал себя рядом с ним в безопасности. В отличие от Гильермо на нем был хороший импортный костюм. Он предложил мне импортные сигареты с фильтром – роскошь по болгарским меркам. Гильермо, крайне взволнованный, был чрезмерно любезен, представляя Трайкова мне и меня Трайкову, словно хотел сказать: «Великий, познакомьтесь с великим» (поскольку если бы я не был очень важной фигурой в мире международной прессы, а не только в Болгарии – что не соответствовало действительности, – то зачем бы Трайкову тратить на меня время?). Трайков смотрел не на Гильермо, а скорее сквозь него, как главарь банды смотрит на своих шестерок. Когда я вспоминаю похвалы, которые расточал Гильермо в адрес Трайкова, на память приходят слова убитого диссидента Маркова о прославлении Сталина: «Это все равно что оплевать самого себя».
После встречи с Трайковым Гильермо пригласил меня в свою софийскую квартиру в ветхом доме без отопления. Его жена Маргарита устроила пиршество в мою честь. Мы втроем сидели на антикварном сундуке, служившем лавкой у кухонного стола. «Каждый напротив друг друга и каждый рядом друг с другом, потому что так диктует закон выживания. В этой невероятно тесной близости мы чувствуем теплоту наших тел, малейшую дрожь… Мы можем общаться часами, не произнося ни слова», – писал Марков.
Небольшая гостиная в квартире Гильермо оказалась заполнена старинными вещами, которые он собирал в Китае, работая там корреспондентом в 1957–1961 гг.: вазами, статуэтками, шелковыми ширмочками, а во всю стену распростерлась шкура тигра, которого, по словам Гильермо, он добыл сам. Он подробно описал мне весь процесс охоты с китайскими друзьями: костры, ночевки в лесу, долгие переходы в поисках тигра.
– В те годы, Робби, у меня был доступ, я повидал такое, что тебе и не снилось. Можешь представить, что значит в пятидесятые годы объехать весь Китай? Эх, молодость… – Взяв меня за руку, он добавил: – Мужчина, Робби, не мужчина, пока он не выйдет на большую дорогу! Пиши книги, Робби! Копай глубже. Стань таким, как Уилфред Бэрчетт. Не суди свысока. Робби, ты играешь на каком-нибудь инструменте? – внезапно сменил он тему.
– Играл на гитаре. У меня нет способностей.
– Я учился на скрипке. Ненавидел ее. Потом продал.
У меня комок подступил к горлу. Так же поступил мой покойный отец. Заложил ее в ломбард.
Лишенный настоящего, существующий в музейном мире теней, Гильермо мог опираться только на далекое прошлое.
– Гильермо, а что насчет Трайкова?
Гильермо скривил губы и наклонился ко мне, словно собирался говорить шепотом:
– Его жена – известная балерина. Они близки с Живковым. Номенклатура, Робби, – поднял он палец к потолку холодной комнаты и вновь скривил губы. Повисло долгое молчание.
На следующее утро я отправился в крипту храма-памятника Александра Невского, где хранится одна из самых впечатляющих в мире коллекций икон византийской школы. Самые ценные иконы датированы концом XIV в., кануном турецкого нашествия. Несмотря на шестивековой возраст, они прекрасно отреставрированы и находятся в идеальном состоянии. Золотистый, рубиновый и гранатово-красный, охряный, глубокий синий и даже серый цвета светятся, словно драгоценные камни. Глаза святого Георгия, Девы Марии, Иоанна Богослова, святого Иоанна Рильского могли бы быть глазами византийских императоров, императриц и придворных Средневековья: они сдерживают все эмоции, но прежде всего создают ощущение, что скрывают, хранят какую-то тайну. И я понял, что является массовым символом для болгар: византийская икона, мир пульсирующей страсти, которая хранится в глубокой тайне.
Глава 13 Цена дружбы
Это было осенью 1985 г., во время моего пятого визита в Софию. Как и раньше, я приехал на поезде из Румынии. Гильермо снова встречал меня у входа в «Гранд-отель Болгария».
– Робби, надо поторопиться. Тебя ждет Николай Тодоров, вице-президент болгарской Академии наук и директор Института балканских исследований.
Я приехал в Софию в связи с тревожными новостями. Коммунистические власти насильственно заставляли 900 000 человек, 10 % всего населения страны, сменить имена. Это имело отношение ко всем этническим туркам – человеческому наследию пятисотлетнего турецкого ига в Болгарии. Каждый Мехмет должен был стать Михаилом и т. д.
Обычно это происходило среди ночи. Рокот армейских грузовиков и ослепительный свет фар нарушал сон деревни, где проживали этнические турки. Милиция врывалась в каждое жилище и предъявляла главе дома фотокопию документа, в который он должен был вписать новые болгарские имена всех членов своей семьи. Те, кто колебался или отказывался, становились свидетелями изнасилования своих жен и дочерей. По сообщениям агентства Amnesty International и западных дипломатов, милиционеры убили сотни и нанесли телесные повреждения тысячам человек. Еще тысячи оказались в тюрьмах или были отправлены в ссылку.
Николай Тодоров запомнился мне как серый человек в сером костюме в холодной и темной комнате. Мне пришлось, не снимая пальто, сесть у окна, чтобы иметь возможность делать записи в блокноте. Речь Тодорова звучала монотонно. В голосе не было никаких эмоций. Гильермо переводил: «Государство обязано защищать интересы нации, а на Балканах нация означает одну конкретную этническую группу. Сохранение мира в этом регионе означает, что все меньшинства должны полностью ассимилироваться с доминирующей нацией».
Затем Гильермо проводил меня к другому болгарскому чиновнику, который оказался более откровенен: «Если бы не турецкое вторжение в XIV в., нас сейчас было бы восемьдесят миллионов (вместо девяти). Они нас ассимилировали. Теперь мы их ассимилируем. Турки еще не расплатились за убийство Левского».
«Когда Баязид[54] пришел сюда в XIV в., это было как гром и молния. Тысячам болгар пришлось сменить свои имена. Где в то время была ваша западная пресса? Сейчас нас прижали к стенке, отступать нам некуда», – продолжал он, имея в виду 2,5-процентный ежегодный прирост населения у турок-мусульман на фоне нулевого прироста у болгар-христиан.
Когда я сказал Гильермо, что собираюсь в посольство США, где устраивают брифинг по этому поводу, он забеспокоился.
– Что они могут сказать тебе?! – воскликнул он, нахмурив брови. – Брось, парень. Пообещай, что не станешь автоматически верить всему, что тебе наговорят дипломаты. Не забывай, ты журналист. Ты должен быть скептиком.
Дипломаты мне сообщили, что «в Болгарии имеет место очень значительное нарушение прав человека». Но Гильермо не стал расспрашивать меня о брифинге. Он сделал свое дело – постарался уговорить меня не ходить в посольство, и все. Дальнейшее его, похоже, не касалось.
В тот вечер 1985 г., помню, на улице был пронизывающий холод. Мы с Гильермо направлялись в русский ресторан, куда захаживали неоднократно. Мимо нас пронеслась кавалькада официальных лимузинов «Чайка», вынудив нас и толпу возвращавшихся с работы людей остановиться и ждать. Никто не махал руками сановникам, никто, похоже, вообще не проявил к ним интереса. Люди просто смотрели себе под ноги. Все окна длинных черных лимузинов были наглухо задернуты черными шторками. Разрыв между болгарскими коммунистическими властями и их подданными, похоже, становился огромным.
– Робби, нам надо поменять деньги, – быстро произнес Гильермо, когда мы двинулись дальше. Лицо его было непроницаемым. Никогда он не был столь откровенен. Я понял, что настал нужный момент.
– Гильермо, что произошло после того, как ты вернулся из Китая?
– Дорогой мой, этого я не рассказывал ни одному иностранцу, за исключением Уилфреда.
Когда мы подошли к ресторану, Гильермо уже закончил свою историю. Только спустя несколько часов, когда я вернулся в номер отеля, слегка пьяный, у меня появилась возможность ее записать. Но слова Гильермо, обжигающие мои уши на темнеющей холодной улице, обсаженной каштанами, произвели на меня сильное впечатление. Уверен, я запомнил все точно.
– Я вернулся из Китая в 1961 году. Меня назначили редактором в отдел иностранного вещания БТА. Мне было тридцать семь, Робби. На этой должности мне приходилось иметь дело с очень деликатными материалами, которые распространялись только среди членов партии. Я надеялся через несколько лет пойти на повышение, может быть, стать московским корреспондентом БТА. У меня был друг, мой ближайший друг. Его звали Борис Темков. Когда я был в Китае, Темков работал в болгарском посольстве в Лондоне. У него были очень хорошие партийные связи. Мы были настолько близкими друзьями, что ты даже представить не можешь! И был в то время один партийный деятель – Иван Тодоров-Горуня. Этого Горуню объявили маоистом. В то время как раз начались проблемы в отношениях между Китаем и Советским Союзом. Можно было понять, что грядет нечто серьезное. Это витало в воздухе. БТА распространило информацию, что Горуня покончил с собой. Я дал Темкову другой текст, который распространялся только среди партийной элиты. В нем излагались подробности дела Горуни. Это было весной 1965 года. Мы с Темковым собрались сходить с женами на ужин в клуб журналистов. Понимаешь, мы с ним стали такими близкими друзьями, что решили познакомить и жен.
– Гильермо, это была твоя первая жена? – прервал я.
– Нет, вторая. С первой женой проблемы начались еще в Китае, мы развелись сразу после возвращения в Болгарию. Ох, Робби, Китай! У меня там было столько приключений! Мы с Борисом пришли в клуб раньше жен. Тут я вспомнил, что забыл в кабинете пресс-релиз. Я сказал Борису, чтобы он подождал, и помчался в БТА за бумагами. Через полчаса я вернулся в клуб и не нашел Бориса. Зато увидел и свою жену, и жену Бориса. Они уже без нас познакомились. «Бориса видели?» – спросил я их. «Нет, – сказала его жена. – Еще не пришел». – «Он был здесь уже полчаса назад», – сказал я. Мы сделали несколько звонков. Безрезультатно. Мы подождали еще, потом сели за столик. Тут ко мне подошел один мой знакомый и сказал: «Бориса арестовали». – «Что?» – воскликнул я. Мы были в шоке. Парень повторил, что Темкова арестовали. Нам ничего не удалось узнать, даже где его содержат. Понимаешь, Робби, прежде чем судить коммуниста, всегда происходит собрание, на котором его сначала исключают из партии. Как-то в июле 1965 года, под вечер, я был в клубе журналистов. Ко мне подошел один знакомый партиец и сказал, что через полтора часа начнется собрание по поводу Темкова. Он сказал: «Гильермо, ты должен прийти. Ты был его ближайшим другом. Как это будет выглядеть, если ты не выступишь с его осуждением?» Это был самый страшный момент в моей жизни. Свои ощущения я никогда не забуду. Что было делать? Мне просто не дали времени. На собрании я впервые увидел Темкова после ареста. Робби, он выглядел так ужасно, что ты просто не поверишь. Члены партбюро один за другим вставали и начинали его осуждать. Они говорили совершенно невообразимые вещи: что Темков маоист и прочее, и прочее. Они его не знали. Может, кто-то из них когда-то обменялся с ним парой фраз в буфете. Я сидел тихо. Надеялся, что про меня забудут. Потом вдруг кто-то сказал: «Ну а ты что, Гильермо?» Это походило на страшный сон. Когда я встал, передо мной все было как в тумане. Я не мог дышать. Воздух был очень тяжелым. Невозможно описать, что я чувствовал. Что я мог сказать? Я сказал: «Возможно, кое-что из того, что вы говорили, правда. Не знаю. Но я очень хорошо знаю Бориса Темкова, и мне он никогда не говорил ничего такого, о чем говорите вы. При мне Борис Темков никогда не высказывался против партии. Я знаю, что он всегда поддерживал Живкова[55]. Что касается проблем в отношениях между Китаем и Советским Союзом, это, конечно, прискорбно. Но Темков никогда не говорил мне ничего антисоветского. Если он что-то такое говорил, то не мне. Товарищи, я могу сказать вам только то, что известно мне, Гильермо». Когда я закончил говорить, наступила тишина. Когда все вышли из зала, Борис подошел ко мне и пожал руку. Ладонь у него была очень сухая. Я не мог говорить. Сначала его отправили в Белене[56]. Сейчас он в Пирдопе, городке к югу от Софии. Он там работает.
– Хочешь сказать, он в ссылке?
– Да. Спустя двадцать лет ему все еще не дают разрешения жить в Софии. Я вожу его жену туда на машине. Они требуют, чтобы она развелась с ним. Она отказывается. Она прекрасная женщина. А я? Они сунули меня в холодильник. Десять лет после суда я сидел, так сказать, в холодильнике, за каким-то столом, перебирал бумажки. Я бы сейчас уже мог стать директором БТА. Но мне пришлось уйти из БТА и перейти на работу в София Пресс. Через десять лет мне сказали: «Ладно, Гильермо, все в порядке. Тебя простили». Я начал все сначала, с самых низов. Мне уже было почти пятьдесят. Робби, мне всегда хотелось быть журналистом, настоящим корреспондентом, ездить за границу, путешествовать, как Уилфред Бэрчетт. Понимаешь, Робби, это все произошло из-за Китая. Когда я вернулся оттуда в конце 1961 года, расхождения Китая с Советским Союзом уже начинались. Я был корреспондентом БТА в Пекине, стало быть, оказался под подозрением. А поскольку я дал Темкову документ про Горуню, они могли использовать это и против меня, и против Темкова.
Я не понял и попросил Гильермо пояснить. Но объяснение было путаным, а я уже начинал дрожать от холода. Гильермо водил меня кругами возле русского ресторана, держа за руку.
Внутри, за бутылкой виноградной ракии, под темным холстом с изображением русских солдат, сражающихся в Крыму, Гильермо разошелся.
– Ненавижу Живкова. Ненавижу Трайкова. Я всегда был за социалистическую демократию, за интернационализм, а не за номенклатуру и привилегии. Кстати, Робби, то, что сейчас они делают с турками, – потянулся он ко мне через стол, – это их самое тяжкое преступление, самое тяжкое.
Ближе к концу ужина Гильермо рассказал мне правду про тигровую шкуру. Он добыл тигра не в одиночку. Стреляли все. Было невозможно сказать, чей выстрел оказался роковым. Но поскольку Гильермо был иностранным гостем, китайцы решили сделать ему подарок.
– Так что, Робби, твой Гильермо не такой уж герой.
Глава 14 Добро и зло
София, в которую я вернулся в октябре 1990 г., опять на поезде из Румынии, стала совсем другим городом по сравнению с тем, что я видел раньше. Труп Димитрова кремировали, и белый неоклассический мавзолей напротив «Гранд-отеля Болгария» был исписан антикоммунистическими граффити. Люди не шептались, а громко смеялись и ругались прямо на улицах. В городских парках торговали иконами и другими предметами религиозного культа. Вместо одной газеты «Работническо дело» («Рабочее дело»), которую никто не читал, появилось множество газет, которые читали все. Церкви в византийском и неовизантийском стиле выглядели не внушающими страх классическими памятниками прошлого, как раньше, а казались органическим компонентом сегодняшнего дня, не искажающим общественную жизнь, а способствующим ее оздоровлению. До падения Живкова в ноябре 1989 г. в эти церкви постоянно заходило немного прихожан, в основном пожилых людей. Сейчас в них бурлила жизнь. Молодежь и старики стояли в очереди, чтобы купить восковые свечи. Запомнилась одна симпатичная брюнетка в потоке желтого света, льющегося из витражных окон, которая опустилась на колени и целовала икону.
Гильермо нашел меня в холле отеля. Он был в элегантном коричневом костюме, голубой рубашке в тонкую полоску, при красном галстуке и такого же цвета платке в нагрудном кармане. Ему было шестьдесят шесть, но выглядел он моложе, чем раньше.
– Дорогой мой, извини, но я просто очень занят последнее время. Робби, я теперь стрингер агентства UPI, а в Софии столько новостей! Робби, мы в глубоком экономическом кризисе. Это хуже чем Балканские войны. Тогда мы, по крайней мере, были все заодно в борьбе против сербов и прочих. Сейчас болгары раскололись. В парламенте все говорят и говорят. Когда мы увидим какие-то действия? Неужели они не понимают, что народ ждет новых законов? У нас в Болгарии стало слишком много демократии…
Я отвел Гильермо через площадь в «Венское кафе» при отеле «Шератон», который открылся уже после моего последнего приезда в Софию. Гильермо быстро прикончил капучино с куском земляничного торта, густо приправленного взбитыми сливками, и стал извлекать бумаги из портфеля.
Он был неудержим в намерении пересказать мне слово в слово обе свои последние статьи для UPI – одну о дефиците горючего, другую о борьбе за власть между коммунистами, которые теперь называли себя «социалистами», и оппозиционным Союзом демократических сил (СДС).
– Робби, можно я тебе кое-что скажу? Эта публика из СДС – не думай, что они такие уж герои. Думаешь, это бывшие диссиденты? Нет, конечно. Большинство из них дети номенклатуры. И вдруг, ни с того ни с сего, стали демократами. Это оппортунисты! Все время вопят о преступлениях Живкова. Это единственное, о чем они могут говорить. Робби, ты же знаешь, в душе я всегда был диссидентом. Но мы должны перестать концентрироваться на прошлом. Знаешь, кто нам может помочь? Царь Симеон[57]. Он живет в Мадриде, но, может быть, вернется.
Вечером мы отправились в клуб журналистов. Там атмосфера тоже изменилась. Публика в целом была намного моложе, чем раньше: мужчины в «вареных» джинсах, симпатичные женщины во вполне приличных местных подделках под новейшую итальянскую моду. За столиками было так же оживленно, но былая интимность пропала. Темой дискуссий в основном была политика, а не личные интриги. Я ощутил укол ностальгии по ушедшему времени. Я предположил, что через пару лет клуб совсем изменится: здесь станут меньше курить, да и атмосфера в целом не будет отличаться от какого-нибудь вечернего клуба в Вашингтоне. И тут же укорил себя за столь эгоистичные и ненужные помыслы: болгары наверняка будут горячо приветствовать такую трансформацию.
Гильермо сказал, что спустя сорок пять лет вышел из коммунистической (теперь социалистической) партии. Причина? Лидером новой партии стал Александр Лилов, один из тех, кто в 1964 г. выступил против Темкова, даже не будучи с ним знакомым. После падения Живкова Темкову, как сообщил мне Гильермо, разрешили вернуться из ссылки. Спустя двадцать шесть лет тот смог возвратиться в Софию. Сотрудники БТА потребовали и добились увольнения Бориса Трайкова с поста директора.
– Но что самое замечательное, Робби, спустя сорок четыре года собираются снова открыть Американский колледж – мою альма-матер.
Несмотря на октябрь, погода была холодной и пасмурной. Дождевые облака затягивали небо, как дым от свечей иконы. Кафе, в котором мы встретились с Гильермо на следующее утро, как и все здания в центре Софии, за исключением отеля «Шератон», не отапливалось. Ночь в «Гранд-отеле Болгария» я провел, укрывшись всеми доступными одеялами, и видел облачка пара от своего дыхания. Я до сих пор мерз. Это был не тот приятный, временный холод запада, когда ты согреваешься, оказавшись в помещении; это был мучительный, бесконечный холод Восточной Европы, когда живот и ребра начинают болеть от многочасового сокращения мышц, стремящихся удержать остатки тепла в организме. Это был холод, к которому быстро шла Болгария в результате последствий кризиса в Персидском заливе, начавшегося с прошлого августа после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт, и крушения коммунистической системы. Здесь, как и везде на Балканах, чтобы понять, надо разделить общие страдания.
– Сейчас очень интересный исторический момент, но и самый тяжелый, – говорил мне Гильермо. – Архивы госбезопасности, скорее всего, не раскроют, по крайней мере при нашей жизни. Да, люди хотят узнать правду об убийстве Маркова, о покушении на папу, но есть и много всего другого. Мы жили при этой системе сорок пять лет, Робби. На каждого было заведено дело. Каждый из нас в разное время мог что-то сказать. Поверь, Робби, ты должен мне поверить, я не такой, как остальные. Я никогда не работал на ДС [Державна Сигурност]. Но, если все дела раскроют, вполне вероятно, окажется, что твой друг Гильермо тогда-то и тогда-то говорил то-то и то-то, что могло быть использовано против такого-то и такого-то. – Гильермо вскинул брови и пожал плечами, подчеркивая бесконечные возможности и уровни интерпретации. – Ты хочешь настроить соседей друг против друга? Никто не желает обнародования этих материалов. А если их обнародуют, что в них найдут? Конечно, найдут что-то про убийство Маркова, но заодно и то, что какая-то нынешняя шишка из СДС работала осведомителем на ДС. Посмотрим. Но, Робби, ты должен понять одно. – Он взял меня за руку. – Я, Ангелов, всегда был социал-демократом, интернационалистом. Я никогда не работал на ДС. – Гильермо выглядел невероятно встревоженным, обеспокоенным тем, что я могу его в чем-то подозревать.
Стекла кафе дребезжали от ветра. Я смотрел на свинцовое небо и волны золоченых куполов церквей, определяющих очертания Софии. Если Гильермо когда-то что-то и сделал (если вообще сделал), я давным-давно простил его.
В сгущающихся сумерках я вышел на бульвар Генерала Заимова. Круглые уличные фонари зажглись буквально пару минут назад. Теперь они снова погасли: очередное отключение. В целях экономии электричество отключали на час через каждые три часа. Я толкнул скрипучую металлическую дверь и вошел в темный подъезд, разрисованный граффити. Поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь. Мне открыли. На пороге стояла невысокая женщина со свечкой в руке, освещавшей ее прямые седые волосы и милое, интеллигентное лицо. Она провела меня в квартиру. Окна гостиной выходили на мрачный парк с каштанами.
– Я Весса. Это моя дочь, Анна, и внучка, Ванесса.
Я обменялся рукопожатиями с привлекательной темноволосой женщиной и восхитился полуторагодовалым ребенком, создававшим хаос. В комнате было холодно. В полумраке я разглядел парочку восточных ковров, несколько книжных полок и какие-то, скорее всего, китайские безделушки. Для автора сорока книг Уилфред Бэрчетт накопил не так уж и много. Вспомнились огромные библиотеки, которые я видел у людей, не совершивших и малой доли того, что удалось Бэрчетту. Подобно Джону Риду и Баучеру, Бэрчетт вел цыганский образ жизни, жил на чемоданах, коллекционировал друзей, а не вещи. В отличие от Рида, чьи книги хорошо продавались при его жизни, и Баучера, получавшего зарплату постоянного сотрудника лондонской Times, а к концу жизни и пенсию, Бэрчетту нелегко пришлось: в шестьдесят девять лет он уехал в коммунистическую Болгарию, чтобы написать книгу и сотрудничать с болгарскими журналами в качестве фрилансера.
Бэрчетт умер в 1983 г., через два года после моего первого приезда в Софию. Весса познакомилась со своим будущим мужем в 1949 г., когда Бэрчетт впервые приехал в Болгарию освещать ход показательного процесса по делу Трайчо Костова, героя болгарского Сопротивления во время Второй мировой войны, которого в конце того же года казнили как «шпиона Тито». Впоследствии его реабилитировали.
– В то время я работала в БТА, и меня прикрепили к Уилфреду в качестве переводчика. Мы полюбили друг друга. За брак с иностранным журналистом меня исключили из партии. Партийным было невозможно объяснить, что Уилфред настроен не враждебно, как другие люди Запада, а симпатизирует нам.
– Как вы думаете, как бы ваш муж отреагировал на революции в Восточной Европе?
– Он был бы в восторге. Говорят, Уилфред был коммунистом, но это неправда. И шпионом он не был. В душе он был человеком перестройки, только очень опередившим свое время. Однажды он сказал мне: «Весса, надо признать: народные демократии не работают».
– А скажите, – вмешалась Анна, – как там Гильермо? Он все еще коммунист? – Тон ее был насмешливым.
– Не думаю, что Гильермо коммунист, – ответил я.
– Хорошо. Значит, чему-то научился.
Анна считала, что проблема Болгарии заключается в попытках коммунистов так или иначе сохранить власть, а стране нужен капитализм и возвращение царя Симеона.
– Монархия – новая прихоть, – произнесла Весса, бросив суровый взгляд на дочь.
По ее мнению, оппозиция, отказываясь сотрудничать с коммунистами, несет ответственность за нестабильность в стране. Семья Бэрчетта мало чем отличалась от других семей: дети бунтуют против политических ценностей своих родителей.
Когда я собрался уходить, дали свет.
– Мой отец не был коммунистом, – жалобно произнесла Анна.
– А его книга о Болгарии опубликована?
– Только на португальском. Вышла в Бразилии.
В тот последний приезд в Болгарию в 1990 г. я решил немного поездить с рюкзаком по стране. В отличие от Румынии путешествие автостопом здесь было невозможно: из-за нехватки горючего машин на дорогах почти не осталось. Я ездил автобусом.
Кырджали – город недалеко от турецкой границы. В этом регионе Болгарии 80 % населения – этнические турки. В городском парке памятник Георгию Димитрову, отцу послевоенной Болгарии. Димитров, усталый, слегка сгорбленный, в накинутом на плечи пальто, изображен этаким дядюшкой, добрым слугой народа. Но за ним, как часть архитектурной композиции, стоит ряд массивных черных гранитных блоков один на другом, символизируя современное индустриальное государство, созданное трудами Димитрова. И за этими неуклюжими блоками кроется глубочайшее и грубое презрение. Они словно говорят: «Мы можем раздавить вас, и вы ничего с этим не сможете сделать»[58].
Я понял, в чем разница между Бэрчеттом и Димитровым.
Бэрчетт был человеком богатой и глубокой души, но настолько увлекся поиском рая, что закончил служением дьяволу, хотя и невинным образом. Все, что было плохого в Бэрчетте (как и в Гильермо, кстати), проявлялось случайно. Но что касается Димитрова (и Сталина, разумеется), случайно в них проявлялось только хорошее. Защиту Димитровым коммунизма во время судилища о поджоге Рейхстага можно считать нравственной, только если учесть, что нацисты сотворили злодеяний намного больше[59]. Но всю свою остальную жизнь, особенно в части порабощения Болгарии, Димитров верой и правдой служил Сталину. Если бы Гитлер не нарушил пакт о ненападении на Советский Союз, то Сталин (и его приспешники, такие как Димитров) благополучно занялся бы вместе с ним разделом Европы, так же как впоследствии он сделал это с западными союзниками.
– В то время я училась в школе в Варне, – рассказывала мне одна болгарка, с которой я познакомился в Кырджали. – В конце 1984 года я вернулась в Кырджали на зимние каникулы. Мне никто ничего не сказал. На вокзале было полно солдат и милиции. Они ходили по четверо. Солдаты были везде. Турецкая часть города оказалась полностью заблокирована. Мы могли только догадываться, какие ужасы там творились. Мы молчали. Нам было страшно. Это были проблемы турок. То, что произошло, – это ужасно. Но, если не считать смены имен – сейчас уже можно вернуть их обратно, – что плохого сделали им болгары?
– А как же убийства и изнасилования? – спросил я.
– Да, убийства и изнасилования были. Это чудовищно. Но теперь у турок больше прав, чем у нас, болгар. Вас, иностранцев, интересуют только турки. Только поэтому вы сюда и приезжаете. А мы теперь боимся, что Турция нас снова захватит. Их больше, чем нас, и у них сильнее экономика.
Она была права. Население Турции 55 миллионов, это в шесть раз больше, чем в Болгарии. По западным стандартам турецкая экономика слабая, у них высокий уровень инфляции, они производят товары низкого качества. Но в отличие от Болгарии в Турции уже много десятилетий свободная рыночная экономика. С учетом того, к чему привыкли болгарские потребители за годы коммунистического режима, и того, что они теперь могут себе позволить, турецкие товары, ждущие своего часа по ту сторону границы, могут быть восприняты очень хорошо. В начале последнего десятилетия XX в. турецкие бизнесмены были нацелены на захват болгарских рынков, а турецкая экономика была готова поглотить гораздо менее развитую болгарскую. Турецкое господство, с которым так жестко боролись коммунисты, теперь могло вернуться как непосредственное следствие коммунизма. На протяжении десятилетий болгарские коммунисты играли на ненависти и навязчивых идеях прошлого, вынашивали самые дикие планы и заговоры, надеясь избежать той самой судьбы, которую они подсознательно готовили болгарскому народу.
В октябре 1990 г. я путешествовал по Балканским горам. Меня окружали ивы, тополя, кипарисы, пихты, яблони. Передо мной разворачивались картины идиллической красоты. Особая привлекательность Болгарии заключается в ее расположении между холодным и мрачным климатом Европы и теплым средиземноморским климатом Греции. И ее флора – роскошное сочетание того и другого.
Я приехал в Батак. Это название когда-то распространилось по всему миру, как позже Сонгми. Я давно обещал Гильермо съездить в Батак. Но только во время седьмого визита в Болгарию удалось это сделать.
Батак встретил меня туманом. Вокруг стояли сосны, ели, пихты, буки. Сам городок – это кучка домов под красными черепичными крышами высоко в альпийских лугах Родопских гор на юге Болгарии, недалеко от Греции. В апреле 1876 г. здесь произошла так называемая «батакская резня». Для подавления восстания в Батаке турки направили отряд башибузуков – головорезов из болгар, принявших мусульманство, – которые уничтожили пять тысяч православных христиан, почти все население города, а сам город сожгли дотла. Основная бойня произошла в церкви Святой Недели. Януарий Макгахан, корреспондент лондонской Daily News, одним из первых побывавший на месте бойни, обнаружил в церкви метровый слой обнаженных и окровавленных трупов.
В музее Батака я обратил внимание на газетную вырезку. К сожалению, нельзя было понять, из какой она газеты и кто ее автор. Статья датирована 30 августа 1876 г. и содержит резкую критику британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли, который заявил, что сообщения о зверствах турок в Болгарии «сильно преувеличены». Автор статьи с сарказмом замечает, что, по мнению Дизраэли, нет большого преступления в «убийстве многих тысяч», но гораздо большее преступление для корреспондента написать, будто «убито тридцать тысяч, хотя на самом деле убито всего двадцать пять тысяч, или заявить, что в Филиппополь (Пловдив) привезли мешок с человеческими головами и раскатили их по городским улицам, тогда как на самом деле головы высыпали перед дверями итальянского консульства в Бургасе». Я вздохнул, вспомнив, сколько подобных аргументов десятилетиями появлялось на редакционных полосах газет по поводу убийств и нарушений прав человека на Ближнем Востоке и в других регионах третьего мира. Да, все это началось здесь.
Я присоединился к молчаливому и ровному потоку людей, входящих в холодное и продуваемое помещение церкви Святой Недели с ее проваливающейся крышей и почерневшими, когда-то беленными стенами, с которых уже 114 лет не смывают следы крови. В мраморной крипте под стеклом, в свете специальных фонарей, лежит гора черепов и костей. Людской поток не кончался, в нем были люди всех возрастов и социального положения: крестьянки в платках, горожане в модной одежде. Никто не произносил ни слова.
Последним местом, которое я намеревался посетить в Болгарии, был Рильский монастырь[60]. Если смотреть на него от могилы похороненного здесь британского журналиста Джеймса Дэвида Баучера, монастырь выглядит как архетипичный образ Шангри-Ла: рапсодия теплых, чувственных цветов, над которой высятся купола, крыши и средневековая башня, идеально сочетающаяся со строгими лесными тонами окружающего пейзажа. Женщина по имени Надя вела меня вверх по холму между темных высоких сосен, сквозь которые пробивались лучи солнца. Между вершинами плыли полотна тумана, навевающие мысли о высоких идеалах. Постоянно слышалось журчание горных ручьев.
Именно от Нади я впервые услышал о Баучере. Я познакомился с ней в Рильском монастыре. Она специалист по истории средневековой Болгарии, работает в монастыре гидом, здесь же живет и занимается наукой.
– Я человек не религиозный, – сказала она. – Для меня что Христос, что Мухаммед – никакой разницы. Я приехала сюда в поисках более высокого нравственного смысла, ви́дения, которое коммунизм никогда не мог дать нам в Болгарии.
Могила Баучера – массивная гранитная плита, единственная на поляне, откуда открывается вид на главный вход в монастырь.
– Я прихожу сюда каждый день, – говорила Надя. – Это самое красивое и спокойное место в округе. Баучер прибыл сюда с царем Фердинандом и сразу же влюбился в эти места. Он сказал, что хотел бы быть похороненным здесь. Когда Баучер умер [в 1920 г.], сын Фердинанда, царь Борис, исполнил его пожелание. Это место называется долиной Баучера.
На могиле лежали цветы. Их положила Надя.
Почувствовав мой интерес, Надя пригласила меня к себе в жилые помещения монастыря. Она предложила показать книгу о жизни Баучера.
Мы поднимались и спускались по крутым деревянным лестницам длинной галереи. Под ногами скрипели ступени. Подойдя к одной из дверей, Надя достала большой ключ, открыла, и мы оказались в холодной келье с выбеленными стенами. Я подумал, что мог бы на старости лет блаженно жить и умереть здесь.
Солнечный свет, пробиваясь сквозь пыльное окно, освещал деревянный стол, на котором стояла старенькая пишущая машинка с кириллическим шрифтом. На полу лежал полосатый восточный ковер. Кровать Нади была застелена цветастым крестьянским покрывалом. Два ряда полок занимали иллюстрированные книги по иконографии и православию. В солнечном пятне на полу лежал, свернувшись клубочком, двухмесячный котенок.
Стояла поздняя осень. Монастырь находится на высоте полторы тысячи метров. В комнате было довольно холодно. Надя предложила мне чашку дымящегося травяного чая и достала книгу в солидном черном переплете. На внутренней стороне обложки я увидел штамп: «Собственность Американского колледжа в Софии». Там даже была карточка, на которой отмечались даты выдачи книги. Последний раз ее брали 10 июня 1941 г. Надя объяснила, что в 1946 г., когда коммунисты закрыли колледж, бо́льшая часть книг из его библиотеки была перевезена в монастырь, под защиту монахов.
Это была книга леди Гроган «Жизнь Дж. Д. Баучера» (The Life of J.D. Bourchier), опубликованная в Лондоне в 1932 г.
– Баучер был большим другом Болгарии, – сказала Надя. – Он любил нашу страну как вторую родину. Даже не верится, что ты про него ничего не слышал. – Она улыбнулась и положила на стол большой ключ от комнаты. – Мне надо вернуться на территорию, вдруг туристы появятся. Ты можешь остаться здесь и читать сколько захочешь.
Она вышла, прикрыв за собой дверь. Я поглядел в окно на хвойные деревья и каменные дубы, покрывавшие крутой горный склон, а потом начал читать.
Джеймс Дэвид Баучер родился в 1850 г. в семье англо-нормандско-ирландского происхождения. Получил образование в Тринити-колледже в Дублине, впоследствии преподавал в Итоне, страдая от застенчивости и нарастающей глухоты. Именно глухота, отмечает биограф, спасла Баучера от заурядной жизни преподавателя. В возрасте тридцати восьми лет, неженатый, имевший мало друзей, он уезжает на континент, мечтая стать писателем. Цепь случайностей приводит его в 1888 г. в Бухарест, где он пишет корреспонденции для Times о крестьянском восстании против короля Кароля I. Затем Баучер становится внештатным корреспондентом Times на Балканах. В этот момент он полностью преображается как личность. В новой, экзотической обстановке, где никто не знает недавнего застенчивого преподавателя, увлеченный новой работой, вынуждающей его встречаться с влиятельными и интересными людьми, Баучер излечивается от застенчивости; он становится общительным и полным сочувствия к различным этническим группам, о которых пишет. «Он поочередно идентифицировал себя с критянами, македонскими болгарами, греками, румынскими крестьянами», – пишет леди Гроган. Премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос назовет его позже «другом Греции», а царь Фердинанд – «другом Болгарии». В 1892 г. Баучер становится штатным спецкорреспондентом Times на Балканах. Эту работу он выполняет более двух десятилетий, освещая события двух Балканских войн и Первой мировой войны. В то же время Баучер написал статьи о Греции, Болгарии и Румынии для нескольких изданий Британской энциклопедии (Encyclopedia Britannica). В конце Первой мировой войны Баучер появлялся на различных мирных конференциях как британский защитник болгарских притязаний на Македонию (такую же роль играл Лоуренс Аравийский по отношению к арабам). Но Баучер не преуспел в этом деле, поскольку Болгария была союзницей Германии, которая проиграла войну.
Как человек, всегда сознававший свое позднее развитие, я принял близко к сердцу воспоминания Баучера о его первом путешествии по Балканам, когда ему было уже почти сорок лет. «Ах, свежесть юности!» – воскликнул он. Баучер, как и я, любил посещать балканские монастыри. Я не сомневался, что в Афинах, где Баучер некогда был дуайеном журналистского корпуса, никто из современных журналистов о нем и не слышал. Все это было так давно: македонские партизанские восстания, Балканские войны… Но здесь, в этом лесу, симпатичная интеллигентная женщина, у которой полно других дел, бережно хранит огонь Баучера. Если существует какая-то связь с ушедшими в мир иной, то я, дочитав последнюю страницу истории жизни Баучера, ощутил нечто подобное. Уверен, он смог бы оценить мои чувства по отношению к этой маленькой прекрасной стране.
Часть IV. Греция: восточная жена, западная любовница
Запад стремится завоевать мир, следуя традициям разума и практического интереса; Восток тоже стремится завоевать мир, побуждаемый пугающими подсознательными силами. Греция находится посередине. Она географический и духовный перекресток мира.
Никос Казандзакис. Отчет перед Эль ГрекоГлава 15 Прощай, Салоники
В октябре 1990 г. я выехал из Рильского монастыря к южной границе Болгарии, откуда оставалось всего восемьдесят километров до второго по величине греческого города Салоники. В обе стороны от меня простиралась широкая серповидная бухта, по берегам которой на километры тянулись серо-бурые массивы монолитных бетонных жилых домов с ржавыми балконами и неоновыми вывесками ресторанов фастфуда и салонов компьютерных игр. Сине-белый полосатый греческий флаг полоскался на Белой башне, построенной в XV в., единственном сооружении в поле моего зрения, которое напоминало о временах, предшествовавших Второй мировой войне. Для женщины, сидевшей за столиком напротив меня, этот флаг, развевающийся над городом, символизировал не освобождающую чистоту мраморных руин на фоне синего моря, а мрачную и бескомпромиссную реальность Востока.
У греков поразительная жестикуляция: очаровательные щелчки, хлопки и хруст греческих слогов просто предназначены для подчеркивания выдвинутыми вперед челюстями и разведенными руками. Греки очень много времени проводят в кафе за разговорами. «Мы, греки, самый одаренный народ: провести четыре часа за маленькой чашечкой кофе – настоящее искусство», – полушутя, полусерьезно как-то заметил мой греческий приятель. Но женщина, которая сейчас сидела напротив меня, была примечательно экономна в движениях и, как хладнокровно сообщила мне, имела лишь сорок пять минут свободного времени. У нее были темные волосы и жесткий, пронзительный взгляд.
– Доставай блокнот, – сказала она.
Город Салоники – Фессалоники по-гречески – назван в честь единокровной сестры Александра Великого Фессалоники. Джон Рид, побывавший здесь весной 1915 г., кратко изложил его историю:
Здесь Александр Великий снаряжал свой флот. [Салоники] были вторым по величине и значению городом Византийской империи после Константинополя и последним оплотом того романтического латинского царства, где раздробленные остатки крестоносцев отчаянно цеплялись за Левант, который завоевали и потеряли. Сарацины и франки… греки, албанцы, римляне, норманны, лангобарды, венецианцы, финикийцы и турки сменяли друг друга в качестве его правителей; апостол Павел докучал ему своими визитами и посланиями. В середине Второй Балканской войны Салоники едва не захватила Австрия; Сербия и Греция нарушили Балканский альянс, чтобы сохранить его, а Болгария ввязалась в катастрофическую войну, чтобы завладеть им. Салоники – город без национальности и город всех наций.
Далее Рид пишет: «Но весь центр города – огромная община испанских евреев, изгнанных из Испании Фердинандом и Изабеллой».
По словам британского специалиста по Балканам Невилла Форбса, также писавшего с выгодной позиции 1915 г., «город Салоники был и остается почти чисто еврейским, в то время как регионы страны представляют собой невероятное смешение турецких, албанских, греческих, болгарских и сербских деревень». Дж. Д. Баучер считал, что «идеальное решение» для будущего этого города – «еврейская республика и вольная гавань под протекторатом великих держав». Сами евреи на протяжении многих веков называли Салоники «матерью Израиля».
Рена Молхо, сидевшая напротив меня, – испанская еврейка, одна из 850 евреев, которые остались в городе, где живет миллион греков. Болгарская, сербская и турецкая общины насчитывают и того меньше. Она пришла говорить о городе, который больше не существует: точно так же греки из Александрии трагически говорят о своем многонациональном средиземноморском городе, тоже с широкой серповидной бухтой, где на протяжении многих веков доминировали греки, теперь же полностью арабском. Рена сыпала фактами.
Первые евреи появились в Салониках в 140 г. до н. э. В 53 г. апостол Павел (он же рабби Шауль из Тарсиса) три шаббата подряд проповедовал в синагоге Эц-Хаим («Древо Жизни»). В 1376 г. сюда прибыли евреи из Венгрии и Германии. После завоевания Салоник османами в 1492 г. здесь получили разрешение поселиться 20 000 евреев из Испании. Это кардинальным образом изменило демографический состав и культуру города. В 1493 г. приехали евреи из Сицилии. После того как испанская инквизиция распространилась на Португалию, в 1495–1497 гг. сюда эмигрировали и португальские евреи.
– В 1913 году, – читала мне лекцию Рена, – население Салоник составляло 157 тысяч человек, в том числе 80 тысяч евреев, 35 тысяч турок (из которых 10–15 тысяч были «денме» – евреями, принявшими мусульманство во время турецкого господства), от 30 до 35 тысяч греков и по 7–12 тысяч болгар, сербов и албанцев.
В поддержку своей статистики Рена перечисляла названия книг, их авторов, издателей, даты публикации, словно говоря: «Посмотри, как все жестикулируют за другими столиками! Так ты поймешь стиль, а я даю тебе суть. И не вздумай оспаривать мои сведения!»
Рена, в частности, упомянула книгу «Прощай, Салоники» Леона Сциаки. Это рассказ о мальчике, который живет на закате Османской империи в сонном городке садов, минаретов, беленых стен, зеленых ставней и красных черепичных крыш. Позже мне удалось найти эту давно не переиздававшуюся книгу в библиотеке британского консульства в Салониках. Сциаки называет Салоники того времени «преимущественно еврейской столицей Македонии». В его классе только один из пятнадцати учеников был греком. Автор называет это «честным поперечным срезом» города. Это мемуары, отягощенные историческими ожиданиями: «Век близился к концу. Запад подкрадывался незаметно, пытаясь соблазнить Восток своими чудесами».
В начале XX в. реакционная тирания турецких султанов в греческой Македонии наконец начала рушиться. Но страх и неуверенность нарастали: евреи нашли себе нишу в регионе с огромным этническим разнообразием. Нетерпимый – возможно, потому что долго подавляемый, – национализм болгар, расселившихся на прилегающих к Салоникам территориях, и греков, оккупировавших всю территорию к югу, представлял гораздо бо́льшую опасность, чем тирания Османской империи.
– Ты должен понять атмосферу, – говорила Рена. – В 1913 году греки разгромили четыреста еврейских лавок под тем предлогом, что евреи отравили колодцы.
В «Отчете перед Эль Греко» Казандзакис представляет свое свидетельство об антисемитизме в Греции того периода:
Я хотел выучить иврит, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике… Мой отец пригласил раввина, и они договорились, что я буду ходить к нему на уроки три раза в неделю… Когда об этом узнали наши родственники и друзья, они пришли в ужас и прибежали к отцу. «Что ты делаешь?! – орали они. – Ты совсем не думаешь о своем сыне! Разве тебе не известно, что в Страстную пятницу эти изверги кидают христианских младенцев в корыто, утыканное гвоздями, и пьют их кровь?»
В 1916 г. греческие войска оккупировали Салоники. В 1917 г. страшный пожар уничтожил всю еврейскую часть города, в том числе тридцать четыре синагоги. Без крыши над головой остались 73 448 человек, среди них 53 737 евреев.
– Но Салоники еще оставались еврейским городом. Языком межэтнического общения и языком уличных мальчишек был иудеоиспанский (ладино). Порт закрывался на Шаббат [еврейская суббота] до 1923 года, когда греки приняли закон, отменяющий это правило, – говорила Рена.
В том же году 100 000 греков бежали из Малой Азии, недавно захваченной турецкой армией под командованием нового национального лидера Мустафы Кемаля Ататюрка, и нашли прибежище в Салониках.
– Евреи разрешили использовать здания своих школ в качестве приютов для беженцев. Некоторое время еврейские дети не могли посещать школы, – продолжала Рена с нарастающим гневом.
Когда нацисты в апреле 1941 г. оккупировали город, еврейская община в Салониках по численности была второй после греческой. Хотя размеры общины сократились, Салоники все еще оставались мировой культурной столицей сефардского (испанского) еврейства.
– Нацистам потребовалось два года ежедневных трудов, чтобы лишить еврейские Салоники всех их художественных сокровищ, – сказала Рена. – И понадобилось пятнадцать железнодорожных составов, чтобы в течение пяти месяцев оставить Салоники без евреев. Целый город был переправлен в концентрационный лагерь. 500 тысяч могил на кладбище, возможно, крупнейшем в мире еврейском кладбище, были уничтожены.
Она показала мне фотографию построенного немцами плавательного бассейна, облицованного еврейскими надгробными плитами.
Из всех городов оккупированной нацистами Европы Салоники на первом месте по количеству погибших евреев. Из 56 000 еврейского населения 54 050 человек – 96,5 % – были уничтожены в Освенциме, Биркенау и Берген-Бельзене. Операция по захвату и депортации евреев Салоник принесла бесславную известность Адольфу Эйхману. В начале 1990-х гг. еще одного нацистского военного преступника, Алоиза Бруннера (австрийца, как и Эйхман), скрывавшегося в Сирии, разыскивали, чтобы предать суду в первую очередь за его деятельность в Салониках.
Когда нацисты заняли Салоники, мать Рены бежала в Центральную Грецию, оккупированную итальянцами. Отец по поддельным документам бежал в Афины, где торговал папиросной бумагой.
– Отец говорил мне, что день освобождения Афин стал для него величайшим днем в жизни, более значимым, чем дни рождения его детей и внуков.
Теперь Рена перешла к главному в своем выступлении:
– До немецкого вторжения евреям в Салониках принадлежало двенадцать тысяч домов. После войны претензии предъявили только на шестьсот. Греческие власти удовлетворили тридцать. Сегодня в университете Салоник нет ни кафедры, ни курса – ничего, связанного с еврейской, впрочем, как и с турецкой и прочими общинами. Нет ничего в исторических учреждениях. Ничего в городских музеях. Вряд ли хоть одна книга в греческих книжных магазинах. Ничего. Словно нас здесь никогда не было. Знаешь ярмарочную площадь? Там ежегодно устраивают ярмарки и выступает премьер-министр. Она построена на месте еврейского кладбища. Нет даже таблички. Ничего.
Рена поднялась, собираясь идти. Ее ждала другая встреча.
Рена не преувеличивала. Спустя сорок пять лет мэрия Салоник все еще не решается удовлетворить просьбу назвать улицу города – любую улицу – улицей Еврейских Мучеников. Тотальное стирание многонационального прошлого города происходит, кажется, на подсознательном уровне. В послевоенный период греческие политики всех мастей в выступлениях, имеющих отношение к Салоникам, редко (если вообще такое когда-либо случалось) упоминали или отдавали дань памяти негреческой стороне истории города. По мнению греков, Салоники, как и вся остальная Македония, были, есть и всегда будут исключительно греческими.
Книжная лавка Молхо, принадлежащая свекру Рены, Саулу, открыта его предками в 1870 г. и является старейшим книжным магазином города. Она расположена в доме № 10 по улице Цимиски, единственной процветающей улице, оставшейся от еврейских Салоник. На восточной окраине города, в нескольких километрах от бетонных жилых кварталов с безвкусными витринами магазинов, находится вилла Моздах – архитектурная достопримечательность, названная по фамилии знаменитых испанских евреев, которым она принадлежала. Над белыми колоннами с пилястрами в неоклассическом стиле и крышей-луковицей развевается сине-белый полосатый греческий флаг. Снаружи никакой мемориальной таблички. Ни в одном местном путеводителе не найти упоминания о здании, связанном не с греческим прошлым.
Я излил душу на тему еврейских Салоник своему другу, американцу греческого происхождения Аристиду Д. Каратцасу. Он специалист по истории Византии, участник греческого лобби и издатель научных книг, имеющих отношение к Греции, как древней, так и современной. Его фирма собиралась опубликовать книгу о евреях Салоник.
Вот что он мне сказал:
– Начиная с классической Античности и до начала XV века Салоники были греческим городом. Затем греков изгнали османы, которые оказали евреям радушный прием. Действительно, на протяжении пяти веков в Салониках доминировали евреи. В историческом смысле они сохранили город для греков, которые смогли вернуть его себе только в XX веке, отчасти благодаря тому, что турки снова изгнали их, на этот раз из Малой Азии в Салоники. Здесь никогда не упоминают о евреях. В этой части света формирование национального самосознания зачастую означает, что то, о чем все прекрасно знают в частном, так сказать, порядке, ни в коем случае не может быть признано официально.
Каратцас привел мне фразу греческого философа VI в. Стефана Византийского: «Мифология – это то, что есть, но чего никогда не было».
Иными словами, в этой истории нет ничего необычного. Как Сербия, Албания, Румыния и Болгария жестоко боролись с недоразвитостью и разнородностью периода османской тирании за создание этнически унифицированных государств, так поступила и Греция. Сербы уничтожали память об албанцах, албанцы уничтожали память о греческом Северном Эпире, румыны о венграх, болгары о турках. Греки таким же образом решили уничтожить память о евреях и других этнических группах Салоник. Греция – часть балканской системы, особенно в этом городе, бывшей столице Македонии эпохи османского владычества.
И тут я перехожу к главному. Греция, остроконечная часть Балканского полуострова, которую считают родиной нашей западной культуры и системы ценностей, что она представляет собой сейчас, что представляла собой в далеком прошлом и чем никогда не была.
Я прожил в Греции семь лет и еще несколько раз бывал наездами до и после. Я говорю и читаю по-гречески, хотя и плохо. В Греции я встретился со своей будущей супругой, там мы поженились, в Греции родился мой сын. Я люблю Грецию. Но Греция, которую я люблю, – реальная страна со своими недостатками, жестокостью и прочим, а не придуманная земля университетских классицистов и туристических плакатов.
Поскольку «опыта путешествий» по Греции у меня гораздо меньше, чем «опыта жизни», мое отношение к этой стране более пристрастное, чем к остальным Балканским странам. Именно «опыт жизни» в Греции открыл мне, что это балканская страна. В 1980-х гг., когда я жил там, особенно балканской делала Грецию ее политика. Поэтому я наиболее подробно хочу остановиться на политической атмосфере современной Греции. На эту тему написано очень мало по сравнению с количеством книг о путешествиях по Греции.
До окончания холодной войны, когда существование Варшавского договора способствовало искусственному отделению Греции от ее северных соседей, только такие люди Запада, как я, живущие в Греции, сознавали, насколько эта страна балканская. Те, кто находились вовне, предпочитали видеть Грецию лишь средиземноморским западным государством; факты отбрасывались. В 1989 г., когда я начинал работать над «Балканскими призраками» и когда Македония была известна только как родина Александра Великого, а не как геополитическая проблема, каковой она является сейчас, мне советовали не включать в книгу Грецию, поскольку она «на самом деле не является частью Балкан». Я отказывался. Дальнейшие события подтвердили мою правоту. С начала 1990-х гг. Греция все чаще оказывалась в центре внимания в связи с пограничными конфликтами с Македонией и Южной Албанией. А греческие политики, несмотря на демократические традиции, восходящие к Античности, вели себя не благоразумнее своих северных соседей, у которых таких демократических традиций практически не существует.
Первый раз я приехал в Грецию поездом из Югославии. Второй раз – из Болгарии, тоже поездом. В третий – автобусом из Албании. И каждый раз, оказываясь на территории Греции, я сразу ощущал некую непрерывность: такие же горные хребты, народные костюмы, музыкальные ритмы, нации, верования – все тесно переплеталось с теми регионами, из которых я приезжал. И, как везде на Балканах, где происходит столкновение народов и культур и где принцип расселения национальных групп далеко не всегда соответствует государственным границам, это переплетение с жаром отрицается.
– В Греции турки не живут, – как-то сказал мне бывший замминистра иностранных дел Греции Иоаннис Капсис. – Просто есть некоторое количество греков-мусульман, которые разговаривают между собой по-турецки. И македонцев никаких нет, – горячился Капсис.
Его было не остановить. За все годы, прожитые мною в Греции с 1982-го по 1989-й, никогда не слышал, чтобы кто-то из греков, не считая нескольких хорошо известных политиков, когда-нибудь поднимал вопрос о мраморах Элгина (с Афинского акрополя) и о нежелании Британского музея их возвращать. А если эту тему, которая получила широкую известность на Западе, поднимал иностранец, никто из греков не проявлял особой заинтересованности и желания говорить об этом. Но я провел немало часов своей жизни, молча сидя за греческим столом и слушая яростные споры по таким вопросам, как турки и Константинополь, сербы и Македония или преследование представителей греческого меньшинства в Албании. В 1990 г., когда я приехал в Грецию, побывав в Македонии и Болгарии, я попытался объяснить позицию македонских славян группе моих греческих друзей. Они вскипели практически в унисон: «Грязные цыгане из Скопье запудрили тебе мозги всякой ерундой, но не думай, что это правда!» Для них все славяне, которые называют себя македонцами, грязные цыгане.
Вот почему, когда я приехал в Грецию из Болгарии в 1990 г., я посчитал, что не покинул Балканы, а оказался в том месте, которое наилучшим образом суммирует и объясняет Балканы. Икона – греческое изобретение. Греческая православная церковь – мать всех восточных православных церквей. Византийская империя, по существу, греческая империя. Османы правили руками греков из богатого константинопольского квартала Фанар («маяк»), служивших дипломатами и губернаторами в европейской части Османской империи. Константинополь – греческое название исторически греческого города. Даже турецкое название этого места Истанбул – искаженная греческая фраза is tin poli («в город»). Элитные части османской армии – янычары – в большинстве состояли из греков, которых в детском возрасте отнимали у родителей и воспитывали в султанских казармах. Кириллица, которой пользуются в Болгарии, Сербии, Македонии и России, возникла на основе греческого, когда два монаха, Кирилл и Мефодий, покинули Салоники и отправились проповедовать среди славян. Современная греческая нация – это смесь греков, турок, албанцев, румын, разного рода славян и прочих, которые мигрировали на юг, к теплым водам Балканского полуострова. То, что в Греции сохранилось мало четко отличимых меньшинств, – подтверждение мощной ассимилирующей силы греческой культуры. Крестьяне горного региона Сули в Западной Греции и население островов Специя и Гидра в Эгейском море – изначально чистые албанцы. «Греция классического наследия и романтического филэллинизма осталась в прошлом и в любом случае всегда была нерелевантна греческой ситуации, – пишет Филип Шеррард, переводчик современной греческой поэзии. – Греция… никогда не знала Средневековья в нашем понимании, или Ренессанса в нашем понимании, или эпохи Просвещения. Это возвышение разума над всей остальной жизнью здесь просто не имело места».
Греция – последняя пристань Европы. Здесь Балканы начинают полностью растворяться в Востоке. Но, если посмотреть с другой стороны, Греция – то место, где западный кислород начинает разъедать сокрушительную абстрактную логику месопотамских и египетских пустынь. Это, в конце концов, было величайшим достижением Афин периода Перикла (и, шире, вообще Запада): вдохнуть гуманизм – сочувствие к личности – в бесчеловечность Востока, которую в то время олицетворяли тирании Древнего Египта, Персии и Вавилона. В Национальном археологическом музее в Афинах я своими глазами видел этот процесс в действии: яростные и обезличенные статуи раннего и среднего бронзового века, отмеченные сильным влиянием Египта времен фараонов, постепенно, в течение двух тысячелетий, превращались в возвышенную красоту и идеализм классической греческой скульптуры.
Классическая Греция 1-го тысячелетия до н. э. изобрела Запад, гуманизируя Восток. Греции это удалось благодаря сосредоточению художественной и философской энергии на высвобождении человеческого духа, на усилиях личности по осмыслению мира. В то же время в Персии, к примеру, искусство существовало для прославления всемогущего правителя. Но Греция всегда оставалась частью Востока, пусть и на его западной окраине. Чтобы увидеть Грецию в ее подлинном ориенталистском свете, необходимо понять масштаб достижений древних греков.
Более того, понимание исторической роли Греции как поля идеологической битвы между Востоком и Западом обеспечивает более глубокое осмысление процесса, с помощью которого демократии и ценности западного мира уже в нашу эпоху могут влиять на политические системы третьего мира. Греция – это вечное сито, через которое должны пройти и мгновенно выпасть в осадок нападки Востока на Запад и Запада на Восток.
– Добро пожаловать на Восток, – сказал Сотирис Папапулитис, один из лидеров греческой консервативной партии «Новая демократия», пригласивший меня на роскошный ланч из морепродуктов в ресторан портового города Пирей неподалеку от Афин. Я только что приехал из Салоник. А на Востоке, предупредил меня Сотирис, никогда нельзя путать широту души с широтой взглядов.
Папапулитис говорил о себе. Осенью 1990 г. он баллотировался в мэры Пирея, но выборы для него закончились неудачно. Он был ярким, изысканным, наивным и недалеким одновременно. Он относился к такому типу людей, которые могут цитировать Декарта и верить в теории заговоров и при этом носить узкие рубашки, расстегнутые до пупа. Папапулитис все это сознавал и получал удовольствие от того факта, что сама его личность, как и окружающая нас атмосфера – яхты, синее море, солнце, горы морепродуктов, неэффективность и хаос, – представляют идеальный синтез Балкан, Средиземноморья, европейского Запада и левантийского Востока.
– Ненавижу слово грек. Это искаженное турецкое слово, означающее «пес» или «раб», – горячился Сотирис так, что его слышали все посетители ресторана. – Называй меня эллином. Называй меня ромиосом, если угодно. Но только не греком.
Древние греки сами себя называли эллинами, и это слово стало означать греков (или ту часть греческой души), чьи корни на Западе. Ромиос буквально означает «римский» и относится к грекам Восточной Римской империи (часто именуемой Византией), чьи корни на Востоке. Патрик Ли Фермор, британский путешественник, писатель и несравненный знаток греческого языка и культуры, вычленил более шестидесяти характеристик и признаков, которыми различается менталитет эллина и менталитет ромиоса. Если эллин полагается на принципы и логику, то ромиос полагается на инстинкт; если эллин – человек просвещенного неверия, то ромиос верит в чудотворные свойства икон; если эллин придерживается западного кодекса чести, то ромиос демонстрирует неразборчивость в достижении личных целей и т. д. Разумеется, как в случае с Папапулитисом и многими другими знакомыми мне греками, и эллинский, и ромиосский аспекты личности грека могут сосуществовать бок о бок в одном человеке.
Фермор, как многие эллинофилы, остро сознавали ориенталистский аспект Греции. Кстати сказать, лорд Байрон, поэт-романтик XIX в. и доброволец, принимавший участие в греческой войне за независимость, терпеть не мог специалистов по Древней Греции, называя их «выхолощенными ретроградами», полными «антикварных банальностей». Филэллинизм[61] Байрона опирался на трезвый взгляд на страну, а не на миф. Что касается скандаливших между собой партизан, с которыми английский поэт столкнулся в кишащих москитами болотах Западной Греции в 1820-х гг., он отметил: «Их жизнь – борьба против правды; они злобствуют, защищая себя». Казандзакис, отнюдь не иностранец, тоже не сомневался в подлинной душе Греции: «Современный грек… когда начинает петь… ломает корку греческой логики. Из него сразу же проступает Восток со всем его мраком и мистикой».
Для греков Восток – царство этого мрака, мистики, печали и иррационального – включает специфические воспоминания и события, неотъемлемые от византийского и османского наследия.
Для западных туристов и поклонников Греции массовым символом этой страны должен быть Парфенон, возведенный Периклом в V в. до н. э. – в золотой век афинской демократии, в тот период греческой истории, с которым все мы на Западе хорошо знакомы. В школе мы узнали о минойской и микенской цивилизациях, из которых спустя несколько веков выросли греческие города-государства, в том числе Афины и Спарта. Они воевали между собой и с персами, народом, который в те времена представлял «варварский Восток». Мы узнали, как выжила и распространилась греческая культура благодаря греку, уроженцу Македонии Александру Великому. И мы в целом представляем себе масштаб и величие истории Древней Греции: мир гомеровских Илиады и Одиссеи, ассоциируемый с микенской культурой 2-го тысячелетия до н. э., отделен почти десятью веками от мира Сократа, Платона и Аристотеля. Греческая история в том виде, в котором мы ее представляем на Западе, – длинная и вдохновляющая сага. К сожалению, эта великая сага – лишь один компонент греческого прошлого, и это прошлое не закончилось, когда наступили темные века. То, что поклонники Древней Греции считают темными веками, – на самом деле было началом другого периода греческого величия – византийского.
И у самих греков другое здание, расположенное очень далеко от Парфенона, точнее говоря, сейчас находящееся за границами современной Греции, вызывает гораздо более сильный прилив эмоций и ностальгии.
Греки, как все православные христиане, огромное значение придают своим церквям, которые являются не только местом поклонения, но и хранилищем сокровищ их материальной культуры, переживших кошмарные века османского владычества. Константинос Кавафис, величайший из современных греческих поэтов, описал эти чувства в стихотворении «В церкви»:
…И каждый раз, когда вхожу я в греческую церковь с благоуханьями ее, сияньем, песнопеньем, с многоголосьем литургий, священников явленьем – само величье строгий ритм диктует их движеньям, их жесты свыше им даны, их облаченье свято, лампад сияньем, жаром свеч убранство их объято, – и в этот час объят мой дух величьем нашей Византии, культурой моего народа, великого когда-то[62].Среди всех греческих церквей одна выделяется особо: храм Святой Софии Премудрости Божией в Константинополе (Стамбуле). Он построен в VI в. византийским императором Юстинианом. Плоский, широкий купол в окружении ряда полукуполов и мощных контрфорсов величественно возвышается, словно парит над водами, омывающими Сарайбурну (мыс Серальо). Даже сегодня, лишенный своего золотого и серебряного убранства, с потускневшими и закопченными фресками, его интерьер превосходит любое здание мира по ощущению слияния безграничного богатства с мистической силой. В 1980-х гг. я несколько раз бывал в храме Святой Софии. И каждый раз инстинктивно чувствовал, что природа политических страстей Греции может быть объяснена именно здесь, а не в Парфеноне. Проходя через императорские ворота в подкупольное пространство, я всегда чувствовал, что попадаю словно в огромный город с мраморными стенами, галереями, колоннадами, мозаиками, с большими, непонятными пространствами, расходящимися в разные стороны. Храм Святой Софии стал прототипом всех православных соборов, в том числе и собора Святого Марка в Венеции, а также и турецких мечетей.
Но храм Святой Софии ныне не действующий. Это турецкий Музей Айя-София. Вместо колоколов, благовоний и священников на стенах массивные круглые диски зеленого цвета с арабскими письменами, говорящими: «Аллах велик». Греческие туристы приезжают в Стамбул, чтобы посетить Музей Айя-София, но многие испытывают разочарование, а большинство греков даже не могут себя заставить туда войти. «Сама мысль войти в нашу церковь в городе, который некогда был величайшим из греческих городов, и увидеть там мусульманские символы – я даже не могу передать, что я буду там чувствовать. Это что-то ужасное», – однажды признался мне один мой афинский друг. Стамбул для греков всегда будет Константинополем, даже притом что «град Константина» больше не существует. Греки не могут себя заставить произнести «Стамбул». Услышав это название из уст иностранца, они морщатся, как израильтяне морщатся при слове «Палестина» или как многие арабы при слове «Израиль». Резиденция Его Святейшества Патриарха Греческой православной церкви Варфоломея находится не в Афинах, а в Константинополе, в деревянном здании на узкой, грязной улице. Это все, что осталось от Византия, столицы империи, возникшей в 324 г. как наследница Рима и уничтоженной спустя 1100 лет, в 1453 г., вторжением армии османов. В течение этих одиннадцати веков Византийская империя была греческой империей, и Греция тогда представляла собой нечто гораздо большее, нежели классическая средиземноморская культура, с которой знаком Запад: это было северное культурное царство невообразимой глубины и структуры, чье влияние распространялось до средневековой Московии.
Но турки все раздавили. Вот почему храм Святой Софии в камне и мраморе выражает безмолвный вопль греческой души: мы потеряли слишком много, больше ни пяди, никакой Македонии, ничего больше мы не намерены потерять!
Боль от этих потерь обостряется современным опытом войны и беженства. Поэт Йоргос Сеферис, лауреат Нобелевской премии по литературе, пишет в стихотворении «Дом у моря»:
Моих домов меня лишили. Так уж выпало, Что годы были високосными. Войны, разрушенья, беженцы…[63]Причина страданий Сефериса – Греко-турецкая война 1922 г., последнее событие в череде балканских военных конфликтов (начиная с Русско-турецкой войны 1877 г. на территории Болгарии), новости о которых занимали первые полосы газет с последней четверти XIX в. и по первую четверть XX и которые определили границы на Балканах в том виде, в каком они более-менее сохранялись до 1990 г., до начала гражданской войны в Югославии.
Хотя османы в XV в. изгнали византийских греков из Константинополя, в Стамбуле и на западном побережье Малой Азии, особенно в Смирне, большие греческие общины оставались до конца Первой мировой войны. Расчленение Османской империи вследствие этой войны дало возможность грекам (воевавшим на стороне победивших союзников) вернуть утраченные территории, на которых проживало более миллиона этнических греков. Но грекам хотелось большего. На протяжении ряда лет британский премьер-министр и романтический эллинофил Ллойд Джордж давал грекам основания верить, что западные союзники поддержат любые действия Греции как христианской нации и наследницы Древней Греции в отношении турок-мусульман. Эта наивная вера, подкрепляемая распространяющейся в Турции после падения султаната анархией, подтолкнула греков к попытке осуществления своей Megali Idea – «великой идеи» возвращения каждого сантиметра исторической территории Греции. Это очередное проявление старого балканского реваншистского синдрома: каждая нация объявляет своей естественной территорией все земли, которые она имела в период своей максимальной исторической экспансии.
В 1921 г. греческая армия, вопреки всякой военной логике, выдвинулась за пределы заселенного греками западного побережья Малой Азии и вторглась глубоко в горные районы Анатолии. До Анкары им оставалось пройти двести сорок километров. Этот марш-бросок оставил армию практически без снабжения боеприпасами и продовольствием. Репортер газеты Toronto Daily Star Эрнест Хемингуэй пишет, что греческие офицеры – «полная бездарность», а их войска идут в наступление в церемониальной униформе XIX в., «в белых балетных юбках и туфлях с загнутыми носками и помпончиками».
В августе 1922 г. жестокий и харизматичный молодой турецкий генерал Кемаль Ататюрк, который занимался воссозданием новой Турецкой республики из анархического болота Османской империи, решил дать отпор. Хемингуэй пишет, что турки наступают «непреклонной и грузной поступью». За десять дней Ататюрк отогнал греческую армию обратно к побережью Эгейского моря. Войска погрузились на стоявшие у берегов корабли, оставив греческое население Смирны под артиллерийским огнем противника и на растерзание турецкой солдатне. Греки потеряли 30 000 человек убитыми. За этим последовала широкомасштабная миграция в двух направлениях: 400 000 турок из греческой Фракии двинулись в Турцию, 1 250 000 греков из Малой Азии – в Грецию. Бездомные, плохо одетые, голодающие, они увеличили население Греции на 20 %. Беженцы заполонили Салоники, а население Афин с их приходом возросло более чем втрое.
Так пришел конец трехтысячелетнему существованию греческой цивилизации в Малой Азии. Смирна стала турецким городом и была переименована в Измир. Греция стала маленькой, уязвимой, бедной, крайне униженной и кипящей ненавистью. Афинские диктаторские режимы 1920–1930-х гг. не дали этим эмоциям стабилизирующего выхода. Затем пришли ужасы нацистского вторжения и оккупации, в результате чего 8 % населения погибло, миллионы остались без крова, сельская часть страны оказалась разрушена. Греческое сопротивление нацистам было повсеместным, но партизанское движение оказалось столь же разрозненным, сколь и героическим. Все эти разногласия вылились в гражданскую войну 1946–1949 гг., которая принесла Греции больше смертей и разрушений, чем война против нацистов.
Соединенные Штаты оказывали поддержку монархическому греческому правительству в Афинах. Советский Союз и его союзники поддерживали коммунистических повстанцев в сельской местности. Это была первая, и последняя, военная операция периода холодной войны против повстанческого движения, в которой сторона, поддерживаемая американцами, одержала безоговорочную победу. Тем не менее гражданская война в Греции означала гораздо большее, чем противостояние коммунизма и капитализма.
На самом деле Греция еще не знала капитализма. Даже в середине XX в. это было бедное восточное общество беженцев, где горстка алчных землевладельцев и судовладельцев эксплуатировала всех остальных, а среднего класса почти не существовало. Греческое правительство, поддерживаемое американцами, погрязло в коррупции и бессмысленных интригах. Его сторонники имели весьма смутное представление о демократии и свободной прессе, среди них числилось немало бывших сторонников нацистов. Западниками они были только в том смысле, что мечтали стать людьми Запада. Греческие коммунисты избрали совершенно иную историческую ориентацию – в России и Кремле они видели не только маяки идеологии, которой они придерживались, но и вторую родину, после падения Византия в 1453 г. ставшую защитницей восточных православных народов от турок. Совершенно не случайно, что первое сражение холодной войны, отражающее исконное противостояние Востока и Запада, произошло на греческой почве.
Тем не менее учебные заведения Запада последние две тысячи лет греческой истории практически игнорировали. Предпочтение отдавалось идеализированной версии Древней Греции, цивилизации, которой не стало еще до Рождества Христова. Запад не мог признать, что Греция в большей степени дитя византийского и турецкого деспотизма, нежели Афин Перикла. В результате мало кто на Западе мог понять, что происходило в Греции в 1980-х гг., в эпоху, когда бывший премьер-министр и президент Греции Константинос Караманлис назвал свою страну «огромным сумасшедшим домом».
Но прежде чем обратиться к новейшему периоду греческой истории, мы должны рассмотреть еще один романтический миф о Греции, возникший на Западе поверх классического: миф, пустивший в Америке прочные корни и трагически развенчанный лишь в 1980-х гг.
Глава 16. «Научи меня, Зорба. Научи меня танцевать!»
В наш век расфасованной правды многие земли, особенно в Средиземноморье, имеют свои туристические мифы: точно рассчитанную смесь образов, в том числе исторических и пейзажных, которые формируют глянцевую романтическую картинку в экзотическом окружении. Но в отличие от прочих туристических мифов греческий родился из движения в литературе XX в., которое постепенно кристаллизировалось в одном из самых памятных фильмов в истории кинематографа.
1935 г. не хуже и не лучших других для обозначения начала этого процесса. Тем летом двадцатитрехлетний подающий надежды поэт и прозаик Лоуренс Даррел с женой, матерью, двумя братьями, сестрой и собакой по кличке Роджер отправился из Англии на греческий остров Корфу с целью подыскать жилье. Семья Даррел англо-ирландского происхождения раньше жила в Индии, где отец Лоуренса работал инженером. После его смерти семья вернулась в Англию, но не смогла там закрепиться. Это привело к несколько эксцентричному и импровизированному решению попробовать Корфу.
«Наша жизнь на этом мысу стала подобна безупречному эвклидову уравнению», – пишет Даррел в «Келье Просперо» – мемуарно-дневниковой книге о своем четырехлетнем пребывании на Корфу. «Келья Просперо» представляет собой новый тип путевой прозы: это такое путешествие «не сходя с места», путеводитель по «ландшафту и обычаям» острова, в котором откровенно перемешиваются реальные и воображаемые события в магической обстановке, магической – поскольку Греция сильно отличается от всего остального Средиземноморья. Даррел сумел описать эти отличия, но не сумел истолковать их, поскольку с тех пор, как в десятилетнем возрасте покинул Индию, никогда больше не оказывался так далеко на Востоке.
Даррел с энтузиазмом писал о Греции своему парижскому другу Генри Миллеру, который приехал к нему в гости в 1939 г. Писатель невероятного дарования и самомнения, но не признающий ограничений, Миллер, подобно Даррелу, испытал в Греции духовное перерождение. «Колосс Маруссийский», вероятно, наименее порочная из всех великих, но порочных книг Миллера. Произведение сверхъестественной силы и вдохновения, она читается как непрерывный поток афоризмов, которые превратились в клише благодаря двум поколениям составителей туристических буклетов по Греции, беззастенчиво эксплуатирующим фразы Миллера: «Греция сделала меня свободным и цельным. ‹…› Греция имеет важнейшее значение для каждого человека, который стремится найти себя. ‹…› Она [Греция] стоит, как стояла с рождения, обнаженная и полностью открытая. ‹…› Она дышит, она манит, она откликается».
Но Миллер также заметил «смятение, хаос… пыль, жару, бедность, нужду». Он понял, что все это необходимые компоненты атмосферы этого магического действа, которое он тоже сумел описать, но не смог толком объяснить. В книгах Даррела и Миллера о Греции есть та миссионерская страсть, которая не ощущается в других книгах путешествий, и она связана с наслаждением от физических ощущений, граничащим с аннигиляцией. Вот Даррел входит в море на Корфу:
Я чувствовал игру ионийских волн, плавно поднимающихся и опадающих у меня под головой. Это напоминало дыхание мира. ‹…› Это уже не регион и не среда, где сознание или подсознание могут вести сами с собой бесконечные игры, а проникновение на нижний уровень успокоения, где солнце парализует сам источник мыслей…
Даррел и Миллер представляли Грецию почти так же, как движение хиппи позже станет представлять Калифорнию и Индию: как место бегства от мира и возможности вступить в контакт со своим внутренним «я». Но в 1930-х гг., по мере того как фашизм расползался по карте Европы, и во время последовавшей войны, миру было не до такого потворства своим желаниям. Только после бесчеловечных ужасов Второй мировой войны гедонистическая идея этих авторов внезапно обрела актуальность. Впрочем, из-за гражданской войны Греция лежала в руинах и не годилась для туризма.
В середине 1950-х гг. Даррел начал писать серию романов, получивших известность как «Александрийский квартет». В это же время в Грецию приехал жить американский кинорежиссер Жюль Дассен со своей новой женой, греческой актрисой Мелиной Меркури. В 1989 г. в беседе со мной в своем доме в Афинах он рассказал, как было дело.
– Мать Мелины вернулась из кинотеатра и заговорила о фильме, который только что посмотрела. Мы о чем-то заспорили – я уже не помню подробностей, и я осознал, кто я такой: какой-то американец, который решил поучить греков, как надо жить. Первоначально я хотел снять фильм о человеке, который всюду сует свой нос. Но поскольку в то время Греция как реальное место в Америке была практически неизвестна, фильм стал чем-то иным.
«Только не в воскресенье» – малобюджетный черно-белый фильм длительностью девяносто четыре минуты на греческом языке с английскими субтитрами. «На рекламный прием в Каннах в 1960 г. [где «Только не в воскресенье» получил Гран-при] мы потратили столько же, сколько на сам фильм».
Действие фильма начинается в приморском городе Пирей, где компания грубых матросов принимает вызов местной проститутки Иллии (ее играет Мелина Меркури) пойти поплавать с ней в бухте. В этот момент появляется круизный лайнер. Увидев в воде проститутку, один грек на палубе кричит: «Где этот американец, этот интеллектуал? Он должен это увидеть!» На палубу выходит турист в бейсбольной кепке, которого играет сам Дассен. Туриста зовут Гомер. Глядя на обнаженную женщину, плавающую в компании мужчин, этот философ-любитель испытывает ошеломительный порыв вдохновения и записывает в своем дневнике: «Эта чистота и есть Греция». Пока камера скользит по странице дневника, начинает звучать возбуждающая музыка бузуки, и на экране появляется название фильма.
Однако Гомер обнаруживает не совершенство эпохи Перикла, а довольно грязный мир прибрежных баров, где грубые официантки подают густой приторно-сладкий кофе и анисовую водку узо; где мужчины курят сигареты без фильтра и гасят окурки ногами, танцуют и бьют тарелки под музыку бузуки (написанную специально для фильма греческим композитором Маносом Хаджидакисом и принесшую ему известность). Гомер, специалист по греческой классической драматургии, понимает, что ничего не знает об этой странной стране, в которой оказался. Он жалуется Иллии, проститутке, в которую вопреки всем инстинктам влюбился: «Я этого не понимаю. Греция когда-то была величайшей страной мира». А та, лежа в постели и чувственно протягивая к нему руки, отвечает: «Она такая и есть».
Гомер обнаружил, разумеется, не классическую Грецию, а нечто лучшее, по крайней мере, более интересное и уж наверняка гораздо более неожиданное. Он обнаружил Восток и Балканы со всеми их острыми углами, лишь слегка сглаженными Средиземноморьем.
Успех фильма «Только не в воскресенье» пришелся на тот же 1960 г., когда Даррел опубликовал последний роман из «Александрийского квартета», сложный сюжет которого, чувственная проза и откровенные сексуальные сцены сделали его бестселлером[64]. Хотя события «Квартета» разворачиваются, по всей видимости, в египетском средиземноморском портовом городе Александрия, он также и о Греции. Повествователь живет в мирной рефлексии на неназванном островке, входящем в греческий архипелаг Киклады. Александрия, которую помнит Даррел, греческий город, где все запоминающиеся персонажи – греки или находящиеся под греческим влиянием. Сквозная тема всех четырех романов – человечество нуждается в языческом противовесе (который Даррел ассоциирует с Грецией) этической строгости иудеохристианской морали.
Популярность «Квартета» совпала с фильмом «Только не в воскресенье» и вызвала цепную реакцию. «Наверняка статистики нет, но кто-то говорил мне, что туризм в Греции за один год вырос на 80 %», – сказал мне Дассен. В начале 1960-х гг. были заново открыты и переизданы «Колосс Маруссийский» Миллера и «Келья Просперо» Даррела. Пик пришелся на 1964 г., когда вышел фильм Михалиса Какоянниса «Грек Зорба» по роману Казандзакиса.
«Грек Зорба» представляет тот же жесткий черно-белый реалистический образ Греции, что и «Только не в воскресенье», но с еще большей силой. Действие фильма тоже начинается в Пирее, только зимой, в ураган с ливнем. Главный герой Зорба, которого играет Энтони Куинн, поет песни клефтов – разбойников и признается, что грабил и насиловал в Македонии, «потому что все они были либо турками, либо болгарами». Спутник Зорбы – застенчивый англичанин греческого происхождения (его играет Алан Бейтс); он прибыл с Зорбой на остров Крит и в шоке от всего, что видит и слышит.
Там жители деревни грабят дом умирающей пожилой француженки, не дожидаясь, пока она отдаст богу душу. Рядом с православной церковью вдову забивают камнями и перерезают горло за то, что она соблазнила молодого парня. На заднем фоне постоянно злобные взгляды крестьян; в убогих кофейнях мужчины изливают свою желчную ненависть к женщинам. Вместо ярких, взрывных мелодий Хаджидакиса из «Только не в воскресенье» в «Греке Зорбе» предстает мир другого греческого композитора – Микиса Теодоракиса, который использовал более мрачные и более мистические мотивы греческой музыки. Если Меркури летает по танцполу в диком эксгибиционистском сиртаки, Куинн исполняет медленный, медитативный зимбекико под барабанную дробь музыки Теодоракиса. Когда Куинн медленно поворачивается вокруг своей оси, его глаза устремлены к небу. Складывается ощущение, что вращается сама Земля.
После разграбления дома умирающей француженки, после жестокой казни вдовы поток эмоций наконец пробивает защитную интеллектуальную стену спутника Зорбы, вестернизованного интроверта. «Научи меня, Зорба, – восклицает он, внезапно пораженный приступом всеохватного безумства. – Научи меня танцевать!»
Эти книги и кинофильмы в принципе говорят об одном: у Греции определенно было нечто, чего не хватало Испании, Италии и прочим иссушенным солнцем странам; нечто уникальное и вдохновляющее именно потому, что было таким суровым и безжалостным; нечто прекрасное, потому что было таким ужасным; нечто счастливое, потому что было таким печальным, нечто уникальное и одновременно до боли знакомое.
Греция – место, куда приезжаешь избавляться от комплексов. Море и выжженный камень выступают в роли гуру. Больше ничего не требуется. Острова – окаменевшие серые формы, величественно вздымающиеся из темно-синего моря и изящно украшенные ослепительно-белыми стенами домов-кубиков, – становятся территорией вожделения, страстей и галлюцинаций. Туристический бум в Греции 1960-х гг. стал предвестником культа наркотиков и сексуальной революции. Леонард Коэн был малоизвестным канадским поэтом и автором песен, когда впервые приехал в Грецию и поселился на острове Гидра, где написал многие песни для своего второго альбома Songs from the Room, в том числе Bird on a Wire, что сделало его иконой интровертированных хиппи.
Первая половина 1960-х гг. стала для Миконоса золотым веком после того, как остров был открыт журналом Vogue и группа известных артистов – Джин Сиберг, Юл Бриннер и Иегуди Менухин (друг Даррела) – приобрели здесь дома. Элизабет Херринг, журналистка афинского журнала The Athenian, вкратце описала мне историю Миконоса:
– Когда я впервые приехала на остров в 1961 году, в десятилетнем возрасте, в глаза бросалась крайняя нищета. Бегали костлявые голые дети, нельзя было купить даже пастеризованного молока. К концу семидесятых на улицах стало полно ювелирных лавок, торгующих золотом, а на пляже мне приходилось переступать через парочки, занимающиеся любовью.
Определенное нечто, что есть у Греции и отсутствует в других странах, нечто уникальное и одновременно до боли знакомое, – это безошибочно пропорциональная смесь Востока и Запада, создающая совершенно удивительную атмосферу. Завывающие четвертные ноты музыки бузуки, материал музыкальной темы Хаджидакиса для фильма «Только не в воскресенье», родные братья болгарских и сербских мелодий и близкие родственники турецкой и арабской музыки, которая в чистом виде у большинства западных слушателей вызывает головную боль. Однако пропущенные через средиземноморский музыкальный фильтр, эти монотонные и оргиастические звуки Востока идеально ложатся на западный слух, особенно если их слушать в обстановке Кикладских островов, таких как Миконос. Абстрактное изящество скульптуры и архитектуры Кикладского архипелага 3-го тысячелетия до н. э. оплодотворили идеи, положенные в основу создания Парфенона две тысячи лет спустя. В архитектурном смысле то, что мы называем «западным», зародилось на Кикладах. В принципе именно поэтому западные туристы чувствуют себя так комфортно на греческих островах, слушая странную музыку, истоки которой они не в состоянии идентифицировать. То, что музыка зачастую очень печальная, поскольку у греков она пробуждает воспоминания об утрате Византия, Святой Софии и Смирны, не делает ее менее прекрасной.
Греческий туристический миф создавался по ненадежному, но изящному рецепту: Греция – суммация Балкан, но и нечто отдельное; Греция в полутора часах лета от Ближнего Востока с его раздражающей и опасной ненавистью, и одновременно в миллионах километров от него.
Диктатура греческих полковников, которые пришли к власти в 1967 г., выпустила немного гелия из греческого туристического воздушного шара, но лишь немного. Переворот 21 апреля, произошедший в Афинах, не был совершенно неожиданным. Консервативный лидер Караманлис заметил позже: «Кто-то может сказать, что греческая демократия была убита свободным режимом. Полковники просто совершили убийство из сострадания». В конце концов, после 1829 г., когда Греция добилась независимости от Османской империи, в стране было столько переворотов и конституционных кризисов, что их невозможно пересчитать.
Три года парламентской демократии, предшествовавшие перевороту, представляли собой карнавал вендетты и безответственности. Премьер-министр левоцентристского толка Георгиос Папандреу, победивший на выборах 1964 г. с подавляющим преимуществом, был намерен покарать консерваторов во главе с Караманлисом. Вместо жесткой финансовой стратегии правительства Караманлиса Папандреу расширил систему социального обеспечения и субсидий. Сами по себе эти меры, учитывая полное отсутствие социальных гарантий предыдущего периода, демонстрировали ответственность правительства. Но Папандреу выбрал неудачное время для подобной щедрости: как раз вскоре после того, как закончились все десять миллиардов американской экономической помощи, выделенных Греции в рамках доктрины Трумэна. Более того, Папандреу усилил ограничения на иностранные инвестиции. На фоне роста инфляции Папандреу стал критиковать НАТО, привел в боевую готовность войска на границе с Турцией и подлил масла в огонь и без того раскаленного кипрского конфликта, призвав к enosis (союзу) между Грецией и этим островом в Восточном Средиземноморье, ранее находившимся под управлением британской администрации. Большинство населения Кипра составляли греки, но было и значительное турецкое меньшинство. Когда Турция летом 1964 г. предприняла военные действия против греческих киприотов, войска Папандреу никак не отреагировали, что вызвало у лидера греческих киприотов архиепископа Макариоса еще более скептическое отношение к ценности поддержки Папандреу. Макариос подписал договор с Советским Союзом о поставках вооружения, похоронив идею enosis, и начал переговоры вместо требования «полной независимости» острова.
Папандреу хватало забот и помимо деятельности сына, сорокаоднолетнего Андреаса, работавшего заместителем министра в его кабинете. Андреас родился в 1919 г. на острове Хиос, близ побережья Турции, где его отец был префектом. Отношения с известным отцом у сына были самые холодные. В 1939 г. Андреас отправился в Соединенные Штаты продолжать образование. В 1944 г. он стал доктором экономики в Гарвардском университете и получил американское гражданство. Он был дважды женат, вторым браком на жительнице Миннесоты Маргарет Чант, которая родила ему четырех детей. Младший Папандреу оставался в США до 1959 г., избежав Второй мировой войны и гражданской войны в Греции. Он служил в военно-морском флоте США, после чего преподавал в нескольких американских университетах, в том числе в Калифорнийском университете в Беркли, где со временем стал деканом экономического факультета.
Андреас, подобно множеству молодых иммигрантов, полностью перестроил себя в Америке. После развода с первой женой, американкой греческого происхождения (психиатром по профессии), у него практически не осталось друзей-греков; на протяжении многих лет он не проявлял никакого интереса к жизни греческих общин в Америке. Если бы не совпадение трех событий, он мог бы вообще никогда не вернуться в Грецию.
В тот момент, когда академическая карьера Андреаса в Калифорнии достигла своего пика, он получил от лидера консерваторов Караманлиса интересное предложение организовать в Афинах экономический научный центр по американскому образцу. В это же время он обратил внимание, что политическая судьба отца внезапно изменилась и вполне вероятно, что Георгиос Папандреу сменит Караманлиса на посту премьер-министра. При непотизме, распространенном в политической жизни Греции, это открывало хорошие перспективы для старшего сына. Андреас решил рискнуть. Он восстановил отношения с отцом, заручился грантами от Фулбрайта и фонда Гуггенхейма и переехал с американской женой и детьми в Грецию.
То, что он в двадцатилетнем возрасте переделал себя под американца, неудивительно; так поступали многие иммигранты. Но после сорока снова начать переделывать себя в грека, как поступил Андреас, было неестественно и не могло не отразиться на психике.
В 1964 г. Андреас формально отказался от американского гражданства, чтобы иметь возможность быть избранным в греческий парламент. В качестве заместителя министра экономики в новом правительстве отца Андреас вскоре стал выступать на самые разные темы. В интервью парижской газете Le Monde, данном в октябре 1964 г., он назвал Грецию «сателлитом» НАТО, а поддержку, оказанную Советским Союзом греческим киприотам, – «позитивным вкладом в поддержание мира», даже притом что Москва в это время меняла свою позицию по кипрскому вопросу – от прогреческой переходила к протурецкой. Подобного рода выступления впоследствии подорвут стабильность правительства Папандреу-старшего и вынудят Папандреу-младшего уйти с поста в кабинете министров.
После двадцати продуктивных и, судя по всему, благополучных лет жизни в Америке антиамериканизм Андреаса понять было трудно. Сторонники теорий заговоров среди греческих правых решили, что этому нет объяснения: младший Папандреу, очевидно, был «агентом ЦРУ», которого заслали на историческую родину для создания политической нестабильности. Согласно другой теории, изнеженный сын видного греческого политика не пожелал прилагать усилий, чтобы подняться по социальной лестнице в американском эгалитарном обществе. Таким образом, несмотря на разглагольствования против американской внешней политики, в глубине души он просто не мог смириться с бесклассовой природой американского общества. Тем временем американские либералы наряду с греческими левыми расценили выступления Андреаса как естественную реакцию на нескрываемое вмешательство Америки в политику Греции после гражданской войны. Это объясняло критику Андреаса в адрес американской политики по отношению к Греции, но не то эмоциональное бешенство, которое ее сопровождало. Появилась еще одна теория, согласно которой Соединенные Штаты всегда оставались для Андреаса выдуманным миром университетских кампусов, где на протяжении 1940–1950-х гг. некоторая часть американских интеллектуалов сохраняла романтическое восхищение Сталиным и коммунизмом. Иными словами, Андреас отнюдь не переделал себя обратно в грека. Он вел себя как любой американский интеллектуал левого толка: порицал правительство собственной страны за неспособность соответствовать своим заявленным принципам внешней политики. Этот взгляд казался обоснованным в 1970-х гг., когда Андреас внезапно стал вести себя в манере, резко отличающейся от поведения американских левых интеллектуалов.
В июле 1965 г. король Константин сместил Георгиоса Папандреу с поста премьер-министра. Сторонники Папандреу расценили этот шаг как подрыв греческой конституции. Дальше все покатилось под откос. В Афинах политики, журналисты, члены королевской семьи, генералитет принялись строить козни, осыпая друг друга обвинениями, до тех пор пока полковники – группа недовольных малообразованных выходцев из деревень под руководством Георгиоса Пападопулоса – не свергли их всех.
На Западе поняли лишь одно: группа неотесанных офицеров среднего звена безо всяких причин и объяснений прикончила демократию на родине демократии, более того, на родине «Только не в воскресенье» и «Грека Зорбы»[65].
Полковники были ромиосами в самом худшем смысле. Они не имели особого образования и не владели искусством красноречия, не выдвигали никаких идей, помимо требований о возвращении к наиболее пуританским законам православной церкви, ничего не понимали в финансах и экономике, не считая того, как давать и брать взятки. И они были физически жестокими в типичном балканском стиле. Демон пыток вернулся в полицейские участки. На голых островах стали расти тюремные лагеря.
Полковники арестовали Андреаса и держали в тюрьме, пока американцы не потребовали его освобождения. После этого он уехал на Запад вместе с другими членами афинского политического и культурного истеблишмента, в том числе с бывшим премьер-министром Караманлисом, актрисой Меркури и композитором Теодоракисом. Почти все эти знаменитости на основании своего образования и происхождения (Меркури, например, была дочерью бывшего мэра Афин) символизировали самые изысканные эллинские аспекты греческой личности и в своей кампании против диктатуры преуспели в изображении полковников узурпаторами и неистинными греками.
Так что на Западе полковников ненавидели, а греков продолжали любить и любили еще больше, потому что они терпели притеснения. Греция в дополнение к мифу стала и делом, что лишь усилило ее привлекательность.
Несмотря на все уговоры Меркури и ее друзей бойкотировать Грецию, поток туристов не прекратился. И только немногие из них, обладающие особой политической проницательностью, могли заметить и обеспокоиться глухим ворчанием, характерным для населения репрессивных государств. В конце концов, не было нестабильности, не было терроризма, не чувствовалось даже затаенного страха, столь характерного для более экстремистских диктаторских режимов Ближнего Востока. Греческий туристический миф покачнулся, но устоял.
Даже после 1974 г., когда режим полковников пал и сформировалась атмосфера откровенного антиамериканизма, в которой, в частности, произошел взрыв в афинском офисе American Express, образ Греции в глазах Запада не пострадал. Происходили отдельные инциденты, и новое консервативное правительство Караманлиса прикрывало плотной крышкой уже закипавший котел. Только в 1980-х гг. мир стал сознавать, насколько близко к Балканам и Ближнему Востоку на самом деле находится Греция.
Глава 17 Тайная история
«Совершенное Юстинианом столь обширно, что для рассказа о нем не хватило бы и всей вечности. Но мне достаточно выбрать из всего этого лишь немногое, благодаря чему и будущим поколениям станет совершенно ясен весь нрав этого человека»[66], – пишет Прокопий Кесарийский в «Тайной истории» – неподцензурном повествовании о правлении Юстиниана и его жены, бывшей проститутки Феодоры, в Константинополе VI в.
«Они либо должны править нами как боги, либо должны совсем отказаться править», – пишет Михаил Пселл в «Хронографии», выдающемся мемуарном свидетельстве Средневековья о жизни и деятельности четырнадцати византийских императоров X–XI вв.
Сложные, но забытые саги о жадности, похоти, личной жестокости и амбициях средневекового Византия, эти истории – единственное полезное историческое зеркало для понимания греческой политики 1980-х гг. Как и в ту давнюю эпоху упадка, сложность сочеталась с поверхностностью, придавая абсурдную бессмысленность всему происходящему.
За те семь лет, что я прожил в Греции, мало что раздражало меня больше, чем поведение иностранных корреспондентов, пытавшихся объяснить местные политические дрязги такими фразами, как «в конце концов, греки изобрели театр» и «не только демократия слово греческое, но и анархия». Далее следовали изящные ссылки на «греческие трагедии» и «греческие комедии». Я тоже в минуты лени нередко опирался на древнегреческие понятия «театр» и «маски», чтобы объяснить греческую политику. Редакторы и читатели в Англии и Америке проходили в школе греческую драматургию и могли, соответственно, воспринимать ассоциации. Но что мог знать каждый из них о Византии или средневековых греческих авторах, таких как Пселл и Прокопий? Сообщения прессы, вместо того чтобы объяснять современную Грецию, просто иллюстрировали полное невежество Запада в том, что касалось самого долгого и наиболее важного периода греческой истории.
«Наша политика ярче чем что-либо еще демонстрирует, насколько мы восточный, византийский народ, – сказал Панайот Димитрас, один из ведущих афинских социологов. Мы разговаривали в 1990 г., после моего возвращения из Болгарии. Это был период, когда Греция только начала выходить из хаоса 1980-х. – В нашей политике мы ведем себя, я бы сказал, совершенно по-восточному. Мы смотрим на Запад так же, как ближневосточные народы. Подобно арабам, мы [православные христиане] тоже были жертвами крестоносцев. ‹…› Греки женаты на Востоке. Запад – просто наша любовница. Как всякая любовница, Запад возбуждает и восхищает нас, но наши отношения с ней эпизодические и поверхностные».
В средневековых трудах Прокопия и Пселла удивительным образом схвачены не только левантийские подозрения и интриги, но и нечто другое, касающееся греческой политической жизни: политика в Греции – это эротика. Вероятно, совершенно не случайно очень много греческих слов, имеющих отношение к политической власти, женского рода: kyvernisi («правительство»), eklogi («выборы»), ideologia («идеология»), poreia («протестный марш»), eksoussia («власть»), tromokratia («терроризм»).
Важно отметить, что греческая желтая пресса, в отличие от американской, не занимается личной жизнью знаменитых артистов или даже личной жизнью политиков. Греки не пуритане, и их ничто, ну почти ничто, не может шокировать. Греческая желтая пресса пишет о политике как таковой. Политика в Греции не является уделом мозговых центров и серьезных книг и журналов. Она слишком груба для этого: возьмите карьеру Андреаса Папандреу.
Мое пребывание в Афинах в 1982–1989 гг. близко совпало с пребыванием Андреаса Папандреу на посту премьер-министра. Поскольку Греция небольшая, относительно бедная страна, окруженная историческими врагами, ее политическая жизнь гораздо более интенсивна, чем в западных странах. А поскольку греческая политика в правление Андреаса Папандреу была чрезвычайно антиамериканской, мое личное отношение к Греции в большой степени формировалось под его влиянием. Наследие его правления объясняет Грецию 1990-х гг., так же как наследие коммунизма объясняет другие Балканские страны. Хроника эпохи Папандреу, на мой взгляд, необходимый компонент для понимания современной Греции.
После того как Америка настоятельно посоветовала лидеру хунты Георгиосу Пападопулосу выпустить Андреаса из тюрьмы (говорят, что президент Линдон Джонсон сказал послу Греции: «Передайте Папа-как-его-там, чтобы он отпустил другого Папа-как-его-там»), Андреас жил в Швеции и Канаде, где организовал то, что позже стало известно как Всегреческое социалистическое движение, или ПАСОК. От этих шести лет жизни за границей, с 1968 по 1974 г., сохранился один образ и один факт, имеющие отношение к 1990-м гг.: на нескольких фотографиях Андреас снят в черной кожаной куртке; в Швеции у него, женатого человека и отца четверых детей, родилась внебрачная дочь.
В 1978 г. американский издатель греческого происхождения Аристид Каратцас пришел в штаб-квартиру ПАСОК в Афинах для беседы с Андреасом. Каратцас никогда не забудет эту историю. «Вход был заполнен сурового вида молодыми людьми в черных кожаных куртках с выпуклостями. Когда я сообщил им, что у меня назначена встреча с мистером Папандреу, они отреагировали агрессивно: «Вам назначил встречу archegos [вождь]?» Мне ясно дали понять, что его следует называть «вождем», словно обращение по имени звучит оскорбительно. Я сразу представил атмосферу в штаб-квартире Муссолини в 1922 г., перед фашистским переворотом в Италии».
ПАСОК изначально не было komma – «партией» подобно другим политическим группировкам в Греции после правления хунты. Как особо подчеркнуто в названии, это было kinesis – «движение»: всегреческое социалистическое движение. Иными словами, ему полагалось быть революционным и динамичным. Папандреу в 1977 г. говорил: «Марксисты мы или нет? ‹…› Мы должны сказать «да». Именно поэтому мы являемся полной противоположностью оптимистическому либеральному мышлению».
ПАСОК было, безусловно, антидемократическим, без конституции или какого-то устава. На протяжении ряда лет о выборах лидера партии речи вообще не шло. В этом не было необходимости. ПАСОК было Папандреу – эта фамилия в период после хунты означала Андреаса, а не его отца, Георгиоса, который скончался в 1968 г. в возрасте восьмидесяти лет. Поклонение политическим вождям, в чем-то граничащее с культом личности, характерно для всей политической жизни Греции XX в. Георгиос Папандреу некогда возглавлял политическую партию, которая называлась «партия Георгиоса Папандреу». Греки центристского и левого толка мигрировали в сторону ПАСОК, поскольку видели в нем естественного наследника политического наследия Георгиоса Папандреу. Но Андреас Папандреу не был Георгиосом Папандреу, а ПАСОК не было партией Георгиоса Папандреу.
Георгиос Папандреу был скорее центристом, чем левым. Его действиями в середине 1960-х гг. руководила в большей степени глупость, нежели идеология или уязвленное самолюбие. Он был олицетворением партии в силу патерналистского, «кофейного» характера греческой политики того времени. Группы естественным образом концентрировались вокруг сильных личностей; деталям или организационным вопросам большого значения не придавали. Годы формирования Георгиоса Папандреу как личности прошли в Греции. Его порывы, как и порывы его соперника, консерватора Константина Караманлиса, были естественными и несложными. Но Андреас Папандреу, который тридцать месяцев провел в рядах ВМС США, но никогда не носил греческой военной формы, был очень сложной личностью. В его кабинете на самом видном месте красовались портреты Фиделя Кастро и маршала Тито. Папандреу (далее речь будет идти исключительно об Андреасе) видел идеальную модель для Греции в неприсоединившейся Югославии.
«На основании общих идеологических и политических взглядов», как говорил Папандреу в 1975 г., ПАСОК установило тесные связи с сирийской партией «Баас». В феврале 1977 г., спустя восемь месяцев после угона террористами авиалайнера компании Air France, на борту которого находились израильтяне, из Тель-Авива в Энтеббе, Папандреу выступил с похвалой угандийскому лидеру Иди Амину: «Он борется против западных метрополий и сам является их целью. Уже одно это ставит его на глобальной шахматной доске в ряд антиимпериалистических сил»[67]. В том же 1977 г. Папандреу нанес визит ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, режим которого, как он заявил, «не является военной диктатурой. Верно обратное. Он создан по модели demos древних афинян». В последующих публикациях в греческой и иностранной прессе прозвучали намеки, что финансовая поддержка Каддафи обеспечила Папандреу победу на выборах 1981 г., в результате которых он стал премьер-министром. В 1984 г. в Афинах майор Абдель Салам Джеллуд, ближайший соратник Каддафи, открыто заявил: «Брат Папандреу, мы тщательно тебя изучили, мы проверили тебя, и мы тебе доверяем. Мы готовы приложить все усилия для укрепления твоего положения, потому что твое пребывание у власти в наших интересах».
Внутренняя политика ПАСОК демонстрировала беспрецедентно тоталитарный стиль, сопоставимый только с партизанским коммунистическим движением. Спустя несколько лет я понял, что у ПАСОК есть три характерные группы сторонников.
Первую группу городских культурных левых, так сказать, «светскую элиту», можно было бы счесть нерелевантной, если бы не слава Мелины Меркури. Меркури стала министром культуры и науки в октябре 1981 г., когда Папандреу занял пост премьер-министра, и за восемь лет его пребывания у власти пережила пятнадцать перетасовок его кабинета. Безоговорочно верная Папандреу, она не входила в его ближайший круг и не была замешана в скандалах и судебных расправах, которые в итоге и подорвали его правление. Ее статус греческого культурного символа, обеспеченного фильмом «Только не в воскресенье», придавал Папандреу флер легитимности, особенно за границей. В самой Греции она была популярна среди коммунистов и сторонников ПАСОК, но 40 % греческого населения, которые поддерживали правых, относились к ней с презрением. Мне в какой-то момент даже надоело слушать главное обвинение, выдвигаемое в ее адрес: «Мелина ничего не играла в фильме «Только не в воскресенье». Она на самом деле так себя и ведет. И что только вы, иностранцы, в ней нашли?»
Вторую группу составляли молодые интеллектуалы, получившие образование за границей и вернувшиеся в Грецию после падения хунты. Некоторые высококвалифицированные технократы, оказавшиеся перед жестким выбором между старомодными правыми и революционными левыми, предпочли последних, поскольку правые дискредитировали себя во времена хунты. В эту категорию попадают Костас Симитис, член ПАСОК и министр национальной экономики, позже уволенный и публично униженный Папандреу, и Адонис Тритсис, член ПАСОК и первый министр экологии, тоже уволенный. Прегрешение Тритсиса заключалось в том, что он в равной степени требовал соблюдения законов по охране окружающей среды от бизнесменов как правого, так и левого толка.
Впрочем, многие молодые интеллектуалы не были технократами. Люди скромного происхождения, они уезжали в Америку или другие западные страны, где получали поверхностные знания в области либерального гуманитарного образования, что давало им основание изображать просвещенность и демонстрировать высокомерие по возвращении домой. У В. Д. Найпола есть определение для таких полусформировавшихся людей. Описывая группу получивших образование в Америке марксистов-идеалистов, пришедших к власти на карибском острове Гренада (прежде чем они рассорились и начали убивать друг друга), он назвал их «маленькими людьми», чьи мозги забиты «большими» неясными идеями, которые они не представляют, как осуществить. В ПАСОК было много таких «маленьких людей», одержимых ненавистью и ищущих любого повода для драки. Они входили в ряды Зеленой гвардии идеологических «силовиков», которых Папандреу направлял в греческие посольства за границей для слежки за карьерными дипломатами. В 1988 г., когда сотрудник Говардского университета Николаус Ставроу опубликовал книгу с критикой Папандреу, зеленогвардеец из греческого посольства в Вашингтоне заявил в New York Times: «Мистер Ставроу не способен писать книги. Он способен только учить негров в самом заурядном университете»[68].
Но третья группа, игравшая в ПАСОК наиболее важную роль, как я заметил, не имела опыта жизни за границей и редко владела каким-либо языком помимо греческого. Это были люди из деревень и рабочих пригородов, которые пользовались «четками для нервных», пересыпали речь бранными словами типа malaka (кретин, придурок) и в иных обстоятельствах могли бы как сотрудничать с хунтой, так и бороться против нее. Эта третья группа обожествляла Папандреу. В отличие от других интеллектуалов ПАСОК, получивших образование за границей, Папандреу чувствовал себя как дома в их прокуренных кофейнях и был лживым до мозга костей. Папандреу обладал смелым и демагогическим стилем речи, который хорошо воспринимался городской беднотой и жителями греческой глубинки. Своей политической манерой он напоминал президента Аргентины Хуана Перона или израильского премьер-министра Менахема Бегина: очередной европейски образованный, энергичный оратор, который опирается на беднейшую и наиболее ориенталистски настроенную часть населения, возвышаемую за счет европейской половины.
Таким образом, Папандреу окружали, составляли его ближайший круг и руководили деятельностью ПАСОК ромиосы, а не эллины. Их верность вождю была клановой и не зависела от положения дел. Это были люди, подобные Агамемнону Куцогеоргасу, второму по влиятельности человеку в Греции 1980-х гг., который в 1990-х оказался за решеткой в той же самой пирейской тюрьме, что и лидер хунты Пападопулос.
Одного из таких людей Папандреу постоянно держал в штате Министерства иностранных дел. Этот конкретный персонаж представлял собой лесоруба с претензией на интеллектуальность. В отличие от прочих он владел английским и однажды произнес пространную речь в поддержку «информационного порядка третьего мира», в которой оправдывал цензуру, введенную некоторыми африканскими правительствами, на основании того, что империализм – это тоже своего рода цензура. В 1987 г. у меня состоялся с ним разговор в его кабинете. Я спросил, не слишком ли близко находится Греция к Африке и странам третьего мира в политическом смысле. Наклонившись через стол, он доверительно заявил: «Греция не так близка к Африке, как Америка. Ты когда-нибудь видел, чтобы грек шел по улице рука об руку с черным, как в Америке? Не волнуйся, мы знаем, как вести дела с Африкой и третьим миром… Мы сказали пакистанцам, что, если они признают турецкий Кипр, мы вышвырнем в море их грязных пакистанских матросов, работающих на греческих судах»[69].
Братские отношения Папандреу с такими людьми, среди которых этот конкретный персонаж был одним из самых утонченных, всегда меня изумляли. Они лежат в основе бесспорной привлекательности Папандреу для греческих женщин, несмотря на пузо и лысину в обрамлении остатков седых волос, и в целом в основе его харизмы.
Этот человек с 1940 до 1959 г. жил в кампусах американских университетов. Никто не чувствовал себя более уверенно в изысканном мире званых ужинов в Беркли, чем Анди Папандреу со своей трубкой, в пиджаке спортивного покроя и свитере с высоким воротом. Однако в другой инкарнации он появляется в кожаной куртке и устанавливает глубокие, длительные дружеские отношения с балканскими синими воротничками, порой близкими к криминалитету, и полностью определяет их политическое будущее. Много ли университетских профессоров, даже среди тех, кто ходит в туристских ботинках и свободно себя чувствует среди простого народа, способны на это? Папандреу в ПАСОК держал на определенной дистанции именно людей, получивших образование за границей, таких, как он сам.
Папандреу требовал восхищения и в определенном смысле заслужил его благодаря редкой способности идти напролом, властвовать и манипулировать диаметрально противоположными социальными группами.
Одна из трех моих встреч с Папандреу произошла летом 1986 г. в роскошном отеле «Астир-Палас» в приморском городке Вульягмени недалеко от Афин. Папандреу в плавках и с полотенцем на шее вышел на залитую солнцем территорию бассейна в сопровождении одного из своих сыновей, которого тоже звали Андреас, и двух телохранителей в обтягивающих бедра расклешенных черных брюках и белых рубашках, расстегнутых до пояса. У одного из охранников, как я помню, на плече висела винтовка, которую он потом положил на шезлонг. Мой двухлетний сын оказался на пути Папандреу. Тот добродушно обошел ребенка и, кажется, погладил его по головке. Я воспользовался случаем, подошел и представился. «На кого вы работаете?» – спросил он. Я упомянул The Atlantic. «Да, – кивнул он. – Старый добрый бостонский журнал. Помнится, я читал его в Гарварде». Его акцент и взгляд широко распахнутых глаз спустя двадцать семь лет после того, как он покинул Соединенные Штаты, выдавал в нем почти что американца. Потом Папандреу бросил взгляд на одного из телохранителей, совершенно по-левантийски вскинув мохнатые брови, и тот быстро удалился, явно поняв задание. Судя по тому, что происходило в Греции в те времена, должен сказать, что такой разговор с Папандреу можно сравнить с рукопожатием криминального авторитета на бейсбольном стадионе.
После того как Папандреу выиграл выборы 1981 г., он укрепил свой авторитет, признав значимость греческого коммунистического партизанского Сопротивления в борьбе с нацизмом; он разрешил ветеранам коммунистического движения периода гражданской войны, вынужденным бежать в страны Восточного блока, вернуться домой; он реформировал закон о разводе в пользу женщин и легализовал гражданские браки (я женился в Греции по гражданскому кодексу: спасибо, Андреас!). Эти решения были давно ожидаемы. Но в важнейшей области греческой демократии происходили тревожные перемены.
В 1982 г. Папандреу перестал посещать парламентские сессии. Он уволил нескольких недовольных министров кабинета и добавил в свой личный штат восемьдесят советников. Это сократило его зависимость как от правительства, так и от ПАСОК. Теперь он мог править с помощью своего близкого круга и железной рукой.
В годы, предшествовавшие выборам, Папандреу исключил из рядов ПАСОК несколько сотен человек, обвинив их в «уклонизме». Изгоняли всех, кто выражал сомнение в его решениях. Когда Папандреу был избран впервые, многие члены ПАСОК надеялись, что движение превратится в партию демократического толка. Этого не произошло. Когда Аристидис Булукос, депутат парламента от ПАСОК, выразил несогласие с предвыборной программой реформ Папандреу, его исключили из ПАСОК. Когда Стафис Панагулис, заместитель министра внутренних дел, раскритиковал Папандреу за невыполнение предвыборных обещаний, его также официально исключили из рядов ПАСОК. Затем Папандреу публично обвинил Панагулиса в «предательстве» и «заговоре». Государственное телевидение и радиовещание неоднократно транслировали обвинения Папандреу, игнорируя возражения Панагулиса.
Папандреу называл критику со стороны членов ПАСОК «отступничеством», используя греческое слово apostassia, в теологическом смысле тесно связанное с временами Византия, когда императоры, обладающие божественным правом на правление, считались «непогрешимыми», а их критики именовались «еретиками» или «отступниками».
Исключения из движения продолжались на протяжении всего правления Папандреу. Схема практически не менялась. После «чистки» члена ПАСОК в специальном дисциплинарном комитете подконтрольные СМИ открывали против него убийственную кампанию. Этот метод использовался и для реализации персональных вендетт, и для облегчения захвата государством частных компаний. Например, в конце 1982 г. была организована кампания против главы местного новостного агентства, имеющего государственную поддержку. Этого человека объявили трансвеститом. Он был вынужден оставить свой пост и уехать из Греции[70]. В 1983 г. официальные СМИ обвинили Георгиоса Цацоса, управляющего директора компании Heracles General Cement, одного из самых успешных греческих экспортеров, в «мошенничестве» и «валютных махинациях». Используя публикации в прессе как предлог, государство завладело Heracles General. В последующие три года компания понесла убытки на 52 миллиона долларов. За три года, предшествовавшие захвату, ее прибыль составила 25 миллионов. Суд вскоре снял все обвинения против Цацоса: для них просто не было никаких оснований.
К 1982 г. греческое государственное телевидение и радиовещание полностью уподобились СМИ в государствах с коммунистическим режимом. Греческое радио и телевидение никогда не были свободными. Но при консервативном лидере Караманлисе контроль заключался в недопущении к эфиру оппозиции левого толка. В передачах не было идеологического, агрессивного тона. Папандреу выступал за allaghi («перемены»), в том числе давал обещание либерализовать СМИ. Тем не менее при нем вечерние телевизионные новости превратились в парад выступлений Папандреу и его присутствия на торжественных открытиях разного рода мероприятий. Ничто не было нейтральным. Любая упоминаемая группировка, будь то палестинские партизаны или никарагуанские контрас, объявлялась либо «борцами за свободу», либо «фашистами» в зависимости от взглядов ПАСОК. Когда в Афинах террористы расстреляли американского морского офицера[71], газеты ПАСОК объявили убийство «заговором ЦРУ», объяснив, что Центральное разведуправление сознательно пошло на убийство собственного сотрудника, стремясь усилить «антигреческие настроения в Соединенных Штатах». В выступлениях по телевидению Папандреу говорил, что Америка – «столица империализма». По мнению этого ветерана ВМС США, американские военные базы в Греции были «базами смерти». Папандреу ездил с визитами в страны Восточного блока чаще любого лидера стран НАТО. Во время визита в Польшу, где еще сохранялось военное положение, Папандреу охарактеризовал деятельность движения «Солидарность» как «негативную, опасно негативную». Папандреу по-прежнему жил со своей женой-американкой и четырьмя детьми, также имевшими американское гражданство.
Описывая Романа III, императора Византия с 1028 по 1034 г., Пселл отмечает: «Этот император старался казаться благочестивым… что вело к крайностям в дискуссиях о божественном». Для Папандреу благочестие означало «мир». Министр культуры Меркури организовывала в честь Папандреу «человеческие цепочки мира» вокруг Акрополя, в то время как греческие государственные компании продавали оружие обеим сторонам ирано-иракского конфликта и африканским государствам Руанде и Бурунди, воюющим между собой. Мне помнится, в Афинах почти все время проходил тот или иной симпозиум по вопросам мира. Папандреу постоянно консультировался с президентом Румынии Николае Чаушеску о разработке совместного плана по мирному урегулированию в Европе.
Подобно лидерам стран Восточного блока, Папандреу почти никогда не давал интервью западным СМИ. Он даже не посещал ежегодные встречи ассоциации иностранных журналистов в Афинах, где имел возможность отвечать на заранее заготовленные вопросы по своему выбору. Журналисты, подобные мне, могли в любое время слетать в Турцию и взять интервью у премьер-министра Тургута Озала. Но с нами Папандреу никогда не встречался, хотя мы и жили в Греции. Среди считаных интервью, которые он дал за восемь лет, можно назвать беседу с корреспондентом программы CBS «60 минут» Дайаной Сойер. Журналистка спросила, испытывает ли он благодарность к Америке за то, что она не допустила включения Греции в Восточный блок в 1940-х гг. Папандреу ответил: «Я никому и ни за что не благодарен».
Подобно кожаной куртке и роману со шведской женщиной, это заявление стало предвестием дальнейших событий.
Папандреу, придя к власти, вскоре распустил следственную группу, расследовавшую деятельность террористической группировки «17 ноября». Еще в начале 1990-х гг. эта группировка оставалась одной из самых таинственных и непроницаемых террористических организаций Европы и Ближнего Востока.
17 ноября 1973 г. хунта направила танки на подавление студенческих волнений в Афинском политехническом университете. Греческая левацкая мифология возложила вину за это преступление на американцев. В канун Рождества 1975 г. был убит Ричард Уэлч, позже идентифицированный как глава резидентуры ЦРУ в Афинах. Ответственность взяла на себя группировка «17 ноября», недвусмысленно дав понять, что это сделано в наказание американцам за их империалистическую позицию по отношению к Греции. За убийством Уэлча последовал ряд других. Двое мужчин на мотоцикле приближались к автомобилю намеченной жертвы в утренний или вечерний час пик. Находившийся на заднем сиденье мотоцикла стрелял в окно автомобиля жертвы, после чего мотоцикл быстро удалялся, петляя между рядами медленно ползущих машин. В городе постоянных автомобильных пробок и безбашенных мотоциклистов этот метод идеально соответствовал обстановке. Разведка, предшествовавшая нападению, – выяснение роли Уэлча в посольстве США, определение его машины и пути следования на работу – была проведена безупречно. Следующее громкое нападение группа «17 ноября» совершила в ноябре 1983 г., убив офицера американского флота. Это преступление было совершено в десятую годовщину подавления волнений в Афинском политехническом.
Спустя четыре месяца, в марте 1984 г., некий мужчина, идентифицированный как «Араб», на оживленной афинской улице средь бела дня расстрелял сотрудника американского посольства Кеннета Уитти и его помощника-грека. В мае самопровозглашенный ливийский Отряд самоубийц, поставивший своей целью «преследовать предателей и бродячих собак, где бы они ни были, и физически уничтожать их», прошел маршем по центру Афин в сопровождении полицейских. За этим последовала череда убийств ливийских диссидентов, противников Каддафи, отнесенных греческой полицией к разряду «личных разборок». Папандреу разрешил увеличить до пятидесяти человек количество ливийских «дипломатов», аккредитованных в Ливийском народном бюро в Афинах. В это время на греческой территории сирийцы стали регулярно уничтожать членов ООП. Террористическая группировка Абу Нидаля открыла на улице Солонос в греческой столице офис экспортно-импортной компании «Аль-Нур», служившей прикрытием для организации операций и переброски оружия по всему Средиземноморью[72].
Ни один из этих инцидентов не привел к арестам. Когда американские и британские спецслужбы в 1983 г. идентифицировали «Араба», жившего в рабочем пригороде Афин, как человека, ответственного за незаконную доставку жидких взрывчатых веществ в Израиль на самолете греческой компании Olympic Airways, американский агент, занимавшийся расследованием, был выслан из Греции, а человек, подозреваемый в терроризме, даже не был задержан[73]. Папандреу заявил, что «акты национально-освободительной борьбы» не следует рассматривать как терроризм. Администрация президента Рейгана и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) потратили год тайной дипломатии на то, чтобы уговорить греческого премьер-министра усилить меры безопасности в афинском аэропорту. Папандреу в ответ потребовал от авиакомпаний убрать из аэропорта вторую линию электронного контроля багажа.
Греческий туристический миф лопнул в одночасье. В июне 1985 г. два шиита захватили лайнер компании TWA, следовавший по маршруту Афины – Бейрут. Террористы провели всю ночь в зале ожидания для транзитных пассажиров. Предположительно, при них были пистолеты и гранаты. На следующий день после похищения самолета я улетал из Афин в Судан, чтобы написать репортажи о голоде в Африке. В аэропорту по-прежнему не велось никакого наблюдения. Ни одного представителя таможенной службы не было и в зале выдачи багажа, где пассажиры разбирали свои чемоданы и выходили на улицу. Спустя несколько дней администрация Рейгана выпустила «рекомендации туристам», в которых американским гражданам советовали воздержаться от посещения Греции. Официальные греческие СМИ немедленно назвали решение Рейгана «провокацией», но буквально через несколько часов в здании аэропорта (впервые после прихода Папандреу к власти) было полно полиции.
Но было уже слишком поздно. Десятки тысяч туристов аннулировали запланированные поездки. Греция потеряла сотни миллионов долларов. В 1985–1986 гг. количество американцев, желающих посетить Грецию, сократилось на 80 %. Эпоха, начавшаяся четверть века назад с фильма «Только не в воскресенье», казалось, подошла к концу.
Ситуация продолжала выходить из-под контроля. Спустя четыре месяца после угона лайнера TWA арабский террорист захватил самолет компании Egypt Air, вылетевший из Афин, и заставил экипаж приземлиться на Мальте. При штурме самолета египетским спецназом погибли шестьдесят человек. В 1986 г. в Афинах прогремело по крайней мере двадцать взрывов. За четыре из них взяла на себя ответственность группировка «17 ноября», действовавшая уже не только против американцев, но и против видных фигур греческой политики и бизнеса. Среди их целей оказались и автомобили, принадлежавшие американским военным и организациям, имеющим отношение к развитию греческого частного бизнеса. Наряду с «17 ноября» появились и другие греческие террористические группировки, такие как «Дикие гуси города» и Анархистская группа иконоборцев-нигилистов. Последняя несет ответственность за взрыв на греческой военной базе в 1987 г.
28 июня 1988 г. от взрывного устройства, заложенного в машине рядом с домом, погиб военный атташе США Уильям Нордин. Через тринадцать дней арабские террористы убили девять и ранили восемьдесят туристов на борту греческого парома «Порос». Пресс-секретарь Папандреу Сотирис Костопулос заявил, что нападение на «Порос» – часть американского плана, направленного на то, чтобы Греция подписала «мягкое» соглашение о продлении аренды военных баз.
В том же году греческое правительство выпустило из тюрьмы террориста Усаму аль-Зомара. В 1982 г. итальянская полиция выдвинула против него обвинение в вооруженном нападении на римскую синагогу, в результате которого погиб двухлетний мальчик и тридцать семь человек были ранены. Министр юстиции кабинета Папандреу Василис Ротис, оправдывая освобождение Зомара, пояснил, что нападение на синагогу было «частью его борьбы за восстановление независимости своей родины, а следовательно, речь идет об освободительной борьбе».
К этому времени западные обозреватели заметили определенную «синергию» между крайне левыми элементами внутри ПАСОК и террористическими группировками. Поскольку Папандреу был объектом бесконечного восхищения, простые идеологические или политические мотивы просто не приходили в голову грекам, пытающимся объяснить его поведение. Они рассматривали Папандреу исключительно в субъективных психологических аспектах.
«Андреас подобен Эдипу, – пояснял мне консервативный политик Папапулитис за ланчем в Пирее. – Мальчиком он был очень привязан к матери. Его бунт против отца продолжается и в зрелом возрасте. Бунт против отца зачастую означает бунт против власти. По моему мнению, Андреас испытывает эмоциональное влечение к радикальной освободительной борьбе исключительно из-за анархии, которая ее сопровождает».
13 сентября 1987 г. отмечалась первая годовщина землетрясения в южном греческом городе Каламата, в результате которого двадцать человек погибли и триста получили ранения. Папандреу, сославшись на огромную занятость, сказал, что не имеет времени посетить мемориальные церемонии. Позже выяснилось, что шестидесятивосьмилетний премьер-министр отправился в трехдневный круиз со стюардессой компании Olympic Airlines Димитрой Лиани. Лиани была привлекательной брюнеткой вдвое моложе Папандреу и состояла в браке с одним из руководителей маоистской революционной коммунистической партии.
В континентальной Европе, а в Греции и подавно то, что политический лидер заводит себе молодую любовницу, обычно не имеет никакого значения. Но Папандреу совершил два непростительных греха. Его видели купающимся и танцующим с Лиани в тот день, когда в Греции объявили траур. Регулярно появляясь с Лиани на публике, он позорил свою жену и семью. Папандреу дал возможность Лиани вести свое собственное телевизионное ток-шоу. Он открыто бранил свою жену и мать их четверых детей Маргарет, с которой прожил тридцать семь лет, заявляя, что «она ни разу мне яйца не сварила». В годовщину своей свадьбы он объявил о намерении жениться на Димитре Лиани, которая в этот момент разводилась со своим мужем. Когда Папандреу с новой невестой вернулся из Англии, где проходил реабилитацию после тройного шунтирования на сердце, ПАСОК организовало «спонтанный взрыв любви» к своему лидеру со стороны «простого народа». Греческое государственное телевидение показывало, как нанятая толпа бросала цветы под колеса автомобиля премьер-министра.
Соответственно, некоторые газеты, контролируемые ПАСОК, стали называть Лиани «официальной любовницей». Вокруг нее стал формироваться культ личности. Бывшая стюардесса и бывшая жена маоиста стала показываться на публике как интеллектуальная спутница премьер-министра. Появились предположения, что Лиани, по примеру Евы Перон, может стать следующим лидером ПАСОК.
Но, помимо Аргентины, нечто подобное уже происходило в Константинополе XI в. Византийский император Константин IX заставил свою жену Зою и Синклит официально признать власть своей любовницы Склирены. Пселл пишет, что «лица синклитиков порозовели от стыда, они ворчали, но вслух расхваливали документ, будто это некая упавшая с неба скрижаль»[74]. Пселл мог бы то же самое сказать о ПАСОК. Например, главный советник Папандреу, Димитрис Марудас, заявил, что любая критика по адресу внебрачной связи премьер-министра – «нечестивость» и «богохульство». Марудас заявил народу, что действия Папандреу демонстрируют levantia (мужественность) и греческий народ должен этим гордиться. Циничные греки обозвали Марудаса «министром спальни».
После истории с Лиани в конце лета 1988 г. разразился «скандал Коскотаса». Георгиос Коскотас был банкиром-мультимиллионером, о котором говорили, что он помог Папандреу перекачать более 200 миллионов долларов из государственных корпораций во «взяточный фонд» ПАСОК. Деньги якобы использовались для подкупа греческих газет, критически настроенных по отношению к Папандреу, ограничения мировых авторских прав на рукопись оскорбительной для Папандреу книги, написанной его первой женой, американкой греческого происхождения и врачом-психиатром по специальности Кристиной Расией, для обеспечения Папандреу средствами для бракоразводного соглашения с его второй женой Маргарет и для наличных выплат некоторым государственным чиновникам. Скандал затронул и других. Например, прозвучали обвинения, что греческие спецслужбы прослушивают телефоны политических противников Папандреу, а высшие государственные чиновники получили миллионы долларов нелегальных комиссионных, ушедшие на счета в швейцарских банках, за содействие в приобретении Грецией сорока французских истребителей Mirage и американских F-16. Несколько высокопоставленных государственных чиновников были осуждены по криминальным статьям, а Папандреу предъявили обвинения в соучастии. Судебный процесс сопровождался демонстрациями (организованными ПАСОК) в поддержку Папандреу. Сам он отказался давать показания, но в конечном счете был признан невиновным. Папандреу назвал обвинения, выдвинутые против него, заговором «темных сил реакции» и «иностранных кругов», направленным на «дестабилизацию» положения в Греции.
По Афинам распространилась одна история, совершенно апокрифическая, на мой взгляд, но тем не менее весьма символичная. Якобы один греческий генерал пришел к премьер-министру с огромным пакетом, набитым греческими драхмами общей суммой на 10 000 американских долларов. Генерал сказал, что эти деньги его способ выразить преданность своему archegos (вождю). Папандреу не предложил генералу сесть, но распорядился оставить пакет рядом с письменным столом. Спустя некоторое время Папандреу уволил этого генерала. Это манера восточного владыки: как посмел этот человек оскорбить меня, предлагая часть того, что уже целиком принадлежит мне по праву?
– Единственным успешным фашистским режимом в Греции был, пожалуй, режим Андреаса Папандреу, – говорил в 1990 г. американский ученый и публицист греческого происхождения Аристид Каратцас. – Военные режимы Иоанниса Метаксаса с 1936 по 1941 год и режим хунты с 1967 по 1974 год никогда не достигали высокого уровня народной поддержки своих целей, которые расценивались как неестественные и даже нелепые. Напротив, позиция и привычки Папандреу укрепляли простой народ, который испытывал недоверие и зависть к Западу, в мысли, что их образ жизни совершенно правильный. Подобно Муссолини, Папандреу преуспел в олицетворении националистического и популистского возмущения. Он был идеальным греческим обыкновенным человеком. Он угрожал Америке и поддерживал свои угрозы единением с врагами Америки Каддафи и террористами. Папандреу публично исполнял традиционные греческие танцы. Он распределял богатства среди своих сторонников в качестве награды за верность. Даже случай с Лиани нашел позитивный отклик в таком обществе с мужской доминантой, как греческое. Папандреу продолжил созданный Муссолини образ первого любовника нации. Его развод и унижение Маргарет Чант укрепило его (и Греции) разрыв не только с Америкой, но и с другим опасным демоном греческого маскулинизма – с феминизмом.
Социолог Димитрас подтверждает этот анализ. Он говорит, что почти 40 % электората, выразившего поддержку Папандреу даже после того, как ему предъявляли обвинения в казнокрадстве и прослушивании телефонов, – это признак «популизма греческой политики, близкой по своему характеру к политике стран третьего мира и Латинской Америки. Это клановая, ксенофобская политика».
Всплеск антиамериканских настроений в Греции 1980-х гг. был ожидаем. Хотя Соединенные Штаты не дали Греции уйти на коммунистическую орбиту и американские налогоплательщики в 1950-х гг. выбросили миллиарды долларов на экономическую помощь Греции, что помогло стране избежать восточноевропейской бедности, многие греки восприняли это как стремление установить политическое господство. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. администрация Рейгана явно демонстрировала поддержку репрессивной хунты. В 1974 г. государственный секретарь Генри Киссинджер явно одобрительно отнесся к жестокому вторжению турок на Кипр. Но Папандреу цинично манипулировал негативным отношением к Соединенным Штатам, что ни в коем случае не оправдывает его демагогию насчет «заговоров» или поддержку международного терроризма.
Вскоре после выборов 1981 г., на которых Папандреу одержал победу, криминальный репортер газеты New York Times Николас Гейдж, автор книг Hellas: A Portrait of Greece и бестселлера Elleni о гражданской войне в Греции, рассказал историю из юности Папандреу.
Молодой Папандреу и его богатые друзья ужинали в очень популярном ресторане морской кухни в Глифаде, пригороде Афин. Когда принесли поднос с рыбой, Папандреу тут же потащил к себе на тарелку самую крупную. Друзья возмутились. Папандреу вернул рыбу на место, но предварительно на нее плюнул. Гейдж задается вопросом: если Папандреу откажется от власти над Грецией, сделает он это добровольно или сначала плюнет на страну?
Папандреу дал ответ за несколько недель до всеобщих выборов 1989 г. Несмотря на все призывы ПАСОК, опросы показывали, что победу одержит консервативная Новая демократическая партия во главе с Константином Мицотакисом. В это время Папандреу продавил через парламент новый закон о выборах. В отличие от предыдущего, который должен был обеспечивать политическую стабильность прибавлением дополнительных мест партии, одержавшей победу на выборах, новый закон предполагал принятие израильской модели пропорционального представительства, что практически исключало возможность для победившей партии сформировать некоалиционное правительство. Как и в Израиле, здесь должна была появиться как минимум одна мелкая партия-кингмейкер[75]: сталинистская греческая коммунистическая партия.
Греция мучительно пережила три этапа всеобщих выборов за один год. На первых двух этапах партия консерваторов одержала победу с тем же преимуществом, что и ПАСОК четырьмя годами ранее, но из-за принятия нового закона не получила возможности сформировать правительство. Лидер консерваторов Мицотакис был вынужден вступить в коалицию с твердолобыми коммунистами, хотя в это время коммунизм разваливался по всей Восточной Европе. Папандреу вынужден был с этим смириться, но дал указание своим министрам никак не сотрудничать при передаче власти. Официальные документы, международные договоры, даже служебные автомобили попросту исчезали. В ходе третьих всеобщих выборов в апреле 1990 г. консерваторы одержали победу с огромным перевесом, которого не знала ни одна европейская страна, но смогли сформировать правительство, имея большинство лишь в один голос. ПАСОК при поддержке коммунистической партии организовало ряд всеобщих забастовок с целью свержения нового правительства.
Терроризм не прекращался. Экономика разваливалась. Ради субсидий и обеспечения рабочих мест для верных сторонников ПАСОК Папандреу в течение 1980-х гг. набрал займов столько же, сколько лидеры стран Восточного блока в 1970-х гг. В 1989 г. внешний долг Греции составлял 21,5 миллиарда долларов, что на 6,5 миллиарда больше, чем у коммунистической Венгрии, которая по населению лишь немного уступала Греции.
Когда я в 1990 г. вернулся в Грецию, Афины представляли собой зону городского бедствия. Греческие газеты сравнивали город с Каиром. Телефонная служба была самой худшей в странах Восточной Европы. В середине 1980-х гг. Папандреу отклонил предложения нескольких западных компаний модернизировать греческую телефонную сеть. Неоднократные и достоверные сообщения свидетельствовали, что он отдал контракт своему другу, который стал обновлять систему по частям, используя оборудование, импортированное из Восточной Германии.
Тем временем приближался момент решения Международного олимпийского комитета (МОК) о том, какой город удостоится чести принять юбилейные Олимпийские игры 1996 г. Поскольку Олимпийские игры родились в Греции и возродились в Афинах в 1896 г., Греция на протяжении ряда лет была общепризнанным фаворитом в предстоящем голосовании. В 1980-х гг., когда я жил в Афинах, местные жители не выражали ни малейшего сомнения, что их город станет столицей «Золотой Олимпиады». Но терроризм, политическая нестабильность и разваливающаяся городская инфраструктура шокировали приезжавших делегатов МОК. Решение оказалось под вопросом.
Слабое консервативное правительство Мицотакиса уговаривало ПАСОК и коммунистов отложить очередную волну забастовок. Голосование МОК должно было состояться 18 сентября 1990 г. в Токио. 17 сентября Папандреу ответил на просьбы выступлением на площади, заполненной бастующими рабочими. Бывший премьер-министр заявил: «Долой хунту Мицотакиса!» Его слова были услышаны в Токио.
После того как было оглашено решение предоставить право проведения Олимпиады Атланте, Папандреу заявил, что это «американское воровство». Мелина Меркури, кандидат на должность мэра Афин от ПАСОК, жаловалась: «МОК хотел знать, какой уровень загрязнения воздуха будет в Афинах в 1996 году. Кто может знать, что будет через шесть лет? Как они смеют задавать такие вопросы! Тот, кто задает такие вопросы, попросту выжил из ума!» Ее слова напомнили мне сцену из фильма «Только не в воскресенье». Там Гомер, которого играет Жюль Дассен, говорит об Иллии, которую играет Мелина Меркури: «Как бы мне хотелось вложить в ее голову разум вместо фантазий!»
«Мы, греки, хуже всех, и решение МОК подтверждает, что Бог хочет нас уничтожить», – сказал мне бывший сосед. Даже враги Папандреу, отдающие себе отчет в том, что творилось в Греции в 1980-х гг., были крайне разочарованы решением МОК. После всех страданий гражданской войны, после диктаторских режимов послевоенного периода «Золотая Олимпиада» могла бы наконец укрепить национальную идентичность современной Греции, протянув связующую нить со славным далеким прошлым. Эта Олимпиада могла бы стать важнейшим историческим и мифологическим событием в истории Греции. Как во времена Античности, одновременно со спортивными состязаниями планировалось проводить поэтические и музыкальные конкурсы при поддержке композиторов Теодоракиса и Хаджидакиса. Возвращая Олимпиаду в Грецию, греки надеялись восстановить душевность, магию и романтику Олимпийских игр, которые за последние десятилетия были уничтожены воротилами большого бизнеса, коммерциализацией и медициной «высоких достижений». Мы все понимали, что Афины в данный момент в ужасном состоянии, но также знали, что греки обладают особым качеством philotimo (это труднопереводимое слово приблизительно означает «самоуважение»), благодаря которому можно гарантировать, что город будет готов к Олимпиаде, пусть даже в последнюю минуту. Меркури горько суммировала местную позицию. Намекая на то, что Атланта – американская столица безалкогольных напитков, она сказала, что МОК «предпочел кока-колу Парфенону».
МОК все это хорошо понимал. Учитывая сильные исторические ассоциации, делегаты МОК, конечно, в первую очередь думали об Афинах. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что в плане безопасности и состояния инфраструктуры греческая столица находится на последнем месте среди городов-претендентов, даже ниже Белграда, столицы Югославии, где уже явно пахло гражданской войной. Не Атланта выиграла Олимпиаду, а Афины ее проиграли.
После того как было объявлено о решении МОК, я решил пройтись через Национальный парк в центре Афин до старого Олимпийского стадиона, маленького и трогательного беломраморного сооружения, на котором проходили Олимпийские игры 1896 г. Заглянув внутрь, я легко представил группки атлетов, которых поддерживали громкими криками дамочки в соломенных шляпках и аристократы-эллинофилы со всей Европы, благодаря которым и произошло возрождение Игр. Афины тогда были живописной деревушкой с дремотной османской атмосферой. Я смотрел на крутой вираж беговой дорожки в дальнем конце стадиона, который спортсменам удавалось преодолевать, не подвернув лодыжки. «Как мимолетна слава», – крутилось у меня в голове.
Я отвернулся. По улице катили машины, изрыгая клубы вонючего дыма. На сером бетоне громоздились горы черных пластиковых мешков с мусором, которые несколько дней не убирали из-за забастовки. В окнах домов мерцали огоньки свечек, потому что бастующие энергетики отключили электричество. Рабочие выдвигали вполне законные требования, но их забастовки были частью более широкой картины хаоса и социальных конфликтов – очевидных последствий правления Папандреу. XX в. обернулся глубоким разочарованием для Греции, которая оказалась отброшена назад бесчисленными диктатурами, нацистским вторжением, гражданской войной, еще одной диктатурой и, наконец, восьмилетним правлением человека, который загубил национальную экономику, привел страну на порог анархии ближневосточного толка и вертел как хотел принципами самой демократии.
Осенью 1990 г. Греция оставалась частью Балкан в той же степени, что и в начале XIX столетия, когда она находилась под властью Османской империи. Она стала еще одной восточноевропейской страной: ее население, совершенно сбитое с толку, очутилось в суровом мире, где имеет значение только эффективность и упорный труд, а не представления о славе давно минувших дней и philotimo.
Папандреу оказался самым оригинальным из балканских призраков, человеком нашего времени, который погрузился в глубины самого мрачного прошлого, более непостижимым, чем кардинал Степинац, Гоце Делчев или король Кароль. Никогда не забуду Папандреу, который стоял на трибуне перед безумствующей толпой своих сторонников, раскинув руки в стороны, подобно Христу, и воздев глаза к небу: вечная жертва турецкого и американского гонения. Подобно албанскому харизматичному тирану Энверу Ходже, Папандреу был блудным сыном из состоятельной семьи, которая отправила его учиться за границу (Ходжа жил во Франции). И тот и другой вернулись домой, чтобы сбросить и растоптать свою западную личину. Папандреу никогда не был склонен к физической жестокости, в отличие от Ходжи, повинного в массовых убийствах. Папандреу не стал и диктатором, хотя попирал конституционные гарантии. Самые острые углы в Греции смягчались Средиземноморьем; здесь я в непосредственной близости мог исследовать начало процессов, которые вызревали везде на Балканах, да и на Ближнем Востоке.
Но в 1992 г., словно подчеркивая подлинную балканскую душу Греции, разразился македонский кризис. На самом деле он назревал много лет. Проблема Македонии довольно поздно возникла в истории современной Греции, а потому обрела особо мощную динамику. Как заметил греческий ученый Евангелос Кофос, Греция вела себя на своей северо-восточной границе сдержанно, признавая, что народы Югославии – славяне и никогда не притесняли греков, как это было в Албании. Таким образом, по мнению Кофоса, Греция (в отличие от Болгарии) долго думала, что решила македонскую дилемму. Но когда стало ясно, что инспирированный Тито «македонский» национализм, призванный психологически отделить славянскую Македонию от Болгарии, зажил своей жизнью, Греция почувствовала угрозу. Греки не возражали против существования «славян» или «южных сербов» у своей границы, но «югославские македонцы» их встревожили, поскольку Македонией называлась их собственная северная провинция, ассоциируемая с Александром Великим. Когда в конце 1991 г. югославская республика Македония провозгласила независимость как «Македония», Греция пришла в ярость. Сотни тысяч человек вышли на улицы Салоник, а греческая армия устроила «маневры» на приграничной территории. Поскольку правительство Мицотакиса обладало крайне незначительным парламентским большинством и постоянно подвергалось нападкам со стороны ПАСОК, Мицотакису оказалось непросто пойти на уступки в этом вопросе.
Тем не менее положение Греции не было безнадежным. В ПАСОК начались давно ожидаемые реформы. В консервативной Новой демократической партии Мицотакис явно оставался последним из «олигархов» в духе Караманлиса. Paleo-politiki («старая политика») заканчивалась. В Греции наконец начиналась перестройка. Социолог Димитрас отметил, что у молодежи начала формироваться «аполитичная ментальность яппи».
Другого пути вперед не было. Афины, Пирей и Салоники превратились в неприятные, опустошенные города, срочно требующие модернизации. Сонные и малолюдные улицы Пирея, запруженные телегами, существовали только на черно-белой пленке фильма «Только не в воскресенье». Турецкое кладбище и маленький домик под платаном, в котором некогда жил Лоуренс Даррел на острове Родос, оказались через улицу от заразы неоновых вывесок дискотек и забегаловок фастфуда, гораздо более противных, чем любая дуга «Макдоналдса». Километры чистейших пляжей греческого архипелага сокращались с каждым годом. Если бы в 1980-х гг. восторжествовало приличное и решительное руководство, а не восточное воровство, мифы могли бы сохраниться дольше. «Столетие подходило к концу, – пишет Леон Сциаки о Салониках конца XIX в. – Незаметно подкрадывался Запад, стремясь соблазнить Восток своими чудесами».
На этот раз, как мне показалось, он может преуспеть.
Эпилог Дорога в Адрианополь
«Весь день мы ползли на юг по опустошенным землям. Душный, жаркий воздух был тяжел, словно дыхание смерти бессчетного ряда поколений», – записал Джон Рид, проезжая по равнинам Фракии.
В конце 1990 г. я вернулся из Афин в Салоники. Оттуда двинулся на юг. Автобус тащился через сонные, табачно-бурого цвета поля, окаймленные тополями и умирающими олеандрами, покрытыми пылью. Слева высились розовые горбы Родопских гор, покрытые лишайниками. За ними уже была Болгария. Справа дремало молочно-голубоватое Эгейское море. Узкая долина, расположившаяся между ними, слышала барабанный бой неисчислимых наступавших и отступавших армий. У греческих солдат в автобусе на шеях болтались крупные золотые византийские кресты. По радио звучали ритмы Малой Азии. Драма, Филиппи, Кавалла, Ксанти, Комотини, Александруполис: грустные неоновые всполохи на бетонных коробках, обремененные, словно вопреки своей воле, историческим величием места, где в последнее десятилетие XX в. детей все еще обучали с помощью зубрежки.
В Комотини мимо окна автобуса промелькнула турчанка, закутанная в черное. Я видел полуразрушенные мечети, обставленные с трех сторон многоэтажными жилыми домами. С другой стороны располагалось греческое православное кладбище, обсаженное кипарисами и с безупречно подстриженным газоном. На почерневшей стене баллончиком была выведена надпись по-гречески: «Exo Tourkos!» [ «Долой турок!»].
У Александруполиса автобус свернул на север, вдоль греко-турецкой границы, проходящей по реке Эврос. Другие города, чьи красивые древние названия лишили их настоящего: Суфлион, Орестиас. Затем, через поля зреющих подсолнухов со стороны греческой территории, я заметил вдалеке гнездо минаретов и пузатых куполов: первый в цепочке великих исламских городов, протянувшейся от самой Индии, – Адрианополь. Я прибыл к забытой задней двери Европы.
На пограничном посту, под алым знаменем с полумесяцем, висела выцветшая фотография gazi («вождя») Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой республики. Чем-то он напоминал арийского Дракулу: в черном смокинге, взгляд сверху вниз из-под густых бровей, мысок светлых волос надо лбом выдавал смешанное македонское происхождение.
«Османская империя канула в прошлое. Родилась новая Турция, – заявил Ататюрк в 1922 г. – Страны могут быть разными, но цивилизация одна и та же. ‹…› Падение Османской империи началось в тот день, когда, возгордившись своими победами над Западом, она оборвала все связи с европейскими нациями. Это было ошибкой, которую мы не повторим». Ататюрк заверял свой народ, что турецкое общество отныне «уверенным курсом… идет маршем с Востока на Запад». Этот марш прерывался на длительное время, и еще предстоит преодолеть многие километры. Я шел по мосту через широкую, медлительную реку. Посередине моста стояла мраморная будка с арабскими надписями. Рядом с ней недвижно застыл вооруженный солдат в хаки и белом шлеме. По гордому и отрешенному выражению его лица можно было понять, что он способен на любую жестокость.
Дальше открывалось сплетение адрианопольских улиц, жарких и пыльных летом, грязных и мокрых от дождей зимой. Я оказался слишком далеко в глубине материка, чтобы чувствовать умеренные ветра Эгейского моря. Я читал дорожные указатели:
Булгаристан, 18 километров.
Юнанистан (Греция), 5 километров.
Истанбул, 235 километров.
Основанный римским императором Адрианом в 125 г. на стратегически важном перекрестке азиатских и европейских дорог, Адрианополь всегда был в центре событий. Его неоднократно осаждали крестоносцы; позже он стал первой столицей Османской империи. Отсюда Мехмед Завоеватель отправился в поход на Константинополь, столицу греческой Византии. Он овладел городом, который с тех пор принадлежит Турции. В первые десятилетия XX в. мало было мест привлекательнее Адрианополя для журналистских репортажей. Во время Первой Балканской войны 1912 г. болгарские и сербские войска отвоевали Адрианополь у турок. Во Вторую Балканскую войну 1913 г. турки вернули Адрианополь себе, но в 1920 г. вновь уступили, на этот раз под натиском греческой армии. В 1922 г., незадолго до того, как войска Ататюрка окончательно завоевали город, здесь провел одну из самых тяжелых ночей в своей жизни подхвативший малярию Эрнест Хемингуэй, лежа на кровати, по которой ползали вши. Вся агония греко-турецкого конфликта запечатлена в его описании греческих беженцев, «слепо бредущих под дождем».
Сегодня беженцы Хемингуэя появились вновь, только на этот раз турецкие. В начале лета 1989 г. коммунистические власти Болгарии в своем последнем и величайшем преступном деянии насильственно депортировали более 100 000 этнических турок в Турцию. «Они гнали нас прикладами винтовок и натравливали собак», – рассказала одна из беженок, демонстрируя следы укусов на руках и ногах[76].
Я побывал в лагере беженцев у железнодорожного вокзала. Турецкое правительство обеспечило их жильем, одеждой и возможностью школьного обучения. Три мальчика в белых рубашках с черными галстуками и девочка в черном платье с белым кружевным воротничком встали перед моей камерой. Все черноглазые, черноволосые. Грузовики образовали фон между их импровизированными жилищами. Эти дети-беженцы позировали мне терпеливо, как статуи, безо всяких эмоций, словно были готовы ждать вечно.
Адрианополь больше не находится на перекрестке стратегически важных путей. На международных картах он обозначен турецким названием Эдирне, словом, которое не несет никакого очарования для слуха англоязычного человека. Таким образом, он просто исчез из перечня великих исторических географических названий: старая коричневатая фотография, забытая на чердаке; полное захолустье.
Но в таком глухом расположении есть свои преимущества. Поскольку развитие современной архитектуры не затронуло Адрианополь, он остался относительно чистым: город-игрушка с мощеными переулками, крытыми базарами, черепичными крышами и одними из самых красивых мечетей в Турции. Над городом доминирует массивная Селимие, мечеть султана Селима, созданная в 1568 г. архитектором султана Мимаром Синаном, который построил также несколько храмов вокруг церкви Святой Софии в Стамбуле. Минареты стоят, как гордые генералы, над тихими, пустыми дворами. В сумерках, когда помещение для молитвы заполняется верующими и над базарами разносятся гипнотизирующие звуки сур Корана, я впервые за все путешествие реально ощутил динамизм ислама. Здесь никому нет дела до жгучего гнева сербов, румын, болгар и греков. Здесь все тихи, спокойны; от них исходит ощущение собственного достоинства и довольства собою. Я воспринял это как наслаждение победителя. Турки не ищут повода для драки, поскольку они сами были угнетателями.
«Не Оттоманская ли мы теперь империя?» – задавался вопросом родившийся в России нобелевский лауреат Иосиф Бродский, рассуждая, не предвещает ли судьба турецкой империи нечто подобное для Советского Союза. Бродский увидел в Турции «третьесортное настоящее» людей, «ограбленных интенсивностью истории этого места», с тех пор как после Первой мировой войны скипетр восточного деспотизма переместился на Север, в Кремль[77]. Хотя Бродский не стал проводить сравнение дальше, параллели между падением Османской и советской империи поразительные. Абдул Хамид, султан Турции с 1876 по 1909 г., в начале своего правления показал себя осторожным реформатором, подобным Никите Хрущеву. Но, как Леонид Брежнев, быстро огородил султанат прежней стеной террора на жизнь еще одного (и, как оказалось, решающего) поколения. И элита Абдул Хамида, как и брежневская, втайне планировала социальные перемены, которые и последовали. Энвер-паша и младотурки, подобно Михаилу Горбачеву и его сторонникам, проводили реформы «сверху», надеясь благодаря резкой либерализации сохранить империю, пусть и в более свободной форме. Но план не удался из-за действия центробежных сил, в результате которых подданные народы потребовали полной независимости, и из-за опасения массовых протестов людей, которые больше хотели возврата к прошлому, чем продвижения вперед, в будущее. Революция младотурок в результате сделала неуместными самих младотурок. Их место занял новый человек: Кемаль Ататюрк.
У Ататюрка, по словам его биографа лорда Кинросса, была идея создания «новой (и современной) турецкой нации, хирургическим путем избавленной от язв удаленных конечностей и способной восстановиться как компактное здоровое тело, укорененное на благодатной почве своих предков».
Наблюдая насильственный развал Югославии и беспорядки, которые наверняка продолжатся в других Балканских странах, я вспомнил слова из «Короля Джона» Шекспира: «Такая туча не пройдет без бури»[78]. Исторические этнические конфликты, которым не давало угаснуть жалкое существование народов при коммунизме, заволокли балканское небо такими тучами, что сейчас, к сожалению, потребовалась буря, чтобы оно расчистилось.
Но небо проясняется.
Всюду чувствовалась невероятная усталость: ни у кого не было сил ни на что, кроме элементарных житейских желаний. Для людей лучшей мотивацией всегда была перспектива лучшей жизни для себя и своих детей, но, кажется, никогда еще люди не были так решительно настроены (и политически способны) на достижение этой цели. В конце концов, Просвещение проломило стены между угнетенными нациями. За этим должны прийти лучшие времена.
Благодарности
Куллен Мерфи и Уильям Уитуорт из Atlantic оказали поддержку и выразили желание опубликовать значительные части рукописи в своем журнале; так же они отнеслись к моим предыдущим книгам об Эфиопии и Афганистане. Благодаря поддержке Нэнси Ньюхаус фрагмент книги появился и в New York Sophisticated Traveler. Благодарю за помощь Нэнси Шарки, Джанет Пьорко и Агнес Гринхолл из New York Times, Дороти Уикенден из New Republic, Оуэна Харриса из National Interest и Сета Липски, Амити Шлейс и Петера Керестеша из Wall Street Journal в Брюсселе. Мой агент Карл Д. Брандт сохранял веру в самые трудные времена. Мой редактор Дэвид Собел помог сделать грубоватый продукт более презентабельным и ничего не испортить.
Гранты, предоставленные Мэдисонским центром образовательных программ, обеспечили меня необходимыми средствами для воплощения идеи в реальность. За это я должен поблагодарить Питера Фрумкина, Чарльза Хорнера, Леса Ленковски, Пэтти Пайотт и Тома Складони.
Мой интерес к Балканам вырос на основе журналистских командировок начала 1980-х гг. Я благодарю Джо Гешуилера и Рэндала Эшли из Atlanta Journal-Constitution, Марка Ричардса из ABC Radio News и Мэрилин Доусон из Toronto Globe and Mail за потакание моим балканским увлечениям.
Дипломатические сотрудники Эрнест Латэм, Кики Манши и Филлип Д. Райт, которыми должны гордиться Соединенные Штаты, обладали обширными научными познаниями о странах, в которых работали. Их энтузиазм оказался заразителен, и это ценнейший подарок, за который я им бесконечно благодарен.
Николас Ризопулос из Совета по международным отношениям проявил себя требовательным критиком. Ричард Карпентер обладает ценнейшими архивами греческой прессы, имеющей отношение к общественной жизни Греции. Алан Люксемберг и Дэниэл Пайпс из Исследовательского института внешней политики в Филадельфии дали мне возможность почитать лекции, что помогло мне прояснить свои мысли. Эленор Эппел и Эми Микер из Atlantic и Сюзен Макнил из New York Times проверили все факты, изложенные в книге, отчего она стала намного лучше.
За помощь и мудрые советы заслуживают моей искренней благодарности Пол Анастази, Ренцо Джанфанелли, Билл Эдвардс, Элизабет Херринг, Матьяш Жевничек, Джордж Конрад, Барри Левин, Сэмюэл и Кей Лонгмайр, Мирча Милку, Фриц Молден, П. Д. Монцуранис, Альберто Нар, Корнелиу Николеску, Джон Д. Паница, Кэрол Рид, Норман Розендаль, Тони Смит, Серджу Станчу, Николас Ставролакис, Иван Стефанович, Габор Тарнаи, Мирча Танасе, Руксандра Тодирас, Адмантиос Вассилакис, Агаин Венцислав и Тедди Уэйр.
Всем большое спасибо.
Американский издатель приносит искреннюю благодарность за разрешение использовать следующие цитаты: из стихотворения «В церкви» К. Кавафиса, опубликованного в кн.: The Greek poems of C. P. Cavafy, vol. I The Canon в переводе Мемаса Колаитиса, изданной Aristide D. Caratzas, 1898; из стихотворения «Дом у моря» Й. Сефериса, опубликованного в кн.: George Seferis: Collected Poems (1924–1955) в переводе Эдмунда Кили и Филипа Шеррарда, изданной Princeton University Press, 1967. Цитаты из кн. Ребекки Уэст «Черная овца и серый сокол»; Copyright 1941 by Rebecca West and Atlantic Monthly; Copyright renewed © 1968, 1969 by Rebecca West; использованы с разрешения Viking Penguin, a division of Penguin Books USA Inc.
Избранная библиография
Aksan A. Quotations from Mustafa Kemal Ataturk. Ankara: Ministry of Foreign Affairs, 1982.
Alexander S. The Triple Myth: A Life of Archbishop Alojzije Stepinac. Boulder, N. Y.: East European Monographs and Columbia University Press, 1987.
Ambler E. Judgement on Deltchev. L.: Hodder & Stoughton, 1951.
Idem. The Mask of Dimitrios. L.: Hodder & Stoughton, 1939.
Andrews K. The Flight of Ikaros: Travels in Greece During a Civil War. Boston: Houghton Mifflin, 1959.
Antoljak S. Samuel and His State. Skopje: Macedonian Review Editions, 1985.
Attwater D. The Penguin Dictionary of Saints. Harmondsworth: Penguin Books, 1965.
Averoff-Tossizza E. By Fire and Axe: The Communist Party and the Civil War in Greece, 1944–1949. New Rochelle, N. Y.: Caratzas Brothers, 1978.
Bassett R. The Austrians: Strange Tales from the Vienna Woods. L.: Faber & Faber, 1988.
Idem. A Guide to Central Europe. N. Y.: Viking Penguin, 1987.
Idem. Siebenburgen Besieged Spectator, September 8, 1984.
Belgrade Cultural Centre. (Special edition to mark the fortieth anniversary of the city’s liberation.) Belgrade: 1984.
Bellow S. The Dean’s December. N. Y.: Harper & Row, 1982.
Bischof H. Wirtschafts Und Systemkrise in Rumanien. Bonn: Friedrich Ebert Stifftung, 1987.
Brodsky J. Flight from Byzantium New Yorker, October 28, 1985.
Burchett W. At the Barricades. N. Y.: Times Books, 1981.
Byron R. The Byzantine Achievement. L.: Routledge & Sons, 1929.
Idem. The Station: Athos, Treasures and Men. N. Y.: Alfred A. Knopf, 1949 (first published in 1926).
Canetti E. Crowds and Power. Translated from the German by Carol Stewart. L.: Victor Gollancz, 1962.
Cavarnos C. Orthodox Iconography. Belmont, Massachusetts: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1977.
Clogg R. A Short History of Modem Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
Conrad J. Under Western Eyes. N. Y.: Harper & Brothers, 1911.
Corneanu N. The Romanian Church in Northwestern Romania Under the Horthy Scourge. Bucharest: The Bible and Mission Institute of the Romanian Orthodox Church, 1986.
Craig G. A. Germany: 1866–1945. Oxford: Oxford University Press, 1981.
Cullen R. Report from Romania: Down with the Tyrant New Yorker, April 2, 1990.
Djilas M. Conversations with Stalin. N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1962.
Idem. Rise and Fall. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1985.
Doder D. Albania Opens the Door National Geographic, Washington, July 1992.
Dragut V. La Peinture Murale de La Moldavie. Bucharest: Editions Meridiane, 1983.
Dryansky G. Y. Goodbye Romania Conde Nast Traveler, April 1989.
Dumitriu P. The Prodigals. Translated by Norman Denny. L.: Collins, 1962.
Dunford M., Holland J., McGhie J. The Rough Guide to Yugoslavia. L.: Harrap Columbus, 1989.
Durrell G. My Family and Other Animals. L.: Rupert Hart-Davis, 1956.
Durrell L. The Alexandria Quartet: Justine; Balthazar; Mountolive; Clea. L.: Faber & Faber, 1957, 1958, 1960.
Idem. Prospero’s Cell: A Guide to the Landscape and Manners of the Island of Corfu. L.: Faber & Faber, 1945.
Idem. Reflections on a Marine Venus. L.: Faber & Faber, 1953.
Idem. Spirit of Place. Edited by Alan G. Thomas. N. Y.: E. P. Dutton, 1971.
Eminescu M. Poems. Translated by Corneliu M. Popescu. Bucharest: Editura Cartea Romaneasca, 1989.
Feldner J. Grenzland Kamten. Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 1982.
Fermor P. L. Between the Woods and the Water. L.: John Murray, 1986.
Idem. Roumeli: Travels in Northern Greece. L.: John Murray, 1966.
Forbes N., Toynbee A. J., Mitrany D., Hogarth D. G. The Balkans: A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey. Oxford: Oxford University Press, 1915.
Fussell P. Abroad: British Literary Traveling Between the Wars. N. Y.: Oxford University Press, 1980.
Gage N. Eleni. N. Y.: Random House, 1983.
Idem. Hellas: A Portrait of Greece. Athens: P. Efstathiadis & Sons, 1987.
Glendinning V. Rebecca West: A Life. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1987.
Goltz T. Anyone Who Resists Will Be Killed Like a Dog Reader’s Digest, 1987.
Grogan L. The Life of J. D. Bourchier. L.: Hurst & Blackett, 1932.
Hanak P. One Thousand Years: A Concise History of Hungary. Budapest: Corvina, 1988.
Hemingway E. The Snows of Kilimanjaro. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1961.
Hilberg R. The Destruction of the European Jews. N. Y.: Quadrangle Books, 1961.
Hitler A. Mein Kampf. Translated by Ralph Manheim. Boston: Houghton Mifflin, 1943. (Originally published in 1927.)
Holden D. Greece Without Columns: The Making of the Modem Greeks. L.: Faber & Faber, 1972.
Holy Bible (Authorized King James Version). Philadelphia: National Bible Press, 1970.
Hoppe E. O. In Gipsy Camp and Royal Palace: Wanderings in Rumania (with a preface by the Queen of Rumania). L.: Methuen, 1924.
Ilievski D. The Macedonian Orthodox Church. Skopje: Macedonian Review Editions, 1973.
Internal Macedonian Revolutionary Organization. The Memoar. Sofia, 1904.
Ivandija A. The Cathedral of Zagreb. Zagreb: Glas Koncila, 1983.
Kampus I., Karaman I. Zagreb Through a Thousand Years. Zagreb: Skolska Knjiga, 1978.
Kann R. A. A History of the Habsburg Empire 1526–1918. Berkeley: University of California Press, 1974.
Kazantzakis N. Report to Greco. Translated by P. A. Bien. N. Y.: Simon & Schuster, 1965.
Idem. Zorba the Greek. Translated by Carl Wildman. L.: Faber & Faber, 1961.
Keeley E., Sherrard Ph. C. P. Cavafy: Collected Poems. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1967.
Iidem. George Seferis: Collected Poems (1924–1955). Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1967.
Keresztes P. Reconsidering Transylvania’s Fate Wall Street Journal (European Edition), May 4, 1987.
Kinross L. Ataturk: The Rebirth of a Nation. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1964.
Idem. The Ottoman Centuries. N. Y.: William Morrow, 1977.
Kissinger H. A. A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812–1822. Boston: Houghton Mifflin (no date).
Koeva M. Rila Monastery. Sofia: Sofia Press, 1989.
Kofos E. National Heritage and National Identity in Nineteenth- and Twentieth-Century Macedonia Modem Greece: Nationalism and Nationality. Athens: ELLIAMEP, 1990.
Kolaitis M. The Greek Poems of C. P. Cavafy. New Rochelle, N. Y.: Aristide D. Caratzas, 1989. V. I: The Canon.
Koneski B. Blazhe Koneski: Poetry. Edited by Georgi Stardelov. Skopje: Macedonian P.E.N. Centre, 1983.
Korobar P., Ivanoski O. The Historical Truth: The Progressive Social Circles in Bulgaria and Pirin Macedonia on the Macedonian National Question 1896–1956. Skopje: Kultura, 1983.
Kostich D. D. The Land and Peoples of the Balkans. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1962, 1973.
Lawrence Т. E. Seven Pillars of Wisdom. N. Y.: Doubleday, 1926.
Logoreci A. The Albanians: Europe’s Forgotten Survivors. L.: Victor Gollancz, 1977.
Lukacs J. Budapest 1900: A Historical Portrait of a City and Its Culture. N. Y.: Weidenfeld & Nicolson, 1988.
Idem. In Darkest Transylvania New Republic, February 3, 1982.
MacDermott M. The Apostle of Freedom: A Portrait of Vasil Levsky Against a Background of Nineteenth Century Bulgaria. Sofia: Sofia Press, 1979.
Idem. Freedom or Death: The Life of Gotse Delchev. London and West Nyack, N. Y.: Journeyman Press, 1978.
Macedonia: Documents and Material. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1978.
Mahapatra S., Boskovski J. T. Longing for the South: Contemporary Macedonian Poetry. New Delhi: Prachi Prakashan, 1981.
Mainstone R. J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church. L.: Thames & Hudson, 1988.
Mann G. The History of Germany Since 1789. L.: Chatto & Windus, 1968.
Manning O. The Balkan Trilogy: The Great Fortune; The Spoilt City; Friends and Heroes. L.: William Heinemann, 1960, 1962, 1965.
Markov G. The Truth That Killed. Translated by Liliana Brisby. N. Y.: Ticknor & Fields, 1984.
Matkovski A. A History of the Jews in Macedonia. Skopje: Macedonian Review Editions, 1982.
McCarthy M. The Stones of Florence. L.: William Heinemann, 1959.
Miller Henry. The Colossus of Maroussi. L.: Seeker & Warburg, 1942.
Milosevic D. Gracanica Monastery. Belgrade: Institute for the Protection of Cultural Monuments of the Socialist Republic of Serbia, 1989.
Mortimer E. Faith and Power: The Politics of Islam. L.: Faber & Faber, 1982.
Newby E. On the Shores of the Mediterranean. L.: Harvill Press and Pan Books, 1984, 1985.
Njegos P. P. The Mountain Wreath. Translated and edited by Vasa D. Mihailovich. Irvine, California: Charles Schlacks, Jr., 1986.
Osers E. Mateja Matevski: Footprints of the Wind. Boston and L.: Forest Books, 1988.
Ostrogorsky G. History of Byzantine State. Translated from the German by Joan Hussey. Oxford: Basil Blackwell, 1956.
Pacepa I. M. Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief. Washington, D.C.: Regnery Gateway, 1987.
Pakula H. The Last Romantic: A Biography of Queen Marie of Roumania.
N. Y.: Simon & Schuster, 1984.
Petkovic S. The Patriarchate of Pec. Belgrade: Serbian Patriarchate, 1987.
Pfaff W. Beginning of the End for the Conducator International Herald Tribune, December 21, 1989.
Idem. The Fascists in Romania May Be the Men in Power International Herald Tribune, June 21, 1990.
Poljanski H. A. Goce Delcev: His Life and Times. Skopje: Misla, 1973.
Procopius. The Secret History. Translated by G. A. Williamson. Harmondsworth: Penguin Books, 1966.
Psellus M. Fourteen Byzantine Rulers. Translated from the Chronographia by E. R. A. Sewter. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1953.
Radice B. Who’s Who in the Ancient World. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
Ravitch N. The Armenian Catastrophe: Of History, Murder & Sin Encounter, 1983.
Reed J. Ten Days That Shook the World. N. Y.: Boni & Liveright, 1919.
Idem. The War in Eastern Europe. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1916.
Richardson D., Denton J. The Rough Guide to Eastern Europe: Hungary, Romania and Bulgaria. L.: Harrap-Columbus, 1988.
Roth J. Hotel Savoy. Translated from the German by John Hoare. L.: Chatto & Windus, 1986. (First published in 1924.)
Idem. The Radetzky March. Berlin and Harmondsworth: Gustav Kiepenheuer Verlag and Penguin Books, 1932, 1974.
Sakellariou М. B. Macedonia: 4000 Years of Greek History and Civilization. Athens: Ekdotike Athenon, 1982.
Schorske C. E. Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture. N. Y.: Alfred A. Knopf, 1980.
Sciaky L. Farewell to Salonica: Portrait of an Era. L.: W. H. Allen, 1946.
Seton-Watson H. The “Sick Heart” of Modem Europe: The Problem of the Danubian Lands. Seattle and L.: University of Washington Press, 1975.
Sevastianos, Metropolitan of Dhriinoupolis. Behind Albania’s Iron Curtain. Athens: Pan-Hellenic Association of Northern Epirots, 1990.
Idem. Northern Epirus Crucified. Athens: Pan-Hellenic Association of Northern Epirots, 1989.
Sherrard Ph. The Wound of Greece: Studies in Neo-Hellenism. L.: Rex Collings, 1978.
Shirer W. L. Midcentury Journey: The Western World Through Its Years of Conflict. N. Y.: Farrar, Straus and Young, 1952.
Sitwell S. Roumanian Journey. L.: Batsford, 1938.
Skilling H. G. The Governments of Communist East Europe. N. Y.: Thomas Y. Crowell, 1966.
St. John R. Foreign Correspondent. L.: Hutchinson, 1960.
Idem. From the Land of Silent People. N. Y.: Doubleday Doran, 1942.
Starkie W. Raggle-Taggie: Adventures with a Fiddle in Hungary and Roumania. L.: John Murray, 1933.
Stavroulakis N. The Jews of Greece: An Essay. Athens: Talos Press, 1990.
Sterling C. The Plot to Kill the Pope Reader’s Digest, September 1982.
Stoicescu N. Vlad Tepes: Prince of Wallachia. Bucharest: Editura Academiei, 1978.
Stoker B. Dracula. Harmondsworth: Penguin Books, 1979. (First published in 1897.)
Sulzberger C. L. A Long Row of Candles. Toronto: Macmillan, 1969.
Thomas H. Armed Truce: The Beginnings of the Cold War 1945–1946. N. Y.: Atheneum, 1987.
Thursby J. M. Cyril and Methodius: Bridging East and West The Athenian, August 1985.
Tifft S. A Bitter Battle for Names Time, March 4, 1985.
Tismaneanu V. Homage to Golania New Republic, July 30 and August 6, 1990.
Todorovski G. Gane Todorovski: Poems. Translated by Graham W. Reid and Ljubica Tdorova-Janeslieva. Bradford: University of Bradford, 1976.
Toynbee A. J. The Western Question in Greece and Turkey. L.: Constable, 1922.
Tsigakou F.-M. The Rediscovery of Greece. L.: Thames & Hudson, 1987.
Vacalopoulos A. E. A History of Thessalonika. Salonika: Institute for Balkan Studies, 1963.
Waldeck R. G. Athene Palace Bucharest: Hitler’s “New Order” Comes to Rumania. L.: Constable, 1943. (Originally published in 1942 in Garden City, New York, by Blue Ribbon Books, under the title Athene Palace.)
Ward Ph. Albania. N. Y.: Oleander Press, 1983.
Ware T. The Orthodox Church. Harmondsworth: Penguin Books, 1963.
Watson R. The Plot to Kill Pope John Paul II Newsweek, January 3, 1983.
West R. Black Lamb and Grey Falcon. N. Y.: Viking Press, 1941.
West R. The Agincourt of Yugoslavia Spectator, December 19/26, 1987.
Weyr T. Unpublished papers on Austria’s Slovene minority. Vienna 1988.
White W. By-Line: Ernest Hemingway. N. Y.: Charles Scribner’s Sons, 1967.
Сноски
1
Перевод А. Соломатина.
(обратно)2
Перевод Ю. Кузнецова под ред. О. Кутасовой.
(обратно)3
Петр Негош в 1830–1851 гг. был правителем и митрополитом Черногории – гористой местности, соседствующей с Сербией. Массовое убийство, которое он описывает, имело место примерно в конце XVII в. Авт. (Здесь и далее примечания с пометой Авт. принадлежат Роберту Каплану, все прочие сделаны переводчиком.)
(обратно)4
В начале 1990-х гг., после распада Советского Союза, регион по обе стороны румыно-советской границы вернулся к своему румынскому названию Молдова. Но поскольку авторы книг путешествий, которых я цитирую, и люди, у которых я брал интервью, всегда говорили о Молдавии, я оставляю этот термин, чтобы не вносить путаницу в повествование. Авт.
(обратно)5
В ходе Первой и Второй мировых войн греческая армия занимала Северный Эпир. Последний раз она оставила его в 1944 г. Официально «состояние войны» с Албанией сохранялось до 1988 г. Авт.
(обратно)6
19 апреля 2012 г. улица переименована в Университетский бульвар.
(обратно)7
Название этой общественной организации можно перевести как «Служба Отечеству земли Каринтия».
(обратно)8
Хотя Югославии, как известно, уже нет, этот термин до сих пор полезен как географическое и культурное определение, поскольку слово означает «страна южных славян». Почти все остальные славяне Евразии живут гораздо севернее. Авт.
(обратно)9
В последние десятилетия, отчасти благодаря выдающемуся положению Иерусалима в ближневосточной политике, можно сказать, что Стена Плача вытесняет Исход как массовый символ евреев. Авт.
(обратно)10
Эту историю мне рассказал Стивен Ханич, американец хорватского происхождения, который в тот момент находился в нескольких метрах от Степинаца и Павелича. Авт.
(обратно)11
Босния и Герцеговина – два соседних региона, которые слились воедино. Строго говоря, Сараево находится в Боснии, где происходило большинство боевых действий во Вторую мировую войну и в 1990-е гг., о чем я уже говорил. Авт.
(обратно)12
Перевод Н. Ман.
(обратно)13
На конец 1992 г. не было официальных планов папского визита в Загреб. Но, учитывая географическую близость этого католического города к Ватикану и страдания, которые выпали на долю хорватов в ходе гражданской войны, кажется вполне вероятным, что папа нанесет сюда визит в текущем десятилетии. Авт.
(обратно)14
Авторами изображения считаются либо Михаил Астрапас, либо некий монах Евтихий, оба из Салоник. Авт.
(обратно)15
Перевод Н. Гальковского.
(обратно)16
См.: West R. The Agincourt of Yugoslavia // The Spectator. 1987. December 19–26. Авт.
(обратно)17
Перевод И. Голенищева-Кутузова.
(обратно)18
На самом деле Милошевич произнес, в частности, такие слова: «Никто, ни сейчас, ни в будущем, не посмеет вас бить». Но легенда создала много вариантов сказанного. Авт.
(обратно)19
Александр Лека-Ранкович до отстранения от власти в 1964 г. был руководителем службы государственной безопасности при правительстве Тито. Авт.
(обратно)20
Из стихотворения «У старого моста в Скопье». Авт. Перевод Л. Васильца и А. Курт.
(обратно)21
Сан-Стефано – городок на берегу Мраморного моря, находится на западной окраине Стамбула и сейчас называется Ешилькёй. Авт.
(обратно)22
Впрочем, часть северо-восточной территории у Черного моря, сейчас известная как Добруджа, перешла к Румынии. Авт.
(обратно)23
Эти данные, основанные на болгарских и македонских источниках того времени, были подтверждены наблюдателями из British Relief Fund, находившимися в тех местах. Авт.
(обратно)24
«Ататюрк» по-турецки – «отец турок». Авт.
(обратно)25
Перевод Л. Васильца и А. Курт.
(обратно)26
Румыния, имеющая общие водные ресурсы и важную западную границу с Сербией, не может позволить себе обидеть Белград вне зависимости от того, кто там у власти. Авт.
(обратно)27
Образовано от рум. ţeapă [цепэ] – кол.
(обратно)28
Бессарабия составляет восточную часть Молдавии и расположена между реками Прут и Днестр. Авт.
(обратно)29
См. эпилог книги Ханны Пакулы «Последний романтик». Авт.
(обратно)30
Подробности см. в прологе. Авт.
(обратно)31
Колумнист Уильям Пфафф и корреспондент New York Times Дэвид Биндер – редкое исключение из общего правила. Авт.
(обратно)32
Эти семь стран – Германия, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Сербия, Болгария и Румыния. Авт.
(обратно)33
В конце Второй мировой войны русские войска оккупировали Румынию и фашистский режим Антонеску был свергнут. Авт.
(обратно)34
Михая тоже обвиняли в грабеже страны. Но по другим деталям, рассказанным мне этим человеком, я понял, что он смешивает деяния Михая и Кароля II. Авт.
(обратно)35
Перевод А. Курт.
(обратно)36
В 1992 г. отношение все-таки стало меняться. Огромные толпы приветствовали Михая на улицах Бухареста. Позитивная переоценка бывшего короля, вполне вероятно, будет усиливаться и, возможно, приведет к его окончательному возвращению в страну. Авт.
(обратно)37
Все эти монастыри традиционно были женскими. Авт.
(обратно)38
Богдан Кривой потерял глаз в сражении с крымскими татарами. Авт.
(обратно)39
Корня Дойна – хорошо известная диссидентка из Клужа. Авт.
(обратно)40
Пинстрайпер (от англ. pinstriper) – человек в строгом деловом костюме в тонкую полоску.
(обратно)41
Перевод Е. Полонской.
(обратно)42
Перевод Н. Сандровой.
(обратно)43
Дивизия была названа в честь принца Евгения Савойского, выдающегося полководца Священной Римской империи начала XVIII в. Авт.
(обратно)44
Банат – от др. – иран. ban, означающего «властитель», «господин», то есть территория, управляемая баном. Авт.
(обратно)45
Поскольку этнические немцы, живущие в Банате, изначально были выходцами из Швабии, их называют банатскими немцами, а не саксонцами. Авт.
(обратно)46
С середины 1990-х гг. он называется Дворцом парламента.
(обратно)47
Граф Петр Алабин был губернатором Софии в конце 1870-х гг.
(обратно)48
Граф Игнатьев принимал капитуляцию турецких войск в конце Русско-турецкой войны 1878 г. См. предыдущую главу о Македонии. Авт.
(обратно)49
Дипломатический документ, предоставляющий право свободного пересечения границ.
(обратно)50
К сожалению, за пределами своей страны болгарские войска вели себя крайне жестоко, помогая немцам отлавливать евреев в Македонии, как и вообще всех говорящих по-гречески евреев, для депортации в лагеря смерти. Авт.
(обратно)51
Это место находится на стыке современных границ Болгарии, Греции и бывшей югославской республики Македония. Авт.
(обратно)52
Newsweek. 3 января 1983 г. Авт.
(обратно)53
Перевод Ю. Дуброва.
(обратно)54
Баязид – турецкий султан в 1389–1403 гг., получил прозвище Йылдырым, что по-турецки означает «молниеносный». Авт.
(обратно)55
Тодор Живков был первым, а затем генеральным секретарем ЦК БКП с 1954 по 1989 г. Авт.
(обратно)56
На острове Белене посреди Дуная до 1989 г. находился известный лагерь заключенных. Авт.
(обратно)57
Симеон – сын царя Болгарии Бориса III, скончавшегося в 1943 г. Авт.
(обратно)58
В конце 1990-х гг., примерно одновременно со сносом мавзолея Димитрова в Софии, этот памятник демонтировали.
(обратно)59
В феврале 1933 г. произошел пожар Рейхстага в Берлине. Нацисты безосновательно обвинили в поджоге Димитрова и других коммунистов и предали их суду. Димитров настолько активно и убедительно защищал себя сам, что суд пришел в замешательство. Авт.
(обратно)60
Монастырь основан болгарским святым Иоанном Рильским. См. пролог. Авт.
(обратно)61
Следует различать «эллинофилов» – в широком смысле любителей всего греческого – и «филэллинов» («друзей греков»), как называли иностранцев, непосредственно принимавших участие в греческой национально-освободительной революции 1821–1829 гг.
(обратно)62
Перевод А. Величанского.
(обратно)63
Перевод Tsybenko на сайте mustran.ru/competitor/99.
(обратно)64
В «Квартет» входят романы «Жюстин», «Бальтазар», «Маунтолив» и «Клеа». Авт.
(обратно)65
Негативный образ греческих полковников сформировался на Западе и благодаря фильму «Дзета» режиссера Коста-Гавраса. Авт.
(обратно)66
Перевод А. Чекаловой.
(обратно)67
Интервью с Андреасом Папандреу: Ta Nea («Новости»), 28 февраля 1977 г. Авт.
(обратно)68
McDowell E. Book on Greek Leader Stirs Diplomatic Dispute // New York Times, 1 июля 1988 г. Авт.
(обратно)69
Пакистан традиционно является наиболее протурецки настроенным из всех мусульманских государств. Авт.
(обратно)70
Спустя некоторое время его восстановили на прежней работе. Авт.
(обратно)71
Капитан Георгиос Цантес-младший был убит 15 ноября 1983 г. Авт.
(обратно)72
Посол США в Греции Роберт Кили выразил личный протест греческому МИДу в связи с присутствием Абу Нидаля. Авт.
(обратно)73
Фуаду Хусейну Шаре, человеку с иорданским паспортом, позже было предложено покинуть Грецию и уехать в страну «по своему выбору». Авт.
(обратно)74
Перевод Я. Любарского.
(обратно)75
Кингмейкер – партия, от которой может зависеть принятие важных политических решений.
(обратно)76
См.: McFadden E. Turkey: A Nameless Death at Edirne // Wall Street Journal Europe. 3 августа 1989 г. Авт.
(обратно)77
Цит. по: Бродский И. Путешествие в Стамбул.
(обратно)78
Перевод А. Дружинина.
(обратно)



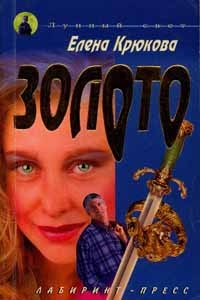

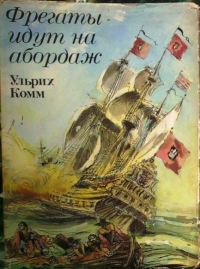

Комментарии к книге «Балканские призраки. Пронзительное путешествие сквозь историю», Роберт Дэвид Каплан
Всего 0 комментариев