Яна Гецеу Панк–рок для мертвых
В тексте использованы выдержки из песен групп «Шмели», «Оргазм Нострадамуса», «SтёкLа», «Сектор газа», «Nirvana», «Тёплая трасса».
===
«Посланы за смертью с рюкзаком…»
«Пилот».
В электричке было душно, жарко и тряско. Я сидел в уголочке, придавленный толстой бабкой с сумкой на коленях, из которой торчала брезгливая кошачья голова, ноги прижимала огромная коробка черт–те с чем. Эта «соседка» громко болтала с другой такой же бабулей, только в старых джинсах жутких размеров. Вот и представьте теперь себе, каково это — ютиться в уголочке на скользкой скамье электрички, придавленным двумя нехилыми бабами, в жару 32 гр., а вокруг такая вонь, шум, духота–а–а… Блин, и даже окно открыть нельзя — разорвут, у них же котик простудится, или еще чего нибудь отморозится. Две хорошенькие длинноногие девчонки лет 13–15, рыженькая и беленькая, перешептываются напротив меня, стреляют глазками, хихикают над моими драными джинсами и покоцаной футболкой. Облизывают с интересом пара синих и пара зеленых глаз мой пыльный джинсовый «бэг» с пиратской нашивкой, цепак с анархией, 3 булавки в ухе под драным хайром, тертые кеды. Ухмыляются, поспешно отворачиваются, поймав мой ответный взгляд. Смешно малолетним кискам, что «Punks not dead»! Наконец мне надоедают эти гляделки, и я достаю видавший виды плеер, затыкаю уши «Сектором Газа». Захлопываю веки и тащу–у–у-сь! И в прямом и в переносном смысле. Да сколько же мне еще ехать?! Час назад я влез в этот долбаный электровоз, значит, свои тощие ноги я вытащу на воздух только через 40 минут. Ох, дожить бы! Может, покурить пойти? И пить так охото, горло скребет прогорклый, влажный, липкий так называемый, воздух… Начинает подташнивать, спину и то, что ниже ломит:
— «Эх, добраться бы скорей
Жопу ломит от езды…»
Юра, гений ты был! Лучше сказать — не скажешь! А я тоже — Юра. Лаптев, Юрий Александрович, 1986 г. р. Punk, студент, придурок, раздолбай. Не люблю ментов, и они меня не любят. А еще старухи, гопы, цивильные девочки, мажоры и преподы — ну, не нравлюсь я им! Да и очень хорошо, нафига они мне? А вот я как раз очень им интересен — побить, в «трезвяке» подержать, оценочку скостить за несколько дырок в ухе, в морду заржать за обтрепанный балахон — это завсегда! Раньше — злился, сейчас понял, что мы просто разные люди, и если я никого не хочу обидеть, как бы мне человек не был неприятен, то они просто не могут смотреть на мои берцы, косуху и булавки. Нет, в универ я хожу довольно приличным, но сейчас лето, и я не в официальном месте. И мне уже нестерпимо хочется курить, а еще больше — выйти отсюда, размять ноги и не чувствовать этой вони, жары, тесноты… Солнце с моей стороны, и я, кажется, помру, если сей же час не встану! Пока вагон стоял на очередной станции, я встал и попер напролом через коробки, сумки и ноги, не забывая извиняться — мне не нужны все эти визги и ругачки. Выскочил в тамбур, и… М-да, не будет мне покоя — там уже набился «садистский» народ, плюнуть негде. Тихо матюгнувшись, ломлюсь дальше. Протащившись так еще два вагона, я наконец–то нахожу «приют дымоглота» — свободный тамбур!! Тишина, сквознячок, одиночество, никакого злого солнца. Я бросил рюкзачок под ноги, стянул противно–липкую любимую черную футболку, достал сигареты. Сел на корточки, попил воды… Рай! Панку для счастья много не надо! Прикрыл глаза, дышу дымом, слушаю, как колеса стучат. Проскрипели раздвижные двери, простучали каблучки — в тамбур вошли мои девочки. Они совсем не невинно улыбались, молча уставясь на меня, и выгнувшись так, чтобы мне как можно подробнее оценить их неразвитые достоинства… Блин, опять шлюшки! Ну где же вы, нормальные, чистые девчонки?! Может, там, куда я еду, они еще сохранились, не вымерли как вид? Все же глухомань приличнейшая! Если там вообще девчонки есть. А эти две цыпочки достали длинные дорогие сигаретки, смачно закурили. Я молчу, глядя снизу вверх под коротенькие юбочки. А чего я там не видел? У меня, слава Богу, Машка не первая. И не такая тощая и противно–наглая, как эти. Да видала бы она, чего тут творится, пятачки начистила бы быстро и им, и мне.
— А вы куда едете? — начала рыженькая, стряхивая пепел небрежно и привычно.
— Не знаю! — честно признался я.
— Как это? — округлила подведенные глаза светленькая.
— Еду 1 час 40 минут, потом пешкодралом два часа, через лес, под горой будет деревня — она мне и нужна!
— Ну, как–то же она называется? — показала неровные зубки блондинка.
— Не помню! — развел руками я. Девицы так и грохнули. Я, охнув, поднялся — ноги затекли.
— Вас как зовут? — решил развеяться я.
— Лиза, или просто Котик! — изогнулась рыжая.
— Настя, Бэмбик! — поправила челочку беленькая. Она мне больше нравится, и, кажется, не такая отвязная.
— Шут!
— Как?! — они обе открыли ротики.
— Шут, просто Шут. По жизни, по натуре, по призванию и образованию. Вот видите, вы уже смеетесь! Это ли не лучшее доказательство правоты моих слов? — я люблю красиво говорить. Хорошо воспитан, и девчонкам нравится.
— Что ж, в паспорте так и записано? — это рыжая Лиза.
— Да, так и записано: Шут Шутович Шутов. А вот года нет, не знаю даже, когда и днюху праздновать! — пожал я плечами.
— А вот я слышала, что неформалы паспорт всегда с собой носят… — показала глазками Настя на мою торбу.
— А здесь он мне ни к чему, менты — не медведи, в глуши не водятся, не в Питер еду, а жаль!
— А ты кто…ну, в смысле, рокер там, или кто еще бывает, я плохо разбираюсь! — перешла на «ты» рыжая.
— Панк, — закурил я еще одну.
— Ага?! — переглянулись девки.
— Ага! — кивнул я.
— У нас еще не было знакомых панков! — подмигнула Настя, а Лиза протянула руку и пробежала острыми коготками по плечу:
— Что это у тебя?
— Родинка! — откровенно улыбнулся я, а девки подошли поближе, разглядеть в подробностях мою мышь–вампира, уютно свесившего когтистые лапки с ключицы, лыбя зубастый окровавленный ротик, красные глазки сверкают из–под шутовского колпачка. Такой же притягательно–отталкивающий, как и я. Он мне недешево обошелся, да и натерпелся я — на кость наносить тату непросто и очень болезненно.
— А-а… это? Траблы какие–то? Любовь? — решилась наконец, осторожно поглядывающая до того на мои старые порезы Котик. Я нехотя кивнул — старая глупость, не хочу ничего объяснять!
«Очень весело бывает на последнем рубеже,
Когда жизнь тебя склоняет в суицидном падеже…»
— Да так, вообще, развлечение!
— В смысле?! — те же квадратные глазки, дуры–дурами!
— Ну, это мы так прикалываемся, развлекуха, практикуемая панками!
Тупо помолчали.
— А в чем прикол? Больно, наверное? Да и как–то…
— Некрасиво? Ну да, — киваю я. Пошли нахер, никто их и не звал! Легкий приступ необоснованной злости прихватил — бывает!
— А в этом девушки, и прикол! Садомазохизм, и все такое, применительно к самому же себе.
И пригвоздил для верности:
— Попробуйте, может тож вставит!
Они аж отшатнулись. Ха–ха, а еще спрашивают, в чем прикол! А в этом. А кто не понимает — и объяснять не буду. Вот взял однажды нож, и — по венам, и кровь во все стороны, обои, потолок беленый… Так, вообще. Не понимаете? Не надо. Сам не в курсе, мудак просто.
Странно, но тёлки от такого финта никуда не испарились, а только еще больше заинтересовались моей драной персоной. Ну, побазарили лениво ни о чем.
Так и доехал я до своей станции с девахами в тамбуре. Я не раскрыл им истинной причины своего путешествия. Я еду в башкирскую «тайгу», ищу настоящий железный «Харлей» времен ВОВ, вещь моей мечты. В вымирающих деревушках ветераны берегут трофейных «коней», и не подозревают об их истинной стоимости. Я найду такого деда, и предложу две «штуки», больше у меня нет. Должно прокатить!
Дошло до того, что Лизок предложила мне с ней отлучиться куда — нибудь… А куда, народ кругом, да и я не озабоченный — в такую жару, с малолеткой! Нафиг надо, не хочу! Телефончики свои они мне скинули, ну ладно, подрастут — разберемся! На прощание Лиза и Настюша все же поцеловали меня по очереди, да так, что я чуть не забыл спрыгнуть на каменную насыпь. Опытные, бля!
М-да, и затащило меня! Отвесные стены гор, поросшие кривыми сосенками, густая трава под ногами, цветочки — желтые, синие. Я такие в жизни не видал в теткиной деревне. Хотя, я их вообще не много видел. Постоял, глотая жадно хрустальный воздух, умылся в горном родничке, послушал его древнюю замысловатую песенку, набрал воды в бутылку про запас. Подобрал рюкзачок в тишине, и в долгожданном одиночестве потопал по широкой тропе среди двух отвесных скал, будто специально сложенных из огромных серых кирпичей великанской рукой. Хорошо…
Я шел, и ни о чем не думал, погрузившись в небо, камни, траву как в глубокий сон. Не чувствовал под собой ног, рюкзака за плечами. Не замечал, как солнце теряет свою жаркую силу, и накал дня спадает. Очнулся я, когда роса намочила кеды, и редкие комары присобачились к шее и ушам. Надо же, а их здесь совсем чуть–чуть, в Уфе в это время их до черта!
А я‑то, оказывается, давно уже минул цепь невысоких гор и тащу ноги по полю… нет, по лугу, поле — это ведь то, что возделано. И два часа давно прошли… Уже три с половиной часа! Оп–па, а где же деревня?! Или я куда–то не туда иду?.. Я, дуролом, сошел с дороги, и все это время плелся в неизвестном направлении, и значит, приду в итоге черт–те куда. А может, здесь и волки водятся? Закурил и усмехнулся — сыграю в Красную Шапочку. Однако ж, ты, Шутец, вообще молодец парень, впал в нирвану и заперся в глухую степь! На горизонте — ничего похожего на деревню или мало–мальски живую местность. И холодает, и солнце уже половинкой разбитого черепа разливает по горизонту кровь широкой лужей…
«Брошенному в поле Негде прикоснуться Нечем затянуться Свечкой не сгореть Брошенному волей Вдоволь захлебнуться Волею напиться Волей захмелеть…»Что ж, остается только измученно влачиться до тех пор, пока хоть что–то видно. Потом лягу, завернусь в косуху и переночую. Если тут, и в самом деле, волки не обитают. А то будет им хороший ужин! Хотя, какой, нафиг, «хороший» — тощий, прокуренный, булавки в зубах застрянут! Мать–мать, а ведь я и сам жрать, оказывается, хочу похлеще волка–оборотня! Желудок мучительно свело, я вспомнил, что не ел с утра, и то — похватал и рванул из дома, чтобы мать снова не завела: «Юра, может, не поедешь, Юра, это опасно!» А с собой у меня — две бутылки — «Русская», и портвешок «Кузьмич». «Василич», конечно, лучше, он больше, но его не было. Всяко–разно, денатурат дешевле, но хотелось как–то побаловать себя, что–ли, случай не из рядовых. Да, еще хлеб, сигареты, чупа–чупс (с какой балды?), и «Килька в томате». И Машкина фотка на десерт. Моя Король… Как не просила, я ее с собой не взял, зачем ей стирать ноги, голодать, мерзнуть, да не дай Бог, еще мразь какая–нибудь выползет, меня прибьют, ее покалечат. Я сказал свое твердое «нет», чтобы сейчас скучать, думая о ней, вспоминая шоколадно–зеленые глаза, взъерошенные волосы, грудь как раз мне под ладонь, удлиненные бедра, обтянутые рваными штанами «милитари», капельки портвейна на хмельных губах…Король, я долго не могу без тебя, но ты мне слишком дорога, чтобы взять с собой! Эх, когда б и ты меня так любила… Хоть в половину так!
Вы уж небось, догадались, что Король и Шут оттуда и взялись. Кто–то может, и скривился уже — фу-у, попса! Не спешите. Это сейчас в них плевать модно, не разбираясь. А я‑то Шутом стал давным–давно, когда жалкая кучка поклонников КиШа считалась маньяками и пугалами какими–то, и слушать эту шнягу считалось чем–то для избранных. А мы еще маленькие были. Когда с Машкой познакомились, ну, два года где–то тому как, она звалась «Пони» — вы бы ее попу видели, поняли бы почему! Ну, до «Кобылы» она не дотягивает, росту не очень большого, а так… Когда мы с ней забарагозили, то все логично присвоили ей звание «Король». Во–о–от.
Я достал харчи, натянул старый свитер, сел на косуху, вытянул измученные ноги и, запивая хлеб водкой, смотрел в темнеющее небо. Зажглись первые звезды, дневной свет сменился лунным. Почти полная хозяйка ночи выплывала в антрацитовую гладь небесного океана… Машка, Машенька, мой Король Масяня… Как же мне хочется согреться сейчас, обняв тебя, как бывало, нежно и крепко, уткнуться в горячую ямку на шее, бормотать сладкую чушь, засыпая…засыпая…
— Холодно, Король, холодно…ноги замерзли. Почему так сыро? — проснулся я от собственного бормотания. Сел, моргая и ничего не понимая — темнота, звезды, ледяная роса… Сижу, как дурак, обнимая торбу. На спине зудит след от замочка — лежал на косухе неудачно. А, хрень такая, я же в степи! Ну вот! Теперь я вспомнил все. Эх, еще выпить! Убил еще с полстакана, встал, и пошел в конкретной темноте — небо заволокли невесть откуда налетевшие тучи. Не хватает только намокнуть, ведь скрыться негде — «степь да степь кругом»! От голода меня развезло, я как попало переставлял ноги, и от дури заорал песню:
«Моя бабка очень верит в Дьявола,
При слове «Дьявол» вся трясется, как алкаш…»
…Деревня возникла так резко и неожиданно, что я застыл, как дурак, с открытым ртом, подавившись матерным словом. Не соображая зачем, я перекрестился. Противный холодок заполз за шиворот косухи — ведь я прямо здесь и сейчас отдам свою пропитую печень, что не было на горизонте никакой деревни, а вот те, пожалуйте — стоит, перемигивается полночными огоньками в окошках. Тут и там полаивают собаки, где–то на другом конце играет гармонь, даже слышно, как девки смеются. Значит, деревенька–то и не маленькая!? И откуда в такой дали от цивилизации такой большой населенный пункт? Тьфу ты, провалиться, значит, надо будет поутру влачиться дальше. Никакая это не глушь: видно, сильно сбился с дороги и пришел туда, откуда ушел — к людям, в какой–то район. Вступил в деревню, терзаясь: как же я ее не заметил, ну все–таки? Прошел несколько дворов, трогая заборы — точно настоящие?! Но собаки залились так, что сомнений никаких не осталось — точно!
— Ой, ерш твою медь! — заорал я и кинулся в первый дом, где горели окошки неверным керосиновым светом — туда меня погнал холодный сильный дождь. У меня не было времени думать, и я заколотил в дверь: больно хотелось мокнуть, простыть, и заболеть в чужом месте, сорвав все планы.
— Э, хтой–то тама ломица? — спросил хрипловатый тонкий старушечий голос.
— Бабушка, пустите бродягу дождик переждать, — жалобно проныл я.
— Ага, а я откудова знаю, може ты бандюган? — захихикала противно бабуся, однако прошуршал засов и дверь открылась.
— Ну, чево надать? — недоверчиво уставилась из дрожащей керосиновой тьмы на меня высокая, обширная бабка самого деревенского вида.
— Замерз я, бабуся, жрать хочу, простывать неохота! — честно признался нетрезвый я.
— А там у тебя че? — кинула жадный взгляд старуха на мою торбу.
— Хлеб, водка, портвешок, музыка, — охотно перечислил я.
— А-а, портвешок говоришь?! — заблестели ее глазки. Я все еще мок на улице. С карниза мне лилось прямо за шиворот.
— Твою мать, бабуля, или пусти, или пошли совсем!
— Вишь ты какой! — скривилась она: — Ну, заходи, раз такой ушлый!
— Благодарствуй, добрая женщина! — усмехнулся я, вламываясь в сенцы. Меня сразу обдало душным теплом деревенской избы. Странно, но старостью здесь не пахло… За спиной хлопнула дверь, проскрипел засов. Хату осветила керосинка: стол — скатерть, кровать с шарами — подушки, окошки — шторки, печка — картошка, такие желанные! Я бросил торбу в угол, следом полетела косуха, балахон, футболка — куча мокрых тряпок. Там же оказались и джинсы. Старуха, до этого молча наблюдавшая этот дурацкий стриптиз, очнулась:
— Эй, ты не больно–то балуй! На–ка вот тебе! — и бросила в меня скомканный куль. Я развернул — ага, штаны и рубаха, что надо.
— А носочек у тя, баушка, шерстяных случайно не завалялось?
— Ишь ты носочек! Мало ему, что в хату пустила! Ой, молодежь городская!
Но обмен носок на портвейн состоялся, и вот мы уже тяпаем по первой за столом… Тепло, темно, весело!
— Ты чьих будешь–то, откудова? — щурится баба Зина на меня через керосинку.
— Шут я, баушка! Из Уфы.
— А-а, Шут! Ну–ну, — многозначительно кивает она, и дерябаем еще по одной… Я с превеликим энтузиазмом уничтожаю сало, картошку, огурцы, петрушку.
— Хороша твоя выпивуха, а моя–то лучше! — подмигнула мне, уже почти лыка не вяжущему, бабка, и достала из–под стола здоровенную бутыль сивухи, полную до горлышка.
— О-го! — качнулся я на стуле.
— Ага! — кивает старуха, и наливает мне «с горкой». Спьяну мне мерещатся красные угольки в ее прищуренных глазах, злая усмешка на губах. А из углов надвигаются непонятные мрачные тени, отрывисто вздрагивающая керосинка коптит и готова потухнуть, отдав меня во власть полной темноты и злых деревенских духов.
— А ты, баушка, вампир! — хихикаю я, заливая едкую сивуху в горло. Странно, но мне совсем не страшно! Все сожрала проклятая выпивка: и страх, и боль, и осторожность.
— Не угадал! — серьезно качает головой, теребя в пальцах листик петрушки: — Вампир в деревне не я!
Даже не тени улыбки — не шутит? Вот это да!
— А кто? В самом деле, есть?
— Есть — нету, ты лучше пей, а завтра мотай отсюдова! Деньги–то есть, уехать? — я киваю.
— Ну вот и проваливай!
— Что, чужих не любят? — куражусь я.
— Да нет, наоборот, только и ждут, своих–то, кого могли, всех пожрали! — глаза старухи все более разгораются, лицо вытягивается, тени заводят бесшумный хоровод. Кто–то мягко опускается мне на плечи, дышит тихо в затылок. Жрите меня, жрите, кому я нужен в этом мире? Уж точно не себе! И Король не заплачет.
— Ну все, баста! — решительно хлопнула бабка по столу, поднимаясь: — Лезь на печь, там постелено!
Как умудрился я перенестись на печь, и не знаю, помню только, кто–то подтолкнул меня снизу, кто–то втащил за шиворот сверху. Я было провалился в липкую яму сна, но вместо этого начался пьяный бред: в окно тихо постучали, потом позвали:
— Бабка, открывай! Чего спишь?
— Да не сплю я, гости у меня! Не ломись, щас выйду!
Заскрипел засов, через незакрытую дверь до меня донеслись два голоса — молодой, мальчишеский, сердитый и бабкин. Что они говорили, я не разобрал, хоть и свесил голову, жадно пытаясь разобрать хоть слово. Но вот — что это? — в дверь прошмыгнула высокая непонятная фигура в белом до пят, мелькнули длинные темные волосы. Я таращился во все глаза, как «это» сжалось в комок наподобие кошки, и прямо с полу метнулось ко мне на печь! В следующий миг я разглядел над собой бледное девичье лицо, такой красоты, что и в самом сладком сне не привидится! Обалдев, я не в силах оторваться, смотрел, как она, изогнувшись, стащила рубаху через голову, закинула волосы за спину, истомленно улыбаясь. Слабое свечение окутывало ее полное, гладкое тело. Горячее дыхание обдало лицо, губы жадно впились в меня, язычок коснулся зубов… «Вот он, поцелуй вампира!» подумал я, не в состоянии ее оттолкнуть. А и зачем — умереть в объятиях прекрасного трупа, переродиться в ночное чудовище, пить кровь девственниц… Не быть больше Шутом. Мечта! Прощай, моя гнилая жижа — кровь! Я крепко прижал удивительно живую и горячо вздрагивающую упырицу, перевернул ее на спину — гори все адским пламенем, а мне хорошо–о–о…
— Ну че, хороша бабкина печка? — заглянула ко мне за занавеску старуха, как только я мучительно разлепил железные веки.
— Ага, ништяк! — проскрипел я наждачным горлом, очень медленно соображая, кто я такой. Как ни удивительно, кто эта бабка и откуда я здесь, я помнил, а вот ни ночи, ни самого себя — нет.
— Давай, Шуток, слазь! Пожрешь, а там тебе и в дорогу пора. Я тебе харчей на дорожку соберу.
— Тавтология, — пробормотал я, свешивая босые ноги с печи.
— Чаво? — резко отупев, заморгала баба Зина.
— Чего? — тут же забыл я, о чем говорил, чугунная голова тянула вниз. Старуха махнула рукой, я сел за стол, держа свой «шар для боулинга» на плечах обеими руками. Спасительная рюмка портвейна возникла передо мной будто сама.
— О, классно!
Мне полегчало, и я кое–что вспомнил, да так, что аж тело заломило.
— Бабуль Зин, а у тебя внучки нет случайно?
Эти сладкие вздохи, нежная кожа…
— Эй, да как бы была! — покачала она головой в платке:
— Одна я! А ты чего же, жену ищешь? Тогда не туда заехал, девки здесь всего три, да и те перепорченные…
— Да нет, не собираюсь я семью заводить, молодой еще! — заржал я как дурак.
— Ну, это ты зря! Кто ж на твоей могилке поплачет? — выдала бабуля. Вот это по–нашему! А как же мой жаркий ночной бред? Такая горячая, гибкая, послушная… не помню, чтобы мне наяву так когда–нибудь было, даже с Король…
— Так нету внучки–то?
— Нету, говорят тебе! Схоронила я сына–то, давно уж! А сношка, стервь, сразу в город сбежала. Внучки–то у меня и не было, внука растила, вот как ты был… — она тяжело вздохнула, вперив в меня тяжелый взгляд. Голову будто раскаленный обруч сдавил под этим взглядом. Ну уж нет, я узнаю, что хочу знать! Сны не бывают такими стонущими и жгущими насквозь жадными губами! Я отдал ей все, что мог, но найду еще, пусть только вернется! А что там с внуком?
— Был? — нажал я.
— Утоп он. Купаться в дождь полез, один. Сволокли его на дно. А ты пить–то бросай, не доведет до добра. Молодой, ведь, а тощий как вороненыш, — покачала она головой.
— Ага, стопудово брошу! — пообещал я, радостно приходя в себя.
— Пойду, покурю!
Может, девку эту найду. Хоть имя узнаю. А может, повторим? Ведь один раз — это только один раз…
…А на крыльце–то благодать! После вчерашнего ливня подсохла трава, весело глядит ласковое, совсем не городское злое, солнышко. Старая черемушка мне веселыми вороньими глазками ягодок подмигивает. Или не черемуха? Рановато, кажись, для нее… За деревом — огород — картошка–лук–морковь, за огородом — дорога, за дорогой — поле, за полем — болото, за болотом — лес. Прямо — калитка и ворота, рассохшиеся, старые. За воротами — улица, посреди улицы — тоже болото, дома его как бы обходят. Оно почти сухое, заросшее, и два дерева — старое и молодое, как дед и внук. Один — согбенный, жженый изнутри молнией, будто прокуренный фронтовой махорочкой, другой — стройненький, светленький, радостно тянущийся вверх, к любви, солнышку, и все–то у него впереди, дурака малолетнего… Ага, «махорочка фронтовая», так может здесь и есть нужный мне дед–ветеран? Пойду, поищу. Заодно и про девочку разведаю.
Вышел со двора, обогнул болото, огляделся — нет, деревня не длинная, и всего в одну улицу — один конец к лесу, другой — к озеру. Оно от болота — десять шагов. Посреди деревни — дорога, травяная, неезженая. По ней–то меня сюда и притащило. Никаких собак. Блин, а че же тогда меня так приглючило ночью? Много домов заброшенных. Но они все такие мирные, просто трухлявые избенки, и все! А один… Как сказать, ну те же пустые глазницы, те же обваленные воротца и разнесенный временем заборчик, прогнившая крыша и оскал незапертой двери, но… Страшно мне стало. Просто страшно, и все. Захотелось прочь бежать, да поскорее! Постоял дурак — дураком, думая, как быть: что же, и в самом деле бежать? Или… Гнилое человеческое любопытство точит, поганеньким голоском сквозь страх пробивается: пойди, мол, туда, подумаешь дом, ведь солнце светит как оглашенное, че, мол, будет–то? Проверь, чего там страшного? Дрожа и дергаясь, чувствуя себя совершенным придурком (а кто же я еще?), ступил в пределы двора. На цыпочках протопал до двери, постоял, замирая в сквозняке, тянущем гниль и прелость из холодного нутра строеньица… Шагнул во тьму… Что–то хрустнуло под неуверенной ногой — ма–ма!! Отпрыгнул назад, проматерился, зажмурившись, рванул вперед неглядя, шаг, другой! Открыл глаза, и… Фу, а я‑то думал! Только пыль, рассохшийся пол, паутина, кровать за печкой — железная, с шарами. «А где портреты вождей?» Очень к месту, правда? Я просто гений шутки, ё–к–л-м-н! Походил туда–сюда, слушая несчастный скрип скелетных половиц, поскрипел, подражая им. Нашел в печке два горшка — битый и небитый. Прикольно, даже бутылку из–под водки образца восьмидесятых! Кто–то здесь барагозил! И все бы весело, если бы не этот холод кирпичей, такой неестественный, такой могильный! Будто ее черное непроглядное нутро готово проглотить тебя, чтобы не отпускать никогда, сделав пленником «проклятого старого дома». И будешь ты вылазить лишь злыми ночами, да полнолуниями, и жрать одиноких путников, пить кровь девственниц! Если, конечно, найдешь таковых.
«Ну и понесло тебя, Шут!» — скажет любой из вас, и будет неправ. Потому что холодный и злой «красный угол» дома не давал мне расслабиться. Что там, я не мог увидеть — ни фонарика, ни спичек. Зажигалка… А вот фиг вам, не пойду, выясняйте сами, что там, или придумайте, а я боюсь! Боюсь… Хочется задом, задом, держа вытянутые руки перед собой, тихонько, но очень быстро, исчезнуть из этого противного места, обратно, на солнышко… На Луну, к черту на рога — лишь бы не здесь! Но — представьте себе! — я иду не назад, а вперед прямо в этот провал, в этот злой угол. Что я делаю, ма–моч–ка, мне же холодно и мерзко. Но я иду. Я не хочу знать что там. Но вы–то хотите? Ага, хотите. И вот я зажег зажигалку, и зажмурил глаза, а вы смотрите. Нет, я их (глаза) не зажмурил, а вылупил, и таращу все шире и шире: высветились почерневшие рамки, увитые бумажными, очень грязными венками, тусклые серебряные оклады, досочки икон… перевернутых… тихо, не спеша подношу язычок пламени — ликов не видно, очень старые. Ниже, еще ниже… Злая усмешка кривит тонкие губы «святого» с кровожадной издевкой, мертвым льдом обдают меня глаза, огромные и пустые, прямо с досочек, прямо внутрь…
— «Отче наш, иже еси на небесех…» — разом вспоминаю я давно забытые уроки бабушки, роняю зажигалку, крик застыл в глотке, ноги сами несут на свет, обратно в спасительную реальность! Как дикий, бегу я по радостной солнечной траве, не в силах дышать. Падаю в приозерные заросли, и…
— Парень, ты что, больной? Чего бежишь–то, одичал? Или это ты так разминаешься? Ба-а, а с рукой–то что?
Я вскинулся, резко дернулся, вытаращившись на пацана в черных штанах и зеленой футболке. Он потянулся к моей руке, я проследил за направлением взгляда его больших татарских глаз: — Вот, блин! — да у меня кожа разорвана в нескольких местах, от запястья до локтя, наискось по старым шрамам. Кровь беспрепятственно пачкает штаны, футболку, траву.
— Да не шугайся, дай погляжу! — голос самый обычный, располагающий. Немой ужас отпустил меня, я уже практически пришел в себя. Протянул руку, он осторожно повертел ее, осматривая. Я почему–то ощутил доверие к нему.
— М-да, просто так тут не обойдешься, надо зашивать! А тебе–то, я вижу, не привыкать! — усмехнулся он, глянув исподлобья.
— Э-эй, осторожно! — дернулся я от его неосторожного движения.
— Больно? — внимательно глянул на меня, не выпуская руки. Его пальцы склеились от крови. Цепкими глазами ощупал мое лицо, да так неприятно… Я попытался аккуратно выкрутить руку, но он держал крепко, и это принесло жгучую боль.
— Отдай руку–то! — вскрикнул я.
— Больно! — утвердительно кивнул он, отпуская горящую конечность. Я отошел на шаг, оттираясь футболкой, а пацан посмотрел на свои щедро окровавленные пальцы, и вдруг жадно лизнул ладонь… Я обалдело смотрел, как он слизал всю кровь с рук. Уже знакомый страх заползал за шиворот скользкой змеей… Он зло расхохотался:
— Ну, че смотришь, как дурак? Это же шутка!
— Ага, очень смешно! — проворчал я: — А нафига ты мою кровь лижешь?
— Не пропадать же добру! — просто пожал плечами он: — Пошли лучше ко мне, чего стоять–то? Раны забинтуем. Только сначала промоем!
И шагнул к безмятежной зеленой озерной воде:
— Иди сюда!
Я нерешительно подошел: какой же я все–таки дерганный! Мнительный псих. Везде–то хрень какая–то видится. И так всю жизнь. Где бы я не жил, и что бы ни делал — вижу то, чего нет. Воображение больное. Но, однако ж, он не спросил, где это я так!.. Тьфу, хватит!
Татарин вымыл свои и мои руки от остатков крови, заклеил лопухом и подорожником разрывы, и все это напевая что–то по–своему под нос. Я молчал, и думал: а где это я изорвался? И почему раньше не почувствовал?
— Ну, пошли? — поднялся «медбрат».
— Пошли! — просто согласился я. Что–то будет дальше, и куда я иду? Тащусь от приключений!
Мы протопали тайной тропинкой среди зарослей молоденьких ив, крапивы и тальника минут пять, и, совершенно неожиданно расступившись, они открыли маленькую серую избушку у самой воды. Низенькая и скособоченная, сильно на отшибе, больше подходящая для деревенской ведьмы, чем для молодого парня. Хотя, кто сказал, что парень — не ее внук? Он, насвистывая, пригнулся и вошел в незакрытую, будто поджидавшую хозяина дверь. Но стоило мне только сунуться в нее — оп! — со скрипом захлопнулась перед моим носом!
— Заходи, эй! — крикнул в низенькое окошко пацан, и дверь в следующий момент распахнулась так же, как закрылась, врезав мне по колену!
— БЛЯДЬ!! — заорал я, и впрыгнул в коридор, пока еще чего–нибудь не порвал и не зашиб. Прошел в темноте сенцы, потирая колено, притом мне показалось, что кто–то погладил по щеке, и я будто ощутил ласковый женский запах…
— Ух ты, классно у тебя! — сказал я, оглядываясь по углам.
— Ага, неплохо! — донеслось откуда–то из–за печки, большой, в полдома, такой же, как у «моей» бабки. Широкий круглый стол, как у медиумов из кино, синие линялые шторки, некрашеные полы, диванчик (на который я и сел), герань на окнах. Черный кот, не пойми откуда взявшийся, прыгнул на колени. Муркнул и начал приставать к больной руке — тыкаться мордой, тянуть зубами листочки, заклеивающие раны. Да они тут все упырюги: вот захотели моей крови!
— Невкусно, не лезь! — шлепнул я кота по морде.
— Оставь человека, рано еще! — явился хозяин из–за печи с водкой и тряпичными бинтами. Бросил на меня один из своих цепких взглядов, сел напротив. Кот, недовольно урча, улез под шкаф. Однако, что значит «рано»? Тикали часы, ненавязчиво, вкрадчиво…
— Ну что, гостенёк, давай за знакомство, что–ли? — парень достал из–за моей спины рюмки, не сводя колючих темных глаз.
— Ну, давай! — согласился я, чувствуя себя очень не в своей тарелке. Он ведь даже не представился. Но это фигня, тут как–то… Ну, будто во сне, или еще что–то… Нереально!
— Дамир я! — разлил хозяин по первой.
— Шут! — взял я рюмку.
— Угу! — кивнул он, опрокидывая стопку. В лице его ни одна жилка не дрогнула, у меня же… Ух, и ядрен «сэмчик»! Дыхание перехватило, глаза вылезли из орбит! Даже я такого не принимал до сих пор! И закусить нечем! «Крыша» поехала мгновенно!
— Ты что же, Шут, в наших благословенных местах забыл? — просто, как–то даже интимно спросил новый знакомый, закуривая.
— Да я здесь ненамеренно, прямо по ошибке! Я ведь совсем другое искал! — я тоже закурил, откровенно расслабляясь. Настоящий резаный табак, деревенская махорочка! Таким в Уфе не угостят!
— А с другой стороны, и хорошо! Давно мы свежего человека не едали… кхм, не видали!
Я расхохотался — да уж, пошутил!
— Наливай! — подвинул я к нему рюмку. Пить — так пить! Никогда не откажусь. Да и боль уняло хорошо. Но только я поднес рюмку ко рту…
— Так, без меня, значит, бухаем! — раздалось от двери. Я повернул голову — ни–че–го себе!! Девица. Лет 16–18, в длинной коричневой юбке обтекающей та–а–кие бедра! Широкие, покатые, крепкие, круто переходящие в плотную талию. Гладкий, округлый, загорелый животик, старая линялая футболка завязана узлом под пышной грудью, болтается на плечах, сквозь нее просвечивает… Облизнувшись, продолжил сладкое изучение: сильная и нежная шея, крупные черты лица, прищуренные карие глаза, темные кольца волос из–под косынки, сплетенные в небрежную косу. Руки в боки, осознание собственной цветущей силы, красоты — настоящая деревенская невеста. Ух, я б ее прижал! Она смотрит на меня, я — на нее. Каков контраст с городскими сушеными, рахитичными, заносчивыми на пустом месте «сосками»!
— Дамир, радость моя, ты чего молчишь? — девица села на колени моего собутыльника, при том, не сводя с меня горячих глаз.
— Этот вот парень, из Уфы. Мотоцикл ищет, «Харлей», как в войну были, помнишь? Не туда забрел.
— А-а, гроза была! — понимающе кивнула она. Ничего себе, я же ему не сказал, откуда я и зачем!
— Ну что, я — Маша! Давай, Шут, выпьем, раз забрел! — откуда в ее руке появилась рюмка? Нет, точно нельзя не выпить! О–бал–деть!
— Да ты не удивляйся, — рассмеялась Маша, — ты здесь и не такого насмотришься! Надолго ведь к нам.
— Да я собственно, как бы… — начал я, сам не зная, что собираюсь сказать.
— Надолго! — припечатала она рюмкой по столу, и придвигаясь ко мне, заглянула прямо в душу, заслонив свет:
— А быстро тебя никто не отпустит!
…Очнулся я в полутьме, на нарах за печкой. Легкий отблеск свечи где–то по другую ее сторону, тени по потолку, кот мурлычет. Ощущение безвременья… Пройдут вот так, здесь в углу 300, 500, 1000 лет — не замечу. Или уже прошли? Неважно где, неважно кто…Душная прохлада, боль в руке, теплый живой комок под боком. Часы за стеной… Запах сухой травы, пыль.
— Эй, Шут, пошли купаться! Ночь на дворе, самое время! — ко мне в уголок заглянуло веселое лицо Маши, волосы кудрявой волной омыли угол печи. Я сел, соображая сам не знаю что.
— Руку мы тебе зашили, пока ты дрых! Сейчас пойдем веселиться!
Выполз из угла, все еще туго ориентируясь во времени. В доме не горел свет. Рассеянный взгляд наткнулся на какую–то темную лужу на полу. Кровь? Чья?
— Да, мать твою, сколько раз говорить? — вскрикнула Маша, влетая с тряпкой в руках. Торопливо затерла лужу, посмотрела на меня…В сладком лунном свете ее глаза блеснули жгуче и отталкивающе, как у голодной волчицы. Бледный, будто мертвый оттенок кожи протянутой ко мне руки. Тихо подошла, будто вовсе не касаясь пола, близко–близко… Я ощутил ее прохладное дыхание на губах. Захотелось бежать, или, наоборот, завалить ее прямо здесь! Еще секунда, и…
— Машка, Шут, чего не идете? Че у вас там? — крикнул в открытую дверь Дамир, приводя нас в себя.
— Да щас, идем, не ори! — зло бросила Маша, отворачиваясь. Я встряхнул головой: надо же, а ведь она меня чуть не поцеловала! Почему же так не по себе, ощущение, что она не настоящая?
Девушка прошла мимо меня, неся тряпку левой рукой, с тряпки на пол шлепались темные капельки. Когда она скрылась за печью, я торопливо нагнувшись, мазнул пальцами одну из капель, и поднес к глазам — так и есть, кровь! Что же я проспал?
— Маша, а что это на полу? — рискнул поинтересоваться я, шлепая босыми ногами по жгуче — холодной росе.
— Да так, ужин! — рассеянно пожала красавица голыми плечиками.
— А чего меня не позвали? — «обиделся» я.
— Дык, ты дрых! — усмехнулась она, развивая шутку, и взяла меня за руку:
— Пошли скорее, а то, небось все наши уж собрались!
Дамир утопал далеко вперед, и Маша быстро поцеловала меня прохладными губами. Я сладко зажмурился, ведомый ей. Вот бы еще…
— Пришли, Шут!
Я открыл глаза — вот это да-а! Полная луна заливает неживым серебром идеальную гладь темного озера, ивы будто спят — ни листочек не шелохнется. Прибрежные камыши темной низкорослой толпой обступили край воды. От берега до берега прозрачность воздуха такая, что можно цыплят пасти — ни одного не потеряешь! Хм-м, однако ж, долговато шли, ведь насколько я соображаю, домик стоит у самой воды, и… нет, кажется, я ничего не соображаю, ведь, оглянувшись, увидел лишь тропинку откуда–то издалека, а домишка, так его просто нет! Или не было? Тьфу ты, совсем мозги усохли! Или все–таки…
— Что–то рано мы! — произнес Дамир, оглядевшись, и я встряхнулся.
— Ничего, подождем! — ответила Маша, опускаясь в лунную росу.
Хотя, с этим домом… Ай, да ладно!
— Шут, давай пока покурим!
Я машинально полез в карман на груди — и не нашел его. На мне ведь только рубаха и дырявые штаны, все мое имущество — у бабки в сенцах.
— Маш, нету! Извини.
— Ну и хрен с ним! О, начинается! Указала она куда–то вдаль. Я проследил за ее жестом — откуда–то из глубин безмятежного озера, прямо из центра, расползался туман, густой как молочный кисель и навязчивый. Непроглядная муть в момент окутала все. По душе прошмыгнула волнующая дрожь. Неужели ж настоящие мистические приключения, со мной?! До сих пор не верю, всю жизнь только и мечтал!
— А–а–у-у–хх–ха!! — завыло совсем рядом, тонко, громко напряженно. Я разгреб туман руками. Раздетая красавица приплясывала и качалась рядом со мной, выражение лица — самое счастливое, дикое, огромные глаза горят — совсем как Король на «КиШе»! Сходство двух Маш в этот момент было поразительно: панкушка и ведьмочка будто слились в один потрясающе дикий и соблазнительный образ! Дамира нигде не было видно. Может, пока его нет, мы могли бы… Что это?! Шлеп–шлеп, у–у–у, ш–ш–ш, кап–кап, плям-с! И снова: шлеп–шлеп! Туман вновь скрыл девушку, я напряженно вслушивался — кто–то был совсем рядом, и не один! Холодные, мокрые руки легко пробежали по лопаткам. Я замер.
— Он живой!! — вскрикнул удивленный женский голос.
— Да ну, откуда?! — ответил недоверчиво пацан.
— Где, где?
— Как — живой?
— Кто привел? — загомонили вокруг, хватая скользкими, влажными ладошками, большими и поменьше. Мне совсем не страшно, только больно и мокро — затискали.
— Эй, вы кто? — крикнул я, смеясь. Они смолкли. Я кружил на месте, пытаясь хоть кого–то уловить. «Манная каша» медленно рассеялась — я увидел людей. Они стояли вокруг плотным кольцом, страшно бледные, мокрые, кто в чем — в крестьянских рубахах, в тонких платьицах, джинсах и футболках, девицы в купальниках и шортиках, кое–кто и совсем голые. Все молодые — от 10–12 до 20–23 лет, не больше. Молчали, серьезно разглядывая, будто не зная, чего от меня ожидать. Я улыбался, но чувствовал себя уже не так–то и уверенно — чего они такие молчаливые и бледные какие–то.
— Ма–ма! — дернулся я резко — меня хватанули холодными руками за шею сзади.
— Ага, страшно! — прошептали мне на ухо, и в лицо заглянула Маша.
— Машка, убьешь ведь! Я от страха чуть не подох!
— Хорошо! — прошептала она снова, и резко впилась мне в губы. Поцелуй ее был мокрый и холодный, как и вся она, неестественный и неприятный. Я инстинктивно попытался оттолкнуть девку — не тут то было! Язык проник мне в рот и облизал нёбо, руки вцепились и держали так крепко, что я не мог и шевельнуться. Ощущение ловушки, из которой не стоит и вырываться… Правда, не стоит, и я обнял ее плотное, нежное, холодное тело. Оно совсем не дрожало — ни от холода, ни от возбуждения под моими мокрыми руками. Она жадно ласкала меня, но дыхания будто вовсе не было, оно не сбилось и не стало горячим — будто целуешь бескровную куклу. Или я чего–то недопонял?
— Маш? — отстранил я ее от себя.
— Что? — недовольно передернула плечами она, и опять потянулась ко мне. Я посмотрел поверх ее головы — они стояли все так же, и смотрели на нас.
— Маш, давай не здесь, а?
— А, ты про этих? — сморщилась ведьма, отпуская из ледяных клещей объятий. — Ну, как хочешь! — и отступила на шаг.
— Эй, зажигай!! — крикнула она, и прыгнула в круг. Собрание сразу оживилось, все засновали в тумане, быстро разложили костер.
— А ты когда утонул, недавно? Я тебя еще не видела! — спросил за спиной чистый детский голосок. Маленькая девочка с набухшей от воды косой через плечо, как колосок, в мокрой рубашонке с полураспустившейся вышивкой по рваному вороту, совершенно синяя, глядела на меня прозрачными, запавшими глазами.
— Я? Еще живой, к сожалению! А ты когда? — я сел перед ней на корточки.
— А я… не знаю, вроде давно! — улыбнулась она голубыми губами. Мороз по коже!
— Ну, и как… у вас там? — рискнул поинтересоваться. На это маленькая покойница только рассмеялась, похлопала меня по щеке противно–мокрой ладошкой, и убежала прочь, хихикая и подвывая. Проследив, как мелькают ее босые пяточки, не оставляя ни единого следа во влажной траве, я подумал: а ведь она, пожалуй, раза в три старше моей бабушки (будь она у меня), и раз в пять — меня!
А бледные фигуры нестройно, но весело, завыли–заныли–завопили что–то народное, раздолбайское, разухабисто выделялся среди них мужицкий бас. Я хотел подпеть, но песни этой не знал. Откуда–то явился Дамир в широкой рубахе, за ним — широкоплечий, здоровенный детина с бочонком на плече, так запросто, будто это пакет из–под молока. По знаку Дамира, нежить поставил свою интересную ношу в траву, чуть поодаль от всё расширяющегося круга света от костра. Осветило мужику рожу, и меня будто оттолкнуло — зеленоватая, вся в пятнах. Этот был уже совсем несвеж, и что только удерживает в нем жуткую силу? Жуткий запашок… Он встал, тупо уставясь на принесенное добро. А я вдруг почувствовал странную усталость, будто разом вынули позвонки через один, и был вынужден опуститься в сырую траву. Наблюдать, как вместе с костром разгорается веселье. Бледные, мокрые люди напевали, обнимались и болтали, носились туда–сюда и приплясывали. Это отдаленно смахивало на вылазку «на природу» большой компании. Если бы не привкус мистики, навязчивый и неотступный. А может, самой Смерти?
Обо мне тут же забыли. Я сидел в тени высокой травы, мокрый от росы. Пробирала мелкая дрожь. Хотелось выпить. В черепке быстро пустело. Запрокинув голову, посмотрел на звезды, такие низкие и острые, что кажется, протяни руку — соберешь их, и порежешься как о горсть стекла. Прямо над макушкой, едва не зацепив волос, прочертил густой воздух крупный нетопырь:
— Ш-шут!
Я вздрогнул от неожиданности, но сразу взял себя в руки: когда сидишь на сырой поляне у костра, в туче километров от родной Уфы, в ночь на Ивана Купалу в компании веселящихся мертвецов, отчего–то не гниющих — чему ж удивляться? Точно ведь — Ивана Купалы? Числа не вспомнить…
— Да?
— Что «да»? Я тебе выпить не предлагаю… пока! — уточнил кошмарик, еще раз прочертив темное пространство и уселся мне на плечо, неловко поцарапав. Говорить ничего не хотелось, и зверек видимо, это понял, сидел молча. Таращил круглые «вороньи ягодки» с уродливой вывороченной мордочки.
— Слышь, Шут, это… — начал он, хмыкнув: — Можно тя укусить? Один раз только, а? Больно уж охота.
Я повернул голову и с интересом уставился на него — смотрите, какое интересное предложение! Однако ж, мне по–хрену, хоть прям сейчас убей, раз смерти все равно нет — эти же пляшут, и ничего! Но заставить понервничать поганого мыша хотелось.
— Кровь, кровь, моя грязная кровь,
Напившись крови моей дохнет комар, — запел я тихо, куражась — надо продать себя дороже, чем я стою.
— Шут, да я ж немножко, правда! Мне ведь и ложечки хватит, ну, не чайной конечно, но ведь нестрашно совсем! — заерзал голодный вурдалак. — Мы живого когда последний раз видали — ого–го! Да и не больно тебе будет нифига, у меня слюна альге… альгане… ну, этот короче, который обезболивает! А потом подорожничком заклеим, оно и уймется! А, вспомнил, анальгетик!
Я равнодушно молчал. Пусть еще подергается, я уже в принципе согласен, но мне нравятся его муки.
— А эти — они тебя не тронут, даже если почуют сладкое! Манька им строго–настрого запретила! Кто к тебе с вожделением подойдет — из деревни будет изгнан, и мыкайся потом, горемынушка, по просторам советской родины!
— Нету больше родины советской, — сказал я тупо.
— А насчет вожделения — это Машуля зря! Здесь, как я погляжу, отменные телки водятся, ничего, что холодные, и не такие согревались! — заржал я, хотя было нифига не смешно. Но упырек противно захихикал, подлизываясь:
— Да не, с этим–то как раз не напряг, разложишь какую захочешь, только Маньку вперед, она жадная. Я про кровь.
— Про нее, родимую, ядовитую! — кивнул я.
— Ну, так как? — пытаясь заглянуть мне в лицо, перегнулся урод.
— Валяй! — я подставил шею. Но он перепрыгнул на руку:
— Ты че, там, конечно, удобнее, но истечешь в момент, сколько зря в траву уйдет!
— А-а! — я закатал рукав: — Ну, жри, гад, враг рода человеческого!
Он аж передёрнулся весь, разинув черный ротик. Я и правда ничего не почувствовал. Глядя, как он жадно трясется, хлюпая и вздыхая, я ощутил, как время закручивается вокруг меня, распадаясь и растворяясь, будто исчезая совсем. Люди кружились у костра, кто ловко и прытко, кто тяжело и мучительно — руки–ноги разбухли от воды, слушались плохо. Особенно неуклюже и отчаянно дергался чей–то труп, сразу и не понять, кого, девушки или мужика. Что–то горестное и отчаянное было в его стараниях заставить свое гниющее тело слушаться. И будто спала вся ненужность, вся фальшь этого «праздника». Никому здесь не весело, их всех кто–то заставляет плясать, в мучительных попытках казаться, а не быть. Каким чудовищем они подчинены, кто терзает их, достает из воды, не дает естественному течению вещей взять свое? К чему им их смерть, если они ее лишены? Взглянуть один раз — и не поймешь сразу, что не так. Но… мертвое тело работает иначе. Что–то неуловимое отличает их от меня — то–ли холод тела — я вспомнил объятия Маши, то–ли что–то еще. Возможно, это и есть Смерть. А ей ведь нет объяснений.
— В вашем портвейне крови не обнаружено! — захихикал нетопырь. Сыто икнув, отвалил раздувшееся пузо от маленькой — будто бритвой сняли кусочек кожи — ранки, из которой быстро стекал ручеек. Я смотрел безучастно, как он скрывается в тяжелой от росы траве.
— Эй, ты чё, ты чё! — засуетился нечистый: — Заклей скорей!
Я упрямо покачал головой — не хочу!
— Ну, Шут, они ж могут и Маньку не послушать, растреплют тебя на кусочки, да и все!
— Буду рад! — отрезал я. Но он уже присобачивал лист подорожника.
— Отвали, я хочу умереть! — и отшвырнул его в траву. — Прямо здесь и сейчас! — уже слышу приход тихой истерики, ее знакомые легкие шаги. Я не нужен никому, ни одному живому существу в мире! А вот мертвым зачем–то пригодился.
— Ах ты, мерзавец! Хочешь без последней радости нас оставить? — взвизгнула Машка рядом и влепила мне крепкую затрещину. Я дернулся — больно все же, но легче не стало.
— Идите, идите! Нечего смотреть! — крикнула она, обернувшись, столпившимся вокруг мертвецам с жадными глазами. Они, ворча и глотая слюну, отошли к костру.
— Нет, ну надо же, стоило только его одного оставить… Эй, а ну–ка! Урод ты вонючий, вылазь! — и выволокла за шкирку одной рукой упырька, другой ловко заклеила рану листом. Тугобрюхий урод лениво отбивался, пьяно бормоча оправдания, и сваливая все на меня.
— Ай, да проваливай, ты мне мешаешь! — и раздраженно зашвырнула его подальше в траву. Села на колени, придвинулась. Распустила старую повязку, туго перемотала новую, пониже. Открылись ровные, аккуратные швы, но мне совсем не интересно, я смотрел на девушку. «Боже мой, вот что называют «прекрасной женщиной»! Завороженно следил, как она закончила, подняла огромные, как ночь, и темные, как небо, с искорками звезд от костра, глаза.
— Шут, милый, я тебя очень прошу, ну поживи еще! Ну, хоть немного, несколько дней! — уговаривала она меня, как ребенка, заглядывая в лицо и гладя по щекам. У меня щипало в глазах, я помотал головой, молча, боясь заплакать.
— Шут… Я тебя очень прошу! Ну почему ты не хочешь жить? Это же… только потом понимаешь.
Она отвела глаза, помолчала. Подняла их вновь:
— Шут, я ведь не помню уже, когда последний раз живого видела! Лет десять точно прошло…
И будто спохватившись, добавила: — Ну, ты же уже все и сам понял. Я думала тебе потом объяснить, но, наверное, все и так очевидно! Шут, мы мерзнем, и нам плохо! Кого убили, кто сам. Я вот… Эх, да ладно! Крови хочется, Шут, крови! Она живая, теплая! Даже кот мучается, — шептала она, торопливо целуя меня. Я закрыл глаза, по щекам, обжигая, бежали горячие слезы — острый контраст с её холодными губами. Образ Король встал передо мной — властный нежный, горький…
— Солнце мое, солнце… — прошептал я, прижимая девушку к себе, путаясь в длинных волосах. Нет, это не Король, но:
— Выпей меня, выпей до капли! — шепчу я, падая в черную росу, увлекая ее за собой. Холод ее тела отступал, она будто наполнялась соком, становясь удивительно живой. Коротко простонав, она обняла меня ногами.
— Король!! — вырвалось у меня мучительно, слезы застилали глаза: — Убей меня, убей!
Острая, страшная боль вцепилась в каждую клетку, я не мог даже кричать, изгибаясь и корчась в жадных руках мертвой.
— Сожри …ме–ня…
Страшный, неизведанный доселе кайф разрывал изнутри в куски, а куски — в кусочки. Извращенческое наслаждение этой ледяной болью… горячей болью… Мне казалось, я кричал, но я не слышал крика.
Не знаю, сколько это длилось, но я вдруг понял, что лежу навзничь, глядя в небо, ставшее еще ниже, надвинувшееся как крышка беспредельного гроба. Мирового гроба. Мне не было плохо, нет. Скорее пусто, очень пусто. Зато в пустоте этой не было ничего, даже желания умереть. Машка выпила меня всего, как я и просил. Приподняв голову, я поискал ее глазами — ага, вот она, скачет в ритме дикой пляски, голая ведьма, волосы хлещут по бокам, на лице лихое блаженство, в руках — кружка. А костер — до небес, единственное живое, что здесь есть. Я слабо пошевелился, меня заметили. Дамир подошел неспешно и даже чинно, в каждой руке по баклажке.
— Выпьешь?
Я кивнул. Он сразу бросил чиниться, плюхнулся рядом, едва не расплескав ношу. Мы чокнулись под примитивный и совсем неуместный тост истинных алкашей:
— За здоровье!
Отхлебнули крепкой, вонючей бурды. Это ж бражка! Пошлая деревенская бражка.
— Точно! — кивнул Дамир: — Бабка ставила, еще зимой начала, три бочки наготовила, пока мы подо льдом лежали.
Я удивленно посмотрел на него — а дом?
— Ну, мы–то с Манькой в доме как раз и были, а вот все эти, — он кивнул на веселящихся, — эти по местам. Потом уж, как оттаяло, начали шляться, к бабке приставать.
— Слушай, Дамир, а почему вы с Машей в доме, а эти — под водой?
«Где утопился — там и пригодился»! — криво усмехнулся он: — А мы–то не топились, зарезали нас.
«Кто, когда?» — я уже понял, что он слышит и так, и открывал рот только для выпивки.
— Ой, да давно! Еще до войны, в коллективизацию. Машкиных всех раскулачили, а она женой моей назвалась, все равно думали жениться, по сеновалам сколько кувыркались уж… Он тяжело вздохнул, глядя в кружку.
— А потом не дала одному работничку партийному, он ее и чиркнул, несильно, для страху. Тут я забегаю, он как метнется к двери! Я его ловить, да на Манькиной крови–то оскользнулся, а он ножик выставил. Эх, и пропорол же он меня, знатно! Долго я подыхал, мучился. А когда изошел весь, Машка и реветь не стала, р-раз себя под ребра пёрышком, да и на грудь мне упала, голубка моя. Ох, и кровищи было, знать бы тебе! Постель вся насквозь, под кроватью лужи собрались, как весной на дороге!
Он помолчал, глядя пристально и нежно на бесноватые пляски своей прекрасной мертвой ведьмы. Я напряженно ждал самого главного в его рассказе — что же было потом … даже выпивши, понимал, что лучше не спрашивать, раз он молчит. Между нами стена, толстая, хоть и зыбкая и легко преодолимая. Мы существа противоположного порядка, но мне давно очень хочется на его сторону. И если бы не проклятый инстинкт самосохранения! Но я его понемногу ломаю, и надеюсь скоро перейти эту грань…
— Нас и похоронить не успели, — бесцветный голос Дамира заставил меня вздрогнуть. — Этот гад сбежал, а деревню объявили вымершей, и как советская административная единица, несуществующей. Война прошла мимо, Хозяин постарался. Я хотел было спросить: «какой Хозяин?». Но, уловив тень благоговейного трепета на его лице, промолчал.
На мой мысленный вопрос он или намеренно отвечать не стал, или просто не понял.
— Потом обнаружили нас — Хозяин по свежей крови соскучился. Деревню заселили молодежью, детишки пошли, вкусные, — тут парень зло усмехнулся.
— Не сдержались мы, люди и давай опять бежать отсюда. Да как раз перестройка, или чё у вас там началось. В общем, в то время ты только родился, примерно. Молодежь со всех деревень в города неслась, культурные все, бля! Последней бабкина сноха была. Ну, ты понял, про которую я бабку! Она нам всем как родная, хоть и в дочки мне годится, а кому и в правнучки. Только одна живая здесь, не бросила нас: бражку ставит, пирожки печет, новости про вас, живых, рассказывает!
— Ты про сноху чё–то говорил? — напомнил я. Почему–то мне казалось это важно узнать!
— А, про сноху–то! Ну, она за сына бабкина вышла. Одна радость у ней была, сынок. Он и отца не знал. Старуха все печалится и досе, что далеко мужика убили, в войну еще, сгинул где–то. Кабы здесь притонул, так бы с ней и остался. Вот. А тут городская нагрянула, синеглазая, на каблучках. Сын–то и пропал. Поженились. Этого вот родили. Он указал кивком на парня лет семнадцати, с лицом вздорным и капризным, но очень красивым, даже я не мог не признать. «Мальчик–звезда» «Так ведь это, стало быть, он приходил — «Бабка, открывай»!
— А потом ей здесь не глянулось, по городской жизни тоска заела! Сбежала домой. Мужичок и запил. Сгорел по–пьянке. Даже не приходит — чему там приходить–то, кости одни горелые. Сноха помаялась с годик, и обратно бежит: где мой дорогой, любимый? Старуха ей: «Ах, ты блядь, сына моего сгубила!» Та развернулась, пошла в сарае да и повесилась. Дитю три года было, нет бы его пожалеть!
— Сука–баба! — кивнул я, наливая еще.
— А где она?
— Где–где… в п…де! Не показывается она здесь, на людях–то! Стыдно, мол! Да куды там, ни хрена ей не стыдно, просто сын ее так и не простил, видеть не хочет, — тут он зло сплюнул.
— А это кто? — указал я на длинного типа, в драной–передраной рубахе, совсем белого и с перерезанным горлом. Он разевал рот, но не мог издать ни звука, только мутная жижа вытекала от натуги из гнилой раны.
— Этот, зарезанный? Яшка–студент, в городе в общежитии жил, в университете учился. С бандитами какими–то связался, задолжал чего–то, они его — чирк! — и в помойку. Да не захотел он там пропасть, на родную землю запросился. Ну, Хозяин пустил! А он, вишь, не каждого пускает.
— А-а, ясно.
Меня все еще доставал один вопрос, и я, хлебнув для храбрости еще, решился:
— Дамир, а Хозяин–то — кто?
— Хозяин — кто? — он хмыкнул, и вдруг согнувшись, затрясся. Я не сразу понял, что он смеется.
— Дурак ты, Шут! — сказал он, когда успокоился.
— А че сразу «дурак»? Начал, так уж заканчивай! Сказал «а», так и «б» скажи! — вспылил я. Ишь, деловой, сам помер, так другим не надо, что–ли?
— Бэ! — поиздевался он. — Ну, а ты че, костылями на Восток собрался лечь? Так это не трудно, можем организовать!
— Организуй, будь другом! — почти крикнул я, уже чувствуя, что теряю грань между сознанием и беспамятством, уплываю в полное несоображение. Я испугался вдруг, что все эти пляски утопленников и зарезанных вокруг, девка–труп, с которой я вот только трахался, мертвый чувак — собутыльник, упырек в траве — все это чушь, бред, пьяный сон, и меня так никто и не убьет! Ужас взял так и остаться в живых, я крикнул снова:
— Убейте же меня, кто–нибудь!
Сонм мертвых лиц снова обернулся ко мне: вот сейчас кинутся, им ведь так хочется! Но нет, отвернулись, заплясали дальше.
— Куда же вы? — жалобно позвал я.
— Шут, Шут, тихо, что ты разорался? — рука Дамира тяжело легла мне на плечо, надавила: — Сядь!
Я упал в траву, надо мной закачались свинцовые начищенные звезды.
— Почему… почему меня ни…никто не трогает?! Дамир, послушай, я… я боль–ше… не могу! Кругом одни гопы, я не нужен даже своей матери! Король… она меня не любит, да, совсем не любит. Я не нужен ни… никому… Но это херня, а глав… главное, я не нужен сам себе! Я себя… «I hate myself, I want to die!!!» — снова заорал я. Я хочу к Курту, к Юре Хою, к Янке… Я к вам хочу, Дамир!
— Шут, ты меня слышишь? Уймись, ладно?
— Ну, унялся, и что? Слушаю! — я затих, замер от тупой бессмысленности собственного живого «я» в этом мире мертвых. Меня будто тащило, башкой по доскам, зацепив ногой за карусель.
— Хозяин запретил нам тебя принимать. Ты — первое живое существо на этой территории за последние… В общем, очень долгое время!
— Ну, и че? — уже равнодушно спросил я. Какая разница, чего он скажет, если ничего не изменится?
— Маша ведь тебе уже говорила, ты нам живой нужен! И вообще, я думал, ты и сам все понял, когда с ней в траве покувыркался! Мы будем пить тебя постепенно, по капельке, чтобы на всех хватило. Наши девки будут иметь тебя, вытягивая жизнь. А мы просто потихоньку, очень маленькими глоточками, почти незаметно пить кровь. Пока ты весь не изойдешь и не иссохнешься. А потом, когда весь кончишься и больше нам не будешь пригоден, мы тебя выбросим. Окажешься в голой степи, и враз погибнешь. Но не радуйся, ничего особенного не произойдет. Тебя просто не станет. Совсем. Ты станешь прахом. Души–то у тебя нет, она отправится прямиком в ад, а все остальное из тебя высосем мы.
— И че, я даже подохнуть нормально не смогу? — до меня начало доходить: — Но я же не хочу так, я к вам хочу!
Я уже сам не понимал, что говорю, да и что конкретно хочу, тоже.
— А знаешь, Шут, ты мне понравился, я хочу, чтоб ты остался! Барагозили бы вместе! — доверительно зашептал Дамир, наклонившись.
— Вот что, ты должен пойти к Хозяину, и…
— Эй, чего вы тут такое базарите? — подлетел вдруг недавний упырек. С морды его на меня капнула слюна.
— Ничё, вали давай отсюдова! Лезет, как будто я ему сто рублей должен!
— Не–не, эй, упырь, как там тебя? — протестующе замахал я руками: — Погоди!
— Чего? — блеснул он злыми глазками, садясь мне на колено.
— Пошел, пошел, сказал! — Дамир замахнулся ударить его, но я не дал.
— Постой, ты молчишь, так может он расколется! Скажи–ка мне, упырь, — я крепко зажал его в руке, — кто этот Хозяин всемогущий, о котором вы все тут трындите, и никак не договариваете? Уж не Сам ли господин Тьма, то бишь Дьявол по–русски?
Меня разобрало, и я решил идти до конца.
Дамир опустил голову, сжал кулаки и упрямо молчал. Упырь мялся и кряхтел, поглядывая на него.
— Ах, так! Вот как, значит, да? Вонючая, гнилая мразь!! — заорал я, вскакивая.
— Ну, погодите! СУУУКИИ!! Что, у меня своей воли нет? — и не разбирая дороги, попер напрямую через толпу мертвецов, отталкивая, и наступая на скользкие ноги.
— Пошли вы на хер, дались вы мне! — орал я. — Что, я без вас не обойдусь? Сами подохли, и рады, дерьмо!! Помочь не хотите?!
— Шут, Шут, Юра, да ты что? — побежала за мной Машка, хватая за рукава. — Юрочка, успокойся, ну?
— Отвали, дура дохлая! — резко вывернувшись, я размахнулся всем телом, и тяжело шлепнулся в черную воду озера.
— Провалитесь вы все, уроды! Мертвые, а такие же скоты!
Шумно плюхая руками и ногами, я плыл все дальше и дальше от берега.
— Вот сейчас… еще немного… давай, Шут, ты уже почти–почти… — бормотал я, сплевывая воду и больно задыхаясь. Брага тяжко качалась в голове, руки быстро наливались холодным свинцом. Плыть становилось все труднее, будто в загустевающем киселе. Я уже порядком нахлебался, в рот набилось грязи, но я радостно загребал, чувствуя приближение заветной черты.
Когда силы почти не осталось и исход был близок как никогда, я вдруг рванулся повернуть голову, посмотреть последний раз на берег, на звезды, а затем сложить руки, и…
— Гос–по–ди!! За что?! — простонав, беспомощно опустился в вязкий ил, сел по пояс в воде, обхватив голову руками, и завыл, как бездомная собака: я был на другом берегу. По ту сторону озера весело, куражась над идиотом–самоубийцей, моргали и подпрыгивали золотые и рыжие черти купальского костра утопленников. Озерцо оказалось размером с суповую тарелку, и мне, до блевотины накачанному брагой, и то хватило сил его переплыть!! Сиди теперь, кретин лопоухий, придурок, суицидничек хренов в холодной грязи и вой, сколько влезет, пока не надоест!
Скоро я устал скулеть, затих, но тут же начал трястись снова: сырая, противная одежда плотно облепила костлявые лопатки, пробрал зверский озноб. С трудом поднялся, крупно дрожа, и горько поглядел в воду: вот, а кабы вовремя остановился, сложил руки–ноги, сейчас бы уже не мерз, не горевал и, вообще, был бы тих, тяжел и бледен, и какой–нибудь здоровенный донный сом, шевеля усами, смачно пробовал меня на вкус толстенными губами… Но мне было бы уже все едино, темно, тепло и не больно… Эх, да чего уж теперь! Я почти трезв от холода, и уже не смогу вновь покуситься на свою никчемную жизнь, и знакомство со вкусом страшнейшего греха — самоубийства — придется снова отложить.
— Плыть, иль не плыть — это вопрос? — выстегиваясь, спросил я у своего мутного отражения. Оно скорчило мне рожу, я пнул его ногой, рожа задрожала, как от обиды, и развалилась.
— А пошли вы все на хре–е–е-ен!!!! — проорав изо всех сил, я плюнул в сторону мертвецов, и показав им fuck пошатался в глубь прибрежных черно–серебристых ив.
— Ну и хер с вами, засранцы дохлые! — злость разобрала с головы до ног. Я принялся орать и прыгать, обдираясь об острые веточки и камни.
— Завидуете мне, да?! НУ И ЗАВИДУЙТЕ!!! Сволочуги, суки, блевня дерьмовая! Гниль неживая, а я вот живой, да, я ЖИВОЙ!!! Я теплый, я бухаю, я с девочками трахаюсь, с настоящими, горячими, мягонькими! Я могу колоться и блевать, сколько влезет! Могу цветы нюхать, и на солнце сгорать, а вы — просто холодное дерьмо! Ха–ха–ха, да пошли вы в жопу, мразь!!!!
Я прыгал и метался, меня разносило на атомы истеричное чувство собственного существования, жалкого, но… ПРЕКРАСНОГО! О, жить сейчас и в самом деле было так остро, пронзительно, так… больно и холодно… страшно и безнадежно! — что я затих, и уже осторожно пошел вдоль берега, куда — не знаю, лишь бы подальше от этих. Я вдруг осознал, где нахожусь, с кем пью, и что девчонка, изнасиловавшая меня в траве — мертвая… Господи, они же гниют, а я — среди них?! Чем больше я постигал ЭТО, тем глубже растекалась хлипкая сырость внутри. Я крепился, стараясь не дать ей разрастись до панического ужаса, ведь тогда я потеряю способность соображать, и считай, пропал!
«Блядь, куда я попал, где мои вещи???!!»
Так, теперь ты, Шут, втихаря ищешь, где здесь выход из деревни, и мотаешь отсюда, пока не поздно. «А может, позволить им это «поздно»? Я ведь так хотел…» Вот именно, хотел, а теперь не хочу! Или хочу?.. Ой, нет, я уже не знаю! Может, не сейчас? Да ну это все, бежать отсюда, пока они все гуляют на берегу, и пригляда за мной нет!
Я, абсолютно трезвый, но ужасно мокрый и мерзнущий, побежал, стараясь прятаться за деревьями — в лунном свете меня отлично будет видно с другого берега. Впереди хрустнула ветка, я насторожился, и чуть замедлил ход. Всмотрелся изо всех глаз. Тревожно! Но нет, вроде, ложная тревога. Хотя, я как–то не очень уверен… Да нет, вперед! Но для верности оглядеться, мало ли что? Все тихо, теперь…
— А–а–хээээ… — только и выдавил я, сделав шаг назад и инстинктивно выставив руки: прямо на меня смотрели огромные ледяные глаза чудовища с иконы!! Я сразу узнал и этот сатанинский взгляд, и это нечеловеческое лицо. Темная, лохматая, вытянутая фигура в сырых лохмотьях не делала ничего, просто сжирала мою душу через глаза, и оно шло на меня.
— Гос–по…ди…спаси мя… каюсь, сохрани, Господи! — шептали губы спасительную чушь, но я безнадежно корчился, зная: все, вот это и есть конец! Я хотел смерти, но кто ж знал, что это такой ужас?
Запнувшись за что–то, я упал на спину, оно остановилось, наклонившись и разглядывая меня — видно, думало, что оторвать первым. «Боже мой, я уже не смогу подняться, что же делать?» — метались как тени, отчаянные мысли. Я хотел было закрыть глаза, но не смог, они сами открывались еще шире, и ловили каждое движеньице урода: вот он коснулся груди, вот почесал черную бородку. Я ждал, а он и не думал жрать меня, видимо, растягивая удовольствие. Действия его какие–то обыденные и усыпляющие страх: отжал волосы, хмыкнул, поправил грязную рубаху. Вот только воняло от него жутко — сырым разложением. И глаза все такие же огромные и морозящие.
Он вдруг потянул руку с черными когтями и открыл рот!
— Нее–ет… — прошептал я, закрывая лицо руками и скорчиваясь.
— Ну, ты долго будешь валяться, как там тебя? — грубо пихнуло меня в бок, уж не знаю что — то ли голос низкий и хриплый, как у блэк–металлиста, то ли нога.
— Жри меня скорей, не мучай, — попросил я не открывая лица.
— Да пошел ты, жрать мне без тебя нечего! — презрительно сплюнуло оно: — Я те сказал — вставай, значит, вставай! И вообще, я тебе не «оно»! Че, думаешь, если помер, значит, не мужик? У меня все на месте, можешь не сомневаться! — глумилось оно, а я все еще боялся взглянуть.
— Ой, и за…л ты меня! — выругалось оно (или он?) плюхаясь рядом со мной в траву.
— Давай уж, лучше покурим!
— У меня сигарет нет, — нерешительно начал я, голос сел от пережитого. И вправду, так не к месту накатило желание — курить!! Когда я последний раз затягивался? — не помню!
— У меня есть, только не здесь! Щас будет!
Говорил он так просто и спокойно, что я решился и осторожно отнял руки от лица. Парень лежал рядом со мной в траве — мертвец как мертвец, длиннющий, худощавый, в кости пошире меня (а уж это не трудно, я глист еще тот), волосы мокрые и грязные по плечам путаются. Он повернул голову и глянул на меня — снова передернуло от его злых глаз. Чистый блэкушник, только одет как хиппарь–нарк, и рожа…. А че рожа, просто corps–up, не видал я что ль, таких? Да подумаешь, еще один мертвец! Только пусть не смотрит на меня… Он зло ухмыльнулся, и отвел глаза.
— Вот и сигареты! — ткнул пальцем в небо. Недавний упырек сбросил ему на живот пачку и зажигалку, стрельнул глазками надо мной, и исчез в ночи. Мы закурили.
— Ну, как тя там звать–то, урод? — равнодушно бросил он.
— Шут меня звать. И я тебе не урод, а нормальный панк! — вдруг взбесился я.
— Да уж, уродов и почище тебя видали!
— В зеркале? — приперло съязвить.
— А ты как думаешь? — и снова проел во мне глазами дыры.
— О, Господи? — зажмурился я.
— Ага, вот то–то и оно, — рассмеялся он. — «I hate myself, i wont to die!» — пропел дрожащим голосом, куражась. Меня это больно задело — ах ты сволочь! Да кто тебе позволил на самое больное место мне гадить?!
— Во–во, позлись, позлись еще! — ржал он, стегая по душе. Потом резко заткнулся, а я уронил сигарету, дернувшись — пальцы обжог.
— Слышь, Шут, а чё ты приперся вообще сюды? — нарушило оно молчание. Я никак не мог думать о нем в мужском роде — слишком непонятное и неопределенно страшное.
— Ну, и? — выжидательно вперилась в меня эта гадость.
— А? Я … Э–э–э, ну… — завел, сам себе удивляясь — о чем это я?
— Я говорю, вот ты приперся сюда, и чё? — втолковало оно, как придурку.
— Я? — и тут до меня дошло: — А ты, типа, и так не в курсах? Вы ж здесь все мысли читаете.
— Ой–ой, просёк! — и, запрокинувшись, уставилось в небо. Помолчали.
— Ты мне правду скажи, ведь нифига тебе этот «Харлей» долбаный не нужен, отговорки! С таким же успехом мог бы и в Америку свалить, стопом!
Мне казалось, сейчас оно заржет, но почему–то, видимо, сочло за лучшее промолчать. И я тоже. Не буду ничего говорить. А то вдруг поможет?
— Не, Шут, я тебе так скажу! — он сел рядом со мной, впрочем, взгляд направив на костер — наверное передумал пугать.
— Лучше выпьем и споем, а?
И он щелкнул пальцами, к нему тут же подбежала девушка — очень–очень красивая, бесподобно красивая девушка, в рваном где надо платьице, которое видимо не стирала пару веков. Волосы некогда золотые, лицо бледное как и у всех, стеклянно–синие глаза. В каждой руке по больщущей кружке, полной браги — их она несла с заметной натугой, хотя учтивой улыбки с лица не спускала. Бедная мертвушка — на животе большая, черная, обгрызенная какая–то рана.
Мне нисколько не противно, только жаль ее, безобразную красавицу. Страшилище рядом со мной приняло другую кружку из ее рук, потянуло девушку за шею к себе, и жадно припало к ее темным, потрескавшимся губам. Она со всем порывом, на какой способна, ответила ему. Я заметил, как из уголка её губ стекает струйка темной жижи — то–ли кровь, то–ли разлагающаяся слюна. Меня невольно тряхануло. Оно оттолкнуло её, грубо и молча. Девушка вздрогнула, будто собираясь всхлипнуть, но быстро пришла в себя. И снова учтиво заулыбалась. Отвернувшись, украдкой утерла гнилую струйку с подбородка, будто стеснялась, что мертвая. Я не посмел вздохнуть, унижая ее жалостью, и сделал вид, что все прекрасно. Но все пошло прахом, когда жуткий сосед, чокнувшись со мной, и отпив, вопросительно кивнул в сторону девушки, глядя на меня, будто спрашивая — будешь? Тут я не выдержал и инстинктивно отшатнувшись, плеснув на себя из кружки. Девушка болезненно сморщилась, отступила на шаг, умоляюще поглядела на существо. Глаза ее скулели: не мучай, отпусти ты меня! И мне почему–то показалось, что это относится не только к данному моменту, но и вообще ко всему ее жалкому… м–м–м, существованию? Или как назвать ее положение?
Брага была крепка, крепче прежней, и язык мой больше не советовался с головой.
— Слушай, как тебя там? — начал я нерешительно, чтобы забить муторный страх. Девушка нервно переводила взгляд с него на меня, и обратно, видимо почувствовав, уж не знаю чем, что речь пойдет о ней.
— Иди, — коротко кивнуло Оно покойнице, и та удалилась, неуверенно оглядываясь.
— Зови уж «Оно», раз начал! — усмехнулся он, глядя на меня.
— Да нет, неудобно так, как–то!
— А чё «неудобно»? До этого удобно было, ни че?
— Не, ты меня не сбивай! — уперся я, снова ощущая родные объятья Господина Зелена Змия: — Ты мне скажи вот че! — и тут я глубокомысленно заткнулся, как и всякая пьянь, которая резко забывает, что собиралась только что сказать. А вспомнить уж никак!
— Хм, ты о чем? — он сделал вид, что озадачен, а сам, гад, улыбался! Ну, нет, меня не собьешь! Поглядев на костер, я увидел множество девченок, красивых даже отсюда.
— Слышь, а че они не гниют? — чувствуя себя совсем тупым, спросил я. А разве, вообще, это хотел спросить?
— Че — не гниют? Гниют, — ответил он совершенно спокойно: — Только медленно очень.
— А-а… А это… — я, кажется, опять забыл, чего хотел. Да блин!
— А, да, отпусти ее, что ль? Че мучаешь!
— Кого?
— Ну… ее! Девку эту. С которой ты целовался.
— А-а, во–он ты про че! А я‑то думаю, че прикопался, че надо!
— Ну, я и говорю! — обрадовался я.
— Да–да, вот ты и говоришь, — заржал он. Я захихикал вместе с ним.
— Нет! — вдруг совершенно серьезно, как ударил он, уставясь на меня.
— Чего — нет? — не въехал я.
— Ничего нет! Иди, погуляй лучше! Когда еще придется?
Он вскочил, и поволок меня за собой к костру. Там бренчали балалайки, свистели и переговаривались дудки — а вместе так весело, так разухабисто! Мертвецы, кто посвежее, половчее отпясывали, а кто поплоше — неуклюже топтались, щеря черные зубы. Девки визжали, мужики ухали. Шальной дух праздника не на жизнь а на смерть — буквально! — витал в воздухе вперемежку со сладковатым приторным духом разложения.
— Эх, да так твою растак, да мать твою об угол!! — заорал я. Удалая дурь ударила в голову, и я пустился вокруг костра. Ноги слушались плохо, но мне наплевать.
— Хой–хой, ненавижу жизнь!! Оп–па, под–дохнуть!!! — вопил я, сколько есть дури. Мертвецы ржали, и радовались. Видимо, даже для них я — потеха. А я не жалуюсь — на то и Шут.
— Веселись, народ! Гуляй! Эх, да мать твою, грех!
Мне стукнуло в башку — а не сигануть ли через костер, в человеческий рост?
— И сигану!
Разбежался — и р-раз!!! — небо закачавшись, накренилось, я поцеловался с землей…
…и это последнее, что я помню, лежа в сырой и затхловатой темноте. Башка разламывается, особенно в затылке. Я пощупал его деревянной рукой — шишка! Огроменная шишара, какой у меня еще не бывало! Эй, а может у меня и сотрясение имеется? Раз «чердак разобран», значит, я где–то неслабо навернулся, по–пьянке обычное дело. При сотрясениях, кажись, слабость и тошнота, насколько я помню из детства. Но ведь с «пошмелья» то же самое! Ну, так и как же я пойму, где последствия веселья, а где сдвиг мозгов? Руки трясутся при мысли о том, чтобы встать. Блевать тянет. А лежать–то жутко неудобно — под спину, пониже лопаток, давит камень — не камень, кирпич ли, хрен поймешь! И ведь, зараза, как раз где у меня два позвонка не на месте! Но сдвинуться толком не могу: только шелохнуся, все внутренности решительно ползут к горлу, протестуя. Нет, лежать тихо, и ждать, пока само уймется!
Я полежал тихонечко, прикрыв вылезающие глаза ладошками. Скоро стало будто легче, я решился даже аккуратно их приоткрыть. Подумал — да! без последствий! — что надо бы уже выяснить, где хоть валяюсь. Пошарил рукой — доски, сыроватые, вроде некрашенные, кожа не цепляется за обколупки краски. Когда глаза привыкли, разобрал, что надо мной низкий потолок, кое–где рассохшийся, и в щели свисает какая–то дрянь, типа пакли. Свет не пробивается нигде, это мне показалось. Неловко повернув башку, вгляделся в угол, там что–то… дежа–вю какое–то! Я здесь был? Какая–то доска, паутиной затянутая, и эти… не–ет! Ма–ма! Опять они — ГЛАЗА! Это ТОТ ДОМ!!!
Бежать, прочь бежать! Ужас застил разум, и я, ободрав колени, расшибив левую кисть, помчался прочь. На пороге споткнулся, зацепился щекой за гвоздь, но, почти не заметив этого — скорее, только скорее! — вылетел из кошмарного дома, и помчался по росе не знаю куда, лишь бы отсюда подальше!!
Силы пьяницы и ганджамана надолго–ль хватит, и вскоре я перешел на шаг, задыхаясь. В груди зверски ломило, каждый вдох давался с трудом, слюна вязла во рту. Пошел совсем тихо, сбиваясь, потом остановился, тяжко схаркнув тягучую смесь крови и слизи. Я не лечился и матери не говорил, но кровью харкаюсь давно, и так надеялся там, в городе скоро подохнуть, злорадно подозревая у себя чахотку. Врачи чего–то вяло прописывали, но кому это надо? А вот сейчас я не смогу удрать, и умру от ужаса. Страх колотится в горле и голове, сводит живот, но бежать больше нет сил. Только быстро идти. И то больно очень, но мысль о том, чтобы дожидаться, когда меня сожрут эти глаза в углу — невозможна! О, Боже, позволь мне умереть самому! Отправь меня в ад, но только не к нему! Кровь колотилась в голове и конечностях, и вдруг разом стало больно во всех ушибленных и ободранных местах. Я не знал, за что схватиться. Собрал все силы и заставил себя бежать, как–нибудь, почти не дыша, но бежать. Колени плохо сгибались, я то и дело переходил на шаг, но снова пускался в бег. Из разорванной щеки текла кровь, измазала уже всю грудь, я зажал ее рукой. Кровавая слизь запекалась на губах, стекала изо рта, но некогда даже схаркнуть. Впереди возникла знакомая калитка, ноги сами несли к бабке. В глазах помутилось и совсем потемнело, они готовы были вылезти, так давило изнутри. Голова горела и летела к чертям. Я втиснулся в калитку, и, чувствуя удушение полное, рухнул на крыльцо. Прохрипев:
— Баб…ка, поды…ха…ю… —
— кровь хлынула горлом, и хватая скрюченными пальцами образ смеющейся Король, провалился в бездну.
— Ну, че, будем ждать когда сам прочухается, или может, пнём его под ребра? — зло предложил противный, тощий какой–то голос.
— Не–ет, он сам уже очнулся! Вон, смотри, веки дрогнули!
Боже, снова оно! Нет, мне точно от него не убежать!
— Ну, и чё тогда, пусть встаёт! — это кажется Дамир сказал, раздраженно так! Вот подлец, и он здесь. Но нет, глаз я не открою! Пусть так жрут, хотя бы не видеть их.
— Нет, пусть сначала путем в себя придет, сам глаза откроет. Видишь же, не хочет с нами говорить. Или не может, вон кровищи–то че! — это оно.
— Вот и я говорю, — опять тот первый тощий голос.
— А может, я сначала его к себе возьму, больной ведь он…
— Машенька, а тебе слова никто и не давал! — ласково так, оно.
— Не, ну просто, он ведь не протянет долго и сам, чахотка, что–ль?
— Маша, заткнись! — оборвало Оно бесцветно. Девушка вздохнула. Ей что, жаль меня? Может, она одна, кому жаль? Они еще что–то говорили, а я лежал, затаившись. Выходит что же, я до бабки добежал, а она меня этим сдала? А я‑то, дурак! Она ж с ними заодно, чего я хотел, на что расчитывал? Дамир же сказал, старуха хоть и единственная живая в деревне, но бражку им варит. А на черта мертвым бражка? И вообще, на черта они все тут? Шляются, бухают как путёвые, девки эти их гнилые — я вспомнил струйку, поспешно стертую с губ той девицей с рваным боком. И мне стало так тоскливо, так бессмысленно. Жить, умирать — ерунда! К чему это все? Есть ли смысл, и есть ли разница? И я открыл глаза, обречённо. Да, все как я и знал: тот самый дом, только я лежу не на полу, а на кровати. Жестко, но достаточно удобно. А оно проклятое, сидит на табуретке возле меня, скрестив ногу на ногу. И равнодушной насмешки в глазах больше нет. Черная бездна, как она есть, ничего не выражает… в человеческом понятии, а тому, что в ней есть, нет определений. Я смотрю как прикованный в эти адские глубины, и не могу ни о чем думать. Он молчит. Я тону.
— Ну, все, хватит! — он смаргивает, и наваждение спадает, я вскрикиваю, будто ударили, мне холодно и больно везде сразу.
— Вот видишь, как больно без ада, как к нему привыкаешь! — ни тени улыбки, или иронии, или хоть какого–нибудь чувства. Я ёжусь, и пытаюсь натянуть на себя одеяло. Кое–как закутавшись, не чувствую себя легче, но как–то привычнее, что ли. Обретаю способность оглядеться:
— А где все? — голос больной и хриплый, отзывается в груди тяжелым кашлем.
— Кто?
— Ну, здесь были… Маша, Да…Дамир… еще кто…кто–то!
Господи, как больно говорить! И как хочется ЗВУКА! Я боль всегда глушил портвейном с «Биолимом», «колёсами» и музыкой, громкой, оглушающей, панк–роком, песнями исковерканных душ.
— Музыки я тебе не дам, а то ты способность соображать хоть чуть–чуть утратишь! А Машку и всех прочих я выгнал.
— А… кха–кха…
— Хочешь про бабку спросить?
Я слабо кивнул — именно это.
— Ты не был там. Ты никуда не бежал, как упал здесь, так и провалялся. Кровью харкал, лицо себе ободрал, локти расшиб. Припадок у тебя случился. Кстати, ты в курсе, что ты псих? Глюки это все. А мы подождали, когда кровью исходить перестанешь, и на кровать кинули. Мы — это я и слуги мои. Да–да, Маруся, Дамир, и еще много–много всяких. Не только мертвых людей, но тебе это ни к чему.
Я молчал, скорчившись. Мне будто плохо, но в то же время и всё равно. Как понять это всё, а с другой стороны понимать–то нечего.
— Нравится тебе Машка?
Я кивнул машинально, она ведь так похожа на милую мою гадину Король.
— Ну, так вот, и бери ее себе. Ты ей тоже глянулся — живой, как будто, пока!
Я слабо запротестовал: а Дамир?
— Дамир мудак! Какой, на хрен, Дамир? Твое, чтоль, дело? — он впервые вспылил, надо же.
— Но ведь Маша — мертвая, — тихо прошептал я. Не было сил возражать.
— А ты, чтоль живой? — зло рассмеялось оно.
— Вот не обольшайся! Одна видимость. Я — живее тебя. Целее уж точно. Ты кровью харкаешься, а уж печень — просто нечего сказать, и мозги не на месте, буквально, башкой треснутый. Легкие вообще гнилые. Чахотка у тебя нехилая, знаешь, да? И Король заразил давно.
Он замолчал. Я, скрючившись, еще сильнее, почти не дыша, замер. Слезы навернулись на глаза: эгоист, урод чёртов! Ну, как я мог не думать о Король? Сам–то подохну — и хрен со мной! — от этой мысли по щекам потекли ручьи и в груди сдавило. А вот Король, малышка моя, только в том и виновата, что со мной связалась! Да если бы она знала, небось, и близко не подошла! О, как же больно! С огромным усилием перевесился на пол, и схаркнул снова. Я чудовище. Я ее убил.
— Дурак ты, Шут. Убил! Тоже мне, киллер! Вылечится она, у нее–то все путем будет. Она девка здоровая. Еще, таких, как ты кучку и ведро замучает!
Я помотал головой — да пошел он! Я не дам кому попало, хоть он из самой преисподней, трогать мою любовь!
— Нет, Шут, фигня это все. Ты мне лучше вот что скажи: умереть хотел?
Я открыл глаза и уставился на него — и что?
— И хочешь, да?
Я смотрел, выжидая.
— Нет, ты скажи! — нажал он.
— Да.
Что, убивать наконец–то будет? Нет, от него не хочу!
— Давай я сначала скажу, а ты подумаешь! Дело все в том, что без твоей воли никто здесь тебя не убьет! Ты ведь не утонул. То, что ты хочешь умереть, еще мало. Ты должен разрешить это сделать. Мне, Дамиру, еще кому–то! Но если, допустим, Дамиру, то он сначала должен ко мне придти и спросить. И знаешь почему?
Я помотал измученной головой.
— Потому что я — Хозяин.
Я тупо смотрел — ну и что?
— Я — Хозяин! — повторил он, и меня будто ударило!
— Хо… Хозяин? Хозяин — ты? К которому за смертью идти? — я сказал это слишком громко, и снова закашлялся. Он удовлетворенно кивнул.
— Да. А теперь слушай с особым вниманием. Вот все как есть, с самого начала. Это озеро — один из входов в ад. Непосредственных и практически прямых. Неслабо, да? Сам Дьявол из него пил. Не веришь? Ну, и дурак. Не важно, важно другое. Я жил давным–давно, люди еще под князьями ходили, первыми, слово такое — «князь», только появилось. Шлялся по свету, безродный, с мечом в руках. От одного к другому переходил, наемником. Так и звали меня — Блуд. Послали меня на разведку, я через лес на озеро вышел, хотел умыться — глядь — сидит человечек. Низенький такой, черноглазый. Я много повидал, всюду пошлялся, и потому для меня — ничего особенного. Ну, не похож на местных, ну, и мне–то? Мало ли, не отряд же их! «Что — говорит — пить хочешь? Пей!» Я попил, а он мне и говорит: «Вижу, мол, я подлым делом ты живешь, человече! Это хорошо!» Я хотел было его тут же и зарубить, а он меч у меня, как у ребенка из ручонок вынул, и об коленочку тощую разбил. «Эх, говорит, дурачина, на кого машешь прутиком своим? Но что человечка мелкого ни про что зарубить хотел — тоже хорошо! Грязное это дело. Вижу, говорит, жить ты очень хочешь, да не просто жить, а подольше, да быть поглавнее! А что, если вечно?» Удивился я, как, мол, вечно–то? А он смеется. «Я, — говорит, — знаешь кто? Сам Чернобог! И обитаюсь аккурат под этим озерцом. В него нырнешь — больше не вынырнешь, если я не отпущу. Только очень уж редко люди здесь ходят, не тонет никто. Не творит неправды, не страдает, не гибнет. Крови хочу и подлости человеческой! Согласись мне служить, и будешь большим Хозяином! Карать и миловать, и жить вечно будешь!» Не сказал, что помереть сначала надо, гад. Согласился я, а он башкой меня в воду. А как захлебнулся, он меня встряхнул, я глаза и открыл. Смотрю, свет будто переменился. Не то все вокруг совсем. Как бы навыворот. Ну, ты увидишь сам, коль согласишься. Вот, встал я, а он мне и говорит: «Пойди теперь да приведи сюда князя своего с людьми, утопи их всех, они твоей дружиной станут». А мне что ж, пошел и привел. Место тихое, любо–дорого, они купаться полезли, и все, как один, перетопли. Потом мы их и поделили с Чернобогом, кого он забрал, других мне отдал. А Чернобог–то велел мне деревню здесь заложить, мы и заложили. Люди стали приходить и оседать здесь. Те, дружинники надоели мне, сгнили совсем, и есть просили, шлялись тут по ночам, утаскивали кое–кого, чуть весь народец мне не распугали. Я от них избавился — положил в землю, так они там и сгнили. А сверху камни поставил для издевки — мол, первые герои–основатели! Да и черт с ними. Обосновался я, значит, прочно. Люди приходили сюда жить — и топли. Много топли. Вот ты и спроси — а чего ж не бросили это все, не сбежали, деревню не уничтожили? — он криво усмехнулся на мой немой вопрос. — А вот то! Кто ж им даст? Они здесь жили, как будто ничего не соображая. Как во сне. Атмосферка здесь такая, дух особенный. Вот и ты же вроде как сразу почуял, куда попал, а умом–то не принял. Вроде так и надо, ну, мертвые — и чё? Верно же говорю? То–то и оно. Вот и они так жили. До старости мало кто дотягивал — жадничали мы с Чернобогом. Порой крепко спорили при дележке новеньких топленных, они свежие, каждому охота побольше таких. А деревни как бы две стало — живых и мертвых, знаешь, как если бы день и ночь в одно время сойтись могли. Кто из живых знал — сами бегали ко мне тайком, просили повидаться со своими. Я разрешал, а что ж? Они долго не задерживались потом: тосковали очень, сами топиться бежали. Глядишь, потонет парень, туды–сюды, уже девку свою ко мне ведет: вот мол, милка моя, ко мне сама притонула. Ну, что ж, я их благословлю — пусть вместе гниют! Одно не ладно — жрать просят, нет–нет, да и уворуют кого. Ну, я их отправлю то в соседнюю деревню, то на дорогу, чтоб своих сильно не пугать. Так и жили. И всем было не то, чтоб есть на что жаловаться. И Крещение пережили, и Ивана Грозного. Кого не надо — никогда не пускали сюда. Живым–то и лучше с нами было. Они нам жертвы иногда: отдадут пару–тройку своих, да и то — как сказать, отдадут? Приходи, милуйся, коли не страшно! Все ж рядышком. Зато спокойно, ничего не трогает по большому–то счету. Что в большом мире творится, мы только от пришлых узнавали. Только и того, что кто к нам придет — больше не уйдет. Вот, как ты.
Тут он снова зловеще сверкнул немигающими глазами, от чего в груди отозвалось больно.
— А ты, небось, удивился, чего я на такой смеси разглагольствую — словцо оттуда, другое с твоего языка? Ну, да ладно, дальше, значит! А ты потерпи еще, недолго осталось. Вот потом уже, когда все эти дела страшненькие начались, войны да революции, так даже я поразился, как оно бывает, сколько ж в мире злой подлости расцвело! Вот тут Чернобог разошелся, поднялся. Бросил нас, на что мы ему, когда зла в мире столько, что на всех их хватит, да еще с лихвой останется? А я‑то полоноправно никогда не хозяйствовал, оно и разболталось! В тени держать деревушку не умел, нашли, кого не звали, набежали. Я только глазами хлопал, дурачок, что с моими владениями и холопами творится! И коллективизация, Машку когда прирезали, она тебе, небось, рассказывала? Я вообще–то, всяких пристрелянных да прирезанных не жалую больно, если только особо упросят, а так — иди, лежи где упал, на что мне? Но Машка — очень уж хороша! Я их и оставил, так в избе и обретаются. А им как завидуют мои — все зимой подо льдом, а эти в доме! Ну, а что ж, фаворитка моя, она и есть! Еще живая была, а от меня не воротила нос. Вот и молодец, теперь никто ослушаться не смеет, знают, за такое я больше не позволю со дна подняться, разлагайся!
Но очень уж меня это раздербанило — в моих пределах кто–то решает, кого карать, кого миловать! Я пугать их взялся. Гибли они нещадно, комсомольцы–добровольцы кукуевы. Себе я их, конечно, не брал. На хрена они мне? Да только им страшнее против высочайших указаний пойти. Никуда они не уходили, пёрли валом просто! Замучился я с ними! Ну, а потом случай помог. Прирезал этот уродец непрошибаемый нашу милую парочку, да и был таков — деревня, мол, нерентабельная, и ну ее к чертям! Только я вздохнул облегченно, вот думал, и всё! Но ошибся. Война приспела. А уж это и вовсе такая сила, сама по себе неизмеримая, куда уж мне, мелкой сошечке против неё переть! Она весь мир с ног на голову поставила, кишки перемешала. Ох, сколько я молодых, сильных потерял тогда! Уходили они, и больше не возвращались. А кто возвернулся всё ж, тех война догнала. Не тонули они, а калечные тихо догорали по избам. Эти успокаиваются после смерти, уходят на совсем, и мне их уж не достать. Вот у бабки твоей где–то мыкается муж. А она в память о нем и нас не гонит. Над ней у меня власти нет, я ей волю дал, но она не ушла, а куда?
И он замолчал надолго, опустив глаза. Я лежал тихо, стараясь дышать аккуратнее, каждый вздох — чистая боль. Кровь больше не шла, но надо попридержаться. А Хозяин стал грустный какой–то, даже на живого смахивал. Но жалко мне его не стало — себя пожалеть надо, а его за что? Будь он проклят!
— Ну вот, Шут, — вновь заговорил он, подняв колючие глаза, но они меня больше не пугали, боишься ведь того, чего не знаешь.
— Я тебе всё рассказал, как есть. Но не думай, что я всем так откровенничаю.
— Со всеми, — поправил я механически.
— Чего? А, ну, да! Смотри, только не расслабляйся, я в любом случае Хозяин здесь, и неуважение к себе жестоко наказываю. Но это так, к слову. А вот теперь слушай особенно внимательно. Сюда ты приехал помирать. Я аж поразился, первый раз такое вижу! Но это совершенно точно, а все твои отговорки — пустое. Ты боишься, как оказалось. Ну, я тебя понимаю, сам, когда Чернобог топил, тоже отбрыкивался. Жизнь — она ведь сла–адкая! — он аж облизнулся. — Но главное — слушай! — у тебя нет выбора. Тебе недолго осталось. Все одно, скоро помрешь. И года не протянешь. Высохнешь, как, даже сам не соображаешь уже. Болезнь ведь скрыто тебя ела, а ты ей усиленно помогал. Ну, это дело твое, главное — всё, вышло твое времечко невеселое! И я — твоё спасение. Согласись умереть здесь, по моей воле, не жди, пока дотлеешь в муках, всё нутро выхаркаешь по кусочку!
Будто в подтверждение его слов, я тяжко, трудно, больно закашлялся, давясь воздухом, и выхаркал крупный плотный сгусток с гноем, и во рту остался четкий вкус гнилой крови. Меня затрясло, тоска сжала сердце — я умираю, наконец! Господи, как горько от этой чудной и желанной правды! Как страшно…
— Вот, — он удовлетворено кивнул, разглядев лужу нахарканного. Меня скрутило от отвращения, потянуло блевать. Я отвернулся, сжавшись в комок. Я не верил в свой конец.
— Ха, да ты не дослушал! Ты же сразу и быстро перекинешься. Да, будешь гнить, но очень, очень медленно. Это только от меня зависеть будет. Да и тебе это все равно станет, в ноль! А заживо гниешь — вот что нехорошо!
Я поежился — это точно. Он, кажется, прав?..
— Представь — останешься с нами, все девки твои! Никто не унижает, не давит и не гнобит. В универ не надо! И все, все поддерживают. Любая девка, повторюсь, любая — твоя! Ты думай. А дома — ты подохнешь. Загнешься. И что? — он возвысил голос.
— Мать вздохнет спокойно, Король не заплачет. В универе все документы уничтожат, а эти все обрадуются даже, — тихо продолжил я. Да.
— Да? Ну, вот и молодец. Я знал, ты не дурак.
Он вскочил со стула, протянул мне руку.
— Пойдем! Пойдем, сейчас все и сделаем
Я слабо кивнул, с трудом поднимаясь. Руки–ноги одеревенели, голова раскалывалась, в груди будто горящий кол. Весь трясусь. И что мне осталось? Вот такой я дальше жить и в самом деле не могу. Внутри что–то тоненько протестовало, упиралось отчаянно, но я плюнул себе внутрь: — да пошел ты, Шут! Ты умираешь. Доведи до конца. КОНЦА. Страшно!
А он вел меня за руку на озеро. Я еле передвигался, разыгралась лихорадка. Он не торопил, терпеливо ждал, когда дошкандыбаю. Вот уже открылась впереди идеальная, темная гладь. Луна, полная Луна — прекрасное время, чтобы умереть.
«Умереть в эту ночь,
И не выжить,
И покинуть навек
Этот прекрасный мир…»
Я побрел к воде, действуя, как машина. Зрение застилала пленка, и холодно.
— А–а–а!!! — только и успел жалко вскрикнуть я, когда он схватил за шею, и швырнул в воду. Короткая, мучительная борьба в грязи, он сел мне на спину, вжал в ил лицом.
Я не буду описывать эти муки, эти бесконечности между жизнью и смертью. Бьешься. Отчаиваешься. Слетаешь в пропасть, и корчишься от сильнейшего оргазма. Вся жизнь проносится. Сжигающие вспышки в мозгу. Отчаянные попытки вздохнуть. Все горит в груди, в дыхательные пути налазит ил. Хозяин меня отпускает, и в легкие врывается вода, когда я попытался все же вздохнуть. И — угасание. Я кончаюсь. Я кончаю с Король. Я обнимаю мать. Больно и блаженно. Я бешусь и слэмлюсь на панк–фесте, с такими же грязными и глупыми Шутами. Я ору, прыгая по сцене, и у ног моих огромный зал, заполненный безумцами, пришедшими попрыгать с боготоворимым Мной. Да, этого не было, но, умирая, я хочу думать, что было. Один раз в жизни.
И вот я встаю. Поднимаюсь из ила, такой жалкий. А в легких у меня ил. И во рту грязь вязнет на зубах. В ушах вода. Хочу протереть заляпанные глаза, и руки такие никакие. Не чувствую своего тела, оно тяжелое, и только. Замираю, глядя на берег — он сидит на траве, и ждет с улыбкой. И теперь я точно знаю, что это не оно, а Он. Мой Хозяин. Мой. Вот так.
— Ну, иди сюда, новое дитя Смерти!
Выхожу неуверенно и тяжко. Очень странно. Встал рядом с ним. Он молчит. Я слушаю. И ничего не слышу. Сердце не бьется, кровь не бежит, кашлять не тянет. Я — будто мешок с грязью. И все. Я не думаю и не хочу. Не харкаюсь, и больше не буду, но это не радует. Ведь чувств больше нет. А если так? — хватаю с земли тусклую стекляшку, и режу руку. Кровь не бежит! Я мертв.
— Поздравляю со Смертью, Шут! — говорит Хозяин. — Поди, умойся. И воды чистой в себя побольше вдохни, тебе надо промыть нутро, а то сгниешь быстрее, чем надо.
Я так и сделал. Но сначала, войдя в воду по колено, подождал, когда поверхность снова станет зеркалом, и заглянул в него — оттуда на меня зыркнул глазами страшными на грязной роже мертвец. Это Я. Я — мертвец. Взгляд остановился, как и у них. Нет, теперь для меня это не они, а просто они. Да, вот и все.
Но еще не понятно, как к этому относиться. Умылся и лег на спину. Вода сомкнулась надо мной и хлынула в нос, открытый рот. Когда весь ей наполнился, встал, вышел на берег. Хотел спросить — что теперь? Но не смог, горло не слушалось, изо рта хлынула вода. А Хозяин велел мне влезть на одинокую ветлу у озера, и свеситься вниз головой. Чтож, так и сделал. Он держал меня за ноги, чтоб не грохнулся, как навозный куль. Изо рта и носа вышло много, очень много густой, мутной жижи. Но вкуса у нее никакого. Потом будто начал стынуть, как–то неуклюжить. Позже пришел холод. И… голод? Я тупо шел, двигался за Хозяином, не знаю куда. Он был прав, подлец — теперь всё, весь мир будто перевернулся. Стал неуютным. Не своим. И все тело мое стало неуютно. Зачем я сделал это?! Я не хотел этого. Теперь точно понятно. Но разве можно обратно? Поздно.
Я поднял глаза. Оказалось, мы пришли ко двору бабки. Вся широкая полянка перед ним была заполнена — они все уже были здесь. Улыбались и ждали меня. Я почувствовал их всех товарищами своими. Они такие же, как я. А я такой же, как они. На крылечке я заметил Машу. Она стояла, обнявшись с бабкой. Красавица помахала мне ладошкой. Я улыбнулся ей, и тоже помахал. Я — свой. Вот и все, теперь — в самом деле.
Хозяин подвел меня к ним.
— Народец мой, смотри, вот новообращенный брат ваш! Примите его в объятья свои, как приняла его смерть, ваша мать! — последнюю фразу он выкрикнул, как Цезарь, перед войском вскинув одну руку, другую любовно положив мне на плечо. Он — мой Хозяин.
Они принялись подходить, говорить что–то, обнимать и тормошить меня. Кто–то натянуто улыбался, кто–то поздравлял. Но никто, ни один не был в самом деле рад. Последней подошла Маша. Она погрустнела, посмотрела мне в глаза своими мертвыми глазами, обняла и долго не отпускала, шепча:
— Ну вот и все, Шут, теперь ты с нами. А я так хотела, так надеялась, что ты живой останешься.
Она не всхлипнула, но когда оторвалась, и я заглянул ей в лицо, по бледной щеке сползла грязная, мутная, медленная слеза.
— Я ведь просила тебя. Ну почему ты не послушал? — и припала к моим губам. Теперь это было совсем другое. Ведь мы равны с ней. И ее поцелуй… как его описать? Если целуешь живую — с ума сходишь. Если мертвую — удивляешься. А если ты сам…? Словно весна за стеклом, курение по телевизору, секс под наркозом. Это есть, и даже с тобой, но… вот так как–то. Она не отрывалась долго–долго, будто не хотела верить, что — все, я кончился, потерян для нее. Потом резко отвернулась, и пошла прочь. Я посмотрел ей вслед, хотел вздохнуть, но это показалось лишним.
Взгляд наткнулся на Дамира. Он злорадно ухмылялся. Подошел ко мне:
— Молодец, Юрок, поздравляю! — и похлопал по плечу. Это «Юрок» стегануло, наподобие боли. Что, это… моё имя? Да нет, его больше нет. Ни у кого здесь нет имени. Имя — для живых. Мне нужно скорее привыкнуть к Смерти. Только так — с большой буквы. Я хотел подумать о чем нибудь — и не смог. Нет, оно думалось, вроде, но… по–другому, что–ли? Осознание — есть. Боли — нет. Имени — нет. Тело — деревянное. Я — этого хотел?
— Что мне теперь делать? — я подошел к Хозяину.
— Что хочешь, — пожал он плечами. Пойди вон, потрахайся, — и кивнул куда–то в сторону.
Я оглянулся. Дамир заржал, громко и злобно мне в спину. Наконец я ее заметил. За забором, по ту сторону, стояла девушка. Она была в белом платье, удивительно чистом, и печально заглядывала во двор, положив подбородок на ладони. Иссохшаяся, кожа как у мумии. И очень–очень грустная. Я подошел к ней, она встрепенулась мне навстречу.
— Почему ты там стоишь, не заходишь?
Она покачала головой, пересушенные тусклые волосы мотнулись веревками. Посмотрела куда–то мне за спину как собака, с истинно смертельной тоской. Я проследил за ее взглядом — на крыльце бабка обнимала того пацана, мальчика–звезду, внука своего. Он бросил в нашу сторону злой, даже жестокий взгляд.
— Почему? — обернулся я вновь к девушке. Она как–то отчаянно изломалась. И сев под забором, завыла. Хрипло, и будь я жив — страшно. А как вы хотели, чтобы выл мертвец? Я еще раз оглянулся — бабка смотрела на меня осуждающе и предостерегающе — мол, не говори с ней. Пацан — еще более зло. Где были остальные, я не заметил. «Не ходи к ней!» — говорила глазами старуха. Почему? Мертвушка выла, кусая руки. И я вышел за калитку. Она зловеще скрипнула, оппозиционируя меня к ним. Зато с ней. Я быстро подошел, селя рядом, обнял девушку. Она вцепилась в меня.
— Ну, что такое? — гладил я ее по голове, механическит понимая — были бы живы, мне было бы очень больно от ногтей, и я бы жутко её хотел.
— Девочка моя бедная, ну что ты! Моя маленькая бедная девочка, — я качал её в объятьях, и она постепенно затихла. Гладил ее по спине, путался в грязных волосах. Она такая знакомая. Я ведь раньше был почти чистый кинестетик, все у меня шло через тактильность, память рук хорошая. И это, кажется, не совсем утратилось, ведь кожа рук еще вполне целая. Её плотная спина, и соски упершиеся в грудь… я не знаю, как это объяснить, но обнимая иссохшегося мертвеца, я чувствовал живую, нежную плоть. И еще — я мог девчонку в лицо не помнить, но если с ней спал хоть раз — на ощупь вспомню. Так вот, ее я точно брал. Я был пьян, было темно. Она пришла сама. И лучше ничего в жизни не было. Отстранив девушку от себя, заглянул в прекрасное вновь лицо:
— Ты! Это ведь ты! Ах ты, кошка ты моя сладкая!
Она улыбнулась, и я поцеловал ее. Да, это она приходила ко мне на печь, в первую ночь у бабки. Ах, какая она была восхитительная, и даже горячая. Увлекаясь за ней в траву, я забыл, что мертв!
— О, моя маленькая, маленькая девочка! — шептал я, целуя бесловестные губы. Возвращаясь в рай.
Когда все закончилось, я хотел было завести новую подругу во двор, где уже никого не было. Но она замахала руками, и потащила меня куда–то через бурьян. Я послушно брел за ней. Мы вышли к засохшему болотцу. Она села под дерево, я устроился рядом с ней. Она молчала, я тоже. Запрокинув голову, девушка любовалась на огромную, прекрасную луну. А я ощутил первый сильный голод. И понял вдруг, куда делись все остальные — пошли искать еды. А она — почему не с ними?
— Послушай, а почему ты за забором сидела?
Она мучительно сморщилась, поворачивая голову ко мне. Открыла рот, потом закрыла. Помотала головой.
— Что с тобой?
— Сейчас поймешь! — голос грубый, грязный, карябающий, бесформенный какой–то. Я бы сказал — отвратительный.
— А как тебя… эм-м, зовут?
— Звали, милый, звали! Сейчас никто не зовет, все гонят. Было имя — Саша. Шура. Я вешалась, думала, напишут на могиле — Александра Викторовна Хотеева, 19… а, да и хер с ним. Нету у меня могилы. И тебя вот не похоронят на третий день. И дней у тебя не будет. Солнце нам нельзя.
— Почему? — снова спросил я, глупый почемучка. Она посмотрела мне в глаза, зрачки огромные, луна отразилась в грязной слезе, сбежавшей по щеке.
— Разлагает.
И уткнулась мне в грудь.
— Только ты меня не гонишь, пока! А скоро и этого не будет.
— Я не прогоню тебя! Ни за что!
— Врешь. Хозяин скажет — и отвернешься.
— За что мне тебя гнать?
Она помолчала. Затем, не глядя:
— Из–за сына. Он меня видеть не хочет. Не простил. Хочешь, расскажу?
Я кивнул.
— Ну, мне уж терять нечего. Все равно уйдешь. Слушай. Я сама из Уфы. Замуж вышла здесь. Он меня любил. А я — дура. Просто веселилась. Сына родила. А в городе гостила — загуляла. Показалось, и не было никогда другой жизни. Сына забыла, с-сука! Эх, кабы знала! Живу, значит себе, другого нашла. Мама молчит, а чего скажешь, я все равно не слушаю. А вот ночью один раз вдруг стукнуло — это как же, я здесь кувыркаюсь, а там — муж, ребенок! Что ж я делаю? Прям хоть беги пешком, тоска така–ая! Хватилась — и на электричку! К свекрухе — где мой дорогой? А он по–пьянке сгорел, по мне маялся. Я вся похолодела, и в сарай. На том же месте, где мой сгорел, новый отстроить уж успели, я там и повесилась. Думала, все, отмаялась. Ан, нет! Повисела, меня бабка и снимать не стала. А ночью сама из веревки вылезла. Вся облеванная, шея синяя. Холодно. Тускло. Че такое, не пойму! Пошла к свекрухе, стучу, она вышла, руки на груди сложила. Ну че, говорит, милая, доигралась? Пошла, говорит, вон, чтоб я тебя не видала больше, гадюка дохлая! И сына не трогай! Я ее умолять хотела — скажи мол, чего это со мной? А ни слова выговорить не могу, горло повредила. Теперь–то слышь, каркаю. Кое–как отошло. Пошла я прочь со двора. Стала где ни попадя мыкаться. С голодухи все пыталась ребеночка утащить, или девку какую. Корову на худой конец покусать. Да куда там! Не дал мне Хозяин ничегошеньки, я крыс грызла, как повезет, их тоже поди поймай!
Она замолчала, прижимаясь ко мне. Я не думал ничего, просто держал её в руках, зная одно — она мне нужна. Почему — не знаю. Но нужна. И я ей. И — никому не отдам.
— Саша?
— Что?
— А почему все–таки ты за забором, они тебя не принимают? Не утонула?
— И это тоже, — кивнула она. — А главное, старуха Хозяина попросила. Ненавидит она меня. А Хозяин ее очень уважает, одна живая — и не боится. Всех греет, всех поит, всех жалеет и поминает. У них это вроде Дня Рождения.
— И у тебя? — брякнул я не к месту.
— Нет, ты что? — фыркнула она. Я не с ними. Для меня это самый страшный день. Я будто снова умираю! Залазию в дупло, или еще куда, и катаюсь там, вою. Больно заново. Худо, очень худо!
— Ломка, — сказал я. Она кивнула, хотя вряд ли знала, что такое ломка.
— И у тебя будет, если Хозяин боль не снимет. Поэтому иди, — и попыталась отстраниться.
— Ну что ты, я с тобой!
— Дурак, — покачала она головой.
— Сам не знаешь, на что идешь! Со мной останешься — и Хозяин тебя лишит милости. Будешь голодать, и выпить никто не даст. И… ну, иди! — оттолкнула она с неожиданной силой.
— Нет! Саша, я не уйду! Пусть, но я не уйду! Ты не можешь, в конце–концов указывать мне! Я сам решаю!
— Ну, иди, пожалуйста! — в глазах ее снова отразилась тусклая мука, замогильная тоска. И вдруг снова принялась меня целовать, обжигая холодом.
— Шут, я скоро кончусь! Как больно, но наконец я буду мертва. Все. Я не могу жить, и потому лучше сдохнуть насовсем. Но ты, тебе еще очень долго мыкаться! Иди, пожалуйста! — и вцепилась в меня, не оторвать.
— Саша… ну, Саша же! Я не могу! — прошептал я.
— Почему? — спросила она, с робкой надеждой, и даже голос ее прозвучал мягче, чище.
— Я… я с тобой! Понимаешь? Будто теперь у меня никого нет.
— А… они?
— Что — они?
— Ты их теперь.
— Да, но… Бросать тебя — не могу!
— Но, знаешь, ты ведь можешь тайком приходить? — она даже дрожала.
— Да, так и сделаем, — и пожал ее плечи. — Я тебе поесть принесу, хочешь?
Она кивнула, улыбнувшись:
— Завтра ночью!
— Хорошо! — я потянулся поцеловать ее, но она отстранилась.
— Иди, Шут! Утро скоро. Хозяин вернется с… охоты. И всех считать будет. И нам нельзя солнце, не забывай! — шепотом, и все–же поцеловала. Потом встала, и побежала куда–то в сухие заросли, не оглядываясь. А я встал, и побрел обратно в деревню. Надо быть там, я это знал. Нельзя злить Хозяина. Нельзя ему не нравиться. Ноги сами несли, будто зная, куда идти. И конечно, я пришел туда, куда надо: в этот старый дом. Прошуршал травой, роса на ней, должно быть, холодная, я не чую. На крыльце оглянулся — луна сползла и гасла, скоро, очень скоро рассвет. Да, мне и в самом деле, пора!
Он сидел в темноте, сверкая глазами.
— Хочешь есть? — и утер губы рукавом.
— Я…? Да! — и в самом деле, голод проснулся страшный. Но не тот голод, а… Я знал, что никогда больше не буду сыт, и спокоен. Этот голод не утолить. Он — другой. Одно слово — смертельный. Хозяин бросил к моим ногам дохлого кролика, не очень большого. Я схватил его жадно, и не осознавая, что делаю, вцепился зубами в горло, начал трепать и грызть. Ничего не помогало, а я бесился — есть! Хочу-у есть!!! Он зло засмеялся и протянул мне гвоздь. Я вырвал его, и проткнул зверьку шею. Потекла кровь, еще теплая… о-о, я никогда так ничего не хотел, как этой густой, теплой, сладкой крови!!! Рыча и вздрагивая пил и пил, пока не иссяк живой источник. Озверев, я выжимал сколько мог, но нет, пусто! В ярости отшвырнул трупик к черту, и подступился к ухмыляющемуся Хозяину:
— Еще!!
— Нет, — спокойно оттолкнул меня.
— Еще!!!! — схватил я его за грудки, безумие застило глаза. Кровь, кровь, еще, ну еще же!
— Я ХОЧУ ЕСТЬ!!! — заорал я: — Я ХОЧУ–У–У!!!!
— Не ори, Шут! — скривился он. — Сядь!
Я сел на пол у его ног, умоляюще глядя снизу вверх. Я готов ползать на брюхе, целовать ему ноги, только еще!! Слезы выбежали из глаз, и прокатившись по щекам, упали на руки. Я плакал и едва не скулил.
— К–крроовви–ииии!! — зашелся я в вопле, кусая руки. И получил по башке. Это немного привело в себя. Хозяин схватил меня за волосы и поднял лицом к себе:
— Слушай сюда, мальчик! — прошипел он, сузив глаза. Я замер:
— Ты будешь жрать не больше, чем я позволю! А я — не бог! И у меня нет на всех до отвала. Только для тех, кто отличится. А ты пока только непотребствуешь, — и равнодушно оттолкнул меня. Я упал на локти, не отрывая глаз от него.
— Что делать?
— А вот это лучше! — и скрестил руки на груди. Я подполз к нему, на коленях.
— Ну, скажи же! — жалко прошептал, корчась. ГОЛОД.
— Скажи–ка мне, милое дитя, для начала, вот что! — и он принялся разглядывать свои когти. О, нет!
— Хозяин, что? — я весь дрожал.
— Вот, ты уже совсем не человек, а вроде свежий! — задумчиво посмотрел он мне в лицо. А я ловил каждое его движение. Пусть что угодно, только есть!
— Да, кого в жизни унижали, тому и в смерти легче подломиться, — вздохнул он. — Ну, так вот! — и вдруг озлобился:
— Зачем к Шурке–сучке бегал? Быстро говори!!
— Я? — не понял сразу даже, о чем он. — А-ах, ну да. Я… это…
— А-а, да ты, видно тупой у нас совсем? Мозги отмокли! Не понимаешь ни хрена, да? — он отпихнул меня ногой. Я отполз в уголок, и там скорчившись, затих. Он ведь со мной, как с помойной собакой обращается. А мне пофиг. Я же мертвый. Я именно сейчас это понял, по–настоящему. И вдруг стало очень и очень все равно. И даже на ГОЛОД — забить. Тупое равнодушие, какое посещало меня при жизни после недели на денатурате. А что еще может быть, когда не дышишь и сердце не бьется, и это — навсегда?
— Значит так, к Сашке больше не ходить, — бесцветно велел он. Я кивнул. Да вот сейчас, облезешь! Она хорошая, от себя не гонит. И не пользуется, как Машка.
— Нет, ты не понял, мальчик Шут! — вкрадчиво начал он: — Мертвый мальчик Шут! — смакуя, повторил он: — Повтори!
— Мертвый мальчик Шут, — сказал я. — Ну и что?
— Ты — мертвый, — терпеливо разъяснил он. — И разница между тобой живым и тобой же мертвым — пропасть, океан! Марианская впадина! Оттуда — сюда ты мог. А отсюда туда — никак! Осознай это! — и он замолчал, давая время прочувствовать сказанное. А я думал о Саше. Красивая, теплая, милая. С грубым, грязным голосом. Панкушистым голосом. И сухие ошметки кожи, и вылезающие волосы. И черно–багровые вспухшие полосы на шее.
— Почему она теплая? — спросил я.
— Потому–что самоубийца, — механически сказал он. — Что–оо? — вспылил он вновь. — Я тебе что велел? Значит так, сейчас ты быстро соображаешь: ты — мертвец, тебя убил я, по твоей же воле. Ты отдался мне, и теперь ничего, запомни, ни–че–го не можешь делать сам! У тебя больше нет воли! Запомнил? И ты будешь делать то, что скажу тебе я, твой Хозяин! Повтори!
— Я буду делать, что скажет Хозяин, то есть ты! — а пошел ты!
— Стоп. Соображай дальше. Если ты меня не устроишь как слуга, я вышвыриваю тебя из деревни. Считай, что ты только лишь кандидат в жители моих пределов! Приперся к нам сам, никто не звал, ты не из наших. И я вообще не должен тебя брать. Но взял. Скажи спасибо Маше. А теперь погляди на себя. Ты — кусок дохлятины. И если я тебя лишу покровительства, ты враз сгниешь. Уже остываешь, хотя и поел. На завтра окоченеешь, и тело перестанет тебя слушаться. Потом, на третий день начнешь покрываться пятнами, потом кожа набухнет и осклизнет. Мухи отложат в тебя яйца, выведут личинки и черви выжрут дыры в твоей плоти. А ты — ты не думай, что это мимо! Ты ведь, дитя моё, будешь всё, всё ощущать, всё понимать. Душа, не отлученная от мертвой плоти, будет стонать выть и корчиться, не в силах покинуть гнилых оков. Ты продал себя неестественному злу, отвернулся от Бога, и это всё, что тебе останется. Поверь мне, так и будет!
Он умолк, а я… я понял всё, представил и ощутил до последнего слова! Поднес к глазам ладони — порезаны. Это же я сам их порезал на берегу, чтобы убедиться, что кровь не течет. Кровь… нет, не о том я должен думать! Я и в самом деле сгнию? … Да!!! Нет! Что–то вроде паники закралось в душу — значит, она и в самом деле еще во мне? Со мной?
— О, боже! — прошептал я бесильно.
— Что ты сказал? — рассмеялся глумливо он: — Вот это слово забудь! Понял? У тебя нет другого Бога, кроме меня! Даже Дьявол на тебя плюнет! Ты — червь земной. Не потому что я крутой, а ты грязь. Я тоже грязь, червь, просто я — большой и жирный. А ты — мерзкая личинка, вонючий опарыш. Привыкни к этому.
Я содрогнулся от отвращения, он говорит правду. Но что теперь, как дальше … быть? Или что это?
— Я тебе отвечу. Во–первых, ты уважаешь законы деревни, и не общаешься с изгойкой, которой мало осталось. В ней одна видимость цельности, она же вся прогнила. Ты этого не понял, потому что она все органы из себя вытащила и теперь сохнет. Запомни — изгойка есть изгойка. Хочешь с ней разлагаться — иди! Но чтобы мы больше тебя не видели. Каждый плюнет тебе в спину, и свихнешься от голода, сам себя растерзаешь. Ты уже почувствовал его страшную власть.
Я кивнул, передернувшись — больше не хочу.
— Это первое. И если говорить о голоде, вот второе: ты должен работать. Как и все. Таскаться по окрестностям и ловить всякого, кого придется. Людей, животных. Свежие трупы тоже годятся. Только аккуратно, не давай голоду сбить себя с толку. Живые бывают всякие, могут навредить нам. Особенно охотников за вампирами избегай. Да, и такие бывают — кивнул он на мой удивленный взгляд.
— И про осиновый кол — не сказки. Быстрое разложение обеспечено, он ломает мою защиту на вас, моих людях, так скажем. Кресты и прочая мишура — фуфло. А вот в дома не входи, это лишнее, могут плоть повредить. Детей не воруй, лучше девок. Ксати, — тут он ухмыльнулся, — если хочешь — насилуй. Вернее, если сможешь. Потом — придуши. Но не рви и не убивай — кровь свернется, пока доташишь. И не увлекайся, ты должен делиться со всеми. Узнаю, что один целого человека сожрал — накажу.
Я жадно кивал, воображая в деталях это «пособие для маньяка», и меня трясло от вожделения — ку–шать!
— Ну, что еще? А, да! В одно место постоянно не ходи, а то заметят, что повадился, изловят — и кирдык! Шатайся везде, где можешь, не заблудишься, ноги сами домой принесут. Обитать будешь… ну, завтра посмотрим. Сегодня здесь переднюёшь, потом определим. Да, девки в деревне все общие. Все твои, никто не откажет. Ты еще совсем свежий, пользуйся пока по–быстрому. Кроме Шуры. Ну, это ты понял.
Я снова кивнул. Ага, понял! Посмотрим.
— Так, все сказал? Нет, погоди! — он поднял палец. — Вот еще что! Рожу от крови отмывай, она быстро разлагается, и тебя попортит. Раны зашивай. Солнце — яд. Тебе нельзя ни солнца, ни холода, ни сырости! Ты — не утопший, вода вредно. Умылся — вытрись как следует.
— Как — не утопший?
— Так. Ты — захлебнувшийся. Мертвецы — они тоже разные бывают.
Он заботливо похлопал меня по плечу, и добавил.
— Ну, теперь все! Запомни, — ухмыльнулся, — намертво! А теперь — спать.
Что было и как потом, я не знаю. Но открыв глаза, не понял — прошло сколько–то времени или совсем нет? В доме так же темно, я лежу в уголочке, свернувшись эмбрионом. Я не спал, меня будто вовсе не было. А сейчас… очнулся? Или как назвать? Вобщем я поднялся, тяжело держась за стену. Противное деревянное тело не давало забыть о произошедшем. Попробовал шагнуть — неудобно. Кровь стыла буквально, и внутри прочно угнездился сырой холод. Такой же неизгоняемый и цепкий. Я знал — это навечно. Надо идти, это велит голод. Искать пищи. Крови.
Ночь еще не вошла в полную силу, из–за леса всходила убывающая луна. А тогда было полнолуние — значит, день прошел. А я валялся в углу в полной отключке и беспамятстве. Вот, значит, каков режим мертвецов. А интересно, как тогда Дамир и Маша шарились под солнцем?
— Я заставил! — раздался за спиной голос Хозяина. Я не обернулся.
— Чтобы тебя перехватили, а то бы ты на озере Чернобогу в лапки попался. А я еще не решил, надо ли это? Короче, свои дела, — тяжелая рука легла мне на плечо.
— Давай, Шут, иди работай!
И я пошел. Прямо к лесу, он звал и манил меня. Четко слышу зов черной подлунной гвардии. Зрение работает идеально — различим каждый кустик и травиночка. Но людьми там и не пахло, а так хочется кушать.
— Шут, Шут, — шептал лес, и я углублялся в него, старательно высматривая чего–нибудь живого, наполненного кровью. Жадно облизался на спящих птиц — но на дерево мне не залезть. Кролики разбегались загодя, едва почуяв хищника.
А источник зова становился все ближе и ближе с каждым шагом. Он был горяч и настойчив, пульсировал где–то уже совсем под носом.
Еще шаг, еще:
— Саша! — схватил я в охапку девушку, притаившуюся за деревом.
— Это ты меня звала!
— Ну, а кто? — прошептала она, целуя меня сухими, жесткими губами.
— Ты скучала, а?
Она помотала головой.
— Нет, признайся, ты скучала! — я, играючи, укусил ее в шею. Пусто. Холодная. Мертвая. Бесценная. Я хочу ее.
— Нет, — она принялась уворачиваться.
— Врёшь!
— Да! — и лукаво сверкая темными глазами, отступила на шаг. Я — за ней. Она — убегать. Я быстро поймал ее, и мы, хохоча гулко и страшно, покатились по траве. Мы кусались и ласкали друг–друга, рыча, как пара волков. Два мертвых чудовища веселились в ночи, и луна, глумясь, всходила выше и выше, и мы поднимались по ступеням восторга. Как с ней тепло, и не больно!
Наконец она подмяла меня, повалила на спину и уселась сверху:
— А поесть ты не принес?
— Э-э… нет!
В самом деле, а ведь обещал!
— Так я и знала, — она разочарованно слезла с меня и села в траву, обняв колени.
— Саша…
Она молчала, грустно.
— Ну… хочешь, сейчас пойду, поймаю кого–нибудь? — я неуверенно тронул ее плечо.
— Да кого ты поймаешь, ты же еще ничего не умеешь!
— Зато у меня сил, не поверишь! — я ощутил, что вырву с корнем дуб, или сжав кому–нибудь череп, раздавлю, и сладкие мозги потекут меж пальцев, и не жалко!
— Почему, не верю? Верю! Сама такая. Это сила нечистая, злом подарена.
— Дети Смерти, — кивнул я, уже почти привыкнув.
— Ну, пойдем! — поднялась она, подавая мне руку.
— Пойдем, — согласно кивнул я. — А куда?
— Как это, куда? Ты что, дурак? — округлила она глаза. — На охоту конечно! Учить тебя буду.
Мы шли с ней под светом луны. Весь мир был как снятое молоко. Цвет невыразителен, воздух тонок. Ни запахов, ни ощущений. А и не нужны они мне, только бы еда!!
Деревня спала. Настоящая, живых людей. Они не ждали, отвыкшие.
А мы просто потеряли всякую осторожность от голода, и не таясь шли прямо по улице. Собаки испуганно скулили и прятались, кое–где отчаянно, горько выли, но хозяева зло велели им заткнуться. Никого и нигде не было видно, все люди по домам — нам туда ходу нет. Потоптавшись у забора, позаглядывали во двор, где собаки или не было, или ей просто плевать, мы никого не заметили, и в отчаянии я хотел было перелезть и вломиться в дом, но Саша удержала меня:
— Куда, дурак, нельзя в избу!
— А че? — не понял я.
— А то! Там кошка, и домовой, и… да мало ли что!
— Сашка, есть очень хочется! — заныл я.
— А мне–то! — тоскливо вздохнула подруга, и я понял, что сморозил глупость. Меня–то Хозяин худо–бедно накормил, а вот она… Кто знает, когда в последний раз стылые губы ее смачивала живая кровь? Не зная, что делать дальше, я топтался у забора, когда вдруг скрипнула дверь избы… мы замерли — на пороге показалось что–то белое. Зевая, девушка прошуршала галошами по сырой траве. Мы враз метнулись через забор, настигли ее, облепили с двух сторон. Она не успела и вскрикнуть, забилась в умелых объятьях Сани. Раз — и готово. Я отволок ее, тяжелую, к огороду, весь дрожа от вожделения. За кустами смородины началась веселая пирушка. Это оказалась не девушка, а женщина лет сорока. Ее удивленное и даже изумленое лицо, широко распахнутые глаза — но это еда, просто еда! Мы грызли ее, как дикие звери. Наконец пил кровь, пил, и не мог остановиться. А она все не кончалась. Как хорошо, что во взрослом человеке ее так много!
Под утро, когда светило полтускнело, и трава начала тяжелеть росой, я ощутил какую–то тяжесть. Руки не поднять, в груди будто камень. Даже не тяжесть, а тяжкость. «Что со мной?» — вяло подумал я, влачась куда–то, напролом через бурьян заброшенного огорода. И чем дальше я продвигался, тем сильнее меня тащило, и тем больше разгоралась дурацкая боль. В дом я почти вполз, и упал, растянувшись у ног Хозяина.
— Что, собака Шут, где был? Чего принес? — он присел на корточки передо мной: — Подними голову! — голос его заледенел. Я понял — снова не будет ничего хорошего. Поднял разгорающуюся голову. Он взял меня железными пальцами за лицо, приблизился резким движением, обнюхал, как пёс.
— Мразь!! — глухой удар, я отлетел, стукнув об пол черепом.
— Ты ведь жрал сегодня, и очень–очень нехило, кровью от тебя за три версты тащит! Что, один целого человека приговорил?! Женщиной от тебя воняет, а ты знаешь, мерзавец, что это страшный грех? Ты, скотина поганая, один сожрал целую бабу, а про братьев своих мертвых и не вспомнил! — он помолчал, прошелся со скрипом по гнилым половицам. Я молчал. Меня жгло изнутри, как будто я не крови, а раскаленного железа наглотался.
— Блюй, тварь!! — заорал Хозяин вдруг, пиная меня в зубы. Нутро тут же вывернуло наизнанку, разлился прекрасный и манящий запах крови… Глядя на лужу, я чувствовал возвращение голода, и готов был скулеть от него. Боковым зрением заметил девченочье лицо, выглянувшее из черного угла. Она жадно облизнулась, но Хозяин шикнул на нее, и она исчезла. Я потянулся к луже, но он меня грубо отпихнул, сам встал на колени, согнулся, и как обезьяна принялся набирать жижу в ладони и пить ее, жадно. Глаза его разгорелись жутким желто–зеленым огнем. Я трясся от зависти, но молчал — страшно. Он выпил половину лужи, запрокинув голову, тщательно облизал ладони и губы. Поманил пальцем из угла:
— Пойди, поешь!
Оттуда проворно выскочила девченка–салажка лет 13, темненькая, сухонькая, полуребенок–полунечисть. Она растянулась на полу, и будто не веря, потрогала липкую, остывающую лужу, передернулась, приоткрыв рот, попробовала капельку с пальчика. Посмотрела на Хозяина с сомнением.
— Можно–можно, ешь! — усмехнувшись, кивнул тот. Я переводил взгляд с него на нее, и обратно, не веря — как же так? Это моя КРОВЬ, моя пища!
— А мне что, загнуться? — не выдержав, крикнул я, видя, как быстро кончается кровь на полу.
— Заткнись, — спокойно и не глядя на меня, ответил мучитель. И я заткнулся. Все, сегодня мне ничего не светит.
Я отполз в угол, испытывая тремор, сел там обняв колени и раскачиваясь. Что я здесь делаю?!
— Хозяин, там Студент пришел, просится, вроде, сказать хочет чего–то, — нерешительно поскребся Дамир.
— Да? Ну, пусть заходит!
Неестественно подворачивая ноги, в дом заполз этот мерзкий дохляк, Яшка–студент.
— Ну, чего тебе? — уставился на него Хозяин.
— Э-хмм, а–а–э-э… завел трупак мычать перерезанным горлом. Меня разобрало, и я заржал — уже насрать на все! Все равно не накормят!
— Ах, да! Я и забыл, — ответил ему Хозяин, на меня же — по нулям. Да и пошел он. Я показал «fuck» нажравшемуся содержимого моего нутра кошмарику, она испуганно скрылась в темноте.
— Ну, пошли! — кивнул Хозяин. — И ты тоже! — криво глянул на меня.
— Пошли, — пожал я плечами. А че еще делать?
Мы дошли уже почти до озера, когда до меня допетрило — а солнце где?! Ведь по–идее день должен быть в самом разгаре. Но нет, луна и звезды на чистом, черном небе.
— Вот, блядь, ни хрена не понимаю! — сказал я, но на меня никто не обратил никакого внимания: ни Яшка–трупак, ни Дамир, ни Хозяин этот хренов.
— Ну, и пошли вы в жопу, — равнодушно парировал я. Вот уроды! Хотя, че–то я забылся — сам такой. Гниющее неестественное зло. Как–то упускаю это обстоятельство.
Приволоклись к озеру, я намеренно отстал — не хотел их видеть. Задрали, блин.
Они уж все собрались, выстроившись плотными кучками вдоль берега. Там явно что–то происходило, но из–за спин я не мог разглядеть — что? Подошел, попрыгал — нет, не вижу! Там кто–то скулел, Яшка вопил чего–то, совершенно не понять. Плюнул да пошел шататься в зарослях — не больно–то и интересно! Вообще, нафига мне их дела? Не хочу, не интересно. Вот бы если пожрать… Да и то, чего уж теперь! При жизни и не такое терпел, так че же, мертвому и подавно по хрену!
Шел–шел, вышел к какой–то протоке, ну вобщем, здесь озеро и через какое–то расстояние — еще одно, и длинная полоса воды соединяет их. Подошел к этой протоке, наклонился посмотреть. То, что я увидел, мне не очень понравилось: остановившиеся, потемневшие глаза, щеки запали, наркотические глубокие тени залегли на веках. Стянул рубаху осмотреть тело, встал на колени у воды, склонился пониже. Я думал, худее уже некуда, но похоже, и вовсе оборачиваюсь мумией. На плече что–то темнело, смутно знакомое. Машинально потрогал это, всмотрелся — бог ты мой, да ведь это тату! Мой Летучий Мышь — шут в колпачке и со злыми зубками, очень сложной работы! Я так гордился им при жизни. Он нравился девченкам. Я был… панком!!
ААА!!!
Теперь я вспоминил ВСЁ. Как было больно, когда возгоревшись однажды мечтой наколоть вампира–шута, так, чтобы он сидел свесив лапки на ключице, я долго собирал деньги, пропивая очень скромно, скопидомничая и считая каждую копеечку. Лабал в переходах, а Король аскала… Была рядом, поддерживала. Любила… Я смотрел в мутную воду, и видел за ее гладью свою жизнь. Я, весь дрожа от волнения шел в тату–салон, зажимая бумажки в кармане джинсов. Дождался своей очереди, унимая не в меру сладкое предвкушение скорого исполнения своей мечты. Мастер–девушка одобрила мой рисунок, посмеявшись по–доброму мятой бумажке с эскизом. Его я сам рисовал, получилось только с пятого раза. Долго терпел кропотливую иголочку и неприятные резиновые прикосновения. Потом шел по улице, не веря своему счастью. Как во сне прикасался к плечу — ощущать снова и снова, что он здесь, мой злой шут. Помчался к Королю, делиться радостью, и сама Судьба поддерживала меня в тот счастливый день — она одна была дома. Открыла мне в рваных джинсах и короткой майке… мы долго терзали друг–друга на постели, и она причиняла мне без конца сладкую муку — целовала и легонько царапала.
Она любила меня. Как ни странно, теперь я это понял, когда уже поздно. И не только потому что я мертвый. А потому, что мне это не надо.
Уже нет.
И здесь я лишний. Что живым был никто, а сейчас еще больше «никто».
И мне пора отсюда убираться. Да, это точно.
Уйти прямо сейчас, немедленно. И не вопрос — куда, ведь это все равно.
Добрался до околицы, и оставался один шаг — всего один — до «свободы», но… мне что–то не давало его сделать. Тянуло насильственно назад. И этой силе нельзя не подчиняться. Значит, надо вернуться.
Хорошо, я пойду обратно. Упаду на колени, если он это любит. Буду упрашивать сколько угодно и как угодно. И он меня отпустит, потому–что я — один из тысячи для него. На что я ему? Все равно прогонит, лучше уж я уйду сам. Извлекло меня это все.
— Хозяин…
Тишина. Половицы скрипят под отяжелевшей ногой. Пыль свисает с потолка, лунный свет сочится, как голубая кровь. О, кровь! Сладкая мечта, занимающая то, что еще способно хоть к чему–то тянуться. Какие–то следы, остатки души, только и думают что о ней, о КРОВИ!!
— Хозяин, где ты? — вопрошаю вновь и вновь, шаря по углам. И ведь знаю — его здесь нет. Но чую, скоро вернется. Чтож, буду ждать. Сел в угол, затаился — что скажу ему? Да как есть — отдай мне меня, не хочу с тобой! И девок своих дохлых, и даже крови не давай, только отпусти. Дай исчезнуть и кончиться совсем одному. Не могу я здесь. Не могу.
— А-а, собака Шут! — Хозяин вошел тихо, как всегда незаметно и неожиданно.
— Здравствуй, Хозяин! — прохрипел я. Он зло усмехнулся (а разве этот мог бы по–другому?)
— Чего тебе? По делу, аль так, ни с чем? Только быстро, не до тебя мне!
— Хозяин, я пришел к тебе просить! — снова прохрипел я, тяжко поднимаясь. Ох, и неуклюж стал, тело слушается худо. Ну, и харкать, значит, недолго осталось.
— Хе, проси! Интересно даже, о чем меня ты просить можешь!
— Уйти я хочу!
А что он мне сделает? А хоть бы, да мне же легче!
— М-да, вот так я и знал, что не для тебя это все, гордый больно, как ни верти! Унижай — не унижай тебя… — и сел, руки скрестил, задумался. Я ждал. Время шло, он молчал, будто уснув. Да чтож это, может, он забыл про меня?
— Хозяин, слышь? Что скажешь мне?
— А? — поднял он голову.
Глаза совершенно остановились. Какие–то слишком уж мертвые. Не к добру.
— А иди. Мне–то что, — и пожал плечами с нечеловеческим равнодушием. Лёд, чистый адский лёд.
Всё, ухожу.
— Да не пожалей, смотри, — донеслось мне вслед.
— Не сомневайся, без тебя загнусь скорее, нехрена меня держать! И очень рад буду! — крикнул я, торопясь исчезнуть.
И последнее, что мне нужно сделать для начала конца, а вернее для его завершения.
Увидеть Сашку. Взять ее с собой, она же сухая совсем, ну что ей осталось. Мы пропадем вместе. Первый же дождь размоет плоть, солнце спалит и облезет кожа, вороны выклюют глаза. И степные волки растащат на мясо. Надо только уйти отсюда, вырваться из дурных объятий деревни, консервирующих и не дающих умереть окончательно.
Я нашел подругу в прибрежных зарослях, как всегда. Она потрошила дохлую птицу. Увидела меня, дернулась. Но поняв, что опасности нет, улыбнулась черным от гнилой крови ртом.
— Вот до чего я дошла! Дохлятину жру. Хотя — да ладно! Давно уж.
Я сел рядом. Запах крови ворвался внутрь, и потребовал своего: схватил ее, облизал остатки с лица, прокусил губы — но они были сухи, как камыш, крови в них почти не оказалось. Облизал ее пальцы, отобрал недогрызенную тушку, выжал все до капельки и еще чуть–чуть. Немного успокоившись, глянул на Сашу. Она, застыв, молчала. Мертвец мертвецом!
— Пойдешь со мной?
— Куда? — бесцветно, бессмысленно.
— Я ухожу. Хозяин отпустил. Так пойдешь?
Она покачала головой, медленно–медленно.
— Почему?
— Нет.
— А все–таки?
— Нет.
— Так что, тебе лучше здесь? Не верю. Да ты же — изгой! Зачем тебе это? Пойдем!
— Нет.
— Саша…
— Нет. Послушай меня. Я мертва, и сейчас — как никогда. Я сохну час от часу. Мне все труднее и труднее добывать жратву. Я и шага не сделаю, не смогу просто.
— Саша, туфта это все! Послушай меня, ну!
— А ты иди! — никак не реагируя на мои слова.
— Иди, Шут! Мертвые не любят и не боятся, им все равно, только вонять и разлагаться.
Замолчала. А я встал и пошел. Плевать, и на нее тоже. Не хочет, не надо! Еще одна дохлая дура. Пошла она…
— Эй, бабка открывай! К тебе я, дело есть!
— Что, хер сварился? — она открыла так резко, что я не успел отскочить и получил глухой основательный врез в башку. Деревянно стукнуло, я отлетел, удержавшись на ногах неуклюже. Старуха стояла на пороге, уперев руки в бока, и презрительно смеряя меня злыми глазами. А мне чихать, тоже мне, проняла!
— Ухожу я, бабуль!
— Ну, и очень рады, вали давай, паскуда! — и длинно сплюнула: — Сразу пускать не надо было!
— Эх, и злая ты стала, баба Зина, неласковая, — усмехнулся я.
— А чего мне с тобой, целоваться чтоль? Паскуда ты, гадина!
— Чего ж так, позвольте узнать? — хотя и так догадался.
Старуха хмыкнула, развернулась и исчезла в темноте сенцов. Я двинул было за ней, но она уже шла обратно неся в руках кучу тряпок. Резко швырнула мне их в лицо, я не успел подхватить, и вся эта фигня упала к ногам.
— Катись к этой суке, а я‑то тебя привечала!
И крутанулась на месте, хлопнув дверью перед носом.
Я сел на корточки и поднял что–то черное и грязное из кучи. Футболка! Моя миленькая, рваненькая, панковская. Быстро скинул рубаху и напялил ее, радостный. Я панк! Я панк и помню об этом, даже смерть не заставила забыть! А вот джинсы, почти целые! И ключ от Машкиного подъезда на поясе… и цепь с анархией в кармане! Разорвал остатки одежды на себе, торопясь облачиться в то, что будто связывало меня с жизнью. Ко–су–ха!!! Живая! И кеды — все еще мокрые и грязные. Как будто не было всех этих мучительных ночей после гибели. Я ведь даже не знаю, сколько времени прошло. Не так–то и много? Застегнул замочки, сел на крылечке, поднял голову к Луне. Вот она, сволочь, усмехается. А тряпки не греют — они жизнью пахнут. И так мне хреново стало на душе! Так погано!! Ностальгия по жизни охватила, не передать! Душит.
— А–а–а!!! — заорал я, и побежал, побежал прочь со двора!
— Господи! Зачем я, зачем?!
У двора Хозяина резко затормозил, будто меня стукнуло что. Осмотрелся — вышел Мальчик — Звезда, кривя губы, и злобно сверкая глазами.
— Чего тебе? — его хотелось видеть меньше всего.
— Ты это… — прохрипел он: — Хозяин тут велел тебе предать! — и неопределённо махнул куда–то в глубь двора. Я проследил за его движением, и взгляд остановился на… Харлее!! Абсолютно новый, сексуально блестящий хромированными изящными боками, с далеко выдвинутой вперед «вилкой», «рога обезьяны» стильно дразнят. Неуверенно улыбаясь и не веря подошел к своей прижизненной мечте, потрогал усыхающими пальцами. Кожа натуральная, зеркальце подмигивает зрачком отраженной луны лукаво и дразняще: «Ну что, покатаемся?» Я, забыв даже о ГОЛОДЕ, неуклюже перекинул ногу через милого друга, положил руки на «рога». Божественная удобность! Проверил бак — полный. И ключ на месте. Испытывая что–то вроде волнения, повернул его. Харлей довольно вздрогнув, заурчал.
— Y–E–S!!!
Захохотали небеса, засмеялся я, покидая со скоростью молнии опротивевшие пределы мертвой деревни. Прощай, гниющая обитель, я улетаю, и пусть встречный ветер разнесет мою негодную, лишенную души плоть в прах! Харлей, бешеный конь, разгоняется все быстрее и быстрее, хотя кажется, что дальше невозможно. Слился с ним, широко распахнув ненужные слепые глаз, и ветер рвал кожу, обращаясь ураганом. И ночь бесилась, влетая со мной в застывшее мгновение Вселенной. Я понимал, что обратился вечностью, и буду лететь и лететь, всегда счастье. Я сбросил всё: мысли, дыхание, биение сердца, и СВОБОДА! Жизнь осталась на дороге, вместе с мучениями и удовольствиями, как тягостный хлам.
Вот для чего я умер! Да здравствует Смерть!
А я отныне — созвездие Байкера, да завоют на меня дикие волки!
P. S.
«Значит, я не зря вздрогнул, Значит, я не зря вспомнил, Значит, я не зря умер, Значит, я не зря, Значит, я не зря………»20.01.03. — 1.07.04



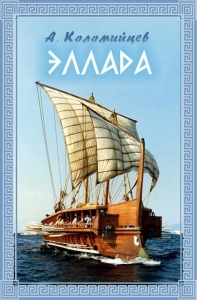
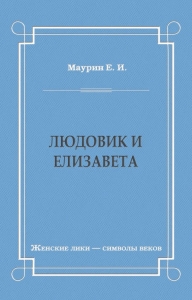

Комментарии к книге «Панк-рок для мёртвых», Яна Александровна Гецеу
Всего 0 комментариев