Повести
МОЯ МАЛЮТКА-МАРИКАН
ГЛАВА 1
Наконец Хабель добрался до Орлиного гнезда. Отдышавшись, сердито оглянулся назад. Темными косматыми копнами неслись с Байкала тучи и липли к гольцам. Сквозь просветы, далеко-далеко внизу чернел кедровник, в котором петляли по его чумнице[1] стражники.
На суровом лице появилась злорадная улыбка: «Хотели Хабеля взять!..» Таежник, освободив от юкс[2] онемевшие ноги, уселся на лыжи.
Только здесь, на огромной высоте, находясь вне опасности, Хабель почувствовал страшную усталость. Такую усталость, когда человеку бывает трудно пошевелить даже, пальцем. В ушах шумит, сами собой закрываются веки. Хочется лечь на лыжи и заснуть.
Двое суток без сна, почти без пищи, он уходил от настырных стражников.
Вторая трубка крепкого самосада лишь на короткий миг взбодрила его. После этого наступила непреодолимая слабость, и Хабель, не в силах больше сопротивляться, свалился на бок.
Сон пришел сразу же, словно окутав таежника темным медвежьим пухом.
А в это время со стороны Баргузинской долины медленно поднимался человек. За спиной у него тяжелая поняга[3]. Он часто останавливается и поправляет широкие, из сыромятной кожи лямки.
Голец, покрытый многометровой толщей снега, похож на огромное яйцо диковинной гигантской птицы.
Преодолев последний взлобок, человек в нерешительности попятился назад. На темно-бронзовом обмороженном лице выразился испуг. Руки судорожно сжали винтовку. Оглянувшись вокруг, он согнулся и поспешно скатился назад. Остановившись, прислушался. Безмолвие. От напряжения звенит в ушах. «Кто там лежит?.. Почему без огня?.. Добрый?.. Худой?.. Жив ли он?.. — пронеслись тревожные мысли. — А вдруг это стражник прикинулся больным?! Что же делать?.. А?.. Убежать без оглядки… Нет, худо будет… Горный хозяин рассердится… Закон тайги не велит бросать попавшего в беду человека»…
Осторожно подойдя к лежащему, взглянул в лицо. Из груди вырвался вздох облегчения: «Петрован Хабель!.. С ума спятил… вздумал спать на таком морозе без огня…»
— О-бой, Хабель!.. Хабель!.. Пожальста, кончай спать! Уй!.. — таежник в отчаянии затряс товарища. Наконец ему удалось кое-как разбудить спящего. Хабель бессмысленно замычал, стараясь выдавить какое-то слово. Красные воспаленные глаза словно ослепли и, ничего не выражая, тупо блуждали по лицу эвенка.
После долгой тряски Хабель немного согрелся, и к нему вернулся дар речи, ожили острые, живые глаза.
— Ха… паря… Остяк… Здорово, друг… — вырвались с хрипом слова.
— Здоров, здоров, Хабель! Однако, болела шибко?..
— Нет… спать захотел… устал… Помоги подняться. — Хабель с помощью Остяка встал на ноги и тут же со стоном опустился на лыжи.
— О-бой! Однако, тебе шибко худо есть!.. Сиди на лыжах, я тебя тащить будем…
С трудом добравшись с тяжелою ношей до соскового бора, Остяк быстро срубил сухое смолистое дерево и разжег жаркий костер. Через четверть часа Хабель, обжигаясь, жадно глотал горячий чай. Отогревшись, глухим простуженным голосом рассказал, с каким трудом ему удалось уйти от стражников. «Одни-то стражники в первый же день махнули бы рукой… А то с ними сам Сватош ходит… Ох и настырный же проклятый чех… даже ночь его не держит…» — закончил Хабель свое печальное повествование.
— Шибко будет гонять — стрелять нада… — с твердой решимостью заявил Остяк.
— Где бы подобрать скалу повыше да спихнуть его, чтоб косточку ворон не нашел… — Петрован хотел еще что-то сказать, но, навалившись на колоду, заснул.
Всю ночь сидит у огня угрюмый эвенк. Свою теплую козью безрукавку отдал Хабелю, а поэтому самому приходится часто-часто греть то спину, то грудь, двигаться беспрестанно. Бросая на товарища озабоченный взгляд, бормочет на родном языке: «Пусть отсыпается друг, а я как-нибудь прокоротаю ночь… Дело привычно…» Много трубок крепчайшего самосада искурил он, много дум передумал. Откуда-то из глубины души приходят беспокойные мысли. «Подлеморье-то наша земля… тунгусская… Великого Самагирского рода… Мои-то предки жили и промышляли по подлеморским рекам. Там и сейчас могилы ихние, в темных кедровниках прячутся от любопытных глаз русских людей… А почему Остяку нельзя промышлять зверя тут, рядом, у могил его предков?.. Видал, заповедник какой-то придумали. Черного соболя бить запрещают».
А Петрован стонет во сне, скрежещет зубами, выкрикивает несвязные слова брани. Он и во сне убегает от стражников.
Мало кто помнил, что фамилия этого охотника — Молчанов. Все его звали по прозвищу «Хабель». (От искаженного кобе́ль).
Остяк, взглянув на товарища, тяжело вздыхает, заботливо поправляет на нем козлинку. По таежной привычке опять начинает разговаривать вслух сам с собой: «О-бой, Хабельку загоняли, как добрые собаки сохатого… Чуть не пропал мужик… А такого лыжника ни у эвенков, ни у бурят, ни у русских больше не найдешь… Недаром его зовут «крылатым лыжником»… Крылатый и есть… С таких крутиков прыгает, что другого и за тысячи соболей не заставишь. Ослепнуть мне, если вру…» Эвенкийские слова, забавно переплетаясь с русскими, разлетаются во все стороны и тут же тонут в кустах, в колючей хвое ельника и сосняка. А когда Хабель, застонав, начал во сне звать Остяка на помощь, на грубом лице эвенка выразилась боль сострадания, и в темных глазах засверкали сердитые огоньки; он вскочил на ноги и, схватив таган, изо всей силы ударил по полусгнившей колоде. Пустая колода гулко ухнула. Уж насколько крепко спал Петрован и то вскочил на ноги.
— А!.. Эй-эй!.. Оська!.. В кого стрелял?!
— Колода стрелял, — усмехнулся эвенк, — я думал, Хабель бояться нету.
— Аха, боюсь!.. Это я-то?.. С одного места семь медведей убил… в Малых Черемшанах… было дело… А в человека стрелять — грязное дело… не буду и тебе не велю.
— О-бой, Хабель, худой дерево рубить можно. Закон тайги так велит.
— Но ведь Сватош-то не худой человек… Люди его хвалят.
— Он худо сделал мне… много худо… Малютку-Марикан забрала себе… Мою Малютку-Марикан… Остяк хочет промышлять…
— Тетку Марью любить! — смеясь, перебил эвенка Хабель. — Соболя ей дарить!.. Она-то тебя хошь целует аль нет? А то нынче болтали люди — подарки-то Машка берет, а ухажера пинкарем потчует! Ха-ха-ха!
— Тьфу, черна Хабель! Болтать-болтать, дурной язык, как худой баба! — отплевывается Остяк.
— Не сердись, Оська, смехом все баю… Надо же хоть малость какую сердцу растаять… А то на душе холодина стоит… Э-ах, друг, темным-темна наша тропинка… На каждом шагу смерть облизывается… Вечор, если бы не ты, дык весной харч медведю был бы… Поминай тогдысь Петруху Хабеля… А про Малютку-Марикан и не бай много.
— Сватош шибко худо делал. Сватош-то смотрель-смотрель Подлеморье. Видит: шибко богата есть… смотрель мою Малютку-Марикан… Жадный глаз все видел — богата, красива, соболь черный! Вот забрала себе все, а тут бедный тунгус долой гоняли… Стрелять буду!.. Убить буду!..
— Будя, Оська. Эвон светать начинает, надо чай пить да убираться восвояси.
Далеко-далеко на востоке, за благодатной долиной Баргузина, где небо подперли своими исполинскими плечами Иккат и его братья, кто-то завесил часть неба розовым шелком. От этого макушки могучих деревьев и белозубый голец Орлиное гнездо окрасились бледно-розовым светом, а предрассветная серая муть, словно растворяясь в молоке, поспешно исчезла.
Позавтракав, приятели молча закурили. Над их головами закурчавился жиденький дымок. Тишину нарушало лишь ленивое потрескивание умирающего костра.
— Петрован, долго ходить в Баргузин будешь?
— Скоро вернусь, Ося, чо там делать-то… А где, паря, тебя искать буду?
— Малютка-Марикан ходи.
— Ладно… У нее можно поживиться кое-чем… Верно, стражники у Марикан нас и караулят… Знают, черти, где Оськина любовь таится… Знают, что и меня ты туды же тянешь за собой… Э-э, чо там думать! Тонуть, дак в Байкале, падать, дак с гольца!.. Прийду, братуха, жди со спиртом… Я ж ведь с промыслом… до-ообренького добыл!
В узких черных глазах засверкали искорки. Эвенк чмокнул и облизнулся.
— Таскай-таскай спирт! Хозяина тайги угощать нада… Малютку-Марикан поить будем… Она любить будет… Соболь давать будет. Чо-о-орна соболь… саму головку… Тунгус все знает…
— Малютке-Марикан только капельку нальешь — остально сам сожрешь, — усмехнулся Хабель.
Остяк поднялся первым. Встав на лыжи, ловкими привычными движениями вдел ноги в юксы, взвалил понягу и, кивком головы попрощавшись с Хабелем, исчез за заснеженными деревьями.
Когда затих шорох широких охотничьих лыж, Петрован вынул из грязного продымленного куля черную тряпочку и трясущимися руками начал осторожно развертывать ее. При виде темного клубочка меха зрачки серых глаз лихорадочно заметались. Покрытое рыжеватой щетиной лицо расплылось в улыбке. Он дунул на ворс. Ворсинки заметались, заискрились солнечной радугой. Расправив шкурку, охотник тряхнул ею, и чудесный мех весь загорелся мельчайшими огоньками, чернотой соперничая с крылом вещего ворона. «Ух ты! Душа-голубка, красота-то, красота!..» — зашептали обветренные губы. Таежник осторожно провел мехом по грязной обмороженной щеке. Прикосновение нежного шелковистого меха заставило его зажмуриться. Как в чудесной сказке, перед Хабелем всплыли безмятежные дни молодости, и словно наяву почувствовал он ласковое прикосновение девичьей щеки.
— Головной-то соболь, кажись, еще не вывелся, — вслух проронил охотник и перекрестился, — слава богу, спасибо Миколе-чудотворцу, благодетелю и заступнику нашему.
Глубоко, где-то в лохмотьях грязной запазухи, спрятал он драгоценную шкурку, надел лыжи и скатился на крохотную полянку. Огляделся. Тихо-тихо кругом. Морозно. А долина Баргузина окуталась тонкой кисеей.
— Внизу кыча[4] идет… там теплее, — сказал Хабель малюсенькой елинке[5], — катись со мной, дуреха, чем тута мерзнуть на ветру.
Оглядываться назад ему не хотелось. А тем более думать о последних днях страшной погони, когда стражники, подменяя один другого, гнались и гнались за ним. Его спасла виртуозная техника ходьбы на охотничьих лыжах. Несколько раз он приводил своих преследователей к головокружительным кручам и, помахав им, бросался вниз. Пока они обходили этот опасный спуск, Хабель успевал напиться чаю и отдохнуть. Но все равно он еле-еле сумел избежать ареста.
Охотник облегченно вздохнул: «Еще раз удрал от Зенона Сватоша… Черт бы его побрал!» Уже потеплевшими глазами взглянул на долину, где стесненный крутыми скалистыми горами и гранитными порогами беснуется голубой Баргузин. Здесь стоит извечный гомон — спор реки с Шаман-горой. А чуть повыше, на высоком сухом берегу, приютилось старинное село, которое местные старожилы именуют городом. Там, у Банной речки, охотника ожидает старенькая, с низким потолком изба, о которой ходит дурная слава, и называют ее «Бабьи слезы». В этом «заведении» даже стены пропитались спиртом и изо всех углов тянет горьким водочным перегаром.
А выйдя из тайги с добычей, Хабелю, да и всем его дружкам просто грех обойти этот дом. Лишь перешагни грязный порог — неделя пролетит в нем, как одна кошмарная ночь. От соболька и хвостика не останется.
— Ничё, пропьем, а по миру не пойдем!.. Собольков Зенон расплодил… — кому-то вслух сказал Хабель в подтверждение своих мыслей. Проверив юксы, подтянул кушак, туже нахлобучил свою обгоревшую, оборванную шапчонку. Набрав полную грудь воздуха, бросился вниз по крутому склону.
ГЛАВА 2
Из мрачного ущелья диким галопом вылетает шумливая речка. Очумев от буйного бега, она сначала ничего не может понять, но потом, чуть приостыв при виде Байкала, тихо журча, бросается в объятия моря.
Речку эту зовут Кудалды, от слова «худалдан», что означает «торговля». С незапамятных времен по устьям подлеморских рек жили эвенки Самагирского рода. А в устье Кудалды находилась резиденция вождя самагиров. В определенное время в свое родовое управление съезжались все члены рода. Везли черных соболей для оплаты ясака — подати. Везли и другие дары богатой природы. Сюда же съезжались и соседи: буряты, русские. На празднике открывался торг. Вот и прозвали шумливую речку торговой.
У самого берега на крепких опорах возвышается маяк. Немного подальше — дом маячника. А еще выше — добротное здание с большими светлыми окнами. Видать, дом рубили отличные мастера. И для долговечности покрыли железной крышей.
До тысяча девятьсот шестнадцатого года в этом доме находилась канцелярия родового управления.
А в тысяча девятьсот шестнадцатом, в самый разгар первой мировой войны, по решению царского сената эвенков переселили в устье реки Томпа, а здесь был организован соболиный заповедник.
В январе 1926 года декретом СНК РСФСР был учрежден Государственный Баргузинский заповедник, основной задачей которого являлось сохранение и увеличение запасов ценного баргузинского соболя.
Охрана заповедника имела целый штат лесников, которые еще долго именовались по старинке стражниками.
В доме бывшего родового управления теперь находились канцелярия заповедника и квартира директора.
В крайнюю избенку вошел высокий молодой стражник. Голубые глаза его встретились с лучистым детским взглядом.
— Ну как, «от хвостика грудинка», давно проснулся? — спросил он своего сына, сидящего на лавке.
— Я уж чай пил… с сахаром.
— Вот и молодец; а почему без штанов-то?
— Завтра мама их стирала.
— Вот тебе на: «завтра». Говори: «вчера». А мать-то где?
В сенцах послышались чьи то шаги. Отец с сыном оглянулись. В распахнувшейся двери показалась высокая стройная женщина. Мороз разрумянил белое лицо. Темно-синие глаза искрились счастьем.
— Куда, Витя, ходил?
— К Зенону Францевичу.
— Снова в обход идете?
— В этот раз далеко пойдем… В верховьях Лунной речки появились хищники. Надо их поймать…
— Тятя, они страшные?.. Рога есть?..
— Аха, сынок, бодаются, как дедушкин бык, смотри не бегай к морю. Раз-два, и посадят тебя на рога, а потом уволокут к себе в море. Вот…
У ребенка расширились глаза. От страха и удивления раскрылся ротик.
Отец рассмеялся и, схватив сына, прижал к широкой груди.
Валентина, поставив подойник с молоком на стол, подошла к мужу и погладила широкое плечо, тихо, почти шепотом сказала:
— Какой ты ласковый, милый Витя!.. Ты… ты уж, Витенька, стерегись… ладно?.. Добра-то от них не жди… Начнут огрызаться… а стрельнуть-та им, каторжным, ничего не стоит…
— А ишо чо будешь баить?
— Каждый раз сердце ноет… пойми…
— Эх, Валюша, ты снова за старую песню. Лучше собери-ка харчишки, а я схожу к Бимбе.
В синем небе висит зимнее солнце. Пусть оно не греет, но зато по-забайкальски щедро освещает ледяное поле Байкала.
Две человеческие фигурки скоро уже поравняются с Громотухой. Валентина до боли в глазах всматривается в сверкающую даль, где едва заметными точечками то исчезнут за торосом, то снова появятся Бимба с Виктором.
И вот путники, еще раз показавшись на гребне громадного тороса, нырнули вниз и совсем исчезли из виду. Валентина долго еще всматривалась вдаль в надежде увидеть их, но, так и не дождавшись, тяжело вздохнула и медленно пошла домой.
У малюсенькой хатенки она увидела подметающую снежную порошу пожилую рослую бурятку, которая украдкой нет-нет да взглядывала вслед ушедшим стражникам и бормотала какую-то молитву, в которой часто-часто упоминались лама[6] и бурхан.
— Тетка Цицик, пойдем ко мне чай пить.
— Пасиба, Валя, чичас пила.
— Ну хошь так посиди со мной.
— Ладна, пойдем, девка, курить буду, а ты чай пей… Печаль делать худо, бурхан не любит, талан[7] не дает… шибка худа, о-ёй-ёй…
Виктор и Бимба по-охотничьи споро шагали вперед. Несмотря на молодость, Виктор считался опытным стражником. Зенон Францевич ценил его за исполнительность, смелость и находчивость, товарищи уважали за веселый, незлобивый характер.
А Бимба еще совсем зеленый стражник. Он слабо ходил на лыжах, и головокружительные спуски с гольцов и крутых гор давались ему мучительно трудно. «Вверх-то идти на лыжах могу до самого небожителя Будды, а вниз боюсь, — башка может долой отлететь…» — жаловался он товарищам.
Во время каждого обхода заповедника он падал столько раз, что не сосчитать. И как подтверждение тому домой в Кудалды заявлялся с шишками на бритой голове, синяками и расцарапанным лицом. Тетка Цицик, критически окинув сердитым взглядом, качала головой и ворчала:
— Баран тебе пасти в Барагхане, а не по поднебесным святым горам ходить… Сколько отговаривала тебя, непутевого. Одно затолмил: «Дал слово Зенону, пойду работать у него…» Эх, Бимба, Бимба!
Однажды во время очередной поездки по торосистому мерю лошадь Сватоша провалилась в полынью. Он в отчаянии бегал вокруг полыньи с черной, зловещей, бездонной водой, не зная, как помочь бедному животному. По щекам текли непривычные слезы.
В это время откуда-то из-за торосов вынырнул человек в белом халате и с волосяными наколенниками[8], темные защитные окуляры, за которыми прятались глаза незнакомца, делали его злым, таинственным. «Нерповщик[9], — мелькнула мысль, — этот знает, что делать». Сватош всегда верил в силу и ловкость байкальского человека.
— Помоги, дорогой товарищ!
— Чичас ходить будет на лед, — уверенно сказал незнакомец. Движения у него были быстрые, точные. На конце толстой возовой веревки он сделал затяжную петлю и надел ее на шею лошади. Затем, туго затянув чересседельником концы оглоблей, закинул между ними веревку и приказал Сватошу тянуть за нее что есть силы. А сам схватился за хвост лошади. Через минуту мокрый, охваченный лихорадочной тряской конь был на льду. Чех с восторгом и благодарностью смотрел на спасителя. Толстая веревка, свившись змеей, лежала у его ног.
А незнакомец уже впряг в сани дрожавшего коня и сердито окрикнул: «Чо стоишь, колода, коня греть надо!..»
Сватош, поспешно схватив веревку, свалился в кошевку[10]. Мчались они меж высоких торосов. Так мчались, что захватывало дух. Бедный Зенон Францевич, засунув руки в рукава собачьей дохи, беспомощно, словно круглая чурка, катался из стороны в сторону в просторной кошевке, а незнакомец, ловко правя лошадью, выкрикивал какие-то дикие гортанные звуки.
Наконец, остановив лошадь, нерповщик обошел ее, по-хозяйски похлопал, погладил, осмотрел сбрую, подтянул чересседельник.
— Эй ты, больше одна в море не ходи, худо будет — тонуть будешь…
— Спасибо за совет, друг! Давай познакомимся, так-то грех расставаться… Ты же спас мне коня, да и самого тоже.
Голубоглазый, среднего роста, крепкий человек подошел к нерповщику и пожал руку.
— Меня зовут Зенон Сватош… Живу в Кудалдах. Заезжай ко мне в любое время, гостем будешь.
— Я Бимба из Барагхана… Тоже ходи к нам… Гость будешь… Баран резать будем, араку пить, — улыбнулся бурят.
— Буду у тебя обязательно. Ты мне понравился, Я люблю смелых и находчивых. И правильно назвал меня колодой. Ко-ло-да! Ха-ха-ха!
Бимба тоже рассмеялся.
— Сердцу скажи, Зенон, пусть зла нет на мои худы слова. Сердита был я, коня жалел…
Во время нерповки в следующую весновку, спасая тонувшего нерповщика, Бимба сам накупался и простудился. Его привезли в Кудалды. Как за ребенком, ухаживали супруги Сватош за Бимбой. Сильный организм преодолел недуг. Целый месяц пришлось Бимбе ждать, пока море освободится ото льда и в Сосновскую губу заглянет «Ангара»[11].
Непоседливый охотник пилил дрова, столярничал, помогал ремонтировать лодки. Частенько заглядывал и в питомник. Притаившись где-нибудь в сторонке, подолгу любовался черными соболями, удивляясь их крутому нраву. «Шибко сердита зверь… Была бы с собаку, людей много давил бы», — говорил он, качая головой.
А в свободное время они со Сватошем уходили в тайгу и там беседовали. Зенон Францевич рассказывал о дальних странах, теплых и холодных морях, о людях и зверях, живущих в тех местах. Но больше всего они говорили, конечно, о заповеднике. Окинув потеплевшими глазами тайгу, Сватош уверенно говорил: «Соболя так много расплодится, что он расселится по всему Забайкалью. А потом его будут отлавливать живым и развозить в другие края, где растет лес».
Бимба молча и внимательно слушал Сватоша, порой не верил, но не подавал виду. А однажды в конце беседы все же не вытерпел и укорил хозяина:
— Эх, Зенфран (он не мог выговорить полностью имя и отчество Сватоша), много соболей сохранила ты, а жене воротник из кошки делал.
От души смеялся Сватош над замечанием своего друга, а потом серьезно сказал:
— Нельзя, батенька мой, за-по-ведник! Понимаешь, Бим, лучше дам отрубить себе руку, чем позволю убить соболя. Да!
Понял Бимба, что такое заповедник и какая огромная польза от него людям. А когда пришло время расставаться, крепко пожав руки супругам Сватош, потоптался на одном месте и прерывистым голосом спросил: «Зенфран… друг мой… Однако, ходить буду Кудалды… жить… работать… Тебе помогать…»
Так степняк Бимба стал стражником заповедника. Он не обращал внимания ни на трудности, ни на свои синяки и шишки, ни на ворчливые нарекания тетки Цицик.
…В обед стражники дошли до скалистой Лунной речки. Вот и охотничья юрта, чуть выглядывающая из-под снега. Ее можно принять и за муравейник, укрытый толстым слоем снега. У этого жалкого жилья два отверстия. В одно ползком влезли друг за другом Виктор и Бимба, а из другого скоро повалил дым. В юрте было душно. Дым спирал дыхание, до слез щипал глаза и нос.
Пообедав, Виктор с Бимбой выбрались из юрты, пошли вверх по крутой, ухабистой Лунной речке. Она даже под ледяным покровом грозно шумела на своих бесчисленных порогах. Свежая пороша тоненьким слоем покрыла старую чумницу, и широкие охотничьи лыжи, подбитые лосиным камусом[12], скользили, как по маслу. Тишину тайги нарушал лишь скрип лыж, да изредка кто-нибудь из двоих стукнет своей ангурой. Шли молча, зорко всматриваясь в подозрительные предметы.
Во время первого перекура Виктор, внимательно осмотрев свой новенький карабин, протер затвор и зарядил.
— А у тебя, Бим, палка или боевое оружие?.. В порядок надо привести. Тот раз в Сватоша стреляли, а сейчас в нас могут пальнуть. Тоже мне стра-а-ажники! — голубые глаза осуждающе оглядели беспечного бурята.
— Ха, Зенфрана стреляли… хотели пугать… Думали, больше тайга ходи не будет…
— Эх, Бим, они знают, что Зенон Францевич не из заячьей породы… Хотели ухлопать его. Вот и все.
— Ладна, паря, Бимбушка, верно, дурак есть… Толмач[13] совсем мало… — Зарядив свой карабин, Бимба закурил трубку и крепко задумался. Он никак не мог понять, почему некоторые люди, рискуя попасть в тюрьму, идут воровать соболя в заповедник. И мало того, — еще и считают Зенфрана своим врагом. Хотят непременно убить его. Эх, какие непонятливые люди, как можно сердиться на Зенфрана? Ца-ца-ца! Совсем дурные эти бра-ка… бра-ко… тьфу! Язык не может выговорить, как их называют… Гнать их надо! Тюрьму садить надо!
Громко кашлянув, мотнул головой, одобряя свои мысли, и толкнул в бок товарища.
— Витька, ты бы стала харабчить (воровать) соболей в заповеднике? А?.. Зенфрана стрелять, как те бараны?
— Ха, сказал тоже! А вот эти «бараны»-то согнут тебя в бараний рог, только попадись на их улице… Это мы с тобой здесь в заповеднике хозяева. Тут-то мы можем арестовать браконьеров, и вся игра.
— Это как рога загнуть?.. Барану рога бурхан дарил… у Бимбушки нету!
— Ха-ха-ха-ха! Не беспокойся, Бим, женишься, баба наставит тебе рога! Только бы твой бурхан послал тебе шуструю… Знаешь, бывают такие… Эх, держись только! Отвернешься чуток — рога с ходу прирастут… белые, черные, всякие…
Бимба, часто моргая, смотрел на Виктора, который, смеясь, говорил про какие-то рога, которые наставит ему будущая жена… Не-ет, тут что-то не то!
— Эх-хе-хе! Витька-Витька! Много болтать толк нету… Шибко пустой слова есть… Э-эх, тала!.. — качает головой обиженный Бимба, — лучше ходить нада.
— И верно. Пора уж.
И опять осторожно пошли друзья по затвердевшей чумнице, а зимнее солнце уже клонилось к закату. Чумницу нет-нет да пересечет след соболя. Хитрым кружевным сплетением уходит он в мягкую тень кедровника.
— С каждым годом все больше и больше собольих стежек… Недаром, Бим, проливаем пот в этой тайге. Недаром!.. — в голосе Виктора послышались горделивые нотки.
В самом прижимистом месте, где гранитная скала очень напоминает уродливую человечью голову, нависшую над речкой, непослушные лыжи Бимбы, воткнувшись в цепкие ветки ольхи, сбросили лыжника. Бимба больно стукнулся головой о выступ скалы и до крови расцарапал лицо. Весь в снегу, он с трудом встал на лыжи, подтянул ослабевшие юксы и поспешил вдогонку за товарищем.
За крутым поворотом Бимба увидел Виктора, наклонившегося над чем-то. Подойдя к товарищу, Бимба увидел совсем свежую чумницу, которая накрест пересекла старую и, петляя меж стволов вековых сосен, скрылась в густом ельнике.
Виктор, при виде браконьерской чумницы, словно соболевая лайка, почуявшая парной[14] след зверька, готов был тут же в погоню, но его вовремя сдержал холодный расчетливый навык, полученный от Сватоша, — определить время, когда прошли нарушители, количество их, вооружение.
— Бимба, не затаптывай следы… Сейчас узнаем, сколько этих сволочей…
Стражники прошли сотню метров и остановились.
— Знаешь, Бим, их двое… видишь кедринку, один след слева, второй справа.
— Верно, паря, баишь… Однако, один русска мужик… много хлеба ела… его лыжи глубоко в снег уходят, а вторая совсем поверху ходит — это, наверна, тунгус, — заключил Бимба.
— Ого, Бим, у тебя нюх есть… из тебя должен получиться добрый стражник… — Виктор одобрительно взглянул на бурята. — Только вот одна загвоздка… На лыжах ходишь хуже моей Вальки. — Помолчав, Виктор уже серьезно добавил: — Ладно, братуха, проверим ружья, и айда догонять. Не уйдут от нас! Только рази Хабель с Остяком сумеют утянуть, черти…
Широко, с накатом зашагал Виктор. Бимба, стараясь изо всех сил не отстать, с завистью наблюдал, как гибкие лыжи Виктора жадно лижут сметану переновки[15]. Временами в спешке правая лыжа Бимбы то и дело норовила свернуть с чумницы и воткнуться носком в рыхлый снег или зацепиться за какую-нибудь ветку. Все же лыжа взяла свое — воткнулась! Бимба, споткнувшись, перевернулся через голову, быстро поднялся и, поправив юксы, снова побежал за скрывшимся из виду товарищем. Много ли прошли, а пот катился ручьем, заливая глаза. «Ох, горе бедному Бимбушке! Ох, горе!..» — горевал про себя молодой стражник.
А Виктору хоть бы что! Идет себе спокойненько, движения у него размеренные, ловкие, без усилий. Чего ему потеть!.. Такие же ровные, четкие движения, Бимба видел, делает кругленькая медная чашечка на часах, висящих в доме Зенфрана. «Идет на лыжах — будто плывет на лодке вниз по Баргузину… с ветерком… Эх, хорошо! Мне бы так научиться — всем браконьерам бы пришел конец, — подумал Бимба. — Ох, однако, он шибко мастер… А еще, говорят, есть Хабель, есть Остяк… Против них нет на белом свете лыжников. Те, говорят, летают со скалы на своих шаманских лыжах. Умеют заманивать стражников под снежный обвал. Наверно, эти люди — шаманы. Черные мысли заставляют их воровать соболей в заповеднике, а мы мучаемся из-за них. Зенфран говорит — придет время, стражников не надо будет — люди перестанут браконьерить… Ой-ёй, однако, этому не бывать… Ох, когда же переведутся худые люди… Хара шубун[16] — их отец, а мать из змеиного рода… попробуй изведи их…»
Бимба, взглянув вперед, увидел лишь одни толстые стволы хвойных деревьев, а Виктор ушел уже далеко. «У-у-у, бохолдой[17], однако; много отстал!..» Бежит Бимба, падает, отряхнувшись снова бежит. Вот и солнце закатилось. Быстро сгущаются сумерки. Тревожно на сердце у Бимбы. Он еще быстрее старается бежать. «Эх, худой я стражник. Верно тетка ругает меня. Баран мне пасти надо, а не браконьеров ловить… Шкуру свою оставлю где-нибудь на сосне… Дурак-дурак».
Наконец между деревьями сверкнул огонек. «Витька уже чай сварил, а я ползу, червяк несчастный», — ругает себя Бимба.
Подойдя к огню, он снял лыжи и виновато глянул на товарища. Встретив приветливую улыбку, облегченно вздохнул.
— У-у-у, кое-как догнал тебя.
— Чо, умаялся, горемыка? Снимай понягу-то… Вывязывай куль, доставай свою большую чашку и грей брюхо чайником, а спина согреется от огня.
— О, это я мастер! Чай пить, дрова рубить. Бимбушка может.
— Эвон срубил, пока было светло, две сушины; отдохнем, да надо раскряжить их.
— Аха, паря, ночь будет холодная… дрова много жрет огонь…
Мало спал Бимба в ту ночь. Через час-другой подбросит дров, нарубленных двухметровыми сутунками[18], закурит, чуть-чуть вздремнет и снова кочегарит. «Пусть Витька спит. Силы будет больше, хищников догонит, — рассуждал он, заботливо посматривая на спящего товарища. — А я-то уж…» Бимба, тяжело вздыхая, качал головой. Живые карие глаза печально глядели на яркий огонь.
Когда над темным горизонтом неба начало чуть-чуть отбеливать, а утренняя звезда, весело подмигивая, сообщила о близком конце холодной, бесконечно долгой ночи, Виктор приподнялся и сонными глазами окинул Стог. Разглядев ссутулившуюся у костра фигуру Бимбы, спросил:
— Ты, паря, спал ночь-то?
— Спала хорошо. Пей чай, да ходить будем.
— Ты уж и чайку сварил?.. Вот молодчина!
К обеду второго дня стражники подошли к крутой скалистой горе. У небольшого незамерзающего родничка они обнаружили тлеющий костер. Браконьеры, видимо почуяв неладное, собирались очень поспешно. Об этом свидетельствовала глубокая зеленовато-желтая воронка в снегу от вылитого горячего чая. Валялось несколько кусков сухарей, про которые в тайге уважительно говорили «сухарики-сударики», и упаси бог, бросаться ими — великий грех. А тут как прижало — голову потеряли.
— Э-э-эх, черт возьми, улизнули! — Виктор от великой досады неистово зацарапал затылок. Затем, подумав, решительно тряхнул кудрями.
Внимательно осмотрев лыжи Бимбы, сбросил свою понягу.
— Бим, вижу, твои лыжи добротные… да и сам ты крепкий парень. Бери мою понягу и иди не спеша по их чумнице… Поди справишься с двумя-то понягами?
— Ха! Четыре поняги тащить буду! Сила е!
— Вот и молодчина! А я без поняги-то мигом догоню их. Дергану через утес и свалюсь им прямо на плечи. Понял?!
— Поняла-поняла! Только смотри… От худых людей худой дело жди… Хитрить нада мала-мала…
— Не бойся, братуха!..
Их двое. Рыжий и черный. У рыжего единственный, зеленый с крапинками, кошачий глаз прячется за лохматой бровью. Руки в собачьих рукавицах трясутся мелкой дрожью. Виновато сердце. Страх сжимает его до боли.
Второй — маленький, щупленький, с хитрыми узенькими глазками. Покрытое грязью бронзовое лицо плотно замкнуто — не прочтешь, что на его душонке творится.
Уже с соседнего склона прошумели чьи-то лыжи. Неизвестный лыжник с поразительным упорством и быстротой настигал двоих.
«Похоже, летит сам Хабель… Нешто Сватош сманил его к себе? — проносится в голове рыжего. — Да кто бы ни был, стукну — и вся игра…»
Рыжий, воткнув свою ангуру, решительно снял с поняги берданку. Черный в испуге замахал рукой.
— Ой-ей-ей! Омелька, нельзя убиль, грех болса.
— Цыть, тунгусская собачонка, хошь самого пристрелю!
— Пугать не нада. Джоуль смерть бояться нету. Стражник семья имеет… ребятишка…
— Уходи, тварина… бусурмана, шамана и твою мать!
— Кака ти охотник? Сера волка зла! — Эвенк окинул товарища сердитым осуждающим взглядом, плюнул и бросился прочь.
Пройдя еще немного по чумнице сбежавшего Джоуля, рыжий залег за громадный вздыбленный выворотень. На один из щупальцев-корней положил ствол винтовки и начал прощупывать цель.
А цель быстро приближалась.
* * *
Далеко впереди раздался выстрел. Бимба вздрогнул. Неприятно заныло сердце. «Пуля попала в цель… Кто же из них упал?.. А Виктор-то не стреляет в человека… Уж в крайности сначала в воздух, а потом…» — проносятся тревожные мысли.
Вихрем летит Бим по крутому склону, где браконьерская чумница вьется меж скал и деревьев. «Смотри-ка, не падаю… Это оттого, что некогда… Эх, лететь бы надо, да крыльев нет!» Бимбе кажется, что он бежит бесконечно долго. Проклинает себя, сердится на неуклюжие широкие лыжи, которые шибко-то не разбегутся, где надо.
Наконец он увидел уткнувшегося головой в снег человека.
Сердце сжалось, стало трудно дышать… Знакомая серая солдатская шинель, которую Виктор подрезал, чтоб не мешала при ходьбе. «Брат, тебе худо есть?!» — бросился к другу. Схватил за плечи. Приподнял. Большие голубые глаза безжизненны. Приложился к груди. Сердца не слышно. Руки друга стали деревянными, холодными… Бимба хотел что-то сказать, но горло, сжато. Глаза сквозь слезы ничего не видят.
Тяжело поднявшись, Бим проверил ружье и с разбега бросился в ущелье вслед за браконьерами. Добежав до границы заповедника, он остановился. «Э-эх, ускользнули змеи!.. Но… но найдут негодяев добрые люди…» Упрямое монгольское лицо, словно высеченное из темно-желтого гранита, выражало печаль и непримиримую враждебность. Потоптавшись на месте, круто развернулся и покатился назад.
Вернувшись к трупу товарища, Бимба внимательно осмотрел место, откуда был произведен выстрел. По отпечаткам на снегу он узнал, что стрелял один человек, а второй даже не сошел с чумницы, видимо, не приняв участия, ушел дальше, чтоб не смотреть на страшное дело.
«Стрелял тот, кто крупнее, — те же глубокие вмятины в снегу, одна лыжа чуть шире другой… Тунгус на таких лыжах не пойдет, они народ аккуратный в лесу», — заключил Бимба.
Не найдя больше никаких особых примет, стражник подошел к покойному товарищу. Нарубив еловых веток, сделал над ним шалашик. Затем, прочитав слова заклинания, обратился к нему: «Витька, твоя Бимбушка ходить Кудалды, звать Зенфрана… Тебе не нада сердись».
Идет Бимба, а на душе черным-черно. Что скажет Валентине?.. Перед Бимбой встает образ жены друга… Белое нежное лицо, большие светлые, как байкальская вода, глаза тревожно смотрят на него… Бимба не знает, как будет смотреть, что говорить… «Эх, лучше бы меня убили… Жены нет, детишек нет… Тетка есть, но она плакать не будет, обычай запрещает плакать о покойнике… Как же это я… буду Зенфрану… людям… Ох, худо-худо!» — со стоном причитает бурят.
Вот Бимба дошел до браконьерского костра, где они расстались с другом. Устало плюхнулся прямо на лыжи. Полулежа закурил. Сквозь кудрявую дымку рассеянно посмотрел на свежесрубленное дерево, вершина которого и его смолистые, иссиня-черные сучья ушли в костер, а на комле сидели те негодяи.
Он помнит, с каким негодованием говорил Зенфран о браконьерах… Такой добродушный, хороший человек и так ненавидит их… Теперь Бимба это понял. Эх, а Витька-то тоже не любил их. А так-то он и червяка не обидел… Ох, хороший был мужик. Мог неделями ночевать на снегу, быть голодным, но браконьера скараулит, изловит. Э! Мужик был золото. Последний кусок хлеба разломит пополам. Золотой человек! Кого он обидел? Кому сделал худо? Ой, Витька-Витька!
Вдруг Бимба заметил под комлем какой-то темный предмет. Пригляделся. Нет, глаза не врут. Засунул руку и пальцами нащупал что-то мягкое. Сердце сильнее застучало. Трясущаяся рука вынула кисет. Тунгусский, вышитый бисером, со множеством кисточек кожаный кисет. Присмотрелся. На левую верхнюю кромку кисета когда-то упала искорка и прожгла круглую дырочку.
Бимбе кисет показался очень знакомым. Он начал припоминать, когда, где и с кем курил из него. Никак не может Бим вспомнить. Никак. От досады он взмолился: «О, бурхан, ты велик и всемогущ, помоги бедному буряту — сыну твоему!» И молитва не помогает. Он сердится на бездушие бога. «Недаром Зенфран говорит, что бурхана нет совсем… Наверное, так… Если б узнал я, чей это кисет, — сразу бы нашли негодяев… А еще тебя, бурхан, зовут справедливым, наказывающим убийц…» Долго, мучительно долго вспоминает Бимба. Злится. Ругает себя: «Короткая, бабья память у Бимбушки… Дурак дураком родился… а еще пошел к Зенфрану охранять заповедник…» И вдруг он вспомнил: «Тунгус Джоуль хлопнул его по плечу и протянул кисет с табаком… Кисет из кабарожьей замши, тонкой тунгусской работы… В то время кисет был совсем новенький, но уже прожжен… Бимба упрекал тогда Джоуля за неряшливое отношение к такой красоте. Молодой тунгус показал два ряда белых зубов и сказал: «Пока Джоуль жив, бабы не перестанут дарить ему кисеты… Этого добра хватит на наш век…»
В глазах Бимбы всплыл образ тщедушненького, хвастливого, трусоватого Джоуля. Темное лицо с беспокойно мечущимися в узких черных глазах зрачками. Хитрая улыбка.
Кто же из охотников ходит с ним?.. Ой-ой! В прошлую осень, когда Бим ездил в гости в родной улус, Джоуль продавал белку купцу Моське… с ним был Омелька Зараза…
Однако так и есть, с Омелькой Заразой никто не водится, кроме Джоуля. Остальные-то беловодские тунгусы народ честный, добрый… Уж с кем, с кем, а с Заразой-то якшаться не будут. Как из тяжелого сна, явился перед Бимбой образ Омельки Заразы… Кривой, рыжий, вечно пьяный, единственный глаз сверкает или злобно или насмешливо. Через каждое слово мат или его любимое — «зараза», за это и прозвали Омельку кривого Заразой.
— Все понятно! Омелька Зараза убил нашего Витьку! И-и-их! Отомстим! — дико взревел стражник.
— И-и-их! — отозвалось таежное эхо.
Бимба заскрежетал зубами. Поправив за плечом винтовку, еще раз взглянул на кисет и с силой засунул его далеко за пазуху; затянул туже юксы, бросился вниз, в сторону сверкающего девственной белизной зимнего Байкала.
ГЛАВА 3
Виктора похоронили на возвышенном берегу, откуда были видны широкие просторы его любимого моря. В непогоду заповедная тайга пела величественные гимны в честь павшего своего защитника. В такие часы на одинокую могилу приходила молодая стройная женщина. Она о чем-то тихо со слезами жаловалась своему мужу.
За Валей приезжал отец, чтобы увезти ее домой, но она наотрез отказалась уезжать из заповедника. Зенон Францевич поручил ей уход за соболями в питомнике. Эта нелегкая и ответственная работа нравилась ей. Беспокойные зверьки требовали постоянного внимания. Целиком отдаваясь работе, она легче переносила тяжелую утрату.
Увидев в руках следователя свой кисет, Джоуль признался во всем. Браконьеры получили заслуженное.
* * *
На вершине Медвежьего ключа у огромного выворотня горит костер. Ночная тьма чуть забелилась жидким молоком. На душистых еловых ветках сидит Зенон Францевич и на свежем пухлом снегу чертит топографическую карту Малютки-Марикан. За его работой внимательно следят три пары глаз. Все молчат, только изредка слышен спокойный ровный голос Сватоша. Он произносит лишь названия речек и горных перевалов. Когда план был готов, светло-голубые глаза чеха серьезно оглядели собеседников и одобряюще улыбнулись.
— Гнаться за ним почти бесполезно… Уйдет варнак. Хитер, ловок, вынослив, как лошадь Пржевальского… Это дикий предок нашего коня. Живет в степях Монголии… Когда-нибудь на досуге расскажу про эту чудесную лошадь и про человека, который открыл ее для науки… Да, Хабеля можно изловить лишь в его логове ночью… Для этого нужно прежде всего выследить его место пребывания. Только очень осторожно, чтобы не спугнуть… Вот ты, Бойчен, всех нас ловчее. Ты разведаешь его новую юрту… Вот и иди… А мы постараемся как можно дальше обойти места, где он капканит, и будем тебя ждать на чумнице, ведущей к Орлиному гнезду.
Эвенк гордо поднял голову, выпрямился и, вынув изо рта трубку, спокойно ответил:
— Бойчен умейт следить зверя… Не уйдет и хитрый Хабель… Кувастать не буду я.
— Вот и хорошо, Бойчен… Ступай, дорогой мой.
Через час Бойчен заметил в косогоре воровскую, петлявшую по непроходимой трущобе, чумницу. Искусно замаскировавшись в густом ельнике, следопыт стал терпеливо ждать появления браконьера.
А мороз крепчал. Сначала он бесцеремонно забрался через шинель и меховую безрукавку, потом он начал студить ноги. Здесь его не смогли задержать ни олочи, добротно сшитые из лосиного камуса, ни собачьи накочетки[19], ни шерстяные чулки.
— Однако мало-мало холодно, — неожиданно для себя громко проговорил стражник и, спохватившись, до боли прикусил язык.
Часа через два Бойчен так продрог, что его трясло словно в лихорадке. «Эх, вот бы встать и пройтись! — мечтал он и тут же укорял себя. — Ишь, захотелось ходить. А Хабель услышит, тогда что? Мигом след простынет… Он на лыжах от ветра не отстанет, догони попробуй… Люди говорят, что он шаман… Горный хозяин ему помогает… Тьфу, язва…»
Рядом с Бойченом, закутавшись в снежный тулуп, стоит могучий кедр. В густой шелковистой кроне душистого плодоносного дерева белка сделала себе гайно[20]. В гайне тепло и уютно. В холодное время белка, укрывшись пушистым хвостом, обычно дремлет до поздней поры. А сегодня спозаранку ее разбудил человеческий дух и шорох лыж. Человек остановился под ее родным деревом и о чем-то тихо бормочет, надоедливо топчется на одном месте. «Чего ему нужно?.. Не за мной ли пришел?! Ждет меня, а сам пускает вонючий дым». Запах проник в ее чистенький домик и вынудил хозяйку покинуть тепленькую постель. «Ох и противный же этот зверь — человек. Наверно, хуже-то его нет существа во всей тайге. Самый страшный и жадный! Ух!» Черные глазки с тревогой наблюдают за человеком. Вдруг с высоты белка услышала шорох других лыж. «Ишь ты, ждал товарища!.. Хотят вдвоем убить меня!» — решила белочка и, сердито зацокав, перескочила на другое дерево.
Недаром Зенон Францевич отправил Бойчена выслеживать Хабеля. Опытный следопыт сразу же разгадал причину тревожного резкого цоканья и поспешного бегства трусихи белки. Стражник забыл о морозе, весь превратившись в слух. Наконец и Бойчен услышал шаги лыжника. Ближе!.. Ближе!.. Вот в соседнем ельнике промелькнула темная тень. В ту же минуту с Бойченом поравнялся человек. Он среднего роста. Конечно, Хабель. Грязная рваная шинелишка, прожженная шапчонка, суконные штаны в заплатах, олочи. Неопрятный, небрежный к себе. В движениях чувствуется сила, кошачья ловкость и цепкость. Какое-то мгновение из-под насупленных бровей на Бойчена взглянули небольшие сердитые глаза. По спине стражника пробежали мурашки. «Неужели заметил? — пронеслась мысль. — Не должен бы», — успокоил он себя.
Когда затих шорох лыж, Бойчен покинул свое убежище.
У бедной белочки весело засверкали черные забавные глазки. Хвост гордо поднялся кверху. «Хэ-хэ!.. Вас двое олухов было, а все же я вас обвела вокруг хвоста!» — хвастливо зацокала она и весело запрыгала с ветки на ветку.
Тихо-тихо крадется свирепая рысь к пугливой кабарге. С не меньшим уменьем Бойчен выслеживает самого матерого браконьера всего Подлеморья. Это про него ходят целые легенды о его бесстрашии и умении спрыгивать на лыжах со скал, перепрыгивать через расщелины, успевать уклоняться от снежных обвалов. А сколько было правдивого в этих легендах, знали лишь работники заповедника. Хорошо знали! Сколько раз после многодневной погони, изнемогая от нечеловеческого напряжения, приводил он преследователей к такой пропасти, что от одного взгляда вниз делалось не по себе даже видавшим виды лыжникам Подлеморья, а Хабель именно в этом месте, помахав стражникам своей рваной шапчонкой, исчезал в пропасти.
Вот за каким браконьером крадется Бойчен. А чумница петляет по самой непроходимой чащобе. Плотная стена из сосен, кедра и ели, а внизу, свившись, стелются кустарниковые — царапучая ольха и тальники, ломкий багульник. Вдоль чумницы, жадно раскрыв свои пасти, ждут беднягу соболя кулемки и капканы.
…В одной из ловушек браконьер взял соболя. Попав в капкан, зверек долго бился. Смелый, гордый, он приложил всю свою энергию и ловкость, чтоб вновь обрести свободу. Кусал железо, грыз деревья, пробовал откусить собственную лапу, зажатую капканом. Эта операция ему удалась бы. Он успел перегрызть шкуру, мякоть, кость. Лапа держалась лишь на твердых светлых жилах… Но тут подошел человек. Удар ангуром прекратил агонию. Все это мигом «прочитал» Бойчен и пошел дальше. Идет, а сам все примечает. Последняя ловушка Хабеля поймала сойку. Он подвесил ее на сучок и искусно замаскировал капкан. Вот у того кедра медведь сломал вершинку и несколько веток. Это косолапый лакомился орехами. А вот прошагала лосиха, следом за ней лосенок, — заключил следопыт.
Осторожно, не спеша, идет Бойчен. Зимнее солнце уже показывает полдень.. Идет, идет по чумнице… Вдруг… Что за чертовщина!.. Снова пришел к той же, подвешенной над капканом сойке… Вот и кедр со сломанной вершиной!
«Я попал в петлю… где же выход из нее?.. А?.. О-бой, Бойчен, какой ты плохой охотник!» — журит себя эвенк. Еще осторожнее идет он. На божий свет Бойчен появился на снегу, под вечнозелеными кронами деревьев, злая вьюга убаюкивала его в холодном чуме. Как только научился он ходить, матушка природа без устали развивала его зрение, слух, наблюдательность. Спасибо ей.
Пара глубоко посаженных пронзительных глаз не пропускает ни мельчайших подозрительных признаков, по которым можно было бы уловить очередную каверзу хитрого браконьера.
На одном из поворотов, где чумница проходила по гребню крутого оврага, Бойчен заметил небольшое углубление в снегу, и вокруг него свежую, нападавшую с сосны снежную порошку. Внимательно осмотрев подозрительное углубление и сосну, Бойчен стукнул себя по голове и невольно воскликнул: «О-бой! Трижды рожденный лисой! Хабель, Хабель!.. Обманул бы любого, но не сына Горного орла!..»
Бойчен подошел к крутому косогору. Примерно в четырех метрах ниже чумницы зияла в снегу ямка, а еще пониже с мелкого ельника была сбита кухта. Темно-бронзовое лицо эвенка расплылось в довольной улыбке. Спустившись к ельничку, Бойчен обнаружил новую чумницу. Рядом с ней лежал длинный тонкий шест, при помощи которого браконьер делал огромный прыжок, и уже по потайной чумнице шел дальше.
— О-бой, Хабель, ты хороший охотник!.. — не сдержался скупой на похвалу эвенк.
Спустившись в мрачное ущелье, по дну которого текла Малютка-Марикан, Бойчен, подражая лайке, задрав голову, стал нюхать воздух. В нос ударила струя воздуха, перемешанного с дымком и характерным для охотничьих юрташек прогорклым запахом.
«Волк в своем логове… Охотник на верном следу», — выражало довольное, взволнованное лицо эвенка.
В вечерних сумерках Бойчен привел своих товарищей к Малютке-Марикан. Навстречу людям, обжигая лица, дул резкий хиуз. Он принес и запах дыма. Зенон Францевич приказал остановиться.
— Немного нужно повременить… Пусть стемнеет. — Все молча уселись и, чтоб не вздремнуть с устатку, начали опоражнивать свои кисеты. Через полчаса клочья неба, проглядывающие меж темных крон, усеялись звездами. Без слов, без шума люди тронулись вверх по берегу Малютки-Марикан. По льду идти не дала выступившая наледь. Чем дальше продвигались они, тем сильнее ощущался запах человеческого жилья.
Шедший впереди всех Бойчен остановился и указал своим спутникам на белый силуэт юрты. Стражники так близко подошли к жилью браконьера, что уже не требовалось никаких предосторожностей. Они с шумом подкатили к воткнутым в снег лыжам Хабеля и, громко разговаривая, начали снимать свои. На шум упала доска, заменявшая дверь, и из юрты показалась лохматая голова.
— Каво, паря, бог дает?!
— Вылазь из юрты!
— Я… я… а-а… Чичас оденусь… Хо-холод…
— Не сдохнешь! Где ружье?
— Рядом висит, — уже твердым голосом ответил Сватошу Хабель.
— Бим, забери винтовку.
— Зенфран, тут я удала!
— Знаю-знаю, — уже потеплевшим голосом заговорил чех. — Теперь, Молчанов, принимай гостей.
— Хм, гости — хуже злых татар, — браконьер тяжко вздохнул и первым нырнул в юрту.
На четвереньках стражники по очереди заползли в крохотную конурку, посредине которой догорал костер.
— Бим, готовь быстрее ужин. Немного заснем, а с полночи нам с тобой дежурить.
— Тут я тоже удала! Ох, удала!
На суровых лицах людей появилась довольная улыбка, и руки потянулись за кисетами.
Сидевший рядом с браконьером Бойчен насмешливо посмотрел на соседа и язвительно сказал:
— Хабель кувастал, кувастал, а сама попалась, как дика ушкан.
— Хвастал-то, може, ты… погоди, тунгусина. — Из-под насупленных бровей сверлом прошлись по эвенку колючие, недобрые глаза.
Сватош жестом попросил Бойчена прекратить разговор. Положив толстую, неуклюже свернутую самокрутку на полено, он внимательно осмотрелся кругом.
— Чисто отработал… Никто не скажет, что Хабель здесь промышляет. Можно подумать, что человек лечится у нашей Малютки-Марикан… — Всегда добродушнее лицо Сватоша стало неузнаваемо суровым, из-под светлых бровей сверкали уже незнакомые голубые глаза. Готовивший ужин Бим нет-нет да бросит удивленный взгляд на своего друга. Он никогда и не думал, что Зенфран может быть таким суровым. — Где соболь?
— Соболь?.. Какой соболь?.. Я только что насторожил капканы… Е-бог, свята икона… Клянусь Христом, — Хабель перекрестил грязный лоб.
— Не валяй дурака! Нас не проведешь… У Малютки-Марикан в капкане был соболь… Где он?
— Нету… Паря, ты пошто липнешь с каким-то соболем? С ума сошел. Ей-богу нету.
— Не божись. Тебя все равно судить будут… Лучше тебе не…
— Не из пугливых… Волчья кровь в моих жилах… Зайца нет… Тюрьмой не пужай. Отсижу, а собольков подлеморских не брошу промышлять.
— Вася, обыщи его.
Молодой широкоплечий парень перешагнул через костер и нагнулся над сидевшим браконьером.
Бросив полный ненависти взгляд на Сватоша, Хабель простуженным голосом прохрипел:
— На, подавись ты им!.. — Достав из грязной запазухи темную шкурку, бросил в камусные олочи Сватоша.
— Вот давно бы так.
Подняв с земли пышный дорогой мех, Зенон Францевич долго гладил им свои заросшие щетиной, ознобленные щеки. Внимательно осмотрев шкурку, он тяжело вздохнул.
— Эх, какую красоту ты сгубил… Маточка… Шкурка такого соболя на мировом рынке получает высшую оценку — сорт экстра. Сколько бы она наплодила себе подобных! Ты, разбойник, знаешь, какой ущерб нанес своему народу, своему государству!..
— Зенфран, махан[21] варился, чай тоже, — перебил разгневанного Сватоша Бим.
— Да-да, ребятушки, пора ужинать.
После ужина стражники улеглись спать. В углу сидит Хабель и беспрестанно курит. Длинные непослушные волосы разлохматились. На темном лице еще резче обозначились скулы. Небольшие злые глаза затаенно следят за молодым стражником, которого Сватош оставил дежурить до полночи. Опасаясь побега, у браконьера отобрали кушак с длинным охотничьим ножом, шапку и лохматые собачьи рукавицы. Уже доходят третьи сутки, как люди покинули Кудалды. Дни в поисках и ночевки на снегу в сорокаградусный мороз сделали свое дело — кто где сидел, там и свалился.
Васькина голова так отяжелела, что ежеминутно валится на грудь. Глаза слипаются.
Из угла, словно через толстую перегородку, едва доносятся скрипучие слова: «Эй, грозная стража, проспишь варнака-то, удеру».
Встрепенувшись, парень старается показаться бодрым, делает сердитое лицо, но это ему не удается.
— Слышь, засоня, сбегу, — продолжает дразнить парня Хабель.
— Хы, куды без шапки-то кинешься… без ушей к бабе придешь. …Пальцы в тайге оставишь, будешь культяпый сидеть за печкой… Беги, беги, — сонно ухмыляется парень.
— Правду баишь, паря, лучше отсижу в остроге, чем калечить себя… Куды ночью убежишь. Эх, надо спать…
— Спи, дядя Хабель.
Потянувшись, браконьер поцарапал в голове и сморщился.
— Вот дьявол, во рту пересохло… Чайку не осталось у вас?
— Нету… Я бы тоже густого… Где воду-то берешь?
— Темь, не найти тебе… глаза выколешь.
— Бери котелок-то, а я огонь подшурую.
У дров валялась черная от сажи и копоти, прожженная во многих местах шапчонка браконьера. Рядом рукавицы и кушак с ножом. Хабель протянул руку за шапкой.
— Не тронь шапку, лешной!
— Хм, грозный какой, ладно уж, вода рядом.
За упавшей доской открылась черная холодная щель, в которой утонул таежник. Доска вновь прикрыла темь, и в юрте сразу же стало теплей, уютней.
Прошло пять минут — Васька спокоен.
Прошло десять — Васька заерзал на месте, с опаской взглянул на спящего Сватоша.
С больших серых глаз словно ветром сдуло сонную пелену. Отбросив доску, Васька соболем выпрыгнул наружу и с вытянутыми руками заметался вокруг юрты.
В открытую дверь неудержимыми волнами ворвался холод. Спавший ближе всех к двери Сватош сначала съежился, а затем начал ворочаться, подвигаясь к огню.
Через тонкую дощатую стенку юрташки сквозь сон он услышал приглушенный Васькин голос: «Дя-а Хабель! Дя-а Ха-а-бе-ель!.. Ха-а-бе-ель!»
В ответ тихо рассмеялась тайга. Смеялись сосны и кедры, приняв образ страшных носатых чудовищ…
Сватош рванулся. Сел и, со сна ничего не понимая, уставился в черную пасть двери. Потом громко закричал: «Что такое? Эй, эй, где вы?!»
Уже где-то в отдалении снова послышался Васькин голос: «Дя-а Ха-абе-ель!.. Эй, черт Ха-абелька-а-а!..»
Расталкивая товарищей, Сватош выскочил на жгучий снег. За ним, проклиная браконьера и Ваську, выползли Бим с Бойченом.
Обдало холодом. Таинственно молчит лохматая тайга. Лишь весело подмигивают далекие пучеглазые звезды. Им нет дела до крохотной кучки мечущихся людей.
Подбежав к лыжам, Бимба взревел медведем:
— Э-э-э, цволочь! Убей Хабельку бурхан! Язба!
— Что такое?
— Лыжа пропадал — Хабелька убегал!
— Оно и так понятно! Прозевал, чертяка! Тьфу, дьявол!
Вспугнутая людским криком сова взлетела на самую макушку корявой лиственницы и удивленно спросила у Малютки-Марикан:
— Чего им надо?
— Ч-ч-черт их з-з-з-знает! — заикаясь на перекатах, ответила речка.
* * *
Удалившись примерно на три выстрела от юрты, Хабель остановился и стал напряженно слушать. От крепкого мороза раздается хлесткий треск деревьев. Порой бухнет упавшая с высоты кухта. А больше ничего не слышно.
«Жди, жди, дурило!.. Напоит тебя густым чаем Ха-бель, жди!» — браконьер ехидно улыбнулся, а потом улыбка сменилась жалкой гримасой: — Вот черт, навязался на мою душу проклятый чех… Житья нету от него… Дождешься пули, погоди ужо… Приберут тебя… как Витьку…»
Грязные, с длинными черными ногтями пальцы притронулись к ушам. Они стали деревянными. «Хо-хо, кажись, растеряю их по дороге… Как же без шапки-то?» Быстро разувшись, размотал суконную портянку и обвязал ею голову. «Теперь догоняйте!» — «Гоняйте-яйте», — отозвалось эхо. А тайга тяжко со стоном вздохнула: «Ох-у-уш-ш-ш-ты…»
У Хабеля отличное зрение. За долгие годы браконьерства он приучился и к ночным походам по тайге. Впрочем, этот навык присущ всем хищникам, как четвероногим, так и двуногим. А поэтому он имел огромное преимущество перед Сватошем и его помощниками.
Перед рассветом Хабель вышел на чумницу, ведущую к Орлиному гнезду. За крутым черным мысом из ущелья вылетела сердитая Давашкит.
Браконьер сошел с чумницы и, спрятавшись за кудрявой елинкой, начал слушать. Долго простоял Хабель в своей засаде. Убедившись, что его не преследуют, перекрестился и тронулся вверх по Давашкит.
Ночная темь сменилась мутно-серой пеленой, сквозь которую начали просвечиваться даже сучья на деревьях. Подойдя к островерхой юрте, браконьер недовольно проворчал; «Ишо дрыхнет тунгус… таво не чухат, что стражники рядом…»
По закону тайги, испросив позволения у хозяина юрты, Хабель отодвинул доску и заполз в темную нору.
— О-бой! Кто пришла так рано?
— Разожги очаг-то… увидишь маскарад, как на святках.
— А-а-а, Хабель! Ты сдурела, чо ли?
— Вот те сдурела… Небось сдуришь от такова…
— Ты чо баишь… Остяк понимай нету.
— Ох, Оська, чуть живой я… Всю ночь удирал от Зенона… Чего тут понимать-то… Одевайся и иди к устью Давашкит. А я немножко вздремну… Утром оне должны прийти по моей чумнице… Пропусти их и выстрели три раза. Услышу и смоюсь через Орлиное гнездо, туда они не сунутся… Понял?..
В маленьких медвежьих глазках эвенка засверкали злые огоньки:
— Буду стрелять Зенонку!
— Ты, паря, дело толкуешь, а я думал, духу не хватит у тебя.
— Убить нада… Чо пули жалеть?
— Мотри, Оська, убьешь — Малютка-Марикан будет твоя. Не убьешь — самого кончат.
— Остяк умейт стрелять, — сердито сопя, эвенк вышел из юрты.
* * *
Скала из черного гранита нависла над суровой Давашкит. Прямо под ней, минуя узенькую речную полынью, змеится чумница Хабеля. Зоркие медвежьи глазки, не отрываясь, следят за белой змейкой. Остяк уже все обдумал: «Зенон дойдет до верхней кромки полыньи — пуля убьет его на этом месте. Остальные стражники подбегут спасать своего товарища — здесь они тоже получат по пуле… А потом столкнуть их в полынью, и делу конец. Ищите… Грех простит Бараг-хан-ула[22], поставлю ему шкалик спирта. Дал я твердый таежный зарок убить Зенона — надо сделать. А там трава не расти! Раз отобрали мою Малютку-Марикан, без нее лучше не жить мне… В своей тайге… на своей речке… прячусь, как проклятый вор. Зачем мне такая жизнь!»
Длинный черный ствол берданки нацелился и застыл в ожидании своих жертв. Солнце уже давно оторвалось от вершины Орлиного гнезда. «Почему отворачивает светило свое лицо от нас?.. Повернись бы сейчас к нам — все стало бы по-иному… Тепло!» — мечтает Остяк. Он трясется от холода, но терпеливо ждет своего недруга.
Солнце перевалило за полдень. Стало ясно, что Зенон по какой-то причине не стал преследовать Хабеля. «Пожалел своих стражников, — заключил браконьер, — он знает, что за Хабелем им не угнаться… О-бой! Хабель великий лыжник!» Эвенк закурил и с невеселыми, тяжелыми мыслями направился к своей юрте. «Надо менять место, а то застанут голого в юрте. Что делать тогда? Обманывать, как Хабель, я не умею, — рассуждает Остяк. — Все труднее становится промышлять соболя в родных местах… что мне делать? Все мои предки охотились здесь… Придумали какой-то заповедник. Кому он нужен? Зенон расплодит соболей… Заберет их себе и увезет на родину. Он же чужеземец. У наших-то глаза где… Всех начальников перехитрил… Ох, беда, беда!»
Остяк уже давно дошел до юрты и, объятый думами, ничего не замечая, стоял у входа.
Очнувшись, он заполз в свою конуру. В юрте было так холодно, что у Хабеля заиндевели брови, но он, скрючившись по-собачьи, продолжал спать. Замерзшими пальцами эвенк стал ворочать остатки углей, но они были холодные. Покачав головой, он достал кремень и трясущимися руками долго высекал искру. Прошло довольно много времени, когда запылал костер и оживил унылую темную юрту. Высунувшись из юрташки, он набил снегом котелок. Молочной белизны снег, побывав в грязных руках, делался темно-бурым, но таежник не обращал на это внимания, подвесил котелок над костром.
Хабель, согревшись, начал распрямляться. Остяк, посмотрев на товарища, покачал головой.
— Шибко Петрован устал… всю ночь бегали два брата — волк да он…
В котелке забулькала бурая жижица. Эвенк достал из кожаного мешочка кусочек чаю, повертел его и, отломив часть, кинул в котелок.
— Жидкий будет, как у скупого… Но что поделаешь, делить нада на три ночевки… Сухарей на двоих не хватит… Мало-мало голодать будем — дело привычное. Эй, Петруха, чай пить да уходить нада…
Хабель, промычав, повернулся на другой бок и захрапел пуще прежнего.
— …Ставай, бурундук, засоня! — Костлявый кулак Остяка довольно крепко стукнулся о ребра Хабеля.
— Ты пошто, паря, дерешься-то, — поднялся браконьер. Сонно улыбнулся и попросил трубку.
— А свой табак где?..
— Потерял, братуха…
Вдруг, вспомнив что-то страшное, уставился на эвенка. Видимо, поняв без слов этот встревоженный вопрошающий взгляд, Остяк лениво выдавил: «Нету… не стрелял». Хабель облегченно вздохнул.
— Слава богу… Отвело.
— Чо, жалко Зенона?
— Понять, Оська, не могу, башка не варит… бываю злой на него, ажно так и разорвал бы… А бывает, жалею. Один раз водил его, водил дьявола целых пять ден. Вижу, уже третьи сутки его поняга пуста. Ночью подкрался к его отогу. Смотрю, сидит он у огня и швыркает одну водичку — жалко стало. Тоже ведь наш брат, таежник! Да и у меня харчишка негусто оставалось. Но ведь я-то попутно и рябчика подстрелю, где глухаря, а он-то даже мышонка не тронет… Заповедник! Подумаешь… Чудак какой-то, ей-бог… Положил на чумницу я половину сухарей и ушел. А завел-то, Оська, я его туда, где твой дед оленей не пас. Не будь моих сухарей — капут бы ему… Верная смерть.
— Тьху, тьфу, совсем дурной Хабелька! — плюется эвенк.
Хабель усмехнулся и пожал плечами.
— А как-то он заблудился. Уже лежал на боку, словно заморенный теленок. Совсем собрался на тот свет. Так да сяк, вывел я его на чумницу и ушел домой…
— Э-э-эх, Хабелька, ты большая дурака! — Остяк сердито сплюнул и, обжигаясь, большими глотками начал пить чай.
К вечеру второго дня Хабель с Остяком достигли вершины гольца Орлиное гнездо. Здесь под исполинской гранитной «церковью» они спрятали капканы.
В следующий приход браконьеры не заглянут к слезливой Малютке-Марикан, не разбросают капканы и по сердитой Давашкит. А пойдут хищничать по другим подлеморским речкам и будут ночевать только под открытым небом, в неприступных кручах. Ночевки в юртах стали опасны — попадешься, как медведь в берлоге. Такой план предложил Хабель Остяку. А Остяк, сморщив темно-бронзовое лицо, долго-долго думал, искурил три трубки, только потом, мотнув головой, торжественно сказал: «Твои слова — слова мужчины! А умные мысли подсказал тебе хозяин Орлиного гнезда».
* * *
Зенон Францевич был удручен вероломным побегом Хабеля. Несмотря на просьбы товарищей, категорически отказался преследовать беглеца. Он знал, что стражники в этой кромешной тьме будут тыкаться по тайге как слепые щенята. Люди измотались, продуктов на день.
Последний привал группа Сватоша сделала у Громотухи. Бимба, расстелив свой куль, попросил друзей вывалить из своих мешков все, что оставалось.
— Э-э-э, бурхан, спасибо тебе, не дала этим чертям все обожрать… шло можно живить!..
Все рассмеялись, а веселый Бим смеялся над своей шуткой больше всех. Он всеми силами старался развеять дурное настроение Зенфрана.
Громотуха… Да, народ метко назвал эту ярую речку. Даже сейчас, в зимнюю стужу, она рычала, гремела, хотя и глухо, но все равно по-настоящему оправдывая свое название.
Любил Зенон Францевич грохот подлеморских рек, рев разбушевавшегося осеннего Байкала, могучий, многоголосый шум тайги. Все эти звуки бодрили, вселяли силу и успокаивали нервы.
Вот и сейчас в грохоте Громотухи он уловил воркотню старой мудрой бабушки, которая по-матерински журила его.
На сердце отлегло, и он, впервые за весь путь от Малютки-Марикан до моря, улыбнулся и шлепнул по плечу сидевшего рядом эвенка.
— Ничего, Бойчен, и на нашей улице будет праздник!
Эвенк криво усмехнулся:
— Ха, пра… Гуляйт нада. Ваську поить спиртом…
— Не надо падать духом, Бойчен… Все же с осени мы задержали шесть браконьеров… В основном-то Хабель с Остяком и остались… Их поймаем, а с остальной-то сошкой расправимся!
— О-бой, однако, Хабелька опять нас поймать будет!
— Нет уж, батенька мой, спасибо… Все равно наш верх будет! Скоро услышим последний выстрел в нашем заповеднике. Скоро.
Серые грустные глаза Васьки впервые за весь день виновато встретились с голубыми Сватоша, и у него невольно вырвалось:
— Вот хорошо-то будет!
— Да, да, Василий, будет замечательно!
Стражники недоверчиво посмотрели на директора.
— Поверьте мне, ребятушки, придет время, не будет нужды идти в заповедник промышлять соболя. Во всяком случае, у нас в Забайкалье повсеместно расплодится этот ценнейший зверек… Ну и люди-то будут грамотными, культурными, сознание у людей будет совершенно другое… Тогда сократится штат охраны, — Зенон Францевич усмехнулся, — боюсь, что стражники даже обленятся… Один раз обойдут свой участок — никого нет… Сто раз обойдут — никого. Махнут рукой и скажут: «Кто к нам пойдет!» Да… ребятки… Хорошо будет. Хорошо!
— Вот-вот, Бимбушка будет шибко хорошо — будет боком лежать да брюхо гладить!
На суровых лицах появились улыбки. Попив чаю с последними крошками сухарей, повеселевшие люди тронулись дальше. Из-за скалистого Громотушного мыса показалась с низкими уютными берегами Сосновая губа. А в самом почти углу — Кудалды. Темнеет несколько домишек. Из труб вьется дымок, придавая жилой вид малюсенькому поселку.
Во время морестава часто проносились свирепые северо-западные ветры. А поэтому поверхность Байкала, особенно против мысов, была покрыта торосами, похожими на скалы из белого мрамора. Люди или обходили их, или переползали. Расстояние в восемь-десять километров для таежника просто чепуха, а вот это же расстояние через клыкастые торосы — одно мученье: ни пешком, ни на лыжах. Уже недалеко от Кудалдов нагнал стражников сильный култук[23]. Давно ли будто солнце соскользнуло с одного из гольцов Байкальского хребта, а на дворе уже наступили густые сумерки. В одном из домов появился огонек, потом во втором, в третьем. Измученные люди облегченно вздохнули. Последним препятствием на их пути оказался высокий скользкий сокуй[24]. Ветер, усиливаясь, превратился в дьявольский буран. Кто-то неведомый окутал людей мягким черным саваном. Ничего не разобрать. Пришлось ползком преодолеть ледяную преграду и соскользнуть кубарем вниз. Только сейчас, зачуяв людей, залаяли собаки. Из ближнего дома вышел человек и, заметив прибывших, стал приближаться.
— Это наши пришли? — послышался женский голос.
— Мы, мы, Катя! — радостно крикнул Сватош, узнав голос жены. — Фу-у-у! Вот и отмаялись, еле шевелю ногами, Катенька… Есть чем обогреться-то?
— Есть, есть, Зоня!.. Пойдемте скорее.
— Вот, братцы, и у нас будет сейчас праздник! — радостно воскликнул Зенон Францевич. — Заходите сначала к нам… обогреетесь, а потом уж и по домам.
— Екатерина Афанасьевна, ведь неудобно каждый раз надоедать-то вам.
— Вася, чтоб я больше этого слова не слышала. Идемте к нам!
И вскоре все уже сидели за гостеприимным столом. Спокойно, без суеты, угощала стражников высокая худощавая хозяйка, дома.
— Вот уж обогреться-то с мороза не грех! — повеселевшими глазами подмигнул друзьям Зенон Францевич и налил из пузатого графина по стакану водки. — А вот я разведу чайком… Легче пойдет!.. Ну, друзья, поздравляю… с возвращением…
— Ну, как сходили, Бимба? — спросила Екатерина Афанасьевна у сидевшего ближе всех к огню бурята.
— У-у-у-у! — затряс головой. — Сказать боится Бимбушка, мало-мало ругать будешь, мало-мало смеяться… Пусть Зенфран говорит… Он мастер баить…
— Плохо, Катенька, сходили… Был у нас в руках Петрован Хабель… Ну и… после расскажу… — Зенон Францевич виновато взглянул на жену, нахмурился и поник головой.
— Ничего, Зоня, всякое бывает… Сами-то живыми вернулись… Виктор-то, бедняжка… Жизнерадостный был парень… — Добрая женщина тяжело вздохнула и, подперев ладонью подбородок, горестно добавила: — Валентина-то уж очень убивается… молодые, жили дружно…
Разговор прервал стук в дверь.
В обширную кухню ввалилось с десяток людей. Впереди всех в бараньем дыгыле тетка Цицик.
— Амар сайн!.. Ты, Бимбушка, стыд теряла, ох, беда, беда.
— Здрасте, здрасте! Тетя Цицик, не ругай Бимбу… я затащил его, — заступился Сватош.
— Ха, когда больна был, в этом доме лечили, кормили, добрый слово говорили… Теперь дорога сюда знайт… хорошо знайт!
— О-бой, какой хитрый бурят! Тут хорошо кормить, хорошо водкой угощать!.. — смеется повеселевший после доброй чарки эвенк.
Все рассмеялись.
Сытный ужин и жарко, по-сибирски натопленная изба разморили уставших людей, и поэтому они быстро разошлись по домам. Один за другим потухли огоньки. Тихо-тихо крутом. Лишь изредка спросонья тявкнет чья-нибудь собачонка. А в ответ в собольем питомнике из клетки раздается сердитый «пря-яу». Не любит соболь собачий лай.
ГЛАВА 4
Сквозь дощатую стенку доносился ровный, спокойный голос жены Сватоша: «Ма-ма, а-у. У-а, ма-ма. Ма-ша, а-у. У-а, Маша».
— Ну, а теперь кто нам прочитает?
Пауза. Затем раздался тоненький голосок:
— Я прочитаю!
— Хорошо, читай, Ваня!
Мальчик скороговоркой, одним духом выпалил: «Мама, ау. Уа, мама. Маша, ау. Уа, Маша».
— Так быстро читать нельзя… Нужно по складам. Следи за мной, как я читаю: «Ма-ма, а-у. Ма-ма, у-а». Понял, Ваня?
— Понял, Екатфанасьевна!
— Садись, Ваня… А ты, Гриша, сумеешь прочитать?
— У-у меня… болит брюхо.
Кто-то из ребят хихикнул. Зенон Францевич, не вытерпев, тоже рассмеялся. Ему живо припомнилось далекое-далекое детство, школа, миловидная, с тонкими чертами лица учительница и однокашники.
Сватош оделся и вышел во двор. Хватив полной грудью морозный воздух, вздрогнул, поежился.
По выработавшейся привычке — в первую очередь утрами посещать своих любимцев — пошел в соболий питомник. Утреннее солнце, оторвавшись от вершины Баргузинского хребта, ярко освещало ущелье, по которому текла буйная речка Кудалды. А над ущельем, словно зубья старой пилы, врезались в синее небо гигантские скалы — гольцы.
— Какой мужественный вид у вас! — улыбнулся он гольцам.
Подойдя к питомнику, сквозь железную сетку вольера он увидел нагнувшуюся над клеткой Валю. Она была чем-то так занята, что не заметила вошедшего директора.
Зенон Францевич чуть прикоснулся к плечу молодой женщины.
Валентина оглянулась. Легко поднялась. В больших синих глазах — печаль.
— Здравствуйте, Валя!
— Здравствуйте, Зенон Францевич!
— Что случилось?
— Ручная заболела, не ест…
Тяжело вздохнула и уступила место у клетки. Сватош опустился на колени и начал кликать свою любимицу:
— Ру-ченька. Рученька, поди ко мне.
Раздался слабый, жалобный «ннрряяу», и из клетки чуть высунулась остренькая усатая мордочка. Зеленоватые бусинки увидели своего друга. Еще жалобнее раздался «ннрряяу».
— Иди ко мне, Рученька!
Маленький, гибкий зверек в пышной черной шубке, по-кошачьи мягко ступая, приблизился к протянутым рукам Сватоша.
Осторожно взял он соболюшку на руки и нежно погладил по шелковистому меху. Зверек доверчиво уткнулся остренькой хищной мордочкой.
— Что же это вздумала хандрить-то, Рученька? — встревоженные глаза внимательно осмотрели зверька. Огрубевшие пальцы прощупали грудную клетку, позвоночник, живот.
— Валя, давно она заболела?
— Четвертый день…
— А остальные как чувствуют себя?
— Нормально… Только с продуктами плохо. Мясо кончилось. Рыбы осталось дня на три. Больше даю орехов и брусники… Рыбу экономлю…
— Э-э-э, девочка моя, ты ей чересчур много дала орехов, а потом сыпанула мерзлой ягоды… А ведь Ручная очень прожорлива, пожалуй, единственная во всем собольем роде особа.
— Я не знала, что так получится…
— Да, да… я виноват… не предупредил тебя… Но вообще-то, когда меня не бывает дома, обращайся к Екатерине Афанасьевне, а Ручную я унесу домой.
Положив за пазуху Ручную, Сватош пошел домой. Больной зверек горячим комочком прижался к его груди.
Уже на крыльце своей квартиры он встретил учеников Екатерины Афанасьевны.
— Это у кого на уроке-то болит живот? — смеясь, спросил он у ребятишек.
— Это у Гришки Чернова! — ответил белобрысый бойкий мальчонка. — Как его заставят читать, сразу и заболит! Вчера голова болела, а сёдня брюхо.
Ребятишки со смехом разбежались во все стороны, а Зенон Францевич с какой-то затаенной завистью смотрел им вслед. С плотно сжатых губ сорвалось чуть слышно: «Эх, нам бы с Катей вот такого озорника…»
Увидев в руках мужа соболюшку, Екатерина Афанасьевна встревожилась.
— Что случилось с Ручной?
— Заболела… отказывается от еды… Не придерживаемся установленного рациона… Все это несчастная нужда наша, недостатки. Мясо кончилось… Где его взять? У нас нет разрешения на отстрел копытных. Нет денег на покупку мяса…
— Слушай, Зоня, а ведь сколько копытного зверя давят волки. Почему нам нельзя добыть для соболей? Страшного-то тут ничего нет… Соболей сохраним.
— Видимо… придется… Я еще подумаю…
— Зоня, я не успела приготовить обед, выпей пока чайку с вареньем. Помнишь, брали смородину по Шумилихе?
Низко склонившись над столом, Сватош медленно пьет чай. На широком добродушном лице печаль. После долгого молчания он спросил у Екатерины Афанасьевны:
— Ну, что ж, Катя, будем делать-то?.. Нарушим заповедь?
— Оно… если бы, а то… Зоня, сам знаешь, лишимся питомника… Это же страшнее всего. Сколько пропадет труда…
— Правильно, Катя. Знаешь, что я придумал… Мы с Бимбой поедем в Большую речку. Ведь на Индинском мысу чуть не каждую ночь волки давят по нескольку копытных зверей. Частенько эти жестокие хищники расправляются со своими жертвами лишь ради забавы. Перервут им горло и уходят… В крайнем случае будем отбирать у волков их добычу.
Округлившиеся от страха глаза Екатерины Афанасьевны неподвижно остановились на муже.
— Я… я, Зоня, не разрешаю!.. Вас там съедят волки…
— Катенька, не бойся, ведь с Бимбой можно в огонь и в воду.
— Да, это правда, но…
— «Но» отбросим, Катенька, иного выхода нет… прости уж…
Екатерина Афанасьевна тяжело вздохнула и молча начала готовить обед. Она прекрасно знала, что в таких случаях отговаривать бесполезно. И уже после обеда сообщила, что она разделила остатки муки. Пришлось по четыреста граммов на едока. С завтрашнего дня люди будут жить на одной рыбе…
* * *
В вечерних сумерках Сватош с Бимбой подъехали к камню Черского. С северной стороны камень оделся в чудесный, весь из ледяных сосулек тулуп. Как бы ни спешил Зенон Францевич, но у этого камня он всегда останавливался и на некоторое время погружался в какие-то одному ему ведомые думы. В этот раз Сватошу почудилось, что камень глухо простонал и еще больше сник над гладким льдом. «Не унывай, нам тоже сейчас туговато приходится», — прошептал Сватош.
Бимба знал, что много лет назад большой ученый Черский сделал на этом камне отметку уровня воды. Вот и назван камень его именем.
— Бимба!
— Чо, Зенфран?
— До Индинского сегодня не доберемся. Лучше заночуем на мысу Валукан… там рыбачье зимовье.
— Я тоже так думала.
Торосистое ледяное поле Байкала в этих безлюдных местах не имело даже признака дороги. Если в течение полумесяца и пронесет кого нелегкая, то за полозьями его саней не останется ни малейшего признака следов — ветер тут же заметет их.
Сватош с Бимбой ехали на невысоком сибирском жеребце. Зенон Францевич купил его еще жеребеночком в Баргузине у знакомого бурята. Екатерина Афанасьевна с рук выкормила жеребеночка, выпестовала и дала ласковую кличку — Милый. Этот Милый много раз выручал Сватоша из беды. Он совершенно не боялся щелей. Мог на небольшой льдине спокойно переправиться через широкий разнос. Он каким-то чутьем умел в весеннем, превратившемся в игольник льду выбирать крепкие полосы. А уж меж торосов-то он в любую темную ночь найдет себе путь. Отпускай вожжи, не мешай ему.
Уже в кромешной темноте лошадь остановилась у черного квадрата — то было рыбачье зимовье.
— Спасибо, Милый, ты молодчина!
— Верно, Зенфран, умный конь!.. Ох умный!
Молча съев по куску отваренного мяса без хлеба, запили иван-чаем, смешанным с мореными листьями шиповника, легли спать.
Ночь и не думала уступать дню, а Сватош с Бимбой уже давно ехали дальше. Наконец рассвело. Перед взором наших путников раскрылся Индинский мыс, который почти отвесной стеной свалился в море.
С незапамятных времен в этих местах господствует стая лесных волков. Волки эти высоконогие, туловище у них тонкое и длинное, приспособленное к глубокому подлеморскому снегу.
А гранитная скала на мысу, похожая на колокольню, была кормилицей этих хищников.
Где бы ни напали волки на копытного зверя, он неизменно, спасаясь от погони, бежал под защиту коварной скалы, чтоб, вскочив на ее вершину, остаться живым. Но из спасительного маяка скала превращалась в предательницу. Обезумевший от страха зверь, подбежав к высокой гранитной ограде и не найдя иного выхода, спускался вниз, на скользкий морской лед. Здесь и настигали несчастного волки и вмиг разрывали на куски.
Еще издали зоркий Бимба заметил лежавший на льду темный предмет.
— Однако, шашлык жарить буду.
— Погоди, Бим, не загадывай вперед.
Подъехав, путники увидели прекрасные ветвистые рога на голом черепе.
— Голодные были…
— Вчера голодны — сёдни сыты… Нам оставят махан.
— Надеяться на волчье великодушие не будем… Как зверь свалится на льду — так и в драку вступим.
— Однако, шибко драться будем.
— Да, придется, Бим, волчья стая не любит уступать свою добычу. Это очень опасно.
— Ничево, Зенфран, волка боюсь — тайга не ходи.
Недалеко от устья таежной речки спряталось подобие человеческого жилья — несколько плах составлено конусом. Зенон Францевич, оставив Бимбу готовить завтрак, пошел в разведку.
Пройдя километра три вверх по речке, Сватош увидел свежие следы лосей. Семья… Она так и пасется здесь. Чего стоит выследить и убить сохача… Нет!.. Какая же мы с Бимом в том случае стража природы… Э-эх!
Вернувшись к юрте, он не застал товарища. В юрте горел веселый костер, из котелка шел пар. «Наверно, ушел по дрова», — успел лишь подумать, как услышал шаги товарища. «У-у-ух» — грохнулся сброшенный с плеч огромный кряж.
— Бим, ты же надсадишься от такой тяжести.
— Э, Зенфран, пустяк… палка! Давай чай пить будем.
Бимба нет-нет да украдкой посмотрит на Сватоша и качает головой.
— Ты что так смотришь, Бим?
— Охо-хо, мясо бурят есть, хлеб нету — ничево, а ты…
— Я тоже стал бурятом… Кушай, Бим, не обращай внимания на меня…
Ловко орудуя ножом, Бимба быстро съел свой кусок. Ему явно не хватило, и он начал пить «чай», чтоб наполнить желудок.
Укрывшись собачьими тулупами, крепко спят друзья. Милый лениво хрумкает грубое таежное сено. Недавно начавшаяся ангара[25] подняла однообразный шум в прибрежном кедраче. Хорошо убаюкивает своим торжественным гуденьем матушка тайга. Сладко спится с устатку. А она по-матерински склонила свою зеленую голову и добродушно улыбается спящим людям, так самоотверженно охраняющим ее богатства. Сватош сквозь сон слышит шепелявый ее шепот: «ш-ш-ш-шынки мои, ш-ш-ш-шпите».
В вечерних сумерках Сватош с Бимбой подъехали к мысу и в ледяной «ограде» меж конусообразных сокуев распрягли лошадь.
— Ну, Миленький, оставайся здесь да будь умницей, — разговаривает со своим жеребцом Сватош, — ты, Бим, не привязывай его… В случае чего отобьется и прибежит к нам.
У самого прижима, под ветреной стороной, они сделали из толстых кусков льда засаду и устроились караулить.
Такую ночь коротать у таежного костра — и то нелегкое дело, но по привычке все же можно. А друзьям пришлось сидеть на голом потрескивающем льду, боясь сделать лишнее движение.
К полуночи они так озябли, что им казалось — мороз проник в легкие, в сердце, в жилы; он колет и сжимает сердце, затрудняет дыхание.
Где-то далеко вверху, по кромке скалы, пронесся шорох, застучали мелкие камешки.
Люди замерли.
Шумок все яснее, все ближе.
Вдруг застучала четкая дробь. На белый лед выкатились три черные фигуры. Они то увеличиваются, то уменьшаются, то увеличиваются, то уменьшаются.
Это несчастные животные на предательском скользком льду падают и поднимаются, чтобы снова упасть. А вот и стая волков.
Раздался душераздирающий предсмертный рев. Послышался лязг клыков, хруст сломанных костей… Сватош схватился за ружье. Онемевшие пальцы не повинуются.
— С-стреляй, Бим! Стреляй!
Он не слышит, а только видит, как из ствола винтовки бурята частыми плевками вылетает огонек. Волки подскакивают вверх, сваливаются на лед. Вдруг один из них бросился к Сватошу, но на бегу перевернулся недалеко от него. Второй тоже уткнулся в лед; третий промелькнул совсем рядом, вздыбился и огромной тенью заслонил все. Перед самым лицом Сватоша лязгнули зубы, но в этот миг раздался оглушительный удар, и все смолкло.
— Зенфран, мы живем!!!
— Бим, ты великий стрелок! Ты… — голос Сватоша задрожал. Благо, что ночь умело скрывает скупые мужские слезы и свято хранит свою тайну.
ГЛАВА 5
Все эти дни после приезда с Индинского мыса Зенон Францевич возится в питомнике с соболями. Ручная выздоровела, и Екатерина Афанасьевна принесла ее обратно в вольер. Остальные зверьки заметно похудели. Они с жадностью набрасывались на мясо и, сердито ворча, поедали любимое блюдо.
Валентина старательно помогала Сватошу, присматривалась, училась обращению с хищным норовистым зверьком.
Однажды Зенон Францевич, внимательно взглянув на нее, спросил:
— Валя, надо парочку соболей выпустить в тайгу… Каких тебе не жалко.
— Ой, Зенон Францевич!.. Зачем же…
Сватош расплылся в довольной улыбке.
— Мне, Валя, радостно, что ты их так любишь. Но выпустить в тайгу соболей необходимо.
— Да там их убьют эти… браконьеры.
— Не убьют. Мы выпустим недалеко отсюда по речке Одрочонке. Там уже давно не водится соболь… Зверьков закольцуем. Будем им делать подкормку, чтоб голод не заставил покинуть эти места. А затем организуем наблюдение за ними. Осенью, по переновке забегают молодые собольки. Произведем количественный учет нового потомства и узнаем, каков приплод нового года. Весьма возможно, что сумеем разгадать пусть даже долю из тех многих загадок, которыми окружен этот коварный зверек.
— Почему же коварный-то? — с упреком улыбнулась Валя.
— Потому, что не дает потомства в неволе… Вся наша работа имеет немалую важность для науки… Нам необходимо выяснить причину, отчего наши собольки упорно отказываются спариваться… Вот это задача!.. Если, Валюта, мы с тобой разрешим эту задачу, то нашего баргузинца будут разводить в вольерах специально организованные пушные хозяйства. Это будет очень выгодно нашему государству…
* * *
Второй день Сватош с Бимбой и Васькой Рысевым преследуют браконьеров. Чумница хищников, дойдя до стрелки, где встречаются Правый и Левый Чальчигир, разошлась в разные стороны.
— Ха, что же они вздумали расходиться-то?
Зенон Францевич вынул из кармана большую записную книжку, из которой достал вчетверо сложенный лист бумаги. Это была самодельная карта Чальчигира. Развернув ее, он долго рассматривал тоненькие жилочки. Правый и Левый Чальчигир, извиваясь змейками, уходили в разные стороны. К ним же сбегались тонюсенькие бесчисленные жилочки — это текли ключи.
Подумав, он подозвал стражников.
— Вот, друзья, смотрите… Вы вдвоем идете по Правому Чальчигиру. Дойдете до его вершины, там будет крутая седловина. Подниметесь и по ее гриве спуститесь вот сюда. Здесь исток Левого Чальчигира. Встретимся примерно вот в этом месте.
— Я, Зенфран, был здесь, — вставил Бимба.
— Вот и хорошо. Будьте осторожны. Они могут применить оружие. Помните, что произошло с Виктором.
Когда товарищи скрылись за плотной стеной деревьев, Сватош тронулся вверх по Левому Чальчигиру. Затерявшаяся в девственной тайге, почти никому не известная горная речонка была густо заселена черными соболями. Это было в самом сердце заповедника. Сюда осмеливались заходить лишь Хабель да Остяк. И то очень редко. Дело в том, что из этих богатейших угодий за пределы заповедника можно было попасть только через очень узкое, труднопроходимое ущелье. Да и то в конце ущелья, уже на самом гольце, путника поджидала гранитная стена, на которую поднимались при помощи веревки. Так что для рядового браконьера это была настоящая ловушка.
По берегам извилистого Чальчигира тянется темный кедровый бор. Великаны кедры чуть не до середины реки распростерли свои могучие руки-ветви. От легкого дуновения «верховика» ветви величественно раскачиваются, словно благословляют путника в добрый путь…
За одним из поворотов, в прибрежном тальнике Сватош увидел огромного лося. Зверь спокойно поедал тонкие побеги тальника. Он так увлекся своим занятием, что не заметил приближающегося человека. А потом, вдруг почуяв неладное, высоко вскинул свою массивную голову и, увидев человека, мгновенно исчез в сумраке кедровника.
Зенон Францевич улыбнулся. «Не вздумай, чертяка, так дремать перед браконьерами… Угостят свинцовой картошкой и не помянут, как тебя звали…» — напутствовал он вслед удиравшего зверя.
* * *
Третий день Хабель горит огнем. Не ест, пьет густой терпкий чай да на ходу глотает снег. Остяка он отправил по Правому Чальчигиру, а сам пошел сюда… «Эх, черт, не надо было посылать… сгоношил бы он юрту… Как-нибудь отлежался бы… Ведь хворь-то тогда, еще при нем, начинала донимать».
Идет, едва передвигая ноги. Часто садится. Долго сидит. Пока мороз не доймет, — не встанет. С большим трудом поднимается и идет дальше. А в голове невеселые думы: «Где-нибудь сяду, засну и замерзну… Съедят меня волки».
Вдруг Хабель услышал шорох. Воспаленные глаза тревожно уставились в одну точку. «Кто же идет?.. Остяк или…» Прислушался. «Нет, не Остяк… тунгус шагает легко, словно рысь… А этот по-русски, как медведь, давит на лыжи… Значит, идет стражник! Что делать?! Эх, злая немочь… Один выход — пуля». Браконьер собрал последние силы и бросился вниз с крутого взлобка. Куда девались прежняя ловкость, уверенность, безумная смелость. «Эх, разве это гора! Я бы в добром-то здоровье на одной ноге с нее слетел». Кое-как скатившись, браконьер пошел в гору. Не дойдя и до половины горы, Хабель выдохся. Не только идти, даже сидеть не было силы. Он лег на спину. От переутомления рябило в глазах.
Шорох лыж совсем рядом. Ближе. Подошел.
— Эй ты, кто?! Ох, что с тобой?!
Браконьер с трудом открыл глаза.
— Зенон…
— Молчанов, ты?! Заболел?!
Рядом стоит тонкая сушилка у горелого смолистого пня. Через десяток минут разгорелся яркий костер. Сватош подвесил на ангуру свой котелок со снегом и подтащил, больного к костру.
Хабелю безразлично, что будет дальше. Первый раз в жизни он почувствовал свое бессилие. «Тут и замерзну… баста. Не потащит же на себе меня… Эх, чума забери».
У жаркого костра больного еще больше разморило, и он заснул крепким сном.
Проснулся лишь глубокой ночью. Ярко горел костер, за которым наблюдал Сватош. Он стоял с огромной палкой в руке, которой ворочал толстые сутунки; весь багровый от пламени, в безрукавке, он сейчас походил на сказочного богатыря. «Почему он без шинели?» — мелькнула мысль. Взглянув на себя, увидел добротную шинель Сватоша, которой был старательно укутан, как давным-давно укутывала его мать.
— Пить дай… засохло… — прохрипел Хабель.
— Аа-а, очухался! Вот и хорошо. У тебя что болит?
— Жар, голова… глотка…
— Простыл ты… А горло болит от снега. Я видел, как часто ты прикладывался к нему. У меня есть лекарство от простуды… Выпей-ка.
Приняв снадобье, Хабель морщится, трясет головой:
— Како горько!
Больной снова погрузился в забытье.
Хабель проснулся, когда восходящее солнце окрасило макушки деревьев в розовый цвет. По другую сторону костра, прислонившись к дереву, сидя спит Сватош. Ружье висит в сторонке на корявом дереве, Хабель вздохнул к покачал головой: «Эх, до чего же ты, Зенон, доверчивый…»
В вечерних сумерках Сватош с Хабелем добрались до крохотной юрташки на берегу веселого Чальчигира.
— Слава богу, думал, не дотяну.
— А я не сомневался. Знаю твою выносливость. Хорошо знаю.
— Так-то, Зенон Францевич, но болесь-то не свой брат…
Хабель опустился на колени и заглянул в темное, пугающее отверстие юрты. Перекрестился и обратился к «хозяину» сего утлого помещения: «О, господин добрый хозяин, пусти бедных таежников переночевать». После этой процедуры Хабель заполз в темную сырую юрту. За ним последовал Сватош. Суеверный браконьер снова перекрестился и, поклонившись переднему углу, прошептал какие-то заклинания.
Святош вздохнул и покачал головой:
— Скорей ложись и отдыхай, а я затоплю и ужин сварю.
Через две-три минуты от сухой бересты и смолистых лучинок разгорелся веселый огонек и быстро обогрел людей. Есть в нашей тайге святой закон. Человек, уходя из юрты, оставляет в ней спички, дрова, хлеб, соль, табак. Оставляет не для себя — для другого человека. Может быть, голодного, уставшего, может, больного или убитого неудачей. Оставляет незнакомому, чужому человеку.
Сколько человечности в этом святом законе тайги!
И вот сейчас Сватош с Хабелем при свете огня увидели в углу юрты большую кучу нарубленных дров. Эти дрова для уставших и голодных людей в данный момент были дороже золота. На стене в мешочках висели соль и сухари, а на березовом шесте — большой кусок жирного мяса.
— Да-а, видать, добрый таежник ушел отсюда! — с горделивой ноткой в голосе произнес Сватош. — Это мои молодцы так делают!
Хабель тяжело вздохнул и тихо прошептал:
— А вот сосунки-то из нашей шатии про это забывают…
— А ты отойди от них… Это не охотники, а просто-напросто воришки.
Сытно поужинав, люди улеглись на мягкой постели из душистых еловых веток и ветоши.
— Ну, как чувствуешь себя?
— Лекарство-то у тебя, видать, заморское, сразу полегчало… Только в бок што-то тычет с нутра.
— Пройдет. Теперь проспаться надо.
— Не спится. Все думаю, как много соболя расплодилось по Чальчигиру.
Сватош приподнялся на локтях и сел по-бурятски, сложив ноги под себя.
— Знаешь, Петро, почему это так получается?
— Кумекаю… По Малютке-Марикан мы с Остяком… а по крайним речкам другие охотники промышляют.
— Нет, не охотники, а браконьеры, и ни в коем случае не промышляют, а грабят средь бела дня… Грабят! Понимаешь?.. — Зенон Францевич закурил и уже спокойно продолжал: — В девятьсот четырнадцатом-пятнадцатом годах здесь, в Подлеморье, работала научная экспедиция под руководством Допельмайера. Наверно, знавал ты его. Помнишь, проводником у нас в экспедиции был Егор Андреянович Шелковников. Были и другие…
— Помню… Мы вам показали Подлеморье, а вы нас под задницу пинкарем из нашей же тайги…
Сватош усмехнулся и продолжал:
— Тогда мы вели научные наблюдения за баргузинским соболем. В результате был произведен довольно точный учет этого зверька. Он, бедняга, находился на грани полного истребления. Даже бюрократический царский сенат был вынужден издать указ об организации заповедника. В те времена, например, по Чальчигиру жили всего-навсего три-четыре соболька. А теперь их здесь сколько развелось!
— Охо-хой, дальше еще наплодятся… Всю живность сожрут… Дойдет, и друг друга слопают… Кому выгода будет? А?.. Оно и выходит: собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает… Главное, выгоду усмотреть надо, вот чо, Зенон! — Хабель победно посмотрел на Сватоша.
Зенон Францевич загадочно улыбнулся.
— Выгоду-то мы и предусматриваем. Чем больше будет соболя в нашей тайге, тем выше поднимется и добыча его. А знаешь, Петро, как это будет выгодно государству?.. Мех баргузинского соболя является царем всех мехов… Ведь это золотая валюта!..
— Это, паря, чо тако? — удивленно спросил Хабель.
— Как тебе проще объяснить… Ну, это денежная единица какой-нибудь страны, — в общем, иноземные деньги… Скажем, продали мы партию собольих шкурок американцам. Получаем их деньгами и покупаем у них нужные нам машины. Понял?
— Вот оно што!.. — удивленно воскликнул таежник. — Как не понять, не чурбан же я… А, паря, тогдысь нас не будешь гонять?
— В заповеднике не разрешу промышлять.
— Хы, а как же быть-та?
— За пределами заповедника соболя будет вполне достаточно. Знай не ленись только. В ближайшие годы мы займемся переселением соболя в те места, где наш баргузинец приживется… Ну, например, в Голонде отпустим пар несколько…
— Паря, если не сказку, то враницу баишь, — Хабель недоверчиво покачал головой.
— Это же цель нашего заповедника!.. Пойми, чудак-человек. Придет время, поголовье соболя, возможно, станет не меньше других многочисленных зверьков. Будут отлавливать его и в специальных клетках развезут по всей сибирской тайге.
— Э-эх, Зенон, умный ты человек, а баишь сказку старой бабки. В первый же год их приберут, — уверенно заявляет Хабель.
— Сами будете охранять!.. Сами охотники.
Хабель рассмеялся недобрым смехом.
— Можа, я гожусь в стражники?.. А?..
— Почему бы нет. Люди ошибаются. Исправляются. Продолжают честно жить и трудиться. Ничего особенного нет тут. Я даже мечтал найти такого лыжника, от которого никто бы не мог уйти…
Хабель поднял лохматую голову и в недоумении уставился на Сватоша.
— Ты, Зенон, смеешься?
— Я не люблю смеяться, когда разговор касается охраны природы.
В полутемной юрте воцарилось молчание. Сватош, утомленный бессонной ночью и дневным переходом, быстро заснул.
А Хабель, приняв очередную дозу лекарства, лежал с открытыми глазами на мягкой постели. Тихо потрескивает костер. В щербатое отверстие дымохода одна за другой вылетают искорки и тают во мгле. «Коротка же жизнь у вас… Родились в огне, прокружились до потолка, нырнули в дыру и умерли. А чем же моя-то лучше ихней. Родился, поднялся чуть-чуть на ноги и пошел давать круги… Непутяво кружусь… Упромыслил соболя, продал, пропил, снова иду…» Тяжело, горько. На душе разлад. Столько Хабель принес хлопот Сватошу. «Хоть бы ругнул по-мужски похабно или на худой конец презирал бы… Дак нет же, еще и лечит… Ночь не спал из-за меня, в одной безрукавке вертелся, а меня укутывал своей шинелью…»
По ту сторону костра мертвецким сном спит Зенон Францевич. По таежной привычке лежит спиной к огню.
«Тоже научился по-нашему жарить спину, — усмехнулся Хабель. — Спи, сёдня я буду огонь держать…»
* * *
Поздно вечером они доплелись до Кудалдов. Только в двух домах горел в светцах огонь. Через обмерзшие стекла едва пробивался скудный мигающий свет. К одному из них они и подошли. На стук отворилась дверь, и в сенцах раздался женский голос.
— Кто там?
— Я!.. Мы с Петром.
— Зоня, ты?
— Я, я, Катенька!.. Отопри скорей… Замерзаем…
— Ох, бедняжки! Сейчас, минуточку! Да где же эта несчастная заложка-то?
В открывшуюся дверь Зенон Францевич втолкнул замешкавшегося Хабеля.
— Здравствуйте, Катя, Валя!
Заметив, с каким удивлением женщины уставились на незнакомого человека, Сватош представил своего спутника: «Знакомьтесь, Петр Хабель!»
— Хабель?! — вырвалось одновременно у обеих женщин.
— Да, на этот раз собственной персоной!
Взгляд Екатерины Афанасьевны выражал растерянность и удивление.
— А я… а я думала…
— Да, да, Катя, ты думала, что он богатырь, а он… Вот он какой… Да, Катенька, мы очень голодны…
Ужин состоял всего из двух блюд, но был приготовлен очень вкусно. Перед едой таежники пропустили по доброй чарке горькой настойки и с великим наслаждением принялись за еду. После мясных блюд хозяйка по-сибирски подала чай с вареньем из черной смородины.
За чаем Зенон Францевич в первую очередь спросил о своих собольках, а потом уж о хозяйственных делах. Следивший за разговором Хабель заметил, что жена Сватоша глубоко вникает во все дела заповедника и, если нужно, дает необходимые распоряжения. «Толковая баба», — заметил про себя Хабель.
А на следующий день Хабель зашел в канцелярию заповедника. В углу за массивным столом сидел Зенон Францевич и что-то записывал в толстой тетради.
— А-а, Петр, садись. Я сейчас допишу.
В небольшом шкафу Хабеля заинтересовали искусно препарированные птицы. В нижнем ряду, словно живые, застыли в естественных позах две белки, горностай и соболь. Тут же были тарбаган, несколько пищух и малюсеньких мышей.
Закончив писать, Зенон Францевич вышел из-за стола и подошел к Хабелю.
— Слушаю тебя, Петр.
— Да вот, пришел поговорить по душам…
— Ну что ж, рассказывай, как дальше жить собираешься… Пора уж бросать браконьерить.
— А… Все равно сидеть в тюрьме!
— Нет, не все равно. Главное, ты понять должен, какой вред приносишь заповеднику…
— Вот поэтому и пришел я… Не понимал я раньше ни тебя, ни твоей работы, Зенон. А вот здесь увидел… Дошло. Слово даю… Ей-бог. Не пойду больше в заповедник…
— Очень хочется тебе поверить. А знаешь, — вдруг решился Сватош, — завтра наш завхоз едет в Баргузин… Поезжай с ним домой… Заявлять на тебя пока не буду… Надеюсь на твою совесть и на твое слово.
Он снова подошел к столу и задумчиво склонился над ним. А Хабель топтался на одном месте и не уходил. Горький комок защемил горло, неприятно защекотало внутри.
— Зенон!.. Я… Мне… Поверь… Возьми к себе.
— Кем я тебя могу взять… В охрану?
— Кем хочешь…. Только возьми… Ей-бог!
* * *
Вечером следующего дня, отправив Хабеля на поимку Остяка, Сватош долго и задумчиво листал свои тетради.
— Зоня, тебе нехорошо?
— Нет, Катя, самочувствие у меня в последнее время, наоборот, хорошее… Со снабжением налаживается… Хабель…
Екатерина Афанасьевна тяжело вздохнула:
— Сколько раз тебя Хабель обманывал…
Зенон Францевич понимающе посмотрел на жену и улыбнулся:
— Катя, я хочу рассказать тебе один случай… Однажды я в тайге заблудился. Близко был у смерти… Помирал с голода… Решил, что конец настал. Разжег костер, лег на лыжи и впал в забытье. Сколько времени спал, не помню. Разбудил меня громкий выстрел. Смотрю, а передо мной на снегу лежат сухари и кусочек жирного мяса. Костер ярко горит. Схожу с ума — подумалось, а сам жадно ем сухари, грызу мерзлое мясо… Наелся. Тереблю себя за ухо — больно, значит все это наяву. Начал звать своего спасителя… Но он не откликается. Огляделся кругом — вижу, моя ангура воткнута кем-то в снег с наклоном в ту сторону, куда мне нужно было идти. Напился чаю, мне стало легче, и я пошел. Иду по чьей-то чумнице, ни о чем не думаю… Отупел совсем… Долго шел я за кем-то… Подойду к его отогу[26] — костер горит, все готово к ночлегу, а дров на две ночи хватит. Высплюсь, отдохну и снова в путь по чьей-то лыжне. На третий день я вышел на нашу старую чумницу, недалеко от Кудалдов. Смотрю, а свежая-то чумница свернула в сторону к скале. Я глянул вверх, а там стоит Петрован Хабель и улыбается мне… В нем сидели два Петра… Один — храбрый, великодушный, русский мужик. Второй — злой хищник. Вот второго-то я и мечтал выжить из него. Видишь, Катя, как получается в жизни…
— Зоня, почему же ты раньше не рассказал мне… Я… возможно обидела его…
— Нет, Катенька, он понимает.
* * *
Ласково встретила Хабеля Малютка-Марикан. Ее бархатные плечи теплой шалью накрыли косматые тучи и прочь отогнали резучий мороз. Чуть слышен легкий шепот деревьев. Веселой дробью раздается перестук дятлов.
Ночью выпала переновка, и лыжи скользят словно по маслу. Вдруг Хабель остановился как вкопанный. Перед носками его лыж свежая соболья стежка. «Настоящий «розовый» след!.. Парник!» — с дрожью в голосе проговорил стражник. Пробежав метров двести, он остановился. На бледном лице злая досада. С силой воткнув в метровую толщу снега свою ангуру, он плюнул и громко выругал себя.
Высоко-высоко в подгольцовой зоне, где растут лишь кривые, длиннолапые деревья, возвышается бледнолицая скала. Это родная мать Малютки-Марикан. В ненастье она еще больше ворчит на непослушную, своенравную дочь. От злости у нее уже не изумрудными каплями, а целыми ручейками текут холодные слезы. Заливаясь тонким серебряным смехом, еще быстрее убегает от матери Малютка-Марикан.
У подножия этой скалы, в густом ельнике, Остяк сделал себе юрту.
Подойдя к логову хищника, Хабель внимательно осмотрелся, снял лыжи и заполз в юрту. Посреди темного помещения тлели головешки. «Эх, черт, смотался… услышал…»
Как вихрь, мчится знаменитый лыжник Подлеморья. Только в этот раз его быстрые лыжи не за зверем несут Хабеля, а за… браконьером.
Это обстоятельство придает Хабелю еще больше силы и желания догнать. «Врешь, не уйдешь!» — рычит он. Уже у самого гольца, у скалистого Орлиного гнезда, он нагнал Остяка.
— Тьфу, язва, думал, стражник гонит меня!
— Здорово, Остяк! Ты не ошибся… Я теперь стражник.
— Ты што, с ума сошла?
— Вот те крест… Правду баю… — Хабель перекрестил потный лоб.
Глубоко посаженные маленькие глаза зло сверкнули.
— А Малютка-Марикан как? Бросать?
— Надо, Оська, уходить… Первый раз поймал… прощаю… Ты меня от смерти спас… Я твой должник… Будь добрый, уходи совсем… Оставь Малютку-Марикан.
— Малютка-Марикан моя! Моя! Умру здесь…
— Нет, это земля казенная… Заповедника. Придешь еще, поймаю… От меня не убежишь… Арестую. Уходи добром… Прощай, Оська!
Хабель повернулся и, не оглядываясь, пошел обратно. Вдруг сзади раздался выстрел. Зловеще прожужжала пуля. Обернувшись, он увидел, как Остяк закрыл ладонями лицо. Между ними раскачивалась тоненькая осинка. «Пуля срикошетила…» — мелькнула мысль. «Ах ты, тварина, стрелять вздумал!» — В злобе Хабель вскинул ружье и начал целиться в съежившуюся от страха фигуру. Никак не слушается ружье трясущихся рук. Наконец на мушку попала шапка. Знакомая шапчонка. Старая, черная от сажи и копоти. Увидев ее, Хабель бессильно опустил винтовку и, утерев холодный пот, сел на снег.
* * *
Как и давным-давно, при рождении нового дня, белозубый голец Орлиное гнездо окрасился бледно-розовым цветом.
Всю ночь не сомкнули глаз два бывших друга. Их разделял лишь небольшой костер.
При первых лучах восходящего солнца Остяк поднялся. Отойдя на чистый снег, опустился на колени и поклонился Малютке-Марикан, долго жаловался ей о чем-то. Кончив обряд прощания, он подошел к костру и, не глядя на Хабеля, перекинул через огонь свою винтовку. Затем, порывшись за пазухой, достал шкурку черного соболя, который, вороном перелетев через красную грань, распластался у ног стражника.
— Плоха ты стражник — Оську отпускаешь.
— Зенон так велел — моя просьба была.
Эти короткие резкие фразы прозвучали двумя выстрелами и сгорели в костре.
Остяк, бросив полный ненависти и бессильной злобы взгляд на спокойно сидевшего Хабеля, надел лыжи и пошел на голец.
Поднявшись на вершину, он долго стоял на одном месте. Черное пятнышко то увеличивалось, то уменьшалось. «Кланяется Малютке-Марикан», — догадался Хабель.
Еще через минуту черное пятно на Орлином гнезде исчезло.
ТРОПА САМАГИРА
ГЛАВА 1
На орлином гнезде удивительно тихо. Обычно в это время года островерхий голец окутывается толстым слоем свинцовых туч. В гранитных скалах свистит, визжит, воет холодный сивер. А вот сейчас, когда Остяку, быть может в последний раз, пришлось вести разговор с Малюткой-Марикан, Горный хозяин развеял тучи и утихомирил злую вьюгу.
В пронзительных Оськиных глазах полыхает непримиримая злоба — он видит довольное лицо Сватоша, который как бы говорит: «Хабеля переманил к себе, Оську Самагира прогнал. Теперь я полный хозяин Малютки-Марикан».
Глаза затуманились, смуглое лицо побледнело, стало светло-желтым — к нему явилась Малютка-Марикан. Губы охотника запеклись кровью, больно, но они упорно шепчут:
— Как же мне без тебя?.. Как?.. Скажи, владыка Мани, ты мудр, ты все знаешь… Скажи, как мне быть без моей Малютки-Марикан?
Откуда-то издалека вроде бы слышит Остяк приглушенный голос: «Иди, сынок, в чужую тайгу. Поставь там чум, и чтоб он не был пустым, возьми себе бабу, она продлит твой род — род великого Самагира. Правда, ты там не увидишь соболей черных, не услышишь нежного говора Малютки-Марикан.
— Нет, не пойду в чужую тайгу!
— Как хочешь, сынок, иди к буряту пасти баранов.
— Лучше умру!
— Тогда иди к русскому. Будешь железом ковырять землю.
— Пусть пуля пронзит мою голову.
— Пуля?.. Ружье-то у тебя отобрали.
— На поняге есть крепкий ремень.
— Дурак, какой же ты эвенк, не оставил на своей тропе потомства и хочешь уйти к предкам.
— Нет мне жизни без Малютки-Марикан. Уйду к предкам, там никто не отберет мою тайгу».
Остяк поднялся и отправился к Шаманской пещере. Пещеру эту знают только они с Хабелем. Даже пьяным-пьяные не смели таежники о ней болтать. Здесь они прятали продукты, боеприпасы, капканы и запасные лыжи.
Над входом в пещеру широким кондырем нависла скала, оберегая вход от снежного заноса. Внутренность пещеры напоминала выбеленную известью русскую церковь, правда «известь» от времени стала серо-желтой.
Хабель при входе в пещеру снимал шапку, крестился и низко кланялся, а Остяк с суеверным страхом опускался на колени и долго шептал заученные еще со слов матери шаманские заклинания. В дальнем углу, где стена походила на гладко вытесанную острым топором доску, были изображены охотники с луками и копьями, олени с ветвистыми рогами, большеголовый медведь, почему-то на трех ногах. У огромной нерпы вместо ластов — толстые, неуклюжие, кривые ноги. И над всем этим изображено лучистое солнце, чуть ниже — рог молодого месяца, а рядом созвездие Большой Медведицы с Полярной звездой.
Под кривой чертой множество косых и прямых крестиков, завитушек, крючков. Что они обозначали, Остяку неведомо. «Кто об этом знает, кроме Горного хозяина?.. Наверное, это шаманские знаки, — рассуждали они с Хабелем. — Не нашей башкой кумекать, знай молись».
В те приходы Остяк, упав ниц, просил Великих Духов, чтоб они помогли добыть больше черных соболей, упромыслить жирного зверя на еду и на приваду для ловушек. Не забывал поклянчить себе бабенку, черноглазую, с полными щеками, с большими молочными грудями, чтоб его дети росли сытыми и сильными. А то года уже уходят. Верно, путается он с рыжей Маруськой, да разве с ней можно жить? Сначала, когда у Оськи деньги звякают в кармане, Маруська ласковая. В глазах хмельная улыбка. Бесстыдно пляшет, хвалится толстым задом — цепу себе набивает. А как соболька-то пропьет, утром встает опухшая, косматая, со стоном уползает за печку. Там она вооружается ухватом и идет на Оську. Таежник успевает схватить шапчонку — и давай бог ноги. Как с бабой драться? Вот и попробуй с такой жить! От всей души просит Оська у Горного Хозяина смирную бабенку, а он молчит, скупой до добрых баб.
На этот раз, тяжело и неуверенно шагая, с блуждающим взглядом покрасневших глаз он ввалился в пещеру, словно пьяница в кабак. Посередь пещеры опустился на колени и поклонился древним рисункам. «О Великий Мани! О справедливый наш защитник и кормилец Горный Хозяин! Вам все ведомо, вам все доступно. Вы знаете, что творится за семьюдесятью гольцами, за Святым морем, в потемках чужой души и в будущих потоках великой Реки Жизни. Скажите, что мне делать? Злые люди отобрали мою Малютку-Марикан. Заставили Оську Самагира ходить Тропою Волка. А теперь переманили к себе Хабеля. Из друга он сделался врагом. Заимел Сватош злую собаку. Хотел я его, собаку, пристрелить, да помешала осинка, отвела пулю в сторону. Он, собака, не стыдясь, забрал мое ружье, соболя унес Сватошу. И не велел даже смотреть на Малютку-Марикан, говорит, посажу в тюрьму. А ведь тайга-то моя. Сорок колен моих предков ходили Тропою Ловца. Честно гоняли зверя, честно брали его. — Остяк оглянулся, облизал запекшиеся губы, искусанные прошлой ночью в бессильной ярости. — Зачем мне после этого жить? Разве может потомок великого Самагира пасти вонючих баранов или глотать пыль на пашне? Вместо вкусного оленьего мяса жрать кислую арсу или горький хлеб? Лучше медленно умереть от тоски по своей Малютке-Марикан. Лучше сам покину Тропу Жизни и уйду к своим предкам. О, Горный Хозяин, прости бедного эвенка. Пусть его прах покоится в твоем каменном чуме, у твоих ног. Меня некому похоронить. Добро б, если орел скормит своим орлятам мое тело, а то расклюют его черные вороны».
Остяк еще раз стукнулся лбом о каменное ложе пещеры, снял с плеч свою пустую понягу и отвязал ремень. У самого входа в пещеру угрожающе навис огромный каменный кулак. Накинув на него тонкую лосину, Остяк затянул ее крепким бурятским узлом. На другом конце ремня завязал петлю и надел на шею. От прикосновения холодного ремня вздрогнул и зажмурился. Бледно-желтое лицо его сморщилось от боли, обгоняя друг друга, быстро потекли слезы. Ощупью поднявшись на острый осколок камня, облизнув губы, чтобы громче крикнуть. «Долетит ли его крик до кого-нибудь? Ведь это не рев любви золотой осенью, от которого пробегает дрожь по телу нежной изюбрихи. Это рев тоски, который умрет здесь же, в каменном чуме Горного Хозяина, но пусть хоть он услышит». Остяк, набрав полную грудь воздуха, крикнул: «Марикан, прощай! Слышь, тайга моя». Гулом заполнилась пещера, очнулась ото сна и вроде бы захохотала в ответ. Еще не затих зловещий хохот, вторя ему, послышался глухой шум. Остяк в испуге открыл глаза и уставился в темный угол в ожидании чего-то непоправимого. Вдруг над его головой снова раздался хохот. Пещера вздрогнула. Послышался скрип, треск, посыпалась щебенка. Остяк быстро сбросил с себя петлю и свалился на камни. Ужас настолько завладел им, что он словно превратился в серый известковый камень пещеры. Язык опух и сделался неподвижным — ему послышался чей-то угрюмый нездешний голос: «Перестань скулить! Кланяйся Великим Духам. Проси прощения у Горного Хозяина! Не то сдохнешь, как бурун-лук в медвежьих лапах».
Остяк едва слышно зашептал: «Простите… пощадите… злоба отравила меня… затолкала в петлю… Простите ради Великого Самагира, у которого и так-то осталось совсем мало сыновей. Я никогда больше не подниму на себя руку».
Эвенк прислушался. Тишина такая, что угнетает даже привычного к безмолвию таежника. От поднявшейся пыли першит в горле, трудно дышать. Он боязливо огляделся вокруг, посмотрел вверх. Там, в облаках пыли, раскачивался огромный каменный кулак, готовый в любое мгновение обрушиться на него.
Остяк почувствовал, как поднялись на голове волосы, и он, закрыв глаза, дрожа всем телом, пополз к выходу. Здесь его ожидала беда. Вход в пещеру был наглухо забит камнями и снегом. «Шагов пятнадцать, не меньше, придется прокапывать, — прикинул Оська. — Это, пожалуй, не под силу мне… Вот как бывает: хотел прыгнуть в Страну Предков, а теперь ползи…»
Остяк взглянул вверх. Там, через узкую щель, проникал дневной свет, тускло освещавший каменный кулак. Он вспомнил берег горного озера, глубокую тропу, отпечаток копыт сохача и растоптанную лягушку. «Не пугай, камень, мою смерть угнали далеко, я теперь жить надумал. Меня уже нельзя, как ту лягушку…» Давно ли Оська готовил своими руками себе смерть. Хорошо было все сделано. По-таежному надежно, расчетливо. Оставалось только спрыгнуть с камня — и делу конец. А теперь Горный Хозяин не велит Оське уходить в Страну Предков, велит оставить потомство, вот и родилось в сердце новое чувство: он понял, чего ему не хватает в жизни, — Оське нужна жена. Тихая полноводная река может родить и малые реки и глубокие озера. Вот и мне надо такую бабу. А рыжая Маруська пусть пьет, пусть торгует… Какие от нее дети…» И у Остяка все сильнее начало укрепляться, расти и шириться неистребимое желание жить. Он подполз к поняге и взял топор. В такой беде только топор верный помощник. Да еще нож. Снег-то после обвала точно литой, руками не разгребешь.
Сначала обухом выколотил выступавшие от снега камни и отбросил их в глубь пещеры, а потом начал рубить снег. А камни словно лезут под топор, сталь крошится… Ой, не хватит топора на всю эту работу. Но об этом лучше не думать… Остяк рубит и рубит. Уже сам не знает, сколько времени рубит. В снежной норе сплошная ночь. Силам вроде конец, передохнуть бы, но он торопит себя. Громко звякнув о камень, топор отскочил. Ощупав его обломок, Остяк зло сплюнул и привычно вынул охотничий нож.
Работа пошла заметно медленнее. Эвенк упорно колол и колол затвердевший снег. От усталости путались мысли, почему-то потянуло рвать, как с тяжелого похмелья.
Чтоб удержать нож, не свалиться, он вызывает ту, которая живет в его сердце. Из снежного бурана вырывается она — нагая, непристойная. Хищные губы трепещут. Долго-долго она кружится в снежном вихре, тянет к нему полные нежные руки, зовет куда-то в глубокую, бездонную пропасть, что ли… Он и пошел бы за ней, позабыв все на свете, но она вдруг укуталась в свою теплую снежную шубу, вскочила на быстроногого белого оленя, и вроде нет ее, вроде и не было — умчалась вдаль. Рука с ножом бессильно опустилась. Нет силы поднять ее. В глазах мелькают слепящие снежинки. В голове сплошной гул. Хочется спать, спать…
Усилием воли Остяк заставил себя подняться и снова вызвал свою диковатую красавицу. И она явилась, уже успокоенная, величавая. К ее грудям приник черноголовый малыш. Причмокивая, жадно глотает молоко и крохотными ладошками гладит ее белую шею. Вновь вернулись силы к Оське. «Я должен выйти к людям… Должен встретить ее… Я ей повелю, чтобы она родила мне сына. Я дам ему гордое имя. Буду кормить его жирным медвежьим мясом, поить горячей звериной кровью. В праздник Белого месяца буду возить его к своим друзьям бурятам, чтобы он у них съел много бараньих курдюков. А в жаркую летнюю пору буряты будут поить моего сына кумысом. Он вырастет сильным и храбрым охотником. Я обучу его ходить по тайге легким рысьим шагом и скрадывать зверя, одолевать такие гольцы, где летают лишь орлы. Он пойдет тропою храбрых Самагиров». Руки ноют, нудно просятся на отдых. Велик ли охотничий нож, но и он сейчас кажется Остяку тяжелым, как пудовая пешня, которой он раньше долбил прозрачный байкальский лед.
Вдруг нож мягко, словно в медвежье брюхо, вошел в рыхлый снег. Таежник вздрогнул: «Чего это я? То ли приблазнилось, то ли рехнулся? А вдруг… Да и в самом доле!» Он в каком-то упоении ударил еще несколько раз в снежную мякоть, и, ткнув кулаком, сделал круглое отверстие. Тут ему наотмашь хлестнул по лицу тугой морозный воздух. От радости запрыгало сердце. Горячая волна прошла по всему телу, ударила в голову, обожгла глаза. Смахнув незваные слезы, Остяк поспешно вылез наружу и уселся на снежную глыбу. В небе медленно умирал ущербный месяц. Его тусклый свет сменялся мутным рассветом. Эвенк покосился на пещеру, которая чуть не стала его могилой: «Злой дух хотел украсть мою душу, но… все обошлось будто ладно». — Он облегченно вздохнул, повернулся в сторону рождающегося утра и стал на колени. Долго всматривался вдаль: оттуда шел новый день его новой жизни. Глаза эвенка расширились, в них была радость. Сначала сложил в щепоть три пальца правой руки, как учил его бородатый русский поп. Подумав, сплюнул, распрямил пальцы и молитвенно сложил ладони рук, как это делал бурят Бадма перед своим бурханом. Покачав головой, резко вытянул руки навстречу заре.
— Слушай меня, Заря, тебе говорю! Слушай, Горный Хозяин, тебе кланяюсь: хорошим буду, честным буду. Зеленую ветку оставлю от своей жизни. Выше кедра закину свой охотничий нож, пусть где-то воткнется в гольцовый снег. В какую сторону он наклонится, туда и пойду искать свою Новую Тропу.
ГЛАВА 2
Еще только-только светало, еще едва поднималось солнце, а Остяк уже выбрал ровную площадку. Потоптался на ней. «Ха, снег-то какой… Подтаял на припеке, а после приморозило, будто стеклом прикрыло. Прогони матерого сохача — и то следа не останется. Ну да ладно. Мой-то нож все одно покажет, чего надо».
Остяк попробовал пальцем острие ножа. «Точить не надо», — решил он.
Размахнулся, но не кинул… Снял кушак, скинул шинель, остался в одной собачьей безрукавке. Снова размахнулся, но опять остановился, сбросил шапчонку, поплевал на ладонь. Темнее бронзовое лицо сделалось сосредоточенным, решительным; в глазах будто огонь полыхнул. Нож красновато сверкнул в утренних веселых лучах, взвился вверх и, описав дугу, звонко вонзился в розовый, словно праздничный снег. Берестяной черенок наклонился на восток.
— Во, где надо искать новую тропу. Нож завсегда правду покажет, — громко произнес Остяк.
Он сел перед ножом, трогать его не стал, задумался. Лучи солнца, коснувшись булата, вспыхнули ободряюще, почудилось, что кто-то рядом шепнул по-свойски: иди, Оська, куда судьба показывает. Иди.
Легко сказать: «иди», — почесал в затылке Остяк, — без ружья, без топора как по тайге ходить? Правда, можно найти, но как без спросу взять?.. Эвон, до Волчьей Пасти рукой подать. Там в расщелине скалы спрятано ружье с провиантом, то мне точно ведомо.
Остяк тяжело вздохнул. Заныло сердце при воспоминании о той таежной встрече.
…Шел тогда Оська с богатой добычей. Легко перевалил через голец. Известно, после хорошего промысла всегда легко шагается — ног под собой не чуешь. И уже на спуске встретился он тогда с охотниками. Верховские «баргузята». Он чуть не всех знал в лицо.
Молодые, краснорожие, так и пышут здоровьем. Только одному, видать, за сорок. Борода и усы в сосульках, из-под насупленных бровей твердо смотрят смелые глаза. Хорошие глаза!
По таежному обычаю сели, обменялись кисетами, закурили.
— Как промышлял?
— Ничего, паря.
— Собольков добыл?
— Не обидел Горный Хозяин, маленько есть.
— Ну и слава богу.
— Поди хищничать в заповедник наладились?
— Нет! Ты чо, паря? Мы не те люди, мы с совестью. Нам надо в Большую речку, вот куда, там указано промышлять. Скажи-ка, подлеморец, куда лучше спуститься?
— По моей чумнице не ходите, там речки Убиенной начало… Худое место, там сколько охотников пропало под обвалом.
— Опасно?
— Э, паря… Я шел, как рысь… Катиться будешь — снег будет катиться. Обвал будет. Пропадете.
— Спасибо за упреждение. Пойдем, однако, пора нам.
Распрощались. Разошлись. Парни со смехом скрылись за скалой. Остяку тогда показалось, что они не поверили ему, смеются над его предупреждением. Возможно, что так и было.
Когда он возвращался обратно в Подлеморье, то у скалы Волчья Пасть под кедровой колодой увидел человека; подошел ближе, узнал того сурового сероглазого, который угощал его крепким самосадом из расшитого петухами кисета. На бледном лице синяки и ссадины. Оська сразу понял: стряслась беда. Замерз, кажись, — подумал он и ткнул охотника ангурой. Человек застонал.
— Живой! — обрадовался эвенк.
Быстро распалил костер, приладил над огнем чайник. Из поняги достал кусок вареного мяса и фляжку. Налил спирту в свою деревянную чашку, подал ее бородатому, но тот не взял. Остяк поднес чашку к его губам, наклонил. Спирт, видать, обжег ему горло, и он закашлялся, приоткрыл глаза, но в них словно совсем умерла та твердость и смелость, которые так понравились Остяку при первой встрече.
— Ребят задавило… пропали, — вяло проговорил бородатый.
— Ой-ёй-ёй! Шибко худо.
Бородатый снял шапку, утер ею лицо, сказал надломленным голосом:
— Хуже, паря, некуда… Э-э-эх, лучше бы меня задавило. Я-то побольше их пожил на свете… больше повидал.
Он вдруг заторопился, заговорил, быстро:
— Всю гражданскую прошел против беляков… Сколько наших людей погибло, страх… Не могло тогда меня прихлопнуть… Эту беду не видел бы. Здесь, паря, пострашней было, чем на войне… Там, ежели погиб человек, так знаешь, за что он погиб, а тут…
Он уронил голову на грудь. Так и просидел молчком всю долгую зимнюю ночь. Утром вскипятили чай, маленько пожевали холодного мяса. Мужик поведал Остяку, как все случилось.
— Зашли мы на голец. Я говорю: не надо спускаться по чумнице тунгуса, ведь мужик-то упредил, попадем под обвал. Они давай надо мной смеяться, говорят, тунгус нарочно отводит нас от своих ловушек. Он в заповеднике хищничает. Хитрый, по глазам видать. Я говорю: тунгус верный человек, обману не имеет в себе. Да разве их уговоришь? «Мы, дядя, вмиг долетим до юрты, а по другому-то ключу спускаться только завтра к вечеру приплетемся». Сначала уговаривал их добром. Потом аж поругался. Одно затолмили, — тунгус отводит от своих ловушек, обманывает.
Так со смехом и махнули вниз. А там что получилось, вспомнить страшно. Вся гора будто ожила, ходуном заходила. Грохот, стон кругом. Не помню, как скатился вниз. Весь ключ забило снегом, камнями, деревья повыворачивало. Костей ихних не сыщешь. Чем-то и меня стукнуло. Вот как получилось. Чуть не рехнулся. Как идти домой? Что скажу ихним матерям? Бабы молодые ждут своих кормильцев. Дети. «Рубите мне голову, — скажу. — Может, вам легче станет».
— Ничего, иди, — твердо сказал Остяк. — Ты не виноват. Это Горный Хозяин наказал их. На гольце смеяться грех. Через голец ходить надо со строгим сердцем.
— Горный Хозяин, говоришь, наказал? Не, паря, легкость их погубила. Нам, мол, все нипочем. Верно баишь: какой смех может быть на гольце? Душевная строгость нужна. Каждый шаг примерь, обдумай. А Горный-то Хозяин здесь ни при чем… Ну-ка, плесни мне в чашку спирту.
От еды он отказался. Закурил трубку.
— Слушай, — сказал, — я тут в скале ружье и провиант оставляю. Видишь ту дыру? Там схороню. Только ружьишко и осталось от братана мово Ганьки да чья-то поняга с топором; на сучьях повисли. Приду летом. А если не доведется быть здесь, пользуйся ружьем, владей. Добрая винтовка, не захулишь… Как звать-то тебя?
— Оська Самагир.
— А меня — Антоном. Ладно, друг, отогрел, отвел от смерти. Не позабуду.
— Не бай так, тунгус всем помогает.
— Верно, Осип, тунгусы правильный народ. Про вас сам Ленин уважительно баил. Своими ушами слухал его.
— А кто така Ленин?
— Тот, што царя прогнал и заодно всех буржуев.
— Э-э! Сама больша начальник теперь?
— Во-во! Шибко за бедных людей стоит. Прямо скажу, горой!
— Ух ты-ы! За Оську Самагира тожа?
— А как же, за всех нас!
При прощании обменялись кисетами. Антон крепко обнял Оську. Махнул рукой и пошел, не оглядываясь…
И вот сейчас, сидя на снегу, все до самой малости вспомнил Оська… Охотников погибших, вспомнил и Антона.
Антон, кажись, так и не был после того в Подлеморье. Значит, винтовка по сю пору там.
Остяк поднялся, медленно подошел к шаманской пещере, низко поклонился.
— Горный Хозяин, не серчай на Оську Самагира. Его дурные дела забудь, ладно? Всегда помогал мне, однако только на тебя вся надежда. Еще раз выручай, а?
Остяк помчался вниз, к Волчьей Пасти. Одно только стучало в голове: «Там ли винтовка? Без ружья худо в тайге. Однако вовсе голодная смерть без ружья».
К концу второго дня Самагир подошел к «клыкастой» Волчьей Пасти. У подветренной стороны скалы, под огромным кедром нашел шалаш: там, видать, и отдыхал сломленный несчастьем Антон. Остяк пополз по узкому уступу. В полутьме увидел кусок бересты, а под ней туго свернутую котомку. Ободренный находкой, выполз наружу, захватив и бересту.
При дневном свете разглядел на бересте рисунки, нацарапанные ножом.
Другой не догадался бы, что там нарисовано, а Остяку все ясно. Вот же: две руки в рукопожатии, а тут десять крестиков; здесь, пониже, белка с пушистым хвостом, а тут солнце с двенадцатью крестиками. Вот зачем-то нацарапана толстая связка белок и рядом восемь небольших пучков по десятку в каждом, тоже с беличьими хвостами. А это рука. В ней ружье, подсумок с патронами. А это что такое? Вроде бы крест, а вокруг него соболь, белка, медведь, сохатый и другие звери. Значит, бабы голову Антону не отрубили! — ласково усмехнулся Остяк. А как понять эти картинки? Он вытащил трубку, набил табаком. На закате солнца совсем близко подлетели два рябчика, уселись на горбатой березе. Самагир прицелился в нижнего. Рассыпая перья, плюхнулся в снег серый комок. Второй с перепугу захлопал крыльями и перелетел на соседнюю елку. Но куда денешься от меткой пули? Спасибо, Антон, за ружье, век не забуду, — благодарно подумал Остяк. Не твоя б винтовка, пропал я. — А кое-кто болтает, будто русские худые люди. Ха, худые… Кто говорит, тот сам худой человек. Теперь Оська живет! С таким-то ружьем!
После еды он стал разбирать Антоновы картинки. Ярко горел костер. Оська нарубил дров целую гору. Хороший топор оставил Антон. Сухари оставил. Чаги наготовил. Даже мешочек соли есть.
Остяк вертел перед глазами бересту. Так повернет, эдак повернет.
«Не шутейное дело прочесть по этим рисункам чужие мысли. Хорошо еще, что не так много нацарапано», — так рассуждал про себя Остяк. Первый рисунок — две руки, значит, в крепком пожатии. Это понятно — большой привет. Он улыбнулся: здорово, здорово, Антон! Дальше — десять крестиков, это, однако, десятый месяц года. Получается, что Антон был здесь в октябре. В сезон белковья. Верно, так и было, вон белка с пушистым хвостом нарисована. Тут и длинноволосая баба поймет: значит, мех у белки созрел вовремя. Дальше солнце и двенадцать крестиков. Антон, выходит, промышлял двенадцать ден. Сколько же белок он упромыслил? Ого! Большая связка. А рядом еще восемь маленьких. Значит, у Антона сто восемьдесят белок, так выходит…
В промыслу Антон ладно заработал! А это что нарисовано? Рука протянута с ружьем и подсумок с патронами. «Это он отдает мне свою винтовку». Сердце непривычно защемило, увлажнились глаза. Долго вертит Оська бересту. Никак не может понять, о чем говорит последний рисунок. Крест и вокруг него разные звери, а в самом верху глухарь вытянул голову, вот-вот взлетит. Долго-долго сидит Самагир над этим рисунком. Звезды показывают время за полночь.
Оська недоволен собой, ругается. Вскипятил чай и пьет с сухарями, оставленными Антоном, а сам не перестает думать, что еще хотел сообщить ему русский друг.
Так и не разгадал Остяк последнего рисунка. Наладил себе постель. Сунул в изголовье бересту, улегся, быстро заснул.
А возле, в березняке, бесшумно летала сова. Она давно приметила пару рябчиков. Куда они девались? Должны бы здесь заночевать. Сдохли, что ли, беспутные?
Так и не нашла рябчиков. Потом заметила костер и на снегу увидела перья. Уселась на кедр, что есть мочи принялась ругать человека.
А человек спит и во сне почему-то плачет.
Видит Остяк сон. Будто сидит он на пне и плачет, горько ему, обида душит. А рядом стоит огромный кедр. У кедра голова, руки и ноги. Насупленные белесые брови сдвинуты, строгие глаза сверкают, кому-то угрожают. Да это же не кедр, это же Антон. На кого он так сильно рассердился?
— Видишь, Оська, едет твой враг! — говорит Самагиру Антон и показывает на всадника, который продирается сквозь лес. — Вот кто отобрал у тебя Малютку-Марикан, а не Сватош.
Подъехал всадник. Лицо у него усатое, где-то Остяк видел его.
— Да это же Микола! — кричит Антон. — Вот он и есть наш вражина. Я ему отрублю голову, смотри! — Антон взмахнул сосенкой и ударил царя. Только пух разлетелся, как от рябчиков, от всадника осталось мокрое место да серые перья.
От богатырского взмаха Антона поднялся вихрь, сбросил Оську в глубокий снег, ему стало нестерпимо холодно, и он проснулся, обвел в испуге вокруг глазами. Костер потух. На кедре примостилась сова, что есть мочи костерила кого-то.
Остяк поморщился, принялся упрашивать птицу: «Не сердись, сова, за рябчиков. Я не знал, что ты их пасешь. Не стрекочи мне на дорогу. Мне нужен светлый, чистый путь. Я ищу новую тропу в тайге. Поняла?»
Вот и костер вновь запылал. Близился рассвет. Остяк отогрелся и задумался над своим сном. Антон-то как царя рубанул! Говорит, он отобрал мою Марикан, а не Сватош. Чудной сон. Хороший друг обязательно приходит перед дальней дорогой. А вот Хабель-то и во сне не приходит. Испортился мужик, это Горный Хозяин не пускает его, чтобы мое сердце не злилось. Эх, отобрали мою Марикан и самого прогнали, как бездомную собаку. Но не радуйтесь! Найдет Оська богатую тайгу. Новую тропу промнет. Чум поставит на берегу рыбной реки, приведет себе ладную бабу. Будут дети. Еще будет у меня жизнь.
* * *
Лыжи послушно мнут и мнут снег. Это не гольцовый литой снег, а мягкий, пушистый. Здесь низменные места. Деревья высокие. Молодняк тянется, тянется за большими деревьями, тоненький, хлипкий. Часто встречаются березовые заросли. Дичи много, никогда раньше Самагиру не доводилось видеть столько. Глухари, тетерева и рябчики целыми стаями взлетают на деревья, спокойно поглядывают на человека.
«У нас, в Подлеморье, нет такой благодати. Там соболь поедает всю птицу. А здесь-то кому их теребить? Сколько дней иду по этой тайге, ни одного собольего следка не видел». Остяк тяжело вздохнул. Во сне и наяву его как бы преследуют знакомые родные места, видится Малютка-Марикан. А ноги несут все дальше на восток. Долго-долго прощально сверкает голец. Наконец и он скрылся из виду.
По нескольку раз в день Самагиру будто нарочно подставляли лоснящиеся бока то изюбрь, то сохатый, но он их не трогал. Живите уж! — снисходительно говорил он зверям. — Зачем губить попусту. Много ли мяса возьмешь с собой? Я лучше козу подстрелю или кабаргу.
Остяка угнетало отсутствие охотничьих юрт. Даже не попадались следы старых стойбищ.
Тайга богатая, но безлюдная. «Как без соседа жить? Волк и то ищет стаю», — ворчал он вслух.
Наконец, на седьмой день, Самагир пришел к подножью высокой скалистой горы. Она неприступной стеной встала на пути. Из узкого ущелья вырывалась небольшая речка.
Пройдя немного, он встретил препятствие: в узком проходе между скалами был нагорожен завал из деревьев. Остяк долго стоял в недоумении.
— Эва, как… однако дьявол поработал. Человек должен тропу прорубать, а тут ее завалили. Ха! — сердито проговорил Самагир.
Кое-как преодолев завал, Остяк пошел дальше, взобрался на голую возвышенность и в удивлении остановился.
— О-бой! — воскликнул он. — Что за чертовщина, не во сне ли вижу?
Кругом была темная кедровая тайга, а за ней сразу же вздыбились клыкастые гольцы: ни пройти, ни пролезть. Сплошная стена из дикого камня, а посреди этой ограды — луг и речка, стремительно несущаяся в узкое ущелье. «Одна дверь в божий мир, и ту завалили деревьями. Что за непонятные люди?» — продолжал удивляться Остяк. В середине той луговины, что за каменной стеной, продолговатый взлобок ощетинился сосняком и издали походит на конскую гриву. На этой гриве чуть курчавился дымок, паслись овцы и коровы.
«Не, тут не эвенки, у них олени разгуливали бы… Корма им здесь в избытке. А русский без пашни и огорода жить не будет. У них бабы загрызут мужика, ежели огорода не будет. Я насмотрелся, знаю. Здесь буряты живут, вот кто… А пошто прячут свои юрты?»
Придерживаясь кромки леса, Остяк осторожно пошел к гриве. Снег был неглубокий, лыжи пришлось оставить внизу, у завала.
Рядом вдруг что-то щелкнуло, от сосны отлетела щепка, хлестнул выстрел. Остяк упал за колоду, быстро перезарядил ружье боевым патроном.
«Убьют, собаки!..» Так оно и есть: знал, что добрый человек не завалит тропу, не станет прятать юрту в трущобе.
Остяк крикнул: «Ге-ей, не балуй! Так и ухлопать просто!»
— Кар-кар-кар! — ответила матерая таежная ворона. Оська поднялся и отряхнулся от снега. Через луговину, оглядываясь назад, бежал парнишка. Эвенк с досады плюнул и смачно выругался.
ГЛАВА 3
Стемнело: будто богиня Бугада распалила в своем чуме большой дымный костер, сажей занесла и небо и всё окрест. В узкое ущелье спустилась мгла. Потом постепенно прояснилось, стало видно морозное небо. Оська терпеливо сидит в засаде за завалом: должны же появиться хозяева таинственной долины. Но никто не идет. А мороз донимает все сильней. Но нет, Оську не заморозишь! Недаром зовут его Одиноким Волком за то, что он не ушел на Томпу-реку со своими сородичами. Страшный был тогда год, белый царь запретил добывать соболя и повелел выслать всех тунгусов с их родных подлеморских рек. Со слезами уходили на Томпу-реку его сородичи. А Оська не покинул свою Малютку-Марикан, ослушался царя Миколку, бродил по тайге Одиноким Волком, тайком промышляя соболя, сделался неуловимым хищником в собственных урочищах. В лютые зимние морозы по-волчьи ночевал на снегу. «Нет! Оську не заморозишь! Буду до конца Волком, что ли? А?.. Как же с Новой Тропой-то быть? А? Нет! Надо подобру разговор вести… Люди же там, поймут меня. Подожгу этот проклятый завал. Станет светло, тепло».
Настрогал смолистых щепок. Долго высекал огонь.
— Трут, должно, отсырел? — спрашивает Оська у холодного огнива. — Куражится. Сейчас возьму другой кусочек. Вот так! Так, давай, огонь…
И вот узкое ущелье осветилось. Ярко горит красная сухая хвоя, смолистые сучья воспламеняются буйными языками. Огонь проворно перебегает с дерева на дерево.
Смотрит Оська в бушующее пламя, и ему чудится, будто не огонь бушует в костре, а это горит его Малютка-Марикан.
«А что, если прийти летом в Подлеморье и поджечь Марикан?.. Чтоб ни мне, ни Сватошу… Миколка-царь отобрал наше Предморье, да не в пользу ему пошло: говорят, убили его русские работники. Туды ему и дорога. Эх, царь ты, царь, много людей ты обижал. Это наш тунгусский бог наказал тебя. Он, паря, сердитый. У-ух!»
Сейчас, говорят, сидит на Миколкиной скамейке Ленин. Как-то слыхал от Антона-охотника, что Ленин горой стоит за бедный люд. А больше Оська ничего не знает про Ленина. Откуда знать ему, Одинокому Волку? Только изредка виделся с Хабелькой. И разговор у них всегда был один: где промышлять да как увильнуть от стражников? А когда выходил с промыслов к русским, отдавал соболей Моське-еврею. Тот молчком выдаст ему деньги и без лишних слов захлопнет тяжелую дверь. Хитру-у-ущий! А с деньгами Оська не дружит. Зачем они ему? «Духи — хозяева тайги денежных недолюбливают, а вот нашего брата жалеют, видят, что бредет по тайге «нужда», глядь, пошлют навстречу зверя. Это все верно, на своей шкуре спытал. Ха, зачем Оське деньги?! Живо пропьет и — снова в Подлеморье. Откуда же знать Оське про Ленина? Однако Антоха много знает про него… против царя воевал. Надо у него распознать хорошенько. Если Ленин ладный мужик, то буду просить, чтоб отдал мою Малютку-Марикан. Куда ему с ней возиться: соболя ему не промышлять».
Вдруг Оська слышит чьи-то легкие шаги. Отскочил в сторону от костра, сел на пень и приготовился встретить недруга. Ущербный месяц хорошо освещает деревянную накладку мушки. Приложился к прикладу и пробует взять на прицел темный пень.
«Подходи, подходи, собака, уж не промахнусь», — подумал Оська.
Шаги затихли совсем.
«Поджидает своих… боится один-то…» — Иди, не бойсь, — тихонько, даже ласково зовет Оська, а руки еще крепче сжимают винтовку.
По крутому склону черной горы раздалась частая дробь копыт. Оська облегченно вздохнул, незлобно ругнул зверя.
Чтобы подбодриться, Оська напился чаю. Закурил. Никак не уходит дума о вчерашней встрече.
Почему стрелял тот щенок? — спрашивает Оська у костра. «А все-таки не везет мне. Пошто гневишься на меня, Горный Хозяин? Смекаешь, как бы доконать Одинокого Волка, да?» — лезут в голову тревожные вопросы.
Лицо Самагира стало угрюмым. Он вспомнил старого деда Агдыра, который внушал ему безропотное преклонение перед Горным Хозяином и другими лесными духами, перед шаманом. Упаси бог ослушаться белого царя и его шуленгов. Все они слуги великого божества Мани, который живет на Верхней Земле.
Перед Оськой всплыло темное морщинистое лицо деда Агдыра. Узенькие слезящиеся глаза ласково смотрят на внука. Оське слышится ломкий, надтреснутый голос. Пережевывая беззубым ртом слова, старик медленно рассказывает маленькому Оське чудесные сказки о далеком прошлом великого рода Самагиров. А однажды рассказал, как на землю их предков напали воины Чингис-хана. Вот было побоище! После жестокой битвы мудрые старики подсчитали оставшихся в живых сородичей и — куда денешься? — решили платить ясак пришельцам: надо же как-то сохранить свой род… Монголы согласились, потому что им тоже война стоила немало жизней. Долго платили ясак наши предки черными соболями и другой мягкой рухлядью. Но потом пришли воины белого царя, а с ними торговый люд и волосатые шаманы бога Исы. Легче не стало: каждый старался ободрать лесного человека, обмануть. Годы уплывали, как воды Малютки-Марикан в море, а тунгусу все не было легче. Царю плати, купцу плати. Скорей у Байкала дно достанешь, чем дождешься, когда придет конец этим долгам. Да еще шаманы свое требуют… Шуленге дай… Всем дай! Дай! Дай! Не дашь, силой возьмут, обманом отберут… Голышом пустят по тайге… Сдохнешь…
Морщинистое, с реденькой бородкой лицо деда Агдыра постепенно расплылось и исчезло в дыму костра. Только остались и обжигают каленым железом Оськино сердце последние слова деда Агдыра: «Отберут… обманут… голышом пустят по тайге… Сдохнешь…»
Самагир вдруг словно взбесился: вскочил на колоду, выпалил в звездное небо и заревел раненым зверем.
— Сука ты, царь! Зачем отобрал Малютку-Марикан? Кто отдаст мне мою Малютку-Марикан?! Кто?! Скажи, кто?!
Оська вроде совсем ума рехнулся, долго не мог очухаться. Наконец огляделся кругом, прищемил ногтями ухо. Больно. «Значит, еще живу на грешной земле, реву с горя голодным медведем». Взглянул на небо.
— Скоро родится новый день, — сказал Оська вслух. Подвесил огонь и подвинул на тагане котел с чаем. Настрогал сырого мяса, поел сочной строганины, приободрился. «Ничего, промну себе Новую Тропу. Промну. И жена будет и дети будут. Будет жизнь… И буду я хозяином новой тайги».
— Слышь, господин огонь, разве тунгус не ладно думает? — подкармливая костер толстыми поленьями, спрашивает Оська.
«Сколько же людей на этой гриве? — подумал он. — Уйти так, — скажут, что спужался сосунка».
Самагир старательно прочистил ружье. Зарядил самодельными пулями пустые гильзы.
— Спытают, сволочи, Антохино ружье. Узнают черные мыши, как оно бьет! — грозился Самагир.
Спрятав понягу и лыжи в задымленной пещере, Оська отправился к месту вчерашней встречи.
Саженей через двести он увидел соктоя. Зверь сделал огромный прыжок и скрылся в кедраче.
— Злой дух гонял тебя ночью… Зачем меня пужал! — ругает Оська оленя.
Самагир идет своим вчерашним следом. Ствол берданки хищно смотрит вперед. Снова, как и вчера, заныло сердце.
— Это от безлюдья. Ищи, волк, стаю… Худо одному, — говорит себе Оська.
Потянуло к гриве, где курчавился дымок. Там люди. По ближней поляне разбрелись коровы, которых сгонял на водопой вчерашний пастушонок.
Оська зорко огляделся кругом и начал осторожно подкрадываться к пастушку. Присмотрелся.
«То верно, что бурятенок, лет пятнадцать ему», — заключил Оська.
Овчинная шуба покрыта синей китайской делембой[27]. Пестрый кушак с охотничьим ножом. Через плечо перекинута обрезанная винтовка-пятизарядка.
«Грозно оборужён. Попробуй такого взять на испуг, ничего не выйдет: пристрелит», — подумал Самагир.
Напоив скотину, пастушок погнал стадо к скрытому в сосняке жилью.
— Шамана не надо, гадать нечего, все и так понятно: здесь живут худые люди… Схоронились от мира, оборужены добрыми винтовками, — шепчет Оська.
Он снова взглянул на пастушка: «Отправить бы тебя в землю предков, чтоб не палил в каждого прохожего».
Вспомнил вчерашнее. Обозлился. Стал целиться.
— Уж пугну его, — бормочет Самагир, — а на выстрел выскочат мужики. С теми будет разговор мужской. Однако ладно будет.
Оська снова вскинул винтовку: «Надо так выстрелить, чтоб пуля сбила красную кисточку с островерхой шапки пастушонка. Пусть знают, каков стрелок Оська Самагир».
Но тут как назло на того паренька навалилось веселье, он начал прыгать вокруг белого бычка, толкать его плечом.
Оська с досады плюнул, прислонил к дереву ружье и закурил трубку. А когда снова взглянул в сторону луга, его лицо расплылось в улыбке. По лугу, брыкаясь, носился бычок и изо всех сил старался сбросить седока.
На душе потеплело. Оська вспомнил свое детство. Вот так же и он играл с бычками, скакал на них. «То было давно… Пастушил у купца Синицына, — вспомнил он. — Строгий был хозяин. Ух!»
…Лет десять было тогда ему. Увез его к себе купец Синицын, обещал обучить грамоте. За год до того Оськин отец попал под обвал, и пришлось Оське жить у дядя Кенки. Дяде-то было на руку отпустить Оську. Пять голодных ртов в чуме. Останется четыре. Все легче. Обучится Оська грамоте или нет, лишь бы в брюхе у парня было не пусто.
Русским языком Оська овладел быстро. Было у кого учиться. Оська жил в одном доме с купеческими кучерами, кухарками. С раннего утра до вечерних сумерек горластые бабы кричали ему: «Эй, наколи дров!», «Эй, притащи воды!», «Вынеси помои!» Мужики научили парнишку побойчее отвечать кухаркам. И после хохотали… А вот одолеть грамоту Оська никак не смог. Купец дал было ему букварь, тетрадку и карандаш, даже наказал приказчику Ромке Серому обучить тунгусенка грамоте. По вечерам Оська усаживался за сырой, пахнущий рыбными отходами стол и-весь вечер повторял одно и то же: «а-а-а-а…» или б-б-б-б…»
Оська бубнил по букварю, а Ромка дулся с мужиками в карты.
Разве такую муку стерпишь? Оська поплелся к купцу, сунул ему растрепанный букварь, сказал: «Оське книга ничего не баит. Все молчит и молчит. А пошто так? Однако голова у меня плохая. Верно Ромка болтает: тунгусу грамота во вред. Глаза, говорит, пропадут, ноги ленивы будут, как станешь соболя промышлять? Верно, нам грамота во вред…»
Синицыну язык тунгусский, что родной. Переводчика не надо. Он громко и долго хохотал и все повторял: «Вот дурак, а? Тунгусу, говорит, грамота во вред». Посмотрел на Оську веселыми хмельными глазами и сказал: «Летом будешь пасти телят, а зимой возить сено. Харчами не обижу».
Пять лет пас Оська купчине скот. В лютые морозы возил сено. Теплую одежду купец не давал. «Без одежи жарко будет. Покидаешь вилами сено на воз, распаришься!»
Чтоб не околеть на морозе, Оська бегал вокруг обоза. Потом приехал дядя Кенка. Пощупал у Оськи руки, ноги. Одобрительно крякнул: «Понягу, однако, как ездовой олень, попрешь. Надо купцу кланяться, подарок тащить надо: шибко кормил тебя, силы много давал. Теперь пойдем соболя промышлять».
Недолго они промышляли соболя. Дядя Кенка подчинился царскому указу, со слезами покинул Малютку-Марикан, перекочевал на Томпу-реку. А Оська ушел на «Тропу Волка», стал хищничать…
Развоспоминался Оська, а пастушонок той порой скрылся со своим скотом на гриве, где все еще курчавился дымок, так манивший Оську, что у него от тоски по людям заныло сердце.
Оська любил посидеть за чашкой чая или тарасуна, потолковать по-бурятски, у него друзья в каждом улусе, по всей Баргузинской долине, а здешние на бурят не походят: пулей встречают прохожего, разве это бурятское гостеприимство?
— Погодите ужо! — вслух пригрозил Оська и потряс берданкой.
«Сначала обойду вокруг, узнаю, сколько мужиков ходит на промысел. Потом подойду к их юртам, — решил Оська и начал обходить большую поляну. — Видать, на зиму сено не готовят… Ветошь до колен. Только и жить здесь скотоводу. Богатая долина. И скот держи и охоться. Эвон, сколько звериных следов».
В вечерних сумерках Оська вернулся к завалу, где провел прошлую тревожную ночь.
«Дьяволы, дрыхнут, как тарбаганы в норах. Только этот сосунок мыкается со скотом. А может, он один живет со стариками?.. Может, еще есть какая немощная бабенка, которая ползает только до порога?.. А?.. Не-е! Тогда бы этот щенок оберегся пулять в хамнигана… А может, злой дух вселился в него…» — рассуждает про себя Самагир, а сам готовит свой нехитрый ужин.
После ужина Оська положил в костер три толстых полусырых сутунка.
— Долго будут таять… Зачем эвенку большой огонь?.. Отосплюсь, а завтра пойду в гости, — сказал он громко и, свернувшись по-собачьи, заснул крепким сном.
* * *
День выдался празднично погожий. Иссиня-голубое небо. Светлое солнце. Снег сверкает множеством дружных незабудок. Весело стучат дятлы. Замысловато кружась в бесшумном полете, целуются сойки. Общительные белки, высоко задрав пушистые хвосты, несутся в гости в соседние гайна.
На большой поляне по-прежнему пасется скот, а пастушонок сидит на пне у кромки леса. Подойдя ближе, Оська услыхал тихую песню.
Речка студеная, а песня веселая. — Завидно мне. Я же горячая, а песня печальная. — Горько мне.«Что за чертовщина, у парнишки бабий голос», — удивился Оська.
Самагир подполз совсем близко: решил схватить пастушонка, учинить допрос и отобрать винтовку.
«Так будет справедливо», — решил он.
Вдруг в зарослях стланика проплыла какая-то крупная темная тень. Оська насторожился. В следующий миг в десяти шагах от пастушонка появился огромный тощий медведь. «Шатун! — мелькнула мысль. — Сожрет парня!»
А пастушок не чуял беды, сидел спиной к зверю и что-то напевал.
Оська вскинул ружье. Не спеша прицелился. Выстрелил.
Пастушок с криком метнулся от пня. В больших черных глазах были испуг и растерянность. Увидев Оську, он резко вскинул винтовку.
— Его добей… Я-то не зверь, поди, — довольно добродушно сказал Оська. Только тут пастушок заметил тушу медведя. Отступил.
— Что, поди, портки трясутся?.. Не мокро ли там? — заговорил Оська на бурятском языке. И снова у него закипело на сердце, все внутри обожгло злобой… — Ты, змееныш, пошто в меня стрелял без упрежденья? А?
— Я мимо стреляла, только попугать хотела, чтоб ты ушел.
— Ух, ты-ы!.. — стреляла, хотела… А я думал, ты парень! — воскликнул Оська.
Бурятка недоверчиво следила за тунгусом, готовая дать отпор.
«Ишь, как глазищами зыркает, — подумал Оська, — хороша бурятка».
— Волки и те не кидаются на пришлого, не прогоняют. А ты стреляешь… Убить же могла.
Пастушка смутилась.
— Дядя так велел, — выдавила она. — Велел стрелять.
— Худой он человек.
У пастушки хищно сузились глаза, в них полыхнули злые огоньки.
— Он брат моего отца!.. Заткни свой собачий рот! — бурятка угрожающе вскинула винтовку.
— Убери палку-то да не каркай, баба!.. Я, Оська Самагир, по воле злых людей оставил землю предков и скитаюсь по тайге Одиноким Волком. Хочу жить, как все люди. Поставить чум, найти жену себе, обзавестись детьми. Я не злой человек.
Бурятка отвернулась, собираясь уходить.
— Постой, девка, не уходи… Мне нужен совет мудрого человека. Веди меня к своему дяде.
Пастушка сердито посмотрела на Оську, помешкав немного, мотнула головой и молча пошла к гриве.
«Достанется же какому-то бедняге такая ведьма. Заживо загрызет… Ох и баба… Не баба, а злой дух», — рассуждал про себя Оська, топая за строптивой девкой.
* * *
На самой гриве будто чья-то могучая рука выщипала сосняк, получилась небольшая веселая полянка, посередь которой стояла маленькая, с крохотными оконцами хижина.
Бурятка ожгла Оську косым взглядом, жестом остановила его и зашла в дом.
Через стенку донесся старческий, дрожащий голос.
— Чимита, ты в кого стреляла?
— Это не я…
— Э, бурхан!.. Отведи от нас злого человека… Кто же он?
— Прохожий хамниган, убил медведя… Шатун крался ко мне…
— Э-э, бурхан! Спасибо тебе, послал спасителя моей дочке. — Старик долго кашлял. Помолчав, продолжал: — Где же он? Надо отблагодарить, угостить его.
— Он здесь. Сейчас позову.
Девушка вышла к Оське.
— Заходи, — буркнула она, пряча глаза.
Перешагнув порог, Оська оказался в небольших сенцах. На него пахнуло травяным духом, степью, солнцем — на тонких, гладковыструганных шестах туго связанными снопиками висели лекарственные травы…
Пастушка открыла дверь.
В полутьме Оська разглядел сидевшего в переднем углу благообразного седого старца.
— Амар сайн!
— Мэндэ[28], добрый человек! Присаживайтесь. Не сердитесь на грубиянку мою. Э, она у меня… Э… — старик закашлялся.
— Она у вас очень смелая, стреляет, как хамниган, и со скотом одна управляется.
Лицо старца совсем сморщилось: он попытался улыбнуться.
— О, все хозяйство на ее руках… Да еще я со своей хворью.
Девушка молча поставила перед Оськой низенький столик. Принесла деревянную миску с кусками отваренного мяса.
Жирная баранина, осеннего забоя, была сочная, но без соли. «Давненько покинули людей, живут и соли не видят, — заключил Оська. — А почему бы не сходить до ближнего улуса? Два дня ходу. Боятся людей и не идут. А почему боятся? — спрашивал себя тунгус.
Потом хозяйка подала чай.
Оська никогда не пил такого душистого напитка, забеленного густым коровьим молоком.
От удовольствия Оська причмокнул и подал хозяйке пустую чашку.
— Каков наш чай? — спросил старик, заметив, с каким удовольствием опорожнил гость чашку.
— О-о! Наверно, этот чай везли издалека.
— Нет, он растет здесь.
— О-бой! Я бы никогда не подумал.
Насытившись, Оська рассказал старцу, куда и зачем идет. Попросил у него совета.
Старик задумался. А потом, глядя куда-то поверх головы гостя, заговорил словно сам с собой.
— Уж много лет живу в этих горах, целебные травы собираю. Знаю, какие травы целебны для человека, какие ядовиты. Охотничьих премудростей не ведаю. С лесом дружу, с лугами. Все мне там открыто, меня тайга не бережется, тайны свои не скрывает. Скажу тебе, сынок, что здесь рай для всякой живности. Никто здесь, от сотворения мира, не промышлял, потому и все живое расплодилось во множестве.
Долина эта тянется далеко вверх, верст на тридцать. Низины хороши скотоводу — луга и покосы. А травы-то какие! Наполовину лечебные. В пору цветения приди сюда — зарябит в глазах, любовью наполнится душа твоя…
У старца расширились глаза, в них засветились и тут же потухли огоньки. Посмотрев на Оську, продолжал:
— А кругом, до самой вершины речки, кедровник, сосняк и разнолесье. Орехи, ягоды… Белки тьма, есть хорь, горностай, хитрая лиса мышкует тут же подле речки. Есть огневки и даже встречал чернобурку. Горит, искрится вся на снегу! Их здесь целый выводок. Но нет соболя. А прижилися бы здесь… Пошто не принес в поняге парочку? — пошутил старик. — Рыба в речке, как в котле, кипит. А птицы всякой! — старик махнул рукой. — Охотнику здесь рай земной. Вот и название этим местам дали Баян-Ула — Богатые горы. А луговую низину и речку Духмяной прозвали. Здесь даже зимой пахнет травами.
«Болтливый хозяин-то, — подумал Оська. — А побаить, бедному, не с кем. Соскучился старый по мужскому разговору».
— Так… Какой же совет дадите, бабай?..
— Я молился бурхану, чтобы послал мне доброго соседа. Скоро закончится счет моим дням на земле. Уйду в страну духов. Тогда погибнет моя девочка… К людям она не пойдет… боится их.
Молодая хозяйка сердито взглянула на Оську и вышла во двор.
— Зачем бояться людей? Поди, не звери же.
— Э-э, сынок, есть причина… большая причина. Не зря мы схоронились в этих горах. Слыхал, поди, как народ убил белого царя Миколу, прогнал его нойонов. То дело без ущерба не обошлось. И в нашей семье был урон. Старший мой брат давно сгинул, сам голову в петлю запихал, а младший погиб, когда против царя попер, убили его белые. Его звали Бато, молодец мужик был, Чимита вся в него. В тот год пострадала и Чимита, в ее душу вселился злой дух. — Долго сидели молча. Оська успел искурить трубку, спрятать ее в кисет.
— А как же это случилось? — попробовал Оська продолжить разговор.
— Э-э, сынок, — очнулся старик, — она, бедняжка, видела, как офицерье да казаки изгалялись над ее матерью, как повесили на березе… Спужалась, душонка покинула тело, вот тут-то и вселился в нее злой дух… Замучилась девка, часто припадки бьют, стала людей бояться, темноты… Ой-ёй-ёй, беда, беда. Вижу, дело худом кончиться может, забрал скотишко, и подались мы сюда. Чимита прихватила отцову винтовку… Когда загнали скотину в Баян-Улу, то в горловине ущелья Чимита сделала завал. Так и живем. Только вот беда — нет соли… Сам пошел бы в улус да ноги отказали, а Чимиту никакими силами не заставишь идти туда. Вот и все, сынок.
— Спасибо, саган бабай… Я поставлю чум рядом с твоим жильем. Надоела мне жизнь Одинокого Волка… Надоела. Не сам я сбился с правильной тропы. Худые люди сбили. А здесь поправлюсь, однако.
Старик закашлялся, утвердительно закивал:
— Не уходи, сынок, живи с нами, охоться.
ГЛАВА 4
Оська взобрался на вершину гольца. Совсем рядом возвышался второй, почти такой же — округлый, с мягкими плавными очертаниями. Старый эмчи называет их «близнецами».
Отсюда, с большой высоты, Оська оглядывает незнакомую местность. Кругом цепи белоснежных гольцов. Между ними темные пади, широкие долины рек, с густыми синеющими лесами и белыми плешинами еланей и лугов. Холодком веяло от неуютных оголенных сиверов, кое-где поросших редким листвяком, багулом, ольхой. Приятно ласкали глаз солнцепеки, покрытые нежно-зеленым сосняком.
Оська чувствовал себя царем над всем этим необъятным простором. Он вроде бы орел, высоко парящий над синью тайги, по-хозяйски осматривающий свои владения. Он полновластный хозяин покорной ему дремучей тайги.
— Правду баит старый эмчи: надо сюда занести пару живых собольков, наших черных «баргузинцев», — сказал гольцу Оська, — вот тогда потягайся со мной кто хошь, с богатейшим хозяином тайги.
— Ха, хозяин нашелся! — вдруг горестно усмехнулся Оська. — Царь Микола отобрал Малютку-Марикан, а Ленин заберет Баян-Улу… Снова придется бродить по тайге Одиноким Волком… Хотя слыхал я своими ушами от мужика Антона, что Ленин горой стоит за бедный люд… Антоха врать не должен бы, он тогда у смерти за пазухой оказался.
Вдруг смуглое лицо тунгуса прояснилось, он улыбнулся и громко воскликнул:
— Ух ты-ы! Оська, Оська! Башка худо варит у тебя. Однако, надо упромыслить чернобурку и пойти к Ленину. Скажу ему: хищничал, был Одиноким Волком, теперь нашел Баян-Улу. Добрая охота здесь, Оська тут будет делать Новую Тропу. Не отбери, пожалста, Ленин, мою Баян-Улу. Ты же царя Миколку прогнал, говорят, не даешь в обиду бедных… Будешь и Оське-тунгусу другом, а?.. Прими пожалста, чернобурку…
Оська одобрительно крякнул.
— Однако, надо такую чернобурку добыть, чтоб от одного вида дух захватывало… Верно дело! — громко сказал он гольцу. — Может, отдаст Малютку-Марикан; если нельзя, хоть Баян-Улу оставит за мной. Скажу ему: буду беречь Баян-Ульскую тайгу, как дите малое… Вот бы наших подлеморских собольков пары две-три притащить. Плод от них пойдет… А то без соболя какая тайга. Оська сызмальства соболевщик, знает толк в этом деле…
Незаметно пролетело лето. На гриве теперь, рядом с избушкой старого эмчи, дымится чум Оськи Самагира.
Наступила тревожная пора. Чем ближе к покрову, тем чаще у Оськи поднывает сердце. Чаще снятся охотничьи соревнования.
Вокруг высоченной лиственницы, покрытой первым нежным, хлипким снежком, кто-то в широких олочах испетлял темный сиверок: катал снежный ком вперемешку с хвоей, листвой и ветками.
«Косопятый… Вона какие вмятины в снегу, много жиру, видать, наел в кедраче… Вишь, собрался спать. Затычку мастерил для берлоги… Где-то близко, не спугнуть бы», — Оська осторожно оглядывался.
Из-за обуглившейся колоды вылезла широкая косматая голова, злые маленькие глаза люто сверкнули. Мишка заревел, оскалил кривые клыки, встал на дыбы и, потрясая лапищами, пошел на маленького Оську.
Охотник вскинул ружье, проговорил:
— Пошто не схоронился, дедушка?
Зверь был уже в пяти шагах. Оська плавно нажал на крючок.
Огромная туша жирного медведя покорно распласталась у ног охотника. Внутри у зверя еще яростно клокотала жизнь, не желала покидать теплое, сытое тело. Но что поделаешь, — маленькую пулю не пересилишь, а у охотника есть еще и нож. Оська наклонился, ткнул ножом медведя в горло, брызнула струей кровь, зверь прикусил язык. Оська с трудом раскрыл медвежью пасть, всунул палку, чтоб из раскрытой пасти «вылетела» душа медведя.
— Ты, дедушка, не сердись на меня. Прости Оську Самагира за нерасторопность. Вина много пил, похмелье замучило, — громко причитал охотник. — Ух, сколько набежало мурашей-то, видать, со всей тайги собрались. Сто чертей им в глотку, щекотать будут тебя.
Оська вынул нож и начал свежевать зверя, а сам уговаривает его:
— Дедушка, это не шкуру с тебя снимают. Муравьи щекотят тебя. А пчел-то налетело! Наверно, ты их разорял. Ты же любишь мед жрать, муравьиный спирт пить! Вот и обозлил их… Кыш, черти, кыш! Не будите дедушку! Ему надо крепко спать, зима-то уже пришла. Ух, она злая! Однако, мы пропадем от мороза. Один дедушка отоспится в своей теплой берлоге. Кыш, черти, кыш! — «обманывает» Оська убитого зверя по древнему обычаю тунгусов, а сам быстро-быстро работает ножом, снимает пышную бурую мишкину шубу.
* * *
Вечером в доме старого эмчи справляли праздник начала охоты. Чимита наварила целую чашу медвежатины. По просьбе Оськи она отварила и лапы зверя — самую любимую Оськину еду.
А эмчи гладит пышную шерсть мишкиной шубы, довольный подношением соседа, улыбается.
— Теперь я буду валяться на мягкой постели… Бока не будут болеть… старым костям покой… Насекомые не полезут… Спасибо, сынок, за подарок, — благодарит дед Оську.
У эмчи весело на душе. Нет теперь печального одиночества. Есть у него молодой, сильный сосед.
— Дочка, неси-ка араку! Загуляем назло всем хворям, — развеселился старина.
Чимита поставила перед мужчинами две большие деревянные миски с мясом и берестяной туес с аракой.
Эмчи трясущимися руками разлил по чашкам араку. Долго читал молитву, затем окропил вином вокруг себя, вылил несколько капель на огонь, бросил туда же кусочек жира.
— О великий бурхан! Будь благосклонен к другу моему Осипу, посылай навстречу ему быстроногих зверей.
Мужчины выпили по чашке араки и принялись за еду. Брали руками мясо, у самых губ отрезали ножами.
Старик выбирал что помягче, а Оська грыз и сосал медвежью лапу.
Оська не заметил, как Чимита вышла из дома.
— Хозяйка, выпей-ка с нами! — проговорил он и осекся.
— Она глядеть на еду не может. Пускай маленько охолонется на улице. Может, ей полегчает.
— Не пойму, эмчи, пошто не можешь вылечить ее?
— Травы не помогают. Однако, когда станет матерью, оздоровит; новый человек изгонит из тела все хвори.
Выпили по второй чашке молча. Старик захмелел, стал еще болтливее. Поднял указательный палец: слушай, мол, Оська…
— Медведь шибко полезная скотина, в нем полно всяких лекарств, как в изюбре: панты мы варим, от них большая польза. А медвежий жир и желчь ничуть не хуже: больны легкие или простуда в ногах и руках, — медвежий жир первое средство. Сила в нем страх какая!
Попробуй-ка намазать этим жиром обутки, через день-два сгорит кожа. Соображаешь? Ежели где заведется гнойная рана — в животе, в легких, — медвежий жир враз все очистит…
— Гляди-ка!.. — удивился Оська. — А у нас, хамниганов, от всякой хворобы совсем еще молодые уходили к предкам. А жир-то совсем простое дело, нам его не покупать…
— То-то и оно… Вот было со мной, слушай-ка… Однажды я простыл. Стал донимать меня кашель, едва дышу. Все свои травы перепробовал, мало помогает… Пошел через силу искать одну траву, надежда на нее у меня была. Эх-хе, брат, всем охота жить-то. Вот иду, а впереди гром грохотнул: обвал в горах произошел. Подхожу к тому месту, смотрю — падь-то всю забило. Обходить далеко, нет силы. Пошел напрямик. Вижу, в одном месте торчит из-под камней медвежья лапа, задавило его обвалом. Ну, откопал я зверя. Матерый, жирный был медведь. Нажарил мало-мало шашлыку. Кровь его течет, жир капает. Наелся, а до того много дней ничего в рот не брал… ладно, думаю. Еще нажарил, чайком запивал. Утром стаскал мясо в пещеру, лед был в той пещере. Возле сделал себе шалашик из корья. Из-под скалы ключик бьет с кислой водицей. Пьешь, язык щиплет, напиться не можно. Кругом сосновый бор, травы в скалах дурманящие растут. Благодать! Дышится легко, жрать стал, никакого уёму нету.
Слава бурхану, отвязался я от хворобы. Летось покажу тебе то место. Дойти-то не сумею, растолкую только, сам разыщешь.
После ужина Оська ушел к себе. В остывшем чуме было неуютно.
— Человеческим духом даже не пахнет, — пожаловался Оська очагу.
Растопив очаг, он выглянул наружу и увидел соседку.
— Чимита, зайди посидеть! Курить будем, побаем.
— Сам кури, — буркнула на ходу Чимита.
«Ждала где-то, мерзла, пока не ушел; как увидит меня, так и отворачивается, — подумал Оська. — Старается скорее улизнуть… Эх, выздоровела бы! Цены ей не будет. Работящая. Рукодельная… Глаза-то у нее какие, прямо две черные звездочки сверкают. Добрая баба будет… А дети появятся, злой дух покинет ее тело».
* * *
Ранним утром, когда еще спали соседи, Оська надел понягу с двухдневным запасом еды, привычно подцепил на рожок поняги ремень берданки и легким шагом направился вверх по Духмяной.
На восходе солнца Оська поднялся на крутую гору, откуда проглядывалась вся долина Баян-Ула. Порывшись за пазухой, достал несколько разноцветных лоскутков, привязал их на сучья кряжистой сосны: сделал приношение духам.
Пока поднимался, добыл штук шесть белок и тут же ободрал их. Осмотрев пушистый мех, остался доволен, — выходилась белка, очистилась, эвон мездра-то белешенька. Под сосну положил медвежьего сала, мяса и повесил на сук беличьи шкурки.
— Великий Мани! Владыка и повелитель всех лесных духов. Тебе подвластны духи — хозяева гольцов, лесистых гор, солнечных долин и хмурых сиверов. Кланяется тебе Оська Самагир, пусть твои друзья, лесные духи-хозяева, гонят в Баян-Улу больше зверя. Пусть они бегут на ловца Оську, на верный выстрел, — громко провопил эвенк. Великий Мани, силу дай рукам и ногам моим, зоркость глазам, твердость сердцу. Злых духов прогони за семьдесят хребтов от моей тропы.
Оська перевел дух и продолжал:
— Мани! Богиня Дунде! Духи — хозяева тайги! Оська Самагир вам богатые дары поднесет: огненной водой напоит, крови даст, сала и мяса сочного даст. Будьте милостивы ко мне. Мне нужно много меха, мяса и шкур звериных. Мой новый чум совсем пустой и бедный. Мне нужна мука и чай, свинец и порох. Мне нужна искрометная чернобурка, с которой пойду к самому большому начальнику, имя которого Ленин. Разговор у нас с ним будет.
Оська пошел вниз к Духмяной.
— Однако теперь мне будет талан, — сказал Оська, — мою просьбу слышал сам Мани — владыка Верхней Земли. Слышала богиня Дунде и все духи — хозяева Баян-Ульской тайги. Талан будет!
У речки Духмяной попил чаю.
Ворчит речка, клокочет, шипит. Жалуется на мороз в гольцах, который по всему пути развесил на прибрежных кустах сосульки, тонким ледком покрыл торчащие из воды камни.
— Ш-ш-шкоро зима! Ш-ш-шкоро зима! — шипит речка.
— Пусть придет! Встану на лыжи и пойду искать Ленина, — говорит ей Оська. — Пошто ревешь, нудишь? Тебе-то худо рази? Укроешься льдом и снегом, спи да спи себе. Оська пошел вверх по речке.
* * *
К вечеру второго дня, весь увешанный белками, Оська подошел к гриве. За два дня добыл более сорока зверьков, но был недоволен.
— Белка есть белка… Вот бы соболька упромыслить, был бы толк, — ворчит Оська. — Добрая собака — ей хоть на нос белку сажай, не гавкнет, все будет выслеживать соболя. Так и я.
Вот и крошечная елань. Над холостяцким чумом курчавится дымок.
— Чимита затопила… Дикуша, а сердце доброе, — проговорил Оська.
Заслышав шаги охотника, Чимита выскочила из чума, пустилась без оглядки.
— Мэндэ, Чимита! — крикнул Оська вдогонку, но девушка юркнула в сени.
Оська вздохнул и ввалился в чум. В очаге весело потрескивал огонь. Вкусно пахло отваренным мясом. На подвесном тагане, окутанный паром, висел котел с жирными кусками медвежатины, на втором — чайник с душистым розовым чаем.
— Уа-а! У меня в чуме все, как у доброй бабы, — воскликнул Оська, — наверно, эмчи-бабай заставил ее.
Не раздеваясь, положил на камни у очага чистую доску и вывалил из котла горячие куски мяса.
— Сварила с диким луком… и еще чем-то, вкусным припахивает… — проговорил Оська. Схватил самый большой кусок и начал есть.
На Оську еда никогда не «жаловалась». Быстро расправился с мясом, до дна опорожнил чайник.
— Чай-то со сливками… Жалеет охотника. Надо отнести ей белок, пусть сошьет себе шапку.
* * *
Уже приближается лютый январь-гиравун. Скоро охотники покинут промысловые угодья и выйдут в жилуху. Вынесут драгоценные таежные дары. И без вина хмельные от охотничьих удач, удальства и отваги, будут вразвалку ходить средь сутолоки базара.
Собирается и Оська туда же. В нудные зимние ночи у костра он много перебрал дум о Ленине. Так много, что Ленин стал сниться ему. Он почему-то похож на Антона. Со строгим взглядом больших темных глаз. Вот и сегодня Ленин снова привиделся Оське, но разговор между ними не состоялся. Оське сразу же сделалось не по себе. Пересохло в горле, и он быстро проснулся. Еще как следует не расставшись со сном, вскочил на ноги.
— Неужели и в самом деле он такой? — спросил Оська у тайги.
— Увидиш-ш-шь! — падая с дерева, прошипела кухта.
Уже четвертые сутки выслеживал Оська хитрую чернобурку, но все его старания кончались неудачей.
Взглянул вверх. Оттуда, меж крон лохматых деревьев, нависла над Оськиным костром сплошная, тягучая, как смола, тень. Ни звездочки. «Теперь и время не угадаешь…» Оська вскипятил в котелке чагу, наелся вяленой сохатины, напился горячего чая. Завязал понягу и, вскинув на плечо берданку, направился к Круглой елани скараулить лису, притаился там за лиственничным пнем.
Вдруг от верхней кромки елани покатился вниз к Духмяной черный комочек, остановился…
«Неужто зачуяла?» — екнуло Оськино сердце, но комочек снова покатился вниз. Сейчас… Оська тихонько водит черным стволом винтовки, чуть приспустил ствол, подвел снизу под зверька, плавно нажал на спуск. Зверек подпрыгнул, уткнулся в снег, затих. Оська передернул затвор и осторожно подошел к лисе. Дотронулся. «Уснула чернобурка… Эта не уступит головному соболю… Не-е!» — подумал с восхищением охотник и облегченно вздохнул.
— Спасибо тебе, Мани! Спасибо, Дунде и духи лесные! — Оська провел трясущейся рукой по шелковистому меху. — Прости, чернобровая красотка, что довелось мне тебя отправить к предкам. Шуба твоя мне нужна. Шибко нужна. Прости уж, — уговаривал Оська мертвую лису.
* * *
Бурые тучи уплыли на юг. Синь неба глубокой чашей нависла над Баян-Улой. Холодное солнце щедро освещало путь Оське. Веселые мысли приходили в его голову.
Из-за мыса показалась грива. Дымок курчавился, как в тот далекий день, когда Оська хотел разделаться с «черными людьми». А на деле эти люди оказались добрыми, заботливыми соседями. Когда бы ни пришел Оська с охоты, в чуме тепло, убрано, горячая вкусная пища приготовлена.
Незаметно Оська оказался на том лугу, где когда-то пристрелил медведя-шатуна, который крался к Чимите.
Мирно паслись овцы и коровы, а Чимиты нет, наверно ушла затопить очаг в его чуме… «Как узнаёт мой приход? Ворожит, наверно, богиня Бугады ей подсказывает, когда нужно растопить очаг. Тунгусского шамана надо привезти, он живо выгонит злого духа из ее тела… Старый эмчи — забавный дедка: никого не признает, ни лам, ни шаманов… Ругает их обманщиками, обжорами, ленивыми тарбаганами, похотливыми бабниками… Рассудок у него на ущербе, однако, — по таежной привычке вслух рассуждает Оська. — Сейчас зайду в чум, застану Чимиту. Давно не видел ее».
Оська оставил понягу и ружье на тропе, тихонько подошел к двери, приоткрыл и обмер: возле очага лежала Чимита.
— Чимита, что с тобой?!
Девушка застонала.
Оська вскочил в чум, бережно перенес ее на постель.
— Чимита, Чимита! Не давайся злым духам! Я сейчас притащу эмчи-бабая.
Он ворвался в хибарку эмчи, закричал с порога:
— Бабай, злой дух душит Чимиту! Иди скорей!
— Не могу, сынок, ноги отказали… Припадок у нее однако… Пройдет… Где она лежит-то?
— У меня в чуме.
— Иди, уложи ее… э-э-э… на постель. Расстегни ворот, чтоб легче дышала… Э-э-э, пройдет.
В три оленьих прыжка Оська оказался в чуме, наклонился над Чимитой и остановился в нерешительности. Притронулся грубыми пальцами к круглым серебряным пуговицам, отдернул руку. Потом решительно расстегнул все пуговки, распахнул ворот у шубы, у халата и замер: изумленно глядел на голое девичье тело.
— О Мани! Каких дочерей ты даешь мужикам! — словно молитву прошептал Оська. — Недаром злой дух вселился в такое тело… Он тоже не дурак.
Чимита словно спала, только лицо ее было искажено болью, по телу пробегала дрожь.
— Ох, беспутный Оська, девку заморозил, — выругал себя тунгус, быстро разжег очаг. В полутемном чуме стало светлей и уютней. Не оттого ли, что в нем появилась женщина?
Оська взял деревянное ведро, побежал за водой, зачерпнул из ключа, и скорее обратно. «Очухается Чимита, может, и поговорит со мной».
Уже с порога заметил пустую постель.
— Ушла ведь, а… Устыдилась… Грудь ей мужик оголил, — с досадой пожаловался он угрюмому чуму.
Оськин чум сразу вроде сморщился, почернел, стал холодным и неуютным.
* * *
Вечером Оська зашел к соседу.
— Бабай, смотри, каким промыслом одарили меня духи — хозяева Баян-Ула.
Старик бережно взял дорогой мех чернобурки, долго качал головой, причмокивая. Нюхал, подносил мех к подслеповатым глазам, прижимал к дряблым щекам.
У очага сидела Чимита и шила рукавицы из мягкой, выделанной, задымленной овечьей шкуры.
«Шкуру-то выдымила, добро, — рукавицы мокра не будут бояться… Мужичьи рукавицы-то, кому же шьешь?.. Эмчи-бабаю? Зачем они ему?»
— Э-э-э, много денег даст купец. Э-э-э, забогатеешь, Оська… Муки купишь, соли, свинцу, пороху… Чай, сахар… На рубаху тоже надо, — пересчитывал старый эмчи, чего надобно охотнику. — Однако, ты, Оська, шибко большой охотник. Тебе добрую бабу надо… Радость в твоем чуме гнездиться будет… Злые духи с тропы уйдут.
— Спасибо, бабай, за пожелание. Где же бабу-то взять?
Старик то ли не расслышал, то ли пропустил мимо ушей.
— Белок-то, поди, куля два наберется… Э-э, тебе надо взять у нас быка… Был бы конь, тот быстрее на ногу. Да ничего, тихий воз на горе будет. Возьми, возьми, сынок, быка.
— Спасибо, бабай, быка, однако, не возьму.
— Пошто?! — тревожно поднял на него старик белесые глаза.
Оська краешком глаза заметил, как Чимита перестала шить.
— Пойду искать Ленина.
— А он кто такой?
— Миколку-царя прогнал, теперь на его скамейке сидит. Антон-то, дружок мой, шибко знает его… Вместе воевали против Миколки. Антоха-то в каменный Миколкин чум стрелял. Окошки разбил, дверь вышиб, зашел в чум и Миколку поборол.
— Зачем тебе Ленин нужен? Он с тобой и баить не будет.
— Будет со мной баить. Антоха сказал, что все идут к Ленину, и он со всеми баит, помогает беднякам. Антоха врать не станет…
— Не знаю, сынок… — старик махнул рукой. — А ты, Оська, чего беднишься-то? Чего еще надо охотнику?
— Хороший сосед у Оськи, богата тайга Баян-Ула, ко нет соболя. Соболь нужен. Без соболя тайга не тайга и охота не охота. Здесь есть добрый эмчи-бабай, заботливая Чимита, но нет соболя.
— А Ленин-то откуда возьмет тебе собольков?
— Ты же сам, эмчи-бабай, сказал, почему, мол, я не принес в поняге живых соболей? Буду просить Ленина, пусть разрешит поймать живых соболей у Малютки-Марикан и выпустить в Баян-Уле… Приплод дадут, уживутся здесь.
— Уживутся, это уж точно. Корма здесь в избытке. Чего соболю не жить!
Чимита отложила шитье, надела шубу и вышла из дома.
«Дает знать, чтоб я уходил», — подумал Оська.
— Ждет теленочка от своей любимицы-коровы, — сообщил старик.
— А-а… Я подумал… Она меня… Значит, молоко свежее пить будем?
— Молочка-то бурхан послал, попьем. Мне радостно, сынок, что Чимита перестала чуждаться тебя. Замечаю, когда ты подолгу пропадаешь на охоте, она начинает беспокоиться. Это хорошо, слава пресветлому бурхану.
В избу вошла Чимита с новорожденным теленком.
— Смотри, бабай, какая у нас девочка! — показала свою ношу и весело рассмеялась.
Оська первый раз услышал ее смех и впервые увидел ее счастливой. Раскрасневшаяся, возбужденная Чимита была очень хороша.
— Э-э, сынок, добрая примета! В пути тебе обязательно улыбнется счастье.
— Спасибо, бабай, я пойду собираться.
— Сиди, баить будем, не спеши.
Чимита взяла новенькие рукавицы и протянула их Оське.
— Возьми, твои-то совсем прохудились, пальцы растеряешь по тайге.
Старый эмчи-бабай одобрительно крякнул.
— Вот-вот, дочка, жалей Оську, он добрый сосед.
У Оськи впервые в жизни приятно зашлось сердце.
ГЛАВА 5
Рано утром Оська увязал понягу.
— Выпятилась, как брюхата баба, белок много в нее наклал. А толку-то в том? Лучше б пару добрых собольков положил за пазуху, легче идти и денег больше получишь, — ворчал охотник.
Заглянул к соседу.
— Пришел трубку выкурить перед дорогой. Кто дома есть?
В темном углу раздался кашель, кто-то закопошился.
— Амар сайн, бабай.
— Мэндэ, мэндэ, хубун! Проходи, садись.
Молча закурили.
— Дальний путь-то у тебя?
— Однако, не меньше гусиного перелета.
— Ха, зачем охотнику по грязным дорогам мозолить ноги?..
— Дело есть. Так надо.
Старик тяжело вздохнул, низко опустив седую голову.
Оське стало не по себе.
— Не печалься, бабай, к пантовке вернусь.
— Будем ждать. Да поможет тебе бурхан.
— Спросить хочу, бабай, чо купить вам?
— Э-э, сынок, мне вроде бы уже ничего не надо… Чимиту вон спроси…
— Мне?.. Нет, нет, не покупай… Денег у нас нет, — сказала вошедшая Чимита.
Распрощался скупо. Легко зашагал к ущелью Семи Волков.
«Надо у бабая спросить, почему такое название дали», — подумал Оська. — Наверно, драка была тут. Погиб кто слабее. Волки погибли: воровали скотину у Чимиты. Она их и ухлопала, — вслух сказал Оська и больше не думал о Семи Волках.
Оськиным рукам было непривычно тепло. Даже жарко. Он снял новенькие рукавички — подарок Чимиты — и на ходу разглядывал их.
«Возьми, твои-то совсем прохудились, пальцы растеряешь по тайге», — снова послышался ему ее голос.
При этом воспоминании грубая душа Одинокого Волка сладко наполнилась солнечным жаром. Сердце хотело вырваться напрочь, улететь на легких крыльях. От этого непривычного чувства Оська остановился. Огляделся: то самое место, откуда он не так уж давно хотел пристрелить Чимиту. Он усмехнулся: «Во, как непонятно: то собирался убить, то хоть беги к ней…»
Оська посмотрел на гриву. Там курчавится дымок. А может, и в самом деле вернуться?
Бесшумно подлетела сойка, уселась на ветке ольхи и посмотрела на Оську круглым глазом.
— Слухай, сойка, пошто Оськино сердце горит огнем а?
— Спроси у Чимиты! — рассмеялась сойка и улетела к Духмяной, где на большом лугу паслись овцы и коровы.
— Ладно, оставайтесь… Скоро вернусь, — сказал Оська Духмяной. И пошел вниз по ущелью.
В самом узком месте знакомый завал, где он провел бессонную ночь после выстрела Чимиты. Оське почудилось, что ущелье ощерилось в язвительной улыбке.
— А чо лыбишься-то? Я же не знал, кто стреляет, одёжа-то парнячья на ней, — оправдывается Оська перед угрюмым ущельем, перед Духмяной, которая громко ругает камни, что мешают ее течению. С разбегу пинает их, а те упрямо молчат, не шевелятся. Речка ревет, перепрыгивает через них, скачет с камня на камень, а то и в сторону кинется. «Вжиг! Вжиг! Вжиг!» — стремится вперед и вперед.
Оська все это видит и слышит, потому что он хамниган — лесной человек, и вся окружающая его природа для него живая и умная. Вот почему и вечный разговор у него с деревьями, с рекой, с огнем, со зверями и птицами. Без этого он бы разучился говорить, мыслить, одичал от длительного пребывания средь этой громады леса, где одинокий человек всегда лишь песчинка, ничуть не больше.
Для Оськи они все живые существа, равные с ним по достоинству, вот он и бережет природу: никогда не пустит пожара, никогда не срубит без нужды дерева, никогда без надобности, ради развлечения или жадности, не убьет зверя.
Оська считает, что над ними есть духи-хозяева, которые защищают их и скупо отпускают на долю охотника зверей. Потому и клянчит он у духов-хозяев зверей, подает им приношения — брызгает спирт, бросает кусочки мяса и жира. Чем богат, тем и делится.
— В счастии пребывать тебе, Баян-Ула! Я пошел к купцу промыслишко свое сбыть. Потом пойду искать дорогу к Ленину. Путь мой дальний, пожелай мне счастья в пути, — поклонился Оська и пошел не оглядываясь.
Не прошел и «одной трубки» пути, сзади раздался выстрел.
— Тьфу. — Оська сердито оглянулся. Не поверил глазам: размахивая ружьем, к нему бежала Чимита. Он сразу как-то обмяк, вроде подтаял на холодном солнышке.
— О-бой, кажись, боги помогли, а? — спросил Оська у сосны.
— Шалишь, брат! — насмешливо прошипела упавшая с ветки кухта.
Чимита со всех ног подбежала к нему. Запыхалась, раскраснелась. Большие черные глаза сверкали от возбуждения.
— Оська, ты — ну прямо сохатый! Идешь шагом, а я бегом не могу догнать. Пришлось стрелять. Не забоялся?
— Зачем бояться, ты, соседка, поди не убьешь теперь.
— Эва, сказал тоже! Бабай со света меня сживет, если что… Только и слышу, что бурхан послал ему сына.
— Чо, сестра, пойдем вместе?
— Не-ет!.. Бабая не оставишь да и за скотишком доглядывать надо. Я принесла деньги. Бабай говорит — николаевские… Возьмет ли купец, нет ли? Если возьмет, то купи мне на халат делембы или там… не знаю, как назвать… Тонкого такого товару… И платок… с цветкам!!. Был у меня мамин платок, износился, вишь, одни лоскутья остались.
— На свои деньги куплю.
— Зачем твои деньги? Самому нужны будут. Женишься, бабу надо одевать.
— А если на тебе женюсь?
— На мне?.. Нет, нет! Я хворая, — девушка закрыла лицо и скрылась в ущелье.
Чимиты нет, а ее голос журчит в Оськиных ушах…
— Жди меня, Чимита, с подарками, а Миколки-царя деньги теперь никому не нужны. У нового хозяина — новые деньги, — сказал Оська и кинул в Духмянку старые николаевские монеты. Монеты, жалобно прозвенев, канули в темную воду. Оське показалось, что с этими серебряными монетами кануло и прошлое Одинокого Волка. Теперь нет Одинокого Волка, есть Оська Самагир — хозяин Баян-Ульской тайги, у которого есть старый бабай, есть Чимита, которая жалеет его — кормит вкусной горячей едой, шьет рукавицы. Не помнит Оська своей матери, которая ушла в страну предков, не обласкав сына, не зажился и отец, потому и рос он никому не нужным волчонком.
* * *
К полудню четвертого дня Оська вышел на широкую укатанную дорогу. У кромки лежали два закоченевших воробушка.
— Ук-ты-ы! Мороз-то какой. На лету замерзли, — удивился Оська. — Хорошо теперь сидеть только в кабаке за бутылкой огненной воды…
Пройдя верст пять, Оська вступил в кривую улицу русского села. Глянул: навстречу движется мужик — рыжая борода.
— Здорова, паря, где Антона юрта есть? — Остановил его Осип.
— Каво шпрашиваешь?
— Антон-охотник где живет?
— А-а, Антоха-шкорняк… Эва, здесь его дом.
Наискосок через улицу стоял старенький домишко. Оська толкнул дверь, вошел и сразу опешил: навстречу ему с ухватом в руках вышла высокая женщина. Из маленького чугунка в ухвате валит пар.
— Здорова.
— Проходи, охотничек, садись к печке, поди заколел с морозу? Чичас, паря, чайком тебя согрею, — пробасила она с удивительной своей высоты.
На широком мясистом лице у нее голубели добрые глаза.
«Такая здоровенная медведица, а глаза ребячьи, — удивляется Оська. — Через них всю ее душу видно, не худая баба, однако».
Самагир сел на широкую скамейку, закурил. Осмотрел избу. На передней стене висел портрет лобастого человека. «Наверно, Антохин батька… Однако, примесь бурятской крови есть».
— С Подлеморья вышел?
— Не-е… Антон где?
— На службе… Запихали беднягу… Он у меня теперя начальник.
— Ух-ты-ы!.. А до Ленина дорогу знат?
— Антон-та? А как же, все знат… До петухов читат бумаги. Замучилась с ним, спать надо, а уснуть-то при свете не могу. Чо греха таить, поднимаю лай, а он сам знашь, какой настырный, отмахнется и катит дальше, толька гумага шуршит.
— В какой дом сидит? — прервал ее Оська.
— А где волостно управленье было, вот там и находится.
— Э-э, паря, я зналь! — обрадовался Оська и шмыгнул к двери.
— Погоди, леший, чайку-то!.. Омулька с горячей картошкой.
— Пасиба, Антоха нада.
— Сядь, нехристь, обогрейся! Чичас придет.
Но Оська махнул рукой и выскочил во двор.
— Очумел, дикой! — за дверью нагнал Оську хозяйкин бас. Самагир усмехнулся. — «Голосина, как у попа Максима», — подумал он.
До бывшего волостного управления Оська проскочил сохачом, остепенился лишь на высоком крыльце канцелярии.
Зашел. Огляделся.
В обширной прихожей у «буржуйки» копошилась женщина.
— Э-эта, Антон где сидель?
Женщина мотнула головой на дверь в угловую комнату.
Оська робко подошел к высокой створчатой двери, погладил медную скобу и чуть толкнул дверь.
За столом, накрытым красной материей, сидел незнакомый человек и что-то писал.
Оська сердито повернулся, хмуро спросил у женщины:
— А где Антоха-то?.. Тут чужа, не наша сидит…
— Вот те и не «наша»! Налил шары, тунгусина! Поди, свою бабу-то за чужу признашь. Ишь какой! Ишшо и ревет.
— Чо кричаль, ворона-курица?
Сзади скрипнула дверь.
Оська оглянулся. По одежде перед ним стоял будто тот, что сидел за столом. Бороды нет, усы подстрижены. Взглянул в глаза: смеются…
— Ух, ты-ы! Однако, Антоха?!
— Я, я, Осип! Дай лапу-то, сохач!
— О-бой, Антох, ты сталь шибко молода! Борода долой… Я совсем не узналь.
— Как нашел-то меня?
— Сперва красна борода видель, потом твоя дом, потом твоя баба. Потом скорей сюда бежаль.
— Ха-ха-ха! Бежал, говоришь?
— Как сохата, ей-бо!
— Спухался ее?
— Не-е, тебя шибко нада, дело есть.
— Заходи, паря, расскажи о своем деле.
Оська вошел в кабинет Антона и уставился на простенок над столом. Там из красной рамки смотрел на Оську тот же, что в доме Антона, большелобый человек. Оську поразили живые проницательные глаза.
— Э-эта… кто така?
— Ленин.
Антон с грустью посмотрел на портрет и тяжело вздохнул.
Оська встревожился.
— А он, паря, чо: на Миколкином стуле сидит, нет ли?
— Умер он… Скончался.
Оська растерянно попятился, опустился на пол, закрыл шапкой лицо.
— Пропаль Оська… Малютка-Марикан не будет… Соболь не будет.
Антон поднял друга и усадил на стул, сел рядом.
Долго молчали они. Два таежника, два друга думали невеселые свои думы. Оська почуял, что Антон пристально глядит на него. Поднял голову, встретился с твердым, ясным Антоновым взглядом.
— Трудно, Осип, всем трудно, — тихо проговорил Антон. — Но ты не сумлевайся. Не те ноне времена, чтобы нам пропасть.
* * *
Хлебосольна тетка Домна. Для нее большой грех отпустить человека без чашки чая. Медный самовар Домны всегда готов зашуметь, забулькать, оказаться на столе.
Давно уж нет беглых бродяг, а она все равно на ночь ставит на столб крынку молока, кладет большой ломоть хлеба. Спокон веку так заведено в здешнем таежном крае. «Пусть едят на здоровье, спаси их царица небесная», — крестит лоб Домна.
Утром Домна снимает со столба пустую посуду, крестится, громко басит, словно поп: «Спаси Христос… Вроде и варнаков беглых давно не слыхать, а крынка порожняя… Кого-то бог напитал, никто не видал. А кто увидит, тот не обидит. Иди с богом. Аминь!»
Заслышав басовитые причитания тетки Домны, ухмыляется соседский парень Лешка Чирков. Это они с Дунькой Зориной опорожнили крынку, сжевали душистый ржаной ломоть.
Антон привел Оську домой. Домна засуетилась. Скоро стол ломился от всякой всячины. Антон сказал ей, что это и есть тот самый Осип Самагир, который выходил его от смерти. Ну, Домна просто не знала, куда усадить и чем потчевать дорогого гостя.
— Ешь, Осип, ешь, дружок! — угощала Домна Оську вкусными пельменями.
Антон подливал «огненной воды», подмигивал: дескать, не забывай пропустить, ладная штука!
От водки, от непривычного внимания к нему Оська быстро захмелел.
— Антоха-друг, спасиба за берданку… Шкбко больша спасиба… Без ружья, сам знаешь, не промыслишь зверя.
— Э, паря, ты мне больше сделал добра… Даже не бай, братуха, — отмахивался Антон, подливая Оське в стакан.
Полная рука Домны легла на плечо и придавила будто медвежьим стегном.
— Ты, Ося, сдурел! Како ишшо спасибо, ружье — оно кусок железа с палкой, и все, — пробасила хозяйка.
— Ты, Осип, лучше про соседку свою расскажи, как звать-то ее? — перебил жену Антон.
Самагир закрутил головой.
— Ой-ей-ей! Така девка, больше нигде нет! Красива, ой-ей-ей!
— А любит она тебя, Ося? — полюбопытствовала Домна.
— Жалет!.. Шибка жалет меня Чимита.
— Раз жалеет, значит любит. Женись, Осип, докель холостячить-то, — присоветовал Антон.
— Завтра добычу продам, Чимите платок куплю… Дарить нада.
Домна, скрипя половицами, ушла в угол, стала рыться в сундуке.
Антон подмигнул товарищу.
Оська оглянулся назад и не узнал хозяйку. Перед ним стояла помолодевшая Домна. На ее плечах красовался цветастый кашемировый платок. Такой платок Оська видел только на купчихе Синичихе. От ярких цветов у него рябило в глазах, двоилось, цветы были словно живые, пересыпались по платку из одного края в другой.
— Ося, передай от меня своей Чимите… Куда теперя мне наряжаться-то, пусть помнит тетку Домну.
Оське нестерпимо захотелось взять платок: ведь как сказала! Своей, говорит, Чимите… Какая стала бы Чимита в этом платке! Но взять постеснялся.
— Ладно, пусть пока лежит в сундуке, а поедешь домой — положу в твой мешок и спрашивать тебя не стану, — твердо оказала Домна.
— Так што, братуха, гляди, Чимита тебя во как расцелует! — Антон обнял свою дородную жену и поцеловал в щеку. — Ох, мать, золотое у тебя сердце.
— Буде, буде, бессовестный…
— Давайте выпьемте за Чимиту! — весело предложил Антон.
— А чо? — поднялась Домна. — За Чимиту и я, однако, выпью!
— О-бой! За Чимиту пить можна… Девка брава… Э, давай!.. — обрадовался Оська. Перед ним как наяву появилась Чимита, улыбнулась, протянула новенькие красивые рукавицы: «Возьми, твои-то совсем прохудились, пальцы растеряешь по тайге». Жалеет меня… Чего Антон сказал? «Раз жалеет, значит любит…» Эва, куда махнул: «любит…»
Оськино сердце опять захотело выскочить из груди, улететь в Баян-Улу, к Чимите, но он плотно прижал его рукой, поднялся за столом и вдруг негромко запел древнюю песню эвенков.
Гортанная, протяжная песня… Что она напомнила? То будто завывание ветра, а то нежданный могучий порыв бури, отдаленные раскаты грома, то лилась, как тихая печаль, слезная, робкая мольба.
Когда Оська кончил петь, Домна по-бабьи смахнула фартуком слезу.
— Слышь, Ося, толмач-то твоей песне есть, нет? Растолкуй нам. Шибко слезный конец у нее.
Оська вроде чего-то застыдился, не очень складно, но все же поведал древнюю ороченскую легенду: «Седые старые гольцы знаешь? Ну, тогда они еще совсем молодые были, вершины зеленые, густой лес на них рос… Так давно это было. Эвенков в ту пору в наших краях было много. Сильные были, здоровенные: могли спать на снегу, даже костер не разводили. На оленях не ездили, такие грузные были, оленю не поднять. Оленей держали ради мяса и молока. И бабы такие же рослые были, ну, как ты, Домна, к примеру… И каждая баба рожала по десять ребятишек, а то и того боле. Вот какие были тунгусы в давнюю пору.
Такое было дело… Ну, и жили тогда по соседству два великих рода — самагиры и чильчигиры. Мы и сейчас соседи. В мире жили люди, в довольстве.
Вождем чильчигиров был могучий богатырь Ерноуль. Сила в нем прямо-таки медвежья, а ловкостью опережал рысь. До того был проворный, что от стрелы запросто мог увильнуть. Таким молодцом был Ерноуль.
Однажды вот такая беда у них там стряслась: Ерноуль гостил у вождя самагиров Магдауля. Ну, пировали там… И вдруг Ерноуль разглядел среди девушек красавицу Чолбон, самую младшую, самую любимую жену Магдауля. Увидел и, значит, не мог больше ни есть, ни пить, потерял покой и сон. Одна у него неотвязная дума: как украсть Чолбон? А красивый чум княгини днем и ночью охраняла сильная стража… И вот Ерноуль решился. Ночь была бурная, дождливая… Гром так грохотал, что тряслась земля, от могучих порывов ветра валились деревья.
Подкрался Ерноуль со своими воинами к стойбищу, перебил стражу, забрался в чум, зарезал сонного Магдауля, схватил красавицу Чолбон и утащил ее в ночную тайгу…
К утру вроде бы все утихомирилось: ливень прекратился, гроза утихла, взошло яркое веселое солнце. Но для самагиров тот день был самым черным, самым тяжелым: они лишились мудрого, доброго вождя, лишились и мирной жизни. На могиле Магдауля самагиры поклялись жестоко отомстить вору и убийце Ерноулю и проклятущим его сородичам. Самагирское войско сразу же двинулось против чильчигиров.
А Ерноуль будто все это знал, все предвидел… Духи, что ли, его упредили? В общем, он собрал всех своих воинов в долине Верхней Ангары на речке Герамдай: понравилась, вишь, ему ровная чистая луговина, хватало там простору, чтоб разгуляться воинам.
Темной грозовой тучей наплыли самагиры на Герамдай и стали против лагеря противника. Грозно заревели в трубы, вызывая на смертный бой убийцу и вора Ерноуля и его сородичей.
Ерноуль двинулся со своим войском на самагиров. Чего ж ему оставалось делать?
Долго и люто бились богатыри. Даже малые парнишки помогали взрослым, не боялись смерти, проворно собирали копья и стрелы, подавали их воинам.
День дрались, два дрались, к концу третьего дня полегли на поле боя оба могучих рода — все самагиры, все чильчигиры. Остался в живых только один Ерноуль.
Огляделся вокруг: зеленый луг стал красным от крови, повсюду грудами лежали мертвые богатыри. А сколько малых ребятишек было побито!
И с болью понял тогда Ерноуль, что сгубил всех мужчин чильчигирского и самагирского родов. А из-за чего сгубил? Из-за своей любви к Чолбон… Кто продолжит жизнь на земле? Ведь в живых остались лишь старики да бабы.
Великий страх вошел ему в сердце, великое горе. Ерноуль застонал… Потом вытащил из чеканных ножен булатный сверкающий нож, вонзил его в свое сердце. Да…
С тех пор, значит, и повывелись у тунгусов богатыри, измельчал народишко. А какая сила раньше в людях была!
Вот старики и сложили эту песню в назидание потомству».
* * *
Богатырь Ерноуль наклонился над Чимитой и раскрыл клыкастую пасть.
— Ар-р-р… Ты Оськи Самагира баба? — хрипло шепчут его окровавленные губы.
Чимита отпрянула, закричала с испугу чужим, неприятным криком.
Оська вскочил с постели и проснулся. В курятнике неистово кукарекал петух.
Немалое время Оська приходил в себя, закурил, прилег на постель, поднялся, походил по избе. Вроде бы успокоился, но страшный сон не выходил из его ума.
Он вспомнил деда Агдыра, который говорил: «Если приснится тебе богатырь Ерноуль, хорошего не жди: где бы ни находился, что бы ни делал, поспешай в родной чум, к семье. Знай, быть иначе беде».
Оська торопливо оделся, вышел во двор. Восток уже алел.
— Зачем тебе бедная Чимита, Ерноуль?.. Пропадешь! Она тебя из винтовки, как собаку… У нее же добрая винтовка! Если вру, пусть накажет меня великий Мани. Уйди, Ерноуль, с моей тропы, добром говорю.
— Ты с кем это баишь? — спросил Антон, спускаясь с высокого крыльца.
— Ишь как, к Чимите приходиль.
— Кто приходил?
— Богатырь Ерноуль-то… Во сне видель…
Долго смотрел Антон на друга, потом рассмеялся:
— Э-э, Оська, сны чепуха, не верь им…
— Не-е, Антоха, пошто так баишь.. Не-е. Скорей домой буду ходить. Шибко скорей нада… Худо есть…
* * *
На толстых сучьях могучей сосны Антон с Оськой сделали сайбу, сложили на нее харчи. Довольные своей работой, сидели у потухающего костра, допивали чай.
— Ты, Осип, теперь прорубай дорогу… Одной тропой, паря, не обойдешься… Я бы тебя довез до Баян-Улы, а тут поворачивать приходится.
— Верно, паря, дорогу к людям надо.
— Купишь коня, горя знать не будешь. После ребятишек в школу повезешь… Чимиту в гости к Домне.
Оська недоверчиво посмотрел на Антона, потом широко улыбнулся, кивнул головой.
— Шибко верно баишь… Шибко ладно.
Распрощавшись, Антон поехал обратно, а Оська с тяжелой понятой зашагал в Баян-Улу.
— Как там Чимита?.. Черный Ерноуль приходил к ней… Черный бома, черный… — ругает Оська давно усопшего вождя чильчигиров.
К концу второго дня пути Оська подошел к ущелью Семи Волков. По заснеженной тропе вилась свежая стежка. Он разглядел следы, обеспокоенно подумал: «Чимита была… Однако, много раз приходила»…
У завала заметил припорошенное снегом кострище. «Пошто огонь здесь разводила?» — недоумевал охотник. И снова вспомнил сон. Сердце заныло, какая-то неведомая сила погнала быстрее вперед. Оська уже не чувствовал ни тяжелой поняги, ни усталости от долгого пути.
Вот и знакомый взлобок, вот и грива. — Почему не курчавится дымок? — тревожно спросил Оська у Духмянки. — Где Чимита?
На большом лугу пасется скот, а Чимиты нет. Ему снова вспомнился страшный сон. Оська скинул понягу и бросился бегом к гриве.
Сначала показалась острая верхушка его чума, а потом и весь чум, а рядом домик старого бабая.
Оська добежал и увидел, что дверь подперта сучковатой палкой. Он присел на крыльцо, долго вытирал пот. Непослушными пальцами набил трубку, закурил. Не то чтоб успокоился, — просто собрался с силами, обошел вокруг домика, принялся колотить кулаками в дверь. Дом бабая молчал.
Оська побежал искать следы. Нашел свежие: Чимита пошла на север, к скалам Мангир.
— Значит, старый бабай там… Зачем, что он там делает?.. Э-э… Однако…
Оська зарядил берданку самодельным зарядом, выстрелил вверх.
Прислушался.
Совсем близко раздался ответный.
Бросился на выстрел.
На пригорке затрещали ломкие кусты багульника. Оська остановился. Сердце вот-вот выскочит, ноги не слушаются… В следующий миг на полянке показалась Чимита. Увидела Осипа, остановилась. «Осунулась, бледная, глаза вон какие большущие… Будто печаль в них», — промелькнуло у него в голове.
— Ты где была? — Оська облизнул губы, которые вдруг стали совсем сухими.
— У бабая была… Приказал в пещеру отвезти его. Наказал, чтоб не приходила… А я ослушалась.
— Он… живой?
— Нет, умер.
— Давно?
— Седьмой день.
— Боязно было?
Чимита кивнула.
* * *
После ужина Оська засобирался в свой чум. Чимита поднялась.
— Не уходи… Вместе будем…
Оська крепко обнял припавшую к его плечу девушку.
Чимита слабо улыбнулась, толкнула Оську к двери.
— Иди, иди… Принеси свои пожитки.
Как ошалелый Оська выскочил во двор.
На темном небе весело плясали звезды.
Там, ниже по Духмяной, смутно выделялся черный контур ущелья Семи Волков.
Самагир подмигнул ущелью, сказал, как старому другу:
— Теперь Оська не Одинокий Волк, у меня все есть: тайга есть, жена есть… Ребятенки будут. Теперь, однако, дорогу к людям рубить примусь.
ЗА УЩЕЛЬЕМ СЕМИ ВОЛКОВ
ГЛАВА 1
Самагир узнал это место, поросшее молодым кедрачом-колотовником[29], над которым кое-где возвышались коренастые великаны. Узнал и могучее дерево с горбатым седловидным корнем. Под этим кедром меткая пуля Чимиты прошлась по волосам, точно погладила.
То было тревожное время Одинокого Волка, и песня смерти для него была не нова.
Самагир сел на середину корня, запалил свою черную трубку и глянул вверх. С крутых плеч Баян-Ульского гольца быстро сползла туча и накрыла кедровник. В лесу стало сумрачно и неуютно, бесшумно посыпались беленькие бусиночки пороши. Дятел бросил долбить рябой ствол сухостоя, покрутил головой, поежился и улетел к речке Духмяной. Медленно нарастал шум. Тонконогие ели начали лениво раскачиваться и длиннолапыми руками сбрасывать с подружек заузжалый старый снег. С макушки соседнего дерева, обламывая сухие сучья, понеслась увесистая кухта — и тяжелая снеговая шапка бухнулась у ног Самагира. Осип словно бы вновь услышал сухой треск выстрела.
Тот выстрел и задержал Одинокого Волка в здешней тайге. По темному, с глубокими морщинами лицу Осипа промелькнула усмешка и спряталась в сивых усах.
Оська перестал быть Одиноким Волком, нашел свою новую тропу: стал честным охотником, про свои старые воровские волчьи тропы в заповеднике и вспоминать больше не хотел.
А что их, в самом деле, вспоминать? У него теперь, как у всех добрых мужиков, была ладная баба, работящая, смелая, куда лучше?
Все бы хорошо, да вот тоска… тоска по родному Подлеморью, по Малютке-Марикан, точно червь, разъедает душу.
Еще до этого в Подлеморье от Антона, охотника, он слышал, что вместо царя Миколки теперь сидит на золотой скамейке во дворце простой мужик Ленин Владимир, значит, Ильич — умом и душой батыр, шибко жалеет черный люд, а таких, как бедные тунгусы, — тем паче. Изо всех сил старается, чтобы у простых охотников была хорошая жизнь.
«Раз жалеет черный люд, пожалеет и меня, вернет мне Малютку-Марикан, — подумал Оська. — Дал же я зарок не хитить больше соболей в заповеднике и сыскать себе новую правильную Тропу. А то спросит Ленин: «Где, Оська, промышляешь?» Как ответить, ежели своего слова не исполнил? От стыда сгоришь. Не обманывать же Ленина, сроду никому не врал. Это самое пропащее дело, когда человек ложные слова говорит. Давно бы надо было покинуть Малютку-Марикан, только, вишь, духу не хватало. Ежели сам Ленин дозволит промышлять в тех местах, тогда другое дело».
Вот так, выходит, и оказался Оська Самагир за ущельем Семи Волков. Здесь он промышлял белку, соболя в Баян-Уле не было. Для заядлого соболятника такая охота одна морока. Как тут быть? Оська и надумал: добыл для подарка черно-бурую лису и пошел искать батыра Ленина.
Для этого он и разыскал Антона-охотника. Тот уже забросил охоту и сидел начальником в бывшем волостном управлении. Так у него жизнь повернулась при новых порядках.
Антон — бывалый человек. Воевал, помогал Большому батыру Ленину забрать у Миколки-царя его каменный чум. Миколку судили, отправили в Страну предков, в Нижнюю Землю[30]. Туда ему и черная тропа с колючками, так ему и надо.
Антон поведал Оське много дивного, Ленин, мол, дай бог ему здоровья в Стране предков, на Нижней земле, написал бумагу, чтобы люди хранили от разора тайгу и всю живность, чтобы не поганили всякой нечистью реки и озера, нерестилища. А нашего баргузинского соболька велел расплодить и расселить по всей сибирской тайге.
— Значит, и за ущельем Семи Волков будет соболь? — недоверчиво спросил Оська у Антона.
Антон твердо ответил:
— Будет, братуха.
Правду, видать, говорил Антон: через несколько лет Зенон Сватош со своими стражниками Егоршей Скосырским и Бимбой Бадмаевым привезли отловленных в заповеднике двадцать подлеморских собольков и отпустили их за ущельем Семи Волков. Плодитесь, мол.
На следующую осень, в покров, Оська увидел на пушистой снежной переновке много собольих сечек. В тот год был богатый урожай кедровых орехов, поэтому зверьки жировали в кедровнике. Следы были разные. Одни «двоили», другие «троили» — здесь пробежал «мужичок», а это напятнала «маточка».
Собаки, набежав на розовый соболий следок, подвизгивая в азарте, понеслись вдогонку за зверьком. И уже где-то там, на синем перевале, раздался их яростный лай. Кое-как добравшись до собак, Самагир брал их, рычащих, на поводок, тащил в сторону. Псы изо всех сил упирались, удивленно косили налитыми глазами на хозяина, мотали головами, отказывались понимать этот его поступок.
А у Осипа огнем горела душа — хотелось, как бывало раньше, добыть искрящегося на солнце черного красавца, громко запеть на радостях древнюю песню охотника.
Так бы он прежде и сделал, но теперь не то: хозяин этой богатой тайги нынче не Одинокий Волк, а Оська Самагир. А Осип, известно, понимающий хозяин; с большим трудом, но все же подавил в себе острое желание упромыслить соболька.
Уж кто-кто, а Самагир-то хорошо знал, каких трудов стоит добыть живого соболя, сохранить в пути, во время перевозки. Своими глазами видел, как Зенон Сватош выпускал их из клеток. Никому не доверял, все делал своими руками. В каждом ключе отпускал «мужичка» и «маточку», да чтобы были характером схожи, не то разбегутся. И на каждого соболя писал бумагу. Знал свое дело Сватош, с умом работал.
Как наяву видел Самагир добродушное лицо Зенона Францевича с ласковыми светлыми глазами.
— Слышь, Осип, ежели обережешь собольков — после будешь промышлять не хуже, чем по Малютке-Марикан, — сказал тогда Сватош, покидая Баян-Улу.
Однако, правду баил мужик.
А было время — между Самагиром и Сватошем была большая вражда. И все из-за Малютки-Марикан. Вспомнить стыдно… Сколько раз Одинокий Волк собирался убить Сватоша, но слава Миколке-богу, он отводил от греха.
Осип сидел у старого кедра, вспоминал свою жизнь. Ему было о чем вспомнить.
Старый бабай ушел в Страну предков, и в Баян-Уле, отрезанные от мира высокими горами, Оська с Чимитой жили вдвоем. Чимита продолжала ждать белых казаков и не расставалась со своей винтовкой. Управившись с домашней работой, она чистила ружье и уходила в ущелье Семи Волков.
Сначала она бесшумно, темной тенью плыла от дерева к дереву, достигнув ущелья, ныряла в колючий кустарник и ужом ползла к завалу.
У завала осторожно просматривала тропу, нюхала воздух и прислушивалась к звукам тайги.
— Сестра, здесь были злые люди?.. Нет?.. — шепотом спрашивала Чимита у любимой березки.
— Не-е, — качала головой березка.
Прислонив к завалу винтовку, Чимита долго смотрела в синеющую даль, где дремала степь, где дымились бурятские юрты.
«Ма-ма-а!» — разносился по ущелью стонущий зов.
«Ма-ма-а!» — передразнивали угрюмые скалы и сердито морщили свои каменные щеки.
Самагир, как мог, успокаивал ее и уводил домой.
Мирно текли воды Духмяной. Шло время. С каждым годом соболей становилось все больше. И пришло время, когда Самагиру дали вдруг пять каких-то бумаг с мудреным именем «лицензия». Он этакого слова отродясь не слыхивал… По каждой той бумаге дозволялось ему упромыслить одного соболя. Пять, значит, тебе бумаг, добывай, Осип, пять соболей. Самагир сгреб бумаги, заспешил к своему чуму. После с ухмылкой показал своим собакам вот, дескать, какая нынче мудреность.
Не откладывая, снарядился в тайгу. У речки Духмяной, в ельнике, собаки взбудили на жирах соболя. Зверек кинулся в сивер, в самую гущу ерника, багула и ольхи. Да куда денешься! Собачки свое дело знают: забрали след в середку и, не выпутывая хитрые петли, понеслись напрямую. Не успел Самагир пробежать и версту, даже упреть как следует не успел, на гриве раздался веселый, радостный лай. Осип подходил к лиственнице, на которой притаился соболь, точно там его поджидала любимая девка. Его вдруг даже бросило в жар. Перед выстрелом, по старой привычке, воззвал к Великому Мани и Миколе-чудотворцу.
Долго не спал в ту ночь Самагир. Не мог всласть налюбоваться своей удачей — черным головным соболем. Ведь сколько до того не держал в руках мягкой шелковистой шкурки… Встряхнул — словно искры посыпались. Прижал к щеке — и почудилось, что сердце его слышит нежную песню любви. А как же иначе, соболь-то был настоящий, «баргузинский», из родного, значит, Подлеморья, может, с Малютки-Марикан — вон откуда!
С тех пор Оська Самагир вроде бы стал постепенно отходить, оттаивать, что ли, все меньше тосковал по своей Малютке-Марикан. Прямо удивительно! А все потому, что сбылась его мечта — горы Баян-Улы по обе стороны ущелья Семи Волков теперь густо и навсегда заселились соболями.
Хорошо зажил Осип Самагир. Чимита родила ему сына Володьку. Имя сыну дал не пьяный шаман, а Антон, и записал Володьку Самагира в толстую книгу. Туда теперь всех ребятишек записывают.
Вечером, когда справляли «крестины», Антон пояснил Самагиру: «Слышь, братуха, сам Ленин носил это имя».
Оська сначала спужался: такое можно ли?
А потом запела его душа песню радости. Сам Большой батыр Ленин так прозывался. Это же понять-разуметь надо, какого человека доброе имя!
Жизнь Осипа потекла полноводной рекой. Светлее стало в чуме. Слышится в нем детский смех, забавный говорок. И Чимиту будто подменили. Стала разговорчивей, порой вовсе удивление — глянешь, а у нее улыбка на лице!
Быстро летели годы. При сытой жизни — ночь, говорят, коротка, теплее день.
Пришло время Володьке учиться, увезли парня к Антону. Там, у мамки Домны научился он баить на языке бледнолицых братьев, одолел грамоту.
В ту пору люди объединили скот и начали работать вместе, вроде бы одной семьей. Править большим хозяйством поставили Антона. И Осип с Чимитой не отстали от других. Скоро в Баян-Улу пригнали много скота: хозяйствуйте, эвенкийские люди, вместе с бурятами и русскими! Построили русские дома, скотине словно родня. Тут Чимита совсем выздоровела, перестала чуждаться людей. Только сильно скучала по сыну: он уже закончил в деревне школу, уехал в Улан-Удэ, обещал вернуться домой учителем. А что? При новой-то власти, при счастливой жизни такое неслыханное прежде дело совсем простым стало.
Пришла и поселилась радость в доме Самагира. Но ненадолго пришла… Наступил черный год войны.
Когда сын Володя ушел на фронт, Осип сразу сдал, сгорбился, почернел, сильно тосковал по сыну, сильно тревожился. Трясущимися руками набьет, бывало, трубку, жадно затянется и вдруг испуганно оглядится вокруг, будто ему почудится что-то страшное.
Вот как это было, вот что вспомнил Самагир, сидя на горбатом корневище старого кедра.
В ожидании приближающейся весны тихо дремала тайга. Сверху, сквозь зеленые кроны деревьев, смотрело холодное синее небо. Легкий ветерок гибкими пальцами ласково трогал лоб и щеки Осипа, вроде бы успокаивал. Да разве успокоишь израненное, осиротевшее отцовское сердце? Как сегодняшний день, помнит Осип весну сорок четвертого года. В хмурый день пришла худая бумага. Дочь соседки кое-как прочитала:
«…Ваш сын Владимир Осипович Самагир пал смертью храбрых в бою при защите Родины…»
Осип тогда еще ниже склонил свою сивую голову. В наболевшую душу старого таежника ворвалась колкая снежная метель и запела, нет, завыла протяжную песню печали. Никогда до этого дня не плакал старый эвенк…
Осип сидел, низко опустив сивую голову. Из густого тумана, из глухих заповедных воспоминаний всплыл перед глазами молодцеватый военный. На погонах блестят две звездочки.
— Эх, сынок, сынок! — с трудом выдохнул Самагир.
А рядом с Володей стоит старый вояка Антон, который тоже не вернулся с фронта.
— Эх, Антоха, друг мой! Говорят, ты комиссаром был, пошто не сберег ни Володьку, ни себя… А еще я слышал от Бимбы Бадмаева, который возвернулся домой, што вы с Володькой завсегда впереди всех шли в бой, — по таежной привычке вслух разговаривает Осип. В печальном голосе старика слышатся горделивые нотки.
Долго сидел старый Осип, а над ним с ветки на ветку тихо порхала кедровка. Наконец,, не вытерпела, зашумела, сердито заверещала:
— Уходи, че-че-ловек, я жрать хочу! Жрать-жрать-жрать!
— Тише, не реви, дура, уже пойду домой…
— Жрать-жрать-жрать! — не унималась птица.
— О-бой, — вдруг понимающе усмехнулся старик, — наверно, под корнем орешки схоронила… то-то и ревешь. Ладно, пойду уж.
ГЛАВА 2
На кромке крутого калтуса у Самагира стояли три капкана на соболя и один на лису.
Лисенок тот был отменно хитер. Не доходя до собольей ловушки метров восемь-десять, он начинал копать в снегу глубокую канаву, таким образом, хитрый зверек добирался до привады на соболя, отбрасывая капкан и пожирал вкусную приманку.
Но сколько лисенок не хитрил, а беды не миновал — попался в ловушку охотника. Самагир сунул его в куль и притянул сыромятным ремнем к поняге.
«Вот и сезону конец, не заметил, как прошло время большого мороза», — подумал эвенк.
На перевале в Баян-Улу раздался глухой выстрел, затем, один за другим, еще два.
Самагир вздрогнул. «Этими добили», — промелькнула мысль. В глазах тревога и растерянность.
— Уши!.. отгрыз бы вас медведь! Оглохнуть бы Оське, — прерывисто заговорил Осип, — поди загубили мою Чолбон.
— Ш-шкрлы! При чем тут уши? — шепелявит старая сосна.
Самагир сердито отмахнулся.
— Не ной, воронье гнездо! — воскликнул эвенк.
Яркое февральское солнце клонится к закату. Густая синь неба окрасила молочно-белый снег нежно-голубым цветом. Деревья, одетые в снежные тулупы, тоже стали голубоватыми и празднично приосанились друг перед другом.
Одинокая фигурка эвенка, издали похожая на пень, растерянно топчется между двумя кедрами.
— Може, не в нее пуляли, а? — спросил Самагир у тайги.
— Чего трясешь штанами, сивый черт, топай быстрей! — властно каркнула ворона и улетела на перевал.
— Эй, черная! Кость те в глотку, штоб подавилась! — сердито крикнул Самагир вслед улетающей злой вещунье.
Осип, не оглядываясь, быстро зашагал в сторону перевала, а вслед ему надсадным хриплым голосом шепелявит старая сосна:
— Ш-шпеши, ш-штарик! Шпеши, ш-штарик!
Самагир сердито плюнул и пригрозил ей на ходу:
— Доскулишь, воронье гнездо, срублю на дрова!
На перевале Самагир остановился у белой известняковой скалы. Вокруг нее весь снег был утоптан острыми копытцами, но следы были старые. Чтоб немного успокоиться, сел на камень и закурил.
«Моя Чолбон на этой бойче[31] спасалась от волчьей стаи. А здешние места, считай, самые кормистые в Баян-Уле. Бывало, когда наступит время больших морозов, Чолбон спускалась к Духмяной и ела из моей копны… Ха, зачем же ей покидать родные места?..» — рассуждал сам с собой Осип.
Охотник повсюду встречал следы изюбрихи, но они были старые.
Наконец, на склоне горы у густой кучки берез и кедростлани Самагир обнаружил свежее лежбище. По застывшему вчерашнему калу он заключил, что здесь жировала матка.
«Стреляли где-то в этих местах… меня, паря, не проведешь… Если Чолбон не прибежит на мой зов… значит…» — У Самагира опустились плечи, он весь съежился. Смуглое лицо стало бледно-желтым и покрылось глубокими морщинами. Во власти тяжелого предчувствия, он долго стоял с опущенной головой. Потом снял рукавицы и бросил их под ноги. Вытянул губы и приложил трубу, сложенную из ладошек. Над тайгой раздался протяжный призывный звук. Самагир поворачивается в разные стороны и ревет, подражая изюбру. Где бы ни паслась Чолбон, на зов Осипа всегда бежала сломя голову.
А сегодня ее нет.
Осип прислушался. Тишина. Звенит в ушах.
— Поди, ушла далеко?.. Замешкалась?.. — спрашивает он у Баян-Улы.
— Ухлопали, паря, твою Чолбон, — тихо прошептала тайга.
Пьяно переплетая ноги, Самагир поплелся вниз к Духмяной. В полугоре в нос ударил запах крови и внутренностей. Повернул на дух. В нескольких шагах от охотника сквозь деревья заалели цветы саранки.
«Зимой-то пошто цветут?» — мелькнула мысль.
Шаг за шагом вышел на кровавый пятачок, где были разбросаны внутренности и голова.
Самагир опустился на колени и повернул к себе мертвую голову. На него уставились пустые глазницы.
— Успел выклевать… окаянный… — со стоном выдавил эвенк.
Усевшись на старую лиственницу, ворона каркает с высоты:
— Каррашо! Каррашо! Карр-хы-хы!
Но Осип уже не спорит с глупой самодовольной птицей. Он ничего не слышит и не видит. Дрожащей рукой снял шапчонку, долго утирал ею лицо.
Рано утром зашел сосед Андрейка.
— Мэндэ, Осип-бабай!
— Мэндэ, Ондре, — буркнул Самагир и спрятал глаза.
Сосед удивленно посмотрел на Осипа, молча вынул из куля большой кусок свежего звериного мяса и положил на стол.
— Осип-бабай, тятя отправил меня с гостинцем. Он ходил с Кехой на перевал. Помог ему вывезти оттуда мясо.
Самагир поморщился, хотел забросать соседа злыми словами, но спохватился, стало смешно: «При чем же этот маленький мужичонка?» Уже мягко спросил у парнишки:
— Пошто, Ондрюха, не в школе? По маме соскучился?
— Не-е, шибко болел, отпустили отдохнуть.
— А-а… вон оно што, а как учишься-то?
— Да-а мне-то кажется ладно…
— А учителю как кажется?
— Когда как, — неопределенно протянул Андрейка. Черные с хитринкой глаза маленького соседа наполнились веселыми озорными огоньками.
На крыльце загремели ведра, послышался бодрый женский голос.
В избу вошла Чимита. Поставила рядом с кровянистым мясом подойник.
— Амар сайн, Андрейка! Ранний гость да еще с гостинцем, спасибо, спасибо, сынок. — Осмотрев мясо, добавила: — Зиме подходит конец, а зверь-то какой сытый. Ужо поджарю.
— Не надо, Чимита, не жарь… в горле застрянет.
— С ума спятил, старик, ты-то делишься же.
— Делюсь… мы все делимся… Я-то промышляю с бумагой, с ведома начальства.
— Зверь-то плодится для человека, а его волки пусть давят.
— Так-то оно так, но и сосед наш связался с добрым «волком»… Эту матку-изюбриху на перевале столько лет сберегал… Она сосунком привыкла ко мне, а нынче должна была отелиться. Не пожалел, паршивец.
Чимита молча положила в куль мясо и сунула его Андрейке.
Сосед покраснел и попятился к двери.
— Э, паря, садись-ка рядом, будем чай пить да разговор мужской поведем.
Андрейка облегченно вздохнул и сел на скамейку.
Самагир улыбнулся соседу, закурил и, окинув строгим взглядом Чимиту, заговорил каким-то глухим простуженным голосом. Он всеми силами старался подавить в себе горькое чувство утраты и кипящую злобу на браконьера.
— Вот у нас, Ондре, у эвенков, большой грех бить брюхатых маток.
— То-то и прозвали тебя Одиноким Волком, поди, таежную живность по голове гладил, — съязвила Чимита.
Самагир сердито крякнул.
— Волком был — хищничал в заповеднике… Тогда и человека отправить в Страну предков мог, а копытных бил с разбором — брюхатых маток обходил.
— Сам баил мне, неделями голодал. Попадись тебе в ту пору…
— При чем тут голод?.. Не-е, старуха, у эвенка всегда сидит в нутре совесть, всегда.
Осип запалил потухшую трубку и окинул суровым взглядом своих собеседников.
— Вот, Ондре, слухай, што будет тебе баить старый Самагир, може, и сгодится в жизни. Один раз я пошел с приезжими людьми на голец Двух Близнецов. Тропу показывал им. Привел, куда надо было. Смотрю на них и не узнаю. Глаза разгорелись. Жадно разбивают молотками камни и что-то пишут и пишут. Про еду забыли. Вечером я разыскал старшего начальника и говорю ему: «Уговор наш помнишь? Однако, Самагир пойдет домой?» Он согласился, похлопал меня на плечу и сказал: «Как же, помню уговор-то, помню! Спасибо, отец, к большим богатствам ты нас привел». Распрощался я и начал спускаться с гольца. Но вот беда — в пути занемог. То ли осерчал Горный Хозяин на меня за то, што его богатства выказал ученым людям, и вселил в тело хворобу, то ли простуда вкралась, не знаю. Хворь-то так сильно крутнула меня, што вся сила ушла, осталось одно дерьмо. Ноги отказали, ползу, как червяк. Долго тянулся к дому или нет — не помню. И вот, дополз я до крутого взлобка и понял, што не одолею его. Нет сил моих. А чую, што там вершина горы, вниз-то можно и боком скатиться… «Пропал Оська, тут тебе и сгнить суждено, — думаю. — Ужо закурю, пока пальцы держат спичку с коробком, а то без курева как душе улетать в Страну предков, тоскливо будет». Долго мучился, пока зажег спичку, и задымила моя трубка. Отлегло на душе.
Взглянул вверх, а надо мной, совсем рядом, стоит изюбренок. Подумал я, что злой дух оборотился в зверушку и хочет заманить Оську в свой грешный чум. Стал молитвы читать — не помогает. Ущипнул себя, протер глаза — нет, никакой не оборотень, а живая зверушка.
Кто-то шепчет мне: «Оська, чего мешкаешь, кровь-то изюбра одолеет твою хворобу».
Я послушался. Кое-как поднял ружье и приловчился пальнуть. Дело такое страшное: чуть ружьем не достаю зверушку, а она доверчиво смотрит на меня и большими влажными глазами заглядывает в мою душу. Опустились руки: лучше самому издохнуть.
Долго я лежал после этого. Набрался силы, поднял голову, а изюбренок тут же стоит. Присмотрелся — вроде как глазами манит меня, зовет к себе наверх. Подвинулся я на локоть вперед — изюбренок подался назад, а по глазам видать, доволен, бодрит меня, «так, мол, так». Я снова подался, зверюшка отпрыгнула и уже веселее смотрит на меня. Откуда-то взялась у меня сила — заполз на взлобок, одолел окаянную гору. Изюбренок мой отскочил в сторону на седловину горы, а вниз ни шагу.
Лежу, отпыхиваюсь. Проклинаю свою хворобу и немочь, распекаю на чем белый свет стоит всех злых и добрых духов и даже до самого Горного Хозяина добрался. Это все Антона — друга наука. Он всю дорогу мне толмачил: «Нет ни духов, ни «хозяев», все выдумали шаманы». Знамо дело, я и сам убедился в этом, но все же, когда смерть-то стоит за затылком, понятно, и молитву вспомнишь по старой привычке.
Малость отлегло, я поднялся на локти, огляделся кругом. Вижу, мой изюбренок насторожился и смотрит под гору. По всему видать, чего-то боится. Э-хе, думаю, не зря липнешь к человеку. Зарядил берданку боевым патроном и ползу вниз. Изюбренок мой не отходит от меня. Большими ушами поводит, а в глазах страх горит. Сполз, значит, я в ключ, тут меня и обдало дурным духом. Мне стало все понятно — медведь задрал матку, а теперь мясо душнит, чтоб для него слаще да мягче оно стало.
Подполз к большому дереву и стал осторожно осматривать колодник. Знаю повадку черного зверя, заколдуй его шаман, любит лежать под колодой, где сыростью да холодком веет. «Или хитрит, или дрыхнет обжора», — думаю я.
Вдруг ветер повернул. «Теперь набросит человечий дух на зверя, а он, так и знай, из-за мяса налетит драться», — только успел подумать, как из-за черной колоды показалась большелобая голова. Зверь вздыбился над колодой и взревел страшным голосом, сердитые глаза сверкают огнем — хотят увидеть супротивника.
Самагир достал свою трубку и не спеша начал очищать ее от нагара. Потом набил табаком и запалил. Любит старик делать паузу в самом интересном месте своего рассказа. Чимита знала эту манеру Осипа и потому молча продолжала мять шкурку ондатры. А Андрейка нетерпеливо заерзал на скамейке. Старик ухмыльнулся и продолжал свой рассказ:
— Дьявол его задери! Мешкать-то некогда, взял да и бабахнул в грудь. Завалило дымом. Смотрю, показалась колода, а зверя нет. Знаю его, чертяку, на обман шибко мастер, прикинется дохлым, а чуть сунься к нему, залапает, загрызет.
Нож в зубы и ползу к колоде. Прислушался. Приподнялся над колодой, заглянул: лежит. Пырнул ножом. Не тут-то было, всю силенку проклятая хворь отняла. Кое-как перегрыз горло и напился горячей крови.
Потом навалилась на меня дремота, давит, окаянная, удержу нет, чую, как проваливаюсь в мягкую утробу медведя, кто-то вертит меня и окутывает темным медвежьим пухом…
Долго я спал. Шибко долго. Проснулся на другой день. Лежу рядом с медведем. Небо надо мной смеется. Деревья тихо шепчут, уговаривают Оську, штоб он не умирал. Птицы весело поют — хвалу возносят солнцу, дающему тепло, изобилие и любовь.
На соседнем дереве бельчиха-мать распекает свою детвору, велит им сидеть в гнезде-гайне. Догадываюсь, соболь привалил к мясу. Говорю шумливой матери: «Не бойсь, сестра, соболько изюбрятины нажрался, не тронет твоих бельчат».
Тут и самого потянуло на еду. С трудом распорол зверю брюхо и добрался до нутра. Рву по-волчьи зубами, глотаю, давлюсь. Такого жору у меня, кажись, никогда не было, нет, не припомню.
Обжору всегда гнет на сон. Я снова спать. Так со мной было дня три. Утром на четвертый день встал на ноги. Кружится голова, тошнит, как с перепою. Подумалось: «Надо водицы испить и умыться, все будет легче». Дошел до Духмяной, наклонился над речкой, а из воды смотрит какой-то страшный зверь — лохматый, черный. «Злой дух пужат… эка, нашел время», — думаю я. Попятился, он — тоже. Тут я раскумекал. Стыдно стало, спужался самого себя. Осмотрелся кругом, вижу, ко мне наклонилась горбатая береза, бодрит меня и тихо смеется. Стало легче. Чую, кто-то подошел сзади и следит за мной. Я оглянулся. Из-за куста черемухи на меня смотрит мой изюбренок. Знамо дело, старые приятели, улыбнулись друг другу. Говорю:
— Ожил Оська-то, теперь держись возле меня, в обиде не будешь.
Привел я зверушку на перевал к скалам-бойчам, штоб знала глупышка место, где можно схорониться от хищников. Тут и собачки разыскали меня. Бросились чертяки на изюбрушку, но я взревел на них, унял. А изюбренок скок, скок с камня на камень, заскочил на бойчу-отстой и дразнит оттуда собачек.
— Теперь здесь и спасай свой живот, места тут кормистые, а придет время большого мороза, подкормлю тебя сенцом, — баю зверушке, а она смотрит на меня большими своими глазами, ушами хлоп-хлоп, дескать, все понятно, благодарствую, человек. Вот так и завелась у нас с Чолбон дружба. Иду на охоту — она встретит и проводит, с охоты плетусь — тоже.
В Медвежьем Ключе рассолил солонец, без соли-то зверю тоже худо. Там же есть полянка с мою шинель, в сенокосное время копешечку сенца ей сгоношу. И до чего же понятлива зверушка, до прихода времени большого мороза не подходит к сену, значит, бережет. Вот хитруха!
Самагир многозначительно посмотрел на Андрейку, набил трубку новой порцией самосада, запалил и опустил седую голову.
Не утерпел Андрейка, спросил у старого:
— А собаки-то как? Наверно, гоняли Чолбон?
— Э, паря, собачки-то с понятием народец! Ни-ни, даже наоборот, оберегали ее.
— От кого же, Осип-бабай, охраняли-то ее?
— Знамо, от волкоты да рысей.
— Но-о?! — неожиданно вырвалось у Андрейки, и он с недоверием посмотрел на Самагира. «Наверно, шутит старый бабай», — подумал он.
— Вот тебе и но-о… Как-то ночью собаки мои подняли шумиху на дворе, пришлось подниматься с постели. Оделся, обулся, выхожу на крыльцо. Псы мои гавкают в сторону перевала. Взглянули на меня и махнули в горы.
Утром старуха кликнула собачек к корму, а двор-то пустой. Пришлось брать берданку да шагать по их следам. Следы-то привели на перевал к Белым скалам. Смотрю вверх, на своей бойче стоит моя Чолбон, а по соседству с ней на выступе скалы притаилась матерая рысь, такую я отродясь не видывал. Собачкам, видать, надоело гавкать, лежат под бойчой и следят за хищником. О, паря, тут мешкать не будешь, пальнул, и рысь долой с бойчи. А моя Чолбон прыг, прыг ко мне, радехонька кружится вокруг меня, и собачки тоже ластятся, дескать, хвали нас, твою Чолбонку выручили. Так-то мне стало хорошо, будто грузную понягу с мозольных плеч сбросил.
Самагир закрыл глаза и задумался.
— И от волков тоже отбивали? — спросил Андрейка.
— И от волчья выручали… А вот от человека-то не сумели уберечь… Не вернешь теперь Чолбон… Куда пойду?.. Кому буду жаловаться?..
— Знамо, куда надо идти, только все боишься, што назовут тебя доносчиком, в худые люди попадешь, — сверкая черными глазами, укорила Чимита.
Самагир закрыл заскорузлыми пальцами лицо и еще ниже склонил седую голову.
Андрейка, не попрощавшись, выскочил на двор и мелькнул мимо окон.
ГЛАВА 3
— Возьми, Кеха, еще стегно, а мне хватит.
— Нет, паря, так-то тебе совсем будет обидно.
Буин взглянул на товарища и улыбнулся. Синие глаза Иннокентия кричали: «Давай, браток, лишне не будет!»
— Лишне не будет, бери, Кеха, — Буин бросил на кучу мяса заднее стегно.
— Ладно уж, с меня пара бутылок «московской», — Иннокентий, довольный дележкой, крякнул, хотел еще что-то сказать, но тут распахнулась дверь, в сени влетел Андрейка, сверкнул гневно глазами и сквозь рыдания крикнул:
— Зачем убили у деда Самагира Чолбон?
Мужики растерянно переглянулись. Буин боязливо выглянул во двор, бросил в угол окровавленный топор и сердито посмотрел на товарища.
— Оськину изюбриху ты убил.
— Разве она Оськина? Она же была в тайге, на перевале.
— Там она жила.
— Почем я знал. Был бы колокольчик или ошейник на шее.
— Застал бы он нас с Чолбонкой, надел бы на тебя ошейник.
— Чо будем делать, а? Он же в милицию заявит.
— Не-е.
— Вот те и не-е! Надейся на тунгуса. Тут, паря, мозговать надо, как ловчее выкрутиться, чтоб сухими выйти.
— Чо думать-то, нада Чимиту просить, штоб уговорила Самагира… Оська-то шибко ее слушает.
— Ладно… делай.
— Попробуем… пойдем, паря, похмеляться.
— Ханда, ставь мясо, — Буин устало плюхнулся на стул.
Смуглая, средних лет бурятка засуетилась у плиты. Иннокентий тоже вошел, без приглашения сел за стол и закурил.
На столе вскоре оказался тазик с большими кусками жирной изюбрятины и бутылка «московской».
— С такой-то закуской не грех и выпить.
Кеха отгрыз пробку и наполнил стаканы. Выпили и молча запустили зубы в сочное мясо.
— Спасибо Самагиру, вырастил нам «коровку», — ухмыльнулся Иннокентий.
Буин поморщился, сердито замотал головой.
Наступило неловкое молчание. Иннокентий трясущейся рукой наклонил бутылку, тишину нарушило бульканье водки. Буин хмельными глазами окинул товарища и бесшабашно махнул рукой. Из водянистых глаз брызнуло хмельное озорство:
— Правильно, Буин, махай на нее. Ну их к ядреной матери.
— О да, ладна, водка-то — свята водица, всех мирит, пойдем к Оське Самагиру. Мало-мало пить будем, мало-мало баить будем, може, простит старик.
— Вот это деловой разговор, молодец Буин, — Иннокентий вынул из рюкзака еще пару бутылок и сунул их товарищу.
Чимита через оттаявшее стекло увидела подходивших Буина и Кеху.
— Идут гости.
— Кто такие? — Осип отложил в сторону шкурку лисенка и подошел к окну. По темно-медному морщинистому лицу его пробежала тень, расширились и засверкали злыми огоньками глаза. Он скрипнул зубами.
— Ты, старый, мотри, не дури!.. Не забывай обычай.
— Знаю, но как стерпеть-то?
— Терпи. Уйдут, потом делай, што хоть. В тайге свои законы, блюсти их надо.
— Ладно, молчи, баба! — Осип трясущейся рукой поднес к пустой трубке спичку.
В сенцах послышался топот, кашель и пьяный говор.
«Обычай… долг гостеприимства… Почему, однако, старики не придумали, чтоб воров и браконьеров вместо угощенья встречать дрыном?!» — думал сердито Осип.
Открылась дверь. С морозным паром ввалились два друга.
— Амар сайн, суседи!.. Здоровате!
— Мэндэ, проходите, садитесь.
Расплывшись в пьяной улыбке, Буин вынул из кармана две бутылки «московской» и поднес одну Осипу, а вторую — Чимите.
Старики, не выдавая своей неприязни, отблагодарили за подношение, как положено. Чимита принесла большого сига, расколотила его обухом топора. Жирную расколотку посыпала солью и перцем, нарезала луку. Получилась холодная закуска.
«Век оба ишачили, а ничего нет, — оглядывая внутренность дома, думал Иннокентий. — Ему-то простительно, таежник-эвенк шмутьем не обзаводится, было б доброе ружье, а она-то, бурятка, должна быть домовитой… Все на честность жмут… Нет, это не нашего бога люди, и с ними пива не сваришь».
— Садитесь за стол, мужики, чем богаты — тем и рады, — услышал Кеха голос хозяйки и сел рядом с Осипом.
Из крохотного шкафчика Чимита достала бутылку водки и разлила по стаканчикам. Однако разговор не ладился. Буин по-бурятски заговаривал то с Осипом, то с Чимитой, но хозяева отвечали односложно, неохотно. Да, как ни говори, между соседями пробежала черная кошка. Иногда Чимита коротко взглядывала на Кеху. Ей давно не нравился этот с водянистыми глазами мужик, который спаивал слабохарактерного Буина и делал что хотел в его доме.
— Дядя Осип, ты уж не серчай… У мово товарища вкралась ошибка, — упрашивал Буин.
— Пей, ешь, сусед, а греховные дела разберем потом, в другом месте. — Самагир хотел еще что-то сказать, но сердито махнул рукой и отвернулся. В сердце старого охотника с новой силой закипела злость на бесчувственных людей. Чтобы немного успокоиться, он глотнул густого чая, поперхнулся, на глазах выступили слезы.
— Тетка Чимита, ты у нас заместо мудрой матери, рассуди нас, пусть дядя Осип простит нашу оплошку, — не унимался Буин.
— То не бабье дело, сами разберетесь.
Долго еще упрашивал стариков Буин, но ничего не вышло.
Иннокентий хотя и не понимал бурятского языка, но для себя он сделал вывод: «Прощения не будет, ухо теперь держи востро».
Самагир шел и думал. Теперь он часто ломает седую голову размышлениями о Реке Жизни и о темном прошлом. Он и сейчас думает, как бы хорошо было, если бы вернуть предков из Страны Духов, чтоб они пожили при новой счастливой жизни, которую дал эвенкам великий батыр Ленин.
Очнулся от раздумий лишь перед разломанной хаткой. Крыша из еловых веток была раскидана во все стороны. От стенок осталось всего три-четыре тычины, остальные лежали на снегу. Березовый прут, к которому был привязан капкан, лежал с обрывком проволоки.
— О-бой! Сто чертей вдогонку, штоб тя разодрали! — Самагир немного успокоился и стал рассуждать: ушел с капканом… Это произошло вчера вечером. Верно, как раз перед вечером сыпала пороша. Не должен бы утянуть далеко.
Осип пошел по соболиному следу по направлению мрачной пещеры, которую называли Чумом Покойников.
«А самец-то могутной, с капканом на лапе, а прет и прет без роздыху», — думает Самагир.
Соболь пересек свежую стежку и запустил в россыпь, у самого Чума Покойников. Осип стал проверять запуск. Чтоб удостовериться, что соболь находится здесь, нужно было охватить местность вокруг россыпи. Обойдя с боков, охотник вошел в пещеру и испуганно попятился. Перед ним кроваво краснели наспех разбросанные части свежей изюбрятины, а в углу возвышалась целая груда звериного мяса.
— О-бой! Пошто столько зверя сгубили?! — невольно воскликнул эвенк. Он понимал, что если мясо в казну сдавать, значит, не было б надобности прятать в пещере. Было очевидно, что били для себя. Шибко жадные люди, шибко худые люди.
Самагир решил съездить в контору и вызвать охотоведа. Присмотревшись, увидел рядом со свежим звериным мясом белые кости. В упор на Осипа смотрел пустыми глазницами человеческий череп и будто силился что-то сказать таежнику. Эвенку стало не по себе. Темно-медное лицо Самагира еще больше сморщилось, он поспешно закрыл глаза, забормотал заклинания против злых духов, охраняющих сон покойников, и, запинаясь о камни, поспешил из страшной пещеры.
Жадно глотнув воздуха, Осип торопливо запалил свою трубку. Вот какие люди появились за ущельем Семи Волков, прячут мясо в Чуме Покойников… Сгубили столько зверя. «Нет, тут охотоведа мало, надо заявить в милицию», — решил он.
Чуть в сторонке из-под снега торчит углом камень. Отсюда в сторону кедровника тянутся неровные следы.
— Ушел!.. Упустил соболя, старый слепой ушкан, — бранит себя эвенк.
Не успел шагу ступить, как над головой грохнул гром. Взглянул вверх, а оттуда с клыкастого утеса несется на него снежная глыба. «Отбежать!» — пронеслось в сознании, но не успел шагу шагнуть, чем-то ударило в голову, из глаз посыпались искры, тело обожгло острой болью.
«Вот и тропа к предкам», — подумал Осип, а потом вес оборвалось, упала тьма.
Иннокентий сложил на сани мясо, закрыл брезентом, сверху набросал несколько охапок сена и туго притянул веревкой.
— Буин, съездим вдвоем. У Кукана, так и знай, сани будут опрокидываться, замучаюсь.
— Э, паря, мне некогда, возьми Андрейку.
Иннокентий матюгнулся, глаза загорелись злыми огоньками.
— А где он?
— Чичас пошлем.
Андрейка примостился сзади. Приятно пахнет сеном. Самбу под гору трусит бодрой рысцой. Ночью выпала пороша, и сани мягко скользят по свежему снегу. Придорожный багульник расцвел белыми пушистыми цветами и наклонился к узкой колее. Тонкие стволы ольхи и черемухи выгнулись от снега дугой и низко кланяются Андрейке. Величаво стоят сосны и кедры, тоже одетые в снежные шапки и шубы. Громко стучат дятлы, с дерева на дерево бесшумно перелетают сойки, синицы, пищат, поползень деловито исследует янтарный ствол сосны, выискивая личинки, а в березняке пискливо свистят рябчики.
Андрейка пожалел, что не взял свой дробовик. В ноябрьские каникулы он целых три дня провел с Осип-бабаем в охотничьем зимовье на Духмяной. Осип-бабай тогда ставил капканы на соболя и учил манком подманивать рябчиков. Тогда Андрейка первого своего рябчика дал деду Самагиру для привады, и старик назавтра же принес соболя. Сколько было у них тогда радости! До полуночи в камине весело трещал огонь. Осип-бабай рассказывал веселые и смешные приключения из жизни охотников.
Вдруг сани накренились, и Андрейка вмиг оказался в снегу. Рядом с собой услышал мат: Кеха барахтался в сучьях свалившегося дерева. Кривой сук продырявил старую доху где-то под мышкой и крепко держал Кеху. Андрейка вскочил на ноги и расхохотался.
— Чо смеешься, щенок, помоги!
С помощью Андрейки Иннокентий кое-как высвободил доху и поднялся на ноги. Самбу смирно стоял на месте и щипал сухие листья иван-чая.
— Добрались, паря, до Кукана, теперь ты веди Самбуху на поводу, а я буду поддерживать сани.
— Нет, я сяду верхом, так учил меня папа. Говорит, путаешься в ногах у коня и мешаешь ему идти.
— Ладно, садись. У вас, у братских, все по-своему. На конях-то вы мастаки, слов нету. Дай подмогу.
— Нет, я сам!
С километр пробирались по валунам и кочкам. Сани бросало во все стороны. Кеха непрерывно матерился и проклинал дорогу. Наконец, Самбу уперся в крутояр. Дальше шла узенькая тропка к мрачной скале. Иннокентий развязал воз.
— Андрюха, разнуздай Самбушку и дай сена.
— Долго, что ли, задержимся?
— Покряхтишь с мясом, узнаешь.
Иннокентий привязал к поняге заднее стегно и грудинку, а Андрейке бросил осердие и камусы.
— В передке возьми куль и склади эту дребедень.
Через полчаса добрались до пещеры. Кеха огляделся кругом, прислушался.
— А зачем бояться-то?
— Эх, ушкан дикой, ничего-то не кумекаешь. Здесь мой склад, понял?.. Я хищничаю, а батя твой помогает. Попадусь в милицию, обоим капут. Мозгуешь?
Кеха взял у Андрейки куль.
— Жди здесь. Никуда не суйся, — приказал он и скрылся в темной дыре, уходящей под скалу.
В третий заход забрали остатки мяса и уже заметно медленнее пошли в гору. Вдруг Иннокентий остановился и, оглядываясь по сторонам, попятился назад.
— Мотри-ка, Андрюха, кто-то следит за нами, — прошептал он.
Андрейка разглядел следы. Неизвестный человек был в широких унтах. На носке правого унта пришита небольшая заплата.
— Это, дядя, охотник шел. Зачем его бояться-то?
— Молчи, щенок! Иди скорей, — сердито шепчет Иннокентий.
Когда подошли к скале, Кеха быстро сбросил в кусты понягу, вырвал из Андрейкиных рук куль и вышвырнул в сторону.
Андрейка разглядел те же следы, уходившие в темную расщелину под скалой, и хотел сказать об этом Кехе, но тот поднес к носу мальчика волосатый кулак, а другой рукой сгреб его в охапку и потащил на скалу, обрубленным орлиным крылом нависшую над Кехиным складом.
— Нишкни! — Иннокентий толкнул Андрейку к елке, а сам подошел к кромке скалы, где за зиму образовался толстый снежный карниз, готовый в любое время свалиться вниз.
Синие глаза Кехи, похожие сейчас на холодные льдинки, сердито пробежали по Андрейке.
— Отвернись! Сядь там! — услышал Андрейка повелительный шепот.
«Черт рыжий, больше никогда с тобой не поеду… Злюка, шипит, как змея», — ругал про себя Кеху мальчик.
Где-то внизу внезапно раздался страшный грохот. Иннокентий, бледный, с выпученными глазами, очутился рядом с Андрейкой:
— Паря… а… паря… чуть не оборвался… а… обвал… Слышь, обвал! — Он бегом спустился вниз, Андрейка кинулся за ним, запнулся и кубарем скатился к пещере.
Под скалой образовалась снежная гора, Иннокентий обежал кругом и вернулся уже успокоенный:
— Я спужался, думал, мужик там, тогда бы ему капут, а он, видно, успел уйти раньше. Вишь, какие бывают счастливчики, — как-то чересчур возбужденно говорил Кеха.
— Вот и хорошо, дядя Кеша, а то ты уже начал заикаться на скале-то.
— А што, поневоле будешь заикой, спужался-то как, дело-то сурьезное, убийство могли пришить запросто. В милицию затаскали бы нас с тобой обоих.
— Но-о?!
— Вот те и но-о! А ты как думал? Слышь, никому ни слова!
— Ладно.
Настоявшись на морозе, Самбу обратный путь бежит крупной рысью.
Кто же ходил по следам? Был в этой дыре, где Кеха прячет свое мясо. «Я хищничаю, а твой батя мне помогает. Попадусь в милицию, обоим капут…» — вспомнил слова Иннокентия. «И зачем отец связался с этим», — Андрейка с неприязнью посмотрел на Кеху.
— Вот и Баян-Ула, надо в ларек забежать, — услышал Андрейка и оторвался от своих мыслей.
Кеха бросил Андрейке вожжи и побежал к крохотному домику.
«Опять пить будут, — подумал Андрейка, увидев в руках Кехи две поллитровки, — надоели с этой водкой».
Чимита подоила свою Эрен, снова подогрела обед и села у окна. Где же Оська-то задержался? Ушел на полдня… Не случилась ли беда?
Не сидится. Принесла еще дров, бесцельно походила по избе. Стало совсем тоскливо, будто кто-то тяжелой рукой давит на грудь и плечи. А сердце-то стало совсем дрянь, ноет и ноет. Надо сходить к соседям, на людях-то, может, полегчает.
Дверь подперла коромыслом и направилась к воротцам. Сидевшая на привязи лайка загремела цепью и жалобно заскулила.
— Ой, Тумурка, прости старую, она, кажись, совсем рехнулась, — проворчала Чимита и вынесла из кладовки большого налима. Разрубила на куски и кинула в Тумуркино корыто.
— Ешь, Тумурка, на здоровье… а вот хозяин-то твой голодом бедует. Ох, беда, беда!
В ограде соседа стоит вспотевший бригадный гнедко Самбу.
«Куда-то ездили ихний тала с Андрейкой. Уехали утром, а вернулись только что. У мужиков-то много путей-дорог», — думает Чимита, а у самой перед глазами темно-медное лицо Осипа, усы и бородка в сосульках, измученные печальные глаза под изношенной ондатровой шапчонкой.
— Дьявол побери, чуть под обвал не угодил, — услышала Чимита.
Из дома доносился смех. Только открыла дверь, в нос ударило винным перегаром и свежим звериным мясом. — Амар сайн, добрые люди.
— Мэндэ, тетка Чимита. Садись отведать свежинки, — соскочил со стула хозяин.
— Спасибо, Буин, не могу.
— Садись, садись за стол, хошь чайку выпей, — приветливо приглашает хозяйка.
— Спасибо, Ханда. Пришла спросить, не встречали ли моего старика. Ушел на денек, а уж вторые сутки где-то пропадает.
— Э, суседка, не печалься, сама знаешь — дело таежное, — успокаивает Буин.
Сидевший за столом Андрейка вскочил на ноги.
— Бабка Чимита, а на одном унте Осип-бабая заплата пришита? На носке…
— А ты, сынок, где видел?
— Там, у скалы, где… обвалился снег.
Андрейке стало совсем худо, когда он увидел, как побледнела бабка Чимита, а Кеха, сделав страшные глаза, ввязался в разговор:
— Ой-ой, Андрюха, не тумань-ка бабке мозги! Ты, бабка Чимита, не слухай его, следы-то эвон у ущелья Семи Волков свернули с дороги в марник.
— Нет, нет, я видел следы у скалы…
— Куда вы с Кехой-то ездили? — спросил Буин, — Да там же ведь пещера Покойников.
— Это тот Чум Покойников, про который Осип-бабай нам рассказывал?
— Он и есть.
Андрейка выскочил из-за стола. Он почуял что-то неладное. «А может, Осип-бабай под обвал попал? Может, его нарочно?» — пронеслись тревожные мысли.
— Я, бабка Чимита, знаю прямую чумницу, на лыжах вмиг сбегаю, — выпалил он, надев куртку и нахлобучивая шапку.
— Может, не надо, сынок? Может, сам…
— Знамо дело, сам придет, не дитя, а охотник. Тебе бы только бегать. Ты, братуха Буин, заставляй-ка побольше Андрюху книжки читать да уроки повторять, не то все перезабудет, — вмешался Кеха.
Но Андрейка, никого не слушая, выскочил во двор.
Уже завечерело, когда Андрейка добежал до Чума Покойников. Мальчику было страшновато от угрюмого вида скалы и темного зева таинственной пещеры, о которой он наслышался немало таких жутких легенд… Ему казалось, что пещера ощерилась своим беззубым ртом и собирается проглотить Андрейку вместе с его дробовиком и лыжами. Но мальчик выстоял, потом шагнул мимо пещеры к куче снега. Ухожих следов не было. Зачем же дядя Кеха соврал, что ушел человек? А может быть… Андрейку озарила страшная догадка и он, не помня себя, громко закричал:
— Осип-бабай, где ты-ы!
«Где ты-ы!» — откликнулось эхо. Перед Андрейкой сгрудилась вся необъятная тайга, вздыбилась и с высоты насмешливо смотрит на него. Мальчик вскинул ружье и выстрелил вверх. Гром выстрела, прогремевший над тайгой, ободрил Андрейку.
— Осип-бабай! Ба-абай!.. Ты где-е!
Прислушался. Высоко, где-то на перевале гудит тайга. Там ходит ветер. Деревья шумят, будто грозятся кому-то.
Стараясь не глядеть в черный зев пещеры, Андрейка принялся разгребать руками комья снега. Кидает без устали. Уже получилось порядочное углубление.
Послышался откуда-то снизу слабый стон.
— Здесь! Он здесь! Живой! — шепчет Андрейка, еще сильнее налегая на снег. — Деда! Дедушка! Осип-бабай! Сейчас откопаю, потерпи.
Под большим комом показалась рукавица. До чего была знакома эта, из серой собачьей шкуры рукавица! Андрейка стянул с руки рукавицу и прижал к щеке теплую руку Самагира.
— Осип-бабай! — радостно закричал мальчик.
Андрейка изо всех сил навалился на большой ком снега. Наконец, он скатился в сторону, и в углублении между двух больших камней показалась голова и плечи Самагира.
— Осип-бабай, вставай! Дай я помогу тебе, — обхватив старого таежника за плечи, он приподнял его.
— Ондре… сынок… горячего чайку бы… — со стоном едва выговорил старик.
Андрейка осторожно очистил лицо старика от снега и земли.
— Ноет проклятущая рука… глотнуть бы горячего… Кисть левой руки, которую приподнял старик, болталась развернутая тыльной стороной.
Андрейка взглянул на руку, громко охнул, побледнел.
— Осип-бабай, как же будешь пить-то? — дрожащим голосом спросил Андрейка, потом справился с минутным испугом и начал уговаривать Самагира: — Ничего, бабай, ты самый крепкий и смелый охотник, такого, как ты, во всей тайге нет. Об этом знают все. Помнишь, как ты боролся с медведем? Ты его в тот раз зарезал, как поросенка! Помнишь?! А медведь-то какой был! О-о!
Мальчик быстро снял отцовский кушак и собрался забинтовать пострадавшую руку.
— Ондре, ты сперва поправь руку-то… поверни ее, суку неладную, на старое место, — посоветовал старик.
Андрейка снова растерялся, топчется, боясь притронуться к изуродованной руке.
— Осип-бабай, как же поверну-то? Тебе же больно будет. Я же каждый раз прошусь с тобой, — сквозь слезы упрекает мальчик, — разве тебе плохо со мной в лесу? Пугаю зверей, да? Шибко шумлю?..
— Нет, нет, ты молодец! Не жалей меня, Ондре, изо всей мочи тяни и поворачивай.
— Нет, бабай, это только доктор может, — уже твердым голосом возразил Андрейка.
— Эх, Ондре, спужался!.. Бабью жалость распустил. Ладно уж, делай по-своему.
Андрейка неумело забинтовал кушаком руку и осторожно подвесил ее на темляк.
— Вот теперь пойдем.
Самагир с помощью Андрейки поднялся на ноги, сделал два-три шага и плюхнулся на снег. Застонал, заскрежетал от боли и бессилия зубами.
— Не-е, Ондре, ты зря вернул меня из Страны Предков. Пропал Оська Самагир, пропал.
Некоторое время Андрейка стоял перед стариком в оцепенении, потом выхватил из поняги топор, подбежал к черному обуглившемуся пню, отрубил от него чурку, расколол ее на поленья, настрогал щепок и быстро развел костер. Смолистые дрова, шумно потрескивая, весело разгорались. На темно-медном лице Самагира появилась довольная улыбка.
— Моя-то наука не пропала даром, — сказал он, кивнув в сторону костра. — Ондре, чайник-то в куле, там же и заварку найдешь.
Вскоре на березовом тагане висел черный чайник и весело фыркал своим измятым носиком.
Андрейка налил кружку горячего чая и поднес Самагиру. Старый эвенк быстро опорожнил кружку и дрожащей рукой протянул ее мальчику. Андрейка снова налил, порылся за пазухой и вынул сверток, из которого достал мяса и большой ломоть хлеба.
— Случаем, мясо-то не Чолбонкино?
— Не-е, бабай, как можно есть Чолбонкино мясо. Ведь жалко Чолбонку-то.
— Она бы меня отыскала… Бродила бы тут, пока не ухлопали ее.
— А мы, Осип-бабай, другую Чолбонку вырастим.
Старый охотник окинул мальчика ласковым взглядом.
— Ты у меня заместо сына Володьки. — Самагир хотел еще что-то сказать, но закашлялся. В узких с красными прожилками глазах его сверкнули искорки радости и надежды.
ГЛАВА 4
Андрейке долго пришлось упрашивать, чтоб заставить упрямого старика лечь на его лыжи. И теперь он тянет за собой тяжелую поклажу.
На темном небе поблескивали звезды. Как-то вечером Осип-бабай говорил, что это богиня Бугады зажигает свечи, чтоб хищники не пожрали беззащитных копытных. Забавный бабай, разве могут быть на небе боги, богини и свечи. Андрейка тогда чуть не рассмеялся, но побоялся обидеть старика.
Вдруг, где-то совсем рядом, у ущелья Семи Волков, протяжно завыл волк, потом второй, третий. Андрейке стало жутко, волосы на голове стали дыбом, по телу пробежала дрожь.
— Ондрюха, ты пальни вверх? — посоветовал Самагир.
Андрейка быстро вскинул свой дробовик и нажал на курок. Из ствола вылетел огонек, раздался оглушительный гул, который покатился по горам Баян-Улы и затих в дебрях за перевалом.
Волки замолчали. Андрейка повеселел.
— Осип-бабай, волки-то меня тоже боятся!
— Э, паря, ты же грозный мужик-то, оборужен как надо!
От пещеры Покойников почти до самого ущелья Семи Волков дорога идет под гору, поэтому лыжи легко скользят по утоптанной дороге. А там пойдет подъем на гриву. Андрейка все это хорошо знает, поэтому приберегает силы.
— Бабай, тебе не больно?
— Э, паря, пошто больно-то будет, везешь как по маслу.
Андрейка облегченно вздохнул. Перебросил лямку на другое плечо, потянул дальше.
Тайга, как огромный, добродушный зверь, тихо дремлет и сквозь дрему прищуренными глазами следит за Андрейкой. Нет-нет да подмигнет и тихо шепчет ему: «Не сдавайся, парень, тяни».
Хороша тайга даже в полумраке ночи: деревья, смутно выступая, движутся одно за другим мимо Андрейки. Они сейчас походят на богатыря Ерноуля с его суровыми воинами из воинственной легенды деда Самагира. Эвон, из-за поворота навстречу идет матерый медведь; все ближе, ближе, а когда поравнялся — оказался обуглившимся пнем, торчит он из снега, качает кривыми лапами-сучьями. Вот несется куда-то вдаль черный дракон, а рядом сгорбилась баба-яга.
Все-то в этой таежной ночи загадочно, таинственно, все предметы, принимая формы страшных чудовищ, наполняют Андрейкину душу тревожным волнением и ожиданием чего-то необыкновенного, страшного.
— Сынок, запали-ка трубку — все легче будет на душе.
Андрейка долго и неумело набивает трубку терпким табаком-самосадом, зажигает несколько раз, но спички быстро гаснут на ветру. «Надо спрятаться от ветра», — подумал мальчик и прилег рядом с Осипом; наконец зажег трубку, глотнул дыму, захлебнулся, закашлялся.
— На, бабай, кури… А почему говоришь легче на душе?
Самагир долго не отвечает, жадно сосет трубку и мычит что-то, не разберешь. Потом выдавил:
— Чимиту-то спужаю… может снова рехнуться… она же долго болела. Вот и болит у меня душа, жалко ведь ее, бедняжку.
Наконец Андрейка дотянул до подъема на гриву.
— Э, паря, тебе теперь не утянуть меня… бросай и беги за народом.
Снова завыли волки. Стало холоднее. Студеная тайга отчужденно нахмурилась, стала враждебной.
— Как оставлю-то, тебя же волки съедят.
— О-бой, правду баишь, шоно-батыр просит у богини Бугады мяса.
— Вот видишь! Как же я тебя брошу?
— Если останешься — оба замерзнем.
— Нет, не замерзнем.
Андрейка всем телом навалился на лямку, сделанную из кушака, но лыжи словно прилипли к снегу — нельзя их стронуть с места. «Эх, сдвинуть бы их чуточку, а там заскользят», — думает мальчик. Напряг все силы, навалился всем телом, лыжи снова нехотя чуть тронулись, но тут поскользнулись ноги, и Андрейка головой ударился о затвердевший снег. Боль обожгла губы и подбородок, во рту почувствовал соленую влагу, сплюнул. На снегу показались темные пятна. «Кровь», — догадался мальчик. От боли и обиды на свое бессилие заплакал. «Вот какой я, а… у бабая кожа да кости… весу-то в нем… Эх, какой я слабак», — упрекает себя мальчик.
Осип услышал тихое рыдание. «Вот ведь в какое время я живу! Маленький бурятенок спасает тунгуса, а раньше-то, при царе Миколке-то, разве было такое?.. Ха, тунгусом бурятки пугали своих ребятишек, во как было. Была вечная вражда».
— О-бой, Ондре, мужик не должен хныкать. Это, брат, бабье дело.
— Я ударился… это от боли… пройдет, — заглушая рыдания, ответил мальчик.
— Ондре, подсоби мне малость… лягу на бок и буду здоровой рукой подмогать тебе, може, выйдет толк.
Андрейка помог Осипу повернуться на бок и налег на лямку. Самагир оттолкнулся рукой, лыжи тронулись и рывками, медленно пошли в гору.
Мальчик отсчитал сто шагов и в изнеможении опустился на снег. Сердце громко стучало, стало нестерпимо жарко, как в горячей бане, и едкий пот заливал глаза. Хотелось лечь на снег и долго-долго лежать. «Оба замерзнем!» — ожгла мысль. С трудом поднялся на ноги.
Лыжи снова тронулись. «Один, два, три… сто», — Андрейка снова плюхнулся на снег, который тихо шепчет ему: «Брось мучить себя, ляг на меня и усни».
В следующий раз сил хватило на пятьдесят шагов, потом на тридцать, потом на десять. Наконец Андрейка сделал два шага и упал.
Старик и мальчик лежали молча. Над ними наклонилась черная лохматая тайга и ждала, что будет дальше. Сможет ли этот маленький человек спасти большого.
Совсем рядом завыли волки. Андрейка приподнял голову и между двух толстых стволов увидел темный силуэт зверя. Глаза хищника сверкали жадными огоньками.
Словно чьи-то сильные руки подняли мальчика и поставили на ноги. Андрейка схватил ружье и стал целиться.
— Ондре, бери ниже… Ружье-то ночью всегда высит, — зашептал Осип.
Андрейка видел только ствол ружья, подвел его под волка и нажал на курок. Зверь прыгнул вверх и упал. Послышался сухой хруст сломанных веток багульника. Угрожающий вой сразу же прекратился. Наступила тишина.
— Ондре, ты будешь великим стрелком! — бодро заговорил Самагир. — Давай, закурим, тала.
Андрейка раскурил трубку и подал Осипу. На душе стало легко, весело, будто чья-то заботливая рука из волшебного кувшина влила в него силы, новые запасы бодрости и веры.
— Осип-бабай, я, кажись, пристрелил вожака. Теперь стая не решится напасть на нас, да?
— Ты, сынок, дал грозный отпор. Но черти учуяли мою кровь и немочь. Волчье-то забижает только слабых да хворых.
— Неужели нападут?
— Кто может знать, это же ведь волки.
— Отобьемся. У меня еще двадцать зарядов.
— Ондре, ты смелый парень, отобьешься… Вот бы огонька разжечь да горячего чайку хлебнуть всем волкам назло.
Андрейку тоже давно мучила жажда, и он, вынув из поняги топор, пошел искать сухое дерево. В темноте все деревья походят друг на друга, и Андрейка не знал, как найти сухое дерево. Сделав круг, нигде не нашел дров.
— Ты, Ондре, грохни топором по стволу, если ударишь по сушине — она закричит громче других.
Совсем рядом с мертвым волком Андрейка нашел сухое дерево. Потюкает, потюкает и садится на теплую тушу волка. Наконец, дерево щелкнуло, Андрейка еще раз-два тюкнул и отскочил в сторону. Сушина с грохотом свалилась на тугой снег. Мальчик отрубил вершину и собрал сухие сучья, которые разлетелись при падении дерева.
Над веселым костром повис чайник со снегом. Снег моментально растаял, Андрейка снова набил посуду. По тяжести определил, что воды теперь хватит.
— Немножко подкрепимся и снова в путь, — веселил себя и бабая мальчик.
Старый эвенк кивнул, соглашаясь с ним. Он спокойно улыбался, докуривая трубку. Вода в чайнике закипела.
Андрейка снял чайник с огня, поставил его рядом с костром и осторожно высыпал последнюю заварку чая. Самагир, обжигаясь, жадно глотал густой чай. Андрейка разделил мясо и кусочек хлеба.
— Ты, сынок, ешь… тебе нужна сила. Мне-то все равно лежать.
— Не-е, Осип-бабай, нам обоим нужно подкрепиться.
После чая стало веселее, не хотелось покидать этот уютный уголок под развесистым кедром с весело потрескивающим костром.
Самагир сидел разбитый и больной. Он смотрел в огонь и думал, как Андрейка одолеет эту гору. Осип знал всю тайгу, как волчонок знает соски матери. А у этой дороги на гриву знал каждую ямку, каждый бугорочек. Он вдохнул пригоршню дымного воздуха, лившегося от костра, в груди больно кольнуло, пошевелил руками, потом ногами. Все тело кричало от острой боли, просило полного покоя. «Нет, не смогу помочь парню. Скажу, штоб топал домой. Не застанут меня живым, значит, здесь кончится моя тропа, уйдет Оська Самагир к предкам на Нижнюю землю». Он взглянул на мальчика, следившего за ним из-за костра.
— Ондре, сынок, если у тебя не хватит силы вытащить меня на гриву, то ты должен меня бросить.
Мальчик вскочил на ноги.
— Осип-бабай, я тебя не брошу… Тебя оставлять нельзя. Ты же мне сам говорил, что волки нападают на слабых и беззащитных.
— Што верно, то верно, сынок. Но спасая Оську Самагира, загинешь сам. Сядешь отдохнуть, одолеет дрема, и замерзнем оба.
— Нет, я разожгу большой костер, и прокоротаем ночь. Я люблю спать в лесу, — проговорил Андрейка, наливая горячий чай эвенку. — А утром нас разыщет отец.
Самагир отставил чай, темно-медное лицо расплылось в довольной улыбке.
— Э, паря, ты силен духом.
— Ай, нашел сильного… слабак Андрейка.
Эвенк покачал головой.
— Пещеру Покойников даже мужики сторонятся, а ты не спужался, привалил туда один и меня вызволил, — сказал он. В его голосе звучала гордость. — Ты смелый и духом крепкий, Ондрейка.
«И все же ошибаешься, Осип-бабай. Когда я подходил к пещере Покойников, мне было так страшно, что не слушались ноги, а когда у входа в пещеру упал камушек, то я так струхнул, что волосы на голове встали дыбом и по всему телу прошел озноб; не-е, бабай, Андрейка слабак духом», — рассуждал сам с собой мальчик.
— Осип-бабай, а ты чего-нибудь боялся в жизни?
— О-бой, сынок, кто умом рехнулся, тот не ведает страху. Было дело, пужался и я, но не терялся… Придется, може, смотреть в глаза смерти, то не давайся страху в руки, не теряйся, зажми его крепко, тогдысь любой супротивник тебя не одолеет. Так-то вот, доведется встренуть медведя — не пужайся, режь ножом.
Над лесом показался бескровный ущербный месяц.
Где-то за ущельем Семи Волков послышался гул тайги, а рядом с костром зашелестели сухие листья ольхи. Гул быстро приближался. Языки огня будто испугались чего-то и начали кидаться, то вверх, то в сторону.
— Огонь ёхор пляшет. Ветер идет, кажись, за собой ненастье припрет, — старый охотник задумчиво разговаривал с огнем.
— Осип-бабай, пойдем дальше.
— Отдохни, сынок, закон тайги не велит спешить.
Андрейка покорно подчинился старику.
Бешеная пляска пламени и быстро меняющиеся светотени одухотворяют окружающие лесные предметы и наделяют их особой таинственной прелестью. Поэтому Андрейка любит сидеть у ночного костра. Его живое воображение рисует всевозможные картины. Они быстро сменяются, как отдельные кадры в кино. Вот сидят у костра голые, косматые первобытные люди. Увидев огонь, сверкая сердитыми глазами, уходит мамонт. Огромный пещерный медведь притаился за камнем и готов схватить неосторожного человека, а там, за рекой, полосатый тигр вытянулся вдоль свалившегося дерева и терпеливо ждет свою жертву.
Налетел сильный порыв ветра и сбросил с кедра кухту, которая плюхнулась у ног Самагира.
Старик кончил пить чай и спокойно докуривал свою трубку.
— Я… я отдохнул. — Андрейка с нетерпением ждал ответа.
На гриве снова завыли волки.
— Эй, серые паршивцы, не валяйте дурака! Обжоры трухлявые, захотели слопать Оську Самагира. Ха, быстро забыли, што у него есть грозный стрелок, — ругает хищников эвенк.
— Твой «грозный стрелок» готов везти бабая.
— Эх, Ондре, знал бы ты, как мне совестно ехать на тебе.
— А мне хорошо… Я рад, что выручаю бабая из беды.
— Што верно, то верно, от верной погибели спас ты меня. Быть бы мне в Стране Духов… Ладно уж, тащи.
Андрейка натянул лямку, напрягся, чтобы в одном движении сосредоточить свою силу, и сделал рывок. Лыжи нехотя, жалобно взвизгнув, заскользили по дороге.
Протащив тяжелую ношу метров сто, Андрейка остановился. Ниже, по склону горы, между черных стволов деревьев, весело горел костер и манил к себе. А на гриве, куда двигались они, протяжно выли волки, оплакивая павшего своего вожака. Они угрожали человеку с «железной палкой».
Андрейка погрозил им своей централкой и с удвоенной энергией протащил лыжи вверх.
Ветер яростно раскачивал могучие сосны и кедры и гнул в дугу молодые. В пепельном полумраке ночи Андрейка различил движущееся пятно. «Неужели волк?» — мелькнула тревожная мысль. Мальчик остановился и взял на изготовку ружье. Пятно тоже перестало двигаться, потом быстрая тень мелькнула в сторону и исчезла в чащобе тайги.
Мальчик нагнулся вперед, касаясь руками снега, рывком сдернул лыжи и двинулся к тому месту, где стоял зверь. Подойдя, он стал искать следы неизвестного зверя. На заузжавшем снегу он различил козьи копытца. И ему пришла в голову мысль, которая всегда тревожила его: «Куда деваются бедные козы и кабарожки от кровожадной стаи волков? Как спасаются лоси и изюбры от них?»
— Осип-бабай, мы спугнули козу.
— Пошто не пальнул в нее?
— Не успел, бабай… Хорошо, что не успел стрельнуть. Я долго мучаюсь, когда подстрелю копытного.
— У тебя, Ондре, в сердце вкралась бабья мякоть. Надо вырвать ее. Таежник должен быть твердым.
Андрейка снова впрягся и потянул лыжи вверх. Хотел пройти пятьдесят шагов, но отсчитал всего тридцать. Он стал чаще останавливаться, дольше стоял на одном месте и утирал едкий пот, который попадал в глаза, причинял невыносимую боль.
Мальчик взглянул вверх, чтоб по звездам определить время, но увидел лишь узкие глаза с одиноко мигающей звездой, которая сердито наблюдала за людьми через темные кроны деревьев.
Самагир лежал в полузабытьи и время от времени стонал. Его снова мучила жажда, но он терпеливо переносил ее. В груди ярко горел костер, который обжигал сердце и еще что-то, причиняя острую боль. Но зато сломанная рука молчала, будто ее нет совсем. По огромной лиственнице со сломанной вершиной он определил, что добрались до взлобка. До вершины горы осталось совсем мало, но зато это был самый крутой участок подъема. Он хорошо понимал, что Андрейке это место не осилить и придумывал, что делать и как ему помочь. Он услышал, как мальчик снова упал и медленно поднялся. Стало невыносимо жалко парнишку, и он решил сползти с лыж и остаться лежать на снегу, пока Андрейка бегает за помощью. Но как ни старался, а повернуться и скатиться с лыж не смог.
— Ондре, сынок, послушай старого Самагира, оставь меня здесь и иди за бабкой Чимитой.
Андрейка молчал. Надрывно гудела тайга. Повалил снег. В лесу стало совсем темно. Справа завыл волк, недалеко второй, дальше третий. Через минуту вой раздавался со всех сторон. Было ясно, что волки окружили двух таежников и постепенно сужают кольцо.
— Бабай, волки-то окружили нас.
— Раньше мы со своим шаманом так же выли, прося мяса у Горного Хозяина или у богини Бугады.
— А тут волки.
— А я тоже был когда-то Одиноким Волком.
— Так же выл?
— Выл… кровавыми слезами ревел от доброты белого царя и его людишек. Спасибо батыру Ленину. Это он Одинокого Волка сделал человеком…
Вой волков тем временем становился все ближе и ближе. Андрейке стало страшно.
— Осип-бабай, что будем делать?
— Э, паря, кому жить надоело, того отправляют в Страну Злых Духов… Там он станет собакой и будет пасти оленей князя Ерноуля.
— У какого Ерноуля? — не поняв смысла слов, спросил Андрейка.
Самагир застонал, закашлялся.
Бывалый таежник прекрасно понимал, что Андрейка пристрелил вожака и теперь стая во главе с волчицей собирается отомстить людям. Поэтому старик старался успокоить мальчишку и отвлечь его внимание от душераздирающего воя.
— О-ох, слопал бы шатун эту хворобу! — со стоном выдохнул Осип. — Ты, Ондре, видать, не слыхал про князя Ерноуля? Так слушай. Был батыр Ерноуль вождем чильчигиров. На всю тайгу славился он медвежьей силой и проворством молодой рыси. Но сердце имел злое, завистливое, черное. По всей тайге Верхней Ангары паслись оленьи стада князя Ерноуля. И не знал он счету своему богатству.
Любил князь Ерноуль быстроногих ездовых оленей и лютых медвежьих собак. На удалых оленях он нападал на соседей, громил и грабил их. Опосля погрому со своими воинами устраивал пиршество. Пили огненную воду, заедали сладкими оленьими языками. Устраивал борьбу и скачки, а в обхождении с людьми был лют и скуп.
Много бедного люда мыкалось на его стойбищах. Пастухи ходили в старых дырявых овчинах, питались падалью и были счастливы, коли успеют отнять у волкоты задавленного оленя. Освежевав растерзанную тушу, мясо поедали тут же, сырком и без соли.
— А соли-то не было, что ли? — спросил Андрейка.
— Хэ, соль… сказал тоже… Э, паря, в те времена ни хлеба, ни соли, ни мыла у тунгусов не было. В них хамниганы ни черта не кумекали. Мыло могли слопать, а хлеб выбросить на мусор. Вот какими были в те темные времена мои предки.
— Да-а! — удивленно воскликнул мальчик.
— Э, Ондре, в светлое время ты пришел на Среднюю землю, в Мир Солнца, и тебе не ведомы голод, холод и злонасилье. Чур, паря, ты думаешь, што враницу прет Оська Самагир, так али нет?
— Что ты, бабай, верю!.. Говорят тебе, верю!
Совсем рядом завыл, потом защелкал зубами волк.
— Сынок, пальни-ка на звук-то.
Андрейка выстрелил. Крупная картечь хлестко защелкала по деревьям и кустарнику. Наступила тишина.
— Ук-ты-ы, как грозно бьет! — воскликнул Самагир. — О-бой! Кто может остаться живым?! Вот, Ондрюха, лупишь дык лупишь! — хвалит, чтоб одобрить мальчика, старик.
— Удрали, черти серы! — обрадовался Андрейка и облегченно вздохнул. — Ну и что было с этим Ерноулем-то? — полюбопытствовал мальчик.
— Хэ! Запали сначала мне трубку-то.
Андрейка, прикуривая, захлебнулся дымом и закашлялся.
— Э-эх, Ондре. Ондре, в твои-то годы я уж давно курил трубку и на брюхо робил у купца Синицына, — старик молча покурил и усмехнулся. — Вот как-то взбрело старому богатею научить меня баить с книгой, дал гумагу, карандаш и наказал своему приказчику Ромке Серому обучить тунгусенка грамоте. Ромка научил меня играть в карты, и мы вместо учебы дулись по целой ночи. А букварь, гумагу и карандаш я отдал купцу.
Ромка похвалил меня: «Правильно, Оська, сделал, грамота тунгусу во вред… Глаза попортишь, ноги заленятся, какой черт охотник из тебя выйдет».
— Ха… грамота тунгусу во вред… Вот какой был дурило! — возмутился Андрейка.
Самагир снова застонал, закашлялся.
— Та ко время было, при чем тут Ромка.
— А что было с Ерноулем?
— Худо было ему, худо было чильчигирам и самагирам.
— А почему?
— Э, паря, как было тогда? Поехал, значит, Ерноуль в гости к брату своему, к Магдаулю, который был вождем у самагиров. И был тот батыр князь Магдауль могуч, хорош собой и сердцем добрый. Во время пира Ерноуль углядел младшую жену Магдауля, красавицу Чолбон, и крепко полюбил ее. Ночью он пробрался в чум Магдауля, зарезал брата и красавицу Чолбон увез в свое стойбище. Дело ясно, самагиры пошли войной на чильчигиров, и на широком лугу Герамдая было большое побоище, где погибли все самагирские и чильчигирские батыры. Издох сам Ерноуль — ушел в Страну Злых Духов. Вот какое было дело в седую старину. — Помолчав, добавил: — На том широком лугу Герамдая теперь люди косят сено и находят кости тех батыров.
— Да-а!.. Какой же плохой человек… этот самый Ерноуль, — в раздумье произнес Андрейка.
— Совсем худой. Своих собак кормил жирным мясом, а пастухов падалью да волкоединой. Это батыр Ленин научил бедный люд одолеть царя Миколку и его шуленгов, это он дал эвенкам свет и радость, а то жили мы в сумерках да потемках…
Где-то за ущельем Семи Волков раздался и сразу же смолк вой.
— Волчица жалобится богине Бугады на Андрюху.
— Ну и пусть плачет. Кто им велел пугать нас.
— Звезды бают, што время к полуночи, — сказал себе старик. — Надо будя придумать, что делать. — Помолчав минуты две, он обратился к другу:
— Ондре, развяжи оборки и намотай на ногу вместо базлуков[32]… Кхы-кхы, сто чертей в глотку, штоб не кашляла… Возьми топор и подруби снег… не будешь скользить…
Когда Андрейка сделал все это, ветер подул еще сильнее и стал назойливо лизать лицо, лезть за шею и за пазуху, затаскивал за собой колючий молодой морозец и студил тело. Мальчик начал брыкаться, как молодой бычок, и морозцу пришлось отойти в сторону. Рядом в обнимку стоят могучий кедр и молоденькая стройная сосенка, кивают на Андрейку и тихо смеются над Андрейкой, но они свои, родные и близкие. Когда нужно — согреют и приютят…
Взглянув на беспомощно лежащего Самагира, Андрейка вздохнул и надел лямку.
— Бабай, двинем?! — как можно бодрее произнес мальчик.
— Подсоби-ка, Ондре, повернуться на бок… може, и подмогу тебе.
Андрейка осторожно повернул старика и изо всех сил натянул лямку. Но как ни старается он, лыжи стоят на месте. Мальчик нагнулся, опустился на четвереньки и напряг все силы.
— Умун, дюр, илан! Умун, дюр, илан![33] — раздается сзади. — Нажмем, Ондрюха!
— На-а-жмем! И-и-их!
Лыжи тронулись.
Андрейка обрадованно спешит, сосредоточил всего себя на одном: только вперед, упасть без дыхания, но не остановиться. Он чувствует, что скоро конец склону горы. Где-то вот рукой подать, совсем рядом, ровное плато с наклоном к Баян-Уле — там спасение. Он напряг все силы. В ушах стоял звон, глаза застилало едким потом, во рту пересохло. «Еще раз!.. Еще два!.. Еще три!..» — подгонял он себя. Вдруг лямки ослабли, и Андрейка больно стукнулся о твердый снег.
— Забрались, паря, одолели шаманью гору, — услышал мальчик голос старика и медленно поднялся на колени.
Внизу, в Баян-Уле, ярко горели огни.
Сквозь боль и страшную усталость у Андрейки пробилась довольная улыбка, он облегченно вздохнул и оглянулся назад.
Восхищенная тайга радостно ревела и аплодировала смелому мальчику.
ГЛАВА 5
Самагир выплыл из густого красноватого тумана. Пошевелился. Заскрипела кровать. Он понял, что выплыл из сна. Сон был тяжелый и сколько продолжался, Оська не помнит. В груди горел медленный огонь. Он обжигал сердце и легкие, затруднял дыхание и причинял боль. Хотелось пить.
Осип начал поворачиваться на бок, кольнуло острым шилом, и он громко застонал.
Рядом шепотом заговорили женщины:
— Кажется, проснулся.
— Тише, возможно, еще спит.
Самагир открыл глаза. Видит синевато-снежный колпак, из-под которого кое-где выглядывают мягкие русые волосы, белый лоб и крутые дуги тонких бровей. «Вот эта бледнолицая женщина вчера наладила руку, — вспомнил он. — Молода, а уже дохтур…»
— Ну, как, дедушка, чувствуете себя?
— Весь грудь огнем горит.
— А рука беспокоит?
— Рука будто нет… совсем чужой.
— Ну, ничего, вылечим! — сказала врач уверенным голосом и ободряюще улыбнулась темно-серыми глазами.
От ласкового взгляда и уверенных слов врача у Самагира потеплело на душе и даже нудная боль на время куда-то исчезла.
Врача позвали по какому-то срочному делу, и она, кивнув Самагиру, легкими неслышными шагами вышла в коридор.
С соседней койки на Самагира смотрели большие глаза, седеющие кудри сползли на брови и закрыли уши.
— А как, батенька мой, дела, очухался? — бойко, с цыганским акцентом спросил сосед.
— Худо, паря… однако, пропаль охотник…
— Э, батенька, не горюй! Сиди на печке, а старуха жратву притащит.
— Не-е, пошто так… Бабе дома сидеть нада… Э-э, там на ферме коров доить, скотишко обихаживать мала-мала…
— А на то, батенька мой, она и баба, чтоб кормила мужика! На ядрену мать держать ее тогды! — цыган весело рассмеялся, цокнул языком и попросил закурить.
— Ук-ты-ы, кака веселый, — подавая кисет, улыбнулся Самагир. — Что болит-то?
— Нога, батенька… нога замучила, гниет, окаянная. Эх-ха, стерва! — глотнув дыму, цыган спрятал самокрутку под одеяло, взял больную ногу и начал раскачивать ее, как ребенка. — Гангрена, чухашь, батенька, чем пахнет дело-то… дохтурша сказала, что оттяпает ее. Отплясал Игнашка Золотарь, и все тут! — Цыган снова затянулся и, взглянув на Самагира погрустневшими глазами, опустил кудрявую голову. — Отплясал, батенька, — чуть слышно прошептал он.
— Где работаль?
— Тружусь, батенька мой… слесарничаю в гараже леспромхоза.
— О-бой, шибко ладный ты мужик. Я думаль, ты ездиль туды-сюды… шаляй-валяй, как медведь-шатун.
— Не-е! Теперь я не кочую, хватит мерить белый свет.
После завтрака Самагир задремал. Кто-то осторожно погладил одеяло. Открыв глаза, Осип увидел Андрейку.
— Ты, Ондре, когда приехал?! — обрадованно спросил старик.
— Сегодня утром… был в школе. Наш класс занимается с обеда.
— Шибко отстал?
— Догоню. — Живые черные глаза тревожно скользят по исхудавшему лицу, по толстой руке в гипсе.
— Скоро, Ондре, снова пойдем в тайгу, — заметив тревогу в глазах мальчика, успокоенно сказал старик.
— Вот и хорошо. Бабай, я еще раз ходил к пещере Покойников.
— Пошто?
— Там я обронил книжку из библиотеки.
— Нашел?
— Нашел.
— Вот и хорошо.
— Бабай… Это Кеха свалил на тебя…
— Чо свалил? Какой Кеха?
— Который у нас жил… Он столкнул на тебя снежную глыбу.
— Ты чо баишь, паря!
— Он… Я снова был на скале, там за дерево привязана веревка… Он за нее держался, а ногой столкнул снег… Следы-то остались на кромке снега, все видать.
— О-бой! Сын барсука и вонькой росомахи! Убил мою Чолбонку и меня хотел отправить в Страну Духов, в Нижнюю землю.
— Бабай, я сразу понял, что Кеха обманул меня.
— Как обманул?
— Он после обвала обежал вокруг пещеры и сказал мне, что человек успел уйти, а когда я искал тебя, то никаких следов не было.
Самагир сурово нахмурил седые брови. Темно-медное лицо стало сердитым и упрямым. Задумался. Зачем-то потер небольшой с горбинкой нос. Черные глаза стали жесткими, заискрились злыми огоньками.
— На-ка, Ондре, трубку, запали-ка ее.
Мальчик быстро раскурил трубку и подал Самагиру.. Осип несколько раз затянулся и немного успокоился.
— Ондре, сынок, тебе ведомо, где милиция?
— Знаю, бабай.
— Вот, молодец. Там найдешь моево талу Воронцова. Скажи ему, што Оська Самагир лежит в больнице. Он шибко хочет с тобой баить. Пусть не мешкает, а то у Оськи дело худо. Раскумекал, чо сказать-то?
— Понял. Я, бабай, мигом добегу, — сказал Андрейка, собираясь уходить, потом спохватился, достал из кармана плитку шоколада: — Вот, бабай, с чаем покушаешь.
— О-бой, сынок, ты меня совсем маленьким хубунчиком сделал. Ешь сам… усладись вкусным камнем.
— Шоколад едят только больные. Разве ты, бабай, не слыхал про это? Спроси-ка у врача, — улыбаясь, сказал Андрейка и юркнул в дверь.
Через несколько минут запыхавшийся Андрейка остановился у здания милиции. Навстречу ему с высокого крыльца спускалась ярко разодетая девушка и, улыбаясь, рассматривала новенький паспорт.
На крыльце мальчик чуть задержался и про себя повторил поручение Самагира. Затем, открыв тугую дверь, оказался в небольшой комнате, где за столом сидел знакомый милиционер и разговаривал с мужчиной в нерпичьей шубе. Андрейка облегченно вздохнул. Сержант милиции Разуваев жил рядом со школьным интернатом. Он был очень веселым и общительным человеком, играл с ребятами в лапту, рассказывал смешные анекдоты и устраивал борьбу.
Вдруг распахнулась дверь соседней комнаты и оттуда вышел в сверкающих сапогах красивый лейтенант и позвал мужчину в нерпичьей шубе. «Сапоги-то как блестят!» — подумал Андрейка и вспомнил воспитательницу интерната Марью Алексеевну, которая часто бранила их за грязные ботинки.
— Здорово, сосед! Что случилось в нашем интернате?
— Здрасте, дядька Разуваев!.. Я… мне… меня послал дедушка Самагир… Велел позвать его талу Воронцова.
— Какой Самагир? А почему он сам не пришел сюда?
— Он лежит в больнице. Ему плохо, понял?
— Лейтенант Воронцов занят. Подожди, — сухо, по-военному, ответил Разуваев.
Зазвенел телефон.
— Дежурный по отделению сержант Разуваев. Вам кого нужно?.. А кто говорит?.. Хорошо, доложу… Нет. Он скоро придет.
Положив трубку, сержант потянулся и весело подмигнул. Теперь он походил на игривого соседа, а то был какой-то неузнаваемый, сухой, строгий.
— Ну, што, Андрюха, как дела-то?! — в голубых глазах забегали озорные бесенята. — Это ты с какой девчонкой вчера ходил в кино? А?! Уже одиннадцать, а ты с ней тары-бары у ворот!
— Ха, сказал тоже, вчера!.. Я только сегодня утром из дома.
— Фьюить! Верно, паря, я давно тебя не вижу.
— Болел гриппом.
— У-у, это плохо. Много пропустил?
— Две недели. Но я дома все время занимался, догоню.
Сержант закурил и загадочно улыбнулся.
«Сейчас что-нибудь выкинет! Уж я-то знаю дядьку Разувая!» — весело подумал Андрейка.
Милиционер взял лист бумаги и быстро написал несколько слов.
— Утром, Андрюха, я был на реке. Там обнаружил труп и составил вот этот акт. Прочитай-ка, товарищ, и скажи свои соображения. Проверим твою наблюдательность. — Андрейка взял лист и начал читать.
Акт
20 февраля 195… года.
Мною, сержантом Разуваевым, на берегу реки обнаружен труп. Пол неизвестен. По бороде — семейский[34].
К сему: сержант Разуваев.
— Читать быстро и без промедления обнаружить мою ошибку. Ну!
— Ха! тебя тоже называют семейским, а бороды-то нет.
— Ну, допустим, а еще что?
— Вай-вай! Ха-ха-ха! Пол неизвестен, а по бороде!.. Ха-ха-ха! Раз борода — то, значит, пол мужской! Ха-ха-ха!
Андрейка услышал позади себя шаги.
— О, у вас, товарищ, как на концерте Аркадия Райкина!
Веселое лицо Разуваева сразу стало сухим и строгим.
— К вам, товарищ лейтенант, по срочному делу, — милиционер кивнул на Андрейку.
В доме Буина сегодня большая радость. Буин привез из больницы жену с дочкой. Новорожденную нарекли Чимитой.
Бабка Чимита по-соседски домовничала у Буина и за эти дни вымоталась основательно. И сейчас, освободившись от тяжкого труда домохозяйки двух домов, она блаженно чаевничала.
— Значит, Осип-бабай в другой больнице лежит? — еще раз переспросила старуха.
— В другой, бабка Чимита, — убаюкивая дочку, ответила Ханда.
— Я-то уж разыскал бы его. Тайком бы и бутылку «московской» занес, — добавил Буин.
— Там, поди, Андрейка около бабая вертится… Вот уж дружба-то у них! Бедняжка, намытарился с Осипом, сколь страху принял.
— А виновница-то вот где! Твоя тезка! — приподняв ребенка, счастливо рассмеялась Ханда.
— Верно Ханда говорит. Тогдысь как было?.. Помните?.. Ханда свалилась на кровать и давай реветь, а бабка Чимита с ухватом наскочила на меня: «Пьянчужка, такой-сякой, запрягай скорей свою клячу!» Вот и забыли мы про Осипа с Андрейкой.
Взглянув в окно, бабка Чимита сердито отвернулась.
— Опять леший несет этого дьявола.
— Ты, Буин, не связывайся с ним… не давай ему коня, — робко попросила Ханда мужа.
— Ладно, не ной! — сердито огрызнулся Буин.
Расплывшись в широкой улыбке, ввалился Иннокентий.
— Здрасте, добрые люди. С прибылью вас. Дай бог здоровья Ханде и… как нарекли дочку-то?
— Чимита. Теперь у нас две Чимиты, — с гордостью сказал Буин.
Старуха сердито буркнула что-то, окинула неприязненным взглядом Кеху и пошла к выходу.
— Гони, Буин, этого, — старуха кивнула на Иннокентия, — эту рыжую собаку, душа у него черная, — сурово взглянула на соседа и вышла из дома.
Кеха был слаб в бурятском языке, но понял, что старуха крепко ненавидит его и велит не связываться с ним.
— И пошто она злится на меня? — Кеха состроил жалкую гримасу.
— Она не велит, штоб ты ходил к нам. Шибко ругает меня, — виновато качает Буин головой.
— Махай на этих старух. В девках они ангелы, а под старость чистые ведьмы.
— Не-е, Кеха, ты пошто такое болтаешь? Бабка Чимита у нас самый почетный человек. Она, паря, в молодости такой «ангел» была, охо-хо! В ущелье Семи Волков одна отбилась от белых солдат… Знаешь Чимитину скалу? Вот там она сидела, а тропа — только одному ходить. Один показался — она хлоп, второй вышел — его хлоп… Стрелять близко, ловко, беляки как на ладошке, а она на высокой скале — не достать ни рукой, ни пулей. …Э, паря, орел-девка была! Вот какая наша бабка Чимита, а ты — «ведьма»! — Буин сердито сплюнул.
— Ладно, Буин, не сердись. Была, значит, была, а теперь одна тень от былого.
— Не-е, Кеха, не болтай зря.
Мужики молча закурили. Кеха тихонько толкнул Буина и показал горлышко бутылки. Буин нахмурил брови и замотал головой.
Иннокентий удивленно поднял рыжие брови.
— Да ты што, Буин?! Девку-то надо обмыть… Хошь по старинке, хошь по-новому, все одно без водки не положено в мир вводить… Как-никак радость. У нас теперя на поминках упьются и песни играют, и в пляс пускаются… Там-то все-таки горе. А тут радость!
Буин угрюмо бросил:
— Сами сделаем. Ханда мала-мала поправится, — взглянув на Кеху, улыбнулся и продолжал: — Осипа-бабая из больницы привезем домой. Тогдысь барана резать буду, вина целый ящик куплю… Всех в гости! И ты, Кеха, приходи.
— Хы, паря, тебя не узнать, от бутылки попятился назад.
— Нет, дела много, трезва голова нада.
— Не хошь, как хошь… Буин, дай коня вывезти мясо… Чую, што сусед твой заявит в милицию.
Буин отрицательно трясет косматой головой.
— Сена нету, дров нету… коня самому нада.
— Мне же ненадолго. Вывезу мясо к ущелью Семи Волков и булькну его в Духмяную, пусть ищут… А потом достану и уволоку домой.
— Татэ-э, кака хитра!
— Небось будешь хитрым, когда прижимают тебя, как волка.
— Хэ, паря, дед Самагир-то, когда был молодой, тоже ходил Одиноким Волком, потом понял и сказал себе: «Неладно хожу по тайге». И стал самым честным охотником.
— Ну ево к лешему… со своей честностью — ни на себе, ни перед собой… Я накоплю деньги и куплю «Волгу». Посажу свою Мотю и пропылю по улице, пусть завидуют черти.
— Не-е, Кеха, мой Самбу надежней. Запрягу в сани и — чу, пошел! А твоя «Волга», глёзка, как налим… пока копишь деньгу, можно в тюрьму ходить. Не-е, паря, мой Самбу самый надежный машина, хе-хе!
— Чудак ты, Буин, ни черта не кумекаешь в жизни. Дык дашь конягу-то али нет?
— Нет, сама поеду. Сено нада тащить.
— Э-эх, испортился мужик… Ладно, на себе перетаскаю, — водянистые глаза Кехи загорелись злыми огоньками, стали сухими и даже красивыми.
Кеха завязал в понягу заднее стегно сохатого, огляделся кругом и покачал головой. «За два дня не перетаскать… Ничего, зато загребу кучу денег». При выходе из пещеры он увидел двух милиционеров, побледнел и, заикаясь, опустился на каменный пол.
— При-при-приветик… ка-жись, влопался…
— Нет, не кажется, а точно, — на суровом лице лейтенанта Воронцова появилась презрительная усмешка. — Что, струсил? А ну, веди-ка нас в свою нору.
Трясущимися руками Кеха достал из кармана пачку «Беломора», сунул папироску в рот табачной стороной и стал зажигать мундштук.
— Поверни папироску-то, кажись, очумел, — заметил сержант.
— О-очумеешь с вами, в такой дыре и то нашли.
Качаясь, словно пьяный, Кеха вошел в пещеру.
— Фьюить! — удивленно свистнул сержант Разуваев. — Вот это накромсал мяска, можно зимовать!
— Пра-правильно, мо-можно, — с надеждой в голосе проговорил Иннокентий, — а што если заберете половину мяса себе… Я — ящик водки поставлю, и по-мирному разойдемся. Ведь тайга…
— Ах ты, гад! Ты нас за кого признаешь? — в бешенстве повернулся Воронцов.
— Свои па-парни, а как волки, — простонал Кеха.
— Ты-то вот настоящий волчина, сколько зверей сгубил, подлец! — лейтенант закурил и кивнул Кехе: — Идем наверх, а ты, Коля, хорошенько прошарь все углы.
«Ох, господи, я ж забыл веревку-то снять!» — полоснула Иннокентия страшная мысль.
— Идем! — приказал милиционер.
— А там-то что делать, одни камни.
— Идем, идем!
Когда поднялись на скалу, Кеха заплакал.
— Сгу-сгубить со-собрались… Все ви-вижу…
— Вот что, гражданин Ерошкин, мы все знаем, и вам придется рассказать обо всем, не отпираясь. Сами видите, вы влипли так, что лучше некуда: все вещественные доказательства налицо… Мясо… вот эта веревка, за которую вы держались, чтоб не свалиться вместе со снежной глыбой. Снегопада не было, и ваши следы все тут. А ну, примерим.
Кеха безнадежно махнул рукой и опустил голову.
— Не надо. Все равно тюрьма.
— Да, придется отвечать.
«Кап, кап, кап»… — капают капели.
«Вот уж и марту приходит конец… У нас в Баян-Уле на маряне[35] растаял снег и там пасутся козы и изюбры. Наверно, Чимита уже посматривает в окно. Ондре вчера написал ей письмо, штоб, значит, готовила мясо на позы и пельмени. Сенца-то, наверно, Буин подвез… И зачем только эмчи-бацаган[36] держит меня в больнице. Кто бы знал, до чего надоели Оське эти белые стены, потолки, болезный люд и порченый воздух. На таком воздухе эвенку одна погибель. Нет, надо баить с эмчи-бацаган, не отпустишь, мол, добром, Оська, сбежит. Эвенк врать не будет», — размышляет Самагир.
— Дедушка Самагир, вас приглашает Елена Васильевна.
— Она где?
— У себя в кабинете.
«О-бой! Однако, шибко серчать буду, если не отпустит», — решил старик.
Осип торопливо прошагал по коридору и, не постучавшись, вошел к хирургу.
— Мендэ, эмчи! Чо, однако, звала?
— Здравствуйте, дедушка Самагир! Присаживайтесь, пожалуйста… Как себя чувствуем?
— Пасибо. Совсем здорова.
— Вот и прекрасно. Вы уж давно проситесь домой, — Елена Васильевна добродушно улыбнулась, — покажите-ка руку. Так… так… Ну что ж, придется отпустить вас. Только обязательно приезжайте через две недели, тогда снимем гипс. А сейчас — идите к Варваре Куприяновне и переоденьтесь в свою одежду.
— Пасиба, эмчи, шибко буду помнить тебя, шибко пасиба! — Осип весело заулыбался, засуетился и, поклонившись, вышел в коридор.
Через четверть часа, одетый в свою теплую зимнюю одежду, Самагир предстал перед Еленой Васильевной.
— О-бой, эмчи Лена Васильевна, ты стала — как родня. Будь добра, летом ездить к нам в Баян-Улу, ладна, а?..
— Постараюсь… обязательно приеду! Я люблю тайгу. Ведь мой папа тоже охотник, как и вы.
— Вот-вот! Зови его в Баян-Улу. Вместе ходите.
Прощаясь, Самагир легонько, чтоб не причинить боль, пожал маленькую ручку Елены Васильевны, низко склонил седую голову, болезненно сморщил лицо и виновато проговорил:
— Оська-то… отдуй ево бичом Игнашка Золотарь, хотель сердито баить, если не пустишь в Баян-Улу. Вот ведь какой тунгус!..
Елена Васильевна весело рассмеялась.
Выйдя из больницы, Самагир долго стоял посреди улицы, любовался далекими гольцами и с наслаждением дышал чистым свежим воздухом. «Давно ли я легонько переваливал через эти гольцы, а теперь… Коротка же тропа человека. — Наплыли невеселые мысли: — Э-эх, пошто так рано ушли в Страну предков Антон с Домной… Не успел бы перешагнуть через порог дома, как у Домны зашумел самовар… А Антон бы поставил бутылку!.. Э-эх, почему хорошие люди так по малу живут на этом свете, вроде бы сами спешат скорее уйти на Нижнюю землю… В ихнем доме живут незнакомые люди… Как зайдешь?..»
Горестно махнул рукой, ссутулился и шатко поплелся вдоль улицы в поисках попутной машины.
Повезло старику. Остановился «газик» с будкой. Из кабины высунулась черная кудрявая голова.
— Ты, дед, куда?
— В Баян-Улу нада.
— Садись в будку. Только я заеду в Глушман на лесосеку.
— Ладна.
Лихой шофер попался. Самагир выглянул в окошечко, и ему стало не по себе. Мелькают и кружатся деревья, ветхая будочка трясется, словно в лихорадке. Машина была загружена кормовой солью. «Груз-то дешевенький и такой же попутный старичонка сидит, вот и катит сломя голову, — думает Осип. — Какой уж там оленю, пуле не догнать. Ладно, пусть несется быстрее ветра, скорей довезет. Удалый парень попался, веселый. Скорей увижу свою Чимиту. Хороший чай она сварит, и мы долго будем пить: молча, степенно, не спеша будем пить. Хорошо будет! А потом попрошу ее сготовить позы или пельмени. Позову соседей и угощу «огненной водой»… А как встретит меня Тумурка?.. Будет скакать, лаять на меня. «Где пропадал, старый шатун?» — спросит он. О-бой, хорошо у нас в Баян-Уле!»
Долго трясся Самагир. То ли от качки, то ли от бессонной ночи — он крепко заснул.
Машина резко остановилась. Больно стукнувшись об перекладину, Осип проснулся. В окошечко он разглядел голую гору. «Шофер-то сказал, что заедет в Глушман. А это? Там же почти сплошной кедрач, днем солнца не увидишь», — недоумевал Самагир. Он, кряхтя, спустился на землю и подошел к кабине. Оттуда высунулась кудрявая голова, и на солнце блеснули ровные чистые зубы.
— Ну как, дед, здорово пропылили?
— Кака там пыль, одна соль, — не поняв смысла слов шофера, сердито ответил Осип.
— Ты, дед, покури, а я отвезу эту даму с ребенком в барак и вернусь. Потом сядешь ко мне в кабину, здесь мягко и тепло, как в Крыму.
— Ладна, будем курить.
— Вишь, дорога-то — одни ухабы, затрясет тебя.
— Ладна, ладна… Э, паря, ты баил в Глушман заедем?
— А это што?.. Разве не Глушман? Вот речка Глушман. Вот тайга Глушман.
— Эта… эта Глушман?.. А где тайга-то?.. И речки-то нету.
— А это што?! — шофер показал на голые горы, заваленные сучьями и обломками деревьев, дал газу и понесся куда-то в гору.
— Ты — Глушман? Пошто тебя не узнать? — по стародавней привычке вслух спросил у тайги Самагир.
И так же вслух ответил:
— Это Ерноуль искромсал мой душмяный кедровник!
— Где та говоруха-речка с проворным хариусом?
— Вот я, — чуть слышно прошептал грязный ручеек.
Не веря своим глазам, Самагир топтался на одном месте.
С грохотом подошел лесовоз и остановился у мостика. Из кабины выскочил молодой паренек, деловито осмотрел машину и покачал головой.
— Дотянем, нет? — спросил он у кого-то.
— Дотянем! — ответил сам и весело посмотрел на Самагира.
— Садись, отец, подвезу.
— Пасиба, мне в Баян-Улу нада.
— А-а, значит, не попутчик.
Лесовоз с грохотом умчался вдаль, и Самагир снова остался наедине с тайгой. Его внимание привлекла прилепившаяся к подножию горы белая, как церковь, известняковая скала.
«Лопни мои глаза, если это не та скала!.. Под ней ключик. А рядом стояла юрта Антона». Спотыкаясь о пни и обломки деревьев, старик поспешил к скале.
— Верно, паря, кажись, — прошептал старик.
У скалы стояла полусгнившая юрта.
Тяжело дыша, раскачиваясь, словно пьяный, Осип подошел к развалюхе. Через дыру в крыше заглянул внутрь юрты и на передней стенке разглядел вырезанное ножом клеймо: «А. С».
— Это талы Антона знак. Два дерева по краям, а в середине его имя.
Из далекого прошлого, словно из густых облаков, выплыл образ друга: русые волосы, широкое полнокровное лицо, из-под густых насупленных бровей твердо смотрят смелые глаза.
— Вот, тала, что сотворили с твоим Глушманом, — громко проговорил эвенк. — Мотри-ка, мотри-ка, паря.
Антон укоризненно покачал русой головой и снова исчез в густых облаках, несущихся на юг.
За горой стоял сплошной гул. Там валили лес.
Старик поднялся на бугорок и посмотрел на окрестность.
Искалеченная тайга умоляла Самагира прогнать жестоких лесорубов.
— Глаза мои, закройтесь, чтоб не видеть эту беду! — беззвучно воскликнул эвенк.
По темно-медным морщинистым щекам старика текли слезы.
Крепко спится после дальнего пути.
«Пусть отдыхает. Столько бед свалилось на плечи старика… Но теперь он дома, слава бурхану…» — шепчет Чимита. Осторожно, чтоб не звякнула ручка, старуха взяла подойник и бесшумно вышла на двор.
А Самагир спит себе и видит сон. Сидит он на вершине гольца Двух Близнецов и любуется тайгой.
Лучи сентябрьского солнца мягким теплом окутали таежную землю. Нежно-зеленая, убегая вдаль, она покрылась прозрачной голубизной, а там, далеко-далеко, где едва маячат горы, ее одела сочная синь.
Листья на деревьях походят на драгоценные камни, ласково перешептываясь в любовном трепете, весело сверкают зеленью, золотом и жарким багрянцем.
Под сентябрьским солнцем тайга, разнаряженная драгоценными камнями, радуется счастливому бытию и поет веселые песни.
Обласканная, она блаженно улыбается и снизу доверху наполнена светлой легендой.
Причудливыми изгибами вьется по тайге тропинка. Она начинается далеко за пределами здешнего леса, где горбатые горы своими могучими плечами подпирают небосвод и почти круглый год сверкают снежными шапками. С горы на гору, с холма на холм она торопливо бежит в долину Великих Солонцов — Мигдельгун. Знаменит Мигдельгун. До сорока изюбров приходят сюда на ночь лизать соленую землю.
Тропинка протоптана большими и маленькими копытами зверей, ходивших ею на солонцы с незапамятных времен.
Вон величаво шагает сохатый, а там дальше, грациозно, словно пританцовывая, бежит изюбр, стремительно несется напуганная кем-то коза. А за ними крадучись скользит по тропинке хищная рысь, чуть приотстал неторопливый медведь. Вокруг желтого калтуса воровато трусит волк, а по осиннику бесшумной поступью идет гадкая росомаха.
Но тайга чем-то встревожена. Она с волнением смотрит на юг и юго-запад, где стонет соседний лес, откуда разгоряченный воздух приносит волны едкого дыма. Там человек пускает пожары, там сплошь вырубают леса.
Вдруг появилась черновина, потом вторая, третья… Их так много, что не перечесть: как муравьи, они идут на тайгу. Все ближе, ближе. Да это же тот лесовоз с молодым веселым пареньком, который приглашал Самагира ехать с ним. А позади много-много лесовозов и тракторов.
— Ох, горе мне, горе! — запричитала тайга. Вначале такая празднично-веселая и прекрасная, вдруг она нахмурилась и окуталась свинцовыми тучами, и первые капли дождя рассыпавшимися дробинками ударились по сухим листьям деревьев, зашуршали в хвое. Посыпал мелкий осенний дождь. Тайга стала серой, морщинистой, неуютной. Зашатались, загудели лесные великаны.
Проснулся Самагир с тревогой в сердце и вспомнил, что сталось с Глушманом.
— Пошто рубят без оглядки?.. Брали бы зрелый лес, а молодняку давали бы подрасти: ущерба тогдысь не будет… Эх-ха, худо делают, — вслух ворчит Осип. — Слава богу, што Сватош мою Малютку-Марикан сделал заповедником. Теперь там даже траву не дают топтать, а не только срубить палку. — Заповедник! Добрую штуку выдумали люди.
По темно-медному лицу Осипа расплылась довольная улыбка. Он вспомнил, что батыр Ленин оставил бумагу, на которой своей рукой написал, чтобы люди хранили от разора тайгу и всю живность, чтоб не поганили всякой нечистью реки и озера…
— Не-е, не порубят наш лес! — уверенно сказал он и подошел к окну.
Спотыкаясь о камни, Духмяная стремилась вниз к Байкалу. А за рекой спала крепким сном безмятежной юности его любимая тайга.
ПАРЕНЬ ИЗ ИРИНДАКАНА
Быстро собрав удочки, Бронька спустился в подполье. Ощупью нашел ящик с бармашом и начал горстями пересыпать его в бармашницу. Юркие бокоплавы приятно щекочут ладонь, стараясь проскользнуть между пальцев. «Живехоньки!» — порадовался парень.
Выбираясь из тесной лазейки, он больно стукнулся.
— Пол не свороти, медведь! — улыбаясь, встретила сына Ульяна Прокопьевна.
— Ты куда ходила?
— Опять бармашить собрался? — вместо ответа спросила Ульяна. — А прибегут за тобой, что говорить?
— Скажи, сегодня воскресенье, склад закрыт… Вот и все.
Торосистое ледяное поле Байкала усеяно черными точками. Некоторые из них движутся, а большинство застыло на одном месте. Нагнувшись, в напряженном ожидании сидят любители-рыболовы, или, как у нас их называют, бармашельщики.
— Эх, черт, опоздал, кажись! — Недовольный собой, Бронька быстро шагает к своей «Камчатке». За ним, подпрыгивая, тащится старенькая нарта, подбитая стальными надрезами. На нартах пешня, сачок, бармашница, закрытая рваной шубенкой.
Запыхавшись от быстрой ходьбы, Бронька наконец дошел до своей «Камчатки» — крохотной круглой загородки от ветра, сложенной из снежных кирпичиков. Продолбив лунку, он опустил в прозрачную воду изрядную порцию юрких бармашей и начал разматывать удочку.
Пройдя пятнадцатиметровую толщу воды, свинцовое грузило удочки легло на почву. Бронька сделал несколько мотков на мотыльке — на коротенькой палочке, на которую бармашельщик наматывает леску. «Теперь будет ладно… попробуем, что есть на дне…»
Вскоре кто-то слегка тронул удочку. «Хайрюзок клюнул», — подумал Бронька и начал мотать. Из лунки показался черный, скользкий, безобразный бычок. Бронька брезгливо отцепил рыбу и выбросил за «Камчатку». Заглянув в лунку, Бронька различил в полуводе сига… Вот стремительно летит вверх «морсак». На ходу раскрыв пасть, он проглотил свою жертву. Бронька ловко подал ему «мушку», удивительно схожую с бармашом, но гораздо красивее и сочнее живого. Рыба, не задумываясь, схватила приманку, Бронька этого только и ждал. Он мгновенно натянул лесу и начал спокойно наматывать ее на мотылек и лопаточку. «Морсак» отчаянно сопротивлялся, но опытная рука рыбака неумолимо тянет его вверх. Еще мгновение — и хариус бьется на льду.
Обрадованный, парень бросил в воду еще пригоршню бармашей, чтобы подзадорить рыбу и «поднять» ее еще выше под лед.
После хариуса попался сиг. Он шел более спокойно, будто считая неприличным попусту трепыхаться, и лишь временами давя на леску своей двухкилограммовой тяжестью.
Уже через пару часов в Бронькиной «Камчатке» красовались штук с десяток сигов и хариусов.
Опустив в воду очередную порцию бокоплавов, Бронька вымотал удочку и вышел из «Камчатки». На море стояла звенящая тишина. Люди словно примерзли ко льду. Сидят и не шелохнутся.
— Значит, у всех клюет, а то бы бегали от «Камчатки» к «Камчатке», — проговорил парень.
Весна в этом году началась безрыбная. А тут — удался же день! Теперь не будет ворчать старый Захар Захарыч: «Больше бармаша сыплю, чем рыбы добываю!..»
С радостно блестящими глазами Бронька вдохнул полную грудь уже сильно пахнущего весной воздуха и, выпрямившись, огляделся.
Апрельский Байкал, удивительно новый, огромный, как будто впервые им увиденный, поразил его. Позабыв обо всем на свете, он взобрался на соседний торос. Отсюда был хорошо виден полуостров Святой Нос, который так четко выделялся в этот день над ледяной поверхностью и так походил на красивый охотничий нож.
Весеннее солнце ласково скользит по широкой глади, щедро обливая ослепительным светом все окружающее. Под яркими его лучами голубые дали стали вдруг воспламеняться радужным маревом, задрожали и ожили громады синих гор и стали похожими на ожерелье из драгоценных камней.
Бронька, улыбаясь, жадно всматривался в неповторимые виды. «Какая же красота!» — тихо произнес он. Собственный голос ему показался глухим, слабым и совсем чужим. Постояв еще с минуту, он соскочил с тороса и зашел в «Камчатку».
Заглянув в лунку, он опешил. Совсем близко, прямо тут же, подо льдом, ходили огромные, с толстыми зеленоватыми спинами сиги. При виде такой благодати Бронька трясущимися руками стал разматывать удочку. Желто-зеленая «мушка», как живая, забегала в воде.
Вот один из сигов, заметив приманку, повернулся в ее сторону и не спеша захватил ее в рот. Вслед за этим сигом очутились в «Камчатке» и еще несколько.
Бронька так увлекся своим занятием, что не заметил, как к нему подъехал на рыжем жеребце человек в новеньком бобриковом пальто.
— Да стой, дурак! — сердито крикнул он на лошадь.
Бронька поднял голову и увидел Семена Черных, председателя местного рыболовецкого колхоза. Поднявшись в кошевке, Черных сердитым взглядом окинул окружающие «Камчатки». Буркнул под нос какое-то ругательство и пошел к Броньке.
— Здорово!
— Здравствуй!.. — Бронька, вымотав удочку, вышел из «Камчатки».
— Поедем, Броня, надо открыть склад.
— Дали бы хоть в воскресенье отвести душу.
— Там приехал заготовитель… надо ему сплавить мелочь-то, а то не дай бог рыбоохрана заглянет…
— Ну и пусть заглянут! — сердито выкрикнул Бронька.
— Пусть, пусть!.. Тебе ладно говорить, а отвечать мне.
— Ну и отвечай!.. Давно бы надо тебя за шкирку… Спасибо скажи, что молчу.
— Тебе, щенку, спасибо?
— Ты, дядя Семен, не шибко-то… а то могу…
— Еще и грозиться вздумал?! Садись в кошевку!
— Не поеду, и все!
— Ах, щенок, да я тебя!.. — Черных угрожающе подступил к парню.
Бронька схватил пешню.
— Шагнешь еще, приколю!.. Мотай отсюда!.. Слышишь!.. — Черные красивые брови парня сдвинулись, а темно-серые глаза заискрились злыми огоньками.
Семен, бледный, раскрыл рот, но, не сказав ни слова, в испуге замахал руками и, быстро повернувшись, бросился к кошевке. Отъехав за торос, он вскочил на ноги и визгливым бабьим голосом крикнул:
— Бандюга, в тюрьме сгною!.. Так и знай!.. Захар Захарыч все видел. Сейчас же в милицию позвоню.
Ткнув кнутовищем в сторону шедшего к Бронькиной «Камчатке» пожилого рыбака, Черных яростно хлестнул коня и умчался на берег.
Бронька заскочил в «Камчатку» и начал сматывать удочки.
— Ты что так рано домой? — как-то хрипло спросил Броньку Захар Захарыч.
Парень сердито взглянул на соседа и молча забрал удочки и бармашницу. Все это бросил на нарты и беспричинно туго затянул веревкой.
Захар Захарыч покачал головой, вздохнул и набил трубку табаком.
— Дай-ка, Броня, огонька.
Парень молча подал спички и с досадой посмотрел на спокойное лицо старика.
— С чего это Семка расшумелся?.. Водки не хватило, что ли?
— Чокнулся петушина — вот и орет… Склад, ему открой!
Вечером того же дня к Захару Захарычу пришла Бронькина мать — Ульяна Прокопьевна.
Старый рыбак весело рассказывал своей старушке об удачах прошедшего дня:
— Слава богу, за всю весну хоть одни денек удался, а то, бывало, фунтов пять-шесть вывалишь бармаша, а добудешь одну козяву.
Гостеприимные хозяева радушно пригласили соседку к столу, но Ульяна отказалась от ужина.
Усевшись на диван, она молча слушала словоохотливого старика. Ее большие выразительные глаза и бледное лицо выдавали тревогу.
Когда-то веселая, красивая, Ульяна Прокопьевна вот уж сколько лет намертво замкнулась; в ее серых глазах застыла тоска, ка светлое лицо легли морщины. И все это произошло после того страшного дня, когда она по складам читала извещение о гибели мужа на фронте. Это случилось после 9 мая 1945 года. Тогда весь народ ликовал, и многие-многие со дня на день ждали из армии своих дорогих, своих родных. А Ульяне и Броньке стало некого ждать…
Ульяне Прокопьевне тогда было всего тридцать лет. За плечами остались тяжелые годы войны. Пять лет мужского труда в неводной бригаде. Летом по пояс в холодной воде, а зимой целый день в руках тяжелая стальная пешня, которой долбишь толстый лед.
Вы знаете, что это такое? Снег и вода, смешавшись под ногами рыбаков, напоминают молочный кисель. В ичигах хлюпает вода… мороз градусов на тридцать-сорок, да вдобавок «ангара» со свистом. Это ветер. Пронизывающий, не ослабевающий ни день, ни ночь.
Пять лет ждала Ульяна мужа, не запятнав чести замужней женщины. И вот, в тридцать лет, с цветущим здоровьем, она осталась вдовой. Молодое тело тянулось к крепкой мужской ласке, но она, заглушая в себе внутренний крик тоски, боли и еще чего-то неодолимо сильного, отстранилась от всех, глубже замкнулась в себе.
Шли годы… Сватались. Получали отказ. Отстали.
Тем временем рос и Бронька. Закончив десятый класс, он два года рыбачил, а затем решением общего собрания его неожиданно назначили кладовщиком. Это была хорошая должность. Но не для Броньки. У него сразу же пошла полная «несварка» с председателем колхоза Семеном Черных.
— Захар Захарыч, я к вам пришла…
— Знаю, все видел.
— Семен-то, говорят, звонил в милицию.
— Не бойся, Уля, страшного ничего нет.
— Посадят?
— Нет… Из-за чего они цапаются?
— Леший их знает. Бронька-то молчит. Он знает за Семеном какие-то грешки, никому не баит, а наедине с ним прямо в драку лезет…
— М-да-а… Надо подумать, что делать.
— Замучилась с ним, какой-то у него «керосиновый» характер.
— Молодой еще, горячий… Плохо, что не любит советоваться.
— Ты уж, Захар Захарыч, помоги, посоветуй, как быть…
— Ладно, подумаю. В общем-то, Уля, не убивайся.
Через день Захара Захарыча вызвали в контору колхоза. В коридоре его встретил Семен Черных.
— Проходите, проходите, милый человек, — умильно улыбаясь, председатель пожал руку старику.
— Зачем звали? — сурово спросил Захар Захарыч.
— Вы видели, как этот хулиган Бронька Тучинов хотел заколоть меня пешней… Вот по этому поводу.
— Ничего я не видел… Слышал, как ты кричал на него.
Старик резко отвернулся и зашел в кабинет.
За столом сидел молодой человек в милицейской форме На белых погонах пара звездочек.
— Вы меня звали?.. Фамилия моя Громов…
— Да, пришлось вас пригласить по поводу вот этого дела, — лейтенант подал бумагу. — Садитесь поудобнее.
Захар Захарыч достал очки, медленно протер. Долго читал старик. Огрубевшие, ревматические пальцы старого рыбака мяли исписанный красивым почерком лист так, что милиционер с опаской посматривал на его «медвежьи лапы», которые невзначай могли испортить следственный документ.
Прочитав, Захар Захарыч закурил и тяжело вздохнул.
— Ну, как, старина?
— Есть доля правды, Бронька нагрубил ему, а больше-то этого… Худого не было.
— Мне известно, что вы ветеран колхоза, пенсионер, человек, пользующийся всеобщим уважением, и я вправе надеяться на вашу помощь в деле выявления хулиганского поступка Тучинова.
— Бронька вырос на моих глазах, родители у него — люди правильные, правда, вырос он без отца, но мать сумела воспитать доброго работягу и честного человека.
— Значит, по-вашему выходит, что товарищ Черных, руководитель, депутат, коммунист, оклеветал Тучинова?
— Черных хочет отвязаться от Броньки. По-моему, он знает кое-что из его делишек… Не очень чистых!
— А что же тогда Тучинов молчит?
— Вот здесь-то и зарыта собака… Я у него сколько раз спрашивал, но он, как немтырь, промычит и все… Чую я, что и мать в этом повинна.
— То есть как виновата?
— С детства приучила его видеть и молчать… По старинке… по-таежному, значит, обычаю.
Лейтенант долго тер правую бровь, закурил. Тишину нарушало лишь тиканье висевших на стене «ходиков».
— Значит, товарищ Громов, в этом случае лишь грубость?
— Не больше. И бумагу пачкать не стоит.
— В общем, отказываетесь от показаний?
— Да.
— Распишитесь.
Милиционер уехал. В Ириндакане дня три-четыре судачили вокруг этого случая. Всезнающие бабы уже «посадили» Броньку, а наиболее сердобольные из них всплакнули за несчастную Ульяну.
Бронька вскоре после этого подал заявление об увольнении из колхоза и стал часто выпивать с заезжими шоферами.
Вот и сегодня заехал Юрка Петров с дружками. Ульяна молча поставила на стол закуску и ушла к себе в спальню.
— Вы что же, хозяюшка, с нами не выпьете? — приглашают шумные, веселые шоферы, но Ульяна молчит или нехотя, односложно отвечает на навязчивые вопросы проезжих. Не до них!
Бронька, подражая шоферам, одним залпом опрокидывает стопку, заедает соленым омулем и рассказывает им, как милиционер «продувал ему мозги» за Семена Черных и обещал привлечь к суду, если повторится жалоба.
Шоферы смеются и советуют:
— Брось, Бронька, всю эту муыку и подавайся в город…
Бронька задумчиво, словно сам с собой, говорит:
— Не сумел я сойтись с Семеном. Не хотел я… Да что там, пусть другие расхлебывают его уху!..
— Правильно, паря, уха у вас хорошая, — вмешался в разговор пьяный пассажир, не понимая сути разговора.
Все рассмеялись.
Шоферы — лихой народ — были по душе Броньке. Особенно любит он наблюдать в ночной мгле за движущимися грузовиками. Машина тогда походит на злого дракона с огненными глазами, несущегося в неведомую даль.
На шумном заседании правления колхоза, где утверждался состав бригад из летнюю путину, разобрали и заявление Бронислава Тучинова.
Выступивший Семен Черных нарисовал картину «нападения» на него, и как, благодаря своей смелости, он избежал смерти. В конце речи он решительно заявил:
— Или Тучинов, или я. Ищите себе другого председателя, а я не могу больше с ним работать… Какой-то салага-кладовщик не хочет мне подчиняться, да еще пешней чуть не пырнул. Пусть спасибо скажет, что я его простил и уговорил следователя не оформлять в суд. Характер у меня не позволяет сделать зло человеку… Жалко Ульяну… А Броньку надо выгнать.
Броньку отпустили на все четыре стороны. Сдав склад, он стал собираться в Улан-Удэ, где жил Глеб Максимович, фронтовой друг отца. Старый геолог был влюблен в Байкал и не пропускал случая побывать на море. А еще любил Глеб Максимович отведать сиговый пирог Ульяны Прокопьевны.
Они с Бронькой часто ходили в море бармашить или ставить сети. На рыбалке он рассказывал про северную тайгу, про эвенков, но больше всего, конечно, про геологов.
Хитро прищурив голубые глаза, однажды он неожиданно спросил:
— А ты, батенька мой, куда метишь?
Получив невнятный ответ, покачал седой головой и, устремив взгляд в голубую даль, словно сам с собой заговорил:
— Да, у тебя, парень, малый замах на жизнь… Я бы на твоем месте, Бронислав Тучинов, окончил институт, и айда в тайгу с поисковой партией… Эх, черт возьми, что может быть интереснее этого!..
А потом, словно очнувшись от полузабытья, спросил:
— А разве я неправ?
Такие разговоры повторялись в каждый приезд Глеба Максимовича. И каждый раз он внушительно добавлял:
— Ты же потомственный таежник. Дед твой и отец были знаменитыми медвежатниками. А охотник и геолог — два брата.
— Оглашенные они, как черти, ваша геологи, всю дорогу ищут и ищут, будто потеряли невесть какую ценность, — улыбаясь, вмешивалась Ульяна Прокопьевна. — Вы уж не сманивайте его в город.
— А что, разве плохо?
— Да я все боюсь… приезжал лонись мой племяш, ох и страшенный же он. Волосы как у Коли Кошкарева (был у нас добрый, но блаженный такой человек), штанишонки узенькие, вечером целый час кряхтит, снимает, ну и утром тоже, одно мученье… А силенки никакой… Все у него из рук валится.
В обед к Тучиновым забежали братья Петровы — Анатолий и Юрий. Они уже давно дружили с Бронькой. Зашел и Захар Захарыч.
Ульяна Прокопьевна поставила на стол бутылочку «столичной» и сиговый пирог. Потомственная рыбачка, она умела печь отличные рыбные пироги. Пирог у нее получался сочный, душистый, пышный.
— Проходите за стол, дорогие… Захар Захарыч, Толя, Юра… Садитесь, кому где нравится, — Ульяна Прокопьевна уголком платка утерла набежавшую слезу, разлила водку и, согнувшаяся, сразу постаревшая, села у краешка стола.
— А Броня-то где? — спросил Захар Захарыч.
— Собирается.
Зашел раскрасневшийся Бронька и подсел к Юрке. Они были почти в одних годах и считались «корешами».
— Ну, что же, дай бог счастья тебе, Броня… Кати прямо к Глебу Максимовичу, он худому не научит. — Захар Захарыч хотел еще что-то сказать, но махнул рукой.
При прощании Ульяна Прокопьевна, все сдерживаясь, чтобы не заплакать, напутствовала дрожащим изменившимся голосом:
— Ты уж, Броня, в городе-то осторожней будь, там народ бедовый… Тетке-то Клаве привет передай и омульков. А Глебу Максимычу поклон. — Ульяна подала Броньке фанерный ящичек с посылкой, схватила его за широкие плечи, взглянула в светлые серые глаза и уже твердо сказала: — Ладно уж, езжай… я…
— Мама, береги себя… буду часто писать… посылать деньги.
— Не пей там, одно прошу, не пей и не «керосинь» с людьми.
— Я же не пью, сама знаешь… только вот последнее время из-за Семена… думал, легче будет.
— Вот и хорошо, сынок… Я верю тебе.
Бронька ехал с Анатолием. Дорога узенькой змейкой вилась средь живописнейших лесов Байкальского Подлеморья. Что ни поворот, то новый пейзаж. Дух захватывало, когда машина вылетала на берег моря.
— Фу, черт, наваждение какое-то, поневоле засмотришься, а тут тебя кювет ждет, того и гляди кверху колесами полетишь, — смеется Толя. Довольный своим «газиком», он словно гладит сильными руками по черной отполированной баранке.
Выросший в среде байкальских рыбаков, у которых с раннего детства развивается цепкая наблюдательность, Бронька сразу же заметил, что Толя любит и старательно ухаживает за своей машиной. В кабине было чисто, как у доброй хозяйки в избе, спидометр показывал шестизначное число, а «газик» выглядел словно с иголочки.
Перед Гремячинском Бронька еще раз взглянул на родное море и, зажмурившись, отвернулся. Сердце заныло. Мрачные мысли заполнили всю его душу. Ему захотелось пересесть на встречную машину и вернуться в Ириндакан.
На Хаиме их обогнала молоковозка. Юрка остановился залить воды и сообщил:
— Хлопцы, на молоковозке-то «русалка» сидит и на всю железку жмет!
Поспешно вылив воду в радиатор, Юрка вмиг скрылся за поворотом.
— Холостяк! — усмехнулся Анатолий. — А мы по-стариковски пойдем, куда спешить-то.
«Русалку» и Юрку догнали в Кике. Юркина машина стояла впереди.
— Обжал ее Юрка-то…
Хорошенькая девушка-шофер уныло смотрела на помятое крыло и спущенный баллон.
— Спустил?
— Вишь, облысела резина.
— И давно получила эту «блондинку»?
— С десяток дней грешу…
— А все же грешишь, сестренка? — спросил Юрка.
— Да еще как! — улыбнулась девушка. Юрка усердствовал. Он снял из кузова свою «запаску» и с ловкостью старого автослесаря приступил к работе, а Толя с Бронькой начали приводить в божий вид пострадавшее крыло.
Зажав в середку «русалку», братья мчались по узенькой долине Итанцы. Пестренькие деревеньки одна за другой оставались позади. В селах через каждые два-три почерневших от времени дома, подбоченясь, красовался новенький. А вон старенькая хата, сбросив обомшелую крышу, накрылась серебристым шифером да еще и украсилась замысловатым фронтоном. «Расфрантилась кикимора, что твоя купчиха», — словно ворчат ее соседки-сверстницы.
И так деревня за деревней. У каждой своя жизнь, своя история.
Бронька начал было клевать, но водитель зло окрикнул:
— Не дремли, а то и меня потянет!
— Пройдет. Виновата Итанца — ни края, ни конца.
— Слушай, Броня, куда думаешь идти?
— В геологоразведку.
— За длинным рублем погнался?
— За длинным. — Бронька тяжело вздохнул, а затем, взглянув на товарища, предложил: — Давай, Толик, споем о славном море.
В Улан-Удэ приехали лишь к ночи. Во мгле город, освещенный электричеством, купался в волнах дымного нездорового воздуха. Резкие сигналы далеких поездов вызывали у Броньки тревожные размышления.
В городе жила младшая сестра Ульяны Прокопьевны Клава. Муж у нее работал где-то на севере, на золотых приисках. Писал короткие письма и переводил много денег. Единственный их сын Валерик, не закончив школу, стал зачем-то отращивать баки, носил огромную шевелюру и мучил себя несуразной стильной одеждой. С помутневшими от безделья и пьянки глазами он лениво слонялся по городу. А тетя Клава, как ожиревшая уточка, целыми днями крякала в комнатах душной квартиры.
Броньку встретили с холодком. Да и он почему-то всегда чувствовал к ним неприязнь.
Весь следующий день Бронька потратил на поиски непоседливого Глеба Максимыча. И только к вечеру кое-как застал геолога в его рабочем кабинете.
— Приветствую! Приветствую, Броня! — расплывшись в широкой улыбке, крепко жал Бронькину руку Глеб Максимыч. — Ну и вымахал детина! Весь в папу!.. А как мамаша чувствует себя?
— Нормально… Что-то не приезжали к нам? — невпопад спросил растерявшийся Бронька.
— Ох, милый мой, знал бы ты, как я соскучился по Байкалу! Но работа… работа не отпускает…
— Работа не волк, в лес не убежит, — усмехнулся Бронька. Тут же мелькнула мысль: «Зачем же это я повторяю поговорку Захара Захарыча? Надо бы говорить о другом».
— Теперь, Броня, так не рассуждают… А как рыбалка?
— Средняя. По тонкому льду закидные невода добыли хорошо, а сетовые бригады плоховато.
— По делам колхоза прибыл или так, по личным?
— Приехал поступать на работу.
— Ба-ба-бах! Ты, Броня, смеешься?!
— Нет, правду говорю, как есть.
— Что-то не верится. Ты же так любишь море и свою рыбалку. Сколько агитировал тебя в геологию, в институт… а ты только мычал. А тут — на тебе!..
— Так уж пришлось.
— А что случилось-то?
Бронька покраснел. От напряжения выступили мелкие капельки пота. Вынув платок, он провел по высокому лбу и, запинаясь, сбиваясь, начал говорить:
— По правде говоря, это… Ну, этот… этот Семен Черных заставлял меня принимать на склад рыбью молодь… Лезет же в снасти такая мелочь пузатая: сижата, омульки и прочая шантрапа. Эту молодь мы должны отпускать в море, чтоб, значит, подрастали… Я отказывался принимать на склад, ругался с ним… Один раз даже побил его, а потом… чуть не получилось хуже. В общем, характером не сошлись…
— М-да… характер твой не подошел.
— Мать говорит: «керосиновый», Бронька, у тебя характер.
— Ха-ха-ха! — раскатисто захохотал старый геолог. — «Керосиновый».
— Глеб Максимыч, я вам потом расскажу. Тут дело темное. Грязными делами занялся Черных. Пьет… Хороводится с каким-то «заготовителем»…
Лицо старого геолога сделалось суровым. Ласковые голубые глаза стали колючими. От прежнего обаятельного человека не осталось ничего. Сразу же повеяло холодком.
— Значит, грязные дела, а ты побоялся их разоблачить — и тягу!..
Бронька низко склонился и, не зная куда девать красные здоровенные ручищи, положил их на колени и стал рассматривать свои потрескавшиеся, неотмывающиеся рыбацкие пальцы.
У Глеба Максимыча потеплело на сердце, но он все тем же тоном холодно спросил:
— Где хочешь работать?
— А я… а мне бы хотелось в тайгу, куда-нибудь в Подлеморье.
Глеб Максимыч достал из портфеля блокнот и размашистым четким почерком написал несколько слов.
— По этому адресу найдешь старшего геолога Бадмаева Бадму Цыреновича. Он ваш, баргузинский. Скажешь, что я велел зачислить тебя в Лево-Мамскую геологосъемочную партию, в должности металлометриста… Это пока. А потом на месте он разглядит и устроит.
— Спасибо, Глеб Максимыч…
— Вылетаете завтра в восемь ноль-ноль.
Позабыв распрощаться, потный, раскрасневшийся, Бронька выскочил на шумную улицу.
«Ничего, в тайге увидите, трус я или нет… Там докажу».
Утром 12 мая в назначенный час Бронька с какими-то незнакомыми парнями вылетел на «кукурузнике». Погода была ясная, безветренная, и полет доставлял ему немалое удовольствие. Сначала горы и леса Прибайкалья, а дальше раскрылось ледяное поле Байкала.
Показался родной Ириндакан. Среди крохотных домиков Бронька отыскал свой… Перед ним всплыл образ матери: на Броньку смотрели большие, серые, вечно грустные глаза. И в них он ясно видел немой укор… Рядом мелькнуло широкое скуластое лицо Захара Захарыча — в темных монгольских глазах открытое недовольство.
Почему-то неприятно заныло сердце…
Вот и Курбуликская губа. Ясно видны строения Катуни и Покойников. Промелькнул остров Бакланий, белой крапинкой на свинцовом льду выделяется Ирканинский Камушек. Быстро мелькают знакомые с детства места, где Бронька немало дней провел в среде рыбаков. За Чивыркуем открылась ширь — ледяная грудь Байкала. По льду, конечно, никто уже не ходил, потому что он держался лишь на честном слове природы. Как на кинопленке, мелькают под крыльями самолета изумительной красоты скалы, крутые горы, покрытые хвойными лесами, подлеморские реки пенятся на своих бесчисленных порогах.
Местами самолетик летел совсем рядом с гольцами, которые ослепительно блестели под лучами майского солнца. Поминутно слышались возгласы и щелкали фотоаппараты.
Эх, Подлеморье, Подлеморье! Недаром именно эти места выбрал и сделал своей родиной самый ценный в мире баргузинский соболь. Темным бархатом расстилаются кедровники и ельники. Под цвет вот этого чернеющего леса природа и соболя наделила пышной черной шубкой.
Промелькнул центр соболиного заповедника Давшэ. За ним Большая речка… Броньке эти места были уже давно знакомы. Вон крутая губа Яксакана, куда они однажды забежали, спасаясь от шторма. Вот голубой змейкой впадает в море речка Урбукан, где он убил первого медведя.
Остались позади Шигнанда и Томпа.
Уже перед самым концом пути их встретил резкий ветер — «ангара». И, как будто бы для разнообразия, самолет немного качнуло.
Вот и устье Верхней Ангары, а недалеко раскинулся поселок Нижне-Ангарск. Сделав круг, самолет пошел на посадку.
Их ждали. Среди геологов Бронька узнал своего земляка Пашку Бородых.
— Ты?! Как это выкарабкался из своего колхоза?
— Выгнали… А ты, Пашка, давно здесь?
— Да порядком загораем.
— А где живете?
— Здесь, у одной старушки.
— Ну и я примкну к вам.
По дороге Пашка рассказал, что он с тремя парнями из Лево-Мамской партии устроился неплохо. Народ в основном уже завезен. Сидят из-за поломки вертолета, который должен забросить геологов в тайгу.
Уже перед самым домом Пашка предупредил товарища, что хозяйка сердитая, но добрая. С ней проживает молоденькая невестка… Ритой зовут, с ребенком. Живет еще студентка из Иркутского горного техникума… Блондиночка… девка смак… Все уходит куда-то.
Бронька остановился в нерешительности у порога старенького домика, но Пашка уже открыл дверь, и они вошли без разрешения.
— Здрасте, простите, что так зашли.
Суровая на вид хозяйка ответила на приветствие едва заметным кивком.
— Нельзя ли на несколько дней остановиться у вас?.. Я тоже из Лево-Мамской…
— Сначала пообедаем, а потом и поговорим…
Обед уже был приготовлен.
Рослый, крепко сколоченный парень вскрывал банку молока, другой, тоже крепыш, сидел в углу и строгал из березовой палки длинный черень для геологического молотка. Оба парня были Броньке незнакомы.
Когда все уселись за стол, вошла девушка, небольшого роста, румяная, с веселыми глазами. На миловидном лице чуть заметно рассыпались веснушки, у нее был вздернутый носик и красиво очерченные, аккуратные губы. Бронька сразу же понял, что это и есть «девка смак».
Когда пообедали и вышли из-за стола, хозяйка сказала:
— Ну вот, теперь ты, наверное, сам не захочешь жить в такой тесноте.
Домик всего из трех комнатушек был, конечно, мал для стольких жильцов. Она дала Броньке адрес к одной знакомой старушке.
Старушка тоже отказала, но дала адрес еще одной знакомой. Одним словом, Бронька, усталый и удрученный, вернулся в домик, где жил Пашка Бородых.
Хозяйка спросила, как дела, и, узнав, что нигде его не пустили на квартиру, махнула рукой.
— Живи уж с нами, но чтоб без пьянок и шумихи.
— На вино-то я не падкий, не беспокойтесь, мамаша.
— А отец-то есть?
— С войны не вернулся…
— Значит, мать одна вырастила… Да, забывать ее грех великий. — Хозяйка тяжело вздохнула. — Проголодался небось, садись ужинать.
Молодежь ушла в кино, а Бронька, чувствуя головную боль, забрался в спальный мешок и быстро уснул. Утром, выбравшись из постели, Бронька вышел во двор. Ничего не найдя подходящего, он схватил бочку с древесным углем и сделал несколько упражнений. Затем, взяв полотенце и мыло, побежал к Байкалу.
Море, словно живое, дышало сквозь иглистый лед, время от времени издавая шипящий звук — будто призывая послушать весеннюю песню пробуждающейся северной природы.
Бронька, как истинный сын Байкала, остановился. Он умеет слушать и разговаривать с морем, как с живым существом. Правда, не так, как Захар Захарыч, но все же умеет.
Вдоволь налюбовавшись и поговорив о своих сомнениях, он разделся до пояса и начал мыться.
На квартиру Бронька вернулся тоже бегом. Хозяйка уже готовила завтрак. Бронька, взяв ведра, несколько раз сходил по воду. Парни один за другим просыпались и, потягиваясь, стали подниматься. Рита возилась с дочкой. Когда девчушка была одета, Бронька взял ее на руки и стал забавлять. Она была как куколка — маленькая и очень потешная. Молодая мать, смеясь, попросила ее:
— Лека, подразни дядю.
Ольга сморщила носик и смешно сузила смеющиеся глазенки, а потом, довольная своей проделкой, весело рассмеялась.
— Вот и нянька у нас со средним образованием!
— Главное, не пьющий, — добавил парень с темным, угреватым лицом. — Мама не велела ему…
Бронька порывисто повернулся в сторону насмешника, но сдержал себя.
Время летело быстро. Промелькнула первая неделя. Общительный Бронька уже знал всех геологов из Лево-Мамской партии.
В магазине он купил большую записную книжку и на белой клеенчатой корке написал:
«Дневник Бронислава Т-ва».
На первой странице выведено красивым почерком: «Записки о Лево-Мамской».
«Начало 20 мая.
Сегодня отправил письмо маме. Каждый вечер хожу в кино или на танцы. Бездельничаем из-за вертолета. Когда же его отремонтируют? Ребята шумят и шкодят. Тетя Даша — добрая душа — терпит. Но, наверно, прогонит.
22 мая.
Я стал совсем своим парнем и уже знаю кое-что из жизни своих товарищей. Я решил записать и о них. Захар Захарыч говорил, всякому делу голова — человек.
Митя Брага. Успел уже посидеть в тюрьме за драку с применением холодного оружия. Вырос в детдоме. Родители погибли в Бресте в первые же дни войны. Он любил, по его словам, свободный образ жизни. Не раз убегал из детдома. Собирались несколько пацанов и «зайцами» кочевали по железным дорогам. А потом эту шпану ловили. Снова мыли, стригли, и снова они терпели детдомовскую скуку (с его слов). Любит петь блатные песенки, выражаться тюремным жаргоном, не дурак выпить.
С первого взгляда он не понравится любому, но когда приглядишься поближе — он хороший парень. Больше напускает на себя блажь. А сам вовсе и не блатяга.
А вот Валерка Симонов, угрюмый молчун, работящий парень. Опьянев, достает из-за голенища нож, принимает угрожающий вид и пугает людей. А затем плачет. Я узнал от товарищей, что он рос у мачехи, которая била его не менее трех раз на дню, а тряпка-отец играл под ее дудку. Вот пьяный Валерка и посылает им «воздушный привет». Уже второй год он бродит рабочим в поисковой партии. Геологи его зовут Угрюмом.
Колька Троян — мой годок. Он высокий, крепко сколоченный здоровяк. Веселый, добродушный. К водке не так уж падкий. Компанию поддерживает, но почти не пьянеет, как другие. Лицо белое, в меру полное. Волосы темно-русые. Нос крупный, но не «рубильник». В общем, парень хороший и бравый.
Пашка Бородых — с лицом кирпичного цвета, небольшого роста. У него разные глаза — один зеленый, другой желто-коричневый, к тому же они и смотрят в разные стороны. Крупные веснушки покрывают круглое лицо, словно звезды в ясную ночь. Из-за этого беднягу зовут «пестреньким». Со второго стаканчика язык заплетается.
— «Таля-патя» пошла молоть, — смеются ребята.
И, наконец, пятый «гусь» — это я, Бронька, который бросил одинокую мать, колхоз. А из-за кого? Из-за пьяницы Черных. Эх, слабак же я, даже хуже можно назвать. Вот и живем здесь, пятеро рабочих из Лево-Мамской, у бабки Даши, да еще студентка Вера.
24 мая.
Все ждем вертолет. Работаем совсем мало. Делаем бумажные конвертики для хранения шлихов. Не торопясь строим запасную посадочную площадку для вертолета.
Получил письмо из дома. На душе стало легче. Наши рыбаки уже приготовились к летней путине.
Кроме Угрюма, все наши ребята веселые шкодяги. Они походят на пацанов, вырвавшихся из-под строгих родительских глаз. Вечерами устраиваем танцы. Я играю, как могу, на гитаре, а ребята танцуют. Веселый Коля Троян копирует стиляг, танцующих твист. Получается очень смешно, и мы смеемся до слез. К нам приходят местные девчата, не только чтобы потанцевать, но и провести время с приезжими парнями. Тетя Даша плюется и называет их шлюхами. «Разве это девки, ни стыда, ни совести, — ворчит она, — хоть бы кто приглашал, а то сами лезут». — «Мы их уже давно приглашаем», — вступается за девчат Коля.
Поднимается общий смех, и, суровая на вид, наша добрая хозяйка, погрозив пальцем, уходит к себе.
27 мая.
Надоело делать конвертики. Зла не хватает, когда же вырвемся в тайгу. Сегодня послал деньжат матери.
29 мая.
Вечерами мы с Верой уходим на морской берег. Она студентка Иркутского горного техникума. Сейчас на практике. Уже два года работает в экспедициях, рассказывает о жизни геологов, дает советы. Спрашивает, что заставило меня идти в геологоразведку. Если в погоне за длинным рублем, то пожалеешь, а если из любви к тайге, то хорошо.
Чтоб не считала Вера меня каким-то летуном, я, не таясь, рассказал обо всем, из-за чего дрался с Семеном Черных. Рассказал и про маму.
Вера помолчала, а потом сказала: «Напрасно ты, Броня, так сделал, надо было биться до конца, только же кулаком и не пешней, тем более». А я ответил: «Зато тебя встретил…» Вера рассмеялась.
Я и сам так думаю, но… Вера говорит: «У тебя, Броня, еще крепко сидят корни старой Сибири». Возможно, она права.
30 мая.
Все ждем вертолета. Подготовительные работы. Вера мне очень нравится. Вечерами любуемся морем. Тетя Даша относится к нашим ночным прогулкам спокойно, даже шутит. Только вчера упрекнула нас, когда мы заявились домой в четвертом часу: «Вот уж полуночники, днем вместе, так еще и ночь прихватываете…»
2 июня.
Я не знал, что от расставания человек может так переживать. Все началось со вчерашнего обеда. Вчера в час дня отчалила моторка, которая увезла Веру. Последний вечер мы с ней провели до утренней зорьки. И договорились прожить вместе у синего моря, как «старик со старухой», ровно тридцать лет и три года… Вера, смеясь, мне сказала; «Напрасно, Броня, меня берешь в «старухи», я буду такой же злюкой, как в пушкинской сказке». Долго мы смеялись, а перед самым домом еще раз поцеловались, не будешь же при людях на пирсе.
У меня такое ощущение, будто бы Вера увезла с собой половину Броньки Тучинова, а вторая половина слоняется словно неприкаянная. Черт побери, я не знал, что девчонки имеют такие свойства».
На этом заканчиваются Бронькины дневниковые записи из жизни в Нижне-Ангарске.
Так и не дождавшись вертолета, начальник Лево-Мамской партии Бадмаев решил часть геологов и рабочих отправить до Уояна на моторной лодке, а дальше на Левую Маму на оленях.
В обед прибежал знакомый мальчик и, даже не поздоровавшись ни с кем, выпалил:
— Вас зовут на пирс, совсем, с вещами!..
Когда парни пришли на пирс, все уже были в сборе. Сюда же пришли и девчата, которые так быстро привыкли к жизнерадостным геологам.
Бадмаев давал последние наставления Вадиму Сотнику, которого назначил старшим над группой отъезжающих.
Сотник окончил Воронежский горный техникум. Ему было лет двадцать пять. Сухощавый, с большими серыми глазами под высоким лбом, он нравился Броньке своим спокойным характером и выдержкой.
День выдался серый. С Байкала надвигалась плотная стена белесого тумана, и моторка быстро утонула в нем.
Доехав до устья Верхней Ангары, геологи прихватила пару бочек солярки, а в невзрачном магазинчике, в котором самым ходовым товаром была водка, запаслись и этим зельем от «простуды».
Вместе с геологами ехали женщины-эвенки с детьми. Они держались свободно. Было видно, что геологи для них не «новинка».
В нескольких километрах от устья реки расположился поселок Холодная.
Еще в Улан-Удэ Бронька случайно познакомился с Любой Тулбуконовой, студенткой кооперативного техникума. Узнав, что он едет к ним в Подлеморье, она попросила зайти к матери в Холодной.
И вот теперь представился случай.
Геологи решили заночевать рядом с поселком. Бронька помог заготовить на ночь дров и пустился в путь по грязной дороге в Холодную.
Быстро сгущались вечерние сумерки. В темной зелени тайги разноголосо пели птицы веселую «отходную». Бронька улыбнулся и шутливо обратился к ним:
— А умело играете отбой, молодцы!
Певуньи, бывшие поближе от парня, зашуршали в прошлогодней листве и смолкли.
Вскоре он услышал лай собак, донеслись звука музыки.
Дома в поселке были почти сплошь новые. Улица, поросшая травой, делала несколько зигзагов и напоминала извилистую таежную дорогу.
Женщина, бравшая из колодца воду, с сильным акцептом сбивчиво объяснила Броньке, где живут Тулбуконовы.
Когда Бронька, поздоровавшись, назвал свою фамилию и передал привет от дочери, мать Любы засуетилась, гостеприимно приглашая его в дом.
Расспрашивая о Любе, она быстро поставила самовар, нарезала оленьего мяса и сунула сковородку на горячую плиту. Мать Любы хорошо владела русским языком, говорила почти без акцента. У нее было приятное лицо с правильными чертами. «В молодости наверняка была красивой», — заключил Бронька.
— Письма-то Люба пишет? — спросил он.
— Пишет, пишет, но очень скупые, совсем мало слов. В последнем спрашивала, не был ли парень из геологоразведки… Интересуется, — улыбнулась она. — Пишет, если зайдет, угости его обязательно…
Хозяйка собрала на стол закуску и пригласила гостя.
Броньке даже стало не по себе от такого гостеприимства.
Из разговора он узнал, что два старших сына хозяйки работают на оленеводческой ферме, а младший — в геологоразведке.
— Старик-то погиб на охоте… — закончила она свой рассказ о семье.
После ужина Бронька пошел прогуляться. Поселок был электрифицирован и хорошо освещен. Но назойливые комары — эти злейшие враги геологов — заставили его вскоре вернуться.
Хозяйка уже приготовила ему постель, и он быстро уснул мертвецким сном.
В четыре часа утра его разбудило прикосновение руки. Хозяйка улыбнулась.
— Вставай, Броня, не отстань от товарищей.
Несмотря на такую рань, на столе уже клокотал самовар, а на сковородке шипели подрумяненные котлеты из оленины.
На дорогу хозяйка напутствовала его:
— Если вопьется клещ, то не вырывай его, а намажь бензином, керосином или чем-нибудь едучим. Сам вылезет. А то, говорят, встречаются вредные… Не дай бог… Берегите себя, да и медведя не шевелите.
Распростившись с гостеприимной хозяйкой, Бронька быстро зашагал по знакомой дороге. Вечерошние птицы утром так жарко распелись, восхваляя рождение нового дня, что Бронька рассмеялся и крикнул в лесную чащу:
— Эй, артисты, от росы, что ли, опьянели, такой концерт даете!
Через полчаса он уже был у товарищей. Они пили чай.
— Чем же тебя угощали эвенки? — спросил Митя Брага.
Бронька подробно рассказал, как хорошо он провел время в гостеприимной эвенкийской семье.
— Значит врут, что они дикие и злые? — спросил Коля Троян полушутя. — А то слышал, будто один эвенк-охотник отрубил голову другому… А потом на вопрос судьи, почему ом так поступил, эвенк спокойненько, как ни в чем не бывало, ответил: «Не будет кувастать, что он короший окотник…»
Геологи от души смеялись над простодушным и прямым ответом неизвестного эвенка.
— Наверняка врут о них, — твердо сказал Бронька. — Правильные, хорошие они люди… Дай бог, чтобы у вас в городе побольше жило таких честных людей.
Быстро собравшись, геологи продолжали свой путь по живописной реке. Двигались медленно. Течение быстрое, а мотор десятисильный. Река все еще была широкая, с глубоким фарватером.
Навстречу стучал небольшой катерок с плотами строевого леса, похожими на сигары. У руля стоял высокий парень, а рядом с ним, навалившись плечом, русокудрая девушка.
— Эх, так бы ко мне ласточка моя, — сделав смешную рожицу, почесал затылок веселый Коля.
Все рассмеялись.
— Твоя «ласточка» сегодня с соседом в кино отправится! — не без ехидства сказал Трояну Митька Брага.
— Я только гуляю с «ласточкой», а вот когда захочу жениться, то спрошу: «Пойдешь со мной в тайгу? Если нет, то катись колбасой!»
— Ерунду городишь, Колька! — Митька махнул рукой и жалобно запел: — Ты ласточка моя, ты зорька ясная!
Следующую ночь провели в Ченче. В деревушке не более сорока дворов. Здесь задержались в ожидании моторки, которая ночью ушла в Кумору.
Геологи не теряли времени: удочками ловили рыбу, купались. Бронька переплыл на другой берег и любовался дикой природой. Пока отдыхали, к берегу причалила небольшая лодочка, из нее вышли двое мужчин и молча принялись рвать дикий лук, который здесь рос в изобилии и был в самом соку. Бронька, глядя на них, тоже нарвал луку к обеду.
Плотно пообедав, геологи сели в свою «калошу», как они называли неуклюжую лодку, и отдали концы.
Бронька примостился на носу и сразу же заснул. Проснулся лишь часов в восемь вечера. Осмотрелся. Кругом суровые горы, тайга. Вспугнутые чайки поднимались белой стаей и резко кричали на непрошеных гостей. Кругом безлюдье. Нетронутая, дикая природа.
Верхняя Ангара в этих местах делилась на рукава. Но чумазый парень-моторист, зная эту реку как свои пять пальцев, направлял суденышко безошибочно по центру извилистого фарватера. Дальше стали встречаться частые повороты, отмели и косы. Бронька, тоже опытный моторист и судоводитель, стал помогать чумазому парню.
Плыли всю ночь и только на рассвете прибыли в Уоян. Оставив одного с вещами, остальные ушли искать подходящее место для палаток. На небольшом взлобке Бронька нашел стоянку геологов, недавно ушедших в тайгу. Торчали колышки от палаток, столики и даже кучка дров.
«А может, здесь были те геологи, с которыми ушла Вера», — подумал Бронька, и перед его глазами всплыл образ девушки в походной одежде геолога, с полевой сумкой на боку. Лицо ее чем-то озабочено. У Броньки заныло сердце. Он вздохнул.
Установить палатки на всем готовом — плевое дело. И через десяток минут уже горел костер, на котором геологи готовили свой нехитрый завтрак.
Наскоро поев, Сотник ушел на почту радировать о прибытии и узнать в местном колхозе, когда будут готовы олени.
Пришел он с плохими вестями. За оленями ушли вчера. Вернутся только через десяток дней…
— Эх, черт, опять сачковать, — проворчал Коля Троян.
— Чудак-человек, лежи и грей брюхо на солнышке, зарплата-то все равно идет, — сказал Митька не то в шутку, не то всерьез.
— Тебя, Митя, надо было «березовой кашицей» воспитывать, как меня мачеха, — вдруг заговорил все время молчавший Угрюм.
— Я бы на твоем месте, Угрюмчик, давно драпанул в Ташкент. Хороший городок! Тепло! А жратвы — сколь хочешь приобретай.
— Как это приобретай?.. Покупай, что ли? — спросил Бронька.
— Эх, деревня-матушка! Купил, нашел — едва ушел. Хотел деньги отдать, не могли меня догнать… Понятно?!
Все это говорилось, как это часто бывает, без всякого зла, никто не придавал этим лихим перебранкам того значения, которое придал бы посторонний, если бы он стал случайным свидетелем.
В ожидании оленей ребята не знали, как убить время. Непоседливый Бронька обошел весь Уоян и успел завести знакомства с местными жителями.
Он снова взялся за свой дневник.
«5 июня.
Наши рыбаки наверняка уже вышли в море. Давненько нет писем из Ириндакана. Как там мама? Мы загораем в Уояне. Это небольшой поселок, дворов полсотни с гаком. Живут эвенки и русские. Занимаются охотой, оленеводством и рыбалкой. Но рыбалка не такая, как у нас на Байкале, — одна кустарщина. Вспоминаю вечера, проведенные с Верой на берегу моря… Где она теперь? Ищет то, что не потеряла в глухой тайге. Скорее бы встретиться!
8 июня.
Сегодня встал поздно, Митька Брага пришел утром, под хмельком. Я спросил: «Где ночевал?» Он усмехнулся и сказал: «Свинья найдет грязь». Ночью выпал на гольцах снег. Природа не считается с людьми. Вера работает в тех местах. Как она, бедная, там? До устали сражаемся в волейбол. Читаю книги. Спасибо, снабжает знакомая девушка. Она очень симпатичная. Но в жизни ей не повезло. Поверила одному геологу, а теперь, в знак памяти о нем, растет мальчик. Коля говорит: «Еще одна жертва энцефалитного клеща».
Закончив читать «Белый клык» Джека Лондона, Бронька пошел в деревню. Навстречу ему спешил Сотник. Ветерок ерошил его русые волосы. Еще издалека он неистово замахал небольшой бумажкой.
— За нами вылетает вертолет!
— Неужели? Даже не верится!
— Вот радиограмма. Нужно идти на площадку.
— Разреши-ка подержать эту бумаженцию! Сотник протянул бланк и рассмеялся.
— Не веришь?
«Срочно вылетайте озеро Соли зпт полным наличием рабочих зпт имущества тчк Бадмаев».
— Слава богу, наконец-то! — вырвалось у Броньки. — Летим, значит!
— Идем скорее, «стрекозу» задерживать нельзя.
— Идемте, идемте! — Бронька, обгоняя ветер, помчался к табору.
Геологам собраться — палатку свернул, рюкзак на плечо — и в путь готов! А тут подвернулся эвенк с лошадью.
— Подвезти смогу, как не помочь хорошим людям, — заулыбался таежник.
У здоровенных ребят все кипит в руках. Быстро покидав вещи на телегу, двинулись в сторону посадочной площадки. Вот и прибыли на место. Вскоре послышался рокот двигателя долгожданной «стрекозы». Погода была пасмурная, как ни всматривались геологи в хмурое небо, вертолета не видели. Он неожиданно вынырнул из тумана и сразу же приземлился.
Всего несколько минут потребовалось на то, чтобы геологи сбросили в утробу «стрекозы» свой скарб и погрузились сами.
— Ишь, жадюга какая, столько барахла и человечины проглотила в свою пузяку! — кричит возбужденный Митька.
Радостное возбуждение охватило всех, это было видно по их улыбающимся лицам. Даже Угрюм и тот что-то мычал про себя.
Убедившись, что все пассажиры на месте, бортрадист задраил дверь. Летчик прибавил газу. Увеличились обороты лопастей. Набрав высоту, он взял курс на озеро Соли. Уоян сразу же скрылся за стеной облаков. Ветер слегка покачивал умную «стрекозу».
Через четверть часа вертолет вырвался из облаков. Только кое-где плыли отдельные клочья рваных туч.
Бронька любовался суровым высокогорьем северного Подлеморья. Прекрасные виды, раскрывавшиеся повсюду, сменялись словно на огромном экране. Бесконечная цепь гор. Необъятные и безлюдные просторы покрыты разнолесьем. Сколько здесь должно быть зверей! Огромные площади поросли белым оленьим мхом.
Пролетев через высоченный водораздел Верхней Ангары и Левой Мамы, вертолет стал постепенно снижаться.
Наблюдательный Бронька все замечал и делал свои выводы: вот она, живая география — Левая Мама устремляется на север и дарит свои воды великой реке Лене, которая спешит в Ледовитый океан, а Верхняя Ангара — нашему Байкалу, как интересно все это видеть своими глазами!
В этих местах, видимо, когда-то прошел страшный всеопустошающий лесной пожар. Горьким упреком человеку торчали восклицательными знаками обуглившиеся мертвые деревья. Между ними росли низкий кустарник и мох.
Бронька успел заметить небольшое озеро, на его берегу несколько палаток и кучку людей. Это и было озеро Соли. Здесь располагалась база Лево-Мамской геологосъемочной партии.
Вертолет мягко приземлился. Высадив группу Сотника, он сразу же улетел в Нижне-Ангарск.
Прибывших радушно встретили и угостили душистой ухой.
— Жизнь здесь, ребята, что на курорте — чистый воздух, вода, свежее мясо, рыба, — расхваливал Пашка Бородых.
— Расхвастался тоже — свежий воздух! — скривил губы Митя Брага. — Нашел чем хвалиться. Кино нет, «полбанки» не купишь, девчат нет…
— Да ну вас, с вашими девчонками, — махнул рукой Пашка. — Уж такой рыбалки, как здесь, нигде не найдете… Вчера добыл щуку метра в полтора длиной. Что она выделывала!
— Метр-то сбрось. Сам-то небось аршин с шапкой, а щуку больше себя поборол, не поверят, — урезонил его Угрюм.
Озеро Соли, на берегу которого расположились геологи, небольшое, в длину километра три и не более километра в ширину. Его окружают высокие гольцы, и только на западе они открывают дорогу Верхней речке, вытекающей из озера. Она совсем маленькая, но по ней поднимаются из реки Чая на икромет ленки, таймени, хариусы.
Погода стояла чудесная. Казалось, природа, соскучившись за долгую зиму по теплу, жадно глотала его из ярких лучей летнего солнца. Во всем чувствовалась легкая свежесть. Воздух напоили необыкновенно бодрящие запахи высокогорной тайги.
Бронька подолгу всматривался в громады гольцов, с их белыми вершинами-пиками и почти отвесными стенами из серой гранитной массы, в синюю глубь озера, куда, любуясь собой, заглядывали прибрежные кедры и березы. Нет-нет да пробежит по ней рябь от легкого ветерка, прорвавшегося через щербатину с западной стороны. Тогда озеро темнеет, словно раскрывая свою глубину.
Вдруг на том конце озера, где расположился табор, захохотала тайга. Там шумно купались жизнерадостные хлопцы. Ныряли с плота, проплыв круг, пыхтя карабкались на него и блаженно грелись на солнце. Быстро сбросив одежду, Бронька поплыл к товарищам.
Вдоволь накупавшись, они принялись рыбачить. Рыба в озере водилась в изобилии.
— Колька, смотри, какого черта вытащил! — В руках у Митьки трепещется большой окунь. Бронька, как и подобает опытному рыбаку, без шума и, казалось, без каких-либо усилий вытащил огромного ленка.
Увидев рыбину, ребята пришли в восторг.
— Слышь, Колька, ты против Броньки в рыбацком деле просто салажонок, — говорил Пашка Трояну, который до крови уколол палец об окуневые колючки.
К вечеру ребятам надоела рыбалка, и они отправились на плоту к табору. Бронька остался удить один.
Уже после ужина он заявился с большой связкой лоснящейся жирной рыбы. Ребята его встретили веселыми шутками.
— Броньке можно жить, у него полный порядок с поваром!
Повариха Соня, подливая ему уху, раскраснелась, как мак. Ее веки с длинными ресницами моргали чаще обычного, выдавая волнение.
Наскоро поужинав, Бронька ушел в палатку, где лежал на спальном мешке Пашка Бородых.
— В чем дело, почему смеются ребята?
Бородых улыбнулся.
— А что, задело здорово? Братва не зря заводит вас с Сонькой, она сама себя выдала.
— Как это выдала? Не пойму я что-то… Ничего у нас с Сонькой не было.
— Я это знаю… Вы с Верой на берег бегали… Тут вот что получилось: сели мы ужинать, Митька отставил в сторону миску с ухой и говорит: «Это Броньке». Соня подумала, что «блатной» выловил рыбу, а тебе оставляет пустой суп. Ну и подняла шум: «Вот, мол, сам рыбу ешь, а товарищу водичку»… Взяла большую миску и отвалила несколько больших звеньев рыбы. «Это мы оставим Броньке…» Братву сам знаешь… Вот и попали вы с Сонькой на зуб.
Посмеявшись над недоразумением, подавшим повод для шуток, Бронька взялся за свой дневник.
«12 июня.
Сегодня на вертолете МИ-4 прилетели на озеро Соли. Через пару дней двинемся дальше на место работы. На оленях прибыли эвенки-каюры. Здесь все интересно, народ добрый. А по морю все же тоскую. Эх, сейчас бы на сетовой лодке порыбачить!»
— Брось, Бронька, свою писанину. Кому она нужна. Слышь, как поют! Пошли к ребятам.
— Сейчас, Пашка, вот только еще два слева допишу.
По всему озеру раздавались задорные молодые голоса. Это парни и девчата катались на плотах, пели песни, шутили, смеялись. Парни стали раскачивать плоты, девушки завизжали. Поднялся невообразимый гвалт. И, словно передразнивая людей, заревело эхо.
А огромный медведь тем временем вышел на берег доловить рыбу, но, заслышав такой «концерт», бросил злобный взгляд в сторону людей, понюхал воздух, испорченный ненавистным человечьим духом, фыркнул и, повернувшись, не спеша удалился в трущобу.
Кто-то запел. Голос был хрипловатый, несильный, но все сразу смолкли и дружно подхватили песню.
Только поздно ночью разошлась молодежь по палаткам.
Темная-темная ночь. Тишина. Спят геологи. Лишь где-то в соседних горах ухает филин. Под покровом ночи лесные звери осторожно крадутся по тайге. Кто в поисках любимых трав, а кто и за свежей кровью. Таинственна и опасна ночью тайга! Дремать нельзя, ошибаться тоже — заплатишь жизнью…
Бронька долго ворочается в спальном мешке. Нет сна. Видимо, изобилие впечатлений прошедшего дня взбудоражило его деятельную натуру.
Что ждет его впереди? Мысли навязчиво лезут и о прошлом: о матери, о родном Ириндакане. Пришел к нему и Семен Черных: зло посмотрел на Броньку и растаял. Вспомнился рыжий инспектор рыбоохраны, который обнаружил на складе колхоза две бочки сиговой молоди.
— Тоже воруешь?! — спросил он Броньку и, насупив соломенные брови, так посмотрел, что всю жизнь не забыть этого взгляда, с таким презрением обращенного на него.
Бронька ничего не ответил.
— На первый раз прощаю, а с Черных спрошу.
Долго горел огонек в доме председателя. Инспектор «спрашивал», видимо, очень старательно.
А потом?.. Потом, на следующий день забежал на склад Черных. Опухшими, красными глазами оглядел с ног до головы Броньку и прошипел:
— Дурак, расклал на самый вид рыбу, как баба на базаре… Всю ночь «уговаривал» инспектора, кое-как упросил… Вот что наделал ты, сволочь… — Дальше полилась грязная брань, овеянная винным перегаром.
Не помнит Бронька, как получилось тогда… Он так стукнул, что председатель долго лежал в углу за бочкой…
Вспомнил Бронька заготовителя какого-то орса из Улан-Удэ, который забирал у Черных рыбью молодь. Скупал и у браконьеров… В общем, заготавливал весьма сомнительно и частенько устраивал попойки у председателя, поднося ему дорогие подарки…
«А как же я должен был поступить? — в сотый раз спрашивал себя Бронька. И тут перед ним встает непреодолимая стена. — В милицию заявлять?.. Тогда все стали бы презирать меня… И прилипла бы ко мне страшная кличка «ябеда», «доносчик». «Бойтесь Тучинова — он кляузник!» — говорили бы люди. Даже родная мать отвернулась бы от меня».
Этого больше всего боялся Бронька.
Он повернулся на другой бок, вздохнул и с этими мыслями беспокойно заснул.
Уже перед тем как пробудиться, увидел во сне себя — страшное дело. У него туловище оказалось тараканье!.. Мать с плачем показывает на него и говорит: «Это мой парень, он «незнайка, поэтому и сидит на печи…»
Проснувшись, Бронька с досады плюнул и выругался.
— Ты чего лаешься с самого утра? — спросил его Троян.
— Сон проклятый… Вижу себя тараканом на печке… Чего хуже-то этого…
Долго смеялся Николай над товарищем, а потом серьезно сказал:
— Сны, паря, одна чепуха… Плюнь. Пойдем лучше искупаемся.
После холодной воды стало хорошо и вернулось обычное бодрое настроение.
Соня приготовила замечательный завтрак, и они ели каждый за троих.
Утром получили радиограмму: вертолет обещали лишь через день.
— Опять загорать! Курорт! — смеется Митька.
Бронька еще в Уояне слышал о замечательном охотнике и каюре эвенке Агдыре. А почему бы не повидать его?
Броньку радушно встретили хозяева небольшого чума.
— Здарова, здарова, парень! Садись, гость будешь, — говорил каюр по-русски с легким акцентом.
Лицо старого эвенка изрезано глубокими морщинами, а голос молодой, бодрый. Жена его, тоже каюр, пекла в золе лепешки. У Броньки мелькнула мысль: «Удивительные жены у эвенков. Они не уступят мужчине на охоте, не хуже любого каюра управляются с вьючными оленями, сошьют добротно и накормят сытно и вкусно…»
Тетя Шура, так звали хозяйку чума, сразу же засуетилась. Перед Бронькой поставила большую миску с мясом, чашку душистого чая, забеленного густым оленьим молоком, целую груду сахару и горячую, очень вкусную лепешку.
Сразу же завязалась оживленная беседа. Бронька расспрашивал про охоту, про местную тайгу, какие беды подстерегают таежника в гольцах. Агдыр охотно рассказывал и давал дельные советы. В свою очередь он расспрашивал Броньку о рыбалке на море в прошедшем году, о нерповке. Сам Агдыр в молодости был заядлым нерповщиком.
Постепенно разговор перешел на далекое прошлое эвенков. Как истый сын своего народа, Агдыр гордо рассказывал о великих охотниках прошлого, о мудрых и справедливых законах тайги, которыми зачастую пренебрегают молодые геологи. Из-за этого «горный хозяин» сердится и наказывает легкомысленных людей — топит в буйных реках, сбрасывает с гольцов, замораживает в глубоком снегу, морит голодом. Всемогущ он, «хозяин-то тайги!» О-о, молодой парень, не забывай об этом!..
Поэтичный народ эвенки. У этих детей природы одухотворены горы и леса, реки и озера — все окружающие предметы. Они овеяны чудесными легендами. Только надо уметь их слушать так, словно слушатель отсутствует. Тогда рассказчик мечтательно углубляется в повествование, и польются из его уст чудесные рассказы и легенды.
Вот такую легенду рассказал Агдыр и про озеро Соли.
Старый каюр посмотрел поверх головы собеседника, собрал на темном лбу множество морщинок и начал повествование.
— Озеро Соли означает — озеро Чудовища. Давным-давно это было. Сначала жизнь была везде хорошая. Было много зверей и рыбы, а уток и гусей — целые тучи. Люди тогда жили хорошие и зверей били мало. Да и зачем их было зря губить, когда домашнего скота развели тьму-тьмущую.
Но наступил потоп. Всю землю залила вода, и все живое стало гибнуть. Только наши гольцы еще оставались сухими. Прибежал сюда большой-большой зверь с огромными рогами. Потом и гольцы покрылись водой. Лишь чудовище, высунувшее голову из воды, было видно.
Птицы, которые не могли плавать, стали садиться на рога зверя. И село их так много, что чудовище обессилело и скрылось под водой. Потом, когда вода ушла, на месте, где стоял огромный зверь, стала глубокая яма, которая наполнилась водой. В этой яме и сейчас живет тот зверь, только он привык жить под водой и вылазит подышать лишь ночью, когда спят птицы, потому что боится их. Вот почему и зовут озеро Соли — озером Чудовища.
Старый каюр рассказывал это очень серьезно, и Бронька, чтобы не обидеть рассказчика, и полусловом не высказал свое сомнение. Он понимал, что эта легенда передавалась из уст в уста много тысяч лет. Может быть, и в самом деле в ледниковый период здесь появился мамонт, а все остальное дополнила поэтичная фантазия эвенков.
Еще рассказал старик, что вниз по Левой Маме есть большая каменная голова. Один геолог хотел отколоть молотком нос. Только замахнулся, его сбросило с головы. Он рассердился и полез снова, но не успел и замахнуться, как его вновь стряхнуло. Больно стукнулся он о землю, долго лежал. Однако, известное дело, геологи настырный народ: отдышался, покряхтел от боли и полез в третий раз. Но тут его сразу кто-то крепко схватил и так швырнул в сторону, что он упал и разбился о камни…
Из двухдневного маршрута пришли геологи Уоянской партии. Группу возглавлял старший геолог Бабасан. Ребята в шутку зовут его Мопассаном. Он убил трехгодовалого медведя. Принесли шкуру и часть мяса. Как всегда в таких случаях, расспросов хоть отбавляй.
Прибывшие рассказали, что в маршруте видели большого оленя-быка, но он их заметил и, конечно, ушел.
Утром прилетел вертолет МИ-4, чтобы перебросить груз и людей на приток Левой Мамы, реку Огдынду-Москит. Начальник партии Бадмаев решил отправить первым рейсом как можно больше продуктов, палатки и одного рабочего.
Он подозвал к себе Броньку и спросил:
— Слушай, Тучинов, ты не боишься остаться один на Огдынде-Москит?
— Я родился и вырос в тайге, только лицом к морю…
— Об этом мне говорил Глеб Максимыч. — Одобрительно оглядев ладную фигуру парня, Бадмаев добавил шутя: — А с грузом-то, надо полагать, расправишься как повар с картошкой.
Бронька радовался, что ему первому поручают лететь на место работы, выбрать площадку для табора и устроить груз. Вскоре тяжело нагруженный МИ-4 взял курс на таинственную Огдынду-Москит.
Вот она, Левая Мама! Широкая, каменистая таежная долина местами резко сужалась. Река здесь бурлила и пенилась. Бронька внимательно смотрел на карту и на то, что мелькало внизу.
Когда подлетели к месту назначения, бортрадист крикнул ему что-то, но шум двигателя все заглушил.
Бронька понял, что идут на посадку.
Вертолет сел прямо в русло реки. Она здесь была широкая, разбиваясь на множество рукавов, текла меж камней. Такие места каюр Агдыр называет амнундами. Это запомнил Бронька во время вчерашней беседы. Вот на эту самую амнунду и свалила «стрекоза» груз, общим весом около тонны.
Летчики помахали руками и улетели обратно, оставив Тучинова одного среди дикой природы северного Подлеморья. До слуха доносился шум многочисленных водопадов. Перепрыгивая с камня на камень, Бронька выбрался на берег и подыскал площадку для табора.
Облюбовав сухой бугорок, Тучинов принес палатку, кое-как натянул ее, потому что в спешке забыл захватить топор и веревки.
Окружающие гольцы окутывались свинцовыми тучами. Бронька, боясь дождя, стал переносить продукты в палатку. Работа эта требовала немалой силы. Попробуйте взвалить семидесятикилограммовый куль с мукой и тащить по скользким камням. Парень пролил семь потов, изрядно намучился, но остался доволен — все сделал хозяйственно, по-мужицки.
Отдохнув, Бронька наготовил дров и собрался разжечь костер, но спичек не оказалось. Он похолодел. «Черт, был бы курящим, огонь всегда бы при себе… Что делать?..» Отвернул от фонарика увеличительное стекло, но и здесь загвоздка — солнце то покажется, то снова спрячется за тучи… Парень стал лихорадочно шарить в карманах старого пиджака… Ого, есть!!! Он от радости расцеловал этикетку «Собирайте металлолом».
Плотно поужинав, Бронька зарядил карабин и пошел на охоту. Между деревьями всюду виднелись отпечатки копыт, лежки, олений и изюбриный кал, а самих зверей не было. «Распугал вертолет», — заключил охотник. В одном месте взлетели куропатки. Бронька досадливо махнул рукой.
— Ни мяса в них сейчас, ни пера, — проговорил по охотничьей привычке вслух.
Уже в потемках он вернулся в палатку, залез в спальный мешок и быстро уснул.
Проснувшись, Бронька выполз из палатки. Его встретило хмурое утро. Глухо шумела река, а кругом, наводя тоску, грозной стеной окружали высокие каменистые горы.
Сделав несколько вольных упражнений, он умылся до пояса.
После завтрака стал ждать товарищей.
Сквозь шум реки наконец услышал знакомый рокот. Не долетев до одинокой палатки метров четыреста, вертолет сбросил груз и улетел обратно.
— Эх, не везет же мне… Его ждешь, как бога, а он хуже черта, — вслух жаловался кому-то парень.
Но делать было нечего, и он побежал к месту, где сбросили груз. Не без труда разыскав в кустарнике мешки и ящики с продуктами, Бронька облюбовал огромную гранитную плиту. Там было сухо и безопасно. Сюда он начал стаскивать груз. Пока занимался этим, вертолет снова прилетел, и из его брюха опять посыпались ящики, кули, брезенты, палатки, спальные мешки… А потом в воздухе закружились, замелькали какие-то легкие белые предметы, которые ветром сносило к реке.
Бросив все, Бронька побежал спасать эти предметы. Заскочив в холодную воду, он увидел пачки папирос «Север», которые, кружась, плыли по волнам. Больше половины успел выловить, может, и еще бы спас, но, к несчастью, вдруг на гладком, как яйцо, булыжнике подвернулась нога, и он всем телом плюхнулся в студеную воду…
Проклиная «брюхатую стрекозу» и всех курильщиков, Бронька мокрый вылез на берег… Невдалеке лежал пустой куль из-под папирос, видимо, развязавшийся в воздухе.
Переодевшись, Бронька снова принялся собирать груз. Когда все было сложено, осмотрелся — не забыл ли чего-нибудь? — прикрыл груз брезентом, а на края положил тяжелые камни.
Смахнув пот, он посмотрел вверх. Все небо было обложено низкими, тяжелыми тучами. И только теперь проникся большим уважением к пилотам, которые в такую погоду летели в этих горах, безошибочно отыскивая его, Броньку.
Третьим рейсом прилетели геологи.
Весело улыбаясь, подошел к Броньке Бадмаев.
— Привет нашему «Робинзону»!
— Здравствуйте! — застенчиво улыбнулся парень, ожидая, что скажет начальник в отношении выбора места.
— Не боялся медведя?..
— Будто нет…
— Вот и хорошо, а я беспокоился за тебя. — Старший геолог окинул оценивающим взглядом место табора, довольный Бронькой, шлепнул его по плечу и одобрительно сказал: — Ты, друг, родился геологом, молодец!
Подбежав к ним, ребята сначала молча тыкали Броньку под бока, а когда отошел начальник, сразу забросали его вопросами:
— Как загорал, Бронька?.. А ночью не боялся?.. А тунгусская русалка не приходила к тебе?..
Тихий табор сразу ожил. Смех, говор, шутки. Закипела работа. Устанавливали палатки, сооружали кухню и столовую. А Бронька с Колей и Митей взялись за устройство лабаза из трех сосен-опор. Митя написал объявление:
«Продсклад Лев Мам партии работает с 08 до 17. Выходной — дождик».
А сверху вырезал ножом череп со стрелками и написал:
«Заминировано».
Шумно и весело стало в глухом уголке безлюдной тайги. А Огдында-Москит все так же невозмутимо несет свои воды в Левую Маму, а та, сливаясь с Правой Мамой, передает их Лене, тихо и таинственно шепчет она великой реке: «Ко мне человек пришел… Слышь, с молотком… Ко мне пришел человек…»
И вот наконец первый маршрут!
Их было трое: Зэн — коллектор, Митя Брага — промывальщик и Бронька — металлометрист.
Зэн совсем молодой, начинающий геолог. Прибыл в Подлеморье из далекой Украины на практику. В нем не по годам серьезная рассудительность, и он чем-то, почти неуловимым, смахивает на старичка. Ребята в шутку звали его «диду». Как и все украинцы, он любил свои звучные, прекрасные песни и умел петь.
Тщательно готовились ребята в первый маршрут. В рюкзаки сложили все необходимое. Перед выходом Зэн, загибая пальцы, шептал: «Мешочки для шлихов, лоток для промывки, скребок, лопата, геологический молоток, карта, пикетажная книжка…»
В этом маршруте они должны были произвести геологическую съемку по первой речке, впадающей в Огдынду-Москит справа. Дойдя до нее, Зэн проверил по карге ориентиры и весело сказал:
— Здесь, хлопцы, и начнем шлиховое опробование. Сначала отдохнемте.
В Керме-речке, которую собираются промывать геологи, вода что детская слезинка. Брось дробинку — найдешь.
Митька увидел золотистый камушек, схватил его и под частушку пустился в пляс:
Деньги брякают в кармане. Девки бегают за нами.— Ну, Бронька, держись! Заведет нас в ресторан и рявкнет: «Шире грязь! Митька-чалдон пришел с дружками!» — смеется Зэн.
Митя вытащил из рюкзака лоток, накидал со дна ручья песок и начал промывать.
Промывал он довольно долго. От напряжения на угреватом лице Митьки выступили мелкие капельки пота.
— Дай помогу, — предлагает Зэн.
— Это ни от лотка, солнце припекло, — отмахивается Митька и, улыбаясь, говорит: — Вот намою золотишка и драпану в город!
— А ну, покажи-ка твое «золото», — смеется Зэн. На дне лотка осели маленькие песчинки. — Хорошо, высыпай в мешочек!
Зэн отметил в книжке дату, место взятия шлиха и скомандовал:
— Айда, хлопцы, дальше!..
Первый маршрут был однодневный. К пяти часам вечера речка была уже промыта, и парни повернули в обратный путь.
На таборе находилась повариха Соня да несколько вновь прибывших геологов. Среди них выделялась старший геолог Нонна Дружинина. Даже грубая таежная одежда не могла скрыть ее стройной фигурки. Шла оживленная беседа. Слышались смех и восклицания. Что-то уж очень смешное рассказывала Нонна.
Подойдя к геологам, Бронька, чтоб не помешать беседе, тихо сел на поваленное дерево.
Огромные голубые глаза весело сверкали на красивом лице девушки. Тонкие, длинные пальцы нет-нет да поправят пышные волосы. Сквозь мягкую женственность чувствовалась воля, гордость и недоступность.
Заметив земляка, Нонна оставила собеседников и подсела к Броньке.
— Ну, как, привыкаешь к нашей жизни? — спросила она.
— Да она нам с детства примелькалась.
— Письма-то получаешь?
— Редко.
— А я тебе привезла!.. Знаешь от кого? Отгадай, а не то заставлю плясать.
— От кого же? — Бронька сделал смешное лицо, закрыл глаза и начал гадать на пальцах.
Нонна рассмеялась.
— Бери уж. — И, порывшись в полевой сумке, подала голубой конверт.
Бронька сразу узнал почерк. Обожгло всего. Позабыв поблагодарить Нонну, он бросился к палатке.
Вера писала, что поисковые работы идут удачно. Погода хорошая. Но настроение испортил несчастный сличай: медведь сильно поранил радиста. Вертолет увез со в больницу.
«Не знаем, что будет с ним. Броня, будь осторожней в тайге. Я очень скучаю по тебе. Единственное мое утешение, что осенью мы встретимся и уедем в Иркутск учиться.
Крепко-крепко целую. Вера».
Бронька тут же написал ей ответ. Закончил уже начатое письмо матери. В дневнике записал всего несколько слов:
«…Работа нравится. Все время в тайге. Вера во время наших ночных прогулок по морскому берегу хотя и заочно, ко хорошо ознакомила меня с работой в геологоразведке, с местным рельефом… Завтра Зэн и я выходим в двухдневный маршрут. Разговаривал с Нонной Дружининой. Она вошла в годы и стала совсем красавицей. Удивляюсь, ей уже двадцать четыре стукнуло, а еще не замужем…»
С утра небо снова стало хмуриться, обещая ненастье. Несмотря на это, геологи вышли в очередной маршрут. В этот раз они должны были пройти по Средней речке до гольца, перевалить через него и, спустившись к безымянному озерку, заночевать.
Ведя геологическую съемку, они поднимались все выше и выше. Под конец перед ними оказалась круча, покрытая россыпью, — чуть тронь, обвалится. Страшно было смотреть вниз.
Лишь к обеду, мокрые от лившего ручьями пота, взобрались на вершину гольца. Нежданно раскрылись пять голубых незабудок — пять озер, обрамленных нежно-зеленым бархатом летней тайги.
— Смотри, «диду», у тебя на родине этого и за деньги не увидишь! — показал вдаль Брага.
Зэн добродушно усмехнулся и ответил:
— Для этого я и учился на геолога, чтобы не только мог увидеть эту красоту, но и покопаться в ней.
— Вид-то хороший, да страшноватый к нему спуск, — тихо сказал Бронька, озабоченно всматриваясь в ущелье, которое мрачно ощерилось гранитными клыками.
Перекусив, парни пошли искать спуск. В одном месте, заглянув в пропасть, Митя громко крикнул. Вместе с эхом раздался сильный грохот. Геологи отпрянули в испуге.
— Обвал!.. От звука! — проговорил бледный Зэн.
— Не может быть, чтоб мой голос так рубанул…
— Ты, Брага, поосторожней, голосина-то у тебя, что у самого Шаляпина, даже горы рушит…
— А черт его знал!
Пройдя еще метров триста, нашли хоть и опасный, но сносный проход.
Только поздно вечером измученные парни едва доплелись до назначенного места. При их приближении закрякали утки, раздался шум от множества крыльев, отчаянно шлепающих по воде.
Стемнело. Опытный таежник, Бронька сразу же вооружился топором и пошел искать сухое дерево.
— Ты как топором сушняк ищешь? — спросил его Брага.
— Ты слушай, дерево само откликнется — сухое оно или сырое.
И действительно, при ударе одно из деревьев издало звонкий певучий звук…
— Стой, Бронька! Однако, это сухое, — обрадованно воскликнул Митька.
— Догадливый ты, Бражка, недаром огни и воды прошел!
Через несколько минут дерево срубили, и у его смолистого пня вспыхнул яркий костер. Из темноты всплыли березки, сосны, лиственницы, а у их подножий — кустарник и разнотравье. При первых вспышках огня все это удивленно задвигалось, весело затанцевало и угомонилось, лишь когда огонь вошел в силу.
Поужинав, ребята тотчас уснули.
Глубокой ночью Бронька проснулся от холода. Озябшее тело судорожно вздрагивало, зубы отбивали мелкую дробь. Костер лишь еле-еле тлел. Подбросив дров, он посмотрел на дружков. Зэн спал, уткнувшись носом в колени, а Митя прижался к нему головой.
Бронька усмехнулся: «Спят, словно поросята…» Не успел погрузиться в сон, как до его слуха донеслись подозрительные звуки… Кто-то крупный шел по заболоченному берегу озера. Зэн, как старший в группе, держал карабин при себе. Но сейчас ему было не до ружья: возможно, в этот момент он летал над прекрасными садами, бульварами и скверами родного Львова или над широкими просторами милой Украины. Его карабин лежал далеко в стороне, отброшенный Митькиным сапогом.
Схватив ружье, Бронька приоткрыл затвор. Заряжено… Он быстро разбросал поленья и тихо, делая журавлиные стойки, тщательно прислушиваясь, пошел к берегу.
Вот открылась свинцовая гладь озера, освещенная ущербным месяцем. Рядом чернеет огромная колода. Бронька устроился за ней…
Минут через десять он заметил темный силуэт, который чуть-чуть подвигается к нему. Вот ближе и ближе. Бронька еле унял дрожь в руках. Откуда-то из глубины души доносятся, перебивая и опережая один другого, два голоса, первый требует: «Беги к огню», второй, властный, твердый: «Не трусь! Бей его!..»
Стало так тихо, что Бронька слышит биение своего сердца. Только шаги зверя, нарушая обманчивую тишину, время от времени звонко чмокают в жижице таежного калтуса. Видимо, зачуяв что-то, силуэт вдруг застыл на месте. Тишина. Прошло две-три минуты. Силуэт снова двинулся на Броньку, опять послышалось чмоканье…
Ближе, ближе… Вот он, страшный, громадный, поравнялся с ним… «Ночью надо брать прицел пониже…» — вспомнил Бронька наставление Захара Захарыча.
Бронька приложился к прикладу и нажал на спуск… Толчок в плечо, пламя… Присмотрелся — зверь упал, бьется на месте. Передернул затвор. Второй толчок. Пламя… Третий, четвертый, пятый… Почти наугад.
Заряды кончились… В ушах звенит…
Зверь поднялся… упал… Снова поднялся и, пошатываясь из стороны в сторону, пошел к черному ельнику… Скрылся.
— Эй, Бронька! В кого стрелял?
— Ты с ума спятил!..
Бронька молча подошел к костру.
— Кажется, медведя ранил…
— Идемте искать! — предложил Брага.
— Бересты на факел надо драть, — советует Зэн.
— Спать надо. Днем найдем, — сказал Бронька и, подавая винтовку Зэну, добавил:- — Заряди палку-то.
Возбужденные ночным происшествием, парни долго не могут заснуть.
— Слушай, «диду», тебя от огня и палкой не отогнать, а вот Бронька все же напугал зверя, — шутил Митька Брага.
— Да я и не хвалюсь, — спокойно ответил Зэн, — но и у тебя штаны тряслись не меньше моих.
— Штаны-то у меня тряслись от холода, — пытался отговориться Митька.
— Да-да! Холоду тебе нагнал мишка! — смеется Зэн.
Броньке вдруг стало так хорошо, так весело в компании этих славных парней, которые безобидно подшучивали друг над другом. Неожиданно для себя самого он громко расхохотался, соскочил с места и стал тормошить то Зэна, то Митю.
— Стой-стой, медведина!
— Задавишь, зверюга!
Смеясь, отбивались друзья. Надурачившись, парни поговорили про раненого медведя и незаметно уснули.
Проснулись на восходе солнца и сразу пошли искать подранка. У колоды, из-за которой стрелял Бронька, приникла к земле жесткая трава. Там и сям валялись пустые гильзы. Отсюда он повел дружков к месту, где бился раненый зверь. Расстояние не больше тридцати метров. Здесь, у самой воды, звериная тропа змеится меж сплошных кочек, на которых растет клюква, жесткая осока, троелистник и кое-где жидкий кустарник. На том месте, где зверь был настигнут пулей, чернеет истерзанная, облитая кровью земля. Здесь бился косолапый хищник.
— Броня, возьми ружье.
— Давай.
След ведет в густой ельник. Помятая трава, кровь на ветках, листьях и стволах деревьев. Путь заметен даже и не следопыту.
— Далеко не ушел, где-то здесь лежит, — прошептал Бронька Зэну.
— Добре-добре! — улыбается «диду».
Вдруг зоркие глаза Броньки различили что-то черное в кустах красного ерника. Взмахом руки он предупредил товарищей, чтоб не шумели. По-охотничьи, кошачьими движениями сделал несколько шагов в сторону и увидел огромную тушу медведя, лежавшего за тонкой колодой.
— Вон там! — Бронька показал на колоду.
— Стреляй! — ответил Зэн.
— Наверняка околел, — уверенно сказал Брага. — Столько крови потерял.
Бронька прицелился и выстрелил. Зверь не подал никаких признаков жизни.
— Чудаки, ребята, он уж давно сушит лапти! — смеется Брага.
— Теперь дело ясное. А пулю в таких случаях не надо жалеть. Так учил меня Захар Захарыч, он-то уж знает… Перебил косолапых немало на своем веку.
— Наверно, трусит перед мишкой, вот и палит по дохлому… — говорит Митя.
— Ха! Вот таких, как ты, сосунков, они и ловят на удочку. Лежит такая вроде дохлятина, не дышит, а как подошел к нему, сгребет под себя и начнет обрабатывать… Много у нас таких случаев было.
— Бронислав знает, — убедительно тряхнул белокурыми кудрями Зэн. — Не то что мы с тобой.
Освежевав зверя, геологи изжарили на рожнях шашлык из почек, печени и сердца.
— Знаешь что, Зэн, я тебе дарю шкуру…
— А мне, Броня, подари голову! Буду носить ее вместо своей дурной башки. Может, сойду за небольшого начальника и кое-кого припугну? — смеется Брага.
— Бери, бери! — добродушно засмеялся Бронька, а потом уже спросил: — А как же с мясом-то быть?
— Каюры за один рейс вывезут всего медведя.
— А еще бы лучше на вертолете.
Итак, маршрут за маршрутом по Левой Маме, по ее бесчисленным большим и малым притокам. Люди загорели, похудели, многие отпустили бороды, отрастили длинные волосы.
Бронька возмужал: взгляд больших серых глаз стал еще тверже, сосредоточеннее, лицо — еще смуглее, парень раздался в плечах.
В дневниковых записях появились большие разрывы в датах. Блокнот был измят, а чернильные записи расплылись. Сколько раз геологов мочил дождь! Даже дневнику и то досталось.
Заглянем, читатель, в дневник.
«6 августа.
Вот что сделала природа с моими записями. Их очень трудно прочитать. В последнем маршруте дождь за два дня промочил нас до костей. На носу уже осень, а я не заметил, как пролетело лето. В последний раз я записал один из трудных маршрутов. А сколько их было за лето! Работа мне нравится. Сейчас мы ходим с Зэном вдвоем. Я промываю шлих и беру металлометрию. Маршрут был не из легких. Мы преодолели перевал через голец около двух тысяч метров. Мне кажется, что работать в геологоразведке даже для здоровья полезно. Целое лето на свежем воздухе. Большинство ночей под открытым небом у костра.
Я до сих пор не могу разобраться в себе. Мне по душе специальность шофера. Одновременно у меня есть желание поступить в музыкальное училище. Люблю музыку. Ребятам нравится моя игра на гитаре. Девушки тоже льстят, уверяя, что хорошо играю. А самая моя большая мечта — поступить в институт рыбного хозяйства. Выучиться на специалиста по разведению рыбы… Организовать в Чивыркуе рыборазводный завод! Эх, мечты, мечты!.. Завтра снова в маршрут.
18 августа.
Вчера пришли из очередного маршрута.
Видели медведя, но далеко. Он зачуял нас и убежал. Получил записку от Сони. Пишет какую-то ерунду. А в конце письма еще чище: «Целую в лобик, мой милый бобик!» Идиотство! Даже противно. Кажется, девка сбилась с панталыку в этих гольцах. Я написал сердитый ответ и вложил ее письмо. На днях выходим на Соли.
21 августа.
Мы вышли на озеро Соли. Оказывается, Соня и не думала мне писать. А написали Митька Брага и Коля Троян. Хохмачи! Вода в озере стала теплая. Мы катаемся на резиновых лодках. Ловим окуней. Даже добыли две форели. Все время едим уху. Нонне я изжарил форель по-байкальски. Она была очень довольна и сказала, что будто побывала у рыбаков Байкала.
30 августа.
Мы снова на Левой Маме. Погода стоит дурная. Уже четыре дня «давим клопа». Дождь льет с небольшими перерывами. Вода в реках поднялась. Несет деревья с корнями. Стоит страшный грохот. А со стороны смотреть красиво на эту жуткую силищу.
Сегодня с обеда засветило солнце, и все вылезли из палаток. Вдруг видим, из леса вышла девушка. Идет тихо и не спеша рвет цветы. Яркая косынка надвинута на глаза, как в кинофильме. Мы все сгрудились, с любопытством разглядываем ее и спрашиваем друг друга: «Откуда могла появиться в такой дыре этакая мадонна». А она все ближе и ближе. В руках букет цветов и дамская сумочка. Но когда «мадонна» подошла и раскланялась, мы все узнали в ней Митьку Брагу в платье и босиком!.. Смеялись до боли в желудке. Вспоминаю Веру и вечера, подаренные ею мне. Она любила позаводить меня, и это ей удавалось. В маршрутах ночами уже по-настоящему холодно. На гольцах в ненастье выпадает мокрый снег. Работы подходят к концу. Левую Маму скоро промоем всю — и домой.
8 сентября.
Находимся на Майгунде. Левую Маму промыли.
Лето пролетело. Я его почти не заметил. Каждый день новые впечатления. За сезон мы прошли более пятисот тридцати километров по Левой Маме и ее притокам. Не просто прошли, а произвели геологическую съемку — шлиховое опробование, определили границы пород, условия залегания пластов, собираем образцы и все эти каменья тащим на своих горбушках, порой по непроходимым дебрям и головокружительным кручам.
Завтра идем в последний маршрут. Только вместо Браги пойдет с нами студентка Нэля. Без Митьки нам будет скучно. Он нас чем-нибудь да рассмешит. В последнюю ночевку в лесу он рассказал нам, как однажды его усыновила семья колхозника. Старику было лет с полсотни, а ей — сорок. Кормили хорошо, но и работать заставляли здорово. Числились в колхозе, имели огромную усадьбу, которую засевали овощами. Держали пару буренок, пару свиней да сотню уток и гусей. Хозяйка все ездила с торговлей в город. А в остальное время копошилась на своем дворе и их со стариком допекала. Пили самогонку, которую гнали в бане. Напьются и ложатся валетиком. И вот однажды после очередной попойки старик лег и больше не поднялся. Перестарался мужик…
На похороны хозяйка наняла баяниста. На кладбище баянист начал было играть похоронный марш, но она замахала руками…
— Сыграй, голубчик, лучше «Шумел камыш», старик мой шибко жалобно пел эту песню.
Баянисту что, он исполнил просьбу хозяйки.
Пришли домой на поминки. Баянист начал было какую-то заунывную. Хозяйка замахала руками, теперь даже с угрозой, что не будет платить.
— Ш-ш-ш! Голубчик, играй только такие, которые любил покойничек. Ну, например, «Приходите свататься, я не буду прятаться»…
Баянист понимающе улыбнулся (он был мужик не промах). И с того вечера, братцы мои, пошло сватовство! Я смотрел-смотрел… Уж видывал виды, да где там!.. Пришлось драпать в детдом…
Да, Брага — бывалый парень.
Наконец последний маршрут! Скоро увижу Веруську! Маме Бадмаев перевел тысячу рублей. Как она там? Интересно, где мы встретимся с Верой? Каково-то будет! Ух, черт!..»
Утром группа геологов направлялась в сторону высоченных гольцов, окутанных прохладным туманом. Пройдя с километр, они остановились, пожали друг другу руки и разошлись.
Сентябрьское солнце нежно ласкало увядающую растительность, которая в гольцах и в подгольцовой зоне уже окрасилась в багряно-золотистый цвет.
На пути попадались причудливой формы скалы, напоминающие не то церковь, не то крепостную башню, не то развалины древнего замка. Их обрамляла пышная растительность, по которой уже прошлась кисть первых осенних заморозков и тонко-тонко украсила ее.
— Смотри, Нэля, как у Вальтера Скотта — развалины древних замков! — говорил Зэн, восхищаясь окружающей природой.
— Ничего особенного не вижу… Тайга, горы да хаос диких камней… Они порядком надоели за лето. Вот бы вечерком в город на танцы!..
— На гольце натанцуешься, — бросив недружелюбный взгляд на девушку, проговорил Бронька. — Ты ей зря про Вальтера Скотта. Она о нем и слыхом не слыхивала. Читает, конечно, только про любовь да танцульки.
— Да что ты понимаешь в танцах, медведь байкальский. Жрете там омулей с душком да пляшете свою «подгорную».
— Пусть даже «подгорную», но не заморские обезьяньи кривлянья. Настоящему человеку срам смотреть-то…
— Ты, Броня, даже поухаживать-то за девушкой не умеешь. Вот я уронила платок, небось не догадаешься поднять и подать.
В разговор вмешался Зэн:
— Ты, Нэля, Броню мало знаешь. Сначала я тоже ошибался в нем, грубоватый внешне, но…
— Так не узнаешь… Положено в зубы заглянуть, как раньше цыган коню, — сердито буркнул Бронька.
Разговаривая примерно в таком духе, они продвигались по извилистому ущелью, по которому, то теряясь, то вновь появляясь, текла капризная речушка. Как и обычно, через определенную дистанцию они брали пробу и шли дальше.
Переночевав в том месте, где речушка брала свое начало, уже к обеду второго дня они добрались до вершины гольца.
Отсюда, с высоты птичьего полета, покрытые синью, уходили вдаль отроги гордого Верхнеангарского хребта. Далеко-далеко виднелась огромная, заснеженная вершина гольца-великана. А внизу пенящиеся горные речки стремительно несутся на север и, где-то там сливаясь, образуют большую реку, по которой ездит человек на своих пароходах, катерах и лодках. Захватывающая душу, прекрасная, таинственная даль!..
— Эх, туда бы попасть! — чуть не враз воскликнули Зэн и Бронька. А Нэля лишь смотрела на парней и, скривив тонкие губы, сказала:
— Тоже нашлись новоявленные землепроходцы…
— А как же нас назовешь? — спросил Зэн.
— Салажата, вот как!
Зэн, как и положено мудрым старичкам, посмотрел на девушку ясными, спокойными глазами, и ничего не сказал.
Бронька с досады плюнул и выпалил:
— И зачем только таких барышнешек учат на геолога?..
— Ну и учись ты!..
— И выучусь… Если захочу… буду настоящим геологом! В любую тайгу смогу выйти один…
— Правильно, Броня, недаром Бадмаев тебя одного с продуктами забросил на Огдынду-Москит… Знал, что справишься, — заступился за друга Зэн.
Нэля остановила долгий взгляд на сильной фигуре Броньки и вдруг многозначительно сказала:
— Надо бы ему быть вежливым и добрым, а он какой-то дикий…
Наступило неловкое молчание. Зэн крякнул, давая понять, что пора прекратить перепалку. Бронька усмехнулся.
— Конечно, я дикий таежник. Дедушка у меня был бурят, а бабка — русская…
Отдохнув, геологи пошли вдоль гребня, собирая образцы пород и описывая ископаемую фауну. Рюкзак у Броньки час от часу становился все тяжелее. Он уже давно заметил, с какой быстротой надвигаются темные тучи, обволакивая дальние гольцы. Вот и у них появились рваные клочья. Все чаще и чаще солнце прячется за ними. Виновато взглянет на людей и отвернется. И вот оно скрылось совсем. Сразу потемнело. Ничего не видать. Все обволокло, словно сырой ватой. Одежда отсырела и неприятно прилипала к телу. Нэля зябко повела плечами.
— Ой, ребята, снова мокнуть?
— Пожалуй, лыжи тут потребуются, — хмуро обронил Бронька.
— Неужели снег выпадет?
— А вон смотри! — Бронька показал на темную стену, быстро приближавшуюся к ним.
Вскоре и в самом деле их накрыла сплошная снежная пелена. Далее пяти шагов ничего не видно…
— Такого снегопада я даже не представлял себе, — проговорил Зэн, стряхивая снег.
— Я тоже не видывал, — сознался Бронька.
Нэля подавленно молчала.
Снег так густо шел, что Броньке казалось, кто-то неведомый трясет над ними огромным кулем, из которого валом валит мокрый липкий снег.
Зэн по компасу проверил направление к табору.
— Надо уходить, пока не поздно.
— А мы не дойдем, как ты думаешь, по твоему компасу. Запомнил, каким кривляком шли сюда?
Зэн подумал и согласился с Бронькой.
— А ты как думаешь? — спросил он.
— Я немного запомнил наш путь… Ну, будем соображать… Почаще в карту заглядывать…
Шли почти на ощупь. Часто падали. Одежда и обувь намокли и отяжелели.
Бронька взглянул на часы. Тринадцать. Значит, снег идет всего час и за это время выпал почти на двадцать сантиметров.
Пройдя еще пару часов, они вышли в густой перелесок, в котором Бронька заметил много сухих деревьев. Снег выпал уже до колен. Тучинов вспомнил случай, происшедший у него с Захаром Захарычем, частенько бравшим его на охоту. Вот так же однажды их застал в тайге буран…
«Бронька, надо рубить больше дров и делать притулье», — сказал старый таежник и принялся подрубать огромную сухую сосну.
Когда все было готово и они пили в шалаше перед ярким костром густой чай, Захар Захарыч сказал:
— Сынок, в такую погоду никуда не ходи. Пойдешь — гибель примешь! Вымокнешь, как мышь, спички отсыреют, захочешь огонька — не добудешь… Сядешь отдохнуть, с устатку-то вздремнешь. Вот тебе и смерть. У нас так и гибли охотники… Давно ли это было в Бодоне-то…
Вспомнив этот разговор, Бронька остановился.
— Ты что, Тучинов, выдохся? — спрашивает Нэля.
— Выдохся, сейчас упаду, — усмехнулся Бронька. — Слушай, Зэн, пока не поздно, нам надо сделать односкатный шалаш и нарубить побольше дров.
— Пожалуй, ты прав — все равно до табора не дойдем…
— Вы с Нэлей делайте шалаш из еловых веток, а я буду готовить дрова.
Через полчаса ярко горел костер, на нем уже кипел чай, а Зэн с Нэлей заканчивали шалаш.
— Эй, строители, идите чайком греться! — весело пригласил Тучинов спутников.
Попив горячего чая, Нэля повеселела.
— Броня в тайге и в самом деле молодец! — смеется Нэля. Она поворачивается перед костром, от ее одежды идет густой пар. Штаны повыше колен порвались, и из дыры виднеется белое девичье тело.
— Штаны-то хоть заштопай, — советует Бронька, — недолго потерять их где-нибудь на кустах.
— Дай обсушиться-то, ни иголки, ни ниток с собой…
— У меня есть, — Тучинов достал иголку с ниткой и подал девушке.
— Благодарю…
А снег все валит и валит.
Тучинов, понурив голову, о чем-то крепко задумался.
— Броня, не вешай голову, лучше расскажи что-нибудь из жизни своих рыбаков и охотников, про Байкал, — просит Зэн.
Парень вздохнул и тревожно посмотрел на товарища:
— Я, «дидуня», о себе не печалюсь, думаю об остальных. Где они сейчас, добро бы так же устроились, как мы. А если бредут по тайге… Мокрые, спички отсырели… Как будут ночевать?.. Живая смерть…
— А неужели можно сейчас замерзнуть? — спросила Нэля.
— Отойди от костра и сядь под дерево, вот и узнаешь, что будет… — серьезно советует Зэн.
Вспомнив товарищей, геологи долго молчат. Лишь слышно потрескивание костра, шуршание падающего снега, да иногда плюхнется с ветки кухта — тяжелый ком мокрого снега.
В лесу наступила такая темнота, что в двух шагах ничего не увидишь. Снегу навалило выше колен. А что будет к утру?
— Продуктов у нас только на ужин, — задумчиво проговорил Зэн.
— Нужно их разделить поровну… Давайте…
Бронька разрезал на три части небольшой кусок хлеба.
— И консервы тоже придется так же, — хмуро сказал он.
Молча поужинав, Зэн и Нэля легли спать, а Бронька остался дежурить у костра.
Уже по второму разу парни сменили друг друга, и только перед самым рассветом Нэля сменила Зэна.
Когда совсем рассвело, девушка набила снегом котелок и повесила на таган. Вскипятив чай, она разбудила парней:
— Вставайте, чай остынет!
Поднявшись, Зэн умылся снегом и подсел к костру, а Бронька, как всегда, разделся до пояса и, сделав зарядку, натерся снегом. Красивое, мускулистое тело покраснело, вот-вот брызнет кровь. Покрякивая от удовольствия, он оделся и, растопырив сильные руки, подошел к Нэле:
— Подавай, повар, целого быка съем!
— Быка захотел! Вот тебе кусочек хлеба, довольствуйся этим… Остается еще по кусочку на обед, и все…
— Эх, черт, недаром же у нас говорят на Байкале: «У рыбака хотя и голы бока, зато обед барский! А у охотника дым густой, да обед пустой». Правильно сказано… Охотник да геолог частенько остаются без обеда.
Напившись чаю, геологи начали обсуждать свое положение.
— Снег не перестает идти, а продукты вышли… Надо продвигаться к табору, — советует Зэн.
— Правильно, идти нужно, сколько ни пройдем, а все ближе к людям.
— Неужели сегодня не дойдем? — тревожно спрашивает девушка.
— Об этом скажут наши ходули, — усмехнулся Бронька, — да еще, главное, с пути бы не сбиться.
Идти было очень трудно. Метровый липкий снег словно обнимал ноги, не давал ходу.
Зэн и Бронька попеременно мяли его, а бедняжка Нэля даже по готовой борозде и то еле передвигала ноги.
Через каждые сто-двести метров она просила отдохнуть.
После обеда девушка совсем ослабла и все чаще плюхалась на снежную перину.
К пяти часам, обессилев, Нэля упала и больше уже не могла подняться.
Зэн с Бронькой переглянулись и без слов разожгли костер, усадили на пенек девушку, а сами принялись за сооружение шалаша. Через полчаса все было готово, и обессиленная Нэля уже лежала на мягкой душистой постели из еловой хвои перед жарким костром. Она внимательно наблюдала за каждым движением Броньки и, в душе завидуя ему, думала: «Почему я не родилась вот таким парнем… сильным, ловким, красивым… и пусть даже с крутым характером…»
Заготовив достаточно дров, Бронька вскипятил чай, бросил в него щепотку соли и пригласил «ужинать». Хлеба ни крошки.
— Эх чаек! Недаром же у нас налегают на него — и хлеба не надо чаевщику.
— Чай — это сила! — шутливо поддерживал Зэн.
— Пей, Нэлька, не журись, — предложил Бронька кружку мутной жижи. — А вечером, после второго «ужина», я вам расскажу охотничьи рассказы старого Захара Захарыча… У него бывали случаи куда труднее, чем у нас. Смерть не только в глазах, она уже жует человека, даже слышно, как хрустят кости в зубах у зверя… И все равно, если не растеряется человек, он выходит победителем!..
Нэля вздохнула и начала пить горькую, с дымком, мутную, с угольками и иголочками снежную воду, которую Бронька называет чайком.
Снег, хотя не такой густой, но продолжал идти. Гудела от ветра тайга.
Разогревшись, Нэля полусидя уснула.
Бронька поднял ее, словно ребенка, и уложил на постель, подложив под голову рюкзак.
— Убайкалась… Ложись, «диду», в двенадцать разбужу.
Не смыкая глаз, сидит Бронька у костра и устало смотрит на огонь.
Лениво плещутся языки пламени, щедро обливая ярко-красным светом крохотный пятачок, где приютились геологи.
А тайга кому-то жалуется и нудно стонет под бешеным напором ветра.
Незаметно для себя Бронька сидя уснул. Долго спит парень. Покрытый угарной синью, еле тлеет огонь. Мороз донимает людей. Они скрючились по-собачьи, но не могут проснуться. Бронька во сне клюет, и один раз так сильно клюнул, что, ударившись об кучку дров, проснулся.
Поспешно развеселив костер, он взглянул на часы. Было два часа ночи.
Просидев еще с часок, он разбудил Зэна.
Еле-еле на востоке проступили краски рассвета, когда Зэн вскипятил воду и растормошил товарищей.
Сырая ночная муть постепенно отступала. Все яснее вырисовывались контуры окружающих предметов.
Нахохлившись, словно пташка в ненастье, сидит Нэля, протирая кулачками сонные воспаленные глаза.
— Пей, сестренка, надо уходить, пока есть силы.
— Да-да, скорее убираться из этих страшных гольцов. — Нэля, обжигаясь, пьет воду.
Молча «позавтракав», геологи покинули продымленный шалашик и пустились в путь.
Впереди идет Бронька. Сырой, липкий снег чуть не до пояса… Ему кажется, что он плывет по тугой, загустевшей, как тесто, воде. Нет-нет да упадет. Мягко!.. Перина нежно притягивает в свои объятия…
За ним — Зэн. Впервые видит житель Западной Украины такой свирепый буран. Растерялся. Здравый смысл подсказывает ему: «Доверься Броньке»…
От задымленной снежной воды, выпитой на голодный желудок, тошнит. Во всем теле слабость, боль… А идти нужно…
Бронька часто всматривается в окружающие деревья, в скалы, что-то шепчет про себя, а порой вслух. Порывом ветра донесло до Зэна:
— Не сбиться бы с пути, небось натворишь беды наспех-то…
За час прошли не более километра.
Снег идет с перерывами. Ветер с неослабевающей силой рвет все на свете. Темный, низкий небосвод давит на людей.
Нэля едва передвигает ноги. Часто садится в мягкий, прохладный снег, который так и манит лечь и заснуть… Нехотя поднимается и, вслух проклиная все на свете и в том числе геологов, плетется за парнями.
Наконец ей стало невмоготу. Почти без сознания упала она в снег и уже не поднялась.
— Идите… Никуда я больше не пойду…
— Сестренка, держись за меня и шагай, — уговаривает Зэн.
— Лучше я останусь здесь… а вы спасайтесь…
— Обалдела, дура, за кого нас принимаешь!
— Не сердись, Броня, обессилела я…
— Садись на горбушку!
Девушка испуганно подняла голову и недоверчиво посмотрела на сердитого парня.
— Ты же, Броня, не лошадь.
Впереди теперь идет Зэн. За плечами тяжелый Бронькин рюкзак с камнями.
За ним Тучинов. Судорожно обвив руками его шею, Нэля приникла к широкой спине. Светлые волосы рассыпались по Бронькиным плечам, попали за ворот рубахи и щекочут затылок.
Зэн часто оглядывается на товарища.
Прошли еще с километр…
— Ну, как, Броня? — тревожно спрашивает Зэн.
— Нормально… Дышать трудно…
Нэля лежит в полузабытьи.
Парни, отдохнув, снова поднимаются.
— Зэн, посади ее.
Нэля со стоном отрывается от сна.
— Лучше бы бросили меня.
— Замолчи!
Нэля, бледная, с полузакрытыми глазами, молчит. Под мерное раскачивание девушка погружается в полусонное состояние, и ей кажется, что она въявь ощущает всем телом что-то родное, материнское из времен раннего детства.
Очнувшись, Нэля видит: затылок, уши… капли пота… Ей становится стыдно за свое бессилие. «Бедный, славный Броня, какой он милый парень!..»
Бредут… Отдыхают. Снова бредут…
После обеда стали чаще садиться… Молчат.
Наконец Бронька подошел к огромной смолистой колоде, осторожно спустил на снег Нэлю, рукавом вытер пот. Посмотрел на Зэна, мотнул головой и в изнеможении сел на снег.
— Еще одну ночь проведем здесь, а завтра, я думаю, все-таки доползем…
— Ну что ж, отдохнем, Броня… А как думаешь, не заблудились мы?
— Не должны бы… Я давеча заметил скалу, похожую на бабкин старый самовар… Мы позавчера около нее отдыхали…
— У тебя, Броня, отличная зрительная память…
— Без этого в тайге погибель… Спасибо старику Захару, он выучил…
Отдохнув, Бронька срубил сухое дерево. Оно упало на колоду.
— Теперь дров хватит на две ночи, — довольный своей работой, сказал он и, тяжело дыша, опустился на снег.
Зэн, настрогав щепок, разжег костер. Неожиданно раздалось всхлипывание. Парни словно по команде обернулись и увидели плачущую девушку.
— Ты что, Нэля? — спросил Зэн.
— Я все видела… Броня срубил дерево и вроде меня плюхнулся в снег…
— Ну, а зачем плакать?
— Зачем-зачем… из-за меня и вы погибаете…
— Эх, Нэлька, ты еще не знаешь Броньку Тучинова. Сейчас сварим суп из стланцевых шишек!.. По дороге собрал…
Третий день бредут голодные люди по нескончаемому снегу. У одного за спиной рюкзак, у второго — обессиленная девушка.
В глазах мелькают темные круги, хочется плюнуть на все и упасть. Эх, как приятно лежать на мягком прохладном снегу!.. Вот бы лечь и… заснуть… Лежать и сладко спать… Как хорошо!
Но Бронька упорно идет и идет. Мокрые штаны до крови натерли ноги. Нестерпимо больно.
Зэн уже скоро сядет и не встанет… Бронька это видит по тому, с каким трудом его друг поднимается на ноги.
Нэля в тяжелом забытьи. Она чувствует себя беспомощной, маленькой, как в далеком детстве, будто сидит у матери на руках, уткнувшись носом в ее мягкую нежную грудь…
Временами она слышит резкие слова, но не может понять их смысла.
Окоченевшие Нэлины ноги болтаются словно колодки и больно бьют по Бронькиным, мешая ему идти.
Обозлившись, парень сердито кричит:
— Ноги-то подбери, мокрая курица. Это тебе не рок-н-ролл вертихвостить!..
В двенадцать они добрались до охотничьей юрташки. Над маленькой дверью кто-то старательно написал углем:
«Ресторан забудь печаль!»
Уж насколько были измучены парни, и то улыбнулись.
— Это уж какой-то бестия, вроде нашего Браги, выдумал.
— А что будем делать дальше? — спросил Зэн.
— Осталось километра четыре до Майгунды-Москит… Надо стрелять.
При упоминании Майгунды Нэля подняла голову и слабым голосом спросила:
— Уже недалеко?
— Да, кажется, ушли от смерти…
С перерывами через пять минут Бронька посылал пулю вверх.
Вдруг геологи услышали сразу несколько беспорядочных выстрелов.
Обрадованные парни начали разжигать костер и греть воду.
— В готовом-то кипятке консервы через пять минут согреются, — весело проговорил Бронька. — Эх, и рубанем!.. Я бы сейчас целого барана съел!..
Нэля подползла к костру и с трепетом ожидала людей..
Через час с небольшим произошла радостная встреча.
На Майгунду пришли уже поздно вечером.
Табор гудел от многолюдства. Закончив работу, собрались геологи с обеих партий. «А Вера-то где же? Она в ихней партии работала»… — Бронька обошел весь лагерь, но ее не встретил. Повариха Соня, махнув на всех остальных, хлопотала только около вновь прибывших.
— Ты, Броня, что так сильно раскис? — спросил Брага.
— На тебе бы проехаться по такому снегу, — укоризненно ответила за Броньку Нэля.
— Так ты не сама вышла? — спросил Бадмаев.
— Если бы не Броня, лежать бы мне где-нибудь под снегом.
Бадмаев подошел к Броньке и крепко сжал его плечи.
— А что же молчишь-то, орел!..
Тучинов раскраснелся, но ничего не ответил.
После ужина они разошлись по своим палаткам и впервые за несколько дней скинули тяжелую, неуклюжую обувь, разделись до белья и блаженно улеглись спать в своих спальных мешках.
Бронька проснулся лишь в обед следующего дня. В ушах стоял шум, болела голова, мучила жажда.
В палатку зашел Митька Брага.
— Ну, как, кореш, чувствуешь себя?
— Все тело ноет… а голова — будто бы чугунка с горячими углями…
— Голова — чепуха… завяжи да лежи, а гроши Бадмаев сполна заплатит… Будь уверен! Получишь карман денег и — Митька не чешись!
Бронька улыбнулся и спросил:
— А Вера-то с Колей пришли, нет?.. Вечером-то их не было…
— Нет еще… Придут!.. Начальник-то Нэльку и «диду» на вертолете отправляет… До Нижне-Ангарска, а дальше самолетом… Вишь, на учебу им надо…
В палатку вошел Зэн и, опустившись на землю, внимательно посмотрел на Броню своими умными спокойными глазами.
— Как самочувствие, Броня?
— Хвалиться не приходится.
— Я улетаю… обменяемся адресами…
Бронька радостно закивал головой и, достав свой потрепанный дневник, трясущимися руками записал: «г. Львов, ул. Шевченко, д. 75, кв. 4, Бондаренко Зеновию Станиславовичу (милому «диду» Зэну)».
Спрятав дневник, он продиктовал Зэну свой адрес.
— Ты, Броня, старый адрес даешь… А как учеба?
— Учиться-то я буду… только сначала заеду домой. Там у меня дела… Знаешь, Зэн, я смалодушничал и не разоблачил у себя в колхозе плохого человека.
Зашли Бадмаев и Нэля.
— Пил лекарство? — спросил начальник, заботливо укрывая Броньку одеялом.
— Нет еще. Сейчас Брага принесет… Вот он пыхтит…
Митя принес горсть таблеток.
— Вот, Бронька, ешь… зараз всю простуду выгонит…
— Дай-ка сюда, я посмотрю, — Бадмаев забрал таблетки. — Бекарбон, стрептоцид, пенициллин, асфен, пурген… Стой, брат, а пурген-то зачем, а? Это же слабительное… Вот еще нашелся врач!
— Врач не врач, но если сожрать столько лекарств… Совесть-то у болезни есть, — оправдывался Брага.
Бадмаев подал пару таблеток.
— Вот, Броня, пока проглоти.
— Такому-то сохатому… это просто муха! — пренебрежительно плюнул Брага.
Бадмаев рассмеялся.
— Забавный ты парень, Брага… А тебе, Тучинов, надо в больницу… Через час Зеновий с Нэлей вылетают. Ну и ты с ними…
— Никуда не полечу, пока… пока не дождусь Веру с Колей. Может, придется идти искать.
— В таком состоянии в тайгу идти нельзя… Я пока здесь начальник… А хуже будет, без разговору в больницу…
Бадмаева позвали, и он ушел.
— Ты, Нэля, прости меня… это я так ругался, чтобы совсем не раскиснуть.
— Броня, я ничего, абсолютно ничего… не слышала. Ты же спас мне жизнь… Я никогда не забуду тебя. Выздоравливай… — Нэля, быстро нагнувшись, поцеловала парня и, закрыв лицо, выскочила из палатки.
Зэн все время сидел в углу и молча наблюдал за Бронькой. Соня принесла завтрак.
— Ешь, Броня… теперь отъедайся… самые вкусные куски буду откладывать тебе… — Повздыхала и ушла.
Зэн поднялся:
— Ну, что ж, старина, дай лапу… Пиши о своем Байкале… Я наверняка буду скучать… В общем, старче, не забывай… Скорее выздоравливай… Коле и Вере привет… Наверное, их уже встретили.
Еще раз пожав Броньке руку, Зэн вышел к вертолету.
Через четверть часа поднялся гул «стрекозы». Бронька вздохнул и прошептал:
— Каких людей довелось мне встретить в этих гольцах! — И тут же мысленно улетел в снежные дебри, где еще страдали его друзья.
…Пятый день лежит в палатке Бронька. Прилетают и улетают вертолеты. Хмурые, озабоченные люди. Длинные-предлинные дни они с поварихой Соней проводят лишь вдвоем. С утра он читает вслух, но к вечеру его начинает снова знобить. Он забирается в спальный мешок и лежит с открытыми глазами, прислушиваясь к таежным звукам.
— Сонька, ты что-нибудь слышишь?
— Нет, Броня…
Тишину нарушают лишь МИ-4. Они ежедневно забрасывают все новых и новых людей — геологов, охотников с собаками… Даже прилетели люди из Саянской экспедиции. Кружатся самолеты над теми местами, где проходил маршрут Веры и Коли.
Злится Бронька:
— Проклятая болезнь!..
На седьмой день исхудавший Бронька утром встал со всеми наравне и больше уже не ложился.
Лучистые серые глаза запали, щеки стали бледно-желтыми. Во всем теле чувствовалась слабость.
В этот же день прилетел и Глеб Максимыч.
Старый геолог выглядел очень суровым и крайне озабоченным. Поздоровавшись кивком головы, он с начальником партии ушел в его палатку.
Через четверть часа разыскал Броньку. Крепко пожав руку, Глеб Максимыч взглянул любящим ласковым взглядом.
— Я все знаю, сынок, спасибо… Обрадовал старика… Только выглядишь плоховато…
— Глеб Максимыч, я полечу с вами на розыски?..
— Не раньше чем через три-четыре дня… Понятно?!
День тянется ужасно долго. Повариха стала часто ругаться:
— Ты, чума, заморить себя хочешь с голоду?.. Я Бадмаеву скажу, чтобы тебя отправили в больницу… скажу, ничего не ест… зачахнет, доходяга…
Бронька морщится.
— Ты уж, «богиня желудка», пощади меня…
Вечером приземляются вертолеты… Выходят мрачные, уставшие люди… молчат.
И вот наконец ему разрешили лететь в гольцы.
С небольшой группой охотников-эвенков он высадился на берегу незнакомой речки. Старшим над этой группой был Сотник.
— Нам, товарищи, поручено прощупать эту реку… Есть предположение, что они утонули при переходе через нее. — Сотник посмотрел куда-то наверх и продолжал: — Маршрут у них протяженностью в двадцать восемь километров. В предполагаемой территории пребывания наших друзей мы обшарили буквально каждый метр… Как в воду канули… — закончил молодой геолог.
Соорудив два плота, люди поплыли к речке. В прозрачной воде виднелись даже самые мелкие разноцветные камешки. Местами выступали огромные плиты с темными расщелинами. В таких местах щупали баграми.
Через два дня к ним забросили еще с десяток людей. Таежники плавали вдоль и поперек реки, ходили по берегу, углублялись в лес… И — никаких результатов.
Вечерами сидят у костра мрачные люди. Молча курят. Эвенки — эти дети таежных трущоб — были особенно удручены. Ведь они здешние места знают как свой дом, как свой поселок Уоян… Но надо же — не могут разыскать. Вера с Колей исчезли бесследно.
Каждую ночь Бронька видит их во сне то живых, то мертвых, то распухших и раздетых речной волной, то в неестественной позе в снегу, то весело возвращающихся из маршрута… Вот бежит к нему Вера. Повисла на шее, смеется, целует.
Дядя Агдыр со своими оленями трудится наравне со всеми. То в поисках, то перевозит продукты… Вот и сейчас они сидят с Бронькой и тихо беседуют:
— Дядя Агдыр, неужели не найдем?.. Ведь они не иголки все-таки… Мне кажется, что они живы. Не могли они погибнуть.
— Ох, Бронька, хозяин умеет прятать… Шибко мастер… Верка была красива девка, вот он и забрал ее к себе в жены… А Колька — молодой старательный парень, теперь пастухом работает у «горного хозяина»…
Бронька недовольно морщится:
— Это уж сказка, дядя Агдыр. Они просто заблудились.
— Ох-хо-хо, молодой народ старикам не хочет верить… Это худо, шибко худо…
Измученные люди продолжают упорно искать. По два-три раза прошли они по одному и тому же месту. Прощупали все реки. Ходят цепью в сопровождении охотничьих собак.
На вертолетах перебрасывают людей с одного конца маршрута в другой. Каюры замучили своих оленей. Выпал еще снег. Ночами в речках забереги стали покрываться тонким ледком. Плоты обмерзли и стали скользкими. Однажды утром Бронька упал с плота в ледяную воду. А в другой раз улетел в глубокую расщелину между скал… Его спас толстый слой мягкого слега. Отделался ушибами и синяками.
Начались осенние снегопады. Все чаще стали дуть злые северные ветры. На реках намерзало все больше льда…
Из управления пришел приказ о прекращении поисков до будущего лета.
Левую Маму Бронька покинул последним и улетал вместе с Бадмаевым и Глебом Максимовичем. Сердце ныло до боли, звало туда, в холодные гольцы, где остались Вера с Колей.
В Нижне-Ангарске, выскочив из вертолета, побежал к тете Даше.
Она встретила Броньку как родного.
— Вот и голубчик мой прилетел!.. А Коля-то с Верой что наделали… вот уж бедненькие-то, как же это они ошиблись… — причитала добрая женщина.
— Да, ошиблись…
Бронька окинул знакомую комнату и вспомнил первую встречу с Верой… Вот стоит она рядом и улыбается ему…
— А здесь уже все знают, как ты Нэлю на себе вынес… Тоже бы ей капут… Ох уж, не женское это дело… — словно сквозь сон слышит он.
Парень тяжело вздохнул, пожилая женщина понимающе взглянула на него и пригласила к столу:
— Садись, Броня, на свое любимое место в углу… ешь, что бог послал…
Бронька затряс головой и сел на порог.
— Лека-то наша где? — едва слышно спросил Тучинов.
— В гости ушли с матерью.
На закате солнца Глеб Максимович с Бронькой пришли на берег осеннего Байкала. Сели на разбитую «хайрюзовку» и, по старой привычке, молча углубились в созерцание любимого моря.
Просидев с четверть часа, Глеб Максимович взглянул на парня и спросил:
— Броня, помнишь, как мы с тобой отпустили в Духовской матерого сига?
Парень скупо улыбнулся.
— Помню.
При воспоминании о совместных рыбалках Бронька как наяву увидел свой дом, мать и на стене выцветшую фотографию: стоят два офицера — это Иван Тучинов — командир взвода и Глеб Максимович Сизых — парторг роты… Бронька вздохнул: «Эх, отец!..»
Вдруг до слуха донеслись обрывки знакомой песни, которую сочинили геологи:
. . . . . . . . . . . . . . . . …Помнишь ли таежное зимовье На закате розовой зари?..Остальные слова унес порыв «ангары». И снова:
Уезжая, Вера дорогая Увозила радость и печаль…Ветер со свистом… Большая пауза.
Отшумели воды Левой Мамы. Мы с тобой расстались навсегда.Последние слова еле-еле расслышал Бронька. От них подступил горький комок к горлу, глаза заполнились слезами. Перед ним мелькнул голубенький платочек, и он, как наяву, услышал:
— Заедем домой, Броня, омульков покушать!.. А потом учиться!..
— Эх, Левая Мама! Не мама ты, а злая мачеха…
Глеб Максимыч сидит словно в оцепенении и смотрит на чернильно-черное море.
— Броня, я что-то продрог, проводи меня.
— И в самом деле, Глеб Максимыч, прохладно стало…
— Скоро зима… Да, кстати, я все хочу спросить, Броня: куда ты думаешь теперь?
— Буду учиться на геолога. Но сначала я должен…
— Да, сначала ты должен помочь своим рыбакам разоблачить того мошенника… Как его?
— Черных.
— Вот, вот, сынок!
Вдруг где-то вдали от берега зашумело море. То шел встречный ветер. Вихрясь и сплетаясь в тугие узлы, «ангара» с «култуком» в каком-то дьявольском танце закружились на одном месте.
Шум все ближе. Он постепенно утихает.
Наконец ветры, смяв друг друга, утихомирились. Наступил штиль, лишь легкий холодок, идущий от моря, бодрил людей.
ОТ СВЯТОГО ДО ГОРЕМЫКИ
ГЛАВА I
Багровое солнце медленно спускается за сверкающие белоснежные гольцы. Последний луч его кровянистой пикой неторопливо скользит по вершине Байкальского хребта. Отсвечивающие красноватыми бликами пологие волны лениво лижут цветастую прибрежную гальку.
Сидор Стрельцов со своим двенадцатилетним сыном Петькой сложил в лодку низенькие хариузовые[37] сети и отчалил от берега.
Природа готовилась к ночи. Гордо возвышающиеся над морем скалистые горы и покрытая прозрачной голубизной зеленая тайга, словно утомившись от жаркого июньского солнца, застыли в тихой дреме, в каком-то торжественном безмолвии. Казалось, что они внимательно следят влюбленными светлыми глазами за своим суровым седовласым богом, которого рыбаки Подлеморья тоже обожествляют и зовут Священным морем. А оно, купаясь в вечерней прохладе, слушает тишину, которую лишь изредка нарушают крикливые чайки.
Но рыбакам не до красот пышного заката, который облачил в яркие цвета окружающую природу. Петька сидит в корме и легким кормовым веслом правит лодкой, а Сидор в гребях. В его сильных руках просмоленные еловые весла послушно двигаются взад-вперед. Четкие, упругие гребки заставляют лодку с шипеньем нестись по красновато-голубой глади.
Петька с завистью любуется быстрыми и ловкими движениями отца. Большие отцовские руки все умеют делать. Посмотрели бы вы, как они обрабатывают рыбу! Раз, два — хрум-хрум, и рыба готова к засолке, всего два коротких движения ножом. Или сеть чем-нибудь порвало, такая дыра, что корова пройдет сквозь нее и не заденет. Быстро замелькает в его руках деревянная игла. Не успеешь оглянуться — дыры как век не бывало.
Сегодня загорелое лицо Сидора часто хмурится. Чем-то он недоволен. Из-под насупленных бровей зорко смотрят сердитые черные глаза. Они с досадой следят за реденьким плавежом рыбы.
— Кажись, Петруха, только зря сети мочить будем. Хариус-то не плавится, видать, непогоду чует.
— Ничо, тять, пусть мокнут, зачем же им на вешалах-то висеть.
— Правду, паря, баишь, пусть мокнут, на то оне и сети.
Сидор перестал грести и огляделся кругом.
— Бери, Петруха, на нерпичью пещеру, оттуда и начнем метать. Только «гусей»-то не гоняй.
— Ладно, тятя, а про «гусей»-то ты зря. Видишь, видишь, как идет лодка! Нисколечко не вихляет, ни капельки.
— Чо и баить, помор!.. Башлык[38]… Лодка-то как по струнке идет… Только одна беда — зуд тебя мучит, што ли, шибко часто вертишься, вот и «гуси» начинают разбегаться.
— Ха, поневоле завертишься!.. Вон, тять, смотри, смотри! Под утесом утка с утятами спряталась!.. А вон нерпа вынырнула и смотрит на меня, дразнится.
— Так и смотрят все на тебя. А лодка-то куда повернула?!
— Вай-вай! Сейчас, тятя, направлю ее прямо на нерпичью пещеру.
Подплыв совсем к берегу, Сидор левым веслом резко стабанил, а правым, гребнув несколько раз, развернул лодку носом в море.
— Петруха, садись в греби, а я буду метать сети.
Переходя из кормы в носовую часть лодки, мальчик невольно залюбовался покрытым разноцветными камнями и высокой ярко-зеленой водорослью дном моря. Вода была настолько прозрачна, что Петьке показалось, будто лодка висит в воздухе над подводной тайгой и вот-вот взлетит вверх, как чайка в погожий день, и унесет их с отцом в неведомые края.
— Но-но, шевелись! — сердито окликнул отец.
Петька быстро надел дужки весел на уключины и стал изо всех сил грестись в море.
— Лодку-то держи чуть наискосок… вот-вот так.
— Знаю, тятя.
Ловкими, размашистыми движениями рук Сидор мечет сети. За лодкой остается ровный ряд желтеньких берестяных цевок, нанизанных на верхнюю тетиву, которые так и остались бы на поверхности воды и всю ноченьку приплясывали на мелкой ряби от легкого бережняка. Но их неумолимо тянут вниз железные гальки нижней тетивы, и они нехотя, один за другим скрываются под водой.
Уже в потемках рыбаки подплыли к своему табору. За мысом, где рыбачит сосед Сидора, Егор Лисин, горит яркий костер.
— Егорша-то с немтырем рано управились.
— Ничево, тять, мы все равно больше их добудем.
— Ишь ты какой! Все бы больше других промышлял… Истинный баклан, ей-бог.
— Сам то и дело говоришь мне: «Учись, Петька, смотри, как я промышляю, башлыком будешь…» Чьи это слова?
— Хм, какой же я помор, если свово волчонка не натаскаю и не сделаю из него доброго рыбака.
Лодка стукнулась о подводный камень, остановилась и беспомощно легла набок.
— Фу, черт! С разговорами-то проскочили мимо. — Столкнув лодку с камня, Сидор провел ее в узкую канаву разбора[39].
Под треногим таганком чуть тлели головешки. Сидор, опустившись на четвереньки, поднес кусочек бересты к углям и начал раздувать огонь. Вскоре вспыхнул яркий костер. Петька сбегал за водой и подвесил котелок на таган, а Сидор вынул из лагуна двух присоленных хариусов и, разрезав их пополам, насадил на плоский рожень и воткнул его перед огнем.
Через некоторое время рыба начала румяниться, и закапали янтарные капельки жира.
— А рыбка-то жи-ирная! — облизнул пересохшие губы Сидор.
— Тять, а почему белый хариус жирный, а черный сухущий? — спросил Петька.
— Потому, сынок, что белый хариус пасется на богатых пастбищах и он, чертяка, обжора несусветный, даже колючего морского бармаша и то слопает. А голомянку или бычка жрет походя и сколько выдержит его пузо. Понял? Попадется икра — икру соберет, только вот от осетровой отвернется, потому что она черная.
— Но уж тоже сказал! Осетровой икры брезгует…
— А-а, ты тоже в этом деле кумекаешь! — Сидор рассмеялся и повернул рыбу спиной к огню. В котелке забулькала вода.
Петька порылся в суме и достал кожаный мешочек с чаем.
— На, тять, сам заваривай.
Сидор отломил небольшой кусочек черного плиточного чая и бросил его в кипяток.
— Чаек готов, скоро и рыбка изжарится. — Сидор, попыхивая трубкой, добродушно улыбается.
— Ох, как долго жарится! — не вытерпел Петька.
— Терпи, помор, башлыком будешь!
— И-исть хочу!
— Ладно, не ной… Грестись дык руки болят, а как за стол — рад жареху совсем с рожнем слопать.
— Тять, а ты сам же мне говоришь: «Ешь, Петька, больше, сильным будешь».
— Так-то оно так, только терпенья у тя нет. Надо уметь терпеть, ждать молчком.
После ужина отец с сыном забрались в свою крохотную юрташку и устроились спать. Море о чем-то чуть слышно нашептывало берегу. Где-то вдали приглушенно, словно под землей, кугукал филин, Потом все стихло. Уже засыпая, Петька услышал шум падающих от скал камней.
— Это, тятя, что? Медведь ходит? — тревожно спрашивает он.
— Спи, это так, сами по себе камни скатились, — успокаивает помор сына, — надоело им лежать, вот и бухаются поближе к морю. Ты любишь воду, и оне тоже…
Сидор сердито ругается про себя: «Черт косолапый, приходил бы потихоньку и жрал вонькие кишки. Спужат, гад, парнишку».
Уже давненько ходит по ночам на рыбацкий табор огромный старый медведь и поедает рыбьи отходы. Просыпаясь среди ночи, Сидор слышит, как чавкает и пыхтит зверь.
А море тихо-тихо шепеляво нашептывает: «Ш-ш-шпи, ш-ш-шпи». Ослушаться деда Байкала нельзя. Все погружается в светлый чуткий сон. Засыпает под эти таинственные звуки и шорохи и маленький помор Петька Стрельцов, которому снятся самые волшебные сны.
Сидор проснулся на утренней заре. Потеплее накрыл Петьку тулупом. Пусть спит парнишка, один управлюсь.
Несмотря на середину июня на побережье Подлеморья утренники бывают холодными.
Сидор легко столкнул лодку и вывел ее из разбора. Чтобы разогреться, рыбак гребет изо всех сил. А на востоке во все небо разгорается заря, окрашивая розовым цветом горы, тайгу и зеркальную гладь воды.
— Хм, а Егорша-то ишо дрыхнет. Тово и жди, што на восходе налетит ветрюга, — разговаривает вслух помор.
Оглянувшись, он увидел маяк — из воды торчит длинный шестик, привязанный к сетям. Сидор ловкими, сильными движениями весел направил лодку на маячок и схватил его на ходу. Холодная вода обожгла руки помора, но он не обратил никакого внимания.
В прозрачной воде забелел живот хариуса, через пять-шесть метров запутался второй, на таком же расстоянии сидит третий, и так по всем сетям.
— Жидковато, батюшко, седни отпустил… что жалеешь-то, али на глубь рыбка ушла, — разговаривает Сидор вслух с морем.
Куда-то улетел теплый тулуп. Сразу же Петьку бросило в озноб, будто опустили его в ледяную воду.
— Эй, башлык, ядрена курица, хватит спать! — услышал он грубый голос отца.
Выполз из юрты. Волосы взлохмачены, глаза — две щелки. При виде яркого солнечного утра и булькавшего на тагане котелка с ухой он потянулся, как щенок, и взвизгнул от радости. Аппетитно пахнет ухой, приправленной черемшой.
А море такое голубое, никак не отличишь от неба. Только и видать синюю полоску, где-то уж далеко-далеко — это небо наклонилось к морю и целует его, как мама Петю давно-давно в детстве. В утреннем свежем воздухе кричат чайки.
Отец сидит у костра и дымит трубкой.
— А-а, сам башлык явился! Как спалось-то?
— Ты, тятя, пошто меня не разбудил? А рыбы много попало?
— Плоховато.
Чудесный запах свежей ухи ударил по носу, и у Петьки потекли слюни.
— Ой, исть охота!
— Опять же исть! Да ты для начала сбегай в кусты, потом рожу обмакни в воде, а там и за стол можно.
Наверно, никто не умеет так варить уху, как поморы. Настоящая рыбацкая уха, что может с ней сравниться!
Петька орудует большой деревянной ложкой. Торопится, обжигается, жмурится от удовольствия и через несколько минут откатывается от столика.
— Ох, тять, однако, «турсук» может лопнуть! — смеется, шлепая себя по животу, Петька.
— Ешь сколь душе угодно, для башлыка же ведь варил.
— Не-не, хва, хва! — отказывается мальчик.
— Маловытный[40] ты, потому слабак, не пройдет и двух часов, опять начнешь ныть — «исть хочу».
Сидор посуровел. На смуглом, обросшем лице легли морщины. Он сунул в карман трубку с кисетом и поднялся из-за стола.
— Петруха, ты иди к вешалам разбирать сети, а я распорю рыбу. Може, седни заколочу лагун. Понял?
— Разберу, тятя, небось ни одной титьки[41] не оставлю, все распутаю.
Промысел хариуса подходил к концу.
Однажды в предутреннем пепельном полумраке Сидор услышал удары волн о берег и встревоженный выскочил из юрты. С моря дул «парусник», который заметно прибавлял.
Небольшие, но крутые волны, сердито шипя, налетали на каменистый берег.
«Эх, дьявол! Тово и гляди разбушуется! Хоть бы успеть снять сети. Не то забьет тиной и в клочья раздерет все снасти», — пронеслись тревожные мысли.
Сидор заскочил в юрту и поднял сына.
— Петька, сивер налетел!
Мальчика словно ветром сдуло с постели.
— Ой, сети-то разорвет! — вырвалось у парнишки. Вперед отца он юркнул в отверстие берложки и бросился к лодке.
Сидор с Петькой столкнули лодчонку и враз заскочили в нее. Легкую «хариузовку» стало кидать, и она раза два гулко стукнулась о подводные камни. Петька оттолкнулся кормовым веслом, и лодка, выскочив из разбора, как норовистая лошадь, высоко взметнулась вверх и сразу же бросилась вниз в темную пучину. Сильными рывками помор вывел лодчонку на глубь, а Петька направил ее к Тонкому мысу, где стояли сети.
Порывы ветра становятся все сильнее и сильнее. Волны бугрятся, и на них появились белые гребешки, которые заглядывают в лодку.
— Не спужать Сидора… Знаю тебя, чертяку, оставишь в море сети — одне фитили снимешь, а то и тех не будет. Все сожрешь! — как с человеком разговаривает помор с ветром.
— Тять, эвон маяк! — крикнул Петька.
Голос парнишки, слетев с губ, мгновенно утонул в шуме и грохоте волн, но помор, внимательно следивший за каждым движением сына, все понял без слов.
Ловко лавируя между волнами, рыбаки подъехали к маяку. Сидор, изловчившись, схватил его и, стоя на ногах, потянул сети за обе тетивы.
А волны кидают лодчонку, как щепку. То она взлетит так высоко, что оттуда видать всю окрестную тайгу, то нырнет в темную пучину, где над головами людей угрожающе бурлит и шипит громада зеленоватой воды.
«Хорошо, что поставили на одну ставежку», — подумал Сидор, вырвав последние метры сетей.
Петька умело развернул лодку и направил ее к табору. Сидор изо всех сил нажимает на весла и попутно помогает сыну поворачивать норовистую лодчонку в ту или иную сторону. По тому, как слаженно действуют отец с сыном в такую штормовую погоду, было видно, что они уже не один сезон промышляют вместе.
Поравнявшись с разбором, рыбаки выждали самую большую волну и на ее гребне направили лодку в берег. Не успели они моргнуть, как «хариузовка» ударилась о мелкие камушки. Сидор с Петькой стремительно выпрыгнули и, ухватившись за борт лодки, потянули ее на берег.
Мокрые сети с рыбой да просочившаяся через щели вода сделали лодку неодолимо тяжелой. Как ни старались отец с сыном, не смогли ее сдвинуть с места.
— Погоди, Петька, подождем вон ту волну! — Сидор мотнул головой в сторону накатывавшейся громады.
Вот налетел стремительный вал и, как щепку, взметнул вверх лодчонку.
Петька оказался на миг в воздухе и засучил ногами. Краешком глаза он увидел, как отец, взмахнув руками, упал под лодку.
— Ой, мама! — в ужасе вскрикнул мальчик и бросился к отцу.
Второй день Петька с Егором и глухонемым Пашкой, подменяя друг друга, гребут в сторону дома. Лодка с больным Сидором Стрельцовым тянется на буксире. У Петьки сильно опухли ладони рук и сплошь покрылись ссадинами и кровяными мозолями. В перерывах, когда в греби садится сам Егор, он перебирается в свою лодку и с тревогой склоняется над отцом.
— Тять, тебе легче стало, нет? — дрожащим голосом спрашивает он.
— Пить… дай глотнуть, — с хрипом шепчет больной.
Напоив отца, Петька роется в огромной суме, сшитой из нерпичьей шкуры, достает кусочек черного, крепкого, как камень, сухаря. Перевалившись через борт, он отмачивает его, а затем долго-долго жует, пока не получится горькая кашица. Подцепив эту кашицу на указательный палец, он насильно толкает ее в рот больного. Сидор сердито мычит, машет головой и выплевывает.
— Ты же, тятя, с голоду замрешь!.. Пошто куражишься-то? — укоряет Петька отца.
Ничего не добившись, мальчик залезает под носовую шакшу[42] и, уткнувшись в водорез лодки, горько плачет. Ему так жалко отца, что он забывает про нудную мучительную боль в окровавленных руках.
Сидора спасло от неминуемой гибели то, что, упав, он оказался между двумя гранитными плитами и удар падающей лодки был смягчен ими. Но несмотря на это, у него была повреждена грудная клетка и сломана кисть правой руки. Ни на минуту не отступала страшная боль в пояснице.
Жалко, ох, как жалко Петьке отца, человека сильного и крепкого, который вытянулся, как покойник, и лежит пластом в лодке. Не ест ничего, а лишь пьет и пьет холодную воду. А разве от воды будешь сытым?
— Ты же, тятя, с голоду замрешь, — шепчет сквозь рыдания Петька.
О тонкие кедровые доски «хариузовки» мягко ударяются крохотные волны.
«Шлеп-шлеп, Петь-ша, шлеп-шлеп, Петь-ша», — успокаивают они мальчика на своем «водяном» языке.
Над Петькой наклонилась мама. В ее больших голубых глазах страдание. Она ласково глядит и убаюкивает его, как это делала она давным-давно. И мальчик, медленно кружась в каком-то жарком багряном мареве, быстро засыпает.
— Петька-а!.. Эй, дьявол, вставай!.. Растак-перетак! — кричит Егор с соседней лодки.
Но где докричишься! Из пушки пали, и то не разбудишь Петьку. Он спит себе спокойненько под своей шакшей и снов не видит никаких. Только иногда пробежит по его измученному лицу гримаса боли.
Егор рывками подтягивает стрельцовскую лодку и, засунув руку под шакшу, хватает Петькину ногу.
— Ой-ой-ой!.. Не надо!.. Не надо!.. Дяденька, больно мне! — спросонья отчаянно отбивается и кричит Петька.
— Не визжи! Подымайсь!
— Ой, руку!.. Ой, руку больно!.. Хоть бы чуточку еще соснуть… — со слезами умоляет Петька Егора Лисина.
Но Егор неумолим. Он сердито плюется и, захлебываясь грязным матом, укоряет мальчика, что они, Стрельцовы, жадюги и круглые дураки, безрассудно лезут в такой ветер в море за сетями. А теперь вот из-за вас мозоль руки, тяни вашу лодку на буксире.
У Егора от горя и зависти спирает дыхание, горит и ноет сердце. Еще бы! Тот злой сивер, в который едва не погиб Сидор Стрельцов, разорил Егора в одну ночь — разодрал в клочья и разметал по всему берегу все его снасти, за которые они с женой батрачили у богатого рыбопромышленника целых шесть лет. И сейчас он тащится домой без единого конца сетей[43]. Как тут не будешь убиваться и злиться, поневоле будешь завидовать соседу и всем другим удачливым рыбакам.
А сосед его, Сидор Стрельцов, пусть и пострадал малость, ничего, встанет на ноги. Мужик он живучий, двужильный, ему, чертяке, не привыкать, сколь раз тонул и гинул, а домой возвращался с победной головой. И в этот раз он привезет домой довольно рыбы, а главное, свои снасти, бережно, по-хозяйски развесит в своем амбаре.
Опять весь Аминдакан будет расхваливать Сидора на все лады, а его, Егора Лисина, поднимут на смех и скажут, что струсил, побоялся в ветер выйти в море и попустился сетями. Какой он помор… ему с бабами дома сидеть… за печкой…
«Не-е, я этого щенка заставлю грести за двоих», — сердито заключил Лисин и что есть мочи закричал на мальчика:
— Но-но! Садись в греби, сволочь!
Утирая слезы, Петька садится на переднее сиденье и, морщась от нестерпимой боли, опускает руки в холодную воду. Боль понемногу утихает, и Петька берется за весла.
Первые минуты, чтоб не застонать, мальчик крепко сжимает зубы и терпеливо переносит страдания, а затем боль постепенно утихает. Видимо, притупляется чувствительность, что ли.
Петька гребет изо всех сил, накопленных за двенадцать лет жизни, но Егору кажется, что парнишка ленится, и он, пересыпая нормальную человеческую речь самым несуразным грязным матом, ревет на него разъяренным медведем:
— Эй, растакут-перетакут твою мать! Чо едва макаешь! Гребись путем… Не то выкину за борт!..
Петька отворачивается от Егора, чтоб тот не увидел его слез. А они, как назло, градом катятся по искаженному от боли и обиды лицу.
К вечеру второго дня голец и крутые склоны Байкальского хребта накрылись рваными тучами. Егор смотрел туда с нескрываемой тревогой и шевелил толстыми растрескавшимися губами.
Он сначала разговаривал сам с собой шепотом, а потом заговорил вслух:
— Ох, ребята, кажись, вот-вот налетит «горный»[44]. Надо бы к берегу пристать… А забрали мористо[45].
Лодка медленно двигалась километрах в трех от берега. Темные рваные клочья туч быстро оседлали прибрежные скалистые горы и зловеще заклубились над водой. Рыбаков обдало сначала горячим распаренным, как в бане, воздухом, потом повеяло легкой прохладой, заиграл резвый ветерок.
— Все! Погибель! Жми, ребята, к берегу.
Но было уже поздно.
Море потемнело, покрылось морщинистой рябью, и резкие порывы ветра сразу же нагнали крутые волны, которые с каждым новым порывом все больше и больше бугрятся и покрываются белыми шипящими гребешками.
Как ни старались гребцы, но лодки понесло в море. Егор знаками подозвал к себе Петьку, сунул ему кормовое весло и проворно занял его место.
Лисин с Пашкой далеко вперед заносят рукояти весел, поднимаются на ноги и всем телом нажимают на них, но лодки стоят на одном месте.
Ветер тем временем становится все сильнее и сильнее, нагоняя огромные, с крутыми завитками волны. Некоторые из них стали заглядывать через борт, неприятно забулькала на дне лодки вода.
Егор бросил весла, осторожно, чтоб не накренить лодку, приполз в корму и, отшвырнув мальчика, принялся править лодкой.
Петька так был подавлен внезапно разыгравшейся грозной стихией, что не стал чувствовать ни боли в руках, ни мучительного голода.
Когда он сидел в корме, то не видел, как кидает отцову лодку, так как он был целиком поглощен своей работой. В Петькиных руках находилась жизнь рыбаков. Поверни он лодку боком вдоль волн — сразу же зальет ее водой и опрокинет вверх дном. Поминай тогда как звали грешных поморов. Мало ли тонет в Байкале неосторожных людей.
А теперь, когда Петька был вышвырнут Егором с кормы к мачте, он видел свою «хариузовку», которую кидает как пушинку. «Ох, тятя, тятя! Как ты там лежишь?! Наверно, пить хочешь. Уж сколько времени ты ничего в рот не берешь… Ой, господи!» — проносятся тревожные мысли.
Вдруг Петьку обдало холодной водой. Отряхнувшись, он увидел, что лодка до половины наполнилась водой.
— На-а! Черт!.. Отчерпывай! — донеслось сквозь шум. Глухонемой Пашка по движению губ Егора скорее угадал, чем услышал Петька, приказание башлыка. Он сгреб ведро и начал отчерпывать воду. Петька последовал за ним. Воды в лодке остается все меньше и меньше. Можно чуточку отдохнуть, но не тут-то было! Очередной девятый вал снова до половины залил лодку.
В этот момент Петька услышал какие-то глухие удары и поднял голову.
Егор поспешно бросил под брезент топор и отвернулся в сторону.
В следующий миг мальчик заметил, что расстояние между лодками почему-то увеличивается.
«Неужто Егор веревку добавил?» — подумал Петька.
И тут нее увидел обрубок веревки, который, извиваясь змеей, плавает в бурливой воде.
— Зачем отрубил шейму?![46] — неистово закричал Петька на съежившегося растерянного Егора.
А лодка с Сидором легко и свободно качается на волнах.
— Тятька-а! Я чичас!.. — крикнул он удалявшейся лодке и бросился за борт, но сильная рука Егора на лету схватила мальчика.
Петька больно стукнулся обо что-то твердое и потерял сознание.
ГЛАВА II
…Шли годы. Поморы объединились в рыболовецкие артели. Легче стало приобретать снасти, соль и прочий рыболовецкий инвентарь. Рыбачить стали сообща. Если одному на промыслу не повезет — другому улыбнется счастье, ан, глядишь, в среднем-то оно и ладно выйдет.
Петька Стрельцов прошлой осенью вернулся из армии. Теперь его не узнать! Он стал высоким, крепкого сложения, сильным и ловким помором. На смуглом лице сверкали улыбчивые темно-серые глаза. Небольшой правильный нос, полные губы, над которыми топорщились черные усики, и в довершение к его внешним достоинствам, за что особенно любили его девчата-поморки, были его черные кудри. Они с матерью тоже стали членами артели и ни в чем не отставали от других.
Артель обзавелась немудрященьким катерком. В грубо сколоченном деревянном корпусе бодро стучал старенький «болиндер». Правда, плотники малость ошиблись, поэтому «Красный помор» имел крен на правый борт. Забавно было смотреть на него со стороны, когда он шел по небольшим волнам. Тогда его правый борт опускался еще ниже, и создавалось впечатление, будто по ухабистой дороге шел хромой человек. Поэтому-то его в шутку прозвали «семь гривен».
Старшим на катере ходил бывший моряк Степан Кузин, а мотористом Петькин закадычный друг Ванька Зеленин.
Теперь рыбаки не уходили на путину гребями. Их уводил туда на буксире «Красный помор», а после окончания сезона приводил обратно в Аминдакан. Правда, отстукивал-то за час бедный старенький «болиндер» не более десяти километров, но все же не грестись. Руки поморов стали заживать от кровяных мозолей.
Вот и в эту весну сразу же за льдом в залив Ириндакан привел «Красный помор» лодку-«хариузовку» Петра Стрельцова. С ним на пару рыбачил бывший пограничник Федор Бесфамильных. Здоровенный, на вид неуклюжий и угрюмый, на самом деле он был очень подвижным и ловким рыбаком. Черные, прямые монгольские волосы закрывали лоб и брови. Небольшие темные глаза глядели сурово и отчужденно, и казалось, что они не умеют улыбаться. Орлиный нос и плотно сжатые губы, которые раскрывались только лишь для ответа на заданный вопрос. Весь его грубый облик был медвежеватым. Он мог молчать целый день, сидеть и слушать собеседника, проворно работая своими большими и сильными руками.
Любил Федор накормить человека. Бывало, заглянет к ним чья-нибудь лодка даже в самую глухую ночь, он быстро соскочит с постели, распалит костер, вскипятит чай, зажарит на рожне рыбину и молча угощает путника. Сидит перед незваными гостями и молча подливает горячий чай.
Когда-то Сидор Стрельцов в шутку называл своего сынишку Петьку башлыком. Не ошибся старый помор. Из Петра получился очень смекалистый и предприимчивый рыбак, с характером вожака рыбацкой ватаги — смелым и волевым. Только теперь слово «башлык» исчезло из употребления, с новой жизнью пришло новое слово — «бригадир». Петр стал бригадиром.
Хоть их в лодке-«хариузовке» всего двое, все равно Федор нет-нет да назовет его товарищем бригадиром. Петька, недовольный этим официальным обращением, сердито отмахивается:
— Будет тебе, Федька!
Федор потеплее обычного буркнет:
— Так положено, — и снова замолчит на день.
В эту весновку в Ириндаканскую губу хариуса и ленка привалило тьма-тьмущая. Рыбаки сбились с ног, недосыпали, недоедали. Каждую ночь серебристыми ворохами покрывались сети. Эту массу рыбы нужно было выбрать из сетей, распутать замысловатые «титьки», разобрать и развесить на вешалах сети, распороть и засолить рыбу, а затем чинить разорванные сети. Легко сказать!
Рыбаки за две недели наполнили рыбой все лагуны и с первым же приходом «Красного помора» снялись домой.
После бессонной ночи, навозившись с тяжелыми бочками, Стрельцов со своим помощником свалились прямо на палубу и заснули непробудным сном.
Чумазый, весь выпачканный мазутом и нефтью, Иван Зеленин высунулся из машинного отделения и улыбнулся при виде скорчившихся друзей.
— Замерзли, черти, будто нечем накрыться. — Из кубрика вытащил брезент и одел парней. — Вот теперь дрыхните, бакланы! — весело проговорил Иван и поспешил в черную утробу катера, где с перебоями застучал его капризный «болиндер».
Спит Петька и видит сон.
Плывут они с отцом на блестящем светло-голубом катере, который стрелой несется по голубой глади моря, словно у этого дивного судна приделаны невидимые крылья. Петька стоит в рулевой будке и крутит взад-вперед колесо штурвала. А отец сидит нарядный, на полном румяном лице искрятся счастьем черные глаза. Нет-нет да взглянет он на часы и с усмешкой говорит:
— Петруха, ты добрый башлык, да и посудина твоя что «ковер-самолет» — несется наравне с чайкой… Мы с тобой от Святого Носа оторвались в десять утра, а сейчас только двенадцать… Стало быть, два часа ходу, и на́ тебе — уже Горемыки рядом.
Петька видит на высоком пологом берегу большое село. Дома многоэтажные, белые, со множеством окон. Спрашивает у отца:
— Неужели, тятя, это Горемыки?
— А ты как думал, конечно, это Горемыки. Видишь, какие дома отгрохали! Совсем не узнать деревни, и название ей дали новое, гордое… Нет теперь Горемыки. Все, шабаш! Отгоремыкали поморы.
— Значит, тятя, первые-то поморы здорово горе мыкали?
— Еще как! Бабы по воду пойдут — в ведрах рыбу с водой принесут. Наедятся, а засолить-то ее впрок нечем, соли-то не было. Утром, прежде чем растопить печку, бедная бабенка бежит с горшком по соседям за горячим углем. Ладно, если мужик дома, у того и огниво есть, он добудет искру, распалит огонь. Во как, паря, жили… По деревне медведи шатались. Ночью заберется косолапый в стайку и буренку слопает… Из овчин штаны шили, юбки… Товару-то не было. Кругом безлюдье… А уж ежели заболел, то капут тебе — лекаря на пятьсот верст кругом днем с огнем не сыщешь. Мыкали горе поморы-то, вот и дали название своей деревне Горемыки…
— Тятя, а мне кажется, что зря название-то переменили… Горемыки… пусть бы они и остались Горемыками, чтоб люди помнили, как раньше народ мыкал нужду…
— Не желают и поминать.
— А зря… историческая память была бы.
— Эх, Петруха, люди-то ведь не любят худое вспоминать, оно и правильно, зачем бередить сердце…
— Эх, Петруха!.. Петька, дьявол, вставай обедать! — слышит парень сквозь сон.
Петька открыл глаза. Над ним наклонился Ванька Зеленин и горланит во всю глотку.
— Обедайте без меня.
— Вставай! Вставай!
Под дощатой палубой монотонно отстукивал «болиндер»: тук-тук-тук. Петр с благодарностью подумал о моторе: «Мы с Федюхой дрыхнем, как нерпы на солнце, а он, бедняга, тащит лодку, рыбу, шмутье… Руки не мозолим… Вот бы батю посадить на наш катер…» Петька вдруг вспомнил тот страшный день, когда унесло больного отца в море, в неизвестность. Тяжело вздохнув, опустил голову.
— Эй, бригадир, чево головушку повесил?! Топай к нам, дернем по чеплашке, — зовет его Степан Кузин.
Приподнявшись, Петька увидел на палубе низенький рыбацкий столик, весь заставленный рыбой в разных приготовлениях. На опрокинутом рыбном ящике сидит рыжий Степан Кузин. Он расплылся в гостеприимной улыбке. Зеленоватые глаза искрятся сквозь узкие щелки припухших век. Красное веснушчатое лицо с белесыми усами, толстые губы — все выражало добродушие и широкую натуру бывалого моряка. Ему было лет тридцать пять. Выпуклая грудь и здоровенные волосатые ручищи красноречиво говорили о его силе.
— Ну, чево царапаешься, падай за стол! — пробасил Степан и разлил по кружкам водку.
Ванька Зеленин пододвинул чашку с золотистой ухой.
— Ешьте с Федюхой из одной.
Поморы подняли кружки.
— С промыслом вас, ребята, дай бог вам хороших невест! — подмигнул Кузин парням.
— Дядя Степан, мы и тут не растеряемся! — ответил Петр.
— Дядя Степа, а как рыбачат в Кабаньей, в Урбукане?
— Хуже вас… Вы всех лучше промышляли.
Темно-серые глаза Петра заискрились довольными огоньками.
— Спать не давал, — Федор мотнул в сторону своего бригадира.
— Ха-ха-ха! Вижу, вижу хватку Сидора Стрельцова! Батя у Петрухи был первейшим башлыком. Волчина, каких мало! Хаживал я с ним в сетовой лодке… Омуля промышляли. Бывало, гоняет, гоняет нас, уж руки отваливаются от весел, меж пальцев кровь сочится, а он все ищет омулевую воду, высматривает плавеж рыбы. Уже все лодки вымечут сети и ложатся спать, а нас все леший гоняет. В темноте, в другой раз в глухую полночь, на ощупь вымечем сети и валимся с ног… Но зато, бывало, утром — одна радость выбирать сети! Рыбы попадет — все снасти залепит. Вот и заработок… Вечером проклинали башлыка, а утром чуть в ноги не кланялись, благодарили.
А нерповать, бывало, пойдет, только успевай за ним на коне нерпу подбирать. Шибко жадный был на промыслу — скрадку делал бегом, а пуля у него не знала промаха. Вот уж был помор дак помор! — Степан весело посмотрел на парней и тряхнул медной шевелюрой.
После обеда все разошлись по своим местам. На море тихо-тихо. Жар, посылаемый июньским солнцем, смягчается прохладой, исходящей от голубой громады холодной воды. Чудесный воздух разливает по всему телу бодрость, дышится легко и свободно.
Петька сел на битенг[47], закурил. «Красный помор» напористо двигается вперед, нацелясь своим тупым носом на синеющие вдали отроги Байкальского хребта, под которыми раскинулся родной Аминдакан.
Едва заметное величественное колыхание голубой глади медленно-медленно чуть приподнимет катер и с такой же ленивой медлительностью плавно опустит его.
Впереди, под бездонной глубью синего неба, висят кучевые облака, снизу обрамленные прозрачней дымчато-серой каймой.
Недавний сон, рассказ Степана об отце и этот торжественный покой наводят на грустные воспоминания. Взглянув в сторону берега, Петька увидел крутые горы, густо поросшие темно-зеленым лесом. Над морем грозно нависли гранитные скалы, а под ними виднеются темно-серые, отшлифованные морской волной валуны, на которых в тихие летние часы любят отдыхать серебристые нерпы.
— Вот и мыс Погони… Не расскажут же эти твердолобые утесы, что произошло с отцом, — вслух проговорил парень.
В ту страшную штормовую погоду, когда осиротел Петька, разгневанный Байкал выбросил на этот скалистый мыс лодку с больным Сидором Стрельцовым. Тонкие кедровые доски оторвало от водореза и упругое, а затем раскидало по берегу. На одной из досок было вырезано ножом клеймо «С. С.», что означало Сидор Стрельцов. А самого помора так и не нашли.
— Черный зверь сожрал, — решили мужики, перекрестились и поклонились погибшему товарищу. — Царство небесное те, Сидор Пахомыч, не обессудь нас. А Петьку не бросим, наставим на путь поморский, сделаем человеком.
Крепки на слово поморы. Говорят мало, но твердо. Помогали во всем семье погибшего. Не нежили Петьку, заставляли рыбачить наравне со взрослыми и пай отламывали равный. И из Петьки получился добрый рыбак. Даже на бригадирство стали назначать. Сдержали свое слово поморы.
Петька вспомнил тот страшный глухой стук топора, змеей извивавшийся в бурлящей воде конец отрубленной веревки и бледное растерянное лицо Егора Лисина. Вспомнил свою лодку, в которой лежал больной отец, она, как дикая лошадь, только что пойманная в табуне, брыкалась на волнах — то высоко задерет нос, то стремительно падает вниз и там на миг исчезнет, будто канет в темной пучине, но очередная волна поднимет ее, подержит на своей гривастой спине и снова кинет вниз… Вспомнил он и тот миг, когда загорелось его сердце решимостью во что бы то ни стало доплыть до лодки, вскарабкаться в нее и спасти отца от неминуемой гибели… Но… трусливый Егор Лисин не дал совершить тот подвиг. Отец был бы жив. Матери не пришлось бы овдоветь в молодые годы. И этот хромой Семен Малышев не приставал бы к ней со своим сватовством… Петька чувствует, что мать жалеет и, кажется, даже любит вдового соседа.
— Фу, черти старые, туды же, в любовь играть надумали, — сердито ворчит Петька.
Он сердится на соседа не только за то, что тот сватается к его матери. У соседа две дочери-красавицы, Вера и Люба. Уже давненько они с Ванькой Зелениным дружат с сестрами Малышевыми. Ванька уже получил согласие от Семена, об этом с заметной завистью к младшей сестренке Любе написала в своем письме Вера. И теперь Зеленины готовятся к свадьбе.
— Везет же Ваньке… А мне, черт хромой, отказал… Не велит даже думать о женитьбе на Вере, — вслух жалуется Петька голубому морю, а оно тихо улыбается и успокаивает парня. Вспомнив про Верино письмо, он достал записную книжку, в которой оно хранилось, и стал перечитывать. Вера писала:
«Добрый день, Петя!
Сейчас к нам забежал Ваня и сказал, что катер идет в Ириндакан. Вот я и тороплюсь написать тебе несколько словечек. Милый мой, ты бы только знал, как мне скучно без тебя. Тятя часто кричит на меня, если чо сделано не ладно. «В голове у тебя не работа, а Петька Стрельцов сидит. С кем хошь гуляй, но с ним не смей!» Вот таки дела, милый мой. А я плачу и плачу. Мне ишо жальче тебя, милый Петенька. Вчера тятя купил Любке одеяло. А тетка Агафья сшила ей голубое платье. Скоро у них с Ваней свадьба.
У моей подружки Вальки Хандуевой родился сын. Ейный Пронька на радостях пил три дня и хвастался, што он ладный мужик, у него вырастут целых пять сынов и будет тогдысь своя сетовая бригада — бригада Прокопия Хандуева.
Мать твоя жива и здорова, тоже ждет не дождется тебя.
Ваня торопит меня, и я кончаю письмо на этом.
Крепко, крепко целую, твоя Вера».
Белоснежные кучевые облака как-то быстро надвинулись и на время заслонили солнце. Откуда-то сбоку налетел шальной ветерок и вмиг сморщил свежее, без единой морщинки лицо моря. Сразу же повеяло холодком, стало неприветливо и хмуро. То ли от этого непрошеного студеного ветерка, то ли от грустного Вериного письма Петру стало тоскливо и знобко. Он тяжело вздохнул. Мельком пробежал глазами по сверкающему белоснежному гольцу Давырен, а затем, повернувшись вправо, посмотрел вслед убегающему в синюю даль подлеморскому берегу, где вытянулись мысы Шигнанды и Томпы, где-то еще дальше в густой синеве маячат горы над тихой бухтой Аяя.
В другой раз его бы и палкой не прогнать с палубы, с ненасытной жадностью любовался бы прекрасными видами родного Подлеморья. Он еще раз вздохнул, крепко сжал в кулаке Верино письмо и вслух обратился к морю:
— Родной ты наш, помоги нам с Верой. Вишь, как ей кисло с таким отцом… Будь добрый, ты же ведь все можешь.
Петру показалось, что море еще больше нахмурилось и стало каким-то нелюдимым, суровым. Его начало еще больше знобить, заломило в висках, и он по узенькому, похожему на чело медвежьей берлоги отверстию спустился в темный кубрик. Разыскав измятую постель Ивана, он уткнулся в пахнущую нефтью и рыбой подушку.
Далеко за полночь «Красный помор» причалил к крохотному деревянному пирсу, Иван заглушил свой «болиндер» и пошел в кубрик будить рыбаков, но Федор с Петром уже встали и молча докуривали папиросы.
— Ваня, на катере кто останется?
— Я.
— Нашу лодку не забудь… Если налетит ветер, отведи ее на якорь.
— Ладно, сделаю.
В предрассветной мгле Петр шел по родной улице. Здесь каждый камень, каждый бугорочек он облазил, где на четвереньках, где и на пузе, так что, завяжи ему глаза, и то он безошибочно пройдет по ней и свернет куда надо.
То тут, то там лежат коровы. Они тяжко пыхтят и пережевывают жвачку. Изредка тявкнет спросонья чья-нибудь собачонка и снова замолкнет. Пахнет привычными запахами летней деревенской улицы: то прелым прошлогодним сеном запахнет, то парным молоком, то огородиной, а то и омулем с душком. «Хорошо-то как!» — мысленно воскликнул парень.
Петр незаметно подошел к дому Семена Малышева. У парня часто-часто забилось сердце. Совсем рядом, в этом высоком добротном доме спит его Вера. Вот она… кажется, протяни руку — и ты разбудишь свою любимую. Перед Петькой явился образ улыбающейся его чернявой — «цыганочки». В больших черных глазах через край плещется радость.
Долго стоит парень под окнами своего соседа. У него такое радостное светлое состояние, что не хочется его прерывать. Но тут выплыл ее отец. Темные цыганские глаза Семена полузакрыты кудрявым чубом. Они злобно сверкают. Семен сердито шепчет: «Не быть вашей свадьбе! Убью!»
Петьку словно обдало ведром холодной воды, и он понуро зашагал к своему дому.
Вот и его дом. В темноте он стоит настороженный и будто бы чужой. «Ворота на заложке», — подумал он и легко перелез через забор. За амбаром загремела цепь, залаяла, а затем радостно завизжала Найда.
— Узнала, моя голубушка, узнала! — ласково заговорил со своей любимицей Петька и подошел к ней.
Найда еще пуще завизжала от радости, облапила его и плотно прижалась к хозяину. Ревниво обнюхала. Успокоилась: нет запаха другой собаки. От хозяина приятно пахнет морем и тайгой, пахнет вкусной рыбой, крепким мужским потом и табаком. Радость переполнила душу собаки, и она, в порыве нежности и восторга, лизнула парня в щеку.
— Ох, Найда, до чего ты умная! Хорошая моя! Погоди, я тебя апчаном[48] угощу. — Петька достал из куля вяленого хариуса и дал его лайке, но та только лишь нюхнула и снова кинулась на грудь хозяина.
— Сдурела, девка, от апчана нос воротишь! Ишь обрадовалась… Как живете-то тут? А?
Найда в ответ повизгивает и крутит хвостом, дескать, живем ладно, дома все в порядке, а при такой-то радостной встрече разве пойдет в горло твой апчан. Ишь какой непонятливый!
— Но-но, спи, Найда, я тоже придавлю ухо.
Недовольная лайка опустила хвост и покорно проводила хозяина, молча, без жалоб.
Чтоб не разбудить мать, Петька не стал стучать. Он через потайник отодвинул щеколду и потихоньку открыл дверь. В сенях приятно пахло свежеиспеченным с анисом ржаным хлебом, богородской травой и еще чем-то бесконечно родным, привычным с раннего детства. Парень достал из кармана спички и зажег. При неярком свете он увидел у двери костыль Семена Малышева.
«Забыл, что ли?.. А может…» — Петьку обожгла недобрая догадка, и ему стало стыдно за себя, что он в отношении матери допускает такое. И чтоб не подтвердилась его нехорошая догадка, он тихо-тихо, переступая на носках, вышел на крыльцо и бесшумно закрыл за собой дверь. Крадучись, словно вор, он прошел по двору, залез по скрипучей лестнице на повети и зарылся в прошлогоднем сене.
Петька силится заснуть, но не может. Пробует считать до ста и больше, а пользы нет. Долго-долго ворочается парень в колючем сене. Наконец запел чей-то петух, потом другой, и вдруг, словно сговорясь, запели с задором, стараясь перекричать друг друга, все остальные аминдаканские петухи.
Дед Арбидоша про них так говорит: «У них, у этих чертовых кречетов, завсегда промеж собой ругань да драки. Ревнуют своих курчонок, черти окаянные».
Перед Петькой явился образ добродушного соседа, и кажется ему, что по всему двору рассыпалась, разметалась его сивая борода. Это пришел мутный рассвет. Потом во дворе кто-то звякнул железным предметом.
«Мать вышла доить Зорьку», — подумал парень и тут же вспомнил, что куль с вяленой рыбой он оставил на крыльце.
— Не успел через порог перешагнуть, скорей убежал к своей вертихвостке, — слышит Петр ворчливый голос матери.
Он полежал еще немного. Затем вылез из-под сена и спустился во двор. Перед ним стоит мать с подойником и сердито смотрит на повети, видимо ожидая оттуда еще кого-то.
— Здравствуй, мама!
Мать мотнула головой:
— Здравствуй, сынок!.. А в дом-то почему же не шел?
— Не хотел тебя будить.
— Эка чудак!.. Голодный?
— Не-е… Мама, я тебе привез твоих любимых апчанов.
— Спасибо, сынок. Как промышляли-то?
— Хорошо.
— Ну и слава богу.
Костыль Малышева стоял на прежнем месте.
«Значит, забыл, черт хромой, а я-то подумал», — сквозь густой загар выступила краска.
Поморки славятся своей чистоплотностью, а Наталья Прохоровна в своем Аминдакане считалась самой лучшей хозяйкой.
Белый, некрашеный пол был натерт с дресвой[49] и посыпан золотистым песком. Он мог смело поспорить в чистоте с кухонным столом другой неряхи. Подоконники были плотно заставлены цветами герани. В переднем углу красовался огромный фикус, из-за которого строго смотрели иконы в золоченых рамках.
У окна висит омулевая сеть для починки.
Все это выглядит с детства привычно, и Петька радостно окидывает их приветливым взглядом, как давних приятелей.
Мать быстро приготовила завтрак.
— Садись, Петя, наверно, голодный, как волк.
— Не-е. Шибко-то не морили себя.
После завтрака Наталья Прохоровна, убирая со стола, рассказывала сыну деревенские новости. Петр курил на пороге и, улыбаясь, слушал, а сам думал: «Мать-то еще совсем молодехонько выглядит… Овдовела двадцати семи лет, сейчас ей сорок два… Если она выйдет замуж за Семена, то мы с Верой уже будем как брат с сестрой… тогда…»
— …В ту пятницу я белила контору, а Нюрка, Егора Лисина, мыла полы. Вот уж удаленная девка — и характер хороший. Я тогдысь, грешным делом, подумала… мне бы заиметь такую невестку…
— А Вера-то хуже ее?
Наталья нахмурилась:
— Не хотела тебя расстраивать, но сам вызываешь на разговор… Верка-то…
— Чо с ней?! — Петька стремительно поднялся с порога.
— Леший, што ль, ее заберет! Уж чересчур любит ухажеров менять. Как идет из клуба, то Мишка, то Гришка, то Савка с ней.
— А я подумал, случилось неладное. — Петька слабо улыбнулся и снова сел на порог.
— Ох, сынок, ты какой-то совсем деревянный. Отец-то твой не таким был. Спробуй-ка, бывало, штоб другой парень проводил с вечерки, прибьет!
— Зачем же, мама!.. Если кто проводил твою девчонку, значит, бросай ее?.. Не-е, так не бывает… Вера честная, я знаю ее.
— Черта с два знаешь! Плохая она!
— Началось!
— Вот те и началось! Погоди ужо, еще не то узнаешь, — продолговатое белое лицо Натальи передернуло брезгливой гримасой. В ее огромных голубых глазах сверкают злые искры, но в промежутках между вспышками Петька увидел, нет, скорее всего, угадал и боязнь, и внутреннее страдание, наполнявшее душу матери.
В душе у Натальи происходит горячая борьба, и верх одерживает ее собственное «я».
Ей надоело одной сидеть за сиротливо шипящим самоваром. Надоело одной ложиться в холодную постель. Надоело все!.. Вся эта безрадостная вдовья жизнь. А тут Петька с Веркой со своей любовью вертятся. Если они поженятся, то им с Семеном придется забыть о совместной жизни.
— Хочешь знать, кто она?!. Верка шлюха!.. Шлюха!..
— Шлюха?! — Петька, как ошпаренный кипятком, вскочил на ноги и прерывающимся голосом закричал: — Врешь, мама! А я женюсь и увезу ее в Усть-Баргузин к дяде Петровану Богатых… Он меня звал к себе.
— О, боже мой! За что же такое наказание! Царица небесная, заступись! — зарыдала, заголосила Наталья.
Петька с силой хлопнул дверью и выбежал на улицу.
На пирсе сидят несколько поморов и, дымя трубками, мирно о чем-то беседуют. Один из них, седовласый, медлительными плавными движениями рук чертил в воздухе какие-то фигурки и указывал чубуком трубки то на нос «Красного помора», то на корму. В нем Петька узнал Елизара Окунцева, бригадира колхозных плотников.
«Задумали, кажись, второй катер гоношить», — подумал Петька.
С судна по трапу сошел плотный, среднего роста мужчина; легкий ветерок ерошил его черные волосы. Темные, монгольского разреза глаза были строго прищурены. Это был председатель артели Алексей Алганаич Батыев. При виде подошедшего Петьки добродушное, открытое лицо бурята расплылось в улыбке.
— А-а, наш самый молодой бригадир! Здравствуй, здравствуй! Ну, как промышляли?!. Не болели? Все ладно?
— На рыбку мы не в обиде, Алексей Алганаич, план перевыполнили. — Петька пожал небольшую крепкую руку председателя и так же, начиная с дяди Елизара, поздоровался со всеми остальными.
На грубых загорелых лицах поморов скупые улыбки, у некоторых чуть потеплели глаза. Петька знает и ценит это сдержанное доброжелательство.
— Вот и молодцы!
— Да што там, Алексей Алганаич, просто повезло нам.
— Но-но! Я знаю, сам с восьми лет начал рыбачить. Рыбацкое счастье без старания само не приходит… Вот смотрите, мужики, молодой, а всех старых бригадиров обставил! — председатель хлопнул Петра по широкому плечу. — А когда я назначал его бригадиром, то некоторые правленцы были против. Молодец, Стрельцов, не подвел меня. На летнюю путину пойдешь бригадиром большой сетовой лодки, вот так. — Черные глаза председателя твердо и внимательно прошлись по Петру. — Сейчас же рыбу сдай на склад и можешь гулять… Да, как у тебя с дровами на зиму?
— Дровишки есть… заготовили. А что, Алексей Алганаич, дядя Елизар-то так любуется «помором». Не сглазил бы, — пошутил Петр.
— Небось, Петька, не изурочу[50]… Хочу, допрежь как залезть на печку, завернуть вам добрую посудину.
— Только чтоб не прозвали «семь гривен», — пошутил председатель.
— Э, паря, там было все наперво делано, вот и вкралась ошибка.
— Правильно. А теперь делайте катер длиньше и шире, чтоб емкости было больше.
— Ладно, сделаем.
Председатель взглянул на часы, распрощался и быстро зашагал в село. Посмотрев ему вслед, плотники ухмыльнулись в усы.
— Ишь, ему надо длиньше и шире, ядрену мать. Легко сказать, а спробуй-ка одним топором, — беззлобно ворчит старый Елизар.
Уважали поморы своего молодого председателя и часто обращались к нему с вопросами, даже не имевшими ничего общего с артельными делами.
Коза ли залезет в чужой огород, раздерутся ли в кровь или другое что — идут не куда-нибудь, не в сельсовет, а идут к Алексею Алганаичу.
И как-то он ухитрялся же! Поговорит с людьми, что да как, и те сами увидят, кто прав, кто виноват в данном случае, и сами же поставят с общего согласия все на мирный лад. Глядишь, загладится все, и вражды как не бывало. При нем народ стал дружнее жить, а это при артельной работе самое главное дело.
Утром на пирсе Петька написал записку и попросил Ивана передать ее Вере. И вот, не дождавшись назначенного времени — не хватило терпения, да и домой-то не тянуло после утренней ссоры, было как-то неудобно перед матерью, — он забрался на гору, возвышающуюся над Аминдаканом, и в условленном месте стал ждать Веру.
День хотя и клонился к вечеру, но он все еще переполнен солнечным светом. Ярко зеленеют покрытые хвойными лесами крутые склоны гор. Освещенное и прогретое солнцем море украсилось нежными переливами цветов — от светло-голубого и до самого темно-синего. От него веет какой-то сверхчеловеческой притягательной силой, так и любовался бы и любовался им. А прозрачный воздух, стелющийся над морем и прибрежными лесами, приятно бодрит и успокаивает. Совсем рядом где-то над Петькой, в густых ветвях старой березы, беззаботно и любовно перекликаются махонькие пичужки.
— И везде-то, везде любовь! — улыбаясь, вслух проговорил Петька. Ему казалось, что даже вот эта теплая, размякшая земля тихо нашептывает кому-то про свои тайные желания.
Петька лег на спину и стал следить за редкими облаками, плывущими неведомо куда. Но в ту же минуту над ним появился целый рой комаров, и некоторые из них уже успели впиться в тело и разбухли от крови.
«Днем и то едят, черти, а вечером что будет… Живьем сожрут девчонку. Нет, придется встретиться на берегу… можно на пирсе. Пойду домой, наверно, мать истопила баню», — решил Петька и пошел в деревню.
— Ты где же, Петя, пропадаешь, баня остыла, — встретила сына Наталья, — вот тебе белье, иди мойся.
После бани Петр наскоро поужинал и вышел на улицу. Напротив малышевского дома, у покосившейся скамейки бабки Анны, ребятишки играли в лапту.
— Здорово, ребята, с вами можно поиграть?
— Можно, можно, дядя Петя! — враз закричали малыши.
Отсюда Петьке было удобно наблюдать за окнами малышевского дома, на которых за розово-красными цветами герани белели тюлевые шторы.
Дом у Семена Малышева просторный, по-хозяйски добротно срубленный из толстых бревен. Тесовую крышу Семен просмолил горячей смолой с нерпичьим жиром. «Два века простоит», — говорили мужики.
Малышев работал в золотопродснабе счетоводом-кассиром, слыл хозяйственным мужиком, жил в достатке. Только одна беда: лет несколько назад он схоронил свою жену и жил вдовцом.
Громко звякнула железная щеколда, и в проеме калитки показалась розово-счастливая белокурая Люба, за ней вышли Вера и Ванька Зеленин. Любаша от счастья была на седьмом небе — отец разрешил ей выйти замуж.
— Петя, здравствуй! Идем с нами! — раздался звонкий голос Любы.
Вера, видимо, не разделяла радостного настроения сестры. Ее смуглое лицо было чем-то омрачено и выглядело бледнее обычного. Петьке показалось, что она стала стройнее, тоньше. Вера взглянула на него своими большими черными глазами и слабо улыбнулась. Петра обожгло, обдало лаской. Не сводя глаз с любимого лица, раздвигая заигравшихся ребят, он подошел к ней.
Петр с Верой спустились на песчаный берег. Над морем далеко-далеко виднелись узенькие длинные полосы темных облаков, над которыми еще разливался слабый румянец потухшей зари. А над облаками, в черной синеве, начали появляться редкие звезды.
Вера оглянулась кругом. В деревне кое-где в окнах сверкают огни. Справа, на пирсе блеснул огонек, потом потух, снова блеснул.
— Петя, кто-то на пирсе курит, отойдем подальше, — тревожно шепчет Вера.
— Уже темно, нас никто не видит.
Звезд все больше и больше. Петр обнял Веру и любуется отражением огоньков в ее глазах. Они близко-близко! Можно дотронуться до них, можно погладить, можно поцеловать.
Вера еще раз бросила по сторонам боязливый взгляд, порывисто обняла Петра и приникла к нему. Опьяневший от радости, он поцеловал Веру в нос, потом нашел горячие губы, совсем рядом, обрамленные длинными пушистыми ресницами, сверкают любимые глаза, в которых через край плещутся в веселом бесшабашном танце маленькие звезды.
ГЛАВА III
Вчера в доме Малышевых был девичник. Прощалась Любушка с подружками-поморянками. Обвили березовый веник розовой лентой и повели невесту в баню. После бани со смехом и веселыми шутками девушки накрыли стол и, выпив по рюмочке-другой красной наливки, соблюдая старинный поморский обычай, запели свадебную песню:
…За тонкой белой полотиной Там сидела красна девица, Там сидела красна девица, Наша Любушка Семеновна. . . . . . . . . . . . . . . .А затем стали петь без разбору, какие только придут на ум.
Выходила на берег Катюша. . . . . . . . . . . . . . . . Не вейтеся, чайки, над морем. Рыбаки, вы хлопцы удалы молодцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Потом забренчала балалайка, басовито стала ей вторить гитара, и девчата с веселым смехом и острыми частушками пустились в пляс.
А сегодня дом Зелениных гудит от множества голосов. Плотно окружив длинный ряд составленных столов, гости кричат «горько» и прилежно опрокидывают стаканчики. Столы просто ломятся от поморской снеди: на больших подносах красуются фаршированные сиги и ленки, лоснятся жиром осетровые пироги, вот окунь заливной, а тут розовые кусочки омуля, рыбные колобочки и многое-многое другое. Из мясных блюд всего внушительнее выглядела отваренная большими кусками медвежатина, тут же рядом красновато-темные куски жирной нерпятины. Румянились сочные, вкусные пирожки из сохатины.
Гости знали, что все это дело рук тетки Настасьи Зелениной. Она слыла самой наипервейшей стряпухой в деревне.
Жених с невестою сидят, как положено, в переднем углу. На Иване темно-синий шевиотовый костюм, кремовая чесучовая рубаха с вышитым воротничком, а на невесте — белое свадебное платье; на тоненькой нежной шее сверкают стеклянные бусы, в мочках ушей красуются массивные серьги с разноцветными камнями — поминок матери. Возле Любы сидит Вера с подружками. Она озабоченно смотрит на сестру, то поправит на ней прозрачный белый платок, то подложит что-нибудь вкусненькое.
Рядом со своим пожилым сватом Прокопием Зелениным Семен Малышев выглядит совсем жених-женихом. Веселый, нарядный, возбужденно сверкают его черные цыганские глаза.
Чуть наискосок в нарядном голубом платье сидит Наталья Стрельцова. Цветастая кашемировая шаль с длинными, из желтого гаруса кистями подчеркивает белизну ее свежего лица. Большие голубые глаза скромно потуплены. Заметно, что она старается не смотреть на Семена, но это ей плохо удается.
А под боком жениха сидят его закадычные дружки — Петр Стрельцов и Федор Бесфамильных. Петька не может и не в силах отвести глаз от Веры. Как привороженный следит за каждым ее движением. Не наглядится парень на свою зазнобу. Поднимет она длинные ресницы, взглянет на него своими жгучими глазами — дух захватит у парня.
Разбавленный спирт делает свое дело. Гости захмелели и затянули песню.
А деду Арбидоше много ли надо, он уже совсем опьянел и обалдело кричит:
— Горько! Цалуй, Ванька, свою лебедушку, горько!
В углу заиграла гармошка, и бабы, выхватив платочки, с гиком пустились в пляс; ухмыляясь, вразвалочку, небрежно приплясывая, присоединились к ним мужики.
А Семен Малышев, притоптывая ногой, хмельными глазами следит за Натальей, которая, легко неся свое статное сильное тело, выделывает какие-то замысловатые коленца.
— Р-рви, Наташа! — кричит он и совсем не в такт разухабистой «подгорной» мурлычет свою любимую:
…А мужики-то там богаты, Гребут лопатой серебро. . . . . . . . . . . . . . .«Уж ты-то, сидя в своей конторке, «гребешь лопатой серебро…» Все штаны-то прошоркал об стул, хромой жених… Тоже мне, туда же…» — неприязненно оглядев Малышева, подумал Стрельцов.
Петру было неприятно, с каким вожделением смотрит Семен на его мать, которая, широко и плавно размахивая руками, плясала в общем кругу, и он отвернулся.
Из дальнего угла раздался сердитый выкрик:
— Не люблю неправду!.. Рази так можно, тетка Настасья, а? — спрашивала горластая и смелая Клава Маркова у старухи Зеленихи, которая виновато моргала и упрашивала гостью не шуметь.
Клава отмахнулась и, облокотившись на стол, запела высоким приятным голосом старинную песню. Многие знали ее и охотно поддержали Клаву. Вера тоже припарилась[51], но, когда в песне незнакомая девушка стала жаловаться на свою горькую судьбу:
Как же мне, девице, веселою быть? Батюшка с матушкой неправдою живут, Младшую сестрицу вперед замуж отдают. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .у Веры по бледному лицу покатились непрошеные слезы, и она, чтобы не расплакаться, бросилась к двери.
Заметив это, Петр поспешил за ней, но у дверей заслонила ему путь Нюра Лисина. Девушка была чуть навеселе, она широко раскинула руки, в шальных глазах сквозь озорную веселость пробивались укор и просьба.
— Куда разбежался?! Девки за угол по нужде, и ты к ним! Вот бесстыжий-то!
К Нюре присоединились ее подружки и с хохотом принялись теребить слабо отбивающегося Петьку. Он шутя сгреб их в охапку. Девчата с хохотом вырвались, оставив в объятьях парня Нюру, которая визжала от радости и нарочно подставляла губы.
Сзади раздался хрипловатый мужской голос:
— Так ее, Петруха, так! Жми, такую мать!
Петр оглянулся и увидел Егора Лисина, который раскачивался на своих кривых ногах и ухмылялся ему. При виде зеленовато-серых глаз Егора он сразу же отрезвел и, толкнув ногой дверь, вышел на крыльцо. Здесь его охватила приятная прохлада ночи, с высоты добродушно улыбалась луна, и она как бы успокаивала людей. Прислушался. Где-то за баней шушукались девчата.
Широко распахнув дверь, кто-то вывалился на двор и, матерно выругавшись, стал шарить у крыльца.
По голосу Петька узнал Егора Лисина и отошел в сторону, но Егор, икая и дурно дыша, подошел к нему.
— А-а, Петруха… дорогой мой! — Лисин, широко раскинув руки, намеревался обнять Петра, но парень оттолкнул его.
— Отойди!
Егор сильно качнулся, но удержался на ногах.
— Ты все еще старое помнишь? — Егор икнул и нагнулся к Петру.
— Помню!..
Егор притворно вздохнул.
— Эх, Петька, Петька, чем помнить зло, лучше бы женился на моей Нюрке. Хошь у кого спроси — золото, не девка.
— Иди ты со своей Нюркой!
— Пошто забижаешь Нюрку, чем она хуже Верки?.. Оно верно, на лицо-то Верка краше нашей, но зато кобельков за ней носится, как за доброй сучкой… Сука-то она добрая…
— Как назвал?! — взревел Петька и замахнулся.
— Петенька, милый! — Вера повисла на сильной руке парня, и удар кулака пришелся хотя и в голову, но слабый.
Егор пошатнулся и упал под телегу.
— Петя, не надо! Милый!
Вера судорожно обхватила парня и крепко прижалась к нему.
Петр ощутил тугие девичьи груди и сразу обмяк.
Вера ведет за руку Петра, а сама тревожно оглядывается назад. Он, не сопротивляясь, следует за ней и время от времени ругает Егора:
— Сволочь!.. Как он назвал!.. а?..
— Петя, не надо!
Все дальше и дальше уводит парня от шумного зеленинского дома. На дворе светло, как днем. Избы и заборы, бани и сараи, раскинувшийся невдалеке Байкал, ощетинившаяся за деревней тайга — все окутано волшебным голубовато-пепельным цветом, исходящим от диска луны.
Петька заботливо одел Веру своим пиджаком и нежно прижал к себе.
Теперь они, словно слившись воедино, слышат биение сердец, не чувствуют под собой ног, будто плывут по воздуху, что ли, на каком-то светлокрылом, похожем на большую морскую чайку судне.
Байкал встретил их приятной прохладой. Недалеко от берега на якоре стоит «Красный помор».
— Едем? — Петька мотнул головой в сторону катера.
Девушка легко запрыгнула в лодку и оглянулась в нерешительности на Петра.
— Садись в корму!
Вера услышала в голосе парня властные нотки и немедленно подчинилась.
Под напором сильных упругих гребков лодка быстро несется к катеру. С каждым взмахом весел черный контур «Красного помора» становится все ближе и ближе. Наконец он вырос с дом, как показалось Вере, и она тревожно крикнула:
— Табань, Петя, табань!.. Лодку разобьешь!..
Причалив к корме катера, парень легко поднял девушку и бережно, словно мог разбить, опустил ее на палубу и вскочил вслед за ней.
— Мне холодно, пойдем в кубрик.
Петр спустился сначала сам, зажег лампу, а потом уже, при тусклом свете, помог подруге.
— Ой, чем только здесь не пахнет! — на переносье небольшого правильного носика сбежались морщинки.
— Пахнет нефтью и рыбой. Привыкай.
Парень утушил лампу, которая, видимо, была без керосина и сильно чадила.
В наступившей темноте мягкие нежные руки Веры обвились вокруг шеи Петра.
— Милый мой!.. Муженек родненький, — услышал парень горячий шепот.
Что-то огромное, ослепительно яркое и радостное полыхнуло и заполнило всю его душу, которая звонко запела самую прекрасную и самую древнюю песню — гимн любви.
Утром Наталья заглянула в кладовку, где в летние месяцы спал сын, там его не было.
«Где же заночевал-то парень?» — тревожно подумала Наталья. В это время хлопнули ворота, и на крыльце послышались знакомые звуки костыля. Дверь неслышно распахнулась, и в избу ввалился Малышев.
— Здравствуй, Наташа.
— Проходи, Сеня.
Бледное помятое лицо Малышева нахмурено.
— Верка не у тебя?
— Нет. Она ко мне не ходит.
— А Петька дома?
— Нету. Вечор у Зелениных сначала выскочила Верка с девчонками, за ними увязался Петька. Потом поднялся какой-то шум во дворе, и Егор Лисин заявился с разбитым носом. А Петька с Веркой больше не появились.
Малышев беспокойно взглянул на соседку.
— Они… черти… не поженились?
— Дело молодое… любят друг друга.
Черные глаза Семена загорелись злобой.
— А мы-то, Наташа, рази не можем любить, а?..
— Об нас, Сеня, какой разговор, — большие голубые глаза Натальи наполнились слезами.
Трясущимися руками Малышев закурил папиросу и растерянно посмотрел на Наталью. Ей стало жалко Семена.
— Может быть, Верка к бабке Дарье ушла, а Петька увалил к Бесфамильным.
— Не-е, их, паря, не проведешь, оне, черти, понимают, что если мы с тобой сойдемся, то ихней женитьбе крышка. Оно ведь ни по евангелию, ни по закону, ни по людской совести не положено такое сожительство… Вот и опередили нас, оставили в дураках… Это ты все тянула… «Погоди да погоди…»
— Во всем завсегда баба виновата. — Наталья тяжело вздохнула, кончиком платка утерла набежавшую слезу и погрустневшими глазами посмотрела на Семена. — На тебе, Сеня, лица нет, зайди опохмелись.
— Это не с похмелья… это… — Семен махнул рукой и заковылял к воротам, потом, о чем-то вспомнив, повернулся к Наталье.
— Корову надо бы подоить.
— Ладно, приду.
На самом краю Аминдакана, в почерневшем от давности, но еще крепком доме живет Верина родная бабка. Высокая, дородная, рыжая. Когда-то голубые глаза поблекли и стали белесыми. На внучкину свадьбу бабка Дарья не пошла. «Из вредности», — как говорит ее зять Семен Малышев.
Она очень крутого нрава, с суровыми, но справедливыми взглядами на жизнь. Бабка Дарья недолюбливает своего зятя и в этот раз резко осудила его:
— Хромой кобель, с ума спятил, Любке в куклы играть, а он ее взамуж вытолкал. Бесстыдный, совести нет. Доберусь до него, втору ногу выдерну. Ей-бог, выдерну!..
Старинная глинобитная печь, которая занимает треть избы, сегодня шипит, дымит, а растопиться не хочет. Бабка Дарья орудует здоровенной клюкой, как медвежатник шестом в берлоге, и по-мужски ругается:
— Ишь, кумуха-черемуха, тожа с норовом, растакут такая.
Наконец дрова вспыхнули. Бабка утерла с дряблого лица пот, пододвинула чугунок с горшком поближе к огню и села на скамью, которая жалобно скрипнула под огромной тяжестью.
— …Наш-то хромой бес, говорят, снюхался со Стрельчихой, вот и не велит Верке гулять с Петрухой… А Петька, почитай, из молодых-то первейший рыбак. Такого парня во всем Аминдакане нет, — разговаривает вслух старуха.
В сенях скрипнула дверь, затопали ногами, и в распахнутой двери показались Вера с Петей.
— Здравствуй, бабка! — поздоровалась Вера, а Петр смущенно мотнул головой.
— Проходите, — пробасила старуха, — легки на помине, я только что вас ругала, кумуха-черемуха.
— Ой, бабушка, родненькая! Мало нас дома ругают, и ты к ним припариваешься. — Вера отступила назад и взялась за дверную ручку.
— Ты куда, сорожка, накопытилась? А? Вот ужо юбчонку-то задеру, да так всыплю! — большое продолговатое лицо старухи сморщилось в доброй улыбке. — Проходите, сукины дети, да раскумекайте старой колоде: куды в экую рань потопали?
— К тебе, бабушка, — Вера хотела еще что-то сказать, но запнулась, застеснялась.
Бабка Дарья нахмурилась и воинственно насторожилась.
— Чо, поди, выгнал?
— Сама ушла… Не могу больше…
— Знаю, девка, все знаю… Кумуха-черемуха затрясла бы твово отца, — старуха тяжело вздохнула и замолчала.
В наступившей тишине весело потрескивали в печке дрова. Вдруг чугунок буйно расшумелся, забулькал.
— Раз пришла, бери ухват, а ты, Петька, наколи дров в избу и баню.
Вера с Петром весело переглянулись и взялись каждый за свое дело.
Завтракали молча. У бабки Дарьи только после пятого стакана густого горячего чая показались бисеринки пота на низком лбу. Утерев раскрасневшееся лицо, она сурово взглянула сначала на внучку, потом на Петра.
— Раз уж поп сдох, дык возьмите бумагу в сельсовете, что по закону женитесь… Знамо дело, у любви стыда не бывает, потому и упреждаю наперед, что без бумаги придете — выгоню, так и знайте… Свадьбу сыграем или в покров, или в михайлов день. Бог простит вас, у одного нет отца, у другой — матери. А мне уж по пути грешить, кумуха-черемуха с ним, с грехом-то.
После завтрака старуха долго стояла перед иконами, о чем-то упрашивала пресвятую деву-богородицу, Николу-чудотворца и еще каких-то божественных чинов. Помолившись, старуха сердито буркнула:
— Валите в сельсовет, а потом заверните домой. Дадут что, берите, не дадут, не надо — сами наживете, кумуха-черемуха обласкай вас.
Утром Петр зашел в контору.
Увидев его, Алексей Алганаич сердито мотнул головой и отчужденно посмотрел своими узкими пронзительными глазами.
— Ты что это кулаками размахался? — с едва заметным акцентом спросил Батыев.
Сидевший у двери Егор Лисин вскочил с табуретки.
— Мотри, шшанок, чо сделал! Не миновать те тюрьмы! Кулюган несчастный! — с визгом выпалил он, показывая на окровавленные усы и рубаху.
— Тише, товарищ Лисин, не надо волноваться. Давай спокойно разберемся, мы же мужчины, зачем кричать.
— Поневоле заревешь, когда всю морду расхлестал. Хошь бы было за что.
— Сядь, Егор Егорович, успокойся… Ну, товарищ Стрельцов, расскажи, что у вас произошло?
— Я бы его пальцем не тронул, но он нехорошим словом обозвал Веру Малышеву.
— Э, паря, брось трепаться! За отца мстишь… Докуда будешь казнить?.. Я не виноват в его смерти, а ты… всю дорогу грызешь меня… А теперь и до морды добрался, гад, ублюдок!
— Тише, тише, Егор Егорыч, нельзя оскорблять людей. Сядь, успокойся. Давайте мирно поговорим, по-артельски… Зачем заводить вражду между собой?
— Спробуй с этим кулюганом по добру, зашибет где-нибудь.
Лисин медленно поднялся и злобно взглянул на Петра.
— Ладно, стерплю ишо раз… ради памяти твово отца.
Он схватил фуражку и, не распрощавшись, вышел в коридор.
Батыев склонился над грубо сколоченным деревянным ящиком, заменявшим сейф, долго рылся в бумагах, а потом, отыскав нужную ему тетрадку, облегченно вздохнул.
— От тебя-то я не ожидал, Петро, такой выходки. Ты же ведь комсомолец, и вдруг связался с этим стариком, который, охмелев, наговорил неладное, — рассматривая тетрадь и кидая в сторону Стрельцова быстрые, проницательные взгляды, говорил Батыев.
— Понимаю, Алексей Алганаич. — Петр виновато посмотрел на председателя. — Надо же было так случиться.
— То-то же. Ладно, иди работать.
ГЛАВА IV
Бригада Петра Стрельцова получила на складе новенькие омулевые сети, и сейчас рыбаки собрались их красить. Краску приготовили сами по стародавнему поморскому рецепту — насобирали в тайге коренья бадана, просушили и прокипятили их в огромной чаше. Получился красновато-коричневый отвар.
— Ничо, в воде сети отполощутся, раз-другой попадут под ветер, станут розоватыми, — авторитетно заявил Илья Бадмаев, самый старый бригадир в артели.
— А вот я помню, отец в эту краску добавлял купоросу. Толковал тогдысь мне, что краска дольше продержится, правда или нет, дядя Илья?
— Правду баил мужик.
Недалеко от рыбаков колхозные плотники дружно стучали топорами. Угрюмый Елизар, насупив лохматые брови, саженью, сделанной из сучковатой березы, перемерял днище будущего катера и, размахивая руками, что-то горячо доказывал Батыеву.
Алексей Алганаич махнул рукой — дескать, делай, на то ты и мастер — и быстрыми шагами направился к рыбакам. Поздоровавшись, он отозвал в сторону бригадира.
— Не обрадую, Петро, тебя.
— Что такое?
— По рекомендации райкома Федора Бесфамильных направляют на работу в милицию.
— Они сдурели?! Какой же из Федьки милиционер?.. Молчун, девчонок и то боится… А в райкоме они не подумали, с кем план рыбодобычи выполнять?
— Им, Петя, виднее… На заседании правления мы решили вместо Федора назначить Якова Лисина.
— Хм, этого хрена… добавить еще Морковку, и будет бригада ух!..
Морковкой звали в деревне самого ленивого мужика Прохора Морковкина, от которого отталкивались все бригадиры.
— Да-а зна-аю! — досадливо махнул рукой Батыев. — Знаю, Петруха… — Затем, посуровев, добавил: — Не забывай, что тебя старики натаскали по плесам и сделали бригадиром, ясно? Так вот, у тебя в бригаде есть парень, из которого может получиться толк. Вот и готовь из него впрок помощника. Ясно? — Председатель мотнул головой в сторону молодого эвенка.
— Вовка Тулбуконов парень неплохой, но…
— Что — но?
— Горячий, драчливый, а так-то ничо.
— Обомнется… Ну, ладно, я пошел.
Петр посмотрел вслед Батыеву и, покачав головой, проговорил вслух:
— Ох, и дошлый брацкий![52]
Во дворе у бани Вера стирала белье, а рядом на перевернутой старой лодке сидела бабка Дарья и вязала сеть. Взглянув на вошедшего Петра, она всплеснула руками и громко запричитала:
— Ох, кумуха-черемуха, мужика кормить надо, а у меня сумувар потух.
Старуха цветастой копной ввалилась в сенцы и загрохотала ведрами. Переплетаясь с бульканьем переливаемой в самовар воды, гудел ее басовитый говор:
— Мужика раз-другой не накорми — сразу зачнет на соседский стол зрить, а потом, смотришь, и сердчишко туды же переметнется… Мотай потом мокреть на кулак.
Матерый ведерный самовар в ее руках казался игрушечным. Поставив его на земляной пол, она так дунула в трубу, что оттуда со свистом вылетел весь накопившийся пепел.
За обедом бабка Дарья вспомнила свою молодость. Сначала разок-другой всхлипнула, потом спохватилась и сердито ругнула себя:
— Кумуха-черемуха раздери тя, стару дуру! Нюни распустила, будто тебе одной было трудно… Батюшка-то мой был выпивоха! Все пропивал, то ли от горемышной жизни, то ли еще от чево. В четырнадцать лет я уже рослой была, хушь в телегу впрягай, тогдысь мы с братом Федором рыбачили у купца Бочалгина, недалеко от устья Ангары. И верно, крепость же была, кумуха-черемуха! Бывало, на море ишо лед носит, а мы забредем по пояс в воду и тянем невод. Ноги сначала жжет, ажно огнем горят, думаю, пропали ноженьки — отходила, отплясала Дашка. Ан нет! Вечером бежишь на купеческий лабаз, там Ванька-приказчик показывал лизион. Я, греховодница, бывало, насмотрюсь, всякой нечисти, ажно от страха душа замирает. А потом, ночью-то, во сне и реву что есть мочи, на всю землянку. Беда же!.. Башлык у нас был серьезный. Он как рявкнет на меня. Я и рада, что живой человек рядом.
— Не верится мне, чтоб ты, бабушка, чего-то испугалась, — смеясь, проговорил Петр.
— Э, паря, много ли надо ребенку. Кто я была-то.
— Бабка, а что показывали? — полюбопытствовала Вера.
— Рази все припомнишь… давно ведь то было, при царе Миколе… Помню, показывали все чужеземцев — китайцев с длиннущими косами, турок с котелками на голове, а на тех котелках кисточки болтаются, нарядных мериканцев. А те мериканцы-то — народ белый, высокий и откормленный. Видать, богачество ихнее выставляли на вид, много всякого добра было с ними на большом пароходе.
— Бабушка, а этот самый Ванька-то, видать, был добрый человек? — спросила Вера. — Находил время развлекать вас.
— Хы, добрый, кумуха-черемуха! Чтоб ему на том свете черти задницу изжарили!.. Бывало, рыбу принимат — обманет, деньги выдаст — обсчитат. Такой был хват, каких мало. А перед тем как показать нам лизион, строго упредит: «Кто хочет смотреть — гони пятак».
Вторые сутки дует «ангара». Чтобы воспользоваться его силой, на «Красном поморе» подняли парус. И теперь «болиндеру» легче с помощью ветра толкать неуклюжий корпус катера, за которым тянутся на прицепе целых четыре больших сетовых лодки.
Ходовой омуль уже дошел до Баргузинской губы, и, по слухам, тамошние рыбаки «надсадились» от богатых уловов. Поэтому Батыев отправил навстречу несметным косякам рыбы своих лучших рыбаков, оставив на месте лишь закидные невода.
На второй день за «Красным помором» тянулась лишь лодка бригады Стрельцова, остальные покинули катер в пути, пытать рыбацкое счастье на своих излюбленных плесах. А Петра неудержимо тянуло в далекую Сосновскую губу, где он еще до армии рыбачил в неводной бригаде Петрована Богатых, который промышлял рыбу от Усть-Баргузинского рыбзавода.
Погуляв некоторое время в Баргузинском заливе, основная масса омуля огибает полуостров Святой Нос и к середине июля добирается до Сосновской губы. Рыбы приваливает к берегу так густо, что в губе вода кипит, как в котле. Вот тут и успевай добыть серебристого большеглазого красавца. Кто удалее да смекалистей, тот больше упромыслит, а кто тяжелый на подъем, тот может и с пустыми бочками вернуться домой.
Наконец «Красный помор» обогнул Сосновский мыс. Сидевшие на палубе рыбаки увидели в самом углу залива несколько домиков центральной усадьбы Баргузинского соболиного заповедника, а чуть поближе, у Красной речки, — рыбодел — небольшой деревянный сарай, в котором рыбаки солили добытую рыбу.
У рыбодела торчала лишь одна лодчонка, а остальные чернели на фоне желтых песков, за речкой Кудалды.
— Тянут у самой Шумилихи, — присмотревшись вдаль, проговорил Петр. — Много-мало, все равно добудут. Свежей рыбкой разговеемся.
Рыбаки весело заулыбались.
«Красный помор» бросил якорь против рыбодела. Рыбаки проворно подтянули свою лодку и быстро, заняв каждый свое место, стали дружно грести к берегу.
Из рыбодела вышла женщина.
Увидев ее, Петр улыбнулся.
— Охо, мужики, это тетка Лагуниха нас встречает. Она-то уж накормит! Хлебосолка, каких мало. Только не смейтесь, когда она заговорит.
— А пошто? — спросил Яков Лисин.
— Язык у нее плохо привешен. Вместо «рыбодела» она говорит «маранель», а если нужно сказать: «работаю на пункте», скажет: «работаю на кунте». Один раз рассказала про свое детство: «Таперь ребятенки как у Христа за пазухой живут, а вот мне пришлось с восьми лет у купца Купера в няньках работать. Ладно, добрый был, даже на курок меня возил».
— Куда возил? — смеясь спросил Вовка Тулбуконов.
— На.«курок», значит, купец ее возил на курорт. Знамо дело, не лечиться, а нянчить купеческих ребятишек.
Лодка мягко стукнулась о золотистый песок. Петр первым подошел к женщине и, радостно улыбаясь, поздоровался:
— Здравствуй, тетка Настасья! Чо, узнаешь?
— Трастуй, трастуй! — черные глаза внимательно оглядели Петра. — А ты тей, тынок?
— Помора Сидора Стрельцова… Должна бы помнить меня. Я крестник Петра Васильевича Богатых, лет пять назад рыбачил в его бригаде, а ты у нас была поварихой… Зимой неводили в Крутой губе, а летом приходили в Сосновку.
— Петка! Ой! — обрадованно воскликнула Лагуниха и схватила Стрельцова за руки. — Ой, како матерый! Чисто медмедь!.. Как можно узнать-то тя!..
— А ты, тетка Настасья, нисколько не изменилась.
— Руки болят, ноги…
— Все на рыбалке?
— А как же, зимой на Покойниках жила, там на кунте робила, а таперь на маранеле роблю.
За плечом Петра кто-то приглушенно прыснул. Он сердито оглянулся и показал свой огромный кулак. Петр посмотрел на ее жилистые, корявые, изъеденные солью руки и с уважением подумал: сколько же рыбы прошло через них!
— Ой, я чо же! Мужиков-то тормить ната! — всплеснула руками и рысцой пустилась к костру, где в большущих противнях жарилась рыба.
Петр посмотрел вслед Настасье и, ни к кому не обращаясь, задумчиво сообщил:
— Это казачье атамана Семенова повинно в ее языке… Слыхал я, как на ее глазах повесили двух красных… Испугалась бедняжка, думала, что и ее вздернут… По первости года два совсем не баила, а потом отошла. Хушь так-то лопочет, и то спасибо. А вам, чертям, все хаханьки.
Рыбаки потупились. А Вовка Тулбуконов сердито буркнул:
— Кто знал-то. У меня вырвалось невзначай.
В июне на северном Байкале еще прохладно. Бывают годы, когда почти весь июнь еще плавают льды. Но зато июль — самый прекрасный месяц на Байкале. Солнце нежно гладит голубую ширь моря. Оно бесконечно дарит и дарит ему свое животворное тепло. От этого тепла цветет море, поднимаются на поверхность воды маленькие рачки, наши рыбаки их называют юром. Вот этот самый юр-то и является лакомством омуля. В поисках юра омуль поднимается тоже на поверхность, да и он не дурак погреть на солнышке свою темно-фиолетовую спинку, порезвиться в теплой воде. Вот тогда-то и начинается лов омуля поплавными сетями.
Сегодня бригада Стрельцова набрала сети раньше обычного. Рыбаки собираются идти гребями до Больших Черемшин, где они вымечут сети и ночью проплывут морским поносом (течением) до Сосновки.
Готовые к отплытию, сидят с веслами в руках Возка Тулбуконов и Сашка Балябин, а Яков Лисин с Мишкой Жигмитовым возятся в лодке: укладывают нехитрые рыбацкие пожитки и вычерпывают просочившуюся в лодку воду.
— Мозолим, мозолим этими веслами руки, а толку-то что?.. За неделю три бочонка засолили, — сердито ворчит Вовка Тулбуконов.
— Тебе, тунгусине, все мало, ишь жадюга! — смеется Сашка.
— Не тунгусу, а эвенку! — сердито заметил Вовка. — Шовинизм не разводи на промыслу.
— Ха, нашел шовиниста! У меня у самого бабка была тунгуска, а дед — ссыльный казак. Так что можешь меня дразнить и тунгусом и князем Ерноулем, бабка-то моя была его прапраправнучкой. Глаза у меня русские, а морда тунгусская.
— Ха, нашел чем хвастаться, подумаешь, прапраправнук князя Ерноуля! — скривил губы Тулбуконов. — Этот твой предок Ерноуль сосал кровь тунгусского народа. Его звали черным волком, его именем пугали детей. Он был злее вашего Ивана Грозного. Понял? Тоже мне Ерноуль нашелся! Попался бы ты ему в руки, он с тебя с живого кожу содрал.
Вовку Тулбуконова всего-то три раза искупали в снегу[53], а потом мать с отцом заболели оспой и умерли. Вовку подобрал ссыльный русский, у которого было самое длинное во всем Подлеморье прозвище — «по-ли-ти-че-ский». Этот самый политический, огромный и неуклюжий человек, как-то ухитрился выходить малыша. Люди жалеючи давали им одежонку, подкармливали, кто чем мог. У него Вовка выучился русскому языку и грамоте, нежно любил своего приемного отца и звал его батей.
Вот почему Вовка Тулбуконов разговаривает на чистейшем русском языке.
Несколько лет назад он похоронил батю, но не осиротел, а стал сыном рыболовецкой артели.
— Слушай, крестный, почему ты неводом вон сколько омуля хапаешь, а у меня в сетях ни черта нет? — угрюмо спрашивает Петр у своего дяди.
Богатых усмехнулся в свои черные усы.
— Смотреть надо в оба. У меня один глаз, да все вижу… Поедь-то рыбья, юр-то, совсем в берегу… Кумекай, баклан, такут твою мать! Где же и омулю быть, а?
— Тебе-то, дядя, хорошо, у тебя невод — закинул да вытянул, а у меня сети. Ежели в берегу и проплыву — все коряги, все камни соберу и утром одни тетивы вытяну. Зараз отрыбачишься.
— Хы, хрен с луковкой с бабкиного огорода! Все ему и растолкуй! Вот что сделай: расшей сети и конца по четыре забакани в самом берегу. Понял, дикий баклан?
— Понял, понял, крестный, спасибо за совет! Только сегодня поздновато.
— Э, паря, ничо не поздно. Успеешь и сети закинуть и сбегать в кусты с какой-нибудь засольщицей. Я-то в твои годы, эхе-хе…
Петька весело расхохотался, вспомнив рассказы про любовные похождения дяди Петрована.
Один из лучших бригадиров Усть-Баргузинского рыбзавода Петр Васильевич Богатых был самым опытным ловцом байкальской рыбы. С восьми лет он пошел рыбачить, а в семнадцать стал башлыком. Это было еще до революции, и рыбачил он тогда у богатого рыбопромышленника. От сурового прошлого, от башлыцкого самовластия осталось в нем совсем немного — он любил материться. Когда ему делали замечание, то он отмахивался и сердито говорил: «Э, паря, такут твою так, на море нужно, чтоб все было крепко: люди, лодка, снасти и, само собой, — крепкое слово».
А вообще-то, Петр Васильевич был добрейшей души человек, всегда поможет и всегда выручит. Рыбаки любили своего шумного бригадира и не обращали внимания на его маты и окрики. Это было в обычае у байкальского рыбака.
На рассвете, когда поднебесный голец Бараг-хан-ула и его зубастые соседи окрасились в багрянец, бригада Стрельцова подъехала к первой ставежке. Еще не дойдя метров тридцать до сетей, Петр увидел на поверхности воды какой-то белый предмет.
— Это что же белеется-то? Бревно не бревно, — тревожно сообщил он товарищам, сидевшим в гребях, спиной к сетям.
Подъехав ближе, он увидел массу белевшей рыбы.
— Ой, ребята! Сети подняло!
— Что с сетями? — рыбаки побросали весла и вскочили на ноги.
— Вот это да-а! — чуть не враз воскликнули парни.
— С промыслом тя, башлык! — тонким заискивающим голосом проговорил Яков Лисин.
— «С промыслом»! — передразнил его Вовка Тулбуконов. — А вчера ты ругался и не хотел сети баканить у берега… Разве Петрована Богатых проведешь! Спасибо мужику за совет.
Остальные рыбаки радостно улыбались и, быстро подогнав лодку к морскому маяку, подняли якорь и подтащили сети с трепыхающимся серебристым омулем.
В остальных ставежках тоже густо попало, и рыбаки, не разгибая спины, выбирали из сетей серебристого красавца.
Солнце уже высоко поднялось над зубастыми гольцами, усталые и радостные рыбаки причалили к берегу.
— Э, паря, черти окаянные, кажись, лодку-то здорово подзагрузили! — с веселой улыбкой встретил Богатых поморов.
— Спасибо, крестный, за добрый совет.
— Но, но! Како там спасибо, идите в поварню, там Настасья накормит вас.
— Охо, вот это здорово! Только сначала сети выберем на вешала, а то в момент сгноишь их.
— Молодец! А я думал, ты скорей набросишься на жратву, а потом и про сети вспомнишь. Хушь с голоду сдыхай, хушь падай с усталости, а сети разбери, просуши. Это, паря, закон моря.
За неделю такой удачливой рыбалки бригада Петра Стрельцова выполнила план летней путины. Все бочки, которые рыбаки привезли с собой, заполнили рыбой. Петр встревожился: «Рыбу не во что солить! Что делать?»
— Иди к дяде Богатых, — посоветовал Яков Лисин, — не поможет, тогдысь рыбу на «Ангару» продадим… Ты, Петруха, больше нас в нужде, только что женился, ни на тебе, ни на Верке лишней одежки нет, да и по домашности-то, поди, на полу спите…
— Так, так! Учи, учи, дядя Яша, на добрые дела! — Петр сердито посмотрел на Лисина.
— Я-то чо? Я ничо! Я только совет даю, дело хозяйское.
— Дело-то артельное, а ты учишь, как рыбу налево толкнуть. Тоже мне, советчик нашелся!
— Тебе, Сидорыч, не угодишь, я думал, как лучше.
— Ты, ядрена мать, снова нос повесил! Рыба не ловилась — горе, стала ловиться — опять же горе! — с шумом, с башлыцким матом, но с веселыми искрами в единственном глазу встретил Петрован Богатых своего племянника.
— Не во что солить рыбу. Выручай, крестный.
— Сам на таком же конце сижу, не лучше тебя.
— Как быть-то?
— Напиши своему буряту. Пусть развернется. Ишь какой, отправил своих бакланов, а сам глаз не кажет.
— Батыев-то все сделает, но «Ангара»-то только завтра вечером зайдет к нам в Сосновку. Когда моя записка дойдет до Аминдакана — долга песня.
Смуглое цыгановатое лицо Богатых покрылось мелкими морщинками, воедино слились смелого росчерка густые брови. Минуту-другую подумал, затем сердито посмотрел на Стрельцова.
— Я, паря, за тебя делать не буду, ну тебя… Хошь достать бочки, поедем со мной на Покойники. Заведующий пунктом наш мужик.
В смелых темно-серых глазах Петра заискрились веселые огоньки.
— Упою вас обоих! Только бы дал на время бочки.
— Э, паря, баргузят на водку не купишь, если есть, то и без твоей водки даст. Иди, собирайся, слышь, катер-то стучит.
Где-то у Громотухи едва заметной точечкой двигался сейнер.
По соседству с поморами остановились рыбаки-хайрюзовщики с Ольхона. Ольхонские буряты превосходные рыбаки, не боясь ни расстояний, ни буйных ветров, оставляют они свой остров и уходят на лодках за сотни километров от дома. Передвигаются с помощью весел и парусов. В бригаде всегда найдутся один-два старика, которые, кроме обычных обязанностей, исполняют роль синоптика. Синоптики, чего греха таить, частенько ошибаются, а этим старикам ошибиться нельзя. Потому что ихняя ошибка может стоить жизни всей бригады, в лучшем случае свирепые волны выкинут лодку на острые прибрежные камни и разобьют ее вдребезги. Как быть тогда рыбакам? Удрученные случившимся, сломленные необузданной силой, с пустыми руками, они заявятся к родным берегам. Вот почему этим старикам нельзя ошибаться.
Мишка Жигмитов утром спросил у старого бурята: «Почему, бабай, сегодня не идете через море?»
На темно-бронзовом морщинистом лице старика появилось подобие улыбки.
— Ты бы пошел?
— А что же мешкать-то? День вон какой! Ни облачка, ни ветерка.
— Э-эха, какой ты рыбак, не знаешь, что будет на море через час, уже не говоря, какая беда тебя поджидает через день, через два.
— А ты, бабай, знаешь?
— Мало-мало знаю. Но есть старики, которые лучше меня понимают лицо моря.
— Лицо моря? — в недоумении спросил Мишка.
— У тебя есть лицо, у меня есть, так же и у моря есть свое лицо.
Старик презрительно сморщился, увидев в Мишкиных глазах снисходительную усмешку.
— Не сердись, Цаган-бабай, я же еще ни черта не понимаю.
Старик одобрительно закивал головой.
— Все такими были. Уважай стариков, больше спрашивай, но и своей башкой тоже кумекай, сынок. Ойлгош?[54]
— Понял, понял, бабай… А можете сказать, сегодня даст поставить сети или нет?
Узкие глаза старика совсем сощурились в две щелки. Он всмотрелся в заморские гольцы, оглядел тайгу, прошелся пристальным взглядом по сонной глади моря, осмотрелся вокруг и запалил свою черную трубку. Минуты две-три стоял в раздумье, прислушиваясь к каким-то, наверное, одному ему известным звукам, а потом сказал:
— На закате подует ветер, а к ночи, наверно, пойдет дождь. Лучше сети не ставить.
— Ой, бабай, однако, ты ошибаешься.
— Э-хе-хе! Волчонок ничо не видит. Гляди хорошо, како море, тайга, дерево, трава, что делают птицы, мураши — они тебе все скажут, когда будет ветер, когда дождь… Понял? Смотри, как рыба ходит в воде, будто сонная, как нерпа плещется, вроде баба купается по колено в воде.
— А еще какие признаки перед ветром, перед ненастьем?
— Поживешь — увидишь, если не слепой, — старик сердито посмотрел на Мишку и ушел но своим делам.
«Ой, бабай, сказку баишь, день-то какой!» — подумал Мишка.
Над прозрачной, словно детская слеза, водой пристроилась гибкая девчонка и моет посуду.
У Мишки чаще забилось сердце.
— Здравствуй, Токта-таха!
— Амар сайн, хубунчик![55] — по-бурятски, но с монгольским акцентом ответила на приветствие парня, улыбнулась длинными черными глазами.
«Красивая чертовка, так бы и уплыл за нею на Ольхон!» — подумал Мишка.
— Токта-таха, откуда ты родом?
— А что?
— Говор у тебя не походит на наш, монгольский, что ли?
— Я издалека… Оттуда, где степи как это море.
— А как заблудилась к нам?
— Служил у нас на границе паренек с Ольхона и сманил мою сестрицу к себе на Байкал. А она у меня была и за отца и за мать, куда же мне деваться?
— Вот оно что. Наверно, боишься моря?
— А зачем бояться?
— Вот и молодчина!.. Скоро домой отчалите?
— Как старики скажут.
— Наверно, соскучилась по дому… по мужу.
— Как же! Муж и пятеро хубунчиков ждут.
— Охо! Такая молодая! — Мишка испуганно вылупил глаза и всплеснул по-бабьи руками. — Ой, да ты сдурела, девка!
Токта-таха, позабыв про свои чашки и ложки, хохочет, заливается тонким приятным смехом, словно ручеек таежный журчит.
Глядя на нее, расхохотался и Мишка.
— О, Токта-таха, ты, однако, медведя рассмешишь!
А тем временем чуть заметная ленивая зыбца подшутила над девчушкой, отнесла от берега чашки и ложки.
— Ой, уплыли! Спешат домой на Ольхон! — всплеснула тонкими гибкими руками.
— Сейчас достану, не волнуйся, Токта-таха!
Мишка забрел в воду и начал ловить посуду. Но на дне лежит рыбка листвяшка. Парень наступил на нее, и — бух! — брызги во все стороны.
Снова смех, заразительно веселый, звонко разносится по голубой лазури моря.
Наконец выбрался мокрый рыцарь и положил посуду к ногам девушки.
— Вот возьми свои черепки. Я побегу переоденусь.
— Беги, беги, мокрая лягушка!
На Мишку смотрят веселые темно-бархатные глаза, из которых льется удивительно мягкое сияние.
«Вот черт, таких глаз я еще не встречал!» — подумалось ему.
Отбежав, повернулся к девушке.
— Токта-таха, а вечером к тебе можно?
— Приходи! Ты забавный!
Вечером надо ставить сети, а тут, как назло, налетел «култук». Бесконечной цепью по морю бегут гребешки волн.
Мишка запомнил слова старого бурята: «На закате подует ветер». Удивился парень: «Как же старик узнал, ведь было так тихо, солнечно?.. Вот шаман-то где!..»
Яков Лисин, заменивший уехавшего на Покойники бригадира, поцарапал рыжую шевелюру, улыбнулся одними зеленоватыми глазами и довольным голосом сказал парням:
— Везет же бабникам! Все по кустам разбежитесь шуры-муры разводить.
— А ты, дядя Яша, куда?
— Обо мне какой разговор, по-стариковски буду давить постель. Вот вам-то грех не сбегать к девкам. Особенно Мишке… его-то цыганочка Патаха скоро снимется домой.
— Не Патаха, а Токта-таха, — поправил Мишка.
Буйный «култук», как и всегда, широко размахнулся и зацепил где-то на западе огромную отару «овец». Он гонит и гонит их в неведомые края, но они заупрямились, уткнулись твердолобые в величественные гольцы Бараг-хан-улы и его братьев, смешались в одну густую, темную тучу, опустились вниз и стали облизывать макушки высоких деревьев.
Порывы ветра захлебывались в тучах, словно в мокрой вате, и становились все мягче и мягче, а потом крупные капли дождя звонко забарабанили по зеленому покрову притихшего леса. Только где-то далеко-далеко в горах продолжала радостно стонать тайга, впитывая в себя благодатную влагу.
— Токта-таха, пойдем под это дерево, — Мишка потянул девушку под огромный кедр. — Здесь не промочит.
Тьма такая густая, что, кажется, можно хватать ее пригоршнями. Мишка и отчерпал бы ее, разгреб, развеял, чтоб перед близкой разлукой насмотреться на Токта-таху, но тьма бездонна, как и святое море. Да разве можно ради собственной прихоти посягать на ночной покров, под нанесем которого отдыхает все живое. Сыростью и прохладой наполнило тайгу, но все равно Мишке так приятно сидеть рядом с Токта-тахой, что он согласен оставаться в таком положении бесконечно долго.
— Знаешь, Токта-таха, давай будем дружить навсегда.
— Как это навсегда!
— Так… до старости… Чтоб рядом жить.
Вдруг недалеко раздались крики.
Мишка с Токтой насторожились, прислушались. Кто-то сердито бранился.
— Кажется, Вовка, — признал Мишка голос дружка и вскочил на ноги. За ним последовала Токта-таха и, схватив парня за руку, потянула его в сторону своего табора.
— Я боюсь драки.
Раздался слабый зов о помощи, его заглушили сердитые вскрики, и затем все смолкло. Мишка на ходу бросил:
— Убьют ведь друг друга! Жди! — и изо всех сил кинулся к дерущимся.
На бегу в кромешной темноте Мишка наскочил на какой-то твердый предмет, брошенный прямо на дорожке, больно стукнулся и, перекатившись через него, пластом вытянулся на траве; поднявшись и проклиная что-то темное, преградившее путь, стал ощупывать его.
«Бочка с рыбой! Кто же катил ее ночью-то? — подумал парень. — А-а, воришку сцапали!» — заключил он.
Вдруг над головой загрохотал гром, и на миг осветило яркой вспышкой все окрестности. Крупные капли дождя зашуршали в хвое деревьев, застучали по листьям и бодро побежали по тропинке.
Мишка вернулся к тому месту, где он оставил девушку, но ее там не было.
— Токта! — закричал он и прислушался, но ответа не последовало. Лишь где-то вдали тайга стонала от ветра, порывы которого стали доходить и до Сосновки.
— Токта! — громко раздается по тайге.
Мишка прибежал к табору. Все молчит. Уставшие за день неводчики спят непробудным сном. А дождь хлещет все пуще.
— Испугалась грозы… трусиха, — упрекнул парень девушку и пошел к себе.
Вот поравнялся он с тем местом, где лежала бочка, а ее уж там нет. «Куда-то укатили», — подумал он и пошагал дальше.
Недалеко от своей палатки он догнал человека.
— Эй, погоди! — окликнул он его.
— Надо, так догонишь, — буркнул знакомый голос.
— А-а, Вовка!.. Это ты ругался с кем-то?
— Гад Лисин украл бочку с омулями… Катил ее, чтоб загнать, а тут я шел от Дуськи…
— А бочка-то где?
— Закатил в кусты. Утром заставим его прикатить. Пусть при людях вернет на место…
Сегодня рыбаки блаженствуют. Спасибо «култуку», если бы не он, то на заре пришлось бы расставаться с теплой постелью, браться за холодные, тяжелые весла и грести к сетям. А кровавые мозоли на ладонях рук нестерпимо ноют, горят жарким огнем.
А тут спи да спи, не ожидая сердитых окриков бригадира.
Крепко спит Мишка и видит сон.
…Побелел, стал совсем седым Байкал. Вода, как в котле, кипит, бурлит, пенится. И кидает как щепку лодку-душегубку. На носовой шакше стоит на коленях вчерашний старый бурят и молится своему бурхану и шаманским божкам — «хозяевам» тайги и моря. Просит святых небожителей, чтоб его, старого обманщика, за неверное предсказание утопили они, а остальных рыбаков оставили в живых.
Но никто не услышал слезных молитв старого рыбака. Подошла громадная, высотою с Бараг-хан-улу, волна и вмиг опрокинула лодку.
Теперь плывет черная лодка кверху дном, и никого не видать — все утонули.
Но вот у самой кормы лодки вынырнул и замелькал беленький платочек, показалась женская головка.
«Да это же Токта-таха!» — узнал Мишка, и у него бешено заколотилось и загорелось сердце.
Вот она ухватилась ручонками за водорез лодки и поползла вверх. Добралась до скользкого днища и прилипла всем телом.
— Держись, Токта-таха! Я сейчас подплыву! Держись, милая!
Мишка рванулся вперед, вскочил и больно стукнулся о перекладину палатки.
— Фу, черт! — потер ушибленный лоб и выполз наружу.
Мишку встретило хмурое, неприветливое утро. Хотя дождя и не было, но темно-пепельные тучи низко нависли над морем и тайгой. По морю перекатывались пологие волны. «Култук» хотя и ослаб, но все еще продолжал путь.
На соседнем таборе ольхонцы свернули брезентовые палатки и вместе с остальным нехитрым скарбом сложили в баркас.
Вокруг догоравшего костра собрались пожилые рыбаки и молча допивали чай, а молодежь уже сидела в лодке за веслами.
«С ума спятили, в такое ненастье пускаются через море!» — подумал парень и пошел к соседям.
«Вон в голубеньком платочке сидит Токта-таха», — чуть заныло сердце, просясь к ней в лодку.
— Амар сайн, дяденьки!
Загорелые темно-бронзовые лица невозмутимо суровы. Каждый думает о чем-то своем.
В ответ на Мишкино приветствие едва заметно мотнул головой только самый молодой из них.
«Ух, гордые!.. Даже не здороваются!» — сразу же замелькали обидные мысли.
Рыбаки закончили чаепитие и так же молча закурили. Вчерашний старик синоптик поднялся на ноги, огляделся кругом, одобрительно закивал головой и что-то зашептал.
«Снова шаманит… Неужели он знает, что ветер вот-вот стихнет и разнесет эти плотные тучи?.. Эх, черт! Хотя бы на денек задержались… Мы бы с Токта-тахой еще бы повстречались…»
Мишка украдкой смотрит на баркас, который метрах в двадцати от берега мерно покачивается на волнах. У самой мачты сидят три женщины.
Разговаривая, они нет-нет да взглянут на берег и примутся хохотать.
«Не надо мной ли? — подумал Мишка. — И Токта-таха смеется… А почему бы ей не посмеяться?..»
Старик что-то сказал своим товарищам, и они забрали котлы и чашки, пошли к маленькой лодке-«хариузовке».
Вот враз поднялись упругие весла, опустились, вспенили воду и взмыли, как чайки, вверх. И пошло, и пошло! Приятно смотреть, как легко и непринужденно гребут рыбаки Байкала… Упругие, четкие гребки… Эх, мастера!
— Мэндэ! Токта-таха! — крикнул огорченный Мишка.
«Проспал, черт… даже не попрощались… Эх, засоня», — ругает себя парень.
«Она даже не помахала мне… Или обиделась… или постеснялась при стариках. Наверное, постеснялась», — успокаивал себя Мишка.
А «култук» тем временем совсем стих, замер. Чайки весело кричат, взмывают вверх и оттуда стремительно падают вниз, ныряют за добычей.
Вон где-то на середине моря, что ли, показался яркий пучок солнечных лучей.
— Ой, до чего же хорошо старый знает про погоду!.. Чародей! — восхищается Мишка.
Наконец рыбаки дождались своего «Красного помора».
— Что же ты так долго?! — сердито и радостно спросил Стрельцов у председателя.
— «Болиндер» загнулся, ремонтировали. А-а, старье, — досадно махнул Алексей Алганаич. — Ну, как живете-то здесь… Все здоровы?
— Бочек сколько привез? — вместо ответа спросил Петр.
— Ты спроси, как живет Вера, что и как там с матерью… А то сразу же бочки ему подавай. Насчет бочек не обрадую.
— Вот это уж плохо. Я взял бочки на Покойниках на время, до вашего прихода. Обещал вернуть…
— Ладно, поморы еще из веры не вышли, сделаем, что надо. Рыбу сдайте им же на Покойники, и они спишут бочки. Только не растеряйте приемные квитанции.
— Как так им сдавать? Ты сдурел! — воскликнул Стрельцов. — Мы же из другого района.
Батыев рассмеялся:
— Я договорился… Ведь трест-то у нас один.
— Не-е знаю, Лексей Алганаич! Как бы не попасть нам впросак. А то мучаемся, где не доспим, где не доедим… руки в кровь «спустили»…
— Не бойся, Петя, сдавай рыбу на Покойники. Я отвечаю за свои слова.
— Ну, хорошо! Только напиши бумагу, чтоб потом мне перед колхозниками не моргать.
— Вот какой недоверчивый! Ладно, напишу распоряжение, — уже сердито сказал председатель.
— Ты, Лексей Алганаич, не серчай, дело-то артельное.
— Чудак-человек, за что же на тебя сердиться-то. По-своему ты прав, Батыева слова в карман не положишь.
— Ну и ладно. — Петр добродушно улыбнулся.
— Значит, вопрос разрешили, а теперь, чертенята, пляшите! — председатель раскрыл полевую сумку и хлопнул по ней смуглой рукой. — Письма от жен и невест! Уж дороже-то что может быть!
Первым сделал лихой перепляс бригадир и выхватил письмо.
Остальные, переминаясь с ноги на ногу, толкали друг друга, но никто не плясал.
— Ладно уж, я за всех! — и веселый Сашка Балябин, передразнивая деревенских старух плясуний, выхватил носовой платок и пустился плясать «барыню». Отплясав под общий хохот, подставил свою выцветшую измятую кепчонку.
— Выкладывай, Лексей Алганаич! А я заставлю их за «барыню» сети разбирать.
Батыев, от души посмеявшись, вывалил из сумки письма.
— Вот, получайте, а в кубрике вам посылки…
Сегодня у рыбаков стрельцовской бригады праздник. Из дома получили добрые весточки, вкусные домашние печения, в туесках сметану и другую снедь.
«Красный помор» поднял свой изъеденный ржавчиной, заскорузлый, николаевских времен якорь. Про этот якорь ходили целые легенды, но достоверно про него знали то, что он был поднят со дна моря в том месте, где в двадцатом году разбилась об скалу баржа купца Бочалгина, а остальное все было выдумано фантазией рыбаков. Поэтому он был не менее знаменит, чем якорь Марцинкевича. Про тот якорь знают все рыбаки Подлеморья и с добрыми шутками и смехом нет-нет да вклинят в свои разговоры. А дело было так. Однажды в сильный шторм порывом ураганного ветра оторвало якорь, и утлое суденышко было выброшено на берег. Капитан обошел вокруг нею и спокойно произнес:
— Хорошо, что у берега стояли… Сгнила калоша-то… Вот только якорь утопили…
— Да-а, якорь-то был охо-хо!.. Медный… — поддержал его моторист.
— А ты, Федюха, напиши все же бумагу-то, — попросил капитан моториста. Сам он был неграмотный. Бывали в те годы такие капитаны.
Вот и появилась на свет божий деловая бумага такого содержания:
«Я, Марцинкевнч Яков Андреевич, утопил якорь медный — весь железный.
Просьба списать его».
Видимо, не без юмора был тот моторист, который своей писаниной сделал популярным на все Подлеморье Марцинкевича и его «якорь медный — весь железный».
— Так, значит, Лисина не хочешь больше держать в своей бригаде?
— На кой черт он нужен… ворюга, — темно-синие глаза Петра сделались неузнаваемо суровыми и колючими.
— А вчетвером справитесь?
— Справимся, Алганаич, парни у меня шустрые. Любой из них за двоих может промышлять. Вот и подсчитай, сколько нас…
— Так, так… значит, один за двоих… Ладно, оставайтесь вчетвером.
Батыев бросил взгляд на парней, горланивших под гармошку. Здоровенные, загорелые, они задористо пели рыбацкие частушки:
…Я по берегу иду, Берег осыпается. . . . . . . . . . . . . Никто про то не знает, На чьи деньги Лисин пьет, Он колхозную рыбешку, Э-эх на водку продает! . . . . . . . . . . . . Он колхозную рыбешку, Э-эх, на водку продает! . . . . . . . . . . . .— Слышь, Алексей Алганаич?
— Слышу… А ловко сочинили, черти!
— Изведут мужика. Вези его на покос. Раз не хочет по-человечески рыбачить, пусть кормит комаров.
ГЛАВА V
Пролетела рыбацкая страда — летняя путина. Заполненная крестьянскими заботами, промелькнула золотая осень. И вот уже залетали «белые мухи» — пришел покров.
Всему охотничьему люду известно, что покров — это сердцеед охотника.
Дед Тымауль, которому перевалило за восьмой десяток, с наступлением покрова совершенно преображался, он будто сбрасывал со своих сутулых плеч не менее двух десятков лет. На посветлевшем лице появлялся румянец, тусклые подслеповатые глаза, словно по велению волшебника, загорались каким-то внутренним огнем, взгляд делался острым.
— Шлава богу, пришел покров, шердце так и подвывает. Пойду, однако, бельку промышлять… Вишь, шабака-то воет — жовет в тайгу, — улыбаясь шепелявил он и трясущимися от волнения руками набивал свой ветхий патронташ блестящими патронами.
Вот какой он, волшебный покров, — время нежных, пушистых снежинок, время охотничьих страстей.
Так же как и старого Тымауля, мучают покровские переновки и многих поморов.
К покрову в этом году заехали в тайгу на промысел белки человек пятнадцать аминдаканских охотников. В их числе и Петр Стрельцов с Мишкой Жигмитовым.
А как не хотелось отставать от своих друзей Вовке Тулбуконову и Сашке Балябину! Как они ни упрашивали председателя, но тот был неумолим.
— Сказал нет, и точка! — сердито отрезал Батыев.
— Хы, своей бригадой отбелковались бы, а потом можно и на учебу ехать. Отпусти, Лексей Лганаич, будь добр, а? — приставали парни.
— Будь добр, не заставляй учиться — так, что ли, а? Вы же опаздываете на занятия…
Парни, бросив свирепые взгляды на «вредного» бурята, нехотя пошли домой собираться в город.
В бухте Аяя на самом берегу залива отаборились братья Лисины, Егор и Яков. А Стрельцов с Мишкой забрались на Фролиху к деду Куруткану.
На берегу таежной речки, которая впадает в озеро, приютился ветхий чум, в котором доживает свой век старый эвенк. Заслышав лай собак, он вылез из берложки и присел на колоду. А когда подошли люди и сбросили с плеч свои тяжелые поняги, он легко поднялся и шагнул вперед.
— Петька, ти?
— Я, я, дедушка, здравствуй!
— О-бой! Петька, Петька! Мэндэ!.. Как сохач, болса стала! Мэндэ!
— А ты все такой же молодец!
— Хе-е! Пропаль Куруткан, пропаль! — маленькие живые глаза эвенка весело сверлят Петьку. — Бельку промышлять пришель?
— Аха, бабай, белковать заявились.
— О-бой, чипко корошо! А спирт тащиль? — старик облизнул морщинистые губы. — Миколку-бога нада поить. Он бельку посылать тебе будет.
— Никола-святой и без нашей водки перебьется, а тебя угостим.
Куруткан, не поняв значения Петькиных слов, утвердительно закивал головой. Старик наконец взглянул на Мишку.
— Мэндэ, батыр!.. Аванки, биранхур?[56]
— Мэндэ, бабай! Би биранхур[57].
— А-а… молодой охотник, друг твоя? — спросил он у Стрельцова.
— Дружок мой!
— Значит, своя человек…
Первый день Петр взял с собой Мишку, чтоб познакомить парня с окрестным лесом.
Утром дед Куруткан напутствовал их:
— Ти, Петруха, проведи бурятенка вверх по речке. Покажи ходку на день. Потом она одна пойдет.
Так и поступил Петька.
Десятую белку Мишка подстрелил на огромной лиственнице, и они сели отдохнуть.
— Стреляешь, Миха, хорошо. Только в сторону не кидайся. С утра до обеда иди вверх по речке, а потом вниз по другой стороне… Исть хочешь, нет?
— Не-е, — Мишка замотал головой.
— Тогдысь без чаю пойдем на юрту.
— Пошто? На дворе еще рано.
— Дед Куруткан нам дров наготовит, а?
— Оой, верно, я и не подумал.
До самых потемок Петр с Мишкой валили сухостой и пилили на чурочки, а старик складывал их в аккуратную поленницу. Уже в темноте Куруткан замахал рукой.
— Куватит на две зимы!
После ужина Петр ободрал три белки, а четвертую подал Мишке.
— Видел, как я делал? Вот и учись.
— Попробую.
Мишка долго возился с одной белкой, даже вспотел от напряжения. Но как он ни старался, а шкурку все же порезал.
Наблюдавший за Мишкиной работой старый эвенк взял из его рук шкурку белки и сокрушенно покачал головой.
— О-бой! — воскликнул Куруткан. — Ча, ча, ча-а! Кака ти окотник, бельку не умеешь обиходить! Ай-яй-яй!
Дряблое лицо старика еще больше сморщилось, будто он собрался заплакать. Оно выражало страдание и досаду. Мишка от стыда рад был сгореть и исчезнуть вместе с пеплом.
— Э-эх, пошто добро портить?.. Зачем тогда биль бельку?..
Долго и терпеливо учил старый эвенк Мишку, чтоб тот больше не портил пушнину. Но и Мишка был парень смекалистый. Научился обрабатывать шкурки.
Зло и отрывисто залаяла Найда. Петра словно чем-то обожгло.
— Зверя поставила! — взволнованно воскликнул он и бросился сквозь чащобу на лай. Пробежал метров двести, остановился, чтоб по лаю определить расстояние. — Ох, совсем рядом!.. Надо потихоньку…
Затаив дыхание, ступая по-рысьи, мягко и ходко, Петр крался от дерева к дереву. Вдруг затрещало где-то совсем рядом… «Кто же это — сохатый или медведь?» — застучало в голове, и он, взяв на изготовку ружье, встал за толстое дерево.
Зверь остановился, потом снова раздался треск; между деревьями и густым подлеском замелькало что-то черное и громадное. Петр прицелился в черный лоснящийся бок, но зверь успел отпрыгнуть в сторону. Вот он снова показался на какое-то мгновение, и этого было достаточно, чтоб охотник вскинул ружье и нажал на спусковой крючок.
Раненый зверь прыгнул вверх, и над молодым ельником Петр увидел огромные разлапистые рога сохатого.
«А я думал — медведь!» — мелькнуло у охотника.
Глубоко внутри у зверя мгновенно расцвел яркий огонь. Жарким пламенем брызнули из глаз искры; обезумев от страшной боли, он птицей перелетел через собаку и, ломая все на споем пути, ринулся вниз, где сверкала холодной синью бухта Аяя.
— Аяя, потуши во мне огонь! — кричит могучее тело сохача.
Длинные, прекрасные ноги лося еще сильны, до них пока не добрался огонь смерти, они двигаются широко и размашисто.
Захлебываясь лаем, несется Найда, а за ней, сжимая в руках ружье, бежит охотник.
Далеко впереди чуть слышен лай Найды. Она удаляется все дальше и дальше, и наконец ее совсем не слыхать. Петр остановился. Ему стало жарко, как в июле, пот стекал ручьем и больно ел глаза.
Высокие сосны наклонили свои макушки и внимательно следят за исходом борьбы. Громко каркая, пролетела над кровавым следом ворона. Вспугнутый грохотом выстрела дятел вернулся обратно на сухую вершину дерева и, осмотрев свою оставленную работу, снова принялся за дело.
Петр бежит и бежит по следам.. На свежем снегу алеют красные ягодки таежной кислицы. Местами они щедро рассыпаны и лежат целыми пригоршнями.
— Крови много потерял… Скоро ляжет, — сказал охотник любопытным елкам, которые лезут в лицо, царапаются и нет-нет да подставляют ему подножку.
Снова послышался лай. Все ближе, ближе. Наконец Петр увидел под огромным кедром лежавшего на брюхе лося. Он был еще жив и, грозно потрясая массивными рогами, отбивался от наседавшей Найды. Большие, сердитые глаза налились кровью и были переполнены болью и бессильной ненавистью к человеку и его собаке.
«Эх, бедняга!» — Петр тщательно прицелился, чтоб не промазать и не продлить тем самым предсмертное мученье таежного красавца.
Грохнул выстрел.
«Ох, как громко!» — с болью выдохнул охотник.
Освежевав лося, Петр сел отдохнуть.
«Сколько в одном звере мяса! Деду Куруткану хватит всю зиму сосать… Мы-то с Мишкой много ли съедим за две недели… все останется старику… Обрадуется бабай», — проносятся радостные мысли.
Вдруг из прибрежного леса донесся отчаянный крик. То был тревожный зов о помощи. Схватив ружье и на ходу заряжая его жаканом, охотник бросился в кедрач.
— Кажись, медведь кого-то прижал!.. Хошь бы успеть!
Как нарочно, перед Петром выросла сплошная стена из ельника, ольхи и багула. Зажмурившись, он стал пробираться на ощупь. Перекатываясь через колодник, спотыкаясь и падая, Петр спешил что есть сил. А из лесу беспрерывно раздавался вопль.
Наконец Петр выскочил на крутой взлобок и через редколесье увидел стоявшего на задних лапах громадного медведя. Зверь тянулся к висевшему на сучке толстого кедра человеку.
— Ох, загрызет мужика, сволочь! — вскрикнул Петр, увидев падающего человека.
Насколько ж медведь проворен! Не успел Стрельцов и моргнуть, а тот уже пляшет на человеке и яростно рвет на нем одежду.
Петр с разбегу остановился, вскинул ружье и выстрелил в черную косматую тушу.
Зверь страшно взревел.
На вид грузный и неуклюжий, он с такой быстротой повернулся и наплыл на охотника, что тот едва успел перезарядить ружье и, почти уперев ствол в косматую грудь, выпалил второй жакан.
Медведь рявкнул и, падая, облапал Петра.
Крепко прижавшись друг к другу, они свалились за толстую кедровую колоду.
За колодой с минуту слышалась возня, а затем все стихло. Оттуда никто не поднялся — ни Петр, ни зверь и ни тот, что свалился с дерева.
Услыхал крик и Яков Лисин. Бежавший впереди него черный кобель, зачуя запах медведя, поджал хвост и трусливо бросился к ногам хозяина.
— Пшел! — пнул он пса. — Такая же трусина, как и у Егора… Вот и ревет мужик. Добрая собачка выручит из беды, а вот такая-то сволочь стравит медведю. У-у, гадина! — ругается Яков, стараясь на бегу пнуть собаку.
Услыхав выстрелы, Яков пошел шагом. «Ухлопал Егорша!.. Хошь и боится медведяку, а свалил!.. Слава богу, теперь свежинка у нас есть!» — радостно подумал Лисин.
Боязливо оглядываясь, из-за куста выскочила собачонка брата.
— И убитого боишься, цыть, падла! — крикнул Яков.
Стрельцовская Найда не бросилась на зов чужого человека, а с жадностью продолжала пожирать вкусные, жирные внутренности сохатого.
Но вот она услыхала знакомый звук выстрела хозяйского ружья. Грохот повторился еще раз. Мгновенно вскочила и, вся напружинившись, прислушалась к медленно замиравшему гулу, потом тревожно взвизгнула и побежала.
От быстрой ходьбы Яков с тяжелым хрипом перевел дух и рукавом шинели вытер обильно струившийся по обросшему рыжей щетиной лицу пот.
За огромной кедровой колодой он увидел чужую собаку, которая, взобравшись на тушу матерого медведя, яростно теребила его.
— Эй, кто тут? — тревожно крикнул Лисин.
За колодой кто-то застонал.
Яков одним махом перескочил через нее и увидел лежавшего под деревом брата. Не помня себя, он кинулся к нему и стал тормошить его изо всех сил.
Егор застонал и открыл глаза.
— А-а, братуха, — выдохнул он. Приподнялся на локте и, застонав от боли, лег снова.
— Поломал тя, а?.. — Яков испуганно оглядел брата. — Кажись, угробил, гад…
— Чижало… горит нутро. — Егор облизнул губы. Худое щетинистое лицо вспыхнуло болью.
— Вот беда-то где! Ой-ей-ей, чо делать-та? — застонал Яков и рванул себя за космы.
— Не ной, подыми меня, дышать нечем.
Яков осторожно посадил брата и прислонил к стволу кедра.
Егор сморщился еще больше.
— Горю… посмотри, што там…
Яков раздел брата и увидел на спине небольшую ранку, из которой сочилась кровь.
— Оой, братя, это пуля тя шлепнула! — На костлявом теле Егора не было ни одной царапины. — Это не медведь тебя…
— Я и то чую… Пошто, Яша, ты в меня пальнул?
— Ты чо, сдурел?!. Я только што подбежал.
Яков взглянул в сторону убитого медведя и увидел торчащие из-под туши зверя чьи-то ноги.
— Тут еще кто-то? — закричал он и только сунулся к медведю, Найда грозно оскалилась, готовая наброситься на чужого.
Яков только теперь узнал стрельцовскую собаку.
— Кажись, Петька под зверем! Цыть, холера! — взревел он на собаку.
Умная лайка, поняв в чем дело, отошла в сторону, и Яков с трудом стащил с человека огромную тушу.
Петр Стрельцов лежал весь залитый медвежьей и собственной кровью.
Даже не притронувшись к молодому охотнику, Яков отошел к брату.
— Кажись, сдох, сволочь-то… Это он пальнул в меня, — серо-зеленые водянистые глаза Егора наполнились злобой.
— Вот когда он отплатил за отца, — тихо проговорил Яков, — вот ведь какой настырный.
Петр охнул и зашевелился.
— Очухался?! — удивленно воскликнул Яков, а Егор сердито сплюнул.
Стрельцов, морщась от боли, поднялся и вопросительно посмотрел на братьев.
— Пошто в меня-то пальнул? — с трудом выдохнул старший Лисин и потерял сознание.
Темно-серые глаза Петра удивленно уставились на Якова.
— Что он сказал?.. А!..
— Рехнулся от боли, вот и баит ерунду. — Яков вяло усмехнулся. — Пуля-то обранила зверя и Егора зацепила.
— Но?! — зажглись тревогой глаза Петра.
— Ничо, заживет.
Стонет, стонет берег моря от тяжких крутых волн осеннего шторма. Сильный северо-западный ветер гонит темные тучи. Яков с Петром кое-как принесли Егора в юрту. У Петра оказался вывих левой руки, и кровоточили глубокие царапины на плече. Нудно болит голова, и не отступает тупая боль во всем теле.
Егор то приходит в себя, то снова теряет сознание.
— Дядя Яша, ты дерни руку-то, может, кость станет на место, — просит Петр.
Лисину кое-как удалось вправить вывих. Он действовал самым простым поморским приемом: «Тяни, чтоб искры из глаз, а сустав найдет свое место».
Утром к лисинской юрте прибежал Мишка. На лай собак вышел Петр.
— Ты, дядя Петя, пошто здесь-то? — испуганно спросил Мишка, увидев забинтованную руку Петра.
— И не говори, паря, так случилось. А как там дед Куруткан?
— Всю ночь не спал. Чуть свет погнал искать тебя.
Из юрты выполз Яков.
— А-а, Мишка! Здоров, здоров!
Лисин тревожно посмотрел на бушующее море и сокрушенно покачал головой.
— Если седни не вывезем Егора, то хана ему.
— А чо с ним? — в темных, узких глазах бурята заметались растревоженные зайчики.
— Худо, паря, — Яков смахнул набежавшую слезу.
Петр ссутулился и шатко пошел к лодке.
Сквозь тучи едва заметной полоской проглядывается противоположный берег. Над морем кое-где белой сеткой падает снег. По-прежнему ревя дует северо-западный ветер и загоняет даже в бухту Аяя бугристые, крутые волны.
— Э-эх, черт!.. Надо же было так случиться, — Петр опустился на липкий снег.
— А чо, дядя Петя, случилось?
— Плохо дело, Миша… Хуже, паря, и не придумать… — Петр утер рукавом лицо и продолжал ломким глухим голосом: — Егор попал под медведя… Я выручал его… да допустил оплошину — пуля прошла по мякоти зверя и ранила мужика.
— Ой-ей-ей! Вот беда дык беда!.. А он где?
— В юрте лежит.
— Надо скорей в больницу! — Мишка глянул на бушующее море. — Чо же я говорю-то!.. Куды же угребешься в такой встречный ветер, — поправил он себя.
Угрюмо сидят друзья. Молча перебирают свои невеселые мысли. Потом, словно очнувшись от тяжелого сна, Петр потряс чубастой головой и разгладил широкой ладонью печальное лицо.
— Э-эх, дьявол, как не повезло!.. Ладно, Миха, оханьем делу не поможешь. Сегодня ветер не утихнет, пойдем приберем мясо.
— А чье ж мясо-то?
— Сохатого я завалил, пудов на восемнадцать.
— Охо! Вот это зверюга!
— Деда Куруткана мясом обеспечим. Только надо прибрать, не то воронье да росомахи все до кусочка растащут.
— Вы куды, ребята? — вдогонку им крикнул Яков.
— Сходим по делу, дядя Яша.
— А-а… А долго проходите?
— Да нет, к обеду возвернемся.
— Но, но, идите. Все равно ветер не стихнет. Разве к ночи угомонится.
Когда Петр с Мишкой скрылись за деревьями, Яков еще долго стоял и слушал, как под ногами охотников шуршат снег и листья, как потрескивают хрупкие сухие сучья. И, когда совсем затихли шаги, поспешно заткнул за пояс топор, схватил с дерева ружье и пустился вслед за ними.
Когда ночью Яков подавал брату пить, тот снова и снова повторял одно и то же: «Пошто Петька сгубил меня?»
Вот и пришла на ум догадка: «Петька и действительно, мстя за отца, стрельнул сначала в зверя, а потом, будто невзначай, хлопнул брата… А теперь, чтоб замести следы, уговорил Мишку спрятать тушу медведя. Недаром он узел Мишку на берег, и там они о чем-то долго шептались. А тот бурятенок любит Петьку и из-за него на все готов. Надо выследить и упредить их», — решил Яков и пошел вслед за охотниками.
На свежем снегу следы людей сверкали новеньким литым серебром. Яков осторожно крался следом, а у самого в сердце разгорался злой огонек мести. Он вспомнил, как прошедшим летом он рыбачил в бригаде Петра Стрельцова в Сосновке. Как произошел скандал из-за бочки с омулями, которую он хотел через Степку Аверина продать на «Ангару». Как ему помешал тунгусенок Вовка Тулбуконов. Вспомнил, как бешено ругался Петька и подкосил к его носу свои пудовые кулаки. А потом выгнал его из бригады… Тогда председатель колхоза не ругал, не совестил его, даже сочувственно покачал головой и сказал: «Ошибся мужик». Это было хуже всякой самой грязной ругани. А потом… каково было смотреть на своих колхозников! Каково было сносить насмешки молодятника!.. Эти сопляки давно ли ползали под порогом, а бывало, как увидят его, так и заводят свою сволочную частушку. Яков вспомнил даже слова той запевки:
Никто про то не знает, На чьи деньги Лисин пьет. Он колхозную рыбешку, Э-эх, на водку продает.— И придумают же черти! Хы! Как я только не провалился сквозь землю?! Как не повесился со стыда?! — воскликнул он. Перед Яковом всплыло сердитое, осуждающее лицо Стрельцова. — У-ух, гадина! Так и разорвал бы тя! — вслух прошептал распаленный своими воспоминаниями Яков и погрозил кулаком вслед Стрельцову.
Лисин проследил за охотниками более километра и понял, что они идут вовсе не к месту вчерашней схватки, а в сторону Фролихи, где живет старый эвенк.
«Значит, подлюги, к тунгусу Куруткану накопытились», — подумал он. Постояв минуты две, Яков решительно зашагал в сторону убитого медведя.
— Кар-кар-кар! — руганью встретило воронье племя Лисина.
— Погодите проклинать Якова, он вас так накормит, век будете помнить.
Охотник не без труда перевернул на спину труп зверя. Даже мертвый, он наводил на Лисина страх.
Своим острым ножом Яков сделал надрезы на ногах и начал свежевать косолапого.
— Жи-ирный! За што же обиделся на Егора-то?.. — громко разговаривал он с мертвым зверем.
«Сейчас я обдеру тебя, разрублю на части и растаскаю по кустам… Воронье за день так обработает, что одне косточки останутся, и тех не сыщешь», — рассуждает Лисин.
Когда Яков отделил шкуру от мяса и расстелил ее по снегу, то на ней оказались три дырочки, вокруг которых багровели кровоподтеки.
— Я слышал два выстрела… Значит, одна пуля навылет прошла, а вторая задержалась, — говорил он по таежной привычке вслух. — Значит, Егора-то он невзначай подстрелил.
Вороны расселись по соседним деревьям и что есть мочи костыляли человека.
— Да погодите же, поганые, сейчас нажретесь! — огрызнулся Яков.
Лисин изрубил тушу на куски и растаскал их по чащобе.
— Жрите, лопайте, черти ненасытные! Да так, чтоб косточки никто не сыскал.
Яков притомился и сел на колоду, закурил, призадумался о чем-то, а потом радостно рассмеялся.
— Так-то вот, Петруха, посмотрим, как будешь там на суде!.. — Лисин снова сипло и приглушенно захихикал и погрозил кулаком в сторону Фролихи, куда ушли Петр с Мишкой. — Там я кое о чем скажу… Слышь, аминдаканский активист?
Яков долго искал дерево с дуплом. Наконец у самой речки, в огромной кривой лиственнице, он обнаружил дупло, куда и засунул медвежью шкуру.
— Жди меня, шуба, пока черти не угомонятся. Потом заберу тебя, продам и на Петькины проводы в тюрьму выпью, хи-хи-хи!
Услышав ехидное хихиканье Якова, высокие строчные деревья сурово нахмурились и покачали своими кудрявыми макушками.
Отмерив сто шагов на закат, он сделал затес на толстой сосне, чтоб по нему потом найти шкуру.
По тайге пронесся тревожный шум и затих в горах.
— А ты, паря, меня не запугивай и не отговаривай! — с твердой решимостью в голосе сказал Яков тайге и зашагал к юрте.
Сидит Петр на колоде и смотрит, как Мишка, ловко орудуя топором, делает сайбу[58].
«Смекалистый бурятенок, — подумал Стрельцов. — Я и не подумал, что он топором так может».
А рука опухла, раскраснелась и сильно ноет. Донимает головная боль, но все это пустяки по сравнению с болью на душе. Неотступно грызет Петра мысль о том, как он, неудачно выстрелив в медведя, ранил Егора…
Соорудив отличную сайбу, Мишка соскочил на землю.
— Как, дядя Петя, ладно, нет?
— Хорошо, молодец. Теперь склади туда мясо и закрой по-хозяйски.
На обратном пути Мишке захотелось посмотреть, какого медведя завалил Петр, но Стрельцов наотрез отказался идти туда. Мишка обиделся и шел молча сзади.
Поняв Мишкину обиду, Петр повернулся к нему и хмуро улыбнулся одними глазами.
— Не сердись, Миха, туды ходить нельзя.
— Да нет, я не обижаюсь.
— Вишь, паря, мы с тобой наследим, а вдруг туды приедет милиция, что нам тогдысь скажут?
— А зачем милиции-то приезжать?
— Сам знаешь Лисиных… Егор-то сразу, еще у медведя, попрекнул меня, будто я мстил за отца…
— Но ведь ты же невзначай его ранил, выручал…
— Так-то оно так…
Юрта Лисиных сиротливо прикорнулась под старой, разлапистой сосной. Ни дымка из дымоходного отверстия, ни собак у двери.
— Что такое, где люди-то? — спрашивает Мишка.
— Наверно, спят, а собаки зверуют.
Мишка нырнул в низкую дверь.
— Дядя Егор, здравствуй, — чуть слышно проговорил он. В ответ послышался стон, потом прошелестел шепот: — Пить… дай пить… С-с…
Петр неуклюже заполз вслед за Мишкой. Мишка налил в деревянную чашку чаю и поднес к губам больного. Тот жадно проглотил.
— Горит нутро… Чо погода-то?.. Даст идти, нет?..
— Сивер дует, не пустит, — ответил Мишка.
— А ты кто?
— Мишка.
— А-а… а Яков-то где?
— Ушел куды-то.
— И Петьки нету?
— Я здесь, дядя Егор.
— А-а… чую, Петруха, что здесь и отдам концы.
— Ничо, дядя Егор, ты двужильный, выздоровеешь.
— И не бай, паря, все нутро горит и чем-то набухает.
Яков не пошел прямо на юрту, а вышел сначала на берег моря, в километре южнее от нее.
Холодный ветер хлестнул по лицу, нахально проник за шиворот и за пазуху.
«Э-эй, черт, не угребемся… Что же будет с Егором-то? — тревожно подумал он. Взглянул на свои руки и одежду. — Надо умыть следы».
Продраил песком заскорузлые, испачканные кровью и жиром руки. Тщательно вымыл щетинистое темно-коричневое лицо, очистил от кровавых пятен штаны и шинель.
— Теперь никто и не подумает, што я с мясом возился, — проговорил вслух таежник и побрел на табор.
После обеда Петр, посоветовавшись с Яковом, отправил Мишку к деду Куруткану.
— Передай деду, что с Егором Лисиным приключилась беда и мне никак нельзя его оставить. Понял? Только там не мешкай… Как стихнет, сразу и пойдем… Э, черт, чуть не забыл, на сайбе возьми стегно мяса и унеси Куруткану, да не забудь рассказать ему, у какого дерева находится сайба с мясом… Понял?
— Понять-то понял, но как же старик найдет нашу сайбу по одному какому-то дереву.
— Э, паря, не твоя печаль. Старик в тайге, как ты в своем дворе, все знает. Ты видел у сайбы кривую листвень со сломанной вершиной, вот про нее и скажи, а остальное — не твоя печаль, найдет.
— Хы, наверно, он шаман, — усмехнулся Мишка и быстро зашагал по тропе.
За версту от своего чума старый эвенк встретил Мишку.
«Нет, он шаман!.. Не то как же можно в такой дикой тайге узнать, что к нему идет человек, и встретить его в нужном месте. Шаман!..» — восхищенно подумал молодой охотник.
— О где Петька? — узенькие белесые глазки тревожно уставились на Мишку. Тощая фигурка старика еще больше согнулась.
Парень сбросил понягу с мясом.
— Петька упромыслил. Послал тебе.
— Огде Петька?! — еще громче повторил старик.
— У Лисиных в юрте.
— Она сдурель?! Лисин худой люди.
— Егора Лисина ранили… пуля тут, — Мишка показал на грудь.
— О-бой, драка биль?
— Нет, по ошибке… невзначай…
— А-а… Петька ево домой тащиль?
— Нет, ждут, когда ветер утихнет.
— Э-э, твоя тоже помогать будешь?
— Аха.
— Твой скорей ходи назад. Солнце садись — будет тихо.
Мишка хотел дотащить до чума свою тяжелую понягу, но старик замахал на него, затряс седой головой.
— Сама тащиль буду. Тебе торопись нада.
— А сайбу-то найдешь?
— Найдем. Мне ворона показать будет.
— А-а.
ГЛАВА VI
На закате ветер начал стихать. Темные тучи, низко нависшие над морем, наконец оторвались от него и отдельными разорванными клочьями уплыли на юг. За морем четко вырисовывались прибрежные горы, а гольцы окутались в белые кудрявые облака и спрятались от глаз человеческих на долгие недели. По характерным резким очертаниям Байкальского хребта Петр узнал, где находятся Горемыки, где Аминдакан и Нижне-Ангарск. Долго он всматривался в знакомые горы, у подножья которых приютилась его родная деревня. Там его Вера. Словно из тумана выплыли дорогие черты любимого лица. Большие черные глаза грустно улыбаются. Она укоряет Петра: «Дома бываешь гостем, и как тебе не надоест?.. Неужели тебе плохо со мной?.. Может быть, ты разлюбил меня?!.»
«Нет, Вера, не разлюбил я тебя и никогда не разлюблю, — отвечает ей Петр. — Скоро будем вместе…»
— Петруха, — позвал его Яков.
— Чо, дядя Яша?
— Дык чо, паря, будем делать?
— Пойдем, — твердо ответил Петр.
— Ишо зыбит, да и ветер будет парусить, — тревожно посмотрев на море, сказал Яков.
— Ничо, будем мало-помалу двигаться, а то Егор-то не дотянет до больницы.
— И то верно.
Посредине лодки-душегубки настлали мягких еловых лапок, сверху расстелили козьи шкуры и осторожно уложили Егора.
Больной то приходит в себя, то снова теряет сознание.
Яков с Мишкой гребут, а Петр одной рукой правит длинным кормовым веслом. Ветер заметно ослаб, но все равно еще парусит и задерживает ход лодки. Никто бы другой, кроме поморов, на такой «душегубке» и не пустился через буйное море, где ходят огромные волны и некоторые из них даже заглядывают в лодчонку.
Поморы по очереди отчерпывают воду и продолжают грести. На дворе почти ноябрь. С наступлением холодов вода в Байкале густеет, удары волн становятся тугими и резкими, и им куда проще опрокинуть лодку, чем летом.
Искусно правит лодкой Петр. Каким-то чутьем он выбирает пологие просветы меж огромных темных бугров и проводит туда лодку.
Сквозь шум волн и визг весел доносится стон Егора.
«Что же это я сделал с человеком?!. Надо бы чуть повременить, получше прицелиться и потом уж стрельнуть… А я с разбегу бахнул, и на те, сгубил мужика…»
«Сгубил, сгу-убил, сгу-бил», — надрывно вторят весла.
— Ой, горю, горю! — жалуется Егор.
Совсем стемнело. Кругом бугрятся одни враждебные крутые волны, которым лишь бы дождаться, чтобы зазевались, — и проглотить, слопать людей.
Петр ведет лодку по звездам, которые нет-нет да сверкнут в разорванных окнах темных туч.
— Ой, горю!.. Ой, горю!..
Эти слова тяжелым молотом стучат по вискам, заклинивают горло чем-то тугим, горячим, отчего становится трудно дышать, и Петр рванул за ворот рубахи — с «мясом» отлетели пуговки.
«Кичиги[59]-то вон как высоко поднялись, значит, время за полночь», — увидев на небе три дружно шагающих звезды, подумал он.
Яков с Мишкой опустили весла.
— Надо перекурить, ребята, — сказал хриплым голосом Яков.
Вдруг за бортом кто-то большой и тяжелый гулко шлепнулся об воду. Охотников обдало брызгами ледяной воды. Все вздрогнули.
— Что это? — тревожно спросил Мишка.
— «Водяной», — закуривая, ответил Яков.
— Смеется он, это нерпа подныривает, — успокоил парня Петр.
В темноте засверкали огоньки. Море сразу же стало каким-то свойским, обжитым, и теперь Мишке оно кажется не таким уж враждебным и злым.
Удивительное существо человек. Появись он даже в самом пустынном уголке земли, и этот уголок моментально, прямо-таки на глазах начинает преображаться и становится обжитым.
— Пи-ить, — едва слышно просит Егор.
Петр зачерпнул кружкой воду и поднес к губам больного. Отпив, Егор вздохнул, видно полегчало, заговорил бодро и быстро:
— Вот, Петька, ты и отомстил мне за отца… Батьку-то твово я утопил… это так… выхода не было… А ты меня хлопнул… вот и все, мы с тобой в расчете…
— Нет, дядя Егор, я не мстил… я ошибся… пуля подвела…
Все подавленно молчат.
Угрюмо молчит море. Северо-запад затих совсем, его сменил попутный «бережник», и лодка пошла быстрее.
Наконец рассвело. Исчезли последние тучки, обрадованные охотники увидели вдали свой берег и облегченно вздохнули. Повеселевшие, ободренные, гребцы еще сильнее стали налегать на весла. Лодка легко взбегала на пологую волну и стремительно скользила вниз.
Егор долго и громко стонал и вдруг неожиданно затих. Заросшее бурой щетиной лицо стало бледно-желтым, большой нос заострился.
Петр зашел в избу и остановился у порога. Сидевшие за столом Вера и бабка Кумуха-черемуха почти враз воскликнули:
— Легкий на помине!
Вера словно на крыльях вылетела бы из-за стола и повисла на шее мужа, но ее сдерживало присутствие суровой бабки, которая терпеть не могла всякие сердечные проявления.
— Здравствуйте! — виновато улыбнувшись, поздоровался Петр.
— Проходи, проходи, охотничек! — густо прогудел бас бабки Дарьи, в котором затонуло Верино «здравствуй».
Охотник подошел к столу и, не раздеваясь, плюхнулся на табурет ку.
— Боже мой, чо это с тобой доспелось? — вздыбилась над Петром бабка.
— Петя, это кто тебе лицо-то поцарапал? — испуганно воскликнула Вера, тревожно и радостно разглядывал мужа.
— Да-а так себе, — отмахнулся он и виновато взглянул, пряча правую руку под столом.
— Э, паря, чо-то стряслось, кумуха-черемуха!
— Егора Лисина привезли… мертвого.
Бабка опустилась перед образами.
— О, господи! Мать пресвятая богородица!
— Медведь задавил? — в черных Вериных глазах заискрился страх.
— Нет, умер от пули.
— О, господи, да кто же это его?
— Я… невз…
Вера не дала договорить, с плачем свалилась на руки Петру.
По Аминдакану быстро расползлись зловещие слухи: «Петр Стрельцов застрелил Егора Лисина… Знамо дело, за отца отомстил». Но большинство колхозников наотрез возражало: «Будет Петруха в человека стрелять! Не-е! Не таковский он мужик».
Яков Лисин, изрядно покачиваясь, вошел в ограду своего друга Семена Малышева. Хозяин встретил гостя у крыльца с охапкой дров.
— Здорово, Сеня!
— Здравствуй, Якуха, проходи в избу.
В доме Малышева было прохладно и неуютно. Пахло затхлым неумытым углом. Они молча закурили.
— Как получилось-то?
— Петька стрелял в медведя и попутно, вторым, зацепил Егора.
— Вот ведь сволочь-то какой! — Семен сердито сверкнул цыганскими глазами.
— Не приведи господь, варнак… душегубец.
Малышев в упор посмотрел на Якова, тот не выдержал взгляда и опустил глаза.
— Чо, думаешь, простить?
— Ни в жись!.. Пришел попросить тебя чиркнуть гумагу в суд.
— А свидетель-то есть?
— Я видел своими глазами.
— Это, паря, не тово… вот бы посторонний.
— А сторонний, хушь он и не видел, а слышал от самого Егора.
— Кто?
— Мишка Жигмитов. Егор-то ишо в своем уме был и упрекал душегуба Петьку. Он при Мишке в глаза Петьке смотрел и баил: «Зачем в меня пальнул?.. За отца мстил?»
— И Мишка слышал? Не отопрется?
— Все мы слышали. Не должен бы отпереться.
Наконец-то Семену Малышеву представилась возможность упечь ненавистного Стрельцова туда, откуда не скоро возвращаются. И вернуть домой Веру. А там… может, к дружба у них рассохнется… Тогда-то уж Наталья не откажется выйти за него…
— Ладно, Яша, напишу, рассказывай, — оторвавшись от радужных надежд, попросил он Лисина.
Яков сдвинул жиденькие рыжие брови. Большие зеленые глаза неуверенно заметались и уставились в пол.
— …Слышу, ревет кто-то. Подумал на Егора. Бегу. Потом бух-бух два раза. Вижу, упал Егор, а медведь подмял Петьку. А когда подбежал, вижу, брат лежит, а медведь кого-то давит… Тогдысь я пальнул по лопаткам, и зверь упал.
— Ты, Яша, рассказываешь-то будто выдумку какую, мотри не запутайся на суде.
— Нет, к тому времени я все обмозгую, как надо лучше баить.
Октябрь в этом году выдался каким-то особенно суровым. Часто налетал свирепый «горный», его сменял не менее буйный «култук».
Только на четвертый день «Красный помор» смог доставить следственную комиссию в бухту Аяя.
Весь путь от Аминдакана до Аяи Яков Лисин лежал на палубе у засмоленного битеня, с головой укрывшись собачьей дохой. Его приглашали в кубрик, но он отказывался, сославшись на головную боль. У него и в самом деле разболелась голова, так как он до одури думал об одном и том же: «Съели или нет звери и птицы мясо медведя?.. Если все целехонько, то власти могут Петьку оправдать, а его, Якова Лисина, завинят в ложном показании. Так ведь сказал Семен Малышев. А он зря болтать не будет — мужик башковитый».
А когда пошли к месту происшествия, то Якова словно подменили. Он шагал рядом с прокурором, возбужденно размахивал руками и рассказывал, как орал Егор и ревел медведь, как он добил косолапого на Стрельцове… Он говорил и говорил безудержно, а у самого ныло сердце, и большой трус, живущий в его сердце, по-заячьи стремился дать драпака.
Наконец люди вышли на небольшую калтусинку, на краю которой стоял размашистый кедр, где был ранен Егор Лисин. На грязном снегу повсюду виднелись огромные медвежьи следы; все это место было утоптано и загажено вороньей стаей, которая с криком и шумом поднялась над лесом и злорадно наблюдала за двуногими.
В ельнике затрещал валежник. Кто-то тяжелый убежал в глубь тайги.
«Слава богу, медведь!.. Уж он-то все подобрал. Теперь Петьке нечем доказать… Вот тебе и Яшка Лисин — пьяница и воришка, ха-ха-ха!» — злорадствовал Яков.
Он взглянул под дерево, где был убит медведь, и сокрушенно выпалил:
— Смотрите, добрые люди, даже косточек не сыщешь! Как же теперя правду-то искать, а?
Прокурор Будашарнаев тревожно взглянул на следователя, нахмурился. А миловидная врач Алла Михайловна приложила к раскрасневшимся на легком морозце щекам узорчатые варежки и покачала головой.
— Мне кажется, здесь и делать нечего!
Возбужденный Лисин кинулся к кедру, но был остановлен резким окриком прокурора:
— Назад! Что вы делаете!
— Обзабылся, товарыш.
Петр Стрельцов, шедший рядом с понятыми — Иваном Зелениным и Степаном Кузиным, опустился на колоду и изменившимся голосом попросил у Зеленина папиросу.
— Ты же не курил, Петя! — удивился Иван и протянул пачку.
Весь снег вокруг кедра, под которым когда-то лежал труп медведя, был утрамбован косолапым и стаей матерых таежных ворон, которые исполняли на этом месте танец «сытого желудка».
Все куски мяса, которые растаскал Лисин, были найдены медведем и востроглазыми птицами, и от них, конечно, ничего не осталось. Только кое-где валялись обглоданные кости и несколько клочков черной шерсти, которые были преднамеренно раскиданы Лисиным, когда он разносил по кустам медвежатину.
Зная, что медведь любит прятать свою добычу под разным хламьем, чтоб мясо стало с духом, люди обыскали все окрестные завалы и заросли, перевернули колоды, но ничего не нашли.
— Вот и все, — сказал прокурор Будашарнаев, окидывая черными живыми глазами присутствующих, — вещественных доказательств нет…
Яков Лисин подал на Петра Стрельцова заявление в народный суд. Он обвинял его в преднамеренном убийстве своего брата Егора. Свидетелем был выставлен Мишка Жигмитов.
В Аминдакане никто не верил, что Петр мог пойти на такое. Все колхозники с презрением смотрели на Якова Лисина, в глазах ругали и стыдили его за то, что он оклеветал Стрельцова и подал на него в суд. Но Лисин с бесстыдной ухмылкой говорил, что он хочет только напугать Петра, все же будет легче на душе: ведь Егор-то погиб от стрельцовской пули. «Что же, по-вашему, выходит, спасибо ему говорить, что ли?..»
К седьмому ноября охотники вернулись с белковли. Они вынесли из тайги много шкурок белки, колонка, горностая. Собаки загоняли и соболя, но в этом году охота на него была запрещена.
На торжественном заседании вечером шестого ноября правление колхоза вручило своим лучшим рыбакам и охотникам грамоты и денежные премии.
За перевыполнение плана рыбодобычи в числе других был премирован и Петр Стрельцов.
После торжественного заседания началась художественная часть вечера.
У Веры разболелась голова, и они с Петром ушли домой.
— Эв-ва, кумуха-черемуха! Надо петь, плясать, а оно приплыли домой! — упрекнула их бабка. В ее глазах сверкали веселые искорки.
— У меня, бабка, голова разболелась, почему-то тошнит, и изжога замучила, — пожаловалась Вера.
— Изжога не от бога, кумуха-черемуха, знамо отчего — забрюхатела.
Вера удивленно посмотрела на бабку, а затем, поняв значение ее слов, стыдливо закрыла лицо руками и убежала в комнату.
Петр весело расхохотался и положил на стол грамоту и деньги.
— Вот и меня премировали.
— А ково же наделять похвалой, коли не Петьку Стрельцова. Давай-ка, дорогой зятек, на радостях-то гульнем!
Матерой медведицей вперевалочку засуетилась старуха. Петька уселся на стол. Ему было так уютно, так хорошо около этой грубоватой, несокрушимо могучей старухи.
«Эх, еще бы сюда маму затащить… вот было бы радостей!.. Но она настырная, ох, уж настырная… не пойдет», — с грустью подумал Петр.
Обширную кухню всю заполнила собой бабка, распирая стены, гудит ее басовитый голос, успокаивает его и прочь отгоняет, как туман ветром, тяжелые мысли о предстоящем суде.
Когда на столе появился обильный ужин, старуха гаркнула внучке:
— Эй, кумуха-черемуха, садись за стол!
— Не могу, бабушка.
— Ну и дрыхни, мы и без тебя обойдемся, — бабка Дарья весело подмигнула Петру.
Но на Петра вдруг нахлынули невеселые думы, и он склонил над столом свою чубастую голову.
— Што ж ты, Петенька, не весел, что ты голову повесил?! — нараспев пробасила бабка. — Давай лучше споем.
— Ох, бабушка, как вспомню про Егора, так на душе и начинают кошки скрести.
— Э, паря, брось-ка голову себе морочить да душу бередить. Чему быть, тому не миновать, а в гибели Егора ты не виновен. Так судьба распорядилась… Слух ходит, что Яшка в суд подал, но ты не примай это на сердце, не в ту сторону он накопытился.
— Так-то оно так… вот, если бы медведь уцелел… тогда Будашарнаев с врачицей все бы на месте выяснили и заактировали.
— Э, паря, хушь я и стара дура, но кумекаю, что Яшке веры не будет.
— Ничего бы этого не случилось, — словно про себя говорит помор, — если бы тогда у меня была тятина берданка.
— У нее, чо же, пуля умнее?
— Не-е, я бы издалека ухлопал зверя-то, пока еще Егор висел на суку…
— А-а, а куды девали эту дарданку-то?
— Берданку-то, — поправил Петр, — тятя спрятал, даже мать не знает.
— Откель бабе знать… Ружо-то, оно ведь дело мужицкое, а наше — клюка да ухват.
— Правильно, Дарья Васильевна, оно все так, но без доброго ружья и охотник не охотник.
— Ничо, сынок, мой-то тятька с дедом Елизаром зверя промышляли палками, а у тебя хушь дроболка, а все ружо.
— Как палками промышляли зверя?
— Про то надо баить с дедом Арбидошей, он те все раскумекает. Видала и я те палки: колючая железячка на конце, а в остальном-то она была схожа с моей клюкой.
— Смелый же народец был эти предки!
— Поморы-то самого дьявола не пужались.
— Бабушка, я все хочу спросить: почему нас называют поморами, а других рыбаков нет? Ведь те же баргузята и рыбу и нерпу промышляют, как и мы.
— Потому, сынок, что наши деды пришли сюда с Холодного моря, а у баргузят и у других — всяка шарага собиралась, все варначье — поселенцы да каторга.
— А-а, вон оно што.
Бабка Дарья ходит во дворе и гудит своим грубым голосом — разговор ведет со своей буренкой.
Вера, помогая одеваться Петру, оглядывает его, с ее смуглого лица не сходит нежная улыбка. На новеньком бобриковом полупальто сама застегнула пуговицы и поправила воротник.
— Иди, иди, Петя, поздравь маму с праздником. Только не пей лишнего…
— Ладно, Вера, не наговаривай, как ребенку. Вот скоро родишь сынка, тогда и…
Вера не дала Петру договорить, зажала ему ладонями рот и, смеясь, вытолкала его на крыльцо.
На дворе сыплет реденький снежок, но видимость довольно хорошая. По всему Аминдакану реют алые флаги, а на зданиях школы и колхозной конторы красуются плакаты и лозунги. Несмотря на ненастье, деревня выглядит празднично. Непоседливые ребятишки играют в партизан; они со смехом «расстреливают» снежными комьями «белого офицера». Если бы не ребятишки, то улица была бы безлюдной. Только изредка покажется какая-нибудь хозяйка, юркнет к соседке и рысью обратно. В некоторых домах уже пиликают гармошки и нестройно гудят голоса.
— Начинают, но еще не «на строю»… — усмехнулся Петр.
Подойдя к воротам родного дома, Стрельцов невольно замедлил шаг. Старенький невзрачный домик напомнил ему детство, отца, мать… Приостановился и услышал в избе чей-то мужской голос. Сердито нахмурившись, он решительно толкнул калитку. Она радостно взвизгнула и впустила его.
Широко распахнув дверь, Петр по-хозяйски вошел в избу, поздоровался и поздравил с праздником. Мать, копошившаяся у печки, сунула в угол ухват и, радостно улыбаясь, подошла к сыну.
— Пришел!.. Дай раздену, дай! — на моложавом, румяном лице ярко вспыхнули осчастливленные глаза. — Проходи, Петя, садись за стол! А Вера-то как не с тобой?
Из-за стола поднялся дед Арбидоша и хмельными глазами следит за хозяйкой и Петром.
— В-во, ядрена Фенька!.. Давно бы так, чем серчать на мать!.. Э, паря, постой, молодец удалой! Пошто без жены заявился? — шумно надвинулся дед Арбидоша, обдавая Петра винным перегаром и еще каким-то крепким, поморским, знакомым с раннего детства запахом.
— У-у, дед Арбидоша, тут сначала надо разведать, не будут ли нас с Верой за уши драть.
— Эва, каков он!.. Но и хитер, ядрена Фенька!
На широком скуластом лице старого помора слезятся щелки узких глаз. Жиденькая сивая бородка боевито топорщится и трясется, как у задиристого козла.
— Наталья! Сын-то у тя лучший башлык!.. Во! Ядрена Фенька, так и держись, Петро, на волне!
Цепко схватив гостя за руку, старик затащил его за стол и затянул свою любимую:
…Славное море, священный Байкал… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .На самой высокой ноте старик поперхнулся.
— Кхы, кхы, черт, ишо кто-то торопится! Наталья, шевелись!.. Примай сына-молодца!
В сенцах стукнуло чем-то тяжелым, затем распахнулась дверь, и с морозным паром ввалился Семен Малышев, а за ним Яков Лисин. Оба были настолько хмельны, что едва держались на ногах.
— А-а, соседка, наконец-то дождалась блудного сына!.. А где же он оставил свою шлюху-то? Но это неважно, ха-ха-ха! — неуклюже искривившись на хромой ноге, хрипло сопя, расхохотался Малышев.
Петр порывисто поднялся со стула. Серые глаза потемнели и заискрились бешеными огнями.
И откуда взялась у пьяного Лисина такая прыть, он мгновенно подскочил к Петру и, стараясь посадить его на место, обнял и стал уговаривать:
— Петя, Петя, друг… успокойся, не обидься на нас!
Стрельцов брезгливо оттолкнул от себя Лисина, который отлетел к перегородке и едва удержался на ногах.
— Ты что, драться вздумал?! — визгливо крикнул Малышев. — Ты и так заработал себе тюрьму!
Петр схватил свое пальто, нахлобучил задом наперед шапку, взглянул на растерянное бледное лицо матери и на ходу крикнул ей:
— Мама, жди! Мы с Верой еще придем! — с досады махнул рукой и выскочил на двор.
Наталья уткнулась в висевшую рядом телогрейку и беззвучно заплакала.
Дед Арбидоша молча покачал лохматой головой и отвернулся в сторону.
— Эт-та тюрьма… Эт-та не кормилец тебе, Наташа, а горькие слезы… — Пьяно бормочет Малышев.
Наталья выпрямилась.
— Радуешься, гад!.. Пособляешь Лисину, как ловчее посадить Петю в тюрьму… Уходи! Убирайтесь!
Наталья схватила клюку и, гневно орудуя ею, вытолкала мужиков на улицу.
ГЛАВА VII
Зима в этом году началась суровая. После многодневных свирепых ветров наступило затишье. Холодный сивер принес с собой мороз, который за одну неделю покрыл море торосистым льдом.
Алексей Алганаич снарядил, кроме неводной бригады, пять звеньев на бармашевый лов.
По тонкому льду в Подлеморье очень хорошо ловится черный хариус на удочку. Хороший бармашельщик за день может добыть до пятидесяти килограммов рыбы.
Сначала рыбаки добывают в озере специальными корытами бармаша — рачка-бокоплава. Для рыб эти рачки, должно быть, очень вкусные, так как они быстро обнаруживают их в лунке рыбака и, опережая друг друга, на бегу хватают и с жадностью пожирают. А хитрый рыбак опускает тем временем свою удочку-мушку, очень похожую на бармаша. Хариус хватает и этого «бармаша» и вмиг оказывается на льду. Вот как человек обманывает красавца хариуса.
Начиная от Шигнанды, доходят до Ириндакана, опромыслив здесь, перебираются в Кабанье, оттуда в Большую речку и добираются до Таркулика.
Мишка Жигмитов попал в одно звено с Яковом Лисиным. Тяжело ему рыбачить, есть за одним столом и спать рядом в одной землянке с этим человеком. Он старается не оставаться наедине с ним, благо, что с Мишкой рыбачат его сверстники Пашка Лебедев и Кешка Печкин.
Ему тошно вспоминать про тот суд, на котором его заставили повторить слова Егора Лисина: «Петька, пошто ты в меня пальнул? За отца, што ли, мстил?»
Когда Мишка подтвердил на суде, что слышал от Егора Лисина эти слова, то брат его, Яков, поднялся с места и сквозь притворные слезы, запинаясь, промолвил: «Товарищи судьи, мне не верите, что я своими глазами видел, как Петька Стрельцов пальнул сначала в медведя, а потом в Егора… Мне нет веры, как родичу, дык поверьте стороннему человеку. Чего же еще надо вам?»
…Суд приговорил Петра Стрельцова к трем годам тюремного заключения.
— Эх, Петя, Петя! Я ж до суда говорил тебе, что откажусь от свидетельских показаний, скажу, что, мол, ничего не слышал… дремал в ту пору… А ты окрысился на меня: «Не смей, Мишка, врать! Не учись кривить душой…» Э-эх, Петя, Петя, как бы сейчас с тобой было весело рыбачить! — разговаривает вслух Мишка, позабыв про бармашенку.
Очнулся. В руках пешня с сачком, а удочки с бармашницей лежат в торосах. На утренней зорьке Мишка добыл штук девяносто хариусов. Потом рыба перестала клевать. Ходили два-три хариуса, но они уже поняли, что красивая мушка коварна и зла, что их друзья погибли именно из-за нее. Вот и пошел Мишка долбить новые лунки, к которым сбегутся кушать вкусного бармаша свежие хариусы, которые будут с жадностью хватать и Мишкину мушку. Идет парень и облюбовывает новые места, а тут снова и снова приходят неприятные воспоминания о Петре Стрельцове, который безвинно попал в тюрьму.
День выдался холодный, но очень яркий. Тянет легкая «ангара». Море в голубом свете солнечного дня кажется беломраморным, хрупким, каким-то празднично-торжественным и неповторимым.
Прислушался. Звонкое безмолвие. Только и слышно, как в ушах звенят мелодичные колокольчики. Безлюдье. Кругом на десятки километров ни жилухи, ни души. Вот это и есть настоящее сердце Подлеморья.
В километре от Мишки бармашат Пашка с Кешкой, а Яков Лисин уехал на коне куда-то в сторону.
Пешня у Мишки острая. Хрум-хрум — вгрызается в прозрачный, как стекло, лед. Без выгреба додолбился до воды. А затем быстрыми, ловкими движениями рук железным сачком выгреб лед, опустился и заглядывает в лунку. Не рыбу высматривает парень, а дно моря. Оно вот, кажется, что можно рукой достать, погладить разноцветные красивые камушки; до чего же прозрачная вода! Мишке чудится, что ее вообще нет, что это не вода, а с легкой дымчатой поволокой прозрачный воздух.
— Дно в этом месте покрыто мелкими камушками, значит, хариусы подбегут, — говорит Мишка. У теплой бармашницы открыл отверстие и наклонил над лункой. Из нее посыпались маленькие, юркие, темно-зеленые бармаши. Упав в холодную воду, они стремительно носятся по лунке и не спеша опускаются на дно, а там снуют между камней и привлекают к себе рыбу.
Пока долбил остальные лунки, к первой уже сбежались жадюги-хариусы и слопали бедных бармашей. Остались в живых лишь самые хитрющие, они попрятались в камнях и оттуда показывают или хвост, или одну из ног-ластиков. Рыбке ничего не остается, как облизываться.
Мишка заглянул в лунку и ахнул. Там кишмя кишели красавцы хариусы. Рыбак хитро усмехнулся и бросил горсточку бармашей в лунку. Не успели бокоплавы спуститься и до половины воды, как на них набросились хищники. Мишка быстро размотал на мотыльке леску и спустил удочку в лунку.
Кстати, рыбаки Байкала эти удочки гнут из обыкновенных швейных иголок, затем обматывают их гарусом под цвет бармаша. Настоящий рыбак-бармашельщик никогда и ни за что не будет пользоваться фабричной удочкой. Это легко объяснить. У фабричной удочки есть небольшое жальце, чтоб рыба не срывалась, но попробуйте на сорокаградусном морозе толкать палец в пасть рыбе, чтобы выручить оттуда крепко зацепившуюся удочку, — обморозишься! А наша самодельная удочка никаких жальцев не имеет. Достаточно рыбинку ударить лопаточкой, как удочка вмиг сама и вылетит из пасти. Ведь это так просто и удобно. Нет необходимости вынимать руки из теплых рукавиц.
Мишка внимательно следит за хариусами, а сам медленно, чуть потряхивая, имитируя движения бармаша, опускает удочку в полуводу.
Вот один из стайки отделился и устремился к красивому «бармашу», на ходу разинул пасть и схватил его.
Но что это такое?!
— Ой-ой-ой! — должно быть, неистово закричал бы бедный хариус, если бы мог кричать.
Какая-то чудовищная сила тянет его вверх, где белеет ледяной потолок, и он вмиг оказывается на холодном снегу. Не успел моргнуть, как его уже чем-то стукнули.
Мишка снова опустил свою удочку, второй хариус тут же схватил мушку. И так, пока из всей стайки не осталось двух-трех хариусков.
Мишка высыпал в лунку добрую пригоршню бармашей и побежал ко второй лунке, там он выбросил десятка два хариусов, оттуда — к третьей… Так и не заметил рыбак, как солнце легло на острозубые гольцы Байкальского хребта, где-то у истоков великой реки Лены, и утонуло в пурпурных облаках.
Яков Лисин под видом разведки новых мест для рыбалки уехал по своим делам. Как он ни спешил, а до бухты Аяя добрался лишь в сумерках.
Переночевав в своей юрте, он утром пошел к заветному утесу, где в небольшом темном гроте он надежно спрятал берданку Егора.
Берданка та была знаменита на весь Аминдакан. Все поморы знали ее замечательные качества и завидовали Егору. Особенно она была хороша на нерповке, где требуется исключительно точная снайперская стрельба.
Весной, после нерповки, начальник милиции потребовал, чтоб охотники сдали на склад для хранения все нарезные ружья; Егор же сказал, что утопил свою берданку во время лодочной нерповки, и ему поверили.
Он берег эту берданку для крупного зверя, а белковал с дробовиком. А когда на него набросился медведь-шатун, он кинул в него свой дробовичишко, заряженный мелкой дробью. И пока тот ломал ружье, Егор успел добраться до нижних сучьев кедра, но сук обломился, и Егор попал в лапы хищника.
Вот тогда-то и завладел заветной берданкой Яков и запрятал ее в надежное место.
А теперь выдался удобный случай. Хорошо, что его назначили на рыбалку с этими «желторотыми бакланами». Он их обманул, сказав, что едет разведать новые места. «Ха-ха-ха! — смеется Яков над парнями. — А этот бурятской Мишка даже рад, что я уехал подальше от него. Сердится пацан на меня из-за Петьки. Ну и пусть! Чхал я на них…»
Яков достал из грота завернутую в старенький дождевик берданку. Осмотрел и остался доволен.
— Не заржавела! Смазывал-то я сам.
Дойдя до поворота тропы, поцарапал затылок, подумал и решительно свернул в ельник.
— Ужо заодно и шкуру прихвачу… Продам на пропой… Зачем же добру зря пропадать? — проваливаясь в рыхлом снегу, бормочет Яков.
Добрался до матерой лиственницы с сухой вершиной. С южной стороны, у самого корневища, задымленное отверстие выглядывает из-под снега. Яков опустился на колени и разбросал снег. Пахнуло медвежьим духом. «Здесь!» — шепчет мужик, словно боясь, что его услышат. До плеч засунул руку, принатужился и потащил оттуда шкуру.
— Целехонька! — обрадовался Яков. Вздохнул. Сел на медвежину и закурил. — Был бы ты, мишка, посмирней, лежал бы в теплой берлоге… Егор жил бы… Э-эх, мишка, мишка! А Петьке-то Стрельцову так и надо, пусть сидит в тюрьме… Это ему за мою обиду… Подумаешь, бочку-две омулей продал бы на «Ангару», дык и обеднел колхоз… Гад, уволил меня из бригады, лишил премии… А ишо его щенята частушки сочинили. Черти окаянные, «комсомолия»!.. И складно у них получается… Как же?.. Ужо чичас вспомню:
Никто про то не знает, На чьи деньги Лисин пьет…Тьфу, дьяволы, чего удумали, так помора осмеять, ах гаденыши!.. Умирать буду, а эту ихнюю частушку не забуду… ни-ни… Сволочи, бакланы желторотые, активисты!.. Погоди ужо, и до вас доберусь! Буду, как мышь, подкрадываться. Ан, глядишь, удобный моментик уловлю и хап-хап! А потом в сторонку, будто не мое дело. Отомщу, ей-бог, отомщу! — грозится Лисин. А вековые деревья слушают и удивляются людской злобе.
На рождество Яков Лисин выехал домой в Аминдакан один. Парни приезжали на Новый год, а он оставался рыбачить, чтоб потом выехать одному, вроде помыться в бане и сдать на пункт рыбу.
Баня баней, а Яков хотя сильно и не верил в бога, но и не обижал его своим безразличием. Особенно он любил религиозные праздники за то, что уж больно хорошо к ним готовились бабы. Настряпают, напекут одна другой лучше. Ну и хмельного припасут хоть отбавляй.
Три дня беспробудно пил Яков Лисин. На четвертый попросил у жены опохмелиться, но та открыла такой хай — не приведи господь! — и выгнала колоть дрова.
Взял мужик в руки колун, а он кажется ему трехпудовым. Потюкал, потюкал — нет мочи. Голова тяжелее зада, так и просится приткнуться в какой угол.
— Разве у суки была когда совесть? Мужик издыхай, а она ему колун в руки! — ругает он жену. Со стоном плюхнулся на чурку, отдышался и закурил. Но курево не помогло, нет никакой мочи. Тошнит, голову разламывает на части. Яков длинно выругался, плюнул на колун и пошел в сарай. Порылся в углу и из-под хламья вытащил черную медвежью шкуру, торопливо засунул ее в куль и, опасливо оглядываясь на дом, в котором раздавался крикливый голос жены, пошел через огород к соседу.
Войдя во двор, он удивленно свистнул. Обычно запущенный, замусоренный после ухода из дома дочерей, он был чисто выметен, выскоблен; то же самое было в сенях и в избе — умыто и ухожено, как у доброй хозяйки.
— Здорово, сусед, ишо раз с праздничком.
Семен вышел из комнаты тоже какой-то обновленный, словно весенняя тайга после дождичка.
— А-а, Якуха! Здоров, здоров, садись.
— Я к тебе по делу зашел.
Семен оглядел друга с ног до головы. Покачал головой:
— Паря, ты уделался!.. Наверно, опохмелиться надо?
— Надо бы, Сеня, а то мочи нет.
Семен достал недопитую бутылку и налил в стакан.
Яков схватил трясущимися руками и одним махом проглотил содержимое. Он долго морщился и тряс головой, потом выдохнул:
— Э, таперь, кажись, ожил.
— Вот и хорошо… Можешь идти к своей Марфутке.
— Не-е, ишо есть дело.
— Какое?
Яков вытряхнул из куля медвежью шкуру.
— Купи. Подарок будет хошь куда.
Семен усмехнулся. «А ведь пьяница-то дело говорит, подарю ей», — подумал он.
— Бери, бери! Как с друга, дорого не запрошу, пару бутылок поставишь, и хва…
Малышев развернул шкуру.
— Это тот медведь, который кончил Егора?
— Он самый.
— А-а! — понимающе подмигнул Семен. — Ты же баил, что по лопаткам стрельнул, а тут ни одной дырочки… Вот дырка от пули в грудь, стреляли в упор спереди, а вот вторая и третья дырки — это пуля прошла сзади и навылет. Значит, двумя выстрелами Петька ухлопал его, а ты не стрелял.
Яков обалдело ухмыляется.
— Дело прошлое, Сеня, не береди мою душу… Сам учил, как ловчее упечь Петьку в тюрьму, и не бай много.
— Но-но! Я ваших делов не знал… только догадывался, что Петькиной вины в гибели Егора и нет…
— Знал и пособлял. А теперь завяжи в узел.
— Да мне-то что! — махнул Семен. — Ладно, ставлю две бутылки.
— Во, паря, спасибо. Своей крале подарочек сделаешь, — подмигнул и показал на стрельцовский дом.
— Тише! — прошептал Семен. — Там сидит…
— Кто? — испуганно попятился Яков.
— Учительша… квартирантка.
— А ты что молчал? Она же все разболтает.
— Ни! — усмехнулся Семен, — Она порядочная…
Яков сокрушенно покачал головой и бесшумно скользнул в сени.
Любовь Семена Малышева к Наталье Стрельцовой расцвела, как сентябрьская тайга, и бесплодно завяла. Они оба поняли, что у Натальи так и не пришла та большая любовь, которая не признает ни стыда, ни преград, ломая все на своем пути, поглощает обоих в своем безумном, глубоком водовороте.
Когда Наталья узнала, что неграмотному Якову Лисину заявление в народный суд написал Семен Малышев, она люто возненавидела своего бывшего ухажера.
Семен понял свою ошибку, но было уже поздно. Он прекрасно знал тот кремень в характере Натальи, об который не раз обжигался и отскакивал прочь.
Семену, может быть, пришлось бы долго мучиться и переживать, но его выручил неожиданный случай.
Приболела его квартирантка-учительница. Он стал за ней ухаживать. То поднесет стакан чаю, то брусничку подсахарит и поставит на табуретку, то где лекарства подаст. Поближе пригляделся — баба как баба. С виду была строгая, а тут, в постели, ничего. Простоволосая, грубоватое, монгольского росчерка лицо сибирячки обмякло, стало женственнее и привлекательнее. По-свойски разговоры завели житейские; она рассказала про свою вдовью жизнь, в которой напрочь отсутствовали розовые денечки, да и откуда им быть — года-то ушли, перевалило за «бабий век». И даже давала понять она, что при случае и не отказалась бы выйти за пожилого, лишь бы он был порядочным человеком.
Ночи под рождество, видимо, всегда бывают колдовскими. Какими они были при Гоголе, такими же дошли и до наших дней. Сел Семен рядом с кроватью Елены Емельяновны. Сначала сумерничали, потом стало темно, собрался было зажечь лампу, но она попросила его не зажигать.
— Я люблю темноту, лучше мечтается.
— А мне приятно сидеть рядом с вами.
— Да?!
— Правда… истинная…
Мягкие женские руки обняли Семена и, притянув, обожгли его…
Вечером Семен Малышев был бобыль-бобылем, а утром поднялся с постели женатым человеком.
Дед Арбидоша не забывал заглянуть к бабке Дарье. Вот и сегодня приковылял к ней с новостями. Запалив свою огромную черную трубку, заговорил он громко, как все тугие на ухо люди.
— Слышь, кума, Сенька-то Малышев жанился, говорят.
— Но и кумуха-черемуха с ним… А на ком леший повесился-то?
— На учительше Омельяновне.
Бабка перекрестилась.
— Слава богу, все же не со сватьей грех делить. Я уж и то баю, что не така баба Наталья, чтоб жить на смеху… Гордыня не дозволит.
Старик попил чаю и молча увалил домой.
— Ты слышала, девка, чо Арбидоша-то баил?
— Слыхала, бабушка, — из комнаты вышла Вера. На красивом смуглом лице появилась грустная улыбка. Бабка Дарья посмотрела на нее и сурово нахмурилась.
— Э, дуреха, отец-то без бабьего обихода в грязи забулькался. Спасибо, хушь нашлась.
— Да я ничего не имею… не…
— Петьке-то чиркни про то, про се.
— Напишу, бабушка, — Вера оделась и направилась на работу в колхозную сетевязалку.
Отворив скрипучую калитку, она с глазу на глаз встретилась с отцом и от неожиданности попятилась назад.
— Здравствуй! — Семен опустил на снег тяжелый узел с вещами и внимательно оглядел дочь. «Верно говорят, что Вера беременна», — промелькнула мысль.
На бледном похудевшем лице дочери все так же блестели большие карие глаза. В них он прочел укор, отчужденность и тоску. У Семена вдруг больно заныло сердце. Ему стало так жалко дочь, что невольно на глазах выступили слезы.
— Принес твою одежонку… — со стоном выдавил он.
— Спасибо, — едва слышно проронила Вера и посторонилась, — проходи, папа.
— Ладно… а бабка-то дома?
— Дома.
Вера поднялась на крыльцо и отворила дверь.
При входе Семена сидевшая на скамье бабка Дарья стремительно вскочила, что никак не вязалось с ее возрастом.
— Кумуха-черемуха! — вырвалось у нее от удивления.
— Здравствуй, мать!
— Небось совесть-то побила?! — вместо приветствия крикнула старуха.
— Ладно, не кричи! — Семен попятился назад.
— Чево накопытился бежать, садись.
— Тороплюсь на работу, потом зайду. — Семен выкатился на крыльцо и шумно вздохнул. Побаивался он своей бывшей тещи и при встречах старался по возможности быстрей улизнуть от нее.
За воротами Вера догнала отца и молча подала ему новенькие варежки.
— Лучше Петру отправь.
— Я уже послала, — Вера смахнула слезу.
— Спасибо, дочка, — Семен взял варежки, посмотрел на Веру и часто-часто заморгал воспаленными глазами.
— Ждать будешь его?
— Ничо, дождусь… Только обидно, что свои же люди безвинного затолкали в тюрьму. — Вера тихо заплакала и, не попрощавшись, чуть не бегом пустилась к сетевязалке. Семен долго смотрел вслед дочери. Стоял, не замечая ни резучего сорокаградусного мороза, ни проходивших мимо него людей.
Пока шел до дома, всю дорогу его преследовал образ дочери, а в ушах неотрывно звенели Верины слова, которые тяжелым камнем легли на его грешную душу.
Дом оказался на замке. Из старой омулевой бочки сделана конура, в которой лежит старый Бурхан. Там под доской хранится ключ.
Семен долго возился с замком и сам разговаривал с собой, словно с посторонним человеком: «Вишь, товарищ, каковская я сволочь, а?.. Родну дочку изобидел… Кому она нужна с ребеночком-то? Не-е, так, товарищ, не пойдет дело!.. Сию же минуту нагрохаю я письмо прокурору… Укажу на шкуру, пусть забирают ее, а там и козе понятно, что к чему… Приведу слова самого Лисина, что он сознался во вранье, и свидетелем выставлю Елену Емельяновну. Она не простая деревенщина, а у-учитель-ни-ца! Во как! Она сидела рядом в комнате и все слышала… Слышь, товарищ!..»
На рабочем столе Елены Емельяновны Семен взял ученическую тетрадь, вырвал лист и стал писать заявление прокурору района. Заглавные буквы получались с огромными завитушками, слог витиеватый. В конце заявления он просил прокурора срочно произвести переследствие и через верховный суд республики освободить из-под стражи безвинного страдальца Петра Сидоровича Стрельцова.
Колхозной сетевязалкой заведует хромой Роман Налетов. Шестнадцатилетним пареньком он с отцом бармашил в Больших Черемшанах. Неведомо откуда леший приблудил в эту глухомань бродячий отряд каппелевцев. Отец без лишних слов отдал им всю рыбу. «Жрите, собаки, может, подавитесь», — буркнул он, вползая в землянку. Но белым нужен был транспорт. Они вызвали отца из землянки и приказали запрячь лошадь и следовать за ними. Отец наотрез отказался. Долго и дико хохотал офицер.
— Ох, мужик, рассмешил! Спасибо, а то в эту проклятую стужу можно разучиться смеяться. Эй, Ванька! — офицер подмигнул чубастому детине.
Больше не видел Роман отца.
Долго мытарился парень в отряде белых, пока в суматохе одного боя не оказался среди партизан.
У партизан тоже было не сладко — непрерывные бои, холод и голод. Только разница была в том, что белые не доверяли ему оружие и держали в обозе, а партизаны дали ему заржавленную, с расколотым прикладом винтовку и три обоймы патронов. Винтовку Роман вычистил, пристрелял — оказалась доброй. И Роман стал бойцом партизанского отряда знаменитого дедушки Мороза.
В кровопролитном бою на Яблоновом хребте Романа ранило в ногу. Сначала он попал в Верхнеудинск, а оттуда его перевезли в Иркутск. Здесь, к великой радости, он встретил своего земляка Сидора Стрельцова, который тоже залечивал свои раны. Сидора выписали из госпиталя раньше, но он не покинул Романа и в ожидании полного его выздоровления «зашибал деньгу», готовил на дорогу продукты и сушил сухари. Наконец и Налетову сказали долгожданное слово «домой».
В ту пору стояла суровая зима. Подлеморье встретило двух поморов безлюдьем и злыми ветрами. У Романа снова разболелась нога, и Сидору пришлось делать нарты и тащить товарища через бесконечные торосы и сугробы. Обмороженные, едва живые, добрались они наконец до родного Аминдакана.
После смерти Сидора Роман не оставлял без внимания семью друга. Помогал Наталье заготовить дров, сена. А во время весенне-летней путины брал Петьку с собой на рыбалку.
Вот и сейчас, когда семью друга постигло новое горе — посадили Петра в тюрьму, Налетов первым приковылял к Наталье.
— Чем помочь-то, соседка?
Украдкой проскользнули по щеке две вдовьи слезинки.
— Спасибо, Роман Тихоныч, я-то обойдусь… Возьми в сетевязалку Веру, все же в тепле будет робить…
— Э, паря, о чем разговор, возьму девку.
Смекалистая и старательная, Вера скоро стала незаменимой помощницей Романа Налетова. Самостоятельно получала на складе рыбзавода дель, нитки, мот, веревки и другие материалы, необходимые рыболовецкой артели. Все это она так умело и экономно расходовала, что старик не мог нарадоваться.
Теперь Роман Тихонович забросил свою замусленную тетрадь, в которой длинными рядами стояли прямые и косые крестики, кружочки, ромбики разных размеров и замысловатые завитушки, значение которых понимал только он один. По ним он вел учет всего подотчетного инвентаря и имущества.
Вера сидела за починкой омулевой сети. Сеть попала под осенний ураганный ветер, и так ей, бедняжке, досталось, что «дыра на дыре и дыру догоняет», как любят выражаться рыбаки. Вот Вера обрезала очередное «окно», привязала нитку к верхней пяте и начала починку. Правая рука с камышовой иглой двигалась быстро, четко, как челнок в швейной машинке. Вера не слышала, как смеялись и перемывали косточки кому ни попало бойкие починщицы. Ее мысли были далеко, там, где ее Петр.
— Здравствуй, Вера! — кто-то тронул ее за плечо. Она медленно оторвалась от своих невеселых дум и оглянулась.
— А-а, Алексей Алганаич! Здрасте! — улыбнулась Вера.
Председатель взглянул на сеть и покачал головой:
— Здорово уделали! Вера мотнула головой.
— Вся ставежка бригады Хандуева — одно рванье. Помните, они осенью под какой шторм угодили.
— Бывает… на то и рыбалка, чтоб сети рвать. Вот только вы не так делаете, не по порядку. Сначала надо бы вычинить хариусовые сети, а потом уж омулевые.
— Мы так и сделали, Алексей Алганаич.
— А где сети?
— Уже на склад сдали.
— Ну и молодчина! Ты и без Романа Тихоныча хорошо справляешься… Давненько просится старик на рыбалку, говорит, грамотенки нет, а подотчет большой. Оно и верно… придется просьбу удовлетворить, а тебя поставим заведующей.
— Будет вам! — Вера испуганно замахала руками.
Батыев весело расхохотался.
— А я к тебе с хорошими вестями. Вот был у прокурора, и он мне показал заявление одного гражданина, который вполне может доказать клевету Якова Лисина. У этого гражданина имеется медвежья шкура, купленная у Лисина. Шкура эта снята с того злополучного медведя, которого убил Петр, спасая Егора Лисина. Сегодня приедет прокурор Будашарнаев. Назначено переследствие. Теперь имеется вещественное доказательство.
— А вдруг Лисин откажется!.. Вот если бы при свидетеле он продал…
— Свидетельница есть…
— Кто?
— Елена Емельяновна. При ней Лисин продал и пьяный проболтался, что он не стрелял… Да и в шкуре-то всего три дырочки… одна пуля прошла навылет, а вторая застряла где-то в туше зверя. Ну, жди скорой встречи с мужем, — сказал на прощание председатель.
Вне себя от радости вбежала Вера домой.
— Во, кумуха-черемуха, добры вести получила?!
Вера мотнула головой, припала к необъятной груди бабушки и заплакала, как в далеком детстве, — легко, свободно и безбольно. Вместе со слезами медленно покидала душу ржавая накипь тоски и печали.
Якова Лисина вызвали в контору колхоза по повестке, написанной неразборчивым почерком.
— А кому это он понадобился? — сердито спросила жена Якова у посыльной.
— В суд вызывают, — крикнула та, захлопывая дверь.
— Опять рыбу на эту горесть сменял?
— Замолчи ты! — огрызнулся Яков, надевая полушубок.
В феврале в Подлеморье нередко термометр показывает ниже сорока градусов, но и такой мороз не в силах удержать молодежь в избах. Вот и сейчас недалеко от ворот Лисина стоит огромная черная копна. Поравнялся с ней, а это, укрывшись дохой, любезничают молодые, слышится тонкий девичий голосок. А недалеко от клуба навстречу шли человек шесть молодежи и громко пели веселые частушки. Один из парней, осветив Якова спичкой, узнал его и сообщил остальным, те рассмеялись и запели: «Никто, никто не знает, на чьи деньги Лисин пьет».
— У-у, змеи, погибели на вас нету! — взревел Яков и погрозил кулаком в морозную темь.
«И откуда черти узнали, что я вчера сменял куль хариусов на водку?» — удивляется Яков.
С такими мыслями и вошел Яков в кабинет председателя, где, кроме Батыева, сидел прокурор Будашарнаев.
— Здоровайте! Меня кто-то призвал?
— Здравствуй, Яков! Тебя пригласил товарищ Будашарнаев для беседы, — Батыев мотнул головой в сторону прокурора. — Ну, ладно, Макар Будаич, оставайтесь.
— Та-ак! — внимательно и твердо прощупали Якова черные глаза.
«В народе слух ходит, что прокурор-то добрый мужик. Он не старается съесть человека, упечь в тюрьму… А чего же ему надо от меня?» — подумал и насторожился Яков.
— Лисин Яков Егорович?
— Он самый и есть.
— Садитесь, товарищ Лисин.
— Дык зачем же я вам пригодился?
— Очень пригодитесь, если все по-честному расскажете.
— Я всегда баю по-честному.
— Вот и добро. Я приехал по делу Петра Стрельцова.
— А чо, паря, случаем, не убег?
— Нет. Зачем же ему сбегать из заключения? Его скоро освободят из-под стражи.
— Чо, паря, баишь?
— То и говорю… На суде вы утверждали, что Петр Стрельцов сначала выстрелил в медведя, а потом в вашего брата Егора Егоровича Лисина, который скончался от раны, нанесенной Стрельцовым.
— Так оно и было! Про то и баить нечего.
Прокурор закурил и строго посмотрел на Лисина.
— Нет, не так было дело.
— Один бог знает, да еще я. Медведя-то слопали звери да птицы, вот чо жалко. Не то бы я доказал на факте. На шкуре-то были дыры от пули Стрельцова и от мово ружья… Я же зверя-то долбанул по лопаткам, ажно гад уткнулся под колоду.
Прокурор покачал головой.
— Вы же вовсе не стреляли в медведя. Стрельцов стрелял в него два раза. Одна пуля прошла насквозь и ранила вашего брата, а вторая осталась в звере. Я внимательно осмотрел шкуру.
Лисин приподнялся и удивленно спросил:
— Какую шкуру?
— Шкуру того медведя…
— Откель она у вас?
— Скоро узнаете, — прокурор взглядом посадил Лисина на место и продолжал разговор: — Медведь свалил вашего брата и грыз куль, привязанный к поняге, потом бы он добрался и до самого Егора, но в это время подбежал Петр Стрельцов и сзади выстрелил в медведя. Раненый зверь бросил вашего брата, повернулся к Стрельцову и всплыл над ним, но тот успел выстрелить, и оба они свалились тут же. Потом подбежал ты… Все было уже кончено…
— Но, паря, врать!
— Зачем мне врать? Шкура-то находится у нас. Хочешь, покажу ее.
Зеленые глаза Якова хищно расширились и воровато забегали, как волчата в западне. «Неужели Семен меня заложил? Вот ведь хромая собака. Но меня тоже дешево не купишь… Отопрусь. Скажу, что Малышеву захотелось зятя вызволить из тюрьмы, вот и все!»
— Но, паря, тут дело худым пахнет. Тут вранье…
— Вы шкуру продали Семену Поликарповичу Малышеву. Помните, в рождество… были с похмелья…
— А-а, вон оно что! Малышеву захотелось вызволить своего зятя из тюрьмы! Так и сказали бы сразу. Э-э, паря, тут ничего не выйдет!
Пронзительные монгольские глаза Будашарнаева словно сверлом прошлись по обросшему лицу Якова и врезались в его слабенькую душонку.
— Нет, выйдет, товарищ Лисин… Когда вы продавали медвежью шкуру Малышеву, то рядом, в комнате сидела учительница Елена Емельяновна Титова. Разговор ваш она слышала. Я с ней беседовал, и она согласна подтвердить… Если вы чистосердечно признаетесь, что действительно оклеветали Петра Стрельцова, то его освободят из заключения. И вам будет лучше. Подумайте, пока не поздно.
Лисин задумался. «Два свидетеля… Учительше-то большая вера, она, однако, коммунистка… уваженье на селе имеет. — Яков тяжело вздохнул. — А про то, что я стрелял, теперь не докажу… Раз шкура у них, дело мое табак. На ней всего-то три дырочки… Оно и дурной козе понятно, а этому буряту мозги не засоришь!»
Лисин взглянул на Макара Будаича. Тот спокойно разглядывал картинки в каком-то журнале. Оторвался. Взглянул на Якова. В глазах спокойная уверенность, даже проглядывает доброта…
— Подумай, Яков, смотри, не ошибись…
— Угу, — буркнул невнятно Лисин.
«Если по-честному признаться… пустить слезу, то могут и простить, верно, поругают. Прокурор-то добряк, это всем известно… Прикинусь последним дурачком. Распущу нюни, скажу, жизни мне нет… дразнятся…»
— За чистосердечное признание ваша вина будет смягчена…
— Другому бы шиш сказал, а вам, Макар Будаич… ни капли не утаю. Только вы поймите мою беду… — заюлил Лисин.
И он рассказал обо всем, как оно было в действительности.
— …Червяк точит, если не глотну водки. Болесь моя, и от нее никак не могу отвязаться… вот и продавал бригадну рыбу на вино. А Петька выгнал меня из лодки, отправил на покос… Это бы ишо ничо, а то его дружки сочинили про меня блудную песню и поют… Проходу нету. Чичас шел к вам, а они вдогонку мне:
Никто про то не знает, На чьи деньги Лисин пьет…Вот так всегда. А у меня тоже есть сердце. Раз Петька со своими шанятами ославил меня, то и я на него наплел «веревку»… Да хушь бы она раскрутилась… У меня тожа есть сердце. Болит за Петьку… Как увижу Наталью или Верку — сразу сворачиваю. Как смотреть им в глаза? От стыда сгоришь.
ГЛАВА VIII
В этом году зима была с крутым характером. Цепко, без роздыху держались жгучие морозы, но время свое взяло. Пришел март и начал обламывать рога морозу, правда, это ему удавалось плохо, но на подмогу подскочил апрель, и мороз, нехотя отступая, ушел.
В самый канун Первого мая Вера получила письмо от Петра, в котором он писал, что наконец-то освобожден из-под стражи и едет домой. От радости она схватила своего крохотного Петьку, которому исполнилось два месяца, и начала кружиться по избе.
— Чо тако, кумуха-черемуха?! Петьку-то зашибешь! Сдурела, дура… — закудахтала бабка Дарья.
— Едет домой! — пылая счастьем, выдохнула Вера.
Пока «Красный помор» стоял в объятьях толстого льда, Иван Зеленин возил на колхозных лошадях почту.
В Нижне-Ангарске ямщики принимали огромные кожаные сумы с письмами, ящики с посылками, да вдобавок еще приписывали одного-двух пассажиров и везли все это по тористому льду Байкала за сотни километров, до Усть-Баргузина. Там получали северобайкальскую почту и ехали обратно. И так всю зиму, и весну, пока не растает лед.
Улицы Аминдакана украсились флагами, лозунгами и красочными плакатами. Народ встречал праздник Весны и Цветов. Весна была, а цветов еще нет, только кое-где на солнцепеках робко смотрели в небо подснежники.
Санный путь по Байкалу подошел к концу, лед так ослаб, что езда стала опасной, поэтому Батыев дал Ивану Зеленину в помощники Мишку Жигмитова.
Пассажиров в этот раз не было, видимо, люди сильно-то не надеялись на честное слово дедушки Байкала, поэтому никто и не ехал, кроме милиционера Федора Бесфамильных, который сопровождал ценную почту.
Мишка радовался этой поездке по двум причинам: во-первых, может быть, посчастливится увидеть Токта-таху, во-вторых, он встретит и привезет домой своего друга Петра Стрельцова.
Лошади легко, словно с пустыми санями, бежали по весеннему ноздреватому льду — по шаху, как говорят местные жители. Привычные к морю, они сами выбирали проходы в высоких ребристых торосах, которые, оскалив свои бесчисленные зубы, сверкали нестерпимой белизной.
Лучи солнца, преломляясь на льду, искрились всеми цветами радуги. Смотреть бы на эту красоту без защитных очков — это да! Но нельзя — ослепнешь.
Мишка сгорает от нетерпения. То посидит с Иваном, то соскочит с саней и махнет в кошевку, где едет угрюмый молчун Федор Бесфамильных. Тот в обычном-то виде не располагал к себе, а тут, в милицейской форме, да еще в дымчатых очках выглядел совсем угрожающе-суровым. Мишка пробовал с ним заговорить, но тот невнятно буркнет в ответ и снова молчит. Парень соскакивает и бежит догонять передние сани.
— Чем-то, паря, тебе задницу намазали, не сидится, грешному! — смеется Иван.
— Да-а, едем, едем, а на берег взглянешь — все на одном месте топчемся. Святой Нос все там же; правда, Ушканчики будто подросли, стали выше.
— Ничо, Миха, к вечеру доберемся до Святого, там переночуем у дедушки Безотечества и завтра махнем до Усть-Баргузина.
— Ваня, а в Устье долго задержимся?
— А что?
— Может, я успею на Ольхон сбегать?.. Говорят, от нижней изголови Святого рукой подать.
Иван рассмеялся.
— Ну и чудак же ты!.. А зачем?
— Дело есть… девчонку надо бы проведать.
— А-а, помню, помню! Летом в Сосновке я ее видел. Заметная девчонка. Чернявая, цыганские глаза, а говорит по-бурятски. Но-но-но, ты тогдысь вокруг нее увивался, ха-ха-ха! — Иван долго хохочет и наконец хлопает Мишку по плечу. — Отпустил бы, паря, да жалко тебя, утонешь. Обвалишься и забулькаешься в игольнике.
Парень тяжело вздохнул и отвернулся.
«Вот видишь, Токта-таха, как плохо, что живем так далеко друг от друга. Э-эх, ну ладно, жди меня с первым пароходом».
Мишка всмотрелся вдаль. Там над ледяной твердью моря красуется полуостров Святой Нос, а совсем рядышком приютилась зайчиха с тремя крохотными зайчатами — это Ушканьи острова, а за ними, накрывшись узорчатой синей шалью, покоится остров Ольхон.
Мишке никогда не приходилось бывать там, поэтому для него он загадочен, а его любовь к Токта-тахе окрашивает этот остров в особые светло-розовые, романтические тона. В его воображении на этом фоне вдруг появилась Токта-таха. Большие ярко-черные глаза ее улыбнулись, а затем покрылись грустью и ушли в густой туман.
Мишка с досады крякнул и соскочил с саней. Пробежав с километр рядом с Федором, он взобрался в его кошевку и взял у него вожжи. Тому, видимо, надоело одиночество, уж на что молчун из молчунов, и то раскрыл рот:
— Мишка, курить хошь?
— Аха, давай закурим. Федор, ты до Устья или дальше?
— Дальше.
— А по каким делам?
— Угу.
Больше ни одного слова парень так и не смог вытянуть. Поерзал на санях и, не стерпев, убежал к Ивану.
Вдруг сзади послышался крик. Иван, оглянувшись, резко осадил своего Орлика.
Рослый рыжий конь Федора провалился в снежной проталине, через которую легко перепрыгнул Орлик, и бился в воде.
Федор быстро распряг коня, а Иван с Мишкой оттащили назад сани. На конце возовой веревки Федор завязал удавку и быстро накинул ее на шею коня. Иван схватил Рыжку за хвост, а Мишка с Федором потянули за веревку, и через минуту-другую конь оказался на льду.
— Ты што, милиционер, разучился по морю ездить? — сердито упрекнул Иван.
— Верблюд, — кивнул Федор на коня.
Через полкилометра Рыжка снова ушел по уши. На этот раз его вытянули с трудом. Поморы посуровели.
— Мишка с «верблюдом» пусть здесь… а мы с тобой ночью… — выдохнул Федор.
— Дельно баишь, — Иван посмотрел на солнце. — До вечера Орлик отдохнет, да и мы вздремнем.
— А ночью-то, Ваня, поди, опасно? Можно и в щель заехать, — с тревогой спросил Мишка.
— Э, бурятенок, ты не знаешь мово Орлика! — распрягая, нежно погладил Иван своего любимца. — Мой Орлик в морском льду имеет особый нюх — ни в щель, ни на худой лед он не завезет. Это уж будь уверен! Он, брат, из любой беды вынесет — коренной сибиряк! Хошь знать, я за него душу отдам.
— В Аминдакане говорят, что Иван Зеленин любит, во-первых, Орлика с «болиндером», а потом уж свою Любу, — пошутил Мишка.
— Все может быть. Что с Орликом, что с «болиндером» нужно обхождение, как с малым дитем, а с бабой-то чего цацкаться? Чем больше к ней внимания, тем больше будет нос задирать.
Вечером, плотно поужинав, Иван с Федором налегке пустились в опасный путь.
С заходом солнца сразу же захолодало. Ослабевший за день на майском солнце лед сразу же подмерз и закреп.
Мишка слышал, как с сочным хрустом цокали острые подковы Орлика да изредка раздавался стук саней об торос.
Постепенно все стихло. Воображение парня живо рисует картины одна другой страшней. «И зачем только ехать в ночную темь! Лучше бы с рассветом и пустились в путь», — думает он. Старается заснуть, чтоб скорее скоротать ночь, но сон не идет. Невольно наплывают тревожные мысли: «Вот, лежу на ослабевшем, ненадежном льду, хотя и на торосах… А долго ли их перемолоть ветру?.. Хы, пустяк».
В том месте, где во второй раз провалился Рыжка, образовалась большая полынья, из которой угрожающе чернела страшной глуби вода.
«Вдруг утонешь здесь… Сколько же времени надо, чтобы опуститься на дно? — Мишка содрогнулся от этой мысли. — Нет, не стоит тонуть, вода больно уж холодна, ну ее».
Время уже за полночь. Мишка добавил коню сено, закутался в тулуп и провалился в душистое сено.
С горечью он подумал о несостоявшемся свидании с Токта-тахой. Успокоил себя тем, что снова его бригадиром станет Петр Стрельцов. «Уж он-то меня отпустит на Ольхон… И я на «Ангаре» заявлюсь к Токта-тахе…» С этими мыслями и заснул Мишка крепким сном.
На рассвете налетел чудовищной силы ветер. Он быстро нагнал темные густые тучи. Гонимые жестоким ветром, они, клубясь и разрываясь, косматыми клочьями уносились на юго-восток.
Остаток сена, который лежал в ногах у Рыжки, одним махом слизнуло своим жадным языком ветряное чудовище. Вот оно пронзительно свистит, дико хохочет и завывает над Мишкой, но он ничего не слышит и продолжает спать.
Рыжку начинает донимать холодный ветер, и он, обозлившись, начал бить копытами по саням, сердито фыркать и пятиться назад, чтоб сбросить узду или оторвать ненавистный повод.
Наконец ему удалось разбудить Мишку.
Спросонья парень ничего не может понять. Высунулся из тулупа — по лицу хлестнуло тугим, колючим ветром, перехватило дыхание.
«Ой-ей-е! А как же мужики-то? Успели или нет добраться до Устья?» — испуганно подумал он.
Рыжка сердито фыркнул и лягнул по оглоблям.
Взглянув в его сторону, он окончательно пришел в себя.
— Ох, бедняга, прости! — воскликнул парень и выскочил из тулупа.
Конь весь дрожал. Мишка завел его с подветренной стороны саней и дал сена. Рыжка благодарно заржал и набросился на корм.
Парень огляделся вокруг. От безлюдья, от грозно разбушевавшейся природы, в полной власти которой они с Рыжкой находились, у парня заныло сердце, и он поспешно юркнул в теплый тулуп и зарылся в сене.
Порывы ветра становились все сильнее и сильнее. Беспрестанно палят пушки, кругом неумолкаемый гул, стон и грохот. Это под напором страшной силы, не выдержав, ломается лед.
Мишка постепенно погрузился в какой-то кошмарный сон. Это было что-то среднее между сном и бодрствованием. Состояние тревоги и страха не покидало его ни на минуту. Ему все казалось, что стоит ветру приналечь чуточку, и этот ноздреватый, игольчатый вешний лед превратится в труху. А там поминайте, родные, своего Мишку… Прощай, девушка с Ольхона, черноокая Токта-таха…
Где-то за полдень Мишка снова поднялся. В небольшой проталине напоил Рыжку и дал овса. Только теперь, когда услышал аппетитное похрустывание коня, он почувствовал голод. Разжечь костер было немыслимо, поэтому парень достал соленого хариуса и ломоть хлеба. Прячась от ветра за глыбой тороса, он съел все всухомятку и, задав коню сена, снова спрятался в свою нору.
А ветер продолжал дуть все с той же сатанинской силой. Временами налетал такой шквал, что Мишке казалось: сейчас он поднимет его вместе с санями и унесет в Черемшаны и там разобьет о скалы.
Так и прокоротал парень этот страшный день. С наступлением темноты ветер подул еще сильнее. Мишка отчетливо слышит, как тяжко стонет и скрипит лед, чувствует, как медленно поднимается и снова опускается он. Точно такое же ощущение бывает, когда спишь в сетовой лодке при ленивой пологой волне. Только там ты чувствуешь себя в безопасности, и тебя приятно убаюкивает. А здесь… постоянное чувство обреченности. С минуты на минуту ждет парень, когда начнется дьявольская работа ветра, — искромсанный на мелкие куски лед будет напирать один на другой, и нагромоздятся огромные горы зеленоватого льда. Не дай бог попасть в эту гигантскую мельницу!..
«Эх, Токта-таха, неужели мы с тобой не встретимся больше?.. А я-то так хотел добраться до твоего Ольхона и увидеть наконец тебя… Послушать твой говорок с монгольским акцентом, таким непривычным для слуха северного бурята… Ты так хорошо рассказываешь про свои степи… Ну, ничего, я еще постою за себя. Мало ли бурь сваливалось на наши плечи, и мы как-то справлялись же», — рассуждает сам с собой Мишка.
Вспомнив мать, он тяжело вздохнул.
«Почему, мама, всегда получается по-твоему?.. Как ты скажешь, так и сбудется», — упрекает он свою престарелую мать. Перед отъездом сына она пригорюнилась и слезно упрашивала его не ездить: «Бог с ней, с этой твоей монголкой, летом на рыбалке снова встретитесь. Лед-то едва дышит, утонете… Боюсь я, сынок, моря… Оно злое; помню, ушел твой отец нерповать и не вернулся… Лед был уже плохой, а он пошел… Смелый был, опытный, а вот не смог выйти, море-то одолело его».
Вдруг раздался совсем рядом оглушительный гул, и в тот же миг произошел такой толчок, что пошатнуло сани и Мишка едва не свалился на лед. Парень совсем упал духом. Он всего больше боялся утонуть в темноте.
— Эх, дотянуть бы до утра… Если уж придется тонуть, то при солнце-то веселее, — говорит он Рыжке, который рядом хрумкает сено.
Долго еще мучился Мишка, но под утро все же пришел сон. Крепко спит парень. Уже и солнце стало проглядывать между косматыми разорванными тучами. А ветер, видимо, делал свои последние, самые жуткие усилия, чтоб помочь морю освободиться от ледяного покрова. И местами это ему удалось сделать. Были нагромождены целые горы льда, а рядом с ними образовались широченные разносы, в которых радостно танцевала свой «ехор»[60] темно-синяя вода.
Стоявший рядом с санями Рыжка вдруг насторожился, беспокойно запрядал ушами и затоптался на месте; в его больших глазах заполыхал ужас.
В ту же минуту совсем рядом раздался оглушительный треск, лед взбугрился, затрещал. Конь бросился в сторону и потащил за собой сани, они зацепились за торос и опрокинулись. Рыжка вздыбился, рванувшись назад, оторвал повод и ускакал прочь.
Мишка с трудом выбрался из-под саней. Очередной толчок едва не свалил его с ног. Он в ужасе вскочил на перевернутые сани, будто они могли его спасти. Огляделся кругом. На море творится что-то невообразимое — весь лед бугрится, трещит, грохочет. А Рыжка мечется в безумном страхе из стороны в сторону.
«Рыжка утонет!» — обожгла мысль, и парень бросился за конем.
— Рыжка, Рыжка, стой!.. Провалишься, дьявол! — кричит Мишка, но конь продолжает метаться. Могучее тяжеловесное тело Рыжки стало его врагом. Как только вышел он на полосу черного льда, сразу же ушел до ушей и начал отчаянно биться в холодной воде.
— Вот дурило-то где! — вырвалось у парня.
Подбегая к коню, он увидел широкую полосу зловещего черного льда. Мишка знает, что это самый предательский, самый коварный лед, который, заманив на свою гладь, обваливается и засыпает несчастную жертву острым, звонким игольником. Знает, но делать нечего, бросился спасать Рыжку. Только выскочил на этот лед, и сразу же погрузился до колен в кашу из игольника. Не задумываясь, свалился набок и откатился назад, на полосу крепкого белого льда.
— Держись, Рыжка! — крикнул он и стал заходить с другой стороны. Но снова ухнул, на этот раз до пояса.
Рыжка бьется изо всех сил. От его движений игольник со звоном рассыпается во все стороны и, весело поблескивая на солнце, нахально плавает в черной воде. Вокруг несчастного животного образовалось широкое разводье.
— Что делать?! Что делать?! А, побегу за веревкой!
Мишка бежит изо всех сил. Оглянется назад — и еще пуще. «Держись, Рыжка, сейчас я тебя заарканю и вытяну», — шепчет про себя парень со слезами. Ветер заметно сдал и не мешает бежать.
Примчался парень к табору — ни саней, ни вещей. Что за чертовщина?! На месте табора громоздится гора искромсанного зеленовато-прозрачного льда. Только кое-где виднеются клочки сена, да валяется обломок оглобли.
Мишка понял, что конь, почуяв беду, опрокинул сани и, оторвавшись, покинул гиблое место. Этим самым Рыжка спас и его.
— Держись, Рыжка! — неистово крикнул парень и пустился бежать к тонущему коню.
Когда Мишка подбежал к Рыжке, тот уже больше не бился и, видимо, обессилев и окоченев, погрузился в воду. На поверхности торчали лишь уши, да чуть выглядывали ноздри и глаза.
Увидев парня, Рыжка высоко задрал голову, и вдруг тишину этого пустынного уголка разорвало протяжное, похожее на плач погибающего человека, ржанье. На Мишку смотрели полные тоски и ужаса глаза, из которых безудержно текли крупные капли слез.
— Держись! Держись, Рыжка! — парень бросился вперед и тут же провалился. Недаром Мишка родился и рос на море, другой бы на его месте ушел под лед, а он ужом извился и мягко растянулся на зыбком льду. Лед с шипением осел, но выдержал тяжесть; воспользовавшись этим, помор быстро откатился к кромке белого льда и вскочил на ноги.
Мишка взглянул в сторону Рыжки и опустился на колени. Рыжка медленно погружался в бездонную темь воды, он сейчас был размером с жеребенка… Затем, на глазах у Мишки, становился все меньше и меньше, наконец стал не больше рослой собаки, а затем… исчез из виду. Только из темной глуби, одна за другой, поднимались серебряные монеты — это были пузырьки воздуха — все, что осталось от Рыжки.
Мишка поднялся, снял шапку и вытер мокроту под глазами.
— Вот и все!.. Одне пузыри. Эх…
Долго стоял парень в каком-то оцепенении и неотрывно смотрел на щербатую жадную пасть диковинного чудовища, которое на его глазах проглотило бедного Рыжку.
Мишка пошел к пустому табору. Ветер стих. От темных тяжелых туч остались лишь отдельные стайки легких белесых облачков. Яркое майское солнце снова начало припекать, расплавляя своими лучами и без того слабый лед.
— А как там Иван с Петром? — парень тревожно смотрит к побережью Святого Носа. — По времени-то уже должны бы прибежать, а их нет. Где же бедуют?
Незаметно Мишка подошел к бывшему табору. Гора из зеленовато-прозрачного льда стала еще выше, а за ней голубела вода.
Только теперь, немного придя в себя, он почувствовал, что у него мокрые штаны, а в разбухших ичигах хлюпает вода. Мишка присел на торос и с трудом разулся, а когда встал на ноги, чтоб скинуть штаны, то в голые ступни ног сразу же впились острые, как иголки, льдинки. Охнув от резкой боли, Мишка опустился на колени, но и тут встретили злые колючки, снова охнул, уперся ладонями и порезал руки. «Ох, уж этот шах!» Наконец, встав на кожаные голенища ичигов, разделся и, тщательно отжав штаны и портянки, повесил их на обломок оглобли.
Легкий ветерок и лучи солнца быстро высушили Мишкину одежду. Он оделся и, взобравшись на самую вершину ледяной горы, стал смотреть вдаль. Кругом чернели разных размеров предметы, некоторые из них шевелились. Это вылезли на поверхность льда серебристые нерпы и греются на солнышке.
Вдруг из-за высоких торосов показалась какая-то большая черновина.
— Наши!.. Это наши едут! — вскрикнул обрадованный парень и, быстро спустившись с горки, побежал навстречу. Пробежав с километр, Мишка снова взобрался на высокий торос.
Совсем недалеко шли два человека и тащили сани.
— Неужели?! — испуганно воскликнул парень. — Неужели и Орлика утопили?!
Задыхаясь от быстрого бега, Мишка подбежал к людям.
— Уй, Петруха!.. Здорово!
— Здоров! Здоров! — до боли зажал в своих лапах Мишкину руку. — Вот и снова вместе! — На бледном исхудалом лице Петра по-прежнему бодро и добродушно сверкают темно-серые глаза.
Иван Зеленин, даже не поздоровавшись, плюхнулся в сани и, жадно затягиваясь, закурил.
На льду вразброску лежат осиротевшие оглобли.
— Орлик не выдержал… Раз двадцать проваливался, не вынес, бедняга… Закоченел, — сообщил Петр.
— Вот беда-то где!.. Эх, какой был конь! Ай-яй-яй! — пожалел Мишка Орлика.
— Не ной!.. И так муторно, — прикрикнул Иван на парня.
— Веди Рыжку-то, мешкать некогда, — сказал Петр.
— Рыжки нет… утонул бедняга, — сообщил Мишка.
Иван вскочил и вытаращил испуганно удивленные глаза.
— Ты что, тварина, наделал?! — взревел он.
— Не реви!.. Сам Орлика утопил!.. — злобно сверкнули монгольские глаза.
— Да-а, одному-то ему было не сподручно, — заступился Петр.
Мишка, сбиваясь, рассказал, что произошло с Рыжкой.
— Проспал, брацкий, теперь заходи в оглобли, растак-перетак! — ругается Иван.
— Ладно, хошь сам-то не утонул, — тяжелая рука Петра опустилась на Мишкино плечо. — Нынче помощником бригадира возьму к себе.
Дойдя до табора, поморы тревожно переглянулись. Огромная ледяная гора, как живое существо, вся находилась в каком-то судорожном движении. Сверху, осыпаясь, катились льдины.
— Не Рыжка ли твой подо льдом бьется? — спросил Иван.
— Он там утонул, — Мишка махнул в сторону.
Петр поцарапал затылок.
— Да, Миха, теперь ты век должен молиться Рыжке… Если бы не он, то лежать бы тебе на дне морском. — Он тяжело вздохнул и еще больше побледнел. — Мало ли нашего брата тонет-то.
Иван поднял обломок оглобли и положил в сани.
— Сварить чайку хватит.
— Хватит, Ваня, да еще останется. Вот хлеба у нас маловато, на троих одна булка, а топать больше ста верст.
— Да-а, — Иван вздохнул и снова встал между оглоблями и набросил на шею чересседельник. Петр с Мишкой впряглись пристяжными и, не оглядываясь, пошли дальше. К концу дня поморы поравнялись с Большими Черемшанами и остановились на ночлег. Еще по дороге Мишка чувствовал боль в правой ноге, но значения не придал, да и не хотел задерживать товарищей. А когда разулся, то оказалось, подошвы у ичигов протрепались до дыр, порвались портянки и шерстяные носки. Из ступни правой ноги сочится кровь.
— Плохи дела, — рассматривая свои ичиги, покачивал головой Петр.
— Из голяшек сделаем моршни[61].
— Придется.
Мишкина шуба пропала вместе с санями, утопил свой тулуп и Иван Зеленин. Хорошо, что в кошевке осталось сено и тонкое одеяло Федора Бесфамильных. Поморы зарылись в сено и сверху набросили одеяло.
— Как поросята зарылись, — смеется Мишка.
— Спасибо Федюхе за одеяло, все же малость согревает нас.
— Кому спасибо?.. Федьке-милиционеру? Особачился он, — сердито буркнул Иван.
— Э, паря, Ваня, он мужик-то хороший. Не должен бы…
— Хы, сказал тоже, добрый! — сплюнул Иван. — Помнишь, когда вас везли в Верхнеудинск, мы встретились в Давше?..
— Помню, а что?
— Я его, сволочугу, отозвал в сторонку и попросил передать тебе денег да немножко харчу, а он, подлюга, даже разговаривать не стал.
— Э-эвон что! А я-то думаю, чего же ругаешь мужика, — добродушное лицо Петра расплылось в улыбке. — Ты, Ванька, напрасно лаешься. В Усть-Баргузине, когда нас передали другому конвою, он мне дал и денег и хлеба.
— Но?! А я-то думал!..
Три дня шли, деля одну буханку на крохотные ломтики. Хотя и полуголодные, но продвигались довольно быстро и поравнялись с Индинским мысом. Держались все время середины моря, так как у берега лед совсем раскис.
За эти дни об острые колючки шаха порвали моршни, сделанные из голенищ ичигов, употребляли кули, и уж почти ничего не оставалось, чем бы обернуть ноги. У всех ступни ног были изрезаны и сильно кровоточили.
— И-эх, не везет нам. В те годы, бывало, ольхонские буряты здесь промышляли нерпу. Эти места богаты морским зверем… Завозили с собой большие баркасы — мореходки и оставались маходить[62] на весновку… Как растащит льды, они сталкивают свою мореходку на воду, и айда домой.
— Гребями? — спросил Мишка.
— Откуда у них моторы-то возьмутся, конечно, руки мозолят.
— А почему нынче-то их нет?
— Запретили охоту на год или на два.
— Эх, черт… уж они-то накормили бы нас.
— Знамо дело.
На седьмой день почти поравнялись с Шигнандой, исхудали и оборвались до последней степени. Чтоб хоть сколько-нибудь сохранить ноги, изрезали рукава у телогреек. Наконец и от них ничего не осталось. Ступни ног превратились в кровавые клочья мяса. При первых шагах израненные ноги отказывались идти, неистово кричали, выли от боли, но поморы, крепко сжав челюсти, унимали этот рев и шли дальше.
— Все!.. Терпению подходит конец… И мы тоже скоро отдадим концы… Давайте, ребята, изрежемте почтовые сумы на моршни, а остатки съедим… Как? А?.. — предложил Иван.
— Выхода нет, — прошептал Мишка. Петр мотнул головой.
Иван вскрыл суму и вывалил из нее содержимое. Перед поморами на льду рассыпалась целая горка писем. Чуть в сторонку отлетело одно из писем. Мишка поднял его и начал вслух читать адрес… «Северо-Байкальский аймак, село Аминдакан, Бадмаевой Шалсаме… Верхняя Заимка, Сокуеву Ивану… Горемыки, Немеровой Н.».
— Ждет старушка от сына, — прохрипел Петр.
— Ждут…
— Дожидаются…
Встряхнулись, будто после кошмарного сна.
Три пары трясущихся от слабости рук бережно, чтоб не порвать конверты, долго складывали письма в суму.
— Наверно, чуть рехнулись… такое сотворили, — прошептал Иван.
— Паря, ты прав: было бы нам совсем худо… Теперь мы с чистой совестью встретимся, — уже бодро говорит Петр.
Иван плюхнулся на лед и простонал:
— С кем же встретишься-то?.. Со смертью?.. Мне страшно смотреть на вас… Клочья мяса на ногах болтаются…
— А у тебя?.. Давай лучше закурим, Ваня…
По ледяной глади моря медленно ползут три человека. За ними тащатся сани. Они часто останавливаются и подолгу лежат без движения. Потом снова ползут. Во время остановок они стараются не смотреть на сани, потому что там лежит сума из толстой сыромятной кожи, которую можно сварить и съесть.
Уже который день они не видят солнца. Туман, туман, туман. Он давит человека своей тяжелой сыростью, пронизывает насквозь, не оставляет сухой ниточки.
Где-то недалеко прогудел самолет.
Петр поднялся на ноги и, охнув, опустился на колени.
— Ищут. Нас.
— Проклятый туман.
— Бесполезно…
Поморы угрюмо молчат. У Мишки ноет сердце, жалко старую мать, кто ее поддержит в старческие годы. Он не верит в чудо. Знает, что обречены на гибель. Еще проползут день, а потом уже и вовсе иссякнут силы.
Наконец поморы уткнулись в широкий разнос. Бархатно-мягкая вода так и манит к себе, так бы и лег на нее. С какой радостью покинули бы они этот проклятый, колючий, как еж, весенний лед.
— Эх, лодчонку бы нам! По разносам бы выбрались на берег, — глухо шепчет Петр.
— Понюхать бы землю… подержать ее в ладонях, — словно сам себе, мечтательно говорит Мишка.
— Э, паря, начинаешь доходить, кажись, — качает Иван головой и тревожно смотрит на парня. — Может, поел бы землицы?
Мишка согласно мотнул головой.
Поморы нашли большую оплотину, затащили на нее сани и оттолкнулись.
Дует легкий «култук» и подгоняет льдину с пассажирами.
Небольшие волны бойко колотятся о кромку льда и размывают игольник. Зеленовато-прозрачные иглы, падая одна на другую, издают приятные мелодичные звуки, напоминающие звон колоколов на церкви.
— Слышь, звонят за упокой наших душ, — сказал Иван Петру.
— Нет, Ваня, звонят благовест.
— Ерунду говоришь…
— Все равно найдем выход… Да и «Красный помор» уже где-то бороздит… — уверенно говорит Петр.
Переплыв через разнос, поморы затащились на высокий торос. Мишка взобрался на сани и охнул.
— Мужики!.. Мы!.. Нас!.. Кругом вода…
Петр поспешил за ним.
Огляделся кругом, тяжело вздохнув, опустился в сани и сообщил:
— Если налетит ветер, то за пять минут раскрошит нашу льдину, и тогда…
Все трое тревожно переглянулись.
— Мишка, помолись своему бурхану, — попросил Иван. — Может, он отгонит ветер куда-нибудь в сторону.
Парень сморщился от боли и мотнул головой. По осунувшимся скуластым щекам, обгоняя друг друга, потекли слезы.
— Ты чо, Мишка? — участливо спросил Иван.
— Обидно… какой уж там бурхан, когда люди не могут… Обидно… от Святого до Горемыки добрались и… тонуть…
— Ты не торопись тонуть-то, — сердито буркнул Петр.
— Я ничо… Я жить хочу…
— Вот это добро. Кто хочет жить, тот не утонет, — бодро и уверенно говорит Стрельцов. В смелых глазах сверкнули неукротимые огоньки.
— Может быть, ветра не будет… Наша льдина уцелеет… Мы и дотянем до прихода катера.
— Твои бы слова да батюшке Байкалу в уши, — Иван тяжело вздохнул.
Беспокойно спят измученные поморы. Зеленин видит во сне свой старенький «болиндер», который стучит так непривычно тихо, что едва его слыхать в утробе катера. В этот момент кто-то из друзей пошевелился и задел его ногу. От боли Иван проснулся и сел.
Кругом все окрест заволокло туманом. Тишину нарушают лишь падающие с торосов льдинки.
Вдруг откуда-то издали, пробившись сквозь туман и торосы, донесся знакомый звук «болиндера».
Иван ошалело засуетился и затормошил спящих.
— Эй!.. Эй!.. Стучит!.. Стучит!..
— А-а, чо-чо? — испуганно спрашивает Петр.
— Стучит!.. Слышь?.. «Болиндер»!
Петр с Мишкой тоже услышали глухие звуки мотора.
— Давайте все враз крикнемте, — предложил Мишка. Мужики мотнули головами и открыли рты, но вместо крика послышались хриплые стоны, которые затонули в звуках пробуждающегося моря.
Петр снял с себя телогрейку и, приладив ее на конец оглобли, стал поднимать, но не хватило сил. Поняв затею товарища, пришли к нему на помощь Иван с Мишкой.
Теперь над морем, словно черный пиратский флаг, висела телогрейка, которую могли заметить издали.
Стук мотора стал глуше, а затем совсем затих.
— О, господи! — простонал Иван и, чтобы скрыть слезы, уткнулся в сено.
На измученных лицах надежда борется с досадой.
Снова донеслось: тук-тук-тук-тук.
На этот раз громче и отчетливее.
— К нам идет! — прошептал Петр и облизнул потрескавшиеся губы. Из густого тумана выплыл образ Веры с маленьким сыном. Оба радостно смеются и тянутся к нему. Петр подался вперед. «Ох, дорогуши мои!» — беззвучно прошептал он, и они исчезли снова.
— Чо сказал, Петя? — Мишка наклонился к Стрельцову.
— Веру видел, с сынишкой разговаривал.
— А-а… значит, будем жить.
— А ты думал?..
Мишка покачал головой.
Катер затих.
— «Болиндер» без меня барахлит. Идиоты, не могут вовремя досмотреть, — ворчит Иван.
— Неужели ушел? — тревожно спросил Мишка.
— Нет. Мотор куражится, без меня не хочет робить.
— А-а, — Мишка облегченно вздохнул и облизнул окровавленные губы.
Откуда-то, будто из-под воды, донесся глухой, тихий «тук», потом погромче, погромче и весело, бодро: тук-тук-тук.
— Идет! — шепотом, словно боясь спугнуть, прошептал Иван.
С катера заметили телогрейку Петра и направились прямо на черновину.
Через несколько минут «Красный помор» с хрустом врезался в дряблый, податливый лед и заглушил мотор.
По неровной поверхности небольшого ледяного поля три человека, падая и снова поднимаясь, тянут груженые сани.
На босых ногах у них болтаются обрывки окровавленных тряпок.
Кто-то охнул и с болью в голосе сердито крикнул:
— Сани-то!.. Сани-то бросьте! — А затем добродушно, с горделивыми нотками добавил: — Че-ерти… Сибирь настырная.
Примечания
1
Чумница — лыжня.
(обратно)2
Юксы — охотничья обувь.
(обратно)3
Поняга — носилка на спину.
(обратно)4
Кыча — изморозь (местное баргузинское выражение).
(обратно)5
Елинка — елочка.
(обратно)6
Лама — буддийский священник.
(обратно)7
Талан — фарт, счастье.
(обратно)8
Волосяные наколенники плетутся из конского хвоста.
(обратно)9
Нерповщик — охотник за тюленем.
(обратно)10
Кошевка — сани.
(обратно)11
Пассажирский пароход-ледокол.
(обратно)12
Камус лосиный — шкура, содранная с ног лося.
(обратно)13
Толмач — переводчик.
(обратно)14
Парной — свежий.
(обратно)15
Переновка — первая пороша.
(обратно)16
Хара шубун — черная птица.
(обратно)17
Бохолдой — черт.
(обратно)18
Сутунки — расколотые пополам бревна.
(обратно)19
Накочетки — чулки из собачьей шкуры.
(обратно)20
Гайно — гнездо.
(обратно)21
Махан — мясо.
(обратно)22
Бараг-хан-ула — священная гора в тайге.
(обратно)23
Култук — западный ветер на Байкале.
(обратно)24
Сокуй — нагромождение льда, образовавшегося на берегах Байкала во время осенне-зимних ветров.
(обратно)25
Ангара — ветер северо-восточного направления на Байкале.
(обратно)26
Отог — стоянка охотника.
(обратно)27
Делемба — китайская одежда.
(обратно)28
Мэндэ — приветствие.
(обратно)29
Кедрач-колотовник — молодые плодоносящие кедры.
(обратно)30
По шаманской вере считалось три земли: верхняя — обитель богов, средняя — колыбель людей, нижняя — обитель мертвых.
(обратно)31
Бойча — скала.
(обратно)32
Базлуки — подковки.
(обратно)33
Умун, дюр, илан — раз, два, три — по-эвенкински.
(обратно)34
Семейский — старообрядец, раскольник.
(обратно)35
Марян — поляна на солнечной стороне таежной горы.
(обратно)36
Эмчи-бацаган — девушка-врач.
(обратно)37
Хариузовые сети имеют высоту до полутора метров.
(обратно)38
Башлык — бригадир.
(обратно)39
Расчищенная от камней канава, по которой подходит к берегу лодка.
(обратно)40
Маловытный — человек, употребляющий пишу в малом количестве.
(обратно)41
Титьки — клубок запутанной сети.
(обратно)42
Шакша — носовая палуба у лодки.
(обратно)43
Местное выражение — конец сетей означает: одна сеть.
(обратно)44
«Горный» — местное название направления ветра.
(обратно)45
Мористо — далеко от берега (местное).
(обратно)46
Шейма — толстая веревка.
(обратно)47
Битенг — чугунная или стальная тумба для крепления буксирного троса.
(обратно)48
Апчан — вяленая на солнце рыба.
(обратно)49
Дресва — размолоченный на мелкие кусочки камень.
(обратно)50
Не изурочу — не испорчу.
(обратно)51
Местное выражение, т. е. присоединилась.
(обратно)52
Брацкий — т. е. бурят (старинное местное выражение).
(обратно)53
В старину эвенки постоянно купали своих детей в снегу.
(обратно)54
Ойлгош? — Понял?
(обратно)55
Хубунчик — мальчик.
(обратно)56
Здравствуй, богатырь, ты эвенк или бурят?
(обратно)57
Здравствуй, дед! Я бурят.
(обратно)58
Сайба — лабаз на дереве.
(обратно)59
Кичиги — созвездие Орион.
(обратно)60
«Ехор» — бурятский танец.
(обратно)61
Моршни — обувь из кожи в виде лаптей.
(обратно)62
Маходить — нерповать по плохому льду.
(обратно)
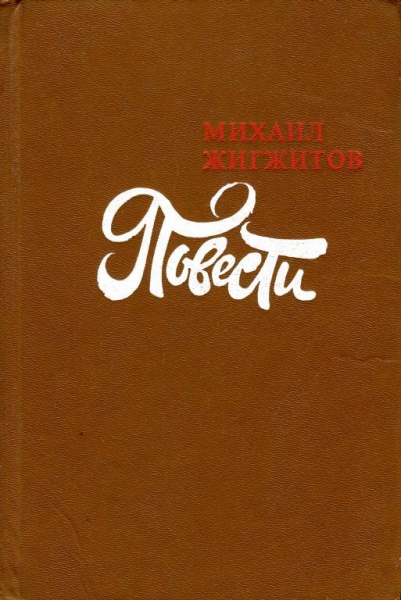
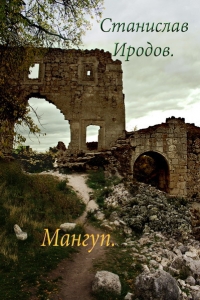



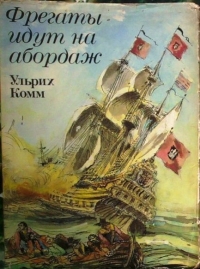
Комментарии к книге «Повести», Михаил Ильич Жигжитов
Всего 0 комментариев