Ахмед Абдулла Тайна говорящих идолов
— Трижды боги позвали меня по имени, — сказал араб.
— Ложь! — возопил знахарь. — Убить его! Убить…
Африка окружала их — черная зловонная рука, щедро дарящая золотом и драгоценностями. Но и давая, она душила и сокрушала.
Они страшились и ненавидели Африку, но и любили ее. Любовь их была сильнее, чем любовь к женщине, и непобедимее, чем любовь к золоту. Они любили ее, как курильщик опиума любит тягучий маковый нектар, что успокаивает его — и успокаивая, убивает. а душила и сокрушала.
Такова была Африка.
Она не была бы Африкой, если бы, помимо прочего, не свела вместе этих двоих. Странной парой были они — Джеральд Донаки, чья суровая шотландская кровь с грехом пополам усмирялась лишь тем обстоятельством, что он родился и воспитывался в Чикаго, и Махмуд Али Дауд, угрюмый темноликий араб из Дамаска.
Арабом он был во всем — алчный, и вместе с тем щедрый, учтивый, но властный, искренний, но заносчивый, сострадательный, но хладнокровный и жестокий, сдержанный, но страстный, простой, но многоликий.
Их фирма, «Донаки и Дауд», была известна от Кейптауна до Конго. Слава ее простиралась вглубь мрачного континента, вдоль длинной сонной реки, и достигала даже черных шатров туарегов. Она вошла в историю африканской коммерции, ее уважали в Париже и Лондоне, ее боялись в Брюсселе, ей завидовали в Берлине.
«Донаки и Дауд» торговали слоновой костью и страусиными перьями, каучуком и золотом, бусами, ситцем, камедью, краской, хинином, а также, чего греха таить, смеющимися идолами с западного побережья, сделанными в Бирмингеме, ящиками дешевого ливерпульского джина и ружьями, которые взрывались на третьем же выстреле.
Вдоль всей реки выставляли напоказ свое богатство их фабрики, пристани, порты и склады. Их пароходы ходили до самого водопада Виктория. Дважды в год стремительные и дорогостоящие крейсера возили ценные грузы в Бремен и Ливерпуль. Повсюду «Донаки и Дауд» успели оставить след — на юге их владения простирались вплоть до Матабелеленда, на севере — до границ французского протектората в Марокко.
Они могли бы продать свое дело по любой или почти любой цене крупной королевской компании, с которой сражались на протяжении десяти лет и в итоге пришли к вполне удовлетворительной ничьей, и вернуться с набитыми кошельками домой: Донаки — в свой дворец в Чикаго, о котором он с ностальгией вспоминал, когда воды реки поднимались высоко, а температура — еще выше, и который он наконец-то увидел бы наяву, а не в грезах, а Махмуд Али Дауд — в свою уютную виллу в Дамаске с роскошным садом и десятком разновидностей финиковых деревьев, о которых он так любил поговорить.
— В моем саду — все финиковые деревья Арабистана, — говорил он своему товарищу, прищелкивая языком. — Желтые и ароматные финики аш-Шелеби с маленькими косточками, финики Ажва, которым Пророк, мир ему, дал особенное благословение, финики аль-Бирни, о которых говорится: «Разлука с ними суть болезнь, а в них болезни нет».
И тогда они начинали говорить о том, как продадут свою компанию и вернутся домой.
Они говорили об этом в жаркие сезоны, когда огромное и безмолвное солнце нависало над ними подобно некой ненавистной и неумолимой силе, когда все богатства Африки казались лишь проклятым наследством, цена которому были страдания, что человек не в силах вынести. Они говорили об этом в сезоны дождей, когда дождь падал на землю с грохотом, образуя пар и затапливая все вплоть до предгорий, когда поля обращались в грязь, когда вода озера сгущалась до мерзкой коричневой слизи, когда великая река воняла, точно труп некоего невообразимого и отвратительного зверя.
Они говорили об этом с тоской в голосах. Год за годом они ссорились и проклинали друг друга, и год за годом они оставались.
Такова была Африка. Ее сладкая отрава проникла в их души, и теперь они не могли без нее обойтись.
Донаки вздохнул и посмотрел на товарища.
— Послушай, Махмуд, — жалобно сказал он. — Грейнджер уже третий за последние три месяца, кто пропал там. Третий, черт побери! А бросить этот порт мы не можем — это же лучший порт на всем проклятом нагорье! Та, другая, компания сразу же за него ухватится. Они уже сто лет пытаются там обосноваться. Оттуда мы получаем столько же слоновой кости, сколько из остальных речных портов, вместе взятых. Ну хорошо, допустим, не слоновой, а мамонтовой, но покупателям-то какая разница? Слоны и мамонты так похожи.
Пока он говорил, араб пересчитывал резные деревянные бусины на своих четках. Когда Донаки закончил, Дауд поднял глаза:
— Можно послать Уоткинса. Уоткинс — надежный человек. Он хорошо справился в порту на побережье и знает язык. Или Пальмьера, хитрого бельгийца. Он хорошо знает Конго.
Донаки ударил по неровному, потрескавшемуся от жары столу, волосатым кулаком:
— Да это же убийство чистой воды, Махмуд! Они пропадут, пропадут, как и остальные.
Араб склонил голову:
— Все мы подвластны року. Возможно, буш их поглотит.
Донаки яростно прервал его:
— Буш? Буш? Ты хочешь сказать…
Его собеседник поднял тонкую смуглую руку:
— Тише, друг мой. У нас нет доказательств. Кроме того, дать имя тому, чего нет — плохая примета. — Он резко щелкнул пальцами, чтобы отвадить беду.
— У нас есть доказательства, что трое наших наместников пропали один за другим, — громко и сердито отозвался Донаки. Араб улыбнулся:
— Что нам с тобой до того, друг мой? Мы им платим? Мы платим им хорошо. Если находятся глупцы, что продают дьяволу душу, те же глупцы могут продать нам тело. Они знают, что у порта плохое имя, но, тем не менее, многие готовы туда направиться. — Он указал на гору писем на столе: — Ты читал, что они пишут? Они хотят пойти. Пусть идут. Среди желающих есть даже представители компании. У нас широкий выбор. Мы можем послать кого угодно.
Донаки гневно посмотрел на товарища:
— Мы все равно будем убийцами.
— Откуда ты знаешь, что остальные были убиты?
— Боже милостивый! Откуда я знаю? Не могли же они зайти в буш и пропасть без следа просто ради развлечения, правда?
Его собеседник улыбнулся.
— Аллах керим! — сказал он набожно, замолк и снова принялся перебирать четки.
Донаки поднялся и передвинул кресло, в котором сидел. Но лучи солнца проникали во все щели и трещины их мазанки, и во всей просторной, квадратной комнате не осталось ни одного уголка, куда не падали бы узкие полоски света.
Ослепительно желтый поток света будто бы пронзал жестяную кровлю. Он причинял боль глазам, заставлял сморщивать лица и утомлял мозг.
Пейзаж, который открывался за усаженными мухами окнами, был красив. Под солнцем тропиков покатые кровли складов, колокольня миссионерской церкви и хижины туземцев, похожие на ульи, пестрели всеми оттенками пурпурного, зеленого и синего, подобно хвосту огромного павлина. Небо, напоминавшее чашу, покрытую эмалью, было почти безоблачным. Редкие узорные облака походили на арабески, нарисованные пурпурными чернилами на забытом золотом византийском пергаменте.
А вдалеке, по ту сторону сверкающей реки, выделялась мрачная черная полоска леса.
Но Джеральд Донаки не видел всей этой красоты. Он ощущал лишь безжалостно душащую его руку Африки, лишь ее зловоние.
А затем его мысли, конечно же, вернулись к порту у буша, в большом бассейне Л’Попо, за триста миль вверх по реке.
Это был, безусловно, самый важный порт на возвышенности, принадлежащий «Д-Д», как обычно называли их фирму по всему побережью. Он уютно устроился в конце небольшого речного залива, где вода глубока и можно было надежно встать на якорь, примерно за пятьдесят миль к югу от водопада. Этот порт был достаточно безопасен на протяжении всего года и поэтому стал основный центром всей торговли на возвышенности.
К северу от порта лежали густые черно-зеленые леса, они же — лучшее в Африке место для добычи слоновой кости. Ее бесконечный и драгоценный белый поток шел от поста к побережью, а оттуда — в Ливерпуль и Бремен. Туземцы были некрещеными, неиспорченными и дружелюбными и никогда не доставляли ни малейшей проблемы.
Хендрик дю Плесси, огромный волосатый бур из провинции Наталь, работал там уже несколько лет и извлекал из порта немалые доходы. Раз в год он, как часы, спускался по реке в городок на берегу и там на протяжении трех недель гулял и буйствовал с молодецким размахом.
Но чуть больше четырех месяцев назад на своем последнем пиру он перебрал бренди — это-то его и убило.
Тогда Донаки и Дауд послали вверх по реке, одного за другим, трех наместников — Фута, Бенцингера и Грейнджера. Все трое были урожденными африканерами, знатоками местности и туземных языков и все проявили себя с самой лучшей стороны в других важных портах. Поэтому «Д-Д» и сочли их работниками, заслуживающими доверия, которых можно отправить в большой бассейн Л’Попо.
Но за последние четыре месяца все трое, один за другим, исчезли, как будто Африка их проглотила. Ни записки, ни следа.
Они просто сгинули в никуда.
Они не могли уйти в буш по собственной воле — на то у них не было причины: все их ведомости и счета были безупречны. Они не могли уйти на охоту, поскольку были зрелыми мужчинами и успели пресытиться убийством животных. У них не было личных врагов и они никогда не ссорились с дружелюбными и довольными жизнью туземцами.
Они исчезли.
Гонцов и разведчиков из числа туземцев посылали во все концы. После того, как пропал третий, Грейнджер, с побережья выписали следопыта высшего сорта — хитрого мулата-португальца, но он также не смог ничего поделать.
Тогда Джеральд Донаки сам отправился вверх по реке. Он задавал вопросы, обещал взятки и награды, прочесывал мили леса вокруг, вторгался в туземные краали, угрожал, обвинял, запугивал.
Но чернокожие, очевидно, вовсе не были виноваты в исчезновении трех его наместников. Он не нашел ни следа.
Тем же утром он, изнемогая от жары и гнева, вернулся с одной лишь неудачей. А неудачи он переносил плохо.
Донаки снова ударил кулаком по столу:
— Скажи-ка мне, Дауд — что нам делать?
— Выход у нас всегда есть. Мы можем продать наше дело королевской компании.
Донаки засмеялся, но его смех был грубым и невеселым.
— Продать? В таком состоянии? Не разгадав эту тайну? Пока я жив, этого не будет. Я не позволю этому проклятому континенту победить меня.
Араб пошел в угол и налил себе воды.
— Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, — торжественно и набожно сказал он, прежде чем опрокинуть стакан. Затем он повернулся к товарищу и сказал:
— Ты точь-в-точь как все прочие христиане, что вечно сражаются с собственным упрямством. К чему? Какая в этом выгода? А если выгоды нет, то какая слава? К чему сражаться с Судьбой? Так уж Судьба рассудила, что тот, у кого хорошая голова, становится почитаемым и богатым беем, а тот, у кого хорошие ноги, становится пастухом. У нас с тобой хорошие стада. Мы богаты. Давай продадим наше дело и вернемся, каждый в свою страну.
Но Донаки не отвечал. Он молча сидел, недовольно нахмурившись и глядя перед собой.
Уже целый час с широкой веранды вокруг дома доносилась беспрестанная невнятная болтовня резких и грубых голосов туземцев. Это молодые слуги говорили друг с другом, время от времени срываясь в пронзительный бессмысленный смех.
Донаки не обращал внимания на шум — он слушал его уже двадцать лет. Этот шум был частью его жизни, его дня, частью Африки. Он смирился с ним так же, как смирился с жарой, лихорадкой, летучими и ползучими тварями и громом деревянных барабанов по ночам, что передавали сообщения из деревни в деревню.
Но вдруг он поднял глаза, насторожился и прислушался.
Туземец произнес название порта выше по реке — «великий бассейн Л’Попо». И повторил восхищенным шепотом: «Великий бассейн Л’Попо!»
Донаки повернулся к товарищу:
— Они тоже…
— Да, — прервал его араб, завершая его мысль, а заодно и его фразу. — Они тоже говорят о тех трех, что пропали. История о них ходит по всей местности. Барабаны разнесли весть по всем деревням. И тем не менее, — Дауд усмехнулся и указал на гору писем на столе, — и тем не менее, многие жаждут занять это место.
Внезапно болтовня снаружи прекратилась и наступила резкая пауза. Затем один голос заговорил на том же местном диалекте, что и остальные, но с другим акцентом. Его речь была напряженной, он говорил, по-видимому, о чем-то загадочном и важном, но говорил так тихо, что товарищи, что сидели в доме, не могли разобрать слова.
И снова наступила полная тишина — лишь мухи жужжали.
Затем тот же тихий и напряженный голос заговорил снова.
— Махмуд, ты слышишь? — спросил Донаки. — О чем болтает этот проклятый туземец?
Араб встал, знаком показал другу, чтобы тот сидел тихо, бесшумно, потому что был обут в домашние туфли, подошел к двери и прислушался.
Снова снаружи загудел тот же низкий взволнованный голос, но на этот раз в потоке слов удалось разобрать одно: «Умлино». И вскоре снова: «Умлино».
Несколько минут араб внимательно прислушивался, затем подошел поближе к товарищу:
— Они говорят о новом умлино, о новом могущественном знахаре. — И добавил, точно вспомнив что-то важное: — Будь прокляты все неверные!
— Кто говорит?
— Новый мальчишка, тот плосколицый отпрыск неудобосказуемых свиней, что называет себя Макупо.
— Ах да, паренек из буша, который носит кирпично-красное покрывало и синие бусы.
— Он самый.
— Какое отношение он имеет к знахарям? И как, черт побери, умлино связан с исчезновением трех моих наместников?
Теперь загремел голос Донаки, охваченного неожиданной вспышкой гнева:
— Я научу этого шарлатана, как мутить воду среди моих слуг! Позови-ка его, Махмуд. — Донаки схватил со стола короткий, но хлыст из шкуры единорога: — Я научу этого безмозглого туземца…
Дауд толкнул товарища обратно в кресло и обратился к нему со спокойной уверенностью в голосе и ощущением собственного превосходства во взгляде из-под тяжелых век:
— Я отправлюсь на север и раскрою эту тайну. Тише, друг сердца моего — помни, что гласит пословица: «На губах лжеца — золото, на губах заблудшего — страсть». Тише!
Донаки посмотрел на него и устало сказал:
— Махмуд, но я ведь только что оттуда вернулся.
Араб присел рядом с ним и ответил:
— Да. Но когда ты уходил, среди наших чернокожих не ходили слухи о знахарях на севере, о великих умлино, что способны творить множество чудес. Я слышал, что они говорят там, — он указал на веранду, — да будут прокляты все неверные!
Донаки засмеялся:
— Старик, я уважаю твои старинные магометанские предрассудки. Но ты прекрасно знаешь — у этих дикарей что ни день, то новый знахарь или еще какая-нибудь погремушка.
— Знаю, — согласился тот. — Но я также знаю Африку. Наши слуги — из племени варанга, не так ли? Скажи-ка мне, друг мой, что мальчишкам из племени варанга до умлино из племен, что живут вверх по реке? Разве одни тотемы дружат с другими тотемами на этой языческой земле? И что нашим варанга до плосколицего поросенка с севера, что носит красное покрывало и синие бусы? Что ты мне на это скажешь? И что ты скажешь, если я спрошу тебя, какая связь может быть между одним племенем чернокожих и другим, которые враждовали веками?
— Лишь одна связь, Махмуд — общий враг.
— У них нет врагов. Это мирная и изобильная земля. И все же, между различными племенами может быть и другая связь — чудо. А творит это чудо всегда умлино — великий знахарь. Я слышал рассказы, что умлино — это всегда человек с большими устремлениями и мечтами о завоеваниях, крови и империи. Как Кхама, что созвал южные племена, или Лобенгула, о котором рассказывают буры, или Чакка, что грабил фермы английских колонистов еще до того, как я появился на свет.
Донаки слушал его внимательно и взволнованно:
— Ты думаешь, речь идет о заговоре? О бунте?
— Нет. Лишь о зарождении чуда и рассказах о нем. Пока, — добавил Дауд со странным ударением на последнем слове. Он помолчал, затем продолжил:
— Я отправлюсь к большому бассейну Л’Попо. Я расследую исчезновение наших троих наместников. Я буду следить, как зарождается чудо. И, с помощью Аллаха, мое предприятие увенчается успехом. — Дауд улыбнулся.
Донаки была знакома эта странная улыбка. В прошлом она была предвестницей разных событий: выгоды, приключений, зачастую смерти — но всегда успеха. И поэтому сейчас Донаки показалось, будто он почувствовал прохладное дуновение воздуха после долгого, душного и безрадостного дня.
— Когда ты отправляешься? — спросил он.
— Сегодня.
— Но это же невозможно! — ахнул Донаки. — Пароход отплывает, самое раннее, в субботу утром.
— Я пойду по суше.
— Но почему? Ради Бога, почему?
Араб улыбнулся:
— Потому что на нашей веранде варанга говорят с плосколицым поросенком с севера. Потому что барабан говорит с барабаном. Потому что там, в верховьях реки, зарождается чудо. Не задавай вопросов, друг мой, время не ждет. Я возьму Макупо с собой.
Донаки потрясенно на него посмотрел:
— Макупо? Паренька с севера? Господи, но ты же ему не доверяешь!
— Именно поэтому я возьму его с собой. — Араб поднялся. — Нет времени объяснять. Пора готовиться к походу. Я хочу, чтобы ты сделал для меня лишь одно.
— Все, что скажешь, Махмуд.
— Не позволяй слугам говорить никому, что я ушел на север. Не позволяй им говорить, что я взял с собой Макупо. Не позволяй им передавать вести каким-либо образом.
— Как я, черт возьми, это сделаю? — раздраженно ответил Донаки. — Как я запрещу этим сорокам болтать?
— Лучше всего было бы убить их. Но ты — христианин и американец, — усмехнулся Махмуд Дауд. — Ты презираешь разумные и действенные методы. Поэтому иди к Латробу, комиссару полиции, и потребуй, чтобы он арестовал слуг сегодня, за час, прежде чем я уйду. Расскажи комиссару столько, сколько пожелаешь или сочтешь нужным, главное — чтобы слуги молчали, пока я не вернусь. Я не желаю, чтобы в мое отсутствие рассылали вести. Я не желаю, чтобы от деревни к деревне стучали деревянные барабаны.
— Но почему?
Араб сделал величественный жест — больше чем жест, па, которое рассекло воздух, подобно драматической тени:
— Потому что я знаю Африку. И потому что я хочу предотвратить рождение чуда.
Он покинул комнату величественный, пружинистым шагом, негромко напевая себе под нос.
Донаки смотрел вслед Дауду, смотрел, как он двигается среди варанга, сидящих на корточках на веранде, и грациозно лавирует среди мусора, переполнившего двор.
Донаки еще долго слышал слова и высокую мелодию его песни. Это была веселая песнь дамасских базаров. Дауд часто пел ее, когда был возбужден или нервничал:
— В своем безумии женился я на двух.
Что будет теперь с тобой, о дважды женатый?
Ответил я: я буду между ними агнцем,
Наслаждаясь блаженством меж двух овечек.
Но теперь…
Голос Дауда затих вдали. Донаки встал, вышел из дома и пошел к дому комиссара полиции.
Час спустя мальчики варанга, служившие Д-Д в их бунгало, оказались в тюрьме, что противоречило закону о неприкосновенности личности, о суде присяжных и еще полудюжине подобных божков, которым поклоняются жители местностей с умеренным климатом. Тем временем, Махмуду Али Дауду, следующему за испуганным, хотя и непрестанно болтающим Макупо, предстояло путешествие вглубь континента длиной в триста миль.
Даже Донаки, знавший Африку, арабов и в особенности своего товарища, удивился бы, увидев, как быстро тонкий налет западной цивилизации и западной же сентиментальности испарился, отбросив Дауда на несколько веков назад, стоило лишь последнему зайти на полдюжины миль в джунгли.
Без какого-либо повода или очевидной причины араб со всей силы, что была в его тощей, но жилистой руке, ударил африканца по голове коротким, но толстым кнутом-шамбоком.
Макупо упал и взвыл. Махмуд Дауд обратился к нему. Его голос был ровным и бесстрастным:
— Собака, и сын сотни собак! Бедствие в звериной шкуре! Ходячий позор! Слушаешь ли ты меня, о злонамеренное и зловонное создание без имени, морали, роду и племени?
Африканец не отвечал, лишь жалобное бульканье послышалось из его горла. Его глаза закатились, и он начал целовать кожаные туфли араба.
Но тот не удостоил вниманием эту безмолвную мольбу о милосердии и снова со всей силой и методической бесстрастностью, почти как ученый, ударил шамбоком извивающееся черное тело у своих ног и повторил снова, по-прежнему бесстрастно:
— Слушаешь ли ты меня, о бесчестный потомок неверных свиней в третьем колене?
На этот раз ответ был быстр и разборчив:
— Да, господин мой!
— Эйва! Эйва! — воскликнул араб. Он с удобством устроился на упавшем дереве, приподнял подол своего коричневого бурнуса, в котором путешествовал, и положил ноги на африканца. — Эйва! Хорошо. Значит, ты, о плосконосое создание в красном покрывале, пришел без приглашения с севера, из верховьев реки, и разнес ядовитые слухи среди мальчишек из моего крааля. — Он засмеялся и продолжал:
— Воистину, свой дом на севере ты покинул петухом, ожидая, что вернешься туда павлином, гордо выступая и распушив хвост. Ха-ха! Слушай же меня, о козел, лишенный крупицы разума и благопристойности! Ты вернешься на север, но совсем не павлином. Ты вернешься собакой и разнюхаешь для меня, твоего господина, путь к жилищу умлино, который прислал тебя с твоими речами о предательстве на побережье. Ты приведешь меня туда, где знахарь творит чудеса. Понял ли ты меня?
— Да, господин мой.
Араб пнул распростертого перед ним африканца трижды в одно и то же место, спокойно и точно прицеливаясь:
— Ежели ты предашь меня и попытаешься передавать вести, когда мы пойдем через деревни на пути к большому бассейну Л’Попо, я тебя убью. Я буду убивать тебя медленно. Я прорежу отверстия в твоей нечистой плоти и волью в них кипящее масло. Я также сделаю с тобой многое другое, что причинит тебе куда больше боли — у меня будет время, чтобы это продумать. А потом, пока в твоих легких еще остается воздух, а в твоем сердце — кровь, я зарою тебя в неглубокой яме, где тебя найдут гиены и стаи муравьев. Понял ли ты меня?
Макупо поднял глаза. Он знал, что у араба слова не расходились с делом.
— Да, господин, — ответил он. Махмуд Дауд встал и еще раз пнул его:
— Хорошо. Значит, теперь у нас договор. Поднимайся. Бери свой узелок и показывай дорогу.
Африканец без единого слова сделал, что было приказано.
Двое отправились в долгий путь по земле. Благодаря острому глазу Дауда и его же шамбоку Макупо помнил об их односторонней сделке и не шептался с жителями редких деревень, где путешественники останавливались и требовали еды, питья и иногда проводника. Ночью же араб неизменно затыкал ему рот и связывал по рукам и ногам, чтобы Макупо не передавал вести в буш.
Поход был долгим и утомительным. Их путь вел через безумную сеть тропинок, раскинувшуюся во все джунгли, через высокую и низкую траву, через траву, сожженную до корней и зеленую и сочную траву, словно дожидающуюся тучного длиннорогого скота, что пасли речные племена.
Путники оставили реку за собой, далеко на юге, и шли широкими кругами, чтобы избежать течения в низинах, пары которого несли с собой миазмы и лихорадку. Они шли сквозь заросли, шипы которых исполосовали их кожу, сквозь мрачные темные леса, где над головой раздавалось ленивое хлопанье крыльев отвратительных существ, похожих на летучих мышей, а под ногами ползали и извивались бесхребетные гады. Они шагали вверх и вниз по холодным ущельям, вверх и вниз по скалам, добела раскаленным от солнца.
Они достигли плоскогорья. Густая трава повсюду, выжженная солнцем добела, доставала им до пояса и непрестанно покачивалась, напоминая мелкие бледные волны. От этого равнина вокруг до странного напоминала море. Жара была очень сильна. Араб молча шел, покрыв голову коричневым капюшоном своего бурнуса. Макупо шагал, размахивая руками, как и все его соплеменники, и напевал жалобную и полусвязную песнь, походившую на звуки, издаваемые ящерицами.
На двадцатый день они достигли экватора. Стояла яростная жара. На небосводе не было ни облачка. Он был разукрашен примитивными цветами — красным, синим и оранжевым, как футуристское полотно. Дауд и Макупо спали днем, а шли поздно вечером и ночью, когда безжалостное пламя в небе угасало и становилось немного прохладнее, когда далекие холмы приобретали бледно-розовый оттенок, а чернота буша, видного издалека, смягчалась, как будто на нее набросили пурпурную вуаль.
Наконец, однажды, поздним вечером они снова пришли к реке.
Макупо остановился.
— Большой бассейн Л’Попо! — сказал он, указывая вперед.
Дауд коротко хмыкнул в знак подтверждения.
По крутому склону они сошли в долину реки, над которой висел пар. Из-за черного занавеса деревьев, растущих вдоль реки, виднелось множество желтых огней — это были костры перед краалями. Затем показались камышовые стены и остроконечные крыши из травы.
Лишь поздним вечером в их поле зрения появился сам порт. Но несмотря на темноту, глаза путников смогли различить контуры основного здания, склады, полоску причала и приземистые хижины туземцев.
Араб остановился.
— Слушай меня, пес, — сказал он. — Теперь ты скажешь мне, где живет умлино, великий знахарь, что готовит многие чудеса и отправляет к побережью плосконосых поросят в красных покрывалах, чтобы они нашептывали ядовитые слова моим варанга. Где этот умлино? Я желаю с ним беседовать. Где он — на севере, востоке, юге или западе? Отвечай, о сын грешников, что горят в адском пламени!
Макупо задрожал от страха, но не отвечал. Араб поднял шамбок, прозрачно намекая, и негромко повторил:
— Отвечай.
Туземец пал ниц перед ним:
— О господин мой, разве недостаточно далеко привел я тебя? Сжалься! Умлино слышит издалека. Он заставляет глиняных богов говорить. Он…
Макупо согнулся пополам, будто от боли, обхватил колени и стал качаться из стороны в сторону, как слон в цепях. Он смотрел на араба с нестерпимой мольбой во взгляде. Махмуд Дауд улыбнулся:
— Помни об уговоре, о ходячее бедствие! Помни о ранах, о кипящем масле, о гиенах и термитах, что легко найдут похороненного заживо в неглубокой могиле. Да, не забудь о термитах.
Макупо внезапно встал. Он попытался заговорить, но не смог. Дрожащей рукой он указал на невысокую и плоскую хижину, легко заметную рядом с бунгало, в котором жили сотрудники порта.
— Там… там… — он с трудом выговаривал слова. — Там живет умлино… там красные боги из глины, они говорят, говорят!
Махмуд Дауд присвистнул сквозь зубы:
— Хм… в порту… в самом порту? — Затем тише, себе под нос: — Аллах милостивый! В самом порту… и рядом с основным зданием. Ну и ну!
Вдруг он улыбнулся. Его улыбка была тонкой и жестокой.
— Ты славно чтил наш уговор, Макупо, — сказал он. — Воистину, теперь тебе воздастся.
Мгновенно сверкнул кинжал. Один удар — и Макупо беззвучно повалился на землю и больше не шевелился. Махмуд Дауд вытер кинжал о траву и убрал его обратно в ножны.
Затем он направился к станции.
Дауд был глубоко погружен в размышления. Еще недели назад в его хитром и вечно работающем мозгу загорелась искра подозрения, когда он услышал, как Макупо и варанга шепчутся на веранде об умлино и об исчезновении трех наместников. Теперь, благодаря словам уже покойного Макупо, из нее разгорелось пламя.
И что означали его слова о красных глиняных богах, которые говорили, гадал Дауд? Не иначе, как очередное богопротивное языческое суеверие. Впрочем, вскоре он и сам это выяснит.
Дауд улыбнулся. Пока он был доволен собой. Он был уверен, что новости о его прибытии не дошли до туземцев, а значит, знахарь — как бы его не звали, какие бы дикарские амбиции он не питал и какое бы отношение он не имел к исчезновению трех наместников — не успел приготовиться.
Кроме того, Дауд предусмотрел предательство со стороны Макупо, убив последнего, как только он выполнил свое назначение, ведь, как говорил сам Махмуд Дауд, «мертвец не говорит о любви, а мертвая лошадь не ест траву».
Итак, он был доволен собой. И, поскольку он был очень набожен, Дауд пробормотал вполголоса молитву Аллаху, властителю людей, бесшумно войдя на территорию порта, обнесенного камышовой изгородью.
По изгороди было очевидно, что место было оставлено в небрежном распоряжении туземцев и что направляющая рука белого человека здесь отсутствовала — несколько месяцев, прошедших со смерти последнего наместника, хватило, чтобы тропики превратили изгородь в огромную, роскошную массу растительности. В ней, точно в поднимающейся волне безмолвной жизни, смешивались листья, пресмыкающиеся и душные цветы.
Араб приостановился и огляделся. У ворот не было стражей, у причала и складов — часовых. Было более, чем очевидно, что вести через буш не дошли, что его появления никто не ожидал, и что чернокожие работники Д-Д в отсутствие хозяина наслаждались долгой, поистине африканской сиестой. Дверь одного из складов была оставлена нараспашку.
Араб нахмурился. От ярости к его горлу подступил ком. Он был истинным сыном Леванта — алчным и суровым дельцом, который расточительство ненавидел даже больше, чем шайтана.
Он бесшумно пересек двор и остановился перед главным зданием-бунгало.
Араб задрожал. За изгородью виднелся лес, который в свете луны казался призрачным, и все, даже шелест листьев и мусора, занесенного сюда неким бродячим в ночи ветром, было проникнуто тайной — безумной, невероятной тишиной черного континента, которая касалась его сердца своими пальцами, холодными, как сырая земля.
Рядом с бунгало виднелся дом знахаря — большой и плоский.
Араб окинул взглядом расстояние между двумя домами. Всего лишь несколько ярдов — достаточно близко, чтобы перетащить тело из одного в другой. Но что потом? Первосортный следопыт из буша осмотрел это место — если бы в хижине произошло убийство, он нашел бы его следы. В конце концов, подумал Дауд, на севере всегда были знахари, и в торговых портах всегда стояли их хижины.
Но между этим умлино и убийством — исчезновением — трех наместников была некая связь, в этом он был уверен. Недаром тот уже мертвый поросенок в красном покрывале спускался по реке и нашептывал дурные слова мирным варанга. Араб помнил о бывших восстаниях, резнях, бунтах, пожарах, охватывавших землю — и всегда им предшествовало зарождение чуда через языческое ремесло какого-то умлино, разрисованного охрой.
Он посмотрел на хижину знахаря. Через ее плотные камышовые стены виднелся слабый свет.
— Прибегаю к Аллаху, повелителю света, от ночной тьмы! — прошептал он и, по своей привычке, резко щелкнул пальцами, чтобы отвадить нечистую силу, и набожно прикоснулся к маленькому синему ожерелью, которое служило амулетом от нечистой силы.
И все же дух этого места ужасно его подавлял. Он испытывал смесь ненависти и презрения к этим неверным дикарям, но к этим чувствам примешивались также ужас и отчаяние. Я был глупцом, когда пришел сюда один, сказал Дауд себе.
Но затем он взял себя в руки.
Дауд твердой поступью подошел к хижине знахаря, и бесцеремонно распахнул дверь.
Из хижины вырвался порыв тяжелого воздуха и почти ощутимо толкнул его в грудь. На мгновение Дауд почувствовал тошноту и головокружение. Воздух внутри, густой и зловонный, был пропитан запахом тел, покрытых маслом и потом, и горящих факелов.
Он выпрямился и заглянул в хижину.
От стены до стены хижины знахаря простиралось море нагих тел, черных, блестящих и гибких, окутанных красноватой пепельной дымкой, языки которой поднимались до низкого потолка. Сотни туземцев стояли на коленях друг рядом с другом, согнув спины и касаясь земли лбами и вытянутыми вперед руками.
Они не видели и не слышали, как он вошел.
Они ритмично покачивались из стороны в сторону в истеричном исступлении, которое африканец испытывает в минуты высшей религиозной экзальтации, и бормотали в ритме стаккато странный гимн, гортанные и щелкающие звуки которого не были похожи ни на один известный язык. Время от времени они резко замолкали, а затем вновь начинали бормотать все громче и громче, как будто отвечали некой сатанинской литании.
В дальнем углу хижины стояли пять идолов в человеческий рост — грубо вылепленные человеческие фигуры, покрытые красной глиной. Обыкновенные игрушки речных племен.
Все это Махмуд Дауд увидел в один-единственный миг, и одновременно с тем в тот же самый миг что-то коснулось его. Это что-то не коснулось ни одного из пяти его чувств — ни слуха, ни обоняния, ни зрения, ни вкуса, ни осязания. Нет, оно коснулось его шестого чувства и заставило его ощутить слабый запах ужасной смерти, запах пыток и мук.
Но Дауд не терял рассудка. Умлино тут же появился из-за одного из идолов, окруженный звоном и блеском своих варварских украшений, но к арабу уже вернулись его прежние учтивые манеры.
— Приветствую тебя, о знахарь речных племен! — сказал он громким, но мягким голосом.
От его слов по толпе молящихся словно пробежал ток. Они подскочили, повернулись и увидели чужака. Послышались яростные гортанные возгласы, зловещий стук копий и звон широких кинжалов, выхваченных из ножен. Сплоченная черная фаланга как один ринулась вперед с бездумной, стихийной силой.
Затем они остановились в нерешительности и обернулись к умлино, словно прося его совета.
Махмуд Дауд умело использовал эту короткую заминку. Он шагнул вперед с улыбкой на своем обычно серьезном темном лице.
— Приветствую тебя, мой народ! — сказал он, протянув руки в церемонном пожелании мира.
Он медленно и величественно подошел к толпе, и они инстинктивно расступились перед ним.
Тут и там он узнавал в толпе знакомое лицо и обращался к нему по имени:
— Привет тебе, Лакага! Привет, Л’вана! Привет, сын Асафи!
И они приветствовали его в ответ.
Мгновения спустя он предстал перед знахарем, стоявшим на расстоянии полудюжины футов от идолов, покрытых глиной.
— Приветствую тебя, умлино! — повторил Дауд.
Умлино посмотрел на него. Бегающие глаза знахаря дико блестели, но этот блеск тут же сменился хитрой усмешкой.
— Приветствую тебя, господин! — учтиво ответил умлино и поклонился.
Махмуд Дауд смотрел на него. Он был фанатиком и презирал язычество и поэтому никогда не обращал внимания на знахарей, живших возле краалей и наживавшихся на слугах Д-Д. И все же Дауд был уверен, что перед ним именно новый знахарь.
Дауд мгновенно окинул его взглядом и быстрее щелчка фотоаппарата определил, что этот человек не принадлежал ни к одному из племен, что обитали в краалях близ большого бассейна Л’Попо. Без сомнения, он пришел из глубин континента. Знахарь выглядел не так, как остальные.
Его волосы были тщательно уложены в виде шлема и украшены двумя рогами антилопы. Его ноги были закрыты медными браслетами, каждый из которых вился змейкой от ступни до колена, и медные же широкие и гладкие браслеты были на его плечах. Его тело было покрыто охрой, а его лицо было закрашено слоем белой краски, на которой были нарисованы алые полоски.
Его мощную шею обвивали бесчисленные нити бус. С его пояса свисало множество амулетов, которые брякали при каждом движении. В осанке, которую приняло его огромное мускулистое тело, было нечто зловещее и, в своем дикарском роде, превосходное.
Махмуд Дауд сказал себе, что этот знахарь не был обычным шарлатаном, живущим за счет суеверий и страхов чернокожих. Он был богатым по африканским меркам. Все, что на нем было надето, в совокупности стоило несколько слоновьих бивней.
В правой руке знахаря был посох из черного дерева с золотой верхушкой. С нее свисал некий круглый предмет, напоминавший сушеную тыкву, но при рассмотрении оказавшийся человеческой головой, засушенной с почти академическим знанием дела. Дауд вздрогнул.
Нет, нет, этого знахаря нельзя было запугать или подкупить. Он был создан по подобию Чакки и Лобенгулы. Он был хитер и умен, и победить его можно было только хитростью и умом.
Махмуд Дауд заговорил, и слова его были искренни и серьезны.
— До меня дошли слухи о твоей великой силе, о умлино, — сказал он, присаживаясь на корточки с небрежным изяществом и знаком показывая собеседнику последовать его примеру. — Слава о…
Внезапно он остановился. Дауду показалось, что где-то, очень близко, приглушенный голос едва разборчиво, словно задыхаясь, прошептал его имя. Но конечно же, это было невозможно. Мгновенное наваждение и молчание Дауда длились меньше секунды, и он продолжил свою речь почти без запинки:
— Слава о твоей мудрости достигла побережья. Взгляни на меня — я пришел к тебе.
Знахарь отвечал ему в том же тоне:
— Твои слова подобны мягким ветрам в ночи, что смягчают ее ужасные часы. Благодарю тебя! Но я также слышал, что ты — магометанин, веришь в единого бога и оттого презираешь ремесло наших хижин и проповедуешь свою веру в краалях.
Араб улыбнулся. На миг он смешался и не мог решить, что сказать дальше. Доверие знахаря было безвозвратно утеряно — ведь Дауд, как истинный араб, славился своим миссионерским пылом не менее, чем своей деловой хваткой, и, сказать по правде, подкреплял свои проповеди частым и щедрым применением шамбока.
Араб замолчал на несколько секунд и оглянулся.
Вокруг была толпа чернокожих, которые разрывались между страхом перед Махмудом Али Даудом и суеверным трепетом перед знахарем. Где-то на задворках их диких и нетренированных умов было понимание, что вскоре от них потребуется решение, принятия которого туземцы подсознательно боялись.
Поэтому они озабоченно переговаривались между собой. Их неровная беседа прерывалась неожиданными паузами и гортанными криками. За короткими промежутками ощутимой тишины следовали резкие, бурные выкрики.
Араб понимал, что стоит на краю катастрофы. Одно неверное слово или движение — и лавина черных тел обрушится на него и погребет под собою. Поэтому он сидел не шевелясь и следил за толпой, прикрыв глаза. Его нервная дрожь была едва заметна.
Внезапно ему показалось, что где-то поблизости тот же глухой, придушенный голос снова позвал его.
В тот же миг Дауд почувствовал, что за ним определенно наблюдал некий посторонний разум, который одновременно умолял и требовал. Этот разум не принадлежал ни знахарю и ни одному из африканцев в толпе. Это был некий высший разум, и он пытался связаться с Даудом. Последний почувствовал беспокойство, но попытался убедить себя, что это была лишь химера, созданная его воображением.
И все же наваждение осталось.
Знахарь что-то говорил Дауду, но тот почти не слышал его слов. Повинуясь побуждению бестелесного разума, араб слегка повернулся, по прежнему сидя на корточках, чтобы видеть идолы, покрытые глиной.
Ощущение мгновенно стало сильнее и определеннее. Дауд почувствовал близость того, кто следил за ним и пытался с ним поговорить.
Он искоса, по-прежнему прикрывая глаза, взглянул на идолы, выстроенные в ряд. Те два идола, что стояли дальше всего от Дауда, были весьма грубо сделаны. А вот другие три были ужасающе правдоподобны, заметил Дауд, передернувшись от отвращения. Их туловища, руки и ноги под толстым слоем красной глины были вылеплены с исключительным мастерством. Никогда прежде не видел он подобных идолов, а он знал Африку от побережья до побережья.
Вдруг ему вспомнились бредовые слова покойного Макупо: «…глиняные боги, они говорят, говорят…» Аллах милосердный! Неужели на этой зловонной, проклятой земле и вправду умели колдовать?
Он уже приготовился щелкнуть пальцами и пробормотать молитву своему излюбленному магометанскому святому, чтобы отогнать эту мысль, как вдруг он снова услышал свое имя, произнесенное слабым, приглушенным, зловещим, неестественным шепотом. На этот раз сомнений в его истинности не было. Дауд вздрогнул и напрягся, сжав кулаки и сверкая глазами, но почти сразу взял себя в руки, прежде чем знахарь, искоса наблюдавший за ним, что-либо заметил.
Он улыбнулся умлино и заговорил с ним. Его голос был ровным и спокойным, но его мозг тем временем стремительно работал в направлении, отличном от направления его речи.
— Правду сказал ты, о умлино, — сказал Дауд. — Поистине моя вера — вера в единого Бога, она — как древо, корни которого крепки, ветви которого раскидисты и тень которого вечна. Я — сейид, что значит — потомок Пророка по линии Хусейна, и мусульманин — последователь истинного Пророка. Прибегаю к Аллаху от шайтана, отца лжи, побиваемого камнями. Субхан Аллах! Воистину, я считал себя ученым мужем, когда изучал хадисы и тафсир в университете аль-Азхар и досконально следовал писаным предписаниям великих учителей школы Абу Ханифы. Воистину, я почитал себя отцом и матерью мудрости и знания и в гордости своей увеличивал свой тюрбан. Ай валлахи!
Знахарь высокомерно усмехнулся:
— Зачем же ты пришел сюда, в жилище тьмы?
И снова ответ Махмуда Дауда был учтивым и мягким, но его ум лихорадочно работал. Он внимательно смотрел на покрытого глиной идола прямо перед собой.
— Оттого, что мой разум узрел слабый проблеск новой истины… Слабый проблеск новой истины, — повторил он с загадочным ударением, по-прежнему глядя на идола, не обращая внимания на знахаря, сидящего на корточках и незаметно кивая.
Стоило Дауду это произнести, как он понял, что разгадал тайну, которая привела его сюда. Его голос постепенно набирал силу и решимость:
— Оттого, что мои неутомимые ноги привели меня к краю тайны, оттого, что мой взгляд больше не закрыт пеленой нетерпимости, я пришел к тебе, о умлино, как твой скромный ученик в поиске истины.
Он встал, сказав себе: сейчас или никогда, и снова внимательно посмотрел на ближайшего к нему идола, а затем повернулся к чернокожим:
— Услышьте меня, о люди речных племен! Годами я был вашим господином. Доброй и щедрой рукой я отводил от вас бедствия, по честной цене покупал каучук и слоновую кость, щедро дарил вас, когда ваши посевы погибали от засухи, или ваш скот — от черной лихорадки. Может ли кто-либо с этим поспорить?
— Правду говоришь ты! — отвечал высокий щелкающий голос.
— Правду, правду! — подхватила его слова, подобно греческому хору, черная колеблющаяся масса людей.
Араб продолжал:
— Я говорил с вами о своей вере, вере ислама, которую я почитал за истинный путь к спасению. Затем, — он драматически понизил голос, — затем до меня издалека дошли слухи о новых тайнах. Сперва я сомневался. Я смеялся. Я не верил. Но слухи росли и звенели в ушах моей души, неумолимо, неотразимо. Ветер с верховьев реки шептался со мной по ночам. Он звал меня, звал! И я пришел, чтобы увидеть, чтобы услышать!
Он замолк и перевел дыхание, затем продолжал тираду:
— Я также ищу истину. Я пришел, чтобы отдать дань богам, красным богам. Они говорят, говорят!
Толпа застонала и задрожала. Знахарь снова выскочил вперед и угрожающе поднял свой жезл из черного дерева. Но араб бесстрашно продолжал:
— Трижды я слышал сегодня, сидя и обмениваясь приветствиями с умлино, как боги говорили, пусть и едва слышно, и позвали меня по имени!
— Ложь! Ложь! — возопил знахарь. — Богопротивная ложь! Убить его! Убить, убить…
Толпа пришла в беспокойное движение. Они ринулись вперед, как единое целое, зловеще стуча копьями. Но араб поднял руки над головой и быстро произнес:
— Не ложь, но истина! Спросите богов! Спросите!
Внезапно в храме наступила мрачная тишина. И в ней прозвучал едва слышный приглушенный голос, исходящий из первого идола:
— Махмуд Али Дауд! — И снова, со странным тихим всхлипом: — Махмуд…
Толпа отшатнулась назад к двери, сбивая друг друга с ног, толкая и топча друг друга. Слышались отчаянные мольбы о пощаде и крик человека, пронзенного копьем-ассегаем.
Но араб снова заговорил:
— Не бойся, о мой народ. Боги вас не тронут. Я ведь, как и вы, ищу истину — и истина мне открылась. Услышьте, услышьте!
И снова толпа остановилась и повернулась к нему. Махмуд Дауд продолжал, понизив голос:
— Помните ли вы, как за четыре месяца один за другим пропали трое моих слуг, трое моих белых слуг?
— Да, да, — ответил хор дрожащих голосов.
— Прекрасно! Покиньте хижину и возвращайтесь через час. Ибо боги в доброте своей решили вернуть им жизнь, дабы они вновь трудились для меня и правили речными племенами от моего имени. Теперь ступайте, ступайте!
В давке толпа покинула хижину, и вскоре знахарь и араб стояли лицом к лицу. Дауд улыбнулся:
— Ты знаешь, и я знаю, о пес! Воистину, ты похитил троих белых людей, заткнул им рты, покрыл их тела глиной и изредка кормил их. А когда они стонали от великой боли, ты говорил своим чернокожим, что это боги говорят, говорят! А?
Знахарь улыбнулся ему в ответ:
— Правда, господин мой. Но как тебе удалось обнаружить правду?
— Потому что я повидал множество идолов, но ни разу прежде не встречал идола с человеческими глазами!
После короткой паузы араб продолжал:
— Ты поможешь мне освободить этих людей от глиняных уз. И впредь ты всегда будешь говорить людям из большого бассейна Л’Попо, что это я, Махмуд Али Дауд, возлюбленный богов и творец множества чудес. — Он добавил вполголоса: — За это можно получить немало каучука и слоновых бивней.
Знахарь ухмыльнулся:
— Слушаю и повинуюсь, господин! Но моя жизнь — в безопасности ли она?
— Это выбирать тебе, о пес и песий сын! Либо это, — Дауд выхватил широкий арабский кинжал из вместительных складок своего бурнуса, — либо ты продолжаешь свое знахарское дело — но в верховьях реки, среди краалей в глубине материка.
Он улыбнулся:
— И колдовать ты будешь в обмен на золото как наемный слуга фирмы «Донаки и Дауд», она же
«Д-Д». Сделал ли ты выбор?
— Да, господин мой, — отвечал знахарь. — Я буду работать на тебя и твоего товарища.
Араб убрал кинжал обратно в складки бурнуса.
— Машалла! — сказал он. — Из тебя выйдет способный слуга.
И он подошел к идолам, покрытым глиной.
1929
Об авторе
Ахмед Абдулла (настоящее имя Александр Николаевич Романов) (12 мая 1881, Ялта — 12 мая 1945) — американский писатель и авантюрист, действие произведений которого происходит в самых экзотических местах — от Нью-Йоркского Чайнатауна до Индии и Тибета.
Автор сценариев нескольких фильмов. Номинировался на Оскар в 1927 году за сценарий по собственной пьесе «Чанг: Драма дикости». В 1935 году получил Оскара за сценарий фильма «Жизнь бенгальского улана». Участвовал в написании сценария знаменитого «Багдадского вора».
Сын великого князя Николая Романова и принцессы Нурмахал Дурани, дочери афганского эмира. После развода родителей, воспитывался при дворе эмира. С 12 лет учился в Итоне и Кембридже.
В 1900 году вступил в британскую армию. Дослужился до полковника. Проходил службу в Афганистане, Индии, Африке.
Эмигрировал в США, где стал успешным писателем. Его рассказы публиковали такие журналы, как Argosy, All-Story Magazine, Munsey’s Magazine и Blue Book.
Автор нескольких десятков романов, среди которых и знаменитый «Багдадский вор» (1924).
Его рассказы вошли в три сборника The Honourable Gentleman And Others (1919), Wings. Tales of the Psychic (1920) и Alien Souls (1922).
Был женат трижды: Элен Бейнбридж, Джин Уик и Розмари Долан.
Умер в Колумбийском пресвитерианском медицинском центре.






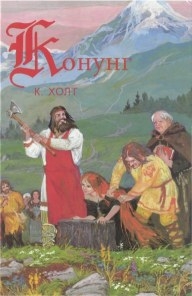
Комментарии к книге «Тайна говорящих идолов», Ахмед Абдулла
Всего 0 комментариев