Клинок эмира
Об авторе
Автор повести Георгий Михайлович Брянцев (1904-1960) родился на Северном Кавказе в станице Александрийской. В 1925 году он начал военную службу и до 1951 года находился в рядах Советской Армии. В 1942-43 гг. участвовал в партизанском движении в Брянских лесах. Неоднократно выполнял в тылу врага задания командования Брянского фронта и Орловского обкома партии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Знак Почета, медалями "За боевые заслуги", "Партизану Отечественной войны" 1 степени, "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", знаком заслуженного чекиста.
Перу Георгия Михайловича Брянцева принадлежат книги: "От нас никуда не уйдешь" (сб. рассказов), "По ту сторону фронта", "Их было четверо" (сб. рассказов), "Конец осиного гнезда", "Следы на снегу", "Клинок эмира", "Голубой пакет", "Это было в Праге", "По тонкому льду".
ПРОЛОГ
Это было в августе двадцатого года.
Эмирская Бухара доживала свои последние часы. У стен цитадели эмирата, "священной" Бухары, стояли вооруженные отряды рабочих и дехкан советского Туркестана. Бой шел вторые сутки.
Из города палили из допотопных пушек, кремневых ружей и английских винтовок. Белобородые муллы, увенчанные белоснежными чалмами, воздев руки к небу, слали проклятия на головы отступников, посмевших поднять меч на наместника аллаха на земле — великого из великих, мудрейшего из мудрейших эмира бухарского.
По паутине глухих улиц, переулков и узких, точно щели, тупиков на поджарых афганских конях метались разъяренные эмирские сарбазы[1]. Грозно размахивая обнаженными саблями, они сгоняли перепуганных насмерть горожан к одиннадцати городским воротам строить новые укрепления.
Толпы опоенных анашой[2] и обезумевших фанатиков бесновались на дворцовой площади Регистан, вокруг башни смерти и перед дворцом эмира Арком. Одни из них рвали на себе волосы и одежду, другие кричали осипшими от напряжения голосами:
— Смерть вероотступникам!
— Газават! Священная война!
Умар Максумов, бухарский чеканщик, сидел во дворе у своей крохотной глинобитной мазанки, держа на коленях шестилетнюю дочь Анзират. Крики и вопли на улице и треск беспорядочной стрельбы долетали и сюда. Девочка дрожала от страха, прижималась к широкой груди отца, плакала и испуганно лепетала:
— Боюсь… Боюсь, ата…
Не находя нужных слов для утешения, Умар крепкой и сильной рукой гладил черноволосую головку дочери.
Неожиданно к шуму боя примешались какие-то новые, незнакомые Умару посторонние звуки. Они плыли откуда-то сверху, нарастали, сгущались в странный и сплошной рокот. Этот угрожающий рокот уже покрывал многоголосый людской гул и трескотню ружей, от него мелко дребезжали оконные стекла и жалобно вздрагивала посуда, в стенных нишах.
— Это еще что такое? — подумал вслух Умар, снял дочку с колен и поставил на глиняный пол.
— А? — спросила Анзират и, широко распахнув заплаканные глаза, тоже стала прислушиваться.
Встревоженный и заинтересованный, Умар закинул полу халата, взял дочку за руку и вышел во двор. Вышел, взглянул в бездонно-лазоревое летнее небо и обмер: по нему, точно легендарные драконы, раскинув двойные неподвижные крылья и делая большие круги, плавали в воздухе костлявые птицы.
Впервые за свою сорокалетнюю жизнь Умар увидел самолеты, о которых слышал лишь краем уха, но еще не представлял, какие они собой.
Анзират, уцепившись ручонками за халат отца, смотрела испуганными глазами в небо. Она уже не плакала, не дрожала. Детское любопытство пересилило страх.
— Раз, два, три, четыре… — считал Умар летавшие чудовища.
Сотворенные из холста, фанеры и деревянных реек, разболтанные и перелатанные, прошедшие через горнило мировой и гражданской войн, изжившие все свои рабочие сроки два "Фармана" и "Сопвича", послушные воле отчаянных смельчаков, каким-то чудом держались в воздухе. Черными гирьками с них падали двадцатифунтовые бомбы и крохотные пехотные гранаты. Они гулко разрывались где-то в центре города, сотрясая все вокруг и вздымая к небу султаны огня, клубы дыма и пыли.
— Велик аллах и милосерден его пророк, — прошептал мастер. — Кажется, наступает конец света. На этот раз эмиру не удастся избежать гнева и карающей руки всевышнего… Велик аллах!
Подхватив Анзират, он бегом припустился в мазанку, захлопнул дверь и уселся на старенькие ватные одеяла, сложенные горкой у глухой стены.
Умар задумался. В Бухаре он родился, здесь босоногим мальчишкой бегал по пыльным улицам, был водоносом, раздувал самовары в чайхане, работал погонщиком верблюдов, чистил заиленные арыки, мочил кожи в вонючих ямах. Бухара кишмя кишела сиротами, нищими и больными. Болезнь миновала Умара. Но нищета и сиротство едва не сгубили его юность.
Еще в детстве он потерял родителей — они умерли от холеры, — и мальчик долгие годы добывал себе сухую лепешку и пиалу зеленого чая случайной работой на задворках бухарского базара, пока не попал наконец в темную лавчонку старого чеканщика Юсупа.
Став юношей, Умар уже чеканил по меди, серебру и золоту не хуже старых известных мастеров и резал по металлу такие затейливые, тонкие узоры, что слава о молодом ремесленнике распространилась по всей Бухаре. Умара признали. А если уж бухарские знатоки признавали мастера, значит, признавал его и весь мусульманский Восток. О чеканщике Умаре, сыне Максума, заговорили в караван-сараях Хивы и Самарканда, Ферганы и Хорезма.
Дошла эта слава, на горе Умара, и до ушей повелителя Бухары — великого эмира. Воистину мудра старая поговорка: да охранит аллах козленка от ласки коршуна…
Нет числа эмирским прихотям. Посыпались на молодого мастера приказания, требования, выдумки — одна труднее другой, заказы — один сложнее другого. И все спешно, все немедленно! Эмир и его приближенные были нетерпеливы. Не раз отведал Умар палок по пяткам, плетей по спине и прелестей страшной клоповной ямы за задержку работы, неосторожное слово или недостаточно почтительный поклон. Однажды палачи грозного эмира уже сорвали было халат с плеч Умара и приготовились отрубить ему голову: эмир вознегодовал на чеканщика, увидев как-то за поясом одного из ханов кинжал с точно такой же насечкой, какую месяцем раньше Умар сделал для эмира. Повелитель Бухары был ревнив, удачная выдумка мастера могла принадлежать только ему и никому больше…
Тянулись годы, а порабощенный мастер ночами при жалком свете коптилки гнул спину над резьбой по золоту и серебру, украшал бирюзой, рубинами и эмалью тончайшие узоры на широких подносах и блюдах, делал затейливые рисунки на саблях и кинжалах.
Из рук Умара выходили бесценные сокровища подлинного искусства, а получал он за них несчастные гроши.
Вбежавший в мазанку чумазый подросток спугнул думы Умара. Парнишка был бос и одной рукой поддерживал на ходу рваные ситцевые шаровары.
Умар узнал паренька. Это был круглый сирота, четырнадцатилетний Саттар Халилов, работник важного эмирского чиновника Ахмедбека.
Саттар подошел вплотную к Умару, перевел дыхание, шмыгнул носом и выпалил:
— Меня послал к вам, ата, Бахрам. Он велел сказать, что приедет сейчас вместе с Ахмедбеком, Уже седлает коней!
Умар не шевельнулся, не удивился. Кто только не посещал его убогую мазанку!
Прищурившись, он пристально поглядел в отчаянно-озорные глаза мальчонки. Только они, эти черные как угли глаза, говорили о том, что в этом худом, изможденном, не знающем отдыха, пропеченном азиатским солнцем и покрытом грязью теле ключом бьет неистребимая молодая жизнь.
— Проведи гостя в комнату к тетушке Саодат, — серьезно, как к взрослой, обратился Умар к дочке. — Пусть она покормит его вчерашним пловом. Там, кажется, осталось.
Анзират озабоченно сдвинула брови, закусила нижнюю губу и, взяв гостя за руку, провела через узкую дверь.
Умар вышел во двор. Звуки боя стихали. Перестали ухать пушки. Лишь изредка хлопали одинокие винтовочные выстрелы. Умар устало полузакрыл глаза и не поднял век, даже заслышав дробный стук копыт в переулке.
Вскоре над глиняным дувалом показались чалмы трех всадников. Окруженные клубами пыли всадники остановились у ворот. Двое спешились и вошли во двор. Умар не спеша направился им навстречу. Впереди крупно шагал грозный Ахмедбек. Это был немолодой рослый и широкоплечий человек с короткой черной бородой, подбритой вокруг горла, и горбатым хищным носом. От пронзительного взгляда его будто раскаленных черных глаз у любого встречного холодок пробегал по спине. По пятам Ахмедбека шел его верный телохранитель Бахрам, мордастый и лоснящийся от жира детина.
Бахрам вырядился в голубой жандармский мундир с разнопарными эполетами, обшитый какими-то немыслимыми позументами, в ярко-красные просторные шаровары с широченными золотыми лампасами и щегольские офицерские сапоги из мягкого шевро с длинными шпорами. На левое плечо его свисал длинный конец огромной желтой чалмы. В руке он держал тяжелую камчу[3] с таким видом, будто только и ждал, чтобы пустить ее в ход.
— Салям алейкум! — хмуро приветствовал мастера Ахмедбек.
Умар склонил голову в поклоне, поцеловал полу золотистого халата бека и, следуя обычаям предков, пригласил знатного гостя в дом.
— Рахмат! Спасибо! — проворчал Ахмедбек. — У нас не так много свободного времени, чтобы заходить. Мы по делу.
Он снял с себя дорогую саблю и подал ее Умару. Потом достал лоскуток бумаги и тоже отдал ему.
Умар вгляделся в лоскуток: на нем были нарисованы пять человеческих черепов и затейливо написаны арабской вязью несколько букв и цифр.
— Все, что здесь изображено, надо перенести на клинок. Выбери сам, куда удобнее и незаметнее. К утру все должно быть готово. И ни один глаз не должен видеть, никто не должен знать… Молчи и забудь навеки, не то… — и Ахмедбек скрипнул зубами.
Не считая нужным выслушать ответ мастера, он кивнул и ушел. За ним, позванивая допотопными шпорами, последовал Бахрам.
Ахмедбек понимал: бумажку трудно спрятать и легко потерять. Она может размокнуть в воде и расползтись. Она может сгореть. Она, наконец, в трудный момент может обратить на себя внимание, особенно при задержании и обыске, и тогда придется объяснять то, что на ней изображено и что надо хранить в строжайшей тайне. А клинок — иное дело. Клинок — личное оружие каждого знатного джигита. На нем столько украшений и рисунков, что едва ли кто обратит внимание на какие-то черепа, буквы и цифры.
Ахмедбек отлично понимал все это, а Умар — нет. А быть может, и он понимал, но молчал…
Через минуту, подняв пыль в переулке, всадники скрылись.
Умар вернулся в мазанку и сел за низенький столик под окном, заваленный различными инструментами. В дверях показались Анзират и Саттар. Вытирая сальные после еды губы, они заговорщически переглянулись и встали по обе стороны мастера.
Умар в задумчивости держал в руках саблю Ахмедбека.
— Умар-ата! — нерешительно заговорил Саттар. — Ахмедбек позвал вас на войну и подарил эту саблю?
Мастер усмехнулся:
— Нет, дружок! С этой саблей Ахмедбек не расстанется. Она пожалована ему самим эмиром Саид Алимханом. А война… Пусть он сам воюет за эмира. Обойдутся без меня.
— Хорошая сабля, — заметил Саттар. — Я видел ее в доме Ахмедбека, когда помогал выбивать пыль из ковров. Она висела в его комнате.
Сабля и в самом деле была хороша. Вызолоченные блестящие ножны обвивала полоска голубой эмали. Эфес был выточен из слоновой кости лимонного цвета и венчался головой дракона с рубиновыми глазами. Перекрестье смотрело вниз серебряной головой Медузы Горгоны, обвитой змеями.
— Все дело тут в клинке, — тихо проговорил Умар.
— Покажите, пожалуйста, Умар-ата, — попросил Саттар. — Я не видел клинка. Хотел один раз вынуть его и посмотреть, а сын Ахмедбека Наруз накинулся на меня с кулаками.
Умар взялся за эфес, вытащил клинок и подал его парнишке.
— Смотри, — сказал он.
Клинок был странный: лишь чуть-чуть поуже ножен и весь покрыт чернью по серебру. Серебряный клинок? Но таких не бывает! На конце он расширялся наподобие турецкой елмани.
Саттар внимательно оглядел оружие и презрительно скривил губы.
— Что, не нравится? — с усмешкой спросил Умар.
— Им и не зарубишь… Смотрите, совсем тупой, — и парнишка провел пальцем по лезвию. — Его отточить надо.
— А это и не клинок, — рассмеялся Умар.
— Как не клинок?
— А вот так. Это — вторые ножны. Дай-ка сюда! Тут секрет есть. Гляди…
Умар нажал пальцем на едва заметную в голове дракона пластиночку и быстро выхватил из ножен уже настоящий клинок. Тонкий, гибкий, змеевидный, он блеснул в руке, подобно голубой молнии.
Глаза у Саттара округлились. Он стоял, полуоткрыв рот, очарованный чудом.
Умар ласково провел рукой по клинку, разделанному под синь, покрытому жемчужно-матовым орнаментом и тонкой золотой насечкой.
— Турки, видать, этот клинок делали, — проговорил Саттар. — А сталь, видно, дамасская. Бахрам говорил, что в Турции большие мастера есть.
— Ничего твой Бахрам не понимает, — ответил Умар. — А я вот что скажу тебе: делал этот клинок урус, великий мастер Иван Бушуй. Есть железные горы в России — Урал. А в тех горах — город Златоуст. Вот в городе железных мастеров Златоусте и жил Иван Бушуй. Он давно уже помер. А какой был мудрый мастер! Какой булат варил он! Получше дамасского. Он варил булат и струйчатый, и букетный, и полосовой, и волновой. Всякий. И клинок он выковал. А я рисовку делал, чеканил. Видишь, какая? Каждую золотую ниточку разглядеть можно. Рукоятку тоже я резал, по заказу эмира. Потом клинок отвезли в Стамбул, и тамошние оружейники сделали к нему первые ножны, а в Дагестане, в ауле Кубачи, вторые. И получился клинок с секретом. А ты говоришь — Бахрам, Бахрам! Что толку в твоем Бахраме…
Саттар молчал, не отводя взгляда от клинка. Немного погодя он спросил:
— Умар-ата! А зачем бек привез вам клинок?
— Тебе все надо знать? Плов поел?
— Ага.
— А теперь беги домой! Я тут и без тебя разберусь.
Анзират примостилась по левую руку отца на полу и молча стала наблюдать за его работой.
Умар выполнил заказ в срок. Но за клинком никто не явился.
С наступлением темноты битва закипела с новой силой. Кровавый бой у городских стен гремел всю ночь, а когда в небе растворились последние звезды, горожане увидели над эмирским дворцом развевавшееся на ветру красное полотнище.
Эмиру бухарскому Саиду Алимхану удалось бежать от мести народа. Его сопровождала личная свита и в ее составе Ахмедбек со своим телохранителем Бахрамом.
За эмиром тянулся обоз. Верблюды и арбы были нагружены бесценными сокровищами.
Ахмедбек в спешке забыл не только клинок, который остался у чеканщика Умара Максумова, но и единственного наследника — сына, тринадцатилетнего Наруза Ахмеда.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Однажды ранней весной тридцать первого года, когда торговый инспектор Наруз Ахмед, собираясь в очередную командировку, торопился домой, чтобы захватить кое-что на дорогу, в одном из кривых переулков путь ему преградил незнакомый старик. Седая борода его простиралась до поясного платка, сухая маленькая голова, отяжеленная пышной чалмой, тряслась, запавшие глаза, спрятанные в морщинах, кололи, точно острое шило. В руке он держал длинную суковатую палку.
— Да обессмертит аллах твое имя, благородный Наруз Ахмед! Да ниспошлет он тебе здоровья, да продлит до бесконечности твои годы, — проговорил старик дребезжащим голосом.
— Здравствуйте! — удивленно ответил Наруз Ахмед, настороженно всматриваясь в незнакомое лицо. — Откуда вам известно мое имя?
— Твое имя известно мне, и я произношу его с благоговением…
Что-то отдаленно знакомое мелькнуло в памяти Наруза Ахмеда, но он не хотел заводить разговор с этим странным и подозрительным старцем.
— Не говорите загадками, эта. Я вас не знаю.
— Меня ты мог забыть, но не может сын забыть отца, храбрейшего из храбрых Ахмедбека.
Наруз Ахмед вздрогнул и машинально оглянулся.
— Тсс… — строго предупредил он и приложил палец к губам. Теперь он понял, зачем обратился к нему старик. — Кто разрешил вам тревожить покой умерших? Зачем вспоминать тех, кто по воле всевышнего покинул нас, грешных?…
— Пути аллаха неисповедимы. Забудем это имя, да живет оно в веках, тут старик хихикнул, и бесчисленные морщинки на его сухом и желтом, как пергамент, лице мгновенно зашевелились, запрыгали.
— Но я тебя с трудом узнал. Ты стал другой. Другая одежда…
— Одежду можно сменить, — прервал его Наруз Ахмед, — а сердце никогда…
— Мудрые слова. Приятно слышать ответ, достойный правоверного, одобрил старик и тихо добавил: — Ты должен быть там, где скучает в одиночестве твоя вторая жена. И чем скорее, тем лучше.
Сказав это, он оставил Наруза Ахмеда и, шаркая каушами[4] и постукивая палкой, медленно побрел своей дорогой…
Сын грозного Ахмедбека, двадцатичетырехлетний Наруз Ахмед, чувствовал себя при советской власти не так уж плохо. Никак нельзя было сказать, что прошлое отца сильно обременяло его и как-то отрицательно сказывалось на его жизни. Совсем нет. Оставшись после бегства отца подростком, Наруз был взят на воспитание родным дядей, человеком преклонных лет и великой хитрости, бывшим мударрисом[5] бухарского медресе[6]. Дядя приложил все силы и терпение к тому, чтобы из тринадцатилетнего сына бека, прожившего детство в неге и изобилии, сделать вполне современного человека.
Дядя поставил его на ноги и, можно сказать, вывел в люди.
Наруз Ахмед закончил школу второй ступени, годичные курсы торговых работников и вот уже несколько лет небезуспешно справляется с хлопотливыми обязанностями разъездного инспектора республиканского союза потребительской кооперации.
Наруз Ахмед слыл за энергичного, напористого и инициативного работника. На ишаках, верблюдах, автомашинах и поездах он носился по всей республике, заглядывая в самые глухие места, где только имелись магазины, лавки и заготовительные базы кооперации.
Старательно и придирчиво проверял он работу завмагов, кассиров и кладовщиков, непреклонно требовал отстранять от работы нерадивых и предавать суду вороватых. Он не знал жалости, составлял акты, строчил докладные, гремел горячими речами на собраниях и заседаниях. С ним считались и его боялись. Он был на виду. Он был в передних рядах.
Да и время было такое, что стоять в сторонке и работать с ленцой считалось неудобным.
На землях советской Средней Азии образовались три союзные республики: Узбекская, Туркменская и Таджикская. Невиданно росли и ширились посевные площади под белое золото — хлопок. Советский Союз в самое короткое время должен был покончить с зависимостью от зарубежных королей хлопка; в стране строились огромные текстильные фабрики и комбинаты. И люди трех солнечных республик были захвачены большими планами, горячей работой, великими надеждами.
Труженики-дехкане спорили, думали, примерялись и объединяли хозяйства в коллективные артели. Чайрикеры — безземельные крестьяне-издольщики получали самые лучшие земли. Мелиораторы и ирригаторы обводняли древнюю сухую землю, проводили каналы, орошали пустыни, поднимая миллионы кубометров нетронутой земли. Водхозовские разведчики закладывали и бурили скважины в пустыне. Геологи рылись в земных недрах. Дорожники перекидывали мосты через дикие ущелья, покрывали асфальтом сотни километров дорог.
На карте возникали новые названия, бывшие кишлаки превращались в города. На жгучем песке степей пестрели сотни парусиновых палаток, войлочных кибиток, глиняных мазанок, дощатых времянок и бараков. Тысячи энтузиастов стекались сюда, в знойную Азию, на помощь братьям — узбекам, таджикам, туркменам. Тут можно было встретить человека из любого уголка страны: с берегов Балтики и Черного моря, из суровой Сибири и ласковой Украины, из городов Подмосковья и Закавказья. По дорогам пылили неуклюжие грузовики, по пустынным тропам, заунывно побрякивая колокольцами, тянулись длинные караваны верблюдов. И везде на самом видном месте, подобно полковому знамени, красовались почетные доски, разделенные на две части: красную и черную. Да, время было горячее, и человек, который вздумал бы отсидеться в сторонке, сразу бросился бы в глаза…
Через полчаса Наруз Ахмед достиг дома, через час, сменив обычную одежду на халат и прихватив полевую сумку с бумагами, отправился в путь. А ровно через двое суток он въехал на усталом коне через узкую калитку во двор, закрытый со всех сторон высоким глиняным дувалом.
Возле калитки, по обе стороны дорожки, росли два старых развесистых ореховых дерева. Дорожку окаймлял ровно подстриженный вечнозеленый кустарник. Чуть поодаль, справа, возвышался каштан, опоясанный круглой деревянной скамьей с отлогой спинкой. Посреди двора пестрела ранними цветами круглая клумба. А по левую руку, прильнув вплотную к дувалу, стоял длинный приземистый дом с плоской земляной крышей. На крыше ярко цвели фонарики желтых тюльпанов. Четыре окошка дома смотрели во фруктовый сад, который пенился сейчас в бурном белоснежном цветении.
Никто — ни в центре республики, ни в городе, ни в районе — даже не подозревал, кому фактически принадлежит эта усадьба в небольшом, удаленном от жилых мест, затерявшемся в горах кишлаке.
По исполкомовским документам она считалась собственностью дехканина-середняка. Но подлинным ее владельцем был сын эмирского придворного Ахмедбека молодой Наруз Ахмед. Тут жили его мать, вторая жена (первая была в городе) и юридический "хозяин" усадьбы со своей женой. Он совмещал в своем лице обязанности домоуправителя и садовника, являясь в то же время самым преданным и верным человеком Наруза Ахмеда.
Едва Наруз Ахмед успел спешиться, как бог весть откуда выскочил садовник, подбежал к нему, рассыпался в приветствиях, приложился к халату хозяина и, подхватив коня под уздцы, застыл в ожидании распоряжений.
Наруз Ахмед снял с себя халат, стряхнул с него пыль и бросил на седло.
— Кто-нибудь спрашивал меня? — спросил он садовника.
Тот отрицательно закачал головой.
— Расседлай коня и приходи сюда, — приказал Наруз Ахмед.
Размяв скованные долгой ездой ноги, он прошел к каштану и уселся на скамью. Откинувшись на спинку, Наруз Ахмед стал сосредоточенно смотреть в изжелта-серое высокое небо, где по воображаемой спирали, отыскивая добычу, парил стервятник.
Наруз походил на уменьшенную, "мелкомасштабную" копию своего отца. У него было такое же узкое, удлиненное лицо, такие же тонкие с изломом губы, такой же нос с хрящеватой горбинкой и косо прорезанные навыкате глаза. Только все это помельче, похудее, поуже.
Когда садовник вернулся и встал перед хозяином, между ними произошел короткий разговор:
— Сколько подготовлено? — спросил Наруз Ахмед.
— Девять.
— Так мало?
Садовник объяснил, что в кишлаке остается не больше, и то самые одряхлевшие, а лучшие забраны на стройку канала.
Наруз нахмурился. Объяснение, видимо, не удовлетворяло его.
— А где эти девять?
— В долине.
Некоторое время он что-то обдумывал, постукивая концом плети по пыльным голенищам, потом сухо произнес:
— Подготовь двух к вечеру. Я пойду к себе, отдохну. Если кто будет спрашивать меня, проведи в мою комнату, но так, чтобы никто не видел.
— Все будет сделано, хозяин, — заверил садовник.
Наруз Ахмед прошел в дом, повидался с матерью и женой, долго управлялся с большим блюдом горячего жирного плова, выпил несколько пиал светлого зеленого чая и улегся спать.
Когда на дворе стемнело, кто-то тронул Наруза за плечо. Он спал чутко и тотчас вскочил. Перед ним, покрытый с головы до ног пылью, стоял рослый, обросший густой рыжей щетиной человек в длинном теплом халате, за ситцевым кушаком которого торчала рукоятка плетки.
Наруз Ахмед пристально всмотрелся в лицо гостя, черты которого напоминали ему кого-то, и вдруг радостно воскликнул:
— Бахрам-ака?!
— Я, я… А ты уже совсем мужчина. Джигит! Смотри, что сделали одиннадцать лет. И вылитый отец!…
— Ну, говори, рассказывай, — торопил обрадованный хозяин, поспешно одеваясь.
— Расскажу все в дороге. Собирайся!
— А есть не хочешь? Может, поедим?
— Хочу, но время не ждет. Перехватим на ходу.
Не прошло и десяти минут, как два всадника выехали из безмолвного кишлака и стали медленно подниматься в гору по извилистой каменистой тропе.
2
— Нет! — тряхнул головой юноша и облизал разбитые в кровь губы. — Нет и нет! — повторил он.
Парень стоял связанный по рукам и ногам. Его поддерживали с обеих сторон два дюжих басмача. На сатиновой косоворотке юноши с разодранным воротом алел кимовский значок.
Перед ним, шагах в трех, на округлом камне-валуне сидел широкоплечий чернобородый и горбоносый курбаши[7]. Он холодно смотрел на пленника, полуприкрыв тяжелые веки.
Дело происходило ранним утром в узком и глубоком безводном ущелье. Лучи поднявшегося солнца сюда еще не проникли. Вокруг возвышались дикие скалистые нагромождения, грозные и молчаливые в своем окаменелом раздумье.
— Глупец! — с усмешкой бросил курбаши. — Тебе неведомо, какая новая судьба ждет тебя и твой народ. Ты подобен слепцу. Ты видишь лишь то, что у тебя под носом.
Комсомолец угрюмо молчал, сплевывая кровь.
— Скоро на эту землю, — продолжал курбаши, топнув мягким сапогом, придет священная армия воинов, старых, истинных хозяев. Они изгонят с нашей земли всех вероотступников, уничтожат всех большевиков. Они сурово накажут тех, кто поддался на безбожную агитацию коммунистов и записался в колхозы. Они восстановят священную власть эмира бухарского. И горе тому, кто не захочет встать под зеленое знамя армии ислама. Ты слышал о таком воине, как Ибрагимбек?
Комсомолец усмехнулся и ответил:
— Как же не слышать! Все зовут его Ибрагимом-локайцем, бандитом, конокрадом. Какой он воин! А ты слышал такие имена, как Кизилхан, Кур-Ширмат, Мадаминбек, Азизхан, Ашимбай-Керим, Аман-Палван?
Да, эти имена были знакомы курбаши. Больше того, почти всех он знал и видел. Это были такие же, как и он, главари басмаческих шаек. Но курбаши предпочел дипломатично промолчать.
— Молчишь? — повысил голос комсомолец. — Они, как и ты, говорили: "Всех изгоним, всех уничтожим, всех накажем". А что стало с ними? Забыл? Я тебе напомню: их поганые кости, обглоданные шакалами, разбросаны в песках. То же ждет и твоего Ибрагима. То же ждет и тебя.
Глаза курбаши почти совсем закрылись. Стоявшие за его спиной басмачи глухо зароптали. Один из них, худой и высокий, шагнул было к юноше с тяжелой камчой в руке, но, остановленный жестом курбаши, попятился назад.
— Глупец! — еще раз повторил курбаши. — Ничтожный ты человек. Упрямство обойдется тебе дорого. Ты говоришь чужим языком, мальчишка, а я требую, чтобы ты заговорил своим.
— Я говорил языком человека, а не эмирского раба, — отрезал юноша.
— Я обещаю тебе сохранить жизнь. Ты еще молод. У тебя есть отец, мать и, наверное, любимая. Что из того, что ты загубишь свою жизнь и опечалишь их? Кому от этого польза?
— Я все время думаю о пользе для них и для всех честных мусульман, поэтому не трать лишних слов…
— Подумай! — предупредил курбаши. — Я требую от тебя немногого. Скажи, что было написано в той бумажке, которую ты вез на погранзаставу и проглотил?
Юноша молчал.
— Думай быстрее! — напомнил курбаши.
— Мне спешить некуда. Это тебе следует торопиться. Вот наши нагрянут…
— У тебя длинный язык, — прервал его курбаши. — Смотри, я могу его укоротить.
Юноша усмехнулся и сказал:
— Наши языков не режут, а вот голову тебе отхватят, как бешеной собаке.
Басмачи загудели, стали плеваться и с нетерпением поглядывали на своего главаря. Неужели он и это стерпит?
— Верблюжий ублюдок, — процедил сквозь зубы курбаши и поднялся с камня. Сжимая в руке плеть, он сделал шаг вперед, но в это время к нему подбежал мирза[8] банды Хаким и, не переводя дыхания, доложил:
— Едут… Двое едут… Бахрам и другой… молодой.
Курбаши оглянулся. Из горловины ущелья, приближаясь к лагерю басмачей, скакали два всадника. Один из них был Бахрам, другой — Наруз Ахмед.
— Да, это он, — тихо, только для себя, промолвил старый курбаши, и на короткое мгновение что-то человеческое и давно забытое шевельнулось в его груди. — Он… он…
Всадники спешились и, оживленно переговариваясь, направились к курбаши. Не доходя шагов десяти, Наруз Ахмед вдруг остановился. Он пристально взглянул на басмаческого главаря, как-то сгорбился, и из уст его сорвался крик:
— Отец! Отец!
Он стремительно подбежал к курбаши и бросился в его простертые руки. Старый курбаши Ахмедбек (а это был он) обнял сына, похлопал его по спине, отступил на шаг назад, окинул пытливым взглядом и сказал:
— Палван![9]
Наруз отвел в сторону лицо с внезапно увлажнившимися глазами. Нет, не напрасно он день и ночь думал об отце. Не напрасно втайне гордился тем, что в его жилах течет кровь такого человека! Не напрасно верил в возвращение отца. И вот отец стоит перед ним, такой же крепкий, сильный, без единой сединки в бороде. И глаза его, как и тогда, одиннадцать лет назад, смотрят открыто, смело, по орлиному. Так вот почему помалкивал хитрый Бахрам и не говорил о том, кто ждет их в ущелье. Подарок! Да какой еще подарок!
Под шушуканье и одобрительные возгласы басмачей отец и сын отошли в сторонку и уселись на камнях.
Несколько мгновений они молчали, удивленно и радостно разглядывая один другого. Первым начал разговор Ахмедбек. Он стал подробно расспрашивать сына, где и как живет он, в чем состоит его работа, поинтересовался семейными делами Наруза и, наконец, спросил, жива ли мать.
Подошел Бахрам, опустился на землю, попросил закурить.
— Бек, — сказал он, затягиваясь дымом. — Твой человек ждет приказа.
Курбаши повернул голову. Невдалеке стоял высокий и тонкий, словно жердь, басмач, прозванный в банде насмешливым именем Узун-кулок — "Длинное ухо", — и нетерпеливо топтался на месте.
Ахмедбек прервал беседу и приказал человеку подойти.
Тот торопливо подбежал, скользнул быстрым взглядом по лицу Наруза Ахмеда и обратился к курбаши:
— Как велишь, господин, поступить с верблюжьим ублюдком?
Ахмедбек блеснул глазами и тотчас опустил веки.
— Я должен знать, что было написано на той бумажке, которая лежит в его желудке. Вытащи ее, — спокойно произнес он, будто речь шла о том, что бумажку следовало вытащить из кармана или тюбетейки.
— Все будет исполнено, господин, — басмач почтительно склонил голову, приложил руку к груди и удалился.
Прерванная беседа возобновилась.
Ахмедбек поинтересовался, был ли предупрежден кем-либо сын о необходимости подготовить лошадей.
— Да, был. В кишлаке Обисарым девять молодых объезженных лошадей отдыхают на выпасе в долине.
— Воробей на завтрак льву… — заметил курбаши.
Наруз объяснил, что в ближайшее время нет никаких надежд достать коней, так как все они взяты на строительство канала.
Вдруг страшный, нечеловеческий вопль огласил ущелье. Наруз вздрогнул.
— Что это? — с опаской спросил он, смотря в сторону лагеря.
— Ничего особенного, — успокоил его отец. — Узун-кулок делает операцию. Он у меня хирург.
Только сейчас Наруз Ахмед понял смысл приказа курбаши. Невдалеке несколько человек, навалившись на пленного, дико визжа и изрыгая проклятия, прижимали к земле его голову, руки и ноги. Узун-кулок действовал огромным ножом. А человек продолжал кричать так страшно, что у Наруза ослабли ноги и лоб покрылся испариной.
— Ты помнишь чеканщика Максумова? — спросил между тем отец. — Умара Максумова?
— Что? — переспросил Наруз Ахмед, ошеломленный невиданным зрелищем. Ему хотелось заткнуть пальцами уши, чтобы не слышать предсмертного крика, проникающего в душу, мозг и сердце.
Ахмедбек терпеливо повторил свой вопрос.
— Помню… как же… — рассеянно ответил Наруз Ахмед и скосил глаза в сторону крика.
— Где он? — полюбопытствовал Ахмедбек.
— Все там же, в городе… Я встретил его как-то… Примерно месяц назад. Постарел… седой весь… а бороду сбрил… — Он вновь посмотрел туда. Басмачи, тесно обступив что-то, хохотали.
Пленный уже не кричал. Он умолк навсегда и лежал недвижимо. Стоя над ним на коленях, Узун-кулок спокойно орудовал своим ножом.
— Чеканщика Умара надо отыскать живого или мертвого, — твердо продолжал Ахмедбек, — Он присвоил мой клинок.
— Клинок?
— Да! Клинок, который пожаловал мне эмир Саид Алимхан. Ты должен помнить этот клинок. Он висел на ковре в большой комнате.
— Помню, — сказал Наруз Ахмед, и в памяти его действительно всплыли из далекого детства и просторная, прохладная комната, и большой багровый ковер на стене, а на нем — сабля с позолоченными ножнами, сверкающая солнечными зайчиками. — А ты знаешь, кто сейчас живет в нашем доме? — спросил он.
Ахмедбек сделал неопределенный жест рукой. Нет, это его не интересовало.
— Ты должен найти Умара и взять клинок. Отобрать, чего бы это ни стоило! А потом передашь мне. В этом клинке кроется большая тайна. Ее знают лишь два человека: я и Ахун-ата, твой первый учитель. И ты узнаешь эту тайну, как только придет Ибрагимбек.
— А почему он медлит? — поинтересовался Наруз Ахмед.
Брови курбаши недовольно сдвинулись. Его начинало раздражать легкомыслие сына. Ему говорят о клинке, а он спрашивает об Ибрагимбеке!
— Ты понял, что я сказал? — строго спросил курбаши.
— Конечно, понял, отец! Клинок я добуду. Добуду и спрячу. Но почему ты не хочешь сказать, когда придет Ибрагимбек?
— Ибрагимбек ждет моего сигнала, а время еще не подошло. Надо поднять людей. Сотни, тысячи, десятки тысяч людей. Надо отыскать и обеспечить надежные переправы. У Ибрагима армия. И создана она не для того, чтобы погибнуть при переходе границы. Ибрагимбек должен переправиться со своими воинами без боя, внезапно. А это не так просто. Со мной пошли сто двадцать джигитов, а уцелели семьдесят. Пятьдесят легли под пулями аскеров[10] с пограничной заставы…
Ахмедбек умолк. К нему вприпрыжку приближался Узун-кулок. На его лисьей физиономии, поросшей редкой, точно пух, растительностью, играла довольная улыбка. С вымазанных костлявых рук капельками стекала кровь. Подойдя вплотную к курбаши, он молча протянул левую руку, разжал пальцы, и на узкой ладони его оказался небольшой, облепленный слизью комочек бумаги.
Ахмедбек всмотрелся в него, сощурил глаза и сказал сыну:
— Разверни и прочти.
Что-то вроде судороги пробежало по телу Наруза Ахмеда. Преодолев чувство гадливости, он осторожно, кончиками двух пальцев снял комочек с ладони басмача, положил его на гладкий камень и, взяв в другую руку маленькую гальку, разгладил бумажку. На ней были написаны десять строк по-русски мелким, убористым и разборчивым почерком. Но некоторые буквы разбухли, расползлись, а последняя фраза слилась в сплошное пятно.
Наруз Ахмед прочел:
"Одна партия бандитов, около сорока человек, оторвалась от преследования и ушла в пески. Вторая — примерно десятка три — скрылась в горах. Завтра в распоряжение вашей заставы подойдут два отряда. Отряд ОГПУ, усиленный краснопалочниками…" — Наруз Ахмед умолк. Напрягая зрение, он всматривался в окончание записки, но ничего разобрать не мог. — Дальше непонятно, — сказал он.
Ахмедбек нахмурился. Два отряда. Это не шутка. У них пулеметы, а чего доброго, и пушки. Да и бьются они, по совести говоря, лучше его джигитов. Если стреляют, так без промаха, если рубят, то наповал. Он при переправе потерял пятьдесят голов, а пограничники — самое большее полдюжины. Надо предупредить Ибрагимбека.
— Ступай, — сказал курбаши палачу.
Когда тот удалился, Ахмедбек вынул из-за пазухи новую, еще не утратившую запаха типографской краски карту и расстелил ее на земле между собой и сыном.
— Смотри сюда, — проговорил курбаши, тыча в какую-то точку черным пальцем. — Видишь этот мазар[11]? Сюда пригонишь своих лошадей. Там таятся два десятка джигитов. Их проворонили аскеры в зеленых фуражках, А вот у этого колодца ты можешь найти моих людей. Они укажут, где я. Это на всякий случай. А та партия, о которой идет речь в записке, направилась в пески. На днях я соединюсь с ней. Понял? — И свернув карту, он водворил ее на прежнее место.
Наруз Ахмед кивнул.
— Скоро придет сюда отряд курбаши Мавлана. Он побольше моего…
Наруз вторично кивнул.
— Теперь поезжай, сын мой, и ищи клинок. Бахрам поможет тебе. Он надежный человек. Прощай!
3
Наруз Ахмед постучал в калитку на окраине старой части Бухары. В ответ послышался сиплый сердитый лай. Через секунду собака, задыхаясь от ярости, уже царапалась в калитку и металась вдоль дувала. Наруз попытался заглянуть во двор, но дувал был намного выше его роста, а вырезанная в нем калитка не имела щелей.
Стучать вторично не пришлось.
— Хан! На место! — раздался звонкий женский голос, и собака умолкла.
"Хан… Надо же придумать, — возмутился Наруз Ахмед. — Издевка какая-то. Ну ничего, она дорого обойдется выдумщикам".
Щелкнула задвижка, и в проеме калитки показалась девушка. По груди и плечам ее вилось множество тоненьких косичек. Короткое светлое платье из легкой ткани, сшитое по-европейски, обрисовывало стройную фигуру девушки. Она была очень молода и на редкость хороша.
— Здесь живет Умар-ата? — спросил Наруз Ахмед.
— Да, это его дом, — последовал ответ.
— Я могу его видеть?
Девушка отрицательно покачала головой, внимательно всматриваясь в гостя: его лицо ей было незнакомо.
— Почему? — спросил с улыбкой гость.
— Отца нет, — ответила она.
— Жаль. А когда его можно застать?
— Не знаю. Он с добровольцами гоняется за басмачами. Вы знаете, что появились басмачи?
Наруз ответил, что слышал, но не придает значения этим обывательским слухам. Чего народ не болтает… Возможно, что это очередная базарная сплетня.
— Нет, это не сплетня, — возразила девушка. — Это правда. Три дня назад в нашей махалле[12] было собрание, и там говорили: басмачи напали на колхоз, убили несколько колхозников, захватили лошадей, продукты.
— Печально, если так, — проговорил Наруз и подумал: "Значит, отец уже действует". Он ждал, что девушка пригласит его в дом, но этого не случилось. — Очень жаль, что не застал вашего отца. Придется зайти еще раз…
Девушка молчала.
— До свидания…
— До свидания… — бросила девушка, и калитка захлопнулась.
План сорвался, пока проникнуть в дом чеканщика не удалось. В раздумье Наруз шел по улице, не зная, что предпринять. Вполне возможно, что заветный клинок где-то рядом и ждет… Стоит только войти в дом и взять его. Что может быть проще! И в то же время как сложно. А она красива… Слов нет красива! А как стройна… И совсем юная. Ей самое большее — лет семнадцать. Она могла бы украсить ичкари[13] самого разборчивого мужчины… Пожалуй, и покойный эмир не отказался бы от такой наложницы. Хороша! Чертовски хороша…
Занятый этими мыслями, Наруз Ахмед не заметил, как дошел до дома Союза кооперативов.
Он остановился, нерешительно взглянул на подъезд и потер лоб.
"Что ж, сегодня не удалось, но откладывать нельзя…" Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, он твердо решил сегодня же обдумать, как лучше раздобыть клинок и, кстати, поразмыслить о будущем этой юной красавицы.
В коридоре Наруза Ахмеда окликнул заведующий инспекторской группой Алиев.
— Наруз-ака!
Наруз Ахмед обернулся и подошел с широкой улыбкой на лице.
Заведующий беседовал с каким-то русским толстяком. Речь шла о басмачах. Вытирая потное багровое лицо, толстяк перемывал косточки басмачам, отпускал крепкие словечки и ручался, что самое большее через месяц от них останется пыль.
"Это еще посмотрим, — отметил про себя Наруз Ахмед, с улыбкой глядя на лицо толстяка с расплывшимися чертами и согласно покачивая головой. — Не ты ли уж думаешь превратить их в пыль?"
— И какие же идиоты их вожаки! — продолжал горячо возмущаться толстяк. — Знаете, что они обещают? Восстановление трона эмира бухарского! Это, так сказать, их политический лозунг. До этого же надо додуматься… Неужели эти болваны всерьез считают, что дехкане только и мечтают, что об эмире… Ждут его не дождутся… Да они пылают к нему такой же нежной любовью, какой русские к Гришке Распутину! Ну, не идиоты? — Он безнадежно махнул рукой. Ничему не научили их хозяева на той стороне. Какими были, такими и остались. Время не пошло им впрок. Ну, ладно… Будь здоров! Поплыву до председателя. Звони! — толстяк подал руку заведующему и вразвалку зашагал по коридору.
— Знаешь, кто это? — спросил заведующий.
— Нет.
— Бывший председатель кокандской чека. На его счету этих басмачей, пожалуй, не одна сотня наберется.
— А по виду… — начал было Наруз Ахмед.
— По виду не суди, — прервал его собеседник. — Я под его началом работал с двадцать второго по двадцать пятый. Многому у него научился. Хороший, народный человек, большой души. Умный и с хитринкой. Такого не проведешь! Ну, пойдем ко мне. Как съездилось, активист?
Они дошли до конца коридора и свернули в небольшую комнату с единственным окном, обращенным к югу. Сели. Заведующий за свой стол, а Наруз Ахмед по другую сторону, напротив.
Алиев стал перекладывать с места на место лежавшие на столе бумаги, переставил графин, выбросил из пепельницы в корзину для бумаг окурки, взял пиалу с недопитым остывшим чаем и отхлебнул глоток, потом достал из кармана пачку папирос "Пушки", и они закурили.
Поведение Алиева немного удивило Наруза Ахмеда. Он слыл деловым человеком и не любил разводить тары-бары. А сейчас… Сейчас он почему-то медлил, будто обдумывал, с чего начать разговор.
Удивленный Наруз счел нужным нарушить неприятное молчание.
— Товарищ Алиев, — начал он. — Вы помните акт, представленный мной на управляющего кашкадарьинской базой?
— Погоди! — прервал его вдруг Алиев и поднял указательный палец.
Наруз Ахмед, еще более удивленный, непонимающе смотрел на своего начальника.
Тот нахмурился, побарабанил пальцами по столу и спросил:
— Ты знаешь, кто привел басмаческую банду с той стороны?
У Наруза Ахмеда внутри все похолодело.
— Нет. Кто?
— Твой отец. Ахмедбек.
Наруз Ахмед почувствовал стеснение в горле. У него было такое ощущение, будто чья-то сильная рука душит его. Теперь конец. Конец… Все погибло. Этот человек, вероятно, уже знает о том, что Наруз Ахмед виделся с отцом. Сейчас свяжут руки и поведут…
Алиев не разгадал его мыслей. Он понял его состояние по-своему. Встав с места и обойдя вокруг стола, подошел к Нарузу Ахмеду, положил руку на плечо и проговорил:
— Знаю, что тебе тяжело. Да и любому на твоем месте было бы не легче. История, конечно, неприятная. Но ты не падай духом. Отец отцом, а сын сыном!
Алиев встал и прошелся по комнате. Наруз Ахмед облегченно вздохнул:
"Нет, еще не конец. Значит, о свидании с отцом никому не известно…"
— Мы знаем тебя, — заговорил вновь Алиев. — И верим. И потому что знаем, решили сказать тебе об этом. Не исключено, что отец попытается какими-нибудь путями войти с тобой в контакт. Жизнь есть жизнь. Ты его единственный сын… Поэтому смотри в оба и, будь начеку! Я всегда к твоим услугам. — Он вновь умолк на минуту и, вздохнув, продолжал. — А сын мой еще три дня назад отправился на поиски басмачей с отрядом ОГПУ. Горячая голова… Отчаянный парень! "
— А вы твердо уверены, что банду привел именно отец? — попытался уточнить Наруз Ахмед.
Алиев ответил:
— Я знаю, что говорю. Такими вещами не шутят.
4
Три всадника скакали по степи. Кое-где мелькали кусты цветущего саксаула, островками красовались распустившиеся тюльпаны. Под крепкими копытами коней шуршал песок.
На голове одного из всадников была выцветшая буденовка, на втором тюбетейка, а у третьего — новенькая, ухарски заломленная фуражка защитного цвета.
Кони легко перемахнули через широкий безводный арык и на крупной рыси направились к кишлаку, спрятавшемуся между высокими песчаными барханами. Полузанесенный песком, полуразвалившийся, кишлак насчитывал не более трех десятков глиняных мазанок и выглядел вымершим. Но так лишь казалось. В мазанках, которые давно покинули жители, сейчас таился в засаде отряд особого назначения войск ОГПУ.
Из окна крайней мазанки на степь неустанно глядели два черных глаза. Они принадлежали ординарцу командира отряда.
— Товарищ командир! — позвал он лежавшего на полу у стены. — Наши едут.
Командир вскочил и быстро спросил:
— Четверо?
— Да нет, трое… Алиева нет…
Командир взглянул на ручные часы, оправил сползшую на сторону портупею и подошел к маленькому незастекленному окошку. Но он ничего не успел увидеть. В дверь один за другим вошли трое. Тот, что в буденовке, шагнул к командиру и, вяло козырнув, спросил:
— Разрешите докладывать?
Командир быстрым взглядом окинул всех троих: лица усталые, глаза ввалились, щеки обросли щетиной, одежда покрыта плотным слоем пыли.
— Садись сюда, Гребенников, — показал командир на разостланную кошму. — И вы садитесь, — пригласил он остальных. — Курите. Где застрял Алиев? Нашли?
Гребенников плотно сомкнул веки, и лицо его дрогнуло.
— Нашли, товарищ командир, и закопали в землю. Алиева больше нет.
— Так… — тихо уронил командир и хрустнул пальцами. — Рассказывай подробно, по порядку.
Гребенников провел рукавом гимнастерки по влажному лицу, размазал на нем пыль и стал рассказывать. Позавчера к вечеру без приключений, не встретив по пути ни единого человека, они добрались до пограничной заставы. Сразу узнали, что Алиев там не показывался. Никакого донесения застава не получила.
— Так… — заметил командир. — Значит, они его перехватили…
— Точно, перехватили, — подтвердил Гребенников и продолжал рассказ: На заставе было спокойно. На той стороне — тишина. Утром того дня, когда мы прибыли на заставу, на той стороне границы появились два всадника. Они подъехали к самому берегу реки и долго смотрели в бинокль на советскую сторону. Потом уехали. Ночью на заставу прибыли два отряда, о которых писалось в записке, и сейчас же заняли отведенные им участки, замаскировались. Утром мы втроем с полувзводом пограничников выехали по направлению к горам, а в полдень наткнулись на следы басмачей. Следы привели в глухое ущелье, и там-то оказался Алиев, только мертвый и зверски изуродованный. Правда, огнестрельных ран на нем не обнаружено, но… вспорот живот и выпущены все внутренности… Вокруг — огромная лужа крови. Мы вынесли тело из ущелья и похоронили.
— Так… — сказал командир и скрипнул зубами. — Дальше…
— Банда, — вновь заговорил Гребенников, — видно, отдыхала в ущелье не одни сутки. Там много окурков, сожженных спичек, пустых банок из-под консервов, бараньи кости, пепел от костров. Похоронив Алиева, мы вместе с пограничниками пошли по свежему следу банды. Он вел нас километров пятнадцать, а когда мы выбрались на твердый грунт, пропал. Тут мы расстались с пограничниками. Они поскакали на северо-восток, а мы сюда. Взводный приказал передать вам вот это, — Гребенников протянул свернутый вчетверо листок бумаги.
Командир отряда развернул записку и прочел. Потом достал из полевой сумки карту-километровку, расстелил ее на полу и приказал ординарцу:
— Позови-ка товарища Максумова!
— Есть! — ответил ординарец и выбежал из хибарки.
Командир прилег на бок и стал внимательно изучать карту.
Прибывшие бойцы сидели в уголке на полу, жадно затягиваясь махоркой. Густой, пахучий дым слоистыми волокнами плавал по мазанке.
— Жарища страшенная, спасу нет, — пожаловался Гребенников. Но разговора никто не поддержал.
В мазанку в сопровождении ординарца вошел старый мастер Умар. Его пестрая тюбетейка поблескивала золотым шитьем. Ватный халат с широкими зелеными полосами по белому фону перепоясывал черный с серебром ремень длинной старинной шашки, покрытой замысловатой резьбой. Старику никак нельзя было дать больше пятидесяти лет. Годы его будто не старили; он мало изменился, разве только чуть-чуть раздобрел. Эта небольшая полнота сгладила на лице старые морщины.
Командир отряда оторвался от карты:
— Умар-ата? Плохо, брат, дело. Алиев погиб.
Максумов покачал головой:
— Ай-яй-яй… Какой был хороший, молодой!
— Да, парень был настоящий, — проговорил задумчиво командир. Растерзали его басмачи… Ну ничего, попомнят они еще Алиева… Слышал ты про колодец под названием "Неиссякаемый"?
— Слышал, ака.
— Значит, есть такой?
— Есть. Но он не оправдал своего названия и давно иссяк.
— А на карте его нет.
— Зачем же вписывать в карту, если он без воды?
— Пожалуй, да, — согласился командир, — Далеко до него?
Чеканщик прищурил один глаз, прикинул в уме и ответил:
— Если сейчас тронуться, к заходу солнца можно добраться.
— Дорогу знаешь?
— Знаю.
— Вода на пути не попадется?
— Нет, ака. Воды в этих местах нет.
— К заходу солнца… — командир задумался. — Так, хорошо. Поднимайте народ. Пусть седлают.
5
Группа басмачей под водительством курбаши Ахмедбека, не соблюдая никакого строя, углублялась в знойные пески. В те пески, которые зовутся здесь летучими. Лишь только налетит сильный южный ветер, как снимаются пески с места и стремглав несутся вперед. И горе тому, кто попадется на их пути. Они хоронят под собой все живое.
Легконогие афганские скакуны, утомившиеся за долгий путь, шли вялой рысью.
Впереди на сером иноходце ритмично покачивался в седле Ахмедбек. Мысленно он подводил итоги нескольким дням своего пребывания на советской земле. Первый налет на колхоз прошел удачно. Мало кто уцелел в кишлаке. А уцелевшие во веки веков не забудут Ахмедбека. Захвачено одиннадцать лошадей. Они нагружены мукой, солью, урюком. Это — общее. Но и на долю каждого джигита кое-что перепало. Обижаться нельзя. И второй налет прошел на славу. Плотина разрушена. Хлопковые поля залиты водой, и ни один кустик теперь уже не поднимется. Пусть знают… Пусть помнят… И оба налета обошлись без потерь. Ни единого убитого, ни единого раненого. А когда Ахмедбек соединится со второй группой своего отряда, тогда можно подумать о чем-нибудь более серьезном…
Быстро гасли звезды в небе. На востоке загоралась заря. Курбаши повернулся в седле и, взмахнув камчой, позвал к себе Узун-кулока.
— Как долго до Неиссякаемого? — спросил Ахмедбек.
— До восхода солнца успеем. В тугаях[14] надо бы сделать привал.
Ахмедбек кивнул. Привал нужен. Лошади устали.
Восток алел. Небо бледнело. Непомеркшие звезды робко мигали лишь на западе.
Тугаи тянулись на большом пространстве широкой полосой, изогнутой по концам, и напоминали собой букву "С". Когда-то они окружали озеро, но оно давно испарилось. Сейчас дно его покрывал плотный белый, похожий на снег слой соли. На северной стороне густо рос камыш. И тугаи, и камыш в эту пору были в своем бурном расцвете и сочной зеленью ярко выделялись на фоне мертвых песков.
"Хорошее место, — подумал курбаши, окидывая взглядом заросли. — Надо запомнить его. Здесь можно укрываться днем".
Вдруг его иноходец насторожил уши и заржал. Заржал звонко, радостно, приветственно.
"С чего бы это? — насторожился Ахмедбек. — Или отдых чует?"
Он еще раз, более внимательно, оглядел изогнутую зеленую полосу и ничего подозрительного не заметил.
Басмачи въехали в чащу зарослей и, следуя движению руки курбаши, спешились. И тут внезапно с двух точек короткими очередями затакали и яростно забили, выплевывая горячие пули, станковые пулеметы. Это было так неестественно, так неожиданно, точно гора зашагала. На мгновение басмачи окаменели. И только когда упали на песок первые жертвы, раздались дикие вопли, крики "Алла-а-а!…". Банда рассыпалась. Одни залегли в песок и стали искать глазами невидимого врага, другие метнулись на коней, в седла. А пулеметы кинжальным огнем разили бандитов. Но вот они сразу умолкли. Послышались крики "ура!". С обоих концов буквы "С" выскочило по десятку конников в островерхих шапках. Они сошлись на скаку, рассыпались, пригнулись к шеям лошадей и устрашающей лавиной устремились вперед.
Успевшие вскочить в седла басмачи сомкнулись плотной кучкой и рванулись навстречу бойцам отряда. Они инстинктивно поняли, что только этот ход может их спасти, что, зажатые в кольцо, образуемое аскерами и плотной, непролазной стеной колючего тугая, они несомненно погибнут. Этой кучке удалось прорубиться сквозь скачущий строй. Но Ахмедбек не успел прорваться. Он, его помощник Саитбай и еще двое, прижатые к тугаям, яростно отбивались от насевших на них четырех конников. Четыре на четыре.
Узун-кулок упал на землю после первой же пулеметной очереди. Правда, ни одна пуля его не коснулась и ни одной царапинки на нем не было. Но он счел за благо выйти из боя, предоставив своим сотоварищам самим отбиваться. Так, по крайней мере, можно если не спасти свою шкуру, то уж во всяком случае отдалить гибель. Он видел, как аскеры, повернув коней и выхватив клинки, бросились вслед удиравшим басмачам. К аскерам присоединилось еще несколько всадников в одежде простых дехкан, вынырнувших точно из-под земли. Он видел, как валились с коней его друзья по банде и, перевернувшись через голову, оставались лежать на песке. Чуть приподняв над землей голову, он наблюдал, как четверо бойцов наседают на самого курбаши и его приближенных. Узун-кулок мог, конечно, подобрать валявшуюся рядом английскую винтовку с полным магазином и расстрелять патроны в спины этих четырех аскеров. Расстрелять — и выручить Ахмедбека. Но Узун-кулок не сделал этого. Он уже понял, что исход схватки предрешен и что его подвиг не сможет изменить ход событий. Все ясно. Половина воинов Ахмедбека уже лежит тут, на просоленной земле, окруженной тугаями, оставшиеся не спасутся от острых сабель аскеров. Никому не уйти… Кони у аскеров свежие, а у басмачей уже притомились.
Узун-кулок понял, что занятая им "позиция", в сторонке от битвы на земле, сулит ему еще какие-то шансы на спасение.
Не замеченный никем, он пополз, как длинный червь, между мертвыми джигитами и лошадьми, с опаской поглядывая туда, где отчаянно рубились восемь человек. Он полз на животе, тянулся в камыши, как подбитая ящерица: то замирая и притворяясь убитым, то посылая коленями и локтями свое длинное тело на два-три сантиметра вперед. Когда до камышей осталось каких-нибудь два-три шага, Узун-кулок, охваченный нетерпением, приподнялся на четвереньки и прыгнул лягушкой. Прыгнул, растянулся и чуть не умер от страха: перед ним лежал и смотрел на него человек, И лишь когда он разглядел, что это Хаким — мирза их отряда, опередивший его в сообразительности, он пришел в себя и прошипел:
— Что смотришь? Ползи дальше… в тугаи…
— Пошел к чертовой мать, — послал его по-русски Хаким, которого трясло как в лихорадке. Зубы выбивали замысловатую чечетку.
— Ползи, ишак… Конями вытопчут здесь.
Это подействовало. Хаким затаил дыхание и пополз.
А четыре басмача все еще бились, но теперь уже против трех аскеров. Но вот Ахмедбек поднял на дыбы своего коня и, изловчившись, рубанул красноармейца по плечу. Тот закачался, выронил саблю и сполз с седла. Осталось двое. И если удастся уложить еще одного… Но тут свалился и басмач, разрубленный чуть не надвое сильным ударом рыжего чубатого бойца. Трое против двоих. Этот чубатый, как дьявол, мечется из стороны в сторону. У него послушный и верткий, сухой и жилистый конь. Если бы не чубатый, можно было бы вырваться, но от такого коня не уйдешь.
Справа от курбаши бился басмач, слева — его помощник Саитбай. Их кони упирались задами в стену зарослей и дико храпели. Но вот Саитбай вырывается вперед. Его конь налетает грудью на круп коня противника, и конь падает на передние ноги. В тот же миг вылетает из седла и седок. Конец клинка Саитбая задевает кисть руки бойца, и тот роняет клинок. Победа! Остался один! Рыжий, чубатый. Хоть он и ловок, но что сделает один против троих? Но что это? Верный Саитбай, в руке которого курбаши видел свою лучшую защиту, удирает.
— Саитбай! Назад! Будь ты проклят! — яростно кричит Ахмедбек, сверкая глазами.
Но Саитбай не внемлет его призывам. Он спасает себя.
Теперь их осталось двое — Ахмедбек и его последний воин. Они пытаются сразить чубатого, но это не так просто. Боец зверски орудует саблей, вертится как волчок, и к нему не подступиться. Значит, надо перехитрить, обмануть, заманить, но срубить во что бы то ни стало, иначе не вырваться в степь.
— Бросай клинки! Сдавайся, а не то обоих порублю в капусту! — кричит вдруг чубатый.
Ахмедбек скрипит зубами, и желваки твердыми орешками ходят под его темными скулами,
— Заходи сзади! — приказывает он басмачу.
Тот выполняет команду своего повелителя. Конь его в несколько прыжков вырывается в сторону. Но чубатый проделывает почти такой же маневр. Теперь курбаши надо оторваться от стены тугаев и броситься на врага сзади. Но этому маневру помешали. Ахмедбек увидел несущегося к месту схватки всадника. Старый халат его развевался, голова была открыта, клинок в поднятой руке так мелькал и вертелся, что казалось — над головой крутится сверкающее колесо. Всадник с ходу налетел на убегавшего Саитбая, и клинок блеснул над его спиной.
"Перехватить этого… перехватить… Не дать ему соединиться с чубатым", — решает Ахмедбек и зло посылает коня вперед.
Два скачущих идут на сближение, но Ахмедбек мгновенно меняет решение. Лучше не здесь… Лучше завлечь этого выскочившего узбека в пески и там помериться с ним силами.
Ахмедбек клонит повод вправо, и послушный его руке иноходец несется вперед.
— Куда, Ахмедбек? Куда, старая собака? Нет, я тебя не выпущу. Твоим клинком зарублю!
"Мастер Умар… Да, Умар Максумов. И мой клинок! — мелькнуло в голове курбаши. — Надо заманить проклятого Умара. Заманить подальше в пески. Иноходец выручит…" А там… там уж Ахмедбек рассчитается с этим нищим шайтаном. И клинок, желанный клинок, пропадавший одиннадцать лет, вновь вернется в руки хозяина.
Ахмедбек опускает камчу на потные бока иноходца. Коня будто подбрасывает. Он срывается в карьер и выносит всадника из зеленой западни. Но что это? Впереди маячат конники. Это аскеры возвращаются из песков. Один… два… три… О! Их много. Нет, сюда нельзя. Ахмедбек вздыбливает коня, поворачивает направо, и конь стелется над землей вдоль зарослей тугаев.
Но Ахмедбек переоценил силы своего иноходца. В горячке смертельной схватки он не заметил, что конь его напрягает последние силы.
Проскакав несколько минут вдоль зеленой стены зарослей, Ахмедбек хотел было уже свернуть в пески, где царило спасительное безлюдье, как слева от него послышался натужный лошадиный храп. Курбаши чуть повернулся, скосив глаз, и на какую-то долю мгновения увидел над собой сверкающую полоску змеевидного клинка и блеснувшие рубиновые глаза желтого дракона.
Раздался свист, и голова Ахмедбека полетела в песок, покатилась и уткнулась в тугаи. А серый иноходец сразу перешел на спокойную рысь, унося на спине безглавое тело своего хозяина.
Чеканщик Умар с ходу промчался мимо, круто развернулся и поехал назад. К нему подскакали командир отряда с ординарцем.
— Здорово вы его, товарищ Максумов! — восторженно воскликнул ординарец.
— Можно поучиться у вас рубке, Умар-ата, — с уважением произнес командир.
Умар вытер клинок о круп своей лошади и вложил его в ножны.
— А вы знаете, кто это? — спросил он.
Командир усмехнулся:
— Кто его знает… Не представлялся мне… Зверюга, басмач…
— Все они, бандюги, на один лад, — добавил ординарец. — Рубать их надо, не спрашивая фамилии.
Умар покачал головой:
— Да нет, не все… Это Ахмедбек…
— Курбаши?! — воскликнул командир,
— Курбаши?… — недоверчиво повторил ординарец.
— Да, он, — подтвердил Умар. — Уж я-то знаю эмирскую собаку. И рассчитался с ним его же клинком… Этот клинок подарил беку эмир бухарский… Не гадал, видно, курбаши, что так обернется для него подарочек…
— Что ж… по заслугам, — проговорил командир.
— Собаке собачья смерть, — поставил точку ординарец.
Всадники медленно отъехали.
6
Быстро катилось вниз злое солнце пустыни. На западной окраине неба полыхал багровый пожар. Мертвая зыбь песков простиралась вокруг, и, казалось, не было ей ни конца ни края.
Вторые сутки брели по безлюдью сквозь прохладу короткой ночи и зной долгого дня Узун-кулок и Хаким.
Впереди виднелись неясные очертания того кишлака, где недавно провел дневку отряд особого назначения.
Жажда и голод — самые страшные враги в пустыне — не пугали путников. Они отправились в свой нелегкий путь не с пустыми руками. Выждав, когда аскеры, забрав своих раненых и убитых, лошадей и разбросанное оружие, покинули поле боя, Узун-кулок и Хаким вышли из укрытия.
Они долго всматривались, вслушивались и, убедившись окончательно, что никакая опасность им не угрожает, стали пробираться в заросли.
При виде людей стервятники всполошились и с недовольным клекотом прервали начатую трапезу. Но они не улетали, а кружились в воздухе, будто знали, что этим двум живым нечего задерживаться среди мертвых.
Узун-кулок и Хаким не на шутку перепугались, когда чуть не из-под их ног с визгом выпрыгнул и умчался шакал. У него была золотисто-серая шерсть и небольшие, широко расставленные уши.
— Падаль, — пробурчал Узун-кулок, стараясь вернуть утраченную храбрость.
Выйдя на место битвы, они остановились, окинули взором распростертые на песке трупы басмачей, и Узун-кулок изрек:
— Души правоверных воинов уже на небесах. Им теперь ничего не нужно. О них позаботится всемогущий. Ты поищи что-либо из еды, а я пороюсь у них в карманах.
Мертвых Узун-кулок не боялся. Сказывалась профессия: в течение семи лет он усердно нес службу палача при хивинском хане и набил руку основательно. Удалить язык у подкандального, выпустить ему кровь через вены, отрезать нос или уши, снять кожу со спины или отпилить голову — для него было сущей безделицей. Хивинский хан любил даже похвастаться своим палачом и, поцокивая языком, говорил приближенным: "Золотые руки".
Узун-кулок ощупал убитых, собрал несколько серебряных табакерок, пузыречки с насом[15], тюбетейки, пачки сигарет, серьги, кольца и браслеты, награбленные его собратьями в домах колхозников. Подумал и стянул с убитого Саитбая лакированные сапоги.
Хаким в это время промышлял по части еды, хотя и не так смело, как Узун-кулок. Красноармейцы угнали лошадей, нагруженных провизией, и Хакиму удалось собрать лишь несколько лепешек, горсти четыре урюка и два куска вяленого бараньего мяса. Самой удачной находкой оказался бурдюк, наполовину наполненный водой. Хаким вытащил его из-под убитой лошади.
Когда путники достигли брошенного кишлака, солнце уже опустилось за горизонт.
Они сделали привал, подкрепились из своих запасов и тут же заспорили. Хаким считал нужным сейчас же отправиться в путь, пользуясь прохладой. До ближайшего селения оставалось идти еще двое суток. Он доказывал, что надо беречь время, да и запасы еды очень скудны. Узун-кулок возражал и требовал ночевки: сапоги покойного Саитбая оказались немного узковатыми, они жали в ступне и натрудили ноги.
Тогда Хаким заявил, что пойдет один. Он взял свою котомку, перекинул через плечо и зашагал по песчаной тропе.
— Подожди! Ты очень несговорчивый человек. Только мне надо разуться, сдался Узун-кулок. — Пойду босым. — И он начал стаскивать сапоги.
Хаким терпеливо ожидал приятеля.
Через несколько минут они покинули кишлак.
Небо постепенно теряло свои краски, сгущалось, как бы поднималось выше, но звезд еще не было.
Узун-кулок шел первым. Они пересекали кладбище, лежавшее на дороге. Под ногами рушились глиняные холмики могил, поросшие колючкой. И вдруг Узун-кулок сделал такой невероятный прыжок и так закричал, что Хаким замер на месте и затрясся от страха. От могилы, на которую только что ступил Узун-кулок, быстро отползала метровая змея толщиной в руку, светло-серой окраски, с темными пятнами на спине и боках.
— Гюрза… — в ужасе прошептал Хаким, следя широко открытыми глазами за гадиной. Она, извиваясь и шипя, стремилась к расщелине в могиле и через мгновение скрылась в ней. — Гюрза, — повторил Хаким.
Узун-кулок продолжал пронзительно кричать. Вначале он прыгал на одной ноге, ухватившись рукой за другую, затем стал кататься по земле, корчась от боли.
— Горит… горит!… Ай-яй-яй!… — кричал он.
"Гюрза — это верная смерть", — подумал Хаким.
Как человек самый грамотный в отряде, когда-то бывший прислужником в мечети, затем долгое время писарем курбаши, он кое-что прочитал за свою пятидесятилетнюю жизнь и знал, что после укуса гюрзы — этой самой страшной из змей Азии — человека можно спасти. Но для этого нужно многое. Прежде всего следует высосать кровь из ранки, затем перетянуть жгутом место повыше укуса, чтобы заражение не распространялось, потом вспрыснуть какую-то сыворотку и, наконец, напоить больного крепким горячим чаем.
Но где же взять сыворотку и чай? Да и стоит ли вообще предпринимать что-либо для спасения Узун-кулока? Заслуживает ли этот живодер того, чтобы ради него рисковать собственной жизнью? Нет, не заслуживает. Он очень плохой человек. Его боялись и ненавидели все добрые мусульмане. В Хиве им даже пугали детей. Не моргнув глазом, он мог бросить человека в костер, снять с человека кожу. Кличку Длинное ухо он тоже получил не напрасно. Он разнюхивал и выведывал, натравливал курбаши на джигитов, сплетничал. Он был мастер клеветы и мог запутать в сетях ложных наветов совершенно невинного человека. Его мог терпеть и держать около себя только Ахмедбек. А помощник бека — Саитбай, хотя и сам живодер из живодеров, Узун-кулока не выносил. За что же спасать его? Кому нужен он? Уж не лучше ли предоставить аллаху распорядиться его судьбой в этот злосчастный час? Да, так, пожалуй, будет лучше.
Хаким подошел к Узун-кулоку и опустился возле него на корточки. Узун-кулок сидел на земле, обхватив руками ногу, и, покачиваясь взад и вперед, стонал. Чуть повыше лодыжки на правой ноге его виднелась маленькая, едва приметная ранка. Нога успела уже распухнуть и посинеть.
— Больно? — сочувственно осведомился Хаким.
— Ты… Ты виноват… Ты настаивал на том, чтобы идти… Из-за тебя… О-о-о!… Пропал… пропал я… — прокричал Узун-кулок и на всякий случай подвинул к себе мешок с добром. — Ты что сидишь сложа руки?… Спасай меня!… Какой ты друг? Соси кровь из раны! Слышишь? Соси!
— Поздно! — ответил ему Хаким. — Уже поздно. Теперь надо отрезать ногу, — и он вытащил из-под халата длинный нож.
— Нет, нет! — закричал Узун-кулок. — Не надо резать. Нога мне нужна… Что я буду делать без ноги?
— Твое дело, — невозмутимо произнес Хаким. — Я говорю правильно. Лучше жить с одной ногой, чем совсем не жить. Моему деду отрезали ногу, когда ему было тридцать лет. Он рассек ступню кетменем и получил заражение крови. С одной ногой он прожил сто девять лет и пережил шестерых жен. Он имел четырнадцать сыновей, трех дочерей, восемьдесят девять внуков и двадцать три правнука. Один из внуков — я. Понял?
— Ты змей! Ты хуже гюрзы! Ты издеваешься надо мной. Аллах накажет тебя! — прокричал Узун-кулок, и на лице его выступил обильный пот.
— Я и не думал смеяться, — возразил Хаким. — Тебе это кажется. Если хочешь жить, давай я отрежу тебе ногу. Не всю. Всю не надо. Вот так, чуть повыше коленки. Смотри, какой у меня острый нож, — он провел лезвием по своему ногтю, и на ногте осталась белая полоска. — Этим ножом я всегда брил бороду Саитбаю. Ты же знаешь. А борода у Саитбая жесткая и крепкая, как проволока. Я быстро все сделаю. Закуси себе палец, закрой глаза, а я буду резать.
Узун-кулок перестал качаться, дыхание стало тяжелым, прерывистым.
Передохнув немного, он уставился глазами в одну точку, страшно заскрежетал зубами и решительно бросил:
— Режь! Мне все равно. Мне холодно. Сердце останавливается.
Но стоило только Хакиму прикоснуться рукой к его ноге, чтобы поднять повыше штанину, как Узун-кулок изловчился и здоровой ногой так пнул его в грудь, что Хаким отлетел шагов на десять.
— Вот тебе, шакал! — прохрипел Узун-кулок. — Ты жаждешь моей смерти?
Хаким поднялся, отряхнулся от пыли и без всякой обиды в голосе сказал:
— Я знал, что ты не согласишься. Ты трус. Ты был мастер другим отрезать ноги, руки, головы, копаться в их внутренностях. А когда дело коснулось тебя, ты оказался бабой. Жалкой старой бабой. Ну и подыхай! Я еще не встречал человека, который бы выжил после укуса гюрзы.
Глаза Узун-кулока готовы были вылезти из орбит. Из плотно сжатого рта тоненькой змеистой струйкой сочилась кровь. Его начало тошнить. Он попытался подняться, встал было на ноги, но тут же всхлипнул, рухнул на землю и, взглянув на Хакима отсутствующим мутным взглядом, стал бормотать что-то совсем непонятное.
"Бредит или притворяется? — спрашивал самого себя Хаким, вслушиваясь в отрывочные слова и фразы и пытаясь уловить в них какой-нибудь смысл. Наверное, бредит".
Он приблизился к Узун-кулоку и взял его руку повыше кисти. Нет, жара никакого. Наоборот, рука холодна, так и должно быть. Хаким приложил руку ко лбу. Он был также холоден и влажен. Самые верные признаки укуса гюрзы.
Но вот Узун-кулок пришел в себя. Он сел. Неясное бормотание прекратилось.
— Дай нож! — крикнул он.
Хаким нерешительно смотрел на него.
— Слышишь? Дай нож! — требовал Узун-кулок. — Я сам отрежу себе ногу. Это моя нога.
Хаким пожал плечами, достал нож, но, зная коварство Узун-кулока, попятился назад и бросил нож на песок.
Узун-кулок быстро схватил нож за рукоятку, взмахнул рукой и метнул его в Хакима. Бросок был силен, но не точен. Хаким даже не двинулся с места и не уклонился. Нож пролетел мимо.
Хаким поднял его, спрятал и с усмешкой сказал:
— Бешеная собака, тебе, видно, скучно одному отправляться на тот свет, хочешь прихватить меня? Нет, я еще поживу. Не знаю, долго ли, но поживу. А ты ступай! Там тебя встретят твои жертвы.
Он отошел в сторонку, сел, подобрал под себя ноги и стал наблюдать.
Узун-кулок все чаще и чаще терял сознание, обмороки чередовались с кровотечением из горла.
Глубокой ночью, когда в песках лаяли и плакали на все голоса шакалы, Узун-кулок покинул грешную землю.
Хаким постоял немного возле, отыскивая доброе слово, приличествующее этому печальному случаю, но так и не нашел ничего подходящего.
— Живодером был покойник, — вздохнув, решил он окончательно.
Захватив мешки с едой, свой и Узун-кулока, Хаким зашагал на восход солнца и через сутки с небольшим вышел на хорошо накатанную дорогу.
Внешний вид Хакима был весьма печален. Вылинявшая и грязная чалма его походила на тряпку. Из разодранного халата клочьями вылезала вата. Сапоги из красной кожи обтрепались.
В разгар дня, когда солнце достигло зенита и кругом стояло пекло, Хаким заметил вдали двух скачущих всадников. Но никаких опасений в душе Хакима это событие не вызвало. За минувшие сутки он смог преодолеть в себе тот внутренний разлад, который мучил его несколько лет кряду. Душевную пустоту теперь сменило твердое окончательное решение. Это решение Хаким начал претворять в жизнь с той минуты, когда в тугаях над басмачами запели первые пули особоотрядцев. Теперь это решение окрепло. Хаким шел в Бухару.
У него там жена, два сына, дочь, маленький сад. Возможно, что есть уже внуки. Может быть, советская власть простит ему прегрешения? Ведь он за свою жизнь никого не убил. Он много видел, много слышал, много писал, но это еще не так страшно. Советская власть многих помиловала…
Когда всадники приблизились на расстояние, с которого можно было разглядеть их лица, Хаким остановился и застыл на дороге. Что угодно, но такой встречи он не ожидал. К нему скакали Бахрам и сын Ахмед-бека.
— Хаким-ака! — удивленно воскликнул Бахрам. — Ты как сюда попал?
Всадники подъехали и остановились.
— Салям алейкум! — проговорил вместо ответа Хаким и начал мять свою куцую рыжеватую бороденку. Он еще не сообразил, как надо отвечать, как поведать этим двоим обо всем случившемся.
Ему помог в этом Бахрам.
— Где отряд? — быстро спросил он, приковав к Хакиму внимательный и пристальный взгляд.
— Отряда нет, Бахрам-ака… Беда, большая беда…
— Как? — откинулся в седле Бахрам.
— Отряда нет, — повторил Хаким. — Отряд попал в засаду, и все полегли… Уцелели только двое: я и Узун-кулок.
Всадники глядели на него с оторопелым видом.
— А Ахмедбек где? — крикнул после паузы Наруз Ахмед.
— О! Ахмед теперь в раю, среди гурий. Ему срубил голову старый Умар Максумов. Тот самый Умар, который когда-то в Бухаре был известен как знатный резчик, а потом сидел в эмирском клоповнике.
Наруз Ахмед сжал губы, чтобы стоном не выдать своего состояния.
— Когда это случилось? — спросил Бахрам.
— Трое суток назад, на рассвете, в тугаях, недалеко от колодца Неиссякаемого.
Наруз Ахмед молчал, и глаза его были страшны.
— А где же Узун-кулок? — спохватился Бахрам.
— Он тоже взят аллахом на небо, только двумя сутками позже. По дороге он наступил на гюрзу, и она принесла ему смерть.
Наруз Ахмед молчал. Он тешил себя надеждой, что этот оборванец не знает его…
— Куда ты бредешь? — строго спросил Бахрам.
Хаким замялся, озираясь по сторонам.
— В Бухару.
— Зачем?
— Видишь ли, Бахрам-ака… Отряда нет, коня нет… Аллах отвернулся от нас. Быть может, ему неугодны наши дела? Кто знает?
Сказав это, Хаким испугался и с опаской взглянул на руку Бахрама, лежавшую на эфесе шашки. Но рука оставалась спокойной.
Хаким нерешительно продолжал:
— В Бухаре мой дом… Давно там не был… Все по пескам и по чужбинам таскаюсь. Уже стар я, чуть-чуть передохну, отдышусь. Может, нового коня достану…
Наруз Ахмед не мог больше вынести болтовни этого оборванца: он приподнялся на стременах, взмахнул камчой, готовый опустить ее на голову Хакима, но его руку перехватил Бахрам.
— Не стоит. Не горячись! — сказал он. — Он нам еще пригодится. Ступай… Хаким!
Глаза Наруза Ахмеда гневно блеснули.
Всадники с места подняли коней в галоп и вскоре превратились в маленькие точки. Потом они вовсе исчезли в раскаленном, дрожащем мареве.
Пораженный и озадаченный великодушием Бахрама, верного телохранителя Ахмедбека, Хаким помял свою бороду, покачал головой и отправился своей дорогой.
— Кажется, — проговорил он вслух, — я отделался очень дешево.
7
К столетнему карагачу с пышной, раскидистой, точно шатер, кроной подъехали и остановились двое всадников.
Они были в милицейской форме, при пистолетах, со шпорами на ногах.
Один из них легко спрыгнул с коня, отдал повод другому и коротко бросил:
— Пойду. Жди здесь!
— Да будет легок твой путь, — вполголоса проговорил оставшийся.
В кишлаке давно ютилась ночь. Высокое небо было густо усыпано звездами. С гор тянуло прохладным, освежающим ветерком.
Позванивая шпорами, человек миновал несколько домов и зашел в первую попавшуюся открытую калитку.
Во дворе стояла такая же тишина, как и на улице. Человек постоял несколько минут в нерешительности, выжидая, что вот-вот на него набросится с лаем собака, но этого не случилось. Он обогнул угол дома, юркнул в настежь открытую дверь и, остановившись перед второй, запертой, постучал.
— Кто там? — раздался женский голос.
— Милиция. Откройте!
За дверью послышался шорох, шепот, глухие шаги, и наконец дверь скрипнула. Показалась пожилая заспанная женщина с лампой в руке. Она уступила было дорогу гостю, но тот предупредил:
— Заходить не буду. Некогда. Как в кишлаке?
— Что как? — с недоумением переспросила женщина и, приподняв лампу до уровня головы, всмотрелась в незнакомое лицо.
— Тихо, спокойно?
— Да… да… А что?
— Ничего. Басмачи не заглядывали?
— Что вы… что вы… Аллах милует… Да и чего они сюда заглядывать будут. Мы ведь у города под боком. По дороге все время машины бегают.
— И не слышно о них ничего?
— Говорят разное, а где правда, трудно разобрать…
— Это хорошо, что не заглядывают, а заглянут — жалеть после будут. А где остановился обоз с ранеными аскерами?
— У нас.
— Я знаю, что у вас. Я спрашиваю, где? Ночью тут ноги сломать можно.
— А вы идите по этой же улице и как увидите арбы, вот там и раненые. Их уложили в алухане.
— Рахмат, спасибо! Попробую найти, — и человек ушел.
Он вновь побрел по пыли, и только тонкий перезвон его шпор нарушал плотную ночную тишину.
Дойдя до середины кишлака, он увидел арбы с поднятыми оглоблями, стоявшие вдоль дувала.
Человек зашел во двор.
В алухане — доме, где мужчины кишлака коротают за мирными беседами долгие зимние сумерки, сейчас расположили раненых особоотрядцев. Их было одиннадцать человек. Они лежали на коврах, одеялах, подушках, принесенных окрестными жителями.
До кишлака раненых сопровождали четыре вооруженных бойца. Не исключалась возможность встречи с басмачами. Теперь, когда эта угроза миновала, сопровождавшие вернулись в отряд и с ранеными остался один Умар Максумов, тоже легко раненный в левое предплечье.
Человек вошел в дом, приоткрыл дверь и заглянул в просторную комнату, освещенную керосиновой лампой.
Раненые стонали, охали, разговаривали во сне и поругивались. Молодой узбек с забинтованной головой сидел, привалившись к стене спиной, и курил. Он уставился на человека черными глазами и молчал.
— Салям! — коротко приветствовал его вошедший.
— Салям! — вяло и равнодушно ответил раненый.
— Где начальник?
— Рядом в комнате.
— Рахмат! — и дверь закрылась.
Человек оказался в темных сенях. Он чиркнул спичкой и осмотрелся. Перед ним была узкая резная дверь, ведущая в соседнее помещение. Он погасил спичку и бесшумно потянул дверь на себя.
В малюсенькой комнатушке с голыми, обшарпанными стенами стояла тишина. На окне коптил чирог — самодельный светильник. У стены на разостланной кошме, широко раскинув руки, спал чеканщик Умар Максумов. Он спал впервые за восемь дней: то некогда было поспать, а то побаливала рана. Его широкая волосатая грудь, выпирающая из-под розовой сорочки, мерно вздымалась и опускалась.
Возле него на полу лежали кавалерийский карабин и клинок в ножнах. Ножны, казалось, чуть излучали золотистое сияние, по их полотну струился голубой бирюзовый ручеек.
Вошедший постоял несколько секунд не двигаясь, всматриваясь в саблю. Затем, тихо ступая, приблизился и, не производя никакого шума, поднял клинок и надел на себя. Костяной дракон эфеса блеснул рубиновым огоньком, Медуза Горгона с перекрестья взглянула пустым взглядом в глаза пришельца. Он наклонился и поднял карабин.
Человек постоял короткое мгновение, сдерживая дыхание и не сводя глаз с Максумова. Потом вытащил из-за голенища нож с толстой рукояткой и длинным лезвием и взмахнул им.
Убийца мгновенно обеими руками зажал рот своей жертве, чтобы та, не дай бог, не вскрикнула. Но этого и не требовалось. Умар даже не застонал. Он лишь вздрогнул всем телом и замер.
Человек стер пот со лба и дунул на чирог. Огонек погас.
…Кишлак по-прежнему спал, залитый тишиной и мраком. Человек шагал по улице спокойно, а сердце его скакало галопом.
Это был Наруз Ахмед. Пять суток он и Бахрам, переодетые в милицейскую форму, носились по кишлакам в поисках особого отряда ОГПУ, в составе которого был Умар Максумов, но напасть на след отряда им так и не удалось. И вот сегодня в сумерках на дороге, обгоняя обоз с ранеными, Наруз Ахмед и Бахрам совершенно случайно услышали имя резчика. Кто-то из раненых на задней арбе дважды назвал его.
Этого было достаточно. Наруз Ахмед и Бахрам ускакали прочь. Недалеко от кишлака они засели в кустах у арыка и стали выжидать обоз. Когда он показался, у них мелькнула мысль сейчас же совершить нападение. Но вид четырех бойцов с винтовками на изготовку, сопровождавших обоз, несколько охладил их пыл. Нет, лучше подождать. И они дождались ночи…
Теперь дело было совершено.
Выбравшись на край кишлака, Наруз Ахмед уже не мог сдерживать себя и побежал к карагачу.
— Ну? — наклонившись в седле, приглушенно спросил Бахрам.
— Готово…
— Хоп!
— Проклятый Умар заснул навсегда. И сон его будет так же крепок, как сон отца.
Он вдел ногу в стремя, взялся за луку и вскочил в седло.
— Так… — протянул Бахрам. — А клинок?
— Вот! — и Наруз Ахмед похлопал рукой по ножнам.
Бахрам шумно вздохнул и спросил:
— Куда?
— В Бухару. Там нас ждет садовник.
Они тронули коней и скрылись в ночи.
8
— Ну, а потом? — спросила Анзират, опираясь на руку Саттара и стараясь заглянуть ему в лицо.
Задумавшийся Саттар будто очнулся и торопливо оказал:
— Потом мы поедем в Ташкент… Учиться.
— И я?
— Что? О чем ты? Ну, конечно. Вместе, вместе поедем и учиться будем…
Анзират покачала головой:
— Нет, ты думаешь не об этом, а о чем-то другом.
Саттар попробовал рассмеяться, но у него это не получилось.
— Чудачка ты…
— Вовсе не чудачка, — возразила Анзират. — Ты сегодня какой-то странный, не такой, как всегда.
— Странный? Нет, почему же… Я такой, как обычно.
— Ой нет! Я сразу заметила, как только ты вошел в дом. И тетушка Саодат заметила. Она шепнула мне на ухо: "У Саттара какие-то неприятности. Разузнай!"
Саттар промолчал.
Они шли по улице, затянутой вечерним сумраком. Издалека слышались голоса — это молодежь собиралась в комсомольский клуб. Анзират без охоты шла сегодня на спектакль; ей так редко удавалось видеться с Саттаром. Вот и сейчас он занят, думает о чем-то постороннем, и Анзират должна весь вечер быть одна…
Саттар смущенно молчал и печально поглядывал на девушку. Анзират спрашивает, почему он невеселый, странный. Если бы она знала, какое несчастье обрушилось на них. Страшное несчастье… Сегодня под вечер, всего час-полтора назад, в городскую больницу вместе с ранеными бойцами особого отряда привезли ее мертвого отца — Умара Максумова. Знал Саттар и о том, что смерть свою старый мастер нашел не в открытой схватке с врагом, а от чьей-то предательской руки.
У Анзират нет больше отца… А отец у нее был замечательный. Много отыщется в Бухаре людей, которые пойдут проводить его в последний путь. Очень много. Много найдется людей, в судьбу которых вмешался Умар. Как его может забыть отец убитого доброотрядца Алиева, которого Умар спас от расправы белоказаков? А Расулев? Тот Расулев, что работает сейчас директором школы. А тогда, в двадцать первом, он умирал от тифа и голода. И спас его Умар. Спас не только его, но и его сестру и мать. Он выходил, выкормил их. А Шарипов, Ниязов, Фатхулин, Садыков — его ученики, которым он передал свое тонкое искусство! Да разве всех перечтешь? Одного старый чеканщик спас от смерти, другому еще в эмирские времена помог бежать от страшного клоповника, третьему, одурманенному и запуганному, открыл глаза, и тот ушел из басмаческой банды и привел с собой товарищей. И все они теперь честные люди и хорошо живут. Четвертому помог жениться. А сам Саттар? В двадцатом году Умар взял Саттара, круглого сироту, к себе, воспитал его, обучил ремеслу. А теперь Умара нет… Но как сказать об этом Анзират?
А сказать надо. Смерть, о которой знает уже целый кишлак и добрая сотня людей в городе, не могла долго оставаться тайной. Но сказать ей сейчас правду — нет, это было выше его сил.
Анзират, шедшая рядом, что-то чувствовала, видела, что ее верному Саттару не по себе.
— Почему ты молчишь? — сжимая его кисть горячими руками, спросила она.
— Думаю, — ответил Саттар первое, что пришло в голову.
— О чем?
— Да все о том же… Как мы поедем в Ташкент… А потом, быть может, в Москву… Ведь когда-нибудь надо побывать в ней, — солгал Саттар, и от этого на душе стало еще горше.
Анзират сердцем чуяла ложь.
— Ты говоришь неправду, — тихо сказала она и опустила голову. — Ты обманываешь меня. Ты хочешь, чтобы я обиделась и никуда не пошла?
— Нет… Не надо… Я все расскажу тебе, но потом…
— Когда?
— Когда буду провожать домой.
— Я хочу, чтобы ты сказал сейчас. Если ты любишь Анзират, ты должен сказать сейчас…
— Нет… Не сейчас… Это долго, и… мне надо спешить. Ты же знаешь, что я отпросился всего на час… Я приду к концу спектакля, провожу тебя домой и тогда все-все расскажу. Честное слово.
— Комсомольское?
— Комсомольское!
— Может, я провинилась перед тобой?
— Что ты… что ты!… Никто здесь не провинился… Тут совсем особенное. Я даже не знаю, кто виноват.
— Возможно, отец?
— Что отец? — едва не вздрогнул Саттар и почувствовал стеснение в груди.
— Может быть, он виноват?
— Он и подавно ни при чем, — с тоской выговорил Саттар.
— Эй! Саттар, Анзират! Идите сюда! — раздался чей-то веселый голос. Скоро начинаем…
У входа в клуб толпились девушки и юноши. Кругом раздавались громкие голоса, веселый смех, шутки.
— Иди, — подтолкнул Саттар любимую. — Я приду минут за десять до конца и буду ждать тебя здесь.
— Ну, смотри! — погрозила пальцем Анзират. — Ты дал слово.
— Да, да, да…
Девушка побежала, оглянулась на полпути, несколько раз махнула рукой и затерялась в бурлящей толпе молодежи.
Саттар повернулся и, взволнованный, быстро зашагал в ту сторону, где находились казармы дивизиона…
Сдержу слово… Легко сказать! А как она воспримет эту страшную весть? Если он, мужчина, узнав о смерти Умара, забившись в манеж, плакал навзрыд, то как же она?
Бедная Анзират! Бедная тетушка Саодат! Не ведают они, какое обрушилось на них горе.
Саттар шел, не видя встречных, поглощенный своими мыслями.
Недалеко от расположения части его вывели из раздумья хорошо знакомые призывные и беспокойные звуки — дивизионный горнист трубил тревогу:
"Там… там… та-та, та-ты, там…"
Саттар подхватил левой рукой клинок и бросился к казармам.
У распахнутых ворот он врезался в бурный встречный людской поток: поправляя на ходу шлемы, застегивая гимнастерки, подтягивая поясные ремни, к конюшням бежали бойцы и коноводы.
"Там… та-там… та-ты, та-ты-там", — звенела труба.
Через несколько минут, когда дивизион был выстроен на плацу, командир части сказал собравшимся командирам и политработникам:
— Полчаса назад на кишлак Чучман налетела басмаческая банда. Убиты председатель кишлачного совета и колхоза, секретарь партячейки, двадцать шесть колхозников, инженер и техник водхоза. Сообщение передано по телефону. В банде насчитывается около полусотни всадников. Можно предположить, что основное ядро банды составляет группа, приведенная с той стороны Ахмедбеком… Наш план таков…
Еще через несколько минут в три стороны, звонко цокая подковами о булыжную мостовую, мчались навстречу степной темноте красные конники.
Среди них был и помощник командира взвода Саттар Халилов.
9
Спектакль затянулся допоздна.
В половине первого двери клуба с шумом распахнулись, возбужденные зрители с мокрыми спинами и лицами, обмениваясь впечатлениями, вывалили на улицу, в ароматную ночную прохладу, и быстро рассеялись по темным улицам и переулкам.
Анзират подошла к месту, где ее должен был поджидать Саттар. Странно, его не было… Она прошлась вдоль фасада клуба, повернула обратно. Саттар не появлялся. В чем же дело? С ним никогда не случалось подобного. Быть может, его задержали в казарме?
Анзират теребила косички и прислушивалась, ловила ухом шорохи и звуки: может быть, раздадутся знакомые шаги…
Над городом плыла темная и теплая ночь. В садах самозабвенно и упоительно заливались на все лады соловьи. В воздухе мелькали летучие мыши. В арыках тихо журчали холодные потоки чистой горной воды.
Анзират подошла к арыку, присела, зачерпнула несколько раз пригоршнями воду и освежила лицо. И, задумавшись над ласково поющей водой, мысленно разговаривала с Саттаром. Но Саттара нет. Анзират поднялась, смахнула с рук холодные капли и, опечаленная, пошла домой.
Она шла медленно. Беспокойные мысли одолевали ее. Почему Саттар был такой необычный и так странно вел себя? Говорил об их будущей жизни, а в голосе ни одной радостной нотки, словно это будущее не радовало, а печалило его…
Но о чем он хотел рассказать? Наверное, что-нибудь очень важное, а может быть, и ужасное, если сразу не решился. А что, если разлюбил? От этой мысли Анзират стало так страшно, что она даже остановилась посреди темной улицы. Но нет, не может этого быть. Ведь глаза Саттара были такими любящими, когда они прощались.
Она перешла мост через головной арык. На нее пахнуло прохладой и сыростью.
Позади, кажется, там, где рынок, раздался свист. Анзират не обратила на него внимания: мало ли кому пришло в голову свистеть!
Теперь она шла узкой улочкой, сжатой с обеих сторон высокими глухими дувалами.
Позади опять послышались какие-то звуки. Похоже было, что по дощатому настилу провели лошадей.
Анзират представила себе, как Саттар прибежит утром домой, и лицо у него будет смущенное, виноватое… А она сделает вид, будто ей некогда…
Совсем рядом раздался шорох. Анзират вздрогнула и остановилась. Может быть, послышалось? Чепуха какая-то… И в ту же секунду через дувал перевалились и спрыгнули на улицу, чуть не сбив ее с ног, сразу двое.
Анзират не успела ни разглядеть их лиц, ни крикнуть. Они бросились на нее, заломили руки за спину и сунули в рот какую-то тряпку. Один обвязал ее веревкой, другой накинул на лицо душную паранджу.
Потом послышался конский топот. Чьи-то сильные руки подняли ее, перекинули через седло, и кони понеслись вскачь.
10
Пришло раскаленное сухое лето. В полдень зной, казалось, обжигал легкие. Столбик ртути поднимался до сорока восьми градусов. В городе дышать было трудно, и залитые горячим сиянием улицы будто вымерли. Но в казарме жизнь шла своим чередом. Ежедневно, вскакивая с постелей, бойцы дивизиона строились и бежали на конюшни чистить лошадей, потом — туалет, утренняя поверка, физподготовка, завтрак, политзанятия, изучение уставов стрелкового и конного дела, тактики и топографии.
Сегодня день выдался особенно жаркий. Солнце пекло немилосердно. Саттар Халилов, проводивший со взводом занятия в манеже, услышал сигнал отбоя с особенной радостью. Отправив бойцов на конюшню расседлывать лошадей, он выкурил папиросу и присел в тени. Вчера он тоже не ходил в столовую: есть в такую жару не хотелось. Его мучила жажда, и, посидев немного, он направился к уличному киоску за воротами — выпить кружку квасу.
За последние четыре месяца Саттар заметно изменился. И без того сухое лицо его, покрытое темным загаром, стало еще суше и как бы замкнутее. Щеки ввалились, глаза сделались больше, и под ними залегли тени. Весь он стал худее, тоньше и будто выше. Но удивительно! — ослабевшим он себя не чувствовал, мышцы даже окрепли, и клинком он владел по-прежнему отлично, числясь в первой пятерке дивизиона.
Когда Саттар дошел до ворот, его окликнул дневальный:
— Товарищ помкомвзвода! Это вам… — и подал небольшой замусоленный конверт.
— Мне? — удивился Саттар. На конверте не было никакой надписи.
— Да, вам, — подтвердил дневальный. — Сказано было вручить в руки самому Халилову. Я еще нарочно пошутил: у нас, говорю, два Халиловых, какому же из них? Мне ответили: тому, которого зовут Саттаром.
— Хм… Интересно! А кто же передал?
— Мужик узбек…
— Какой он из себя?
— Да обыкновенный, как и все. Не молод, в годах уже. Вот, правда, глаза его мне не понравились. Испуганные какие-то… А в остальном ничего особенного.
Халилов пересек широкую улицу и направился к киоску. На ходу он вертел конверт, рассматривал его со всех сторон и никак не мог додуматься, от кого же письмо.
Выпив кружку теплого и очень кислого кваса, он прошел до маленького сквера, сел на деревянную изгородь, разорвал край конверта, не спеша вынул из него помятый листок, сложенный вчетверо. Раскрыл — и замер… На него смотрели знакомые очертания букв. Этот почерк он различил бы из тысячи других! Письмо было написано рукой Анзират…
"О Саттар, свет очей моих! — писала Анзират. — Знай, что страшная судьба, хуже смерти, постигла ту, которая любила тебя и для которой ты был повелителем сердца и радостью жизни. Ты должен был скоро назвать меня своей женой. Но теперь это уже невозможно, теперь я жена чужого, ненавистного человека.
Я пишу тайно, за мной следят, поэтому кратко расскажу, что случилось в тот вечер, когда я так ждала тебя, а ты не пришел.
Я долго ждала тебя, беспокоилась и сердилась, а потом одна пошла домой. В дороге все и случилось. За головным арыком на меня набросились двое, скрутили мне руки, заткнули рот, закутали в паранджу и увезли. Мы ехали ночь, день, еще ночь и еще день. И меня привезли туда, где я нахожусь сейчас. Кишлак называется Обисарым.
Меня насильно сделал своей женой Наруз Ахмед, сын басмача Ахмедбека. Третьей женой по счету. И он сказал мне то, чего не решился сказать ты: он умертвил отца. А потом выкрал и опозорил его дочь. Он сказал мне: "Ты родишь сына, и когда ему будет год, я на твоих глазах отрублю ему голову. Так же поступлю и со вторым. А тебя брошу в клоповник, и ты там сгниешь заживо".
За каждым моим шагом неусыпно следят его люди, но один из них пожалел меня и пообещал передать тебе это письмо. Может быть, это подвох, и письмо не дойдет до тебя? Не знаю, но хочу верить, что дойдет.
Я люблю тебя по-прежнему. Но как бы велика ни была эта любовь, я знаю, что уже недостойна быть твоей женой. Об этом я и не прошу тебя. Прошу о другом: найди этот кишлак. Дом, в котором меня держат, самый большой и окружен тополями. Найди и вырви меня из этого страшного места. Я буду ждать тебя ровно месяц, а если ты не придешь, я наложу на себя руки. Так решило мое сердце…
Анзират, 27 июня".
Несколько секунд Саттар сидел как, оглушенный, непонимающе глядя в письмо. Жива! Она жива! Это главное, все остальное — чепуха. Он спасет ее, пусть это будет стоить ему даже жизни…
Первым побуждением Саттара было вскочить и броситься к тетушке Саодат — скорее сказать ей, что нашлась Анзират, что она жива. Надо обрадовать женщину. Ведь она сразу потеряла двух дорогих людей и осталась одна-одинешенька на свете!
Хотя нет. К тетушке бежать нельзя. Зачем тревожить ее сердце? Уж лучше явиться к ней вместе с Анзират.
Саттар еще раз прочел письмо, бережно свернул его, спрятал в карман гимнастерки и бегом направился к воротам казармы.
Все эти четыре месяца после таинственного исчезновения Анзират Саттар безуспешно разыскивал ее. Чего только он не предпринимал, куда только не обращался! На ноги была поставлена милиция, доброотрядцы. Анзират искали в самом городе, на дорогах, на станциях, в дальних и близких кишлаках. Запросы о ней по телеграфным проводам полетели в Ташкент и Самарканд, Фергану и Чарджуй, Сталинабад и Ашхабад. Ее тело искали на железнодорожных путях, в прудах, арыках, плотинах, реках, колодцах. Но человек пропал бесследно. Ни единая душа не могла пролить свет на тайну, окутывавшую исчезновение девушки. Высказывались тысячи догадок, предположений, построенных на зыбкой почве и, конечно, не прояснявших дела. Человек как сквозь землю провалился, не оставив никакого следа.
Постепенно все примирились с мыслью, что отыскать Анзират невозможно. Не смирился только Саттар. С мрачным упорством и отчаянной решимостью продолжал он розыски, используя для этого каждую свободную минуту, выходные и праздничные дни, совмещал их со служебными выездами, специально отпрашивался у командования в дальние поездки. Но все было тщетно…
И вот ее письмо! Сразу две тайны раскрыло оно Анзират назвала и убийцу отца и своего похитителя — это был Наруз Ахмед.
Саттар вбежал в помещение штаба и, получив разрешение дежурного по части, начал с такой силой крутить ручку телефонного аппарата, что на столе все задребезжало. Он знал, что Наруз Ахмед служит в союзе кооперативов, и звонил туда. На вопрос Саттара, где находится сейчас Наруз Ахмед, работники отдела кадров порекомендовали ему обратиться в спецчасть. Саттар дозвонился туда, потребовал к телефону начальника и повторил свой вопрос. Начальник спецчасти помедлил, а потом любезно осведомился:
— А кто его просит?
Саттар почему-то ответил, что говорит знакомый Наруза Ахмеда.
В ответ он услышал:
— Справок по телефону не даем… Зайдите лично…
Озадаченный Саттар вышел из помещения штаба, постоял несколько минут под лучами раскаленного солнца, подумал. Собственно, зачем ему вдруг понадобилось удостовериться, работает или не работает в союзе Наруз Ахмед? Ну а если работает? Что из того? Что он, Саттар, может предпринять? С этого ли надо начинать? Нет, надо с кем-то посоветоваться. Если уж Наруз Ахмед пошел на такие страшные дела, то его, видно, голыми руками не возьмешь. Сагтар пересек раскаленный двор, поднялся на крыльцо, постучал в неприкрытую дверь и, получив разрешение войти, перешагнул через порог.
В низенькой комнате сидели за столом и прихлебывали чай из цветастых пиал командир второго эскадрона Корольков и уполномоченный особого отдела Шубников.
— Товарищ комэска! — обратился Саттар, приложив руку к козырьку буденовки. — Я к вам по личному делу. Разрешите?
— Присаживайся, — и комэска показал на табуретку. — Чай пить будешь?
— Не хочу, — усаживаясь, ответил Саттар. — Не до чая мне…
— Вот как! — усмехнулся Корольков. — Что же у тебя стряслось? Или опять старая история?
— Точно так, старая, — и Саттар полез в карман.
— Что ж… выкладывай, послушаем. Один ум — хорошо, а три — лучше.
— Вот, читайте, — подал письмо Саттар. — Лучше я не расскажу.
Комэска отпил из пиалы еще несколько глотков чаю, застегнул ворот гимнастерки и принялся за чтение. Читал он вслух, медленно, четко, соблюдая знаки препинания. Прочитав фразу по-узбекски, он секунду молчал, а потом, пошевеливая пальцами в воздухе, будто нащупывая слова, переводил на русский язык.
Уполномоченный слушал с невозмутимым лицом и продолжал прихлебывать чай. На лице его было такое выражение, будто все на свете ему безразлично, в том числе и судьба какой-то девушки Анзират, попавшей в беду.
Комэска прочел, покрутил головой, потуже затянул поясной ремень и сказал:
— Смотри! Вот диво! Значит, отыскалась?
— Я звонил на службу Нарузу Ахмеду, — пояснил Саттар, — но там мне не захотели отвечать. Говорят, справок по телефону не даем…
Корольков тем временем вынул из полевой сумки сложенную гармошкой карту, расстелил ее на столе и отыскал на ней кишлак Обисарым:
— Эге! Туда, верно, и ворон костей не заносит. Нашел, змеиное отродье, местечко! Что же, выручать надо деваху? — и он посмотрел на уполномоченного.
Тот продолжал пить чай, отдувался и молчал.
— Выручать, товарищ комэска! — горячо подхватил Саттар. — Если бы только знали, какая это девушка…
— Да уж известно какая, самая лучшая, — улыбнулся тот. — У старика Умара плохой дочки и быть не могло! А пишет она складно, ясно.
Саттар не знал, что сказать по этому случаю.
— И что же ты решил? — спросил комэска.
— Арестовать его надо, эмирскую собаку, товарищ комэска. Он — дважды преступник. Он убил Умара Максумова, похитил и… — дальше он не мог продолжать.
— Это правильно, — согласился комэска, и лицо его будто отвердело. — И к стенке поставить за такие художества. Обязательно к стенке. Но прежде поймать его надо. Он, небось, в конторе потребкооперации не сидит после таких дел, нас с гобой не дожидается…
— Поймать! — загорячился Саттар. — Немедленно! Разрешите, товарищ комэска, взять коня, Барса… Поскачу в этот кишлак, подниму на ноги тамошний актив, захвачу этого мерзавца. Анзират привезу.
— Прыткий ты, я вижу, — усмехнулся комэска. — Это не так просто… Я тебе скажу, а ты пока забудь. Понял? Я сам только что узнал. Наруз Ахмед банду водит…
Саттар от удивления поднял брови. Потом подумал, что в этом, собственно, ничего неожиданного нет.
— Но водить ему осталось недолго, — продолжал комэска. — Придет и его черед. И скорее, чем он думает. А пока он занят своими делами, ему, видно, не до жены. Поэтому мой совет…
— Все понятно, товарищ комэска. Можно отправляться?
— Стоп! Погоди! — поднял руку до сих пор молчавший уполномоченный особого отдела Шубников. Так не пойдет, Саттар. Что же, думаешь, мы одного тебя в волчью пасть сунем? Не дело! Один в поле не воин. Девушку-то тебе на блюде едва ли вынесут. Не для того они ее уворовали. За нее они драться, пожалуй, будут, И ты, парень, выручая невесту, сам угодишь в беду.
— Не надо мне никого, — горячо возразил Саттар. — Сам управлюсь. Это мое чисто личное дело.
— Это еще как сказать, — невозмутимо заметил Шубников и, достав из кармана блокнот, начал что-то писать. Закончив, он сложил листок, подал его Саттару и спросил: — Командира особого отряда ОГПУ знаешь?
— Так точно.
— Отдашь ему. Он выделит тебе двух хлопцев. Я пишу каких. Одного русского, другого — таджика. Ребята — орлы.
— Есть! Спасибо! Я оседлаю коня и мигом!
— Вот и отлично, — потер руки комэска и обратился к Саттару: — Найдешь кишлак?
— Найду, — твердо заявил тот.
— А лучше посмотри на карту. Вот видишь, О-би-са-рым. И кишлачок-то так себе, дворов тридцать-сорок не более, а забрался куда — ровно орлиное гнездо! Дорога одна через ущелье идет, а другая через перевал. Но эта длиннее. Выбирай сам, на месте будет виднее. Ну, поезжай! Командиру дивизиона я сам скажу. Дуй! Аллюр три креста!
— Есть! — ответил Саттар, круто повернулся и выбежал из комнаты.
11
Кавдивизион после долгого и утомительного марша по пескам Таджикистана остановился на дневной отдых в районе строительства крупной плотины.
Бойцы и командиры, невзирая на адскую жару, спали, где кто мог. Ночью предстоял новый длительный марш и надо было набраться сил.
Уполномоченный особого отдела Шубников долго лежал в душной войлочной кибитке, силясь уснуть, но, окончательно убедившись, что из этой затеи ничего не выйдет, встал и вышел.
В голове от бессонной ночи и жары стоял неумолкающий звон, глаза воспалились и горели, словно они были забиты сухим песком.
Шубников, вялый и ослабевший, без всякой цели побрел по поселку строителей, напоминавшему собой цыганский табор.
В красном уголке с настежь распахнутыми окнами шла громкая читка газет. Слушатели сидели на скамьях, думая о чем-то своем. Кое-кто дремал.
Шубников прошел мимо. Миновав три ряда палаток с поднятыми краями, он подошел к крайней. Перед ней на открытом воздухе, к большому ящику, служившему столом, тянулась длинная очередь. Молодая женщина, врач или медсестра, в белом халате наливала из бутыли в чарку жидкость и давала каждому выпить.
По тому, как каждый выпивший кривился, отплевывался и тихонько поругивался, можно было догадаться, что здесь поили хинным раствором.
Шубников побрел дальше и, выйдя на край глубокого котлована, стал наблюдать за работой. Нескончаемой вереницей, приседая и балансируя, по дощатым настилам двигался людской поток: из котлована с гружеными тачками, а обратно — с пустыми. Голые спины землекопов, потемневшие от солнца, отливали медью.
К Шубникову подошел и встал рядом пожилой черный как жук человек в тюбетейке и цветастом халате. Он тоже наблюдал за работами и изредка покрикивал:
— Не задерживай, Усман! Не задерживай!
Или:
— Оттуда тачкой не выберете, возьмите носилки!
Шубникова он, казалось, не замечал. Так прошло несколько минут, и вот совсем неожиданно уполномоченный услышал:
— Большое дело, начальник. Большое дело…
— Ты, ата, мне говоришь?
— Да, тебе… Я искал тебя… Только ты не подходи ко мне. Это лучше. И не смотри в мою сторону. Стой так и слушай меня…
— Хорошо, — произнес заинтересованный Шубников и спросил: — А ты знаешь, кто я?
— Знаю, начальник, потому и говорю. Я — бригадир землекопов. В мою бригаду сегодня утром пришли трое оттуда…
— Откуда?
— С чужой земли.
— С той стороны?
— Да…
— Их много оттуда идет.
— Правильно, но все разные. Одним нужна мануфактура, другим мука, третьим чай, четвертым — наша кровь. Но эти трое — честные люди, рабочие люди. У них пустой желудок, они хотят работать. Им можно верить. Они мне сказали сейчас, что на нашу сторону перебрался курбаши Мавлан со своей бандой.
— Знаю об этом.
— Но ты не знаешь, где таится банда.
— А ты?
— Я тоже не знаю, а эти трое знают и могут сказать.
Шубников скосил глаза и посмотрел на таджика. Тот, прикрыв ладошкой брови, внимательно следил за работами в котловане.
— Мухитдин-ата! Иди, пей хину! — крикнул он. — А то опять вечером малярия затрясет. Передай тачку Халилу!
— Дальше говори, — напомнил о себе Шубников.
— И еще они расскажут тебе, что на подмогу к Мавлану идет с гор со своей шайкой какой-то Наруз Ахмед. Сообща они готовятся напасть на районный центр.
— Где эти люди? Я хочу их видеть.
— За этим я и пришел. Я пойду, а ты не теряй меня из виду. Иди за мной, но не сразу. Так лучше. Тут есть разные глаза и разные уши.
Бригадир отдал еще какую-то команду рабочим и медленной походкой направился в поселок. Минуту спустя в противоположную сторону пошел Шубников и обогнув высокие отвалы земли, повернул к поселку.
12
Белое солнце немилосердно жгло землю. С юга дул огненный "афганец", свистел в чахлых кустиках верблюжьей колючки, шевелил песчаные гряды, курчавил загривки мертвых барханов.
Вокруг простиралась бурая, выжженная пустыня. Сквозь палящий зной навстречу горячему солнцу мчались три всадника. Пыль покрывала их с головы до ног, песок лез в глаза, щекотал ноздри, поскрипывал на зубах.
Всадники торопились, Путь их лежал к далеким горам, что громоздились на юге, увенчанным белыми снежными шапками.
— Сатанинское пекло! — зло бросил Саттар Халилов, скакавший впереди. Он перевел коня с рыси на шаг. Два бойца пристроились к нему по обе стороны.
— Да, здорово печет, — согласился таджик Закир и, сняв фуражку, вытер рукавом бритую наголо голову.
— Посмотрите! — воскликнул Гребенников и выбросил руку вперед.
Зрелище было обычным для этих мест. Горячие лучи солнца, встречаясь на своем пути с охлажденным воздухом гор и преломляясь в нем, создавали причудливые миражи. Фантастические картины менялись одна за другой. Вначале показалась неохватная глазом ширь водной глади, а секунду спустя с другой точки рисовались уже какие-то сказочные чертоги со множеством колонн, которые, в свою очередь, сменил зеленый цветущий оазис.
— Если бы вместо всех этих сказок кишлак Обисарым показался… — зло проговорил Саттар.
— Его не увидишь, — ответил Закир. — Его только с воздуха и можно увидеть. В горах он лежит.
— Ты давно в нем был? — спросил Саттар.
— Шесть лет назад. Батрачил там весну, лето и осень. Мой родной кишлак в двадцати километрах от Обисарыма… И тоже в горах. Похожи они один на другой.
— А дом Наруза Ахмеда знал? — поинтересовался Саттар.
— Нет, про Наруза Ахмеда я тогда ничего не слышал.
— Эге! Кто же это? — и Гребенников резко осадил своего коня.
Все посмотрели направо. Из глубины песков наперерез им неслась группа всадников, примерно с полэскадрона.
Остановились и Саттар с Закиром.
— Это уже не мираж, — с усмешкой проговорил Гребенников. — От такого миража нам может не поздоровиться.
Все трое без всякой команды приготовили винтовки, передернули затворы и стали ждать.
— Стрелять только по команде, — предупредил Саттар и подумал: "Плохо дело. Это, видно, джигиты Наруза Ахмеда. Нас они, конечно, увидели. Но как же мы их прозевали? Придется держать бой. Бежать глупо, да и все равно не уйдешь".
Группа мчалась без строя, и это-то главным образом насторожило Саттара, хотя он и знал, что нередко красные конники, чтобы не спугнуть басмачей и навязать им бой, следуя их же обычаю, передвигаются в песках без строя.
Когда расстояние сократилось, Саттар вдруг поднял винтовку над головой, потряс ею и крикнул:
— Наши! Дивизионцы!
Теперь уже Саттар хорошо разглядел серого коня, на котором сидел уполномоченный особого отдела Шубников.
Всадники сблизились, спешились, повалились на горячий песок и тотчас задымили цигарками.
Шубников улегся рядом с Саттаром и спросил:
— Кого-нибудь встретили в пути?
— Ни души. Ни вчера, ни сегодня. А что?
— Курбаши Мавлан соединился с Нарузом Ахмедом. Они целились на райцентр, но наши их отбросили, и теперь банда уходит в пески. Мы вышли на перехват.
— А особый отряд выступил? — спросил Гребенников.
— Выступил. И доброотрядцы, и краснопалочники. Все выступили. Мы их окружить должны. Завтра, по всем видам, рубиться будем.
Саттар смущенно сдвинул фуражку на глаза. Он понимал, что не вовремя оставил свою часть. Конечно, его личное дело тоже не терпит отлагательства, ведь речь идет о живом человеке, может быть, о жизни Анзират. И тем не менее он чувствовал себя неловко.
Шубников будто разгадал его мысли.
— Как только выручишь свою деву, поручи ее ребятам, а сам скачи ко мне. Понял?
Саттар кивнул.
— Я буду в засаде у Белого Мазара. Знаешь?
Саттар опять кивнул.
— А теперь скачи! Время дорого. И поглядывай хорошенько! Сейчас и на банду напороться не трудно. Их дозоры снуют всюду.
Уполномоченный поднялся с песка, еще раза два затянулся и отдал команду:
— По коням!
Дивизионцы взлетели в седла.
— Счастливо! — крикнул Шубников, трогая своего коня. — Быстрее оборачивайтесь, хлопцы!
Саттар, Гребенников и Закир сели на коней.
Группы тронулись, каждая в свою сторону.
Часа через три солнце спустилось к горизонту. Слева, километрах в десяти, неясно замаячили постройки одинокого кишлака.
— Колхоз имени Буденного, — пояснил Закир. — Хороший будет колхоз. Сейчас к нему воду ведут от канала.
Солнце скрылось за край земли. Небо сделалось багряным, потом тускло-серым.
Всадники понукали коней.
Наконец сиреневые громады гор вплотную надвинулись на степь. Дорога начала сужаться и повернула к ущелью, откуда тянуло холодным воздухом.
— Уртак помкомвзвода! — обратился к Саттару Закир. — Разрешите, я поеду передним. Тут трудная дорога. Очень трудная.
Всадники вытянулись гуськом. Каменистая ступенчатая тропа, прижимаясь к левой стене ущелья, повела на подъем.
— Овринг, — сказал, обернувшись, Закир.
Да, это был овринг — карниз, вырубленный руками человека вдоль отвесных скал. Местами он был выложен камнем, местами — бревнами, кое-где хворостом. По зыбкому, непрочному настилу лошади двигались медленно. Чем выше поднималась тропа, тем осторожнее делался их шаг. Слева высились скалы, справа, по дну ущелья, несся, грохоча и пенясь на камнях, бурный горный поток.
Почти у самого перевала, откуда тропа должна была пойти на снижение, на остром, как кинжал, скалистом пике всадники увидели крупного архара. Он стоял, не шевелясь, точно каменное изваяние, высоко подняв голову, увенчанную массивными рогами.
Карниз становился все уже и уже, и разминуться со встречным всадником здесь не было никакой возможности. Хворостяной настил колыхался под ногами коней. Казалось, что в любую минуту он может рухнуть и увлечь за собой в пропасть людей и животных.
Лошади, похрапывая, жались потными боками к каменной стене.
Когда в небе показались первые звезды, ущелье раздвинулось, горный поток исчез, и тропа незаметно перешла в каменистую дорогу. Она круто повела вниз, в неширокую долину.
Всадники придержали коней. Перед ними, как на рисунке, лежал кишлак. Среди темной зелени садов желтели глиняные домики. Один из них, как и писала Анзират, заметно выделялся. Он стоял посреди сравнительно большой усадьбы, окруженный высокими тополями, напоминавшими своей пирамидальной формой кипарисы.
Да, ничего не скажешь: Нарус Ахмед знал, куда упрятать свою жертву! Здесь Анзират ограждена от любопытных взоров и отрезана от всего мира.
Саттар тронул коня и начал спуск в долину.
Сумерки быстро сгущались. Наплывала звездная прохладная ночь. В кишлаке стояла тишина, и единственная улица его была безлюдна.
У ворот большой усадьбы всадники остановились. Ворота и дувал были настолько высоки, что даже с коня не удавалось заглянуть во двор.
Саттар постучал сапогом в ворота. Залаяла собака. Спустя некоторое время послышался голос:
— Кто там?
— Свои! — ответил Саттар. — Бойцы кавдивизиона.
— Сейчас, сейчас… Возьму ключи…
— Ого! — многозначительно заметил Гребенников. — Ворота на запоре.
— Таким "своим" они как раз и не особенно рады, — усмехнулся Закир. Какие мы им "свои"?…
Пришлось прождать несколько минут, прежде чем загремели ключи и ворота раскрылись.
Гостей встретил взъерошенный и перепуганный "хозяин" усадьбы, садовник Наруза Ахмеда. Приложив руку к сердцу, он рассыпался в приветствиях.
Гости поздоровались, и Саттар спросил:
— Хозяин?
— Да, хозяин.
— Остановимся у тебя на несколько дней.
Садовник угодливо поклонился и предложил Халилову поставить лошадей в конюшню.
— Не стоит, — отклонил предложение Саттар. — Ночью лучше на воздухе, а утром видно будет. Располагайтесь вон там, — и он показал бойцам на угол дувала, где виднелось что-то вроде коновязи. — Коней не бросать, — тихо предупредил Саттар товарищей. — Дежурьте по очереди.
Задав лошадям корму, "хозяин" пригласил Халилова в дом. У порога он полил гостю на руки воду из старинного медного кувшина с узким горлом, потом ввел в просторную комнату с пустыми нишами в стенах, где, кроме низенького круглого стола и потрепанного ковра на полу, никакой обстановки не было.
Однако через несколько минут все преобразилось. Хозяин внес большую белую кошму, развернул ее и положил вдоль стены мягкие пуховые подушки.
Едва он успел уложить последнюю подушку, как в комнату степенно вошел плотный пожилой человек с отвислыми чертами лица и маленькими, близко поставленными глазами. Из-под распахнутого халата его выглядывал треугольник груди темно-багрового цвета.
— Это мой гость, родственник, — представил его садовник. — Приехал из Андижана проведать… — Гость подал твердую руку Халилову, и тот почему-то сразу решил, что это вовсе не родственник. Саттар не узнал в нем Бахрама, телохранителя Ахмедбека, — ведь много прошло с того времени, когда мальчишка Саттар видел грозного Бахрама.
Садовник удалился. Бахрам и Халилов уселись на кошму, закурили, помолчали, а потом заговорили о разных разностях. Говорил, собственно, Бахрам, а Халилов слушал. Слушал и в то же время мысленно обыскивал дом, в котором скрывали его любимую. Дом был велик. В нем, конечно, не две и не три комнаты. И в какой-то из них спрятана Анзират, но в какой — догадаться трудно. Неужели Анзират, несчастная родная Анзират, здесь, под этой крышей?
Обводя внимательным взглядом стены, Саттар заметил с правой стороны еще одну дверь, узкую, невысокую, закрашенную известью. По всему было видно, что ею давно не пользовались. Интересно, куда она ведет?
Пока Бахрам и Халилов курили и беседовали, пожилая женщина накрыла стол. На нем появилась цветная скатерка, пиалы, чайники, лепешки, мелкий кишмиш, вяленый урюк янтарного цвета, кувшин со сливками.
Когда Бахрам и гость стали усаживаться у стола, в комнату вошел местный мулла — жирный старик с полусонными глазами. Он преувеличенно любезно приветствовал редкого гостя, высказал несколько комплиментов по адресу красных командиров и заявил, что считает для себя большой честью знакомство с Халиловым.
В пиалы полился ароматный чай лимонно-желтого цвета.
— Надолго к нам в гости? — поинтересовался мулла тонким дребезжащим голосом.
— Как будете принимать! — шутливо ответил Халилов, отпивая горячий напиток.
— Обижаться не придется, — проговорил садовник. — Под крышей моего дома гость находит все, что душе угодно.
— А гости бывают часто? — спросил Саттар.
Его сотрапезники переглянулись. Ответил мулла:
— Сказать правду, не балуют. Редко заглядывают. Поэтому мы всегда и рады им.
— Когда-нибудь приходилось бывать у нас? — поинтересовался садовник.
Саттар ответил, что не приходилось
— Может быть, позвать председателя совета? — искательно осведомился мулла. — Он вам нужен?
— Да, нужен, но звать не надо. Завтра я сам схожу к нему.
Саттар размышлял так: кони должны отдохнуть основательно, иначе на них далеко не уедешь. Под утро Саттар вместе с бойцами осмотрит весь дом и найдет Анзират. И пусть ни одна душа не пытается помешать ему в этом.
Женщина принесла блюдо с горячим пловом.
— Надо позвать твоих аскеров! — предложил садовник. — Плова на всех хватит.
— Не надо. Я им туда отнесу, — сказал Саттар. — Они должны быть около лошадей.
— Излишняя осторожность, — заметал мулла. — У нас в кишлаке спокойно. Да и ворота на замке.
Саттар ничего не ответил.
Когда с едой покончили и вновь вернулись к чаю, садовник встал, прошелся по комнате и, незаметно подав знак Бахраму, вышел. Вскоре за ним последовал и Бахрам.
Халилов остался наедине с муллой. Тот, медленно попивая чаек, завел обстоятельный разговор: расспрашивал Саттара о семье, о родителях, дядьях и тетках, о военной службе. Полчаса спустя, пожелав гостю хороших сновидений, мулла тоже удалился. Но тотчас же вошел садовник. Широко улыбаясь, он еще раз предложил позвать к столу бойцов: надо же угостить таких славных джигитов. Саттар взял блюдо с пловом и сказал:
— Не обижайтесь, ата, но не надо джигитам отлучаться от коней. Время беспокойное… А за плов спасибо. Я им отнесу его.
Настойчивость садовника не понравилась Халилову. Он вышел из дому, пересек двор и подошел к товарищам. Те стояли возле оседланных лошадей и о чем-то тихо переговаривались.
— Принимайте угощение, — сказал Халилов, подавая плов Гребенникову. А зачем оседлали лошадей?
— На всякий случай, — ответил Закир. — Тут что-то затевается. Я уж хотел сам идти к вам…
— Ну, ну… рассказывай.
— Выгуляли мы с Гребенниковым коней, обтерли, напоили, сами подкрепились из запасов. Ну и решил я по саду пройтись, груш немного набрать, уж очень хороши они в Обисарыме, знаменитые груши здесь. Ну, постоял я под старой грушей, съел парочку и прилег на травку отдохнуть. А кругом — груши…
— Да что ты тянешь, груши да груши! — вскипел Саттар. — Рассказывай скорее!…
— Я и рассказываю, — невозмутимо продолжал Закир. — Так вот, лежу я в травке, еще парочку груш съел и только думал для Гребенникова набрать, как вижу, пришли двое: здешний хозяин, что встречал нас, а с ним второй неизвестный. Встали они недалеко от меня, за персиками — персики здесь тоже хорошие, — и заспорили. Хозяин говорит, что надо седлать коней и сейчас же увозить кого-то, а второй возражает, доказывает, что никак нельзя увезти, так как бойцы находятся во дворе, увидят, что выводит коней из конюшни. И вот тогда я сообразил, что они, наверное, ведут речь о твоей Анзират.
— Не иначе, как о ней, — подтвердил Гребенников.
Халилов, волнуясь, слушал рассказ. Он нетерпеливо мял фуражку в руках, смуглое лицо его побледнело, губы пересохли.
— Кто-нибудь входил во двор после нашего приезда? — хрипло спросил он Закира.
— Приходил один — маленький, толстенький, — ответил Гребенников. Войти вошел, но назад не вышел.
— Ладно, все ясно, ребята, — проговорил Халилов. — Ну, теперь надо быть начеку! Никого со двора не выпускайте. Ни пешего, ни конного. Возможно, что они не откажутся от мысли увезти ее. Поэтому ты, Гребенников, наблюдай за воротами и калиткой, а ты, Закир, — за садом. Если кто-нибудь только попытается выехать или выйти, задерживайте его — и ко мне. Я спать не буду.
Проинструктировав бойцов, Халилов вернулся в дом, подбил повыше подушку, лег на кошму и задумался. Он не допускал мысли, что кто-то из троих — садовник, Бахрам или мулла — мог догадаться, зачем он сюда приехал. Это исключалось. В лицо его здесь никто не знал, а об отношениях с Анзират и в городе мало кто догадывался. Наруза Ахмеда в доме нет, он в песках с бандой. А этим "хозяином" или как там его руководит простая осторожность. Он боится, что Анзират может днем увидеть бойцов, рассказать о себе и попросить помощи. Не иначе.
Осторожный стук в стену прервал размышления Саттара. Он приподнялся и прислушался: сразу нельзя было определить, где стучали. Стук повторился. Саттар бесшумно вскочил и бросился к узкой закрашенной двери.
До него донесся приглушенный разговор. Разобрать слова было невозможно, но по голосам он догадался, что разговаривали мужчина и женщина.
"Что там происходит? — мелькало в голосе Саттара. — Кто эта женщина? Почему прекратился стук? Может, стучала Анзират? Подавала сигнал?"
Голоса за стеной стали громче, отрывистее. Послышалась какая-то возня. Ясно донесся женский крик:
— Оставьте меня! Уйдите! Никуда я не пойду!
Саттар узнал голос Анзират. Кровь ударила ему в лицо. Как быть? Выбежать из комнаты и ворваться в дом через другие двери? Так, и только так!
Он бросился к выходу, как вновь раздался уже отчаянный крик:
— Уйдите, собаки!… Не трогайте меня! Спаси-и-те!
Саттаром овладела ярость. Задыхаясь, он отбежал на несколько шагов и с бешеной силой с размаху ударил всем телом в глухую замазанную дверь. Раздался треск, стены вздрогнули, посыпалась известка. Саттар снова отбежал и снова, подобно разъяренному барсу, бросился на створку. Дверь с треском сорвалась с петель, и вслед за ней он, как камень, пущенный с горы, влетел в соседнюю комнату, освещенную керосиновой лампой.
— Саттар! — услышал он громкий зовущий голос. Анзират лежала на тахте. Садовник зажимал ей рот, а мулла пытался связать ей руки чалмой. В сторонке у зеркала стоял Бахрам.
Четыре пары глаз смотрели на Саттара сквозь медленно оседавшую пыль. Он медлил лишь долю секунды, какой-то миг. Затем ринулся на садовника, который был к нему ближе всех, и ударил его кулаком в выпиравший кадык с такой силой, что тот, падая, стукнулся головой о стену и потерял сознание. Но мулла, жирный маленький мулла, не растерялся. С кошачьей ловкостью он кубарем подкатился к Саттару, пытаясь схватить его за ноги. Саттар изловчился и носком сапога ударил муллу в живот. Толстяк припал к полу и завизжал. Саттар хотел было добавить еще, но внимание его отвлек Бахрам. Тот бросился через комнату к стене, где на ковре висел тяжелый клинок.
Саттар опередил Бахрама на мгновение, вскочил на тахту и, сорвав клинок, молниеносно обнажил его. В воздухе мелькнула серебристая сталь, и Саттар прикончил бы самого опасного врага, если бы не Анзират. Она, бледная, охватила ноги Саттара, качнула его и крикнула:
— Саттар! Нельзя! Не надо!
Клинок все же со свистом опустился, но не туда, куда метил Саттар. У Бахрама начисто отлетело правое ухо. Он дико зарычал, а затем, зажав рану рукой, бросился вон из комнаты.
— За мной, Анзират! — крикнул Саттар и потянул девушку за руку через дверь, которую только что выбил.
Только теперь Саттар вспомнил о нагане и вытащил его из кобуры. Но наган не понадобился — на пути им никто не попался.
— Коней! Быстро! — подал он команду бойцам и, оставив около них Анзират, с карабином в руке бросился к воротам. Несколькими ударами приклада он сбил замок и открыл створки.
Минуту спустя Саттар и его друзья скакали по улице, поднимая тучи пыли.
13
Курбаши Мавлан, пользуясь темнотой, пытался оторваться от преследовавшего его кавалерийского дивизиона и укрыться в горах, в кишлаке Обисарым. Туда вел его Наруз Ахмед.
Во второй половине ночи курбаши с радостью убедился, что кавдивизион отстал далеко в песках. Мавлан поднял руку, пустил коня шагом и приказал джигитам спешиться и стать на отдых. В разные стороны были высланы дозоры, а Наруз Ахмед с десятком джигитов выдвинулся вперед к горам, чтобы разведать подходы к кишлаку.
Наруз поскакал на юг и в предгорьях угодил под выстрелы красных конников, которых держал в засаде уполномоченный особого отдела Шубников.
Басмачи быстро повернули коней и сломя голову помчались назад, ведя за собой погоню.
Наруз Ахмед считал, что поступил правильно, не приняв боя. Он прежде всего должен был предупредить курбаши о новой опасности, грозившей всему басмаческому отряду. Кроме того, Наруз понимал, что спасение его самого и его людей будет зависеть от того, успеет ли он соединиться с основными силами отряда. Но он не мог знать и даже предполагать, что за минувшие два часа, пока он был в разведке, произошли события, которые изменили весь ход дела.
Кавалерийский дивизион все же настиг банду Мавлана и вел с ней бой. На помощь конникам подоспел отряд добровольцев-краснопалочников. Окруженный Мавлан яростно отбивался, но кольцо вокруг него неумолимо сжималось.
Все это Наруз Ахмед увидел и понял слишком поздно. Ему ничего не оставалось, как влиться в бой и поддержать курбаши.
Опасаясь полного уничтожения своих сил, Мавлан решил прорваться хоть с горсточкой людей и уйти в пески. Сейчас, в горячке боя, он собирал вокруг себя лучшую сотню из отчаянных головорезов, приведенных им из-за кордона. Остальных можно бросить…
Он крутил своего скакуна во все стороны, его огромная белая чалма мелькала среди тюбетеек и бритых голов басмачей.
Наконец Мавлану удалось сбить сотню. Издав дикий гортанный крик, он ринулся на ряды плохо вооруженных добровольцев.
Подскакавший Наруз Ахмед угадал замысел курбаши и решил ударить по добровольцам с тыла. Но он упустил из виду своих преследователей Шубникова с его взводом. Шубников сразу разобрался в запутанной обстановке боя и повел бойцов на помощь краснопалочникам.
Мавлан несся на них с одной стороны, Наруз Ахмед — с другой и, наконец, Шубников — с третьей.
Внезапно, на полном скаку, Наруз Ахмед сдержал своего горячего карабаира. Он увидел, что большая часть джигитов курбаши дрогнула, сбавила аллюр и начала рассыпаться.
— Подлые шакалы! — крикнул Наруз, размахивая шашкой. — Назад! Кого вы покидаете?
Его голос потерялся в шуме боя. Смелые и дерзкие в кровавых налетах на беззащитные селения, басмачи, как всегда, трусили в открытой схватке. Уж если они бросали своего курбаши, то что мог значить для них приказ Наруза Ахмеда!
Ослепленный злобой, Наруз Ахмед, пригнувшись к шее коня и размахивая шашкой, не заметил, как врезался в центр боя. Он не почувствовал даже, что чей-то клинок своим концом ужалил его повыше левой брови. Он очнулся лишь в ту минуту, когда перед его глазами конь курбаши взвился "свечой" на дыбы и сбросил с себя мертвого седока в белой чалме.
Панический, животный страх сжал сердце и горло Наруза Ахмеда. Ничего больше не видя, он дернул повод, сдавил коленями бока своего карабаира, и тот в несколько скачков вынес его в безопасное место. Бессмысленными от ужаса глазами он огляделся и заметил, что к нему приближаются несколько басмачей.
Наруз Ахмед ударил коня и помчался от них во весь опор. Он хотел быть один, ему надо было избавиться от этих непрошеных сообщников. За одним беглецом красноармейцы, может быть, и не погонятся, а за кучкой обязательно…
Проскакав с километр, он выскочил на высокий бархан, остановился и посмотрел назад. Вдали чуть виднелись маленькие фигурки. Бой выдохся. Под ударами красных конников валились на песок последние басмачи. Но небольшая цепочка, увязавшаяся за ним, огибала бархан и приближалась.
Наруз Ахмед понял, что это — конец. Пал Ахмедбек, пал Мавлан, убиты сотни лучших джигитов, которые должны были служить основным ядром будущей армии мщения. И теперь нигде не укрыться Нарузу Ахмеду — ни в городе, ни в кишлаке Обисарым. Надо уходить. Бежать на ту сторону. Но прежде необходимо попасть в Обисарым. Там клинок с отцовской спасительной тайной, там верный Бахрам.
Взвилась тяжелая камча, со свистом опустилась между ушами карабаира, и тот, сделав страшный прыжок, ринулся вперед.
Пригнувшись к луке, скакал Наруз Ахмед в Обисарым, а позади, боясь отстать от своего последнего вожака, мчались одиннадцать уцелевших джигитов из разгромленной банды курбаши Мавлана.
14
Услышав лошадиный топот, а затем решительный стук в ворота, Бахрам и садовник в страхе забегали по двору, отыскивая место, где можно было бы понадежнее укрыться. Оба они твердо решили, что это возвратился Саттар Халилов, и теперь уже не с двумя аскерами, а с большой подмогой.
Но в это время из-за дувала послышался знакомый и злой голос Наруза Ахмеда:
— Вы что, оглохли там? А ну, открывайте скорее!
Трудно сказать, кого бы сейчас предпочли видеть Бахрам и садовник: своего грозного хозяина или ночного гостя.
Садовник засеменил к воротам и, распахнув их, тотчас же повалился на землю, готовый принять любое наказание от рук хозяина.
Бахрам поправил повязку на голове и встал в сторонке. Во двор въехали Наруз Ахмед и одиннадцать джигитов на мокрых, измученных конях.
Наруз Ахмед спрыгнул с седла и быстро подошел к Бахраму, по бледному лицу которого и окровавленной повязке можно было понять, что здесь что-то произошло. Наруз проговорил лишь одно слово:
— Клинок?
— Цел, — ответил Бахрам, — и он стоил мне уха.
— Что ты говоришь? — нахмурился Наруз Ахмед. — Кто посмел?
— Посмел аскер Саттар Халилов…
— Как?
— Саттар Халилов с аскерами был здесь ночью и увез Анзират.
Гнев чуть не задушил Наруза Ахмеда. Глаза его налились кровью, лицо передернулось гримасой.
— Саттар Халилов… — пробормотал он побелевшими губами.
— Да, — тихо произнес Бахрам и, взяв Наруза Ахмеда за руку, повел его в дом.
У самого порога Наруз высвободил руку, подошел к скамье и сел на нее.
— Неси клинок, — сказал он. — В дом я не пойду…
Бахрам с недоумением посмотрел на него, но ничего не сказал и молча вошел в дом.
Наруз Ахмед сидел на самом солнцепеке. Мысли его ускользали и путались, вертелись вокруг одного: надо бежать, зря он ввязался, нет, не зря — клинок должен спасти… Отец остался не отомщенным… Куда бежать?
— Возьми! — сказал появившийся Бахрам и подал знакомый клинок.
Наруз Ахмед машинально принял его и, усадив Бахрама рядом с собой, забормотал запекшимися губами:
— Мавлан убит… Отряд разбит, разбежался… Надо бежать… Седлай коня!
Бахрам воспринял эту страшную весть до того спокойно, что Наруз Ахмед заподозрил — уж не лишился ли слуха верный Бахрам.
— Ты слышал, что я сказал?
Бахрам кивнул и спросил в свою очередь:
— Окончательно решил бежать?
— Да… Другого выхода нет.
— Ты не голоден?
— К черту! — вспылил Наруз Ахмед и встал. — Седлай коня и едем!
15
В ту минуту, когда Наруз Ахмед покидал кишлак Обисарым, Саттар Халилов въезжал в колхоз имени Буденного. Он не мог миновать его. Конь под Саттаром окончательно вымотался и еле передвигал ноги. До дивизиона на нем никак не добраться. Надо менять коня. И такой обмен можно сделать только в колхозе.
Едва Саттар въехал в кишлак, как из ближайших дворов высыпали женщины и окружили его. Каждая старалась первой сообщить гостю новости. Оказывается, на рассвете красные конники вместе с добровольцами-дехканами окружили в песках басмаческую банду Мавлана и разгромили ее. Сам курбаши Мавлан убит. Все мужское население кишлака выехало на место боя зарывать трупы.
О замене коня не могло быть и речи: все лошади заняты. Да и торопиться некуда: с Мавланом покончено, можно немножко передохнуть.
Заехав в первый же двор, Саттар расседлал лошадь и привязал ее к стволу раскидистой чинары. Потом вымыл в арыке руки и освежил лицо. Предложение хозяйки пройти в дом, попить чаю и поесть Саттар решительно отклонил. Нет, нет. Не сейчас. После. Ему не до еды. Он не спал двое суток кряду и только сейчас почувствовал, как сильно устал. Все тело ломило, в голове стоял туман, глаза слипались. Спать, спать, спать…
Он закурил, положил под голову седло и лег под чинарой.
Давно не было так спокойно на душе Саттара. Анзират спасена, и за судьбу ее не надо тревожиться. Закир в сопровождении Гребенникова повез ее в свой кишлак, и она найдет временный приют в доме родителей Закира. А потом он испросит отпуск у командира дивизиона и приедет за ней. И все это будет в самые ближайшие дни! Глухую ревнивую мысль о том, что Анзират была женой Наруза Ахмеда, он отгонял от себя, как злую докучливую осу. Главное Анзират спасена, он пришел на ее зов, И Саттар быстро уснул крепким сном здорового, смертельно уставшего человека.
Над ним ворковали горлинки, таясь в густой листве чинары.
Разгорался знойный день.
…Спустя три часа к кишлаку тихо подъехали Наруз Ахмед, Бахрам и одиннадцать басмачей. Им тоже нужны были свежие лошади. План их был прост: выдать себя за добровольцев-краснопалочников и уговорить колхозников обменять коней. Никаких боевых действий они решили не предпринимать. Сейчас им было не до этого. Лошади — и только лошади!
Но как только Наруз Ахмед увидел во дворе крайнего дома привязанного к чинаре строевого коня и спящего возле него человека, он забыл о лошадях и обо всем на свете. Захватив с собой троих басмачей, Наруз тихо въехал во двор.
Форма Халилова, драгунское седло и лежавшее тут же оружие сразу подсказали Нарузу Ахмеду, кто находится перед ним.
— Связать по рукам и ногам! — шепнул он двум басмачам.
Саттар продолжал мирно спать, не ведая о беде, нависшей над ним. Басмачи кошками соскользнули с коней и, вооружившись длинной веревкой, навалились на спящего. Саттар проснулся, но не успел даже сообразить что-либо, как был оглушен ударом приклада по затылку. Его мгновенно спеленали, как младенца.
— Вяжи конец к хвосту своего коня, — приказал Наруз Ахмед.
Басмач начал старательно вывязывать узел. Вдруг рядом на улице захлопали выстрелы.
Наруз Ахмед вздрогнул и приподнялся в стременах. Всадники, ожидавшие за дувалом, кучей ринулись в переулок. Конь под Бахрамом завертелся.
— Аскеры! — крикнул он истошным голосом и, пригнувшись к луке седла, послал своего коня вслед удиравшим басмачам.
Басмач вскочил на коня и вылетел со двора. Веревка натянулась. Связанный Саттар перевернулся, как неживой, раз, другой — и облако пыли скрыло его.
Наруз Ахмед подбежал к дувалу и стал наблюдать за улицей.
Басмач проскакал полсотни шагов и хотел уже свернуть в переулок, как наперерез ему с обнаженным клинком вылетел всадник. Ловким ударом он разрубил натянутую струной веревку, и Саттар остался на дороге.
Басмач рванулся было в сторону, но тот же клинок блеснул в лучах солнца еще раз. Освободившаяся от седока лошадь перемахнула через арык, уткнулась головой в дувал и облегченно заржала.
Всадник подъехал к лежавшему в пыли Саттару и соскочил с коня. Опустившись на колени, он ножом быстро разрезал веревки, опутавшие руки и ноги Халилова.
Это был уполномоченный особого отдела Шубников. Со своим отрядом он шел по следу Наруз Ахмеда и наконец настиг его.
Осторожно выглядывая из-за дувала, Наруз Ахмед наблюдал за Шубниковым. Когда тот опустился над телом Саттара, он подал знак басмачам, вместе с ними вылетел на улицу и поскакал вправо.
Шубников схватился за винтовку и открыл по беглецам огонь. Конь под одним упал на передние ноги и, храпя, кувыркнулся через голову. Но второй басмач и Наруз Ахмед, нещадно нахлестывая обезумевших лошадей и низко пригнувшись к седлам, продолжали удаляться. Однако уже в конце улицы, подняв коней на дыбы они повернули: навстречу им мчались пять конников. Дико гикнув, Наруз Ахмед послал коня на невысокий дувал, и тот легко преодолел препятствие. Басмач же замешкался и попал под клинки красноармейцев.
Сбив с ног старика во дворе, Наруз промчался через сад, через виноградник, перескочил через второй дувал и оказался в переулке.
Километрах в десяти от колхоза он нагнал скакавшего Бахрама и присоединился к нему.
Убедившись, что их уже не преследуют, Бахрам и Наруз Ахмед перевели взмыленных коней на шаг. Долго они ехали молча. Наконец Бахрам спросил:
— Что ты сделал с этим аскером?
— Ничего, — угрюмо ответил Наруз Ахмед. — Его привязали к хвосту коня, а тут выскочил красный дьявол и все испортил…
— Как?
— Разрубил веревку и убил джигита.
Бахрам покачал головой и вновь спросил:
— А ты знаешь, кого ты привязывал к хвосту?
— Нет, а что?
Бахрам усмехнулся:
— Это был тот самый аскер, который отрубил мне ухо и увез Анзират.
Наруз Ахмед плотно закрыл глаза, и из груди его вырвался стон.
— Будь я проклят!… Как я его не узнал?… Неужели это он?
— Он, он… Саттар Халилов! Видно, суждено ему жить…
Наруз Ахмед вновь сомкнул веки. Желваки на его скулах задвигались. Гнев, отчаяние и злоба кипели в нем. О ишак! Длинноухий ишак! Упустил такой случай! И почему взбрело ему в голову привязать его к хвосту коня? Зачем? Не проще ли было покончить с ним ударом ножа? А теперь он жив… Жив! И будет смеяться над своим мстителем… О шайтан!
Они продолжали ехать шагом, сберегая силы лошадей, и молчали, думая каждый о своем.
Под вечер, когда до пограничной реки оставался час езды переменным аллюром, Бахрам первым нарушил молчание:
— Ты твердо решил перебраться на ту сторону?
— А куда же еще? — с раздражением спросил Наруз Ахмед.
— Ты уверен, что тебя там ожидают белые лепешки, шашлык и вино?
Наруз кинул на собеседника короткий злой взгляд и хмуро произнес:
— Тебе лучше известно, что там ожидает нас.
Бахрам кивнул и сказал:
— В том-то и дело, что мне лучше знать. Одиннадцать лет — срок вполне достаточный для того, чтобы кое-что понять.
— И что же ты хочешь сказать?
Бахрам не ответил. Оглянувшись назад, он увидел вдали большое пыльное облако и хлестнул коня.
— Погоня!
Никаких сомнений быть не могло: облако приближалось. Сквозь пыль угадывались очертания всадников. Их оружие поблескивало в лучах заходившего солнца.
Началась бешеная скачка.
Солнечный диск коснулся края земли и стал угасать.
Кони вынесли Наруза Ахмеда и Бахрама на высокий каменистый берег реки с темно-стальными быстрыми водами.
— Пускай с разгону, — посоветовал Бахрам, и они отъехали шагов на двадцать от берега.
Наруз Ахмед ударил каблуками в бока коня и через мгновение был уже в воде. Конь храпел, скалил зубы, Оторопело водил налитыми кровью, глазами и, преодолевая быстрое течение, уносил твоего хозяина на чужой берег.
Спохватившись, что рядом с ним никого нет, Наруз Ахмед повернулся в седле и увидел Бахрама на берегу.
— Давай! Скорее! Они уже близко! — надрывая глотку, крикнул Наруз Ахмед.
— Плыви, плыви! — донесся до него голос Бахрама. — Я уже был там. С меня хва-а-тит!…
Бахрам повернул коня и шагом поехал навстречу приближавшимся всадникам.
Смятение охватило Наруза Ахмеда. Значит, он остается… Бахрам, верный Бахрам, слуга и телохранитель отца, бросает его в самую трудную минуту…
Наруз хотел что-то крикнуть, но в горле застрял какой-то ком, душили слезы. Закусив губу, он выбрался на чужой глинистый берег и, не оглядываясь, пустил коня вскачь куда глаза глядят.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Словно глубокими морщинами, избороздили южную окраину Тегерана кривые улочки и переулки.
Шум большого города сюда не доходит. Не дотягиваются до этих кварталов трубы водопроводов, иссякает где-то в пути электрический свет. Вечный полумрак, духота и зловоние царят в южном Тегеране.
Здесь прозябали люди на последней грани нищеты. В маленьких кособоких хибарках из глины или необожженного кирпича, а то и просто в ямах, вырытых в земле и покрытых чем попало, в страшной скученности влачили свое существование все те, чьи руки ценились очень дешево или вообще никому не были нужны. Как в знойной пустыне, вода здесь была редкостью. Ее пускали по загрязненным отбросами арыкам раз в неделю, а то и реже. Люди запасались ею впрок и пили экономно, оставляя лишнюю кружку уже тухлой воды на завтра. Все здесь расходовалось по капле и крошке. Только воздух, пыльный и пахучий, выдавался вволю да щедро палило головы бедняков горячее беспощадное солнце.
На одной из таких зловонных улиц в жалкой глинобитной хибарке жил Наруз Ахмед. Время круто расправилось и с его обликом, и с его привычками. Ничто не напоминало в нем теперь ни сына знатного бухарского вельможи, ни преуспевающего инспектора потребсоюза… Старое поношенное платье, стоптанные чувяки, несколько медных грошей в кармане — вот все, чем располагал теперь Наруз Ахмед. И впереди — тоскливые нищие дни, бесконечные поиски хоть какого-нибудь заработка.
Ушла молодость… Восемнадцать лет искал он своей судьбы, особенной, ему лишь предназначенной. И не нашел. Чудесный клинок, который он с таким трудом добыл и ради обладания которым шел на смертный риск, не принес ему богатства. Клинок хранил свою тайну. Этой тайной владел старый лекарь-табиб Ахун, один из двух посвященных в секрет булатного клинка. А найти старика никак не удавалось.
Долго искал его Наруз Ахмед. Очень долго. В поисках его он три года шатался по базарам, караван-сараям и мечетям Афганистана. А когда наконец напал на верный след и полный ожиданий открыл дверь Ахуновой лачуги, оказалось, что старый шайтан еще на прошлой неделе ушел с караваном в Иран. Наруз не задумываясь последовал за ним. Но и в Иране Нарузу не посчастливилось. Старик будто ускользал от него. Казалось, вот-вот они должны встретиться, люди утверждали, что третьего дня Ахуна видели в чайхане, что только вчера почтенная тетушка Зейнаб-ханум купила у него мазь от чесотки, но старик снова исчезал, как сказочный джин. Следы его неизменно терялись, чтобы через некоторое время обнаружиться вновь и вновь исчезнуть. Он поистине был неуловим. В июне сорок первого года в Рафсинджане, на юге Ирана, Наруз Ахмед окончательно потерял след старика и, кажется, навсегда.
Терзаемый горьким отчаянием, обнищавший Наруз скитался по всему Ирану в погоне за дневным заработком. И куда его только не кидало, где он только не побывал! Вначале он работал грузчиком на текстильных фабриках в Исфагане и Бехшахре; потом был уличным торговцем наркотиками в Тавризе; зазывалой купеческих лавок на базарах Керманшаха и Кашана; комиссионером по продаже фальшивых рубинов…
В городе Ахвазе его научили бить в барабан, и он полгода состоял барабанщиком в оркестре. В Казвине он овладел ремеслом массажиста и почти год мок в подземных банях города. В Реште старый дервиш доказал ему, что когда пуст желудок, то самым вкусным блюдом кажется обыкновенная саранча. Он научил Наруза Ахмеда засушивать и сохранять этот крылатый пищевой продукт. В восемнадцати километрах от Тегерана, в гостинице "Дербент", Наруз Ахмед постиг искусство полотера и некоторое время кормился за счет паркетного блеска.
Но и "легкий" заработок не давался в руки. Любая работа, даже самая презренная, бралась с бою. Все это осточертело Нарузу Ахмеду. Глухая враждебность свила гнездо в его сердце, он озлобился, ожесточился. Он стал ненавидеть все окружающее: эту чужую для него страну, людей, небо, звезды, солнце…
Осень сорок первого года вдохнула в Наруза Ахмеда какие-то надежды. Летом гитлеровская Германия вторглась в пределы Советского Союза. Газеты предсказывали скорую гибель коммунистического режима. Иран с первых дней войны заявил о своем нейтралитете, но этот нейтралитет носил очень странный характер: гитлеровские разведчики всех рангов и мастей наводнили страну; они пролезали во все учреждения, захватывали важные посты. В Тегеране, Реште, Пехлеви и Казвине появились активные нацистские группы. Из немцев, проживавших в Иране, спешно формировались ударные батальоны. Их отводили в горы и там обучали военному делу. К границам СССР подтягивались диверсионные, шпионские и террористические группы. Их сколачивали из бывших белогвардейцев, из дашнаков, муссаватистов и басмачей. Перебрасывалось оружие, закладывались тайники с продовольствием и боеприпасами. Влиятельные лица подкупались гитлеровскими агентами. Берлин не жалел денег: в стране велась разнузданная антисоветская пропаганда.
На стенах домов и на заборах запестрели надписи с призывами идти рука об руку с фюрером, день и ночь передвижные радиостанции кричали о победах немецкого оружия.
В воздухе запахло порохом. Обстановка была ясна: фашисты хотели вовлечь Иран в войну против Советского Союза. И к этому все шло. Готовился военный переворот.
Тут-то и понадобился Наруз Ахмед. О его существовании пронюхал известный в Иране гитлеровский разведчик майор Фриеш. Это случилось в конце июня. Через сутки после встречи с майором Наруз Ахмед оказался в составе диверсионной группы в пустыне Даште Кевир под Гярмсаром. Началась сытая жизнь, появились деньги. Судьба, казалось, обнадеживающе кивнула Нарузу. Группу готовили к выброске на территорию Узбекистана. С этой целью разношерстный сброд, набранный майором, обучали радиоделу, взрывной технике, топографии, приемам самозащиты и нападения, владению всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Немецкие "специалисты" натаскивали вчерашних басмачей в таких "тонкостях", как пользование сильнодействующими ядами, прыжки с парашютом, шифровальное искусство.
В первых числах августа в Тегеране под видом делового представителя торговой фирмы появился один из руководителей гитлеровской разведки адмирал Канарис.
Все было готово. Ждали только сигнала.
Правительственный переворот, затеянный реакционной военщиной, вначале был назначен на двадцать второе августа, затем перенесен на двадцать восьмое. Но двадцать пятого…
Эту дату Наруз Ахмед никогда не забудет. Она убила ожившие надежды и вновь ввергла его в беспросветную нужду. 25 августа в Иран неожиданно вошли советские войска.
Адмирал Канарис мгновенно исчез. Майор Фриеш "испарился", словно его и не было. Местные фашисты и их подпевалы частью разбежались, частью ушли в подполье.
Заигрывавший с Берлином Реза-шах отрекся от престола. Старый кабинет ушел в отставку. Было сформировано новое правительство.
Опасаясь разоблачения и ареста, Наруз Ахмед перебрался на восточную окраину страны и вблизи Мешхеда нанялся рабочим на сахарную плантацию. Вновь в Тегеране появился он лишь зимой сорок шестого года. Нищета так сдавила Наруза, что оставалось одно: повыгоднее сбыть проклятый клинок. Сделать это можно было только в Тегеране, где много охотников до всякой старины.
Тайна, окутывающая клинок, уже потеряла для него всякую привлекательность. Да и была ли она вообще? Теперь ему казалось, что никакой тайны и не было. Может быть, отец просто посмеялся над ним? Может, клинок являлся для Ахмедбека просто символом старой хорошей жизни, памятью о последнем эмире? Но что это значило для Наруза Ахмеда? Ровным счетом ничего. Нарузу до зарезу нужны были наличные деньги, а не сомнительная тайна. Отец погиб, табиб Ахун пропал, возможно, умер… Нет, клинок стоит не больше, чем он стоит в лавке древностей!
И Наруз Ахмед сбыл клинок человеку, понимающему толк в старинном оружии, и на вырученные деньги купил неброский с виду, но очень приличный костюм, модную фетровую шляпу, полуботинки и две сорочки. Приличный костюм все же дает какие-то шансы в жизни…
Кроме того, у Наруза еще осталась значительная сумма, которую он отложил на "черный день" — мало ли что могло случиться!
Совершив удачную продажу и прошатавшись дня два по магазинам, Наруз покинул Тегеран и вновь появился в столице Ирана лишь в начале сорок девятого года.
К переезду в Тегеран его толкнули уже надоевшая причина — отсутствие легкого и прибыльного дела — и уговоры бродячего фокусника Али Мансура. Дружба с ним началась восемь лет назад и оказалась довольно выгодной для Наруза Ахмеда. В частые наезды фокусник останавливался у него, иногда жил подолгу, и это время для владельца лачуги оказывалось самым сытным и беззаботным. Али Мансур умел добывать деньги! И часть их перепадала Нарузу Ахмеду. Кроме того, в периоды особого расположения фокусник посвящал друга в тайны своей профессии. А в будущем это очень могло пригодиться Нарузу Ахмеду, — мало ли что ожидает человека в жизни!
Али Мансур собирался поработать лето в Тегеране и окрестных селениях. Ему нужен был постоянный угол в городе и дешевый помощник. Старик уговорил Наруза ехать с ним, подыскал для жилья лачугу за небольшую плату и пообещал через неделю пристроить его к делу.
Так началась новая жизнь в столице. И началась так же безрадостно, как и всегда: без денег, с одной лишь надеждой на лучшие дни.
Наруз Ахмед лежал, уставившись в грязный косой потолок, и думал о том, куда мог деваться Али Мансур. Позавчера утром он покинул дом с тем, чтобы купить рису и муки, и больше не появлялся. Что могло случиться? Или он выехал куда-нибудь? Почему же тогда не зашел за своим сундуком? Без него фокусник как без рук, все волшебство заключено в этом старом сундучке, валяющемся сейчас в углу каморки.
Занятый этими мыслями, Наруз скорее почувствовал, чем услышал, что в комнату кто-то вошел. Он привстал и увидел незнакомого худого старика в белом халате. Стоя посреди комнаты и вращая головой на длинной шее, он презрительно осматривал голые стены. Когда взгляд его остановился на деревянном лежаке, где, свесив ноги, сидел Наруз Ахмед, старик сказал:
— Салям алейкум!
— Алейкум салям! — торопливо ответил хозяин и, соскочив с лежака, поклонился гостю.
Старик вздохнул, сел на край, достал из-за пояса маленькую тыковку, вынул из нее щепотку наса и, заложив ее за щеку, начал жевать.
Наруз Ахмед с растерянным видом смотрел на неожиданного гостя. Его охватило какое-то смутное беспокойство.
Старик посидел некоторое время в молчании, а затем без всяких восточных церемоний спросил:
— Как твое имя?
— Наруз Ахмед.
— Сын Ахмедбека?
— Да.
— Не думал встретиться… Ты узнаешь меня?
Наруз еще пристальнее всмотрелся в изрезанное глубокими морщинами лицо старика и отрицательно покачал головой. Нет, он не знал этого человека.
— Это было давно. Много лет назад, — тихо проговорил гость. — Я был таким, как ты сейчас, а ты — совсем маленьким. Вот таким, — и он показал рукой. — Я первый обучил тебя грамоте. Я — Ахун Иргашев.
Нарузу Ахмеду показалось, будто силы сразу оставили его: плечи опустились, руки беспомощно повисли.
— Ахун-ата? — пробормотал он, почти не шевеля губами.
Старик закивал головой, и лицо его задвигалось в улыбке.
— Я помню… Я вспомнил… Увидев вас, я почувствовал…
— Что ты почувствовал? — спросил Ахун.
— Ну, как вам сказать?… Что-то такое…
— Понимаю, понимаю…
— Но как вы нашли меня?
— Нашел, сын мой. Меня направил к тебе старый Али Мансур.
— Где же он сам?
— Его уже нет. Аллах взял к себе душу Али Мансура. Позавчера утром он попал под автомобиль, колесо переломило ему спину. Ничто не могло его спасти, даже мои целебные травы. Умирая, он сказал, что ты его друг, и просил передать вот это, — Ахун достал из-под халата матерчатый сверток и подал Нарузу Ахмеду. Тот быстро развернул его и увидел деньги. Много денег.
— Ой! Как же это так? Мансур умер?
— Да, умер… — вздохнув, подтвердил старик, поглаживая бороду желтой высохшей рукой.
Наруз Ахмед сунул сверток с деньгами под одеяло и, забыв сразу о Мансуре, сказал:
— А как я вас искал, Ахун-ата! И где только не искал…
— Плохо искал, если не нашел. Где же ты искал?
— Всюду. Сначала в Афганистане, а затем здесь. Сколько я объездил городов. Был в Ахвазе и Фирузаде, Ширазе и Сари, Керманшахе и Реште, Тавризе и Рафсинджане.
— Много, — покрутил головой Ахун. — А когда ты был в Рафсинджане?
— Весной сорок первого.
— А я весной уехал из Рафсинджана и поселился в Кермане. Ты не был там?
— Нет.
— А зачем ты искал меня?
Наруз Ахмед потер лоб, покрывшийся испариной, и подсел к гостю на кровать.
— Длинная история. Вы мне нужны были вот так, — и он провел ребром ладони по горлу. — Я готов был вскарабкаться на небо, чтобы найти вас. Отец мне сказал…
— Где Ахмедбек? — перебил его Ахун.
Наруз Ахмед насупил брови и хмуро ответил!
— Он пал в бою под знаменем эмира…
— О! Расскажи все подробно! — потребовал гость.
Наруз Ахмед закурил дешевую сигарету и стал рассказывать.
Ахун внимательно слушал, качал головой, цокал языком и поглаживал свою редкую белую бороду.
— Отец приказал отыскать клинок, подаренный ему эмиром Саидом Алимханом. Я отыскал…
— Где клинок? — встрепенулся Ахун, и глаза его заблестели.
Наруз Ахмед беспомощно развел руками и признался, что продал его.
Ахун вскочил с места.
— Когда продал?
— Три года назад.
— Где?
— Здесь, в Тегеране.
— Ты глупец! Ты безумный! Аллах отнял у тебя разум. Разве ты не знал, что это за клинок?
Наруз Ахмед смешался и не мог произнести ни слова.
— Ай-яй-яй… Ай-яй-яй… Этот клинок мог сделать и тебя, и меня, и наших детей, и внуков самыми богатыми людьми.
Наруз Ахмед тупо слушал. Слова старика будто оглушили его, В мозгу вертелось: "Значит, отец говорил правду… Тайна… Богатство было в руках… Все, все погибло…"
— Глупец! — воскликнул расстроенный Ахун. — Кому ты его продал?
Наруз Ахмед задумался на мгновение и ответил, что продал какому-то знатоку в европейской части города, около ресторана. Человек этот дал вдвое больше, чем предлагали на базаре.
— Ай, ай!… — сокрушался старик. — Какое несчастье, какое несчастье!
— Что ж… Теперь уж поздно горевать, — чуть слышно ответил Наруз Ахмед.
— Не поздно! — взвизгнул Ахун. — Не поздно! Надо отыскать человека, которому ты продал клинок…
— Ха! — горько усмехнулся Наруз. — Тегеран велик…
Он виновата посмотрел на старика. Обхватив руками голову, тот качался и стонал. На выпуклом виске билась багровая склеротическая жилка.
— Отыскать… Отыскать… — бормотал Ахун.
— А в чем же состоит тайна, уважаемый ата? — нерешительно опросил Наруз. — Может быть, и не стоит искать?
Ахун выставил бороду вперед, и лицо его перекосилось от негодования.
— Как не стоит? Ты что говоришь, сумасшедший?
— Я спрашиваю: в чем заключается тайна?
— Тайну я открою тебе только тогда, когда клинок будет в наших руках. И тогда ты будешь целовать мои ноги. Ищи этого человека! Брось все дела и ищи! Я помогу тебе деньгами.
Гость пробыл у Наруза Ахмеда до сумерек. Уходя, он оставил адрес своей квартиры и пачку кредиток.
2
Знаменитый тегеранский базар называют торжественно "Эмир".
Тегеранский базар — это хаотическое нагромождение построек, связанных между собой сложным лабиринтом крытых коридоров, улочек и переулков, в которых лепятся друг к другу магазины с яркими витринами, лавки с глухим фасадом, ларьки, киоски, навесы, чайханы, ошханы, парикмахерские и ремесленные мастерские.
"Эмир" — это хаос всевозможных звуков. В воздухе стоит неумолчный гул: кудахчут куры, которых несут связанными попарно, вниз головой, на коромыслах; предсмертно блеют овцы, над которыми занесен неумолимый нож мясника; ревут равнодушные ко всему окружающему ослы; протяжно мычат буйволы; задорно ржут лошади; разноголосо поют птицы в клетках, развешанных на стенах лавок. В этот хор вплетается гром молотков и кувалд о наковальни, где на глазах заказчика производится любая поковка; унылое завывание слепцов, бредущих цепочкой и нащупывающих дорогу суковатыми посохами; гортанные выкрики зазывал, торгашей, водоносов и лоточников с подносами и корзинками на головах. Все это перекрывает звон медной и глиняной посуды и грохот допотопных колымаг по мостовой. Слитный людской говор и пение бродячих дервишей составляют неумолчный аккомпанемент всему этому оглушительному оркестру.
"Эмир" — это смешение запахов перца, подгорающего лука, чадною дыма горнов, аромата свежеиспеченных лавашей и лепешек, горячего пара из котлов с кипящей похлебкой или пловом, зажаренного шашлыка, сушеных и свежих фруктов, невыделанной кожи, пота животных; смесь запахов острых, ароматных, пряных, раздражающих и дурманящих.
Наконец "Эмир" — это людское столпотворение. Здесь бродят курды и таджики, арабы и туркмены, афганцы и турки, армяне и евреи, азербайджанцы и луры, иранцы и узбеки.
Звучит разноплеменная речь. Мелькают разноцветные халаты, пышные чалмы, высокие башнеподобные тюрбаны, вышитые золотом тюбетейки, лохматые овчинные папахи, широкополые и островерхие войлочные и обычные фетровые шляпы, красные фески с черными кистями, отороченные мехом малахаи…
Закутанные в прозрачные и легкие покрывала, мягко плывут женщины.
На базаре можно сытно поесть — и остаться голодным, постричься и побриться, выдернуть зуб и сшить одежду, подковать лошадь и нанять батрака, накуриться терьяка[16] и отвести душу в беседе, встретить знакомого, которого не видел бог весть сколько, и купить все, что пожелаешь.
При этом в лавке, торгующей скобяными товарами и конской сбруей, усыпанной стеклярусом и медными побрякушками, покупатель может обнаружить очки с цейсовскими стеклами; в парикмахерской — шелковые иноземные чулки с модной пяткой; в парфюмерном магазине — сметану или какой-либо другой молочный продукт; в галантерейном ларьке — овес и ячмень; в булочной наряду с лавашем и лепешкой — курительный табак и отрез шерсти на костюм; в книжном развале под парусиновым навесом — дратву, смолу, шило, сыромятную кожу и все, что нужно сапожнику; в пошивочной мастерской — соловья, канарейку или попугая; в чайхане или ошхане — плащ из звериной шкуры.
Таков знаменитый "Эмир", тегеранский базар.
В самых недрах его, сжатый с двух сторон пекарней и ювелирной мастерской, ютится магазин известного всему городу купца Исмаили.
Магазин легко приметить по развешанным снаружи и разостланным по тротуару коврам. У Исмаили лучшие ковры, сотканные руками самых искусных мастеров Ирана. Тут и очень яркие, раздражающие глаз, и очень мягкие, бархатистые, с теплой гармонической раскраской, со сложными орнаментами и с простенькими рисунками. Тут ковры исфаганские и ширазские, кашанские и хамадинские, тавризские и керманшахские, короче говоря, знаменитые по всему миру персидские ковры.
Магазин Исмаили — чудо из чудес! Это не только комиссионный магазин, но и антикварный, это не только ломбард, но и своеобразный музей.
Здесь на выбор: рукописи поэтов, живших века назад, с пожелтевшими от времени страницами, и новейшие электробритвы заокеанского изготовления; корень жень-шень и боксерские перчатки, принадлежавшие какому-то именитому чемпиону; свертки пергамента с золотыми заставками и концовками и современные термосы; старинный фаянс и репродукторы; древние монеты, китайский фарфор и крахмальные воротнички. На японских гобеленах стоят портативные пишущие машинки последнего образца. Изделия из золота, бронзы, слоновой кости выглядывают из-за протезов для инвалидов. Ткани восточных мастеров и седла потомков Тамерлана лежат рядом с дамскими корсетами, а драгоценное старинное оружие — вперемешку с солдатской алюминиевой посудой.
К этому скопищу редкостей и новинок стремился сейчас Наруз Ахмед, пробираясь сквозь разноголосую и разноплеменную толпу. Он обманул своего первого учителя, старого табиба Ахуна Иргашева, сказав ему, что продал клинок случайному, незнакомому человеку. Клинок он продал Исмаили.
Когда Наруз Ахмед подходил к магазину, Исмаили сидел у входа на низенькой скамеечке и перебирал крупные янтарные четки.
Приветствовав хозяина, Наруз Ахмед сразу же приступил к делу:
— Я тот человек, который три года назад продал вам старинный эмирский клинок, — сказал он. — Помните вы меня?
Исмаили вгляделся в него большими выпуклыми, как у рыбы, глазами, подумал немного, что-то припоминая, и спросил:
— Клинок, которым когда-то владел эмир бухарский?
— Совершенно верно.
— Помню тебя, помню и клинок. Клинок отличный, из аносовской стали. И я, кажется, хорошо заплатил тебе за него. Не так ли?
— Да… хорошо. А сейчас клинок у вас?
Исмаили усмехнулся:
— Такие вещи долго не лежат. Покупатель нашелся сразу, чуть ли не в тот же день.
— Вот как… — проговорил уныло Наруз. — Жаль… Очень жаль.
Исмаили смотрел на него и, перебирая четки, поинтересовался:
— А ты что, хотел вернуть его себе?
— Да, пожалуй… — рассеянно ответил Наруз Ахмед. — Это память отца. В сорок шестом году я сильно нуждался, а сейчас заработал немного.
— Ты поступил необдуманно, — упрекнул его Исмаили. — Надо было заложить клинок, а не продавать. Вещь осталась бы твоей. А теперь у нее другой хозяин.
— Я понимаю, — смиренно согласился Наруз Ахмед. — А вы не можете вспомнить, кто купил клинок?
— Как же! Все помню… — Исмаили самодовольно улыбнулся. — Купил европеец, человек, собирающий старинное оружие. Могу и назвать его. Такие покупатели у меня наперечет.
Сердце Наруза Ахмеда екнуло, появилась какая-то надежда.
Исмаили провел гостя в магазин, вынул из конторки толстую книгу в кожаном переплете и, полистав ее, произнес:
— Имя его — Керлинг. Господин Керлинг! А вот и адрес. Запиши! Может быть, он согласится продать тебе клинок. Объясни ему, что это семейная память, что тебя нужда заставила расстаться с клинком. Возможно, он поймет тебя…
— Спасибо… Спасибо… — пробормотал Наруз Ахмед и, распрощавшись с Исмаили, выбежал из магазина. "Нашелся, нашелся… — шептал он, сжимай в руке бумажку с адресом. — Теперь я верну свое счастье…"
Возле толстяка в засаленной одежде, окруженного дымящимися жаровнями, Наруз Ахмед задержался. Соблазненный запахом шашлыка, он купил себе две порции и подкрепился.
Сытый, торжествующий, он шагал через базар. Все казалось радужным, легко доступным. Каких-нибудь несколько часов, ну пусть дней, — и клинок снова попадет в его руки. Но лишь только Наруз Ахмед выбрался с базара и оказался в тишине пустынных улиц, на него напали сомнения. В самом деле: европеец купил клинок в сорок шестом году, а сейчас сорок девятый. Прошло три года. За это время можно сто раз приехать в Иран и столько же раз уехать. Можно продать и перепродать клинок. Исмаили помнит своих покупателей. А вспомнит ли его европеец? Какое ему дело до бывшего обладателя клинка, какое ему дело до тайны клинка!…
Сомнения все больше и больше охлаждали Наруза Ахмеда. Он чувствовал, что надежда тает, но не хотел сдаваться. "Испытаю еще раз свою судьбу. Еще один раз. Ведь должно же когда-нибудь улыбнуться и мне счастье…"
3
Весна расстилала свой зеленеющий ковер. Щетинились клумбы и газоны, лопались почки, буйно цвела мимоза, урюк, шелковица.
Наруз Ахмед бродил по Тегерану в поисках своего счастья.
Он побывал на улице Лалезар, что расположена в северной части города, и отыскал особняк Керлинга. Это был небольшой, но красивый дом с узко прорезанными стрельчатыми окнами, затянутый по фасаду колхидским плющом.
От почтальона Наруз Ахмед узнал, что в доме живет не кто иной, а именно Керлинг. Удача ободрила Наруза, надежда вернулась к нему.
На следующий день он начал следить за домом Керлинга, где, как ему казалось, хранился предмет его неусыпных дум. Наруз хотел увидеть в лицо самого хозяина, чтобы знать, с кем имеет дело, потом завязать знакомство с дворником, кухаркой или горничной. Так просто в дом не войдешь, нужно чье-то содействие. Судьба и тут помогла ему.
В субботу Наруз Ахмед увидел выходившего со двора своего старого знакомца Масуда. Когда-то они вместе натирали полы в гостинице "Дербент" и жили на одной квартире.
Масуд обрадовался встрече. После короткой беседы Наруз Ахмед узнал, что приятель его давно потерял место в гостинице "Дербент" и вот уже пять лет как обслуживает частные дома. Раз в десять дней он бывает в особняке Керлинга. Хозяин дома, корреспондент какой-то зарубежной газеты, постоянно разъезжает по Ирану. Сейчас он отправился на несколько дней в сторону Персидского залива.
План действий в голове Наруза Ахмеда созрел мгновенно.
Он повел приятеля в ресторан, хорошенько угостил его и завел разговор о деле. Наруз пожаловался на плохие дела и выразил желание снова стать полотером: не смог ли бы Масуд посодействовать ему в этом, дать рекомендацию в какой-нибудь дом или взять к себе в помощники за небольшую оплату? В крайнем случае он согласен первое время работать без денег, лишь бы иметь практику. Он даже может предложить Масуду небольшой бакшиш. Кое-какие сбережения, сделанные за последние годы, дают ему возможность продержаться несколько месяцев…
Масуд был малым сговорчивым, да и к тому же и просьба приятеля была обычной. Что ж, он согласен взять Наруза Ахмеда в помощники, если тот не гонится за быстрым заработком. В будущем они подыщут еще несколько домов, и тогда приятель получит свою долю за труд.
Десять последующих дней прошли как в угаре удачи. Наруз Ахмед витал в облаках, как курильщик опиума, от сознания того, что тайна клинка действительно заключается в каком-то богатстве. Теперь клинок — он был уверен в этом — не минует рук его. Денно и нощно Наруз Ахмед думал о будущем. О прошлом не хотелось вспоминать. Прошлое бросало его в унижение и нищету, оно уподобило его ишаку, впряженному в тяжелую телегу. А будущее, хотя еще неопределенное и неясное, обещало разгладить горькие складки на сердце.
И вот наконец настал долгожданный день, когда Наруз Ахмед и Масуд остановились у запертой калитки и нажали кнопку звонка. Дворник впустил их в дом.
Горничной Масуд сказал, что у него разболелась нога — растянулись сухожилия, — и поэтому он пригласил себе в помощь старого приятеля. Вдвоем они быстро справятся с работой.
Громкая показная роскошь, с какой был обставлен дом Керлинга, поразила Наруза Ахмеда. Хозяин, видно, привык жить на широкую ногу. Никогда прежде Нарузу не приходилось видеть стенные панели такой художественной работы. А хрустальные люстры, висящие в каждой комнате, а книги с золотым тиснением и узорами на корешках, прячущиеся за стеклами отполированных шкафов, а огромный белый холодильник, покрытый эмалевой краской, а радиола с несколькими дверцами, а ковры, а мебель? Да что там говорить! Некоторые вещи в доме, хотя бы вот эти шахматные фигуры из слоновой кости или букет тюльпанов из тончайшего фарфора, с прозрачными нежными лепестками, кубок из платины и золота, представляли собой целое состояние.
Но клинка Наруз Ахмед не увидел. Ни клинка, ни коллекции оружия, о которой говорил Исмаили. Радость сменилась отчаянием. Что делать? Где хранит Керлинг клинок? Не ошибся ли Исмаили? Или Керлинг успел переправить клинок к себе на родину?!
Потрясенный неудачей, Наруз Ахмед в глубоком молчании покинул особняк и, шагая рядом с Масудом, рассеянно отвечал на его вопросы.
— Богатый человек мой хозяин, не правда ли? — спросил Масуд.
— Уж куда богаче.
— А ведь у него есть еще и загородный дом.
— Как? — чуть не выдал себя Наруз Ахмед и, спохватившись, добавил: — А что в этом странного?…
— Странного ничего, а завидного много…
Наруз Ахмед вздохнул и спросил:
— Это что же, вроде дачи?
— Вот, вот…
— А где?
Масуд назвал местность в окрестностях Тегерана.
— Ты там тоже бываешь?
— Не приходилось. Горничная говорит, что там нет паркета. А то бы они, конечно, меня позвали.
Наруз Ахмед, сославшись на усталость от непривычной работы, распрощался с Масудом и быстро зашагал домой.
4
Подготовка к визиту в загородный дом Керлинга отняла у Наруза Ахмеда еще несколько дней. Прежде всего он постарался выведать у своего приятеля полотера — все, что тот знал о доме. Но Масуд знал очень немного. На даче, в небольшом флигельке, постоянно живет прислужник с женой и дочерью. Прислужник охраняет дом, смотрит за садом, жена производит уборку, а дочь их, когда появляется хозяин, стряпает и подает к столу.
Прислужника привез с собой Керлинг; он, кажется, араб и звать его Гуссейном.
Вот и все, что знал Масуд.
Наруз Ахмед три раза побывал за городом и подверг осмотру не только дом, но и ближайшие окрестности.
Он попытался завязать знакомство с Гуссейном. Однажды, когда тот подрезал вечнозеленый кустарник, Наруз завязал разговор. Он выдал себя за цветовода, располагающего редкими сортами дамасских, индийских и персидских роз, могущих украсить двор любого знатного человека. Но розы Гуссейна не интересовали. Он отказался не только от цветов, но даже и от английских сигарет, которыми хотел угостить его Наруз Ахмед,
Потерпев неудачу с Гуссейном, Наруз решил пойти на риск — проникнуть в дом и отыскать клинок. Это непросто и небезопасно, но другого выхода не было.
В пятницу, во второй половине дня, когда с неба еще лился зной, он нанял дорошкечи — извозчика, и тот вывез его за городскую черту. Расплатившись с дорошкечи, Наруз Ахмед со свертком под рукой неторопливо зашагал по шоссе.
Он подошел к даче Керлинга перед вечером, когда уже заходило солнце. Густые кусты сирени, образующие вдоль дороги оплошные заросли, укрыли Наруза Ахмеда. Отсюда он мог спокойно наблюдать за домом и его обитателями.
Догорал закат. Стекла в особняке пылали, отражая багряную вечернюю зарю. На оконных карнизах глухо ворковали голуби.
Пожилая женщина, видимо жена Гуссейна, показалась на балконе, сдвинула с места тростниковую качалку и начала вытряхивать пеструю бархатную скатерть. Вытряхнула и удалилась, прикрыв за собой дверь.
Скрылось солнце. Густели сумерки. На небо выплыл ущербленный диск луны.
Наруз Ахмед не сводил глаз с дома.
Из калитки вышел Гуссейн с трубкой во рту. Вот хитрец, он, оказывается, курит! А от сигарет отказался… Гуссейн постоял некоторое время как бы в раздумье, попыхивая трубкой, а потом медленно направился к соседней даче и скрылся за калиткой. Вскоре он вернулся оттуда, неся и руке большой бидон из белой жести.
Хлопнула калитка, щелкнул металлический запор.
И снова тишина.
Наруз Ахмед выжидал, хотя зуд нетерпения жег его. Он точно знал, что хозяин дома, Керлинг, сейчас в городе и пожалует сюда лишь в воскресенье. Значит, кроме прислуги, на даче никого нет. Свет в окнах не загорался. Только вспыхнули две лампочки: одна у ворот, другая на столбе во дворе.
Наруз Ахмед продолжал выжидать.
Луна опускалась все ниже, и залитый ее светом дом выглядел сказочным. На небе выступали одна за другой мохнатые южные звезды. Стояла глубокая тишина. Едва-едва вздыхал западный ветерок, принося теплое благоухание цветов и пряный аромат цветущей акации.
Наруз выбрался из укрытия, осмотрелся по сторонам и, прижав к боку сверток, пересек пыльную дорогу. Он приник лицом к решетке и сквозь лавровые кусты разглядел во дворе флигелек с двумя освещенными окнами и утрамбованную площадку перед ним для игры в крокет.
Держась в тени, Наруз Ахмед бесшумной, скользящей походкой стал красться вдоль решетки, через которую свешивались ветви мимозы и дикого винограда.
Свет во флигеле погас примерно к полночи. Тогда Наруз Ахмед перемахнул через решетку, пригибаясь меж кустов, прокрался к дому и притаился между двумя окнами под балконом. Он развернул сверток, в нем оказался моток толстой веревки с железной кошкой на конце. Чтобы не производить шума, кошка была обмотана тряпкой.
Вслушавшись в тишину ночи и не уловив ничего подозрительного, Наруз Ахмед распустил веревку и, взяв в руки кошку, метнул ее на балкон. Раздался глухой стук. Наруз потянул канат на себя, он свободно подался, затем натянулся: кошка зацепилась за что-то. Наруз вытер ставшие вдруг мокрыми ладони и, опираясь о стену дома ногами, стал взбираться вверх. Расстояние от земли до второго этажа не превышало и пяти метров, и преодолеть его было нетрудно.
Оказавшись на балконе, он подобрал свисающий конец веревки и уложил его на перила.
Дверь, ведущая в дом, оказалась закрытой лишь на один верхний шпингалет. Снизу она свободно отходила от порога. Наруз Ахмед предвидел, что дверь может оказаться на запоре, а потому прихватил с собой алмаз, чтобы подрезать стекло, и кусок липкого пластыря, чтобы вынуть осколки бесшумно. Но, не имея опыта в подобных операциях, он решил пока не прибегать к алмазу, а попробовать открыть дверь. Он стал потряхивать ее половинку, и дверь подалась. Очевидно, незавернутый шпингалет выпал из своего гнезда.
Наруз Ахмед вынул из кармана ручной фонарик и замер на месте, не решаясь переступить порог. Сердце его билось сильно и тревожно. Он отдавал себе отчет в том, что может произойти, если он попадется.
Быть может, он поступает опрометчиво? Быть может, не следует лезть в чужой дом, не изучив его хорошенько? Не лучше ли повременить немного, потратить еще недельку и расположить к себе несговорчивого Гуссейна?
Но колебания длились недолго. Ждать нечего. Все решено и обдумано. Пора действовать.
Окинув с высоты балкона безлюдную улицу и дремлющие сады вокруг, Наруз Ахмед шагнул через порог, прикрыл за собой дверь и включил фонарик. Перед ним оказалась небольшая квадратная комната. Стены ее были расписаны сложным арабским орнаментом, пол застлан темным ворсистым ковром. В центре стоял круглый стол, покрытый той скатертью, которую совсем недавно вытряхивала жена Гуссейна.
Луч фонарика нащупал три двери: две вели в смежные комнаты и одна, открытая, — на лестницу вниз.
Наруз Ахмед обошел все верхние комнаты и, не обнаружив в них того, что искал, стал спускаться по лестнице, изредка помигивая фонариком и держась за поручни.
Лестница привела его в холл с вешалкой, зеркалами и низкими кожаными креслами.
Наруз Ахмед постоял здесь немного, и луч фонарика показал ему дальнейший путь. Широкая резная дверь во внутренние покои оказалась незапертой. Он потянул ее на себя и остановился. Слух уловил какой-то звук: что-то журчит или мелодично гудит.
Наруз Ахмед провел лучиком по стене и увидел еще одну дверь Он открыл ее и понял, что тут буфетная. На стене висел электросчетчик. Он-то и журчал.
Если бы Наруз Ахмед вовремя догадался, что звук издает счетчик, и не заглянул в буфетную, если бы он прикрыл за собой дверь, то вполне возможно, что все последующее сложилось бы иначе. Но Наруз Ахмед забыл об осторожности. Он оставил за собой две открытые двери и быстро прошел в затянутую мраком гостиную. Окна, выходившие на улицу, были завешены шторами. Здесь можно было безбоязненно пользоваться фонарем. Наруз Ахмед оглядел гостиную, спальню и, не обнаружив ничего похожего на клинок, направился в кабинет. Это была большая, не уступавшая по размерам гостиной комната. На пушистом ковре стояли письменный стол, глубокие мягкие кресла, столик с радиоприемником, низенький столик с бутылками, сигаретами, рюмками и бокалами. Но ничего этого Наруз Ахмед не заметил. Как загипнотизированный, он смотрел на глухую стену, где по огромному темному ковру было развешано оружие. В луче фонарика блестели кинжалы, палаши, сабли, ятаганы, пистолеты, старинные боевые доспехи… У стены стояла широкая ковровая тахта с шелковой горой подушек и подушечек, Наруз Ахмед шагнул к ней, наведя лучик на развешанное оружие. Но… отцовского клинка он не увидел. Его не было здесь. Наруз Ахмед мог бы мгновенно опознать его среди сотен других…
— Проклятие! — чуть слышно прошипел он. — Куда же этот неверный упрятал клинок? И почему упрятал? Неужели все мои труды пропали даром? Нет, к черту… Я не уйду отсюда с пустыми руками. Тут есть чем поживиться. Хотя бы вон тот клинок. Он весь в золоте и камнях. А кинжал? Нет… Я прихвачу с собой все, что можно…
Он хотел было ступить на оттоманку, над которой висело оружие, но его остановило грозное рычание.
Наруз Ахмед медленно повернул голову, повел фонарем и замер в неестественной позе: в двух шагах от него стоял, оскалив зубы, огромный, с годовалого теленка, пятнистый дог. Он был недвижим, точно мраморное изваяние. Его круглые разномастные глаза мерцали холодным огнем: один глаз зеленым, другой — желтым…
Ноги Наруза Ахмеда сразу обмякли, стали ватными. Кровь бросилась в голову, спина покрылась потом, а сердце тяжело, громко стучало. Он дышал прерывисто, полуоткрытым ртом, и не мог оторвать взгляда от страшного зверя. А тот не мигая смотрел, будто стараясь парализовать его волю.
Прошли три длинные, бесконечные минуты. Наруз Ахмед стал понемногу приходить в себя. Какие-то проблески рассудка стали брать верх над всеобъемлющим паническим страхом. Нельзя же, в конце концов, оставаться беспомощным и дрожать при виде этого проклятого дога. Как он ни страшен, но это лишь животное, презренная собака! Человек должен что-то придумать, чтобы избавиться от собаки. Но что? Прежде всего следует погасить свет и изменить неудобную позу. Наруз Ахмед так и поступил. Свет погас, погасли и желто-зеленые собачьи глаза. Теперь надо быстро соображать. Вот, правильно. Выход есть. Надо осторожно, неслышно добраться до стены, снять первый же клинок, и тогда дог уже не страшен. Можно ослепить его светом и так полоснуть по черепу, что он и не пикнет. Верно!
Наруз Ахмед воспрянул духом, приподнял ногу, чтобы поставить ее на оттоманку, но тут дог снова так угрожающе заворчал, что нога сама по себе застыла на месте. Трясущаяся рука невольно сжалась, и фонарь вспыхнул. На Наруза Ахмеда медленно надвигался могучий зверь, скаля белые клыки.
Наруз Ахмед сжался в комок, присел на корточки и притих, как притихает пташка при виде коршуна. Он не мог больше смотреть в неподвижные глаза зверя и погасил фонарь. Леденящий сердце страх сковал его. Он уже видел себя в наручниках, бредущим по городу с двумя рослыми полисменами по сторонам. Конец…
И тут пес стал лаять, басовито, громко и яростно. Дом ожил.
5
Керлинг в это время принимал своих близких друзей в особняке на улице Лалезар.
Это был упитанный, рослый, неопределенных лет блондин с расплывшимися чертами лица, гладко прилизанными редкими волосами и желтовато-серыми глазами, светившимися из-за неоправленных очков. Одет он был по моде, но не по возрасту — в пиджак светло-песочного цвета, ярко-синие брюки и галстук лихорадочной расцветки.
После легкого ужина, орошенного разнообразными коктейлями, хозяин и гости собирались усесться за карточный стол, но в это время зазвонил телефон.
Керлинг снял трубку, выслушал короткое сообщение и так же коротко ответил:
— Сейчас приеду. Откройте ворота.
Потом он нервным жестом поправил галстук и обратился к гостям:
— Прошу прощенья, господа! Я должен отлучиться. Начинайте без меня.
Никто из присутствовавших (были только мужчины) не стал протестовать и расспрашивать. Все отлично понимали, какие сложные обязанности возлагает на человека должность корреспондента иностранной влиятельной газеты.
Керлинг быстро прошел в кабинет, вынул из ящика стола массивный пистолет и положил его в карман. Минуту спустя он сидел уже за рулем.
Машина легко прошелестела по гладкому асфальту, запрыгала по булыжной мостовой и запылила по немощеной улице. Достигнув перекрестка, она сбавила ход, повернула вправо и, оставив облачко голубоватого дыма, въехала в узкую улицу.
Керлинг выбрал самую короткую дорогу. Он торопился. Потянулись кривые, пропитанные пылью и зловонием переулки с глухими высокими глиняными заборами. Потом мелькнули развалины старой городской стены.
Машина выбралась на загородное шоссе, обсаженное деревьями, и увеличила скорость. Дорога некоторое время стлалась вдоль широкого арыка, повторяла его изгибы, затем перебежала через мост и подалась влево.
Керлинг вел машину спокойно, свободно откинувшись на спинку сиденья. Руки его, слишком белые для мужчины, с отполированными ногтями, покрытые веснушками, не держали баранку, как обычно держат ее профессионалы-водители, а лежали на ней. Точными, едва приметными и небрежными движениями ладоней Керлинг манипулировал рулем.
Еще издали он заметил, что его загородный дом ярко освещен. Керлинг сбавил ход, сделал плавный поворот и въехал в настежь распахнутые ворота, Они тотчас закрылись за ним.
Едва Керлинг успел выйти из машины, как к нему подбежал Гуссейн и взволнованным голосом доложил:
— Вор пробрался в дом через балкон по веревке, сделать ничего не успел. Его стережет Радж.
— Где?
— В вашем кабинете, господин.
Керлинг вынул пистолет, освободил предохранитель.
— Пошли!
На веранде они застали жену и дочь Гуссейна. Женщины поклонились хозяину и пропустили его в дом.
В холле Гуссейн доложил:
— Я не решился без вас позвонить в полицию. Быть может, позвонить сейчас?
— Подожди…
Войдя в ярко освещенный верхним светом кабинет, Керлинг увидел в углу скрюченного в неестественной позе человека. Возле него царственно сидел неподвижный дог. Он даже не повернул головы, когда вошел хозяин.
— Радж, ко мне! — позвал Керлинг.
Собака нехотя подошла к нему и встала с левой стороны.
— Хенде ап! Руки вверх! — скомандовал Керлинг и наставил пистолет на вора.
Наруз Ахмед с застывшим взглядом и окаменевшим лицом приподнялся, выпрямился и поднял руки кверху.
Керлинг осмотрел его спокойно, насмешливо и приказал Гуссейну:
— Ну-ка, выверни у него карманы!
В карманах, кроме красного носового платка, небольшой суммы денег и засаленных документов, ничего не оказалось. Керлинг приказал деньги и платок вернуть вору, а документы бросил на письменный стол. Гуссейну он сказал:
— Ступай! Я поговорю с ним сам.
Оставшись наедине с ночным гостем, Керлинг сел в кресло и, нацелившись черным пистолетом в переносицу Наруза Ахмеда, спросил:
— Это еще что за фокусы? Кто ты? Зачем сюда пожаловал?
Наруз Ахмед молчал.
— Ну, отвечай! Я буду считать до двенадцати, а потом спущу курок. Раз… два… три… четыре… пять…
Наруз сообразил, что с ним не шутят. Нельзя ждать той секунды, когда из круглого отверстия ствола вырвется злобный огонек. Эту секунду надо перехватить.
— Я скажу… Я на все отвечу… — вырвалось у него. — Разрешите мне сесть… Меня не держат ноги…
Керлинг рассмеялся мелким шипящим смехом, толкнул ногой стоявшее напротив кресло и показал на него пистолетом.
— Садись!
Шатающейся походкой, с поднятыми руками Наруз Ахмед подошел к креслу, упал в него и вздохнул с облегчением.
— Опусти лапы, — разрешил Керлинг и позвал дога: — Ко мне, Радж. Ложись!
Дог расположился между хозяином и Нарузом Ахмедом и снова вперил свой дьявольский взгляд в ночного гостя.
Керлинг положил пистолет на стол, под правую руку, и сказал:
— Говори, я слушаю.
— Я пришел сюда… — начал Наруз срывающимся голосом, — чтобы взять отцовский клинок… Я думал… Мне сказали… Да… Мне сказали, что клинок отца попал сюда, и я хотел, ну… как бы сказать… забрать его…
Он проговорил это торопливо, несвязно, облизывая пересохшие губы. Слова наскакивали одно на другое.
— Маловразумительно, — коротко заметил Керлинг и провел рукой по своим гладко зачесанным волосам.
— Я не вор… Поверьте мне, я не вор, — вновь забормотал Наруз Ахмед. — Единственно, что привело меня сюда, так это клинок…
— Какой клинок, черт тебя побери?! — с раздражением воскликнул Керлинг.
— Отцовский клинок… Да, клинок, который раньше принадлежал моему отцу.
— Ты аферист! Что ты морочишь мне голову? Я не ребенок!
— Господин… поверьте, что я говорю правду, — приходя мало-помалу в себя, убеждал Наруз Ахмед. — Конечно, вам непонятно. Но я объясню вам все, все… Я пришел сюда за тем клинком, который вы три года назад купили на "Эмире" в магазине Исмаили… Да, я хотел украсть у вас этот клинок… В этом моя вина… Но клинка не оказалось среди вашего оружия. Клинка нет. Значит, все напрасно, и я погиб, ничего не достигнув…
Керлинг прищурился, что-то припоминая, и спросил:
— У Исмаили, ты сказал?
— Да, да, у Исмаили… Это совершенно точно. Вы не можете этого не помнить, раз об этом помнит Исмаили. Вы оставили ему свой адрес. Теперь вы понимаете меня?
— Ничего пока не понимаю.
— Этот клинок я продал Исмаили в сорок шестом году, а он продал его вам. Клинок мне оставил мой покойный отец Ахмедбек, а ему подарил его последний эмир бухарский Саид Алимхан… И поверьте, что я не вор. Что угодно, только не вор. Это случилось со мной впервые.
Керлинг внимательно всмотрелся в лицо Наруза Ахмеда и сказал:
— Что ты не обычный вор, могу поверить. Воры так глупо не поступают. Но скажи, зачем тебе понадобился клинок, который ты сам же несколько лет назад продал? Зачем?
Наруз Ахмед молчал. Он сидел, ссутулившись, точно пришитый к креслу, и не знал, как ответить. Вот это вопрос! Действительно, зачем? Придется, видимо, сказать правду. Другого выхода нет.
— Ну? — напомнил Керлинг. — Зачем?
— В клинке заключена большая тайна.
Керлинг расхохотался. Этого еще не хватало! Начинаются восточные штучки!
Он вынул из бокового кармана сигару, откусил ее кончик, достал зажигалку и закурил. Дым слоистыми волнами поплыл по комнате.
— Ты, может быть, думаешь, что имеешь дело с местным жителем? проговорил Керлинг, разглядывая зажигалку с таким видом, будто она впервые попала к нему в руки. — Ошибаешься! Я не настолько наивен…
Мысли Наруза Ахмеда мчались, разбегались на ручейки, и ни на одной он не мог сосредоточиться. Что же делать? Господин Керлинг и этому не верит! Как убедить его?
— Ты понял меня, жалкий аферист? — твердо спросил Керлинг.
— Да, господин.
— Что же ты еще можешь сказать?
— Я говорю правду…
Керлинг усмехнулся, брезгливо взял документы Наруза Ахмеда, просмотрел их и сказал:
— Кто ты? Только говорить правду, иначе я прекращу беседу.
Наруз Ахмед объяснил, что он родом из Бухары, сын видного человека при эмире бухарском, что отец его после революции боролся с советской властью и был курбаши, да и сам он состоял в басмаческом отряде Мавлана. После разгрома отряда он бежал в Афганистан, а затем перебрался в Иран.
Эти подробности биографии Наруза Ахмеда заинтересовали Керлинга, хотя он и не подал виду. Имена басмаческих курбаши Ахмедбека и Мавлана были ему знакомы.
— Вам нельзя позавидовать, — проговорил он, перейдя на "вы". — Вы избрали, судя по сегодняшнему визиту, не ту дорогу, которая ведет к славе…
Наруз Ахмед развел руками.
— А кто может подтвердить, что все, что вы мне сказали, правда? продолжал Керлинг.
— Есть такой человек! — твердо сказал обрадованный Наруз Ахмед.
— Имя его?
— Ахун Иргашев.
— Это еще кто такой?
— Мой земляк, старый человек, табиб, он живет в Тегеране.
— Адрес? — потребовал Керлинг и вынул из кармана ручку.
Наруз Ахмед сказал адрес, и Керлинг записал его в крошечный блокнотик, спрятал ручку и спросил:
— А что, собственно, он может подтвердить?
— Все, все… Он знает меня с малых лет, он обучал меня грамоте. Он подтвердит, что я — сын Ахмедбека, что отец мой был приближенным эмира бухарского и еще…
— Еще?
— Что я сказал вам правду о клинке.
Керлинг усмехнулся:
— Уж не повлияла ли эта история с клинком на ваш рассудок?
— Вот вы смеетесь, — промолвил Наруз Ахмед. — Я понимаю вас. Я тоже не придавал особого значения тайне, в нем заключенной. Потому-то и продал клинок.
— А теперь верите в тайну?
— Если бы не верил, то не оказался бы в вашем доме.
— И вам открыл глаза этот табиб Иргашев?
— Да, он. Хотя, как понимать "открыл"? Он — один из двух, знающих тайну. Вторым надо считать умершего отца.
— Хм… занимательно. В чем же состоит тайна?
— В этом-то вся суть. Если бы я знал! Ахун сказал мне, что раскроет тайну лишь в том случае, если я добуду клинок.
— Так… — произнес Керлинг иронически. — Очень занимательно. Все как в сказке… А чем вы развлекались в Иране все это время?
Наруз Ахмед вздохнул и, набравшись смелости, смиренно попросил закурить. Керлинг угостил его сигарой, и после этого Наруз выложил ему все, как на исповеди. Он рассказал обо всех своих скитаниях в поисках Ахуна Иргашева, о надеждах, которые пробудились в нем с началом войны, о том, как попал он в диверсионную группу и чем это окончилось.
Своей угодливой откровенностью Наруз Ахмед пытался расположить к себе Керлинга, от которого теперь зависела его судьба.
— Вы интересный человек, — неожиданно произнес Керлинг, когда Наруз Ахмед окончил свой рассказ. — Весьма интересный…
Наруз Ахмед с недоумением посмотрел на хозяина дома, не зная, как расценить такое признание.
— Да, да… — подтвердил Керлинг. — Я говорю вполне серьезно. Какое у вас образование?
— Образование? Меня обучал Ахун Иргашев, а потом я поступил в русскую среднюю школу и окончил ее. Три года занимался на торговых курсах.
Керлинг кивнул, вынул из кармана бумажник, отсчитал несколько банкнотов крупного достоинства и подал их Нарузу Ахмеду.
Тот не поверил своим глазам.
— Берите, — сказал Керлинг. — А когда будете нуждаться, обратитесь ко мне.
— Значит, вы… Вы не передадите меня полиции? — с дрожью в голосе произнес Наруз Ахмед и снова облизал потрескавшиеся губы кончиком языка.
Керлинг улыбнулся всепрощающей улыбкой и сказал:
— Документы ваши я оставлю пока у себя. Вы должны понять…
— Да, да… Я все понимаю… Оставляйте… Я не знаю, как и чем отблагодарить вас… — быстро проговорил Наруз Ахмед.
— Надеюсь, что если вы пожелаете отблагодарить, то подыщете приличный случай…
— Всегда готов…
— Постарайтесь поприличнее одеться, — посоветовал Керлинг и встал.
— Хорошо… Обязательно, — безропотно согласился Наруз Ахмед, поднимаясь с кресла. — А как же с клинком? Продолжать его розыски или бросить?
Керлинг ответил не сразу. Он снял очки, протер стекла носовым платком и подумал. Оказывается, этот сын бека не так уж наивен, как он полагал. И вопрос он поставил очень хитро. Ответ, что розыски продолжать не надо, будет означать, что клинок навсегда потерян. Сказать, чтобы он продолжал… Нет, нет. И на то и на другое отвечать еще рано.
— К этой теме мы еще вернемся когда-нибудь. Поняли?
— Да… — неуверенно ответил Наруз Ахмед.
— Вас я попрошу об одном: никто, ни одна душа на свете не должна знать, что здесь произошло. В том числе и Ахун Иргашев. Это в ваших же интересах. Можете мне обещать это?
— Конечно.
— Твердо?
— Безусловно!
— А теперь можете отправляться. Когда надо будет, я позову вас.
Наруз Ахмед отвесил почтительный поклон.
Когда он сделал шаг, дог повернул голову.
— Тихо, Радж, — сказал хозяин. — Ты у меня молодчина!
Керлинг проводил Наруза Ахмеда до веранды. Там с трубкой в зубах на ступеньках сидел Гуссейн.
— Выпусти нашего гостя, — приказал Керлинг.
Слуга молча повиновался.
6
Выпроводив Наруза Ахмеда, Керлинг посмотрел на часы. Поздно… Возвращаться в город не хотелось. Он позвонил в свой особняк и предупредил друзей, что задерживается.
Закурив новую сигару, Керлинг стал прохаживаться по кабинету. Странная, необычная история! Тут тебе и эмир бухарский, и Ахмедбек, и курбаши Мавлан, о которых он знал больше, чем мог предполагать Наруз Ахмед, и старый табиб Ахун Иргашев. И всех их связывает этот загадочный клинок. И ничего нет удивительного в том, что клинок скрывает какую-то тайну. Абсолютно ничего. Азия есть Азия, Восток есть Восток…
Быть может, и в его коллекции какой-нибудь экземпляр хранит тайну, о которой он, Керлинг, и не ведает. Чего не бывает!
Керлинг подошел к оттоманке, над которой красовались клинки, сабли, палаши. Тут была лишь треть того, что он собрал за свою жизнь. Остальное хранилось далеко отсюда, за морями и океанами. Но и то, что было сейчас перед ним, значило много. Это может украсить любое европейское собрание. Керлинг готов биться об заклад на любую сумму, что экземпляров, подобных тем, которыми он располагает, на земном шаре может оказаться не более двух-трех. А некоторые вещи уникальны. Ведь старые знаменитые мастера не повторялись. Каждая вещь имеет свою историю, и о каждой из них можно написать книгу.
Некоторым из этих клинков сотни лет. И в чьих только руках они не побывали, сколько хозяев переменили, прежде чем попасть в руки Керлинга. Вот хотя бы эта среднеазиатская сабля, прямая, как меч, в тяжелых ножнах, украшенных золотыми узорами. Клинок ее изготовлен из булатной дамасской стали. Над ней работали безвестные бухарские мастера восемнадцатого века. Когда-то сабля украшала дворец хивинского хана Искандера, а в восемнадцатом году нашего века попала в руки Керлинга. Как попала? О, это целая история, лучший номер из репертуара Керлинга, любящего угощать гостей необыкновенными рассказами.
А эта албанская сабля, усыпанная кораллами и бирюзой, с расширением на конце, называемым елманью! Ее выковали в Турции и отделали в Албании. В двадцатом году Керлинг случайно купил ее за бесценок у пьяного врангелевского полковника, к которому она бог весть как попала. Впоследствии за этот клинок Керлингу давали там же, в Константинополе, бешеные деньга, но он, конечно, не согласился продать его. Он понимал толк в вещах и знал, что с каждым годом цена будет расти.
А персидская сабля с тонким, как жало, змеевидным клинком и золотой насечкой по нему? О! Этой сабле уже четыреста лет! Шутка сказать! И, пожалуй, ее следует убрать со стены в более укромное место. Сабля хорошо известна в Тегеране знатокам старинного оружия, а вот несколько щекотливую историю приобретения ее Керлингом почти никто не знает. Поэтому лучше припрятать ее, подальше… Так будет спокойнее.
А что можно сказать вот об этой сабле с короткой рукояткой, будто она делалась для узкой женской руки? Это индийская сабля ятаганного типа с обратной заточкой клинка. Ее ножны, покрытые серебряной насечкой и позолоченные, походят на кружевной узор, а поверх узора, будто нечаянно, рассыпаны звезды из неувядаемой голубой эмали. Ей цены нет. За нею Керлинг охотился два года, вложил в эту авантюру немало денег и все-таки добыл! Сабля — произведение рук дамасских мастеров. Она сделана в шестнадцатом веке по заказу индийского раджи для его сына, ставшего воином.
Но разве только сабли в коллекции Керлинга? Рядом с ними висят с одной стороны японская катана, а с другой — турецкий ятаган, напоминающий обычный серп с оттянутыми краями, с такой же, как у серпа, обратной заточкой и с крыльями на рукояти. Вот палаш "кунда", прямой, стремительный, расширяющийся к концу, с узорчатой серебряной накладкой вдоль обеих сторон обуха. И тускло мерцает на темном ковре страшный индийский кутар без ножен с широким и толстым, как ладонь, обоюдоострым лезвием, с двойными упорами для рук, рассчитанный для близкого колющего и уж, конечно, смертельного удара.
По краям стены развешаны доспехи оборонительного боя. Тут булатный персидский шлем с прогибами от сабельных ударов, арабские "зерцала" из нескольких стальных щитков, покрытых кружевным орнаментом из виноградных лоз и порхающих птиц, кольчуги и наручи. Темнеют на стене щиты из твердого, как железо, дерева, обтянутые кожей и покрытые накладками из серебра и бирюзы, круглые пороховницы из дерева и кожи, украшенные ажурной резьбой поверху, тяжелые боевые топоры. Устремились вверх длинные стройные копья с фигурными стальными наконечниками и украшениями из цветных перьев и конского волоса.
А внизу, над самой тахтой, — ножи и кинжалы. К ним больше всего неравнодушен Керлинг. Возможно, потому, что в былые времена ему самому не раз доводилось в весьма серьезные минуты жизни пользоваться этим видом оружия. Тут ножи персидские и китайские, монгольские и казахские, киргизские и татарские, турецкие и индийские, кавказские кинжалы кама с прямым лезвием и бебуты с кривым. Среди них мексиканские мачете и испанские стилеты.
А вот среднеазиатский нож — клыч, то, чем Керлинг, пожалуй, дорожит больше всего. Долго искал его Керлинг! Но и в мечтах не представлял себе, что найдет такой редкостный экземпляр! Клычей в Средней Азии много. Десятки их проходили через руки Керлинга и не задерживались. Разнообразные клычи он видел на рисунках, рассматривая специальные книги о старинном восточном оружии. Но такого экземпляра… Нет, такого он не встречал даже в книгах.
Длина этого клыча — тридцать семь сантиметров. В ножнах он походит на скрученную змею с позолоченной и украшенной эмалью головкой. Рукоятка емкая — для широкой кисти. Глаза змеи — два кроваво-красных рубина. Лезвие ножа, выкованное из булатной стали с синеватым отливом, по обеим сторонам имеет до того мелкую ажурную насечку, что, когда всматриваешься, рябит в глазах. Этот клыч, несомненно, многолетний труд какого-то великого мастера-художника, имя которого затерялось в веках.
Раздобыл его Керлинг три года назад. Ради него он и пожертвовал тем самым клинком, из-за которого сегодня его дом "посетил" Наруз Ахмед.
Этот эмирский клинок был действительно куплен на базаре, у Исмаили. Но кто мог знать, что клинок связан с какой-то тайной? Видимо, и Исмаили не подозревал о ней, если, едва купив клинок, тотчас же сбыл его с рук. А он, Керлинг, тоже поторопился обменять клинок на редкий клыч… Чертовщина какая-то.
Керлинг отлично помнит, как попал к нему этот клыч. Дело было в начале сорок шестого года. В отеле "Дербент" какое-то левое издательство устроило прием в честь иностранных корреспондентов. Был приглашен и Керлинг. Его познакомили с советским офицером-переводчиком, молодым еще человеком. Он был не то таджик, не то узбек. Хорошо владел не только фарси, на котором бегло изъяснялся Керлинг, но и родным языком Керлинга. Но не это привлекло его внимание, а то, что советский офицер с увлечением рассказывал о старинном оружии.
Между ним и Керлингом тотчас же завязался оживленный разговор о древностях Востока, об азиатском оружии. Керлинг — мастер поддерживать такие беседы, К удивлению всех, и Керлинга особенно, молодой советский лейтенант оказался настоящим, тонким знатоком и понимал толк в оружии.
Больше того, он сказал Керлингу, что в машине у него лежит такой клыч, который трудно отыскать в нынешние времена.
Керлинг мгновенно загорелся. Он стал упрашивать лейтенанта показать клыч. Лейтенант показал, и Керлинг утратил душевный покой. Он твердо сказал себе, что клыч должен принадлежать ему. Он прямо сказал лейтенанту, что коллекционирует старинное восточное оружие и долго мечтал о том, чтобы пополнить свою коллекцию именно таким среднеазиатским клычом. Он добавил, что может показать лейтенанту свою коллекцию и предоставить возможность выбрать из нее взамен клыча то, что ему понравится.
Офицер, к удивлению и радости Керлинга, не заставил себя долго уговаривать. Он сказал, что ему понятно чувство и страсть коллекционера, и сразу согласился.
Вечером того же дня Керлинг привез лейтенанта сюда, в свой загородный дом, и показал коллекцию. И только теперь Керлингу становится досадно, что выбор офицера сразу пал на клинок, купленный у Исмаили. Неужели и он знал что-то о клинке? Быть не может. Наруз Ахмед заверил, что в тайну посвящены только двое… Хотя…
Честно говоря, Керлингу жаль было расставаться с клинком. Он был хорош, но коль скоро он без оговорок предоставил лейтенанту полный выбор, бить отбой было поздно.
Но как же фамилия этого переводчика? Вот это Керлинг забыл. А знал, знал и долго помнил.
Вторично с этим офицером Керлинг встретился в помещении редакции одной из тегеранских газет. Это было несколько дней спустя после приема. Лейтенант был очень приветлив, сам заговорил и кстати поинтересовался, где Керлинг достал клинок. Керлинг удовлетворил его любопытство, сказав, что купил клинок у антиквара Исмаили. Потом Керлинг в свою очередь спросил молодого переводчика, откуда он взял клыч. Лейтенант рассмеялся и объяснил, что клыч попал к нему за какие-нибудь полчаса до их знакомства, и он даже не успел хорошенько рассмотреть его. Клыч преподнес ему в качестве подарка старый таджик-ошханщик, живущий в Тегеране. Лейтенант назвал фамилию этого таджика, но и она вылетела из головы Керлинга.
Черт побери, как все нелепо получилось!…
И теперь клинок, конечно, в Советском Союзе. Но что же предпринять?
Керлинг подошел вновь к тахте, снял любимый клыч, обнажил его, внимательно осмотрел в который раз и, водворив на место, подумал: прогадал он или выиграл, поменяв клинок на клыч? С точки зрения коллекционера, возможно, и не прогадал, но если действительно… Нет, нет, надо что-то предпринять. Так оставлять дело нельзя.
Керлинг подошел к столу, сел в кресло, погладил дремавшего дога и погрузился в раздумье.
Минуту спустя он быстро поднялся и звонком вызвал Гуссейна.
— Я поеду в город, — сказал он. — Запри все двери. Как бы снова кто не пожаловал к нам в гости.
7
Прошло два дня.
В маленьком, точно чайное блюдце, дворике, окруженном глинобитной стеной, на пороге дома на корточках сидел Ахун Иргашев и жевал горький нас. Сын хозяина носил из арыка воду и поливал единственную грядку с зеленым луком. Ахун наблюдал за ним, а сам думал о том, что пора уже проведать Наруза Ахмеда и расспросить, что слышно о клинке. Почему Наруз так долго не показывается? Или ничего не вышло? Найти следы клинка, действительно, не так-то просто. Наруз даже не помнит, кому его продал! Ах, какой же он глупый, пустой человек! Нет, надо сходить к нему завтра же утром и обо всем узнать. Обязательно.
Во двор вошел почтенного вида незнакомец.
— Мир дому этому… Салям алейкум… Не вы ли табиб Ахун Иргашев? спросил он.
— Алейкум салям… Если вы ищете табиба, почтенный человек, так это я. Но если вы ищете Ахуна, так это тоже я, — пошутил старик.
Но незнакомец не поддержал шутки и довольно невежливо сразу приступил к делу.
— Вы понадобились знатному человеку в городе.
— Сейчас нужен? — удивился Ахун.
— Да.
— А что с ним, с господином, что у него болит?
— Об этом он сам вам скажет.
— Но табиб должен знать, уважаемый, чем страдает больной, ибо есть разные травы от разных болезней. Значит… — начал было Ахун.
— Значит, вставайте и поедем! Он ждет вас, — перебил его посланец.
Вызовы к больным не являлись неожиданностью для известного на базаре табиба. Редко проходил день, чтобы за Ахуном не присылали. Но к услугам его обычно прибегала беднота. А тут он вдруг понадобился человеку богатому и, более того, знатному! Странно… А вдруг туда приглашен и доктор? Он не любил встречаться с докторами…
Кряхтя, Ахун встал, распрямил согбенный годами стан, вошел в дом и вскоре вернулся с небольшим узелком в руке. В узелке лежали его чудодейственные травы.
Посланец провел старика до перекрестка, где их ожидала большая отливающая лаком автомашина, усадил на заднее сиденье и сам сел за руль
Машина плавно тронулась и стала набирать все большую скорость.
Сердце старого Ахуна замерло: впервые за свою восьмидесятилетнюю жизнь он ехал в автомобиле.
У богатого особняка на улице Лалезар машина остановилась, шофер отворил дверцу и пригласил табиба следовать за собой.
По обычаям Ирана, гость, входя в чужой дом, редко снимает головной убор, но обувь обязательно снимет. Ахун замешкался в холле, стаскивая с ног потрепанные порыжевшие башмаки, и в гостиную вступил босой.
Тут его встретил Керлинг. Он знал не хуже самих иранцев, как принимать уважаемых гостей. Стол был уже накрыт: на нем стояли чайник, пиалы, вазочки с халвой, бананами, мандаринами, орехами, кишмишом.
— Простите, ата, что я нарушил ваш покой, — сказал Керлинг, с улыбкой подавая гостю руку. — И не сочтите меня за больного. Хотя я уже немало прожил на свете, но, хвала создателю, ни на какие недуги не жалуюсь. Прошу садиться, — и он подвел гостя к столу.
Ахун присел на краешек низенькой резной табуретки, растерянно обвел глазами светлую комнату с большими окнами и высоким потолком и остановил взгляд на хозяине. Он хотел спросить, зачем понадобился этому здоровому европейцу, но не решился.
Керлинг не без опаски посматривал на смущенного гостя, казалось, что старик готов вот-вот развалиться, так он был стар и немощен.
— Угощайтесь, отец, — предложил Керлинг и наполнил пиалу гостя горячим и крепким чаем.
Ахун с угрюмым недоверием посмотрел на хозяина, но от чая не отказался. Это было бы нарушением всех правил приличия.
Керлинг не заговорил с гостем о деле до той поры, пока тот не опорожнил три пиалы чая и не отведал халвы и фруктов. Лишь после этого он спросил гостя, придвигая к нему коробку сигар:
— Курите?
Ахун отрицательно покачал головой.
Угощение и внимание хозяина пришлись ему по душе, но тем не менее беспокоила неизвестность. Он никак не мог найти ответ на вопрос, зачем его пригласили сюда, что нужно этому знатному иностранцу.
Керлинг погрузился в кресло и обратился к гостю:
— Я слышал о вас. Знаю, что вы узбек, что в двадцатом году покинули родину, жили некоторое время в Афганистане, а потом перебрались в Иран. Я не ошибаюсь?
Ахун кивнул и насторожился. Он почувствовал, что затевается какое-то неприятное для него дело. Надо быть начеку…
Как бы разгадав его мысли, Керлинг очень мило, с ласковой улыбкой произнес:
— Вы понадобились мне, как человек с той стороны, — он кивнул головой, — как умный и много знающий человек, могущий дать кое-какие справки. Но вы вправе и не отвечать на вопросы. Неволить вас я не стану. Я — частное лицо, иностранец. Если же мы поймем друг друга, то будьте уверены, что я вас отблагодарю.
Ахун легким наклоном головы дал понять, что ему все ясно, хотя на самом деле ничего не понимал. Наоборот, его охватили какие-то смутные подозрения. Старик нервно поглаживал свою редкую бороду и с тревогой ожидал, что скажет дальше этот непонятный для него господин.
Керлинг спросил:
— Вы, кажется, знаете своего земляка, уважаемого Ахмедбека?
Ахун кивнул.
— Хорошо знаете?
Ахун вновь кивнул.
— Не можете ли вы сказать мне, ата, куда он девался? Я познакомился с ним еще в Бухаре. Это было очень давно. Я был тогда молод, служил офицером-инструктором и обучал военному делу эмирских сарбазов. — Керлинг лгал, будучи убежден, что старик не сможет уличить его. — Потом мы встречались в Афганистане, а в тридцать первом или тридцать втором году Ахмедбек исчез. И я не могу его отыскать.
Лицо гостя чуть прояснилось. Это еще не страшно…
— С той поры и я не видел Ахмедбека, — проговорил он. — А совсем недавно узнал, что он погиб.
Керлинг встал и с искусно наигранным изумлением воскликнул:
— Ахмедбек погиб?! Вы уверены в этом?
— Эту печальную весть сообщил мне его сын. Воля аллаха…
— Сын? Позвольте… Я ничего не понимаю. Здесь находится его сын?
— Да, здесь, в Тегеране.
— И что он делает?
— Так, ничего. Плохо живет, нуждается… Разгневали мы аллаха. Сын такого знатного и могущественного бека в нищете…
— Ска-а-жите, пожалуйста! Я слышал, что у Ахмедбека есть сын, но мне казалось, что он остался там, в Советской России.
— Он и был там, а после гибели отца бежал сюда. Я его недавно видел.
— Интересно! И он заверил вас, что Ахмедбек погиб?
— Увы, господин…
— Никак не ожидал! Никак, — проговорил Керлинг, усиленно потирая лоб. — И как это случилось, сын рассказал?
Ахун передал подробности, услышанные им от Наруза Ахмеда.
— Так, так… — тянул Керлинг. — Очень прискорбный факт. Жаль Ахмедбека. Весьма жаль. Достойный был мусульманин и отважный человек. — Он развел руками и продолжал говорить как бы сам с собой: — Что ж… Теперь, видно, никто не сможет ответить на волнующий меня вопрос. Хотя… быть может, сын в курсе дела? Быть может, он знает? Правильно! Почему не попытаться?
— А что такое? — с тревогой осведомился Ахун.
— Вы спрашиваете, что такое? — Керлинг пристально всмотрелся в лицо гостя, прищурив глаза. — У вас память хорошая?
Ахун пожал плечами. На свою память он не жаловался.
— Скажите, ата, вам не приходилось бывать в бухарском доме Ахмедбека?
Ахун усмехнулся. Не приходилось ли ему бывать! Наивный вопрос! Да кто же чаще его бывал в доме бека? Кто обучал его сына?
— Хорошо, хорошо, — продолжал хозяин дома. — Возможно, что вы поможете пролить свет кое на что. Скажите, вам не довелось видеть клинок, которым пожаловал Ахмедбека в свое время эмир Саид Алимхан?
Старик закрыл глаза, что не укрылось от внимания Керлинга. Поглаживая задрожавшими пальцами бороду, Ахун тихо и не своим голосом ответил:
— Я знаю этот клинок… Я видел его много раз…
— Браво! — воскликнул Керлинг и хлопнул в ладоши. — Браво! Значит, знаете и видели много раз?
Ахун кивнул головой.
— Вы смогли бы узнать его среди многих других клинков?
— Думаю, что узнал бы. Клинок был редкий, очень приметный. Ведь делал его такой мастер… такой мастер…
— Минутку. Одну минутку. Я сейчас… — Керлинг быстро вышел из комнаты.
Ахун перевел дыхание. Взяв пиалу, он отхлебнул глоток остывшего чая. Неужели клинок попал в руки иностранца? Неужто именно он купил клинок у дурака Наруза Ахмеда? Что же теперь делать?
Старик был уверен в том, что сейчас увидит таинственный клинок. Но хозяин вернулся с папкой в руках и раскинул на столе перед Ахуном с полдюжины фотоснимков.
— Ну-ка, попытайтесь!
Пытаться было нечего. Ахун сразу узнал клинок Ахмедбека.
— Правильно, ата! — подтвердил Керлинг. — Совершенно правильно. Этот клинок. Он самый. Но нам это еще ничего не дает…
Керлинг задумался, вновь потер лоб и прошелся взад и вперед по гостиной. Ахун выжидал, какие неожиданности последуют дальше, и испытующе поглядывал на хозяина. Да, клинок у этого человека. Теперь ясно. И он так дорожит клинком, что боится показать его. Спрятал надежно, а показывает снимок.
— Да, это еще ничего не дает, — повторил хозяин после долгой паузы. Видите, в чем дело… Я уже говорил вам, что не раз встречался с Ахмедбеком в Афганистане. Клинка у него уже не было, и он частенько заводил разговор об этой потере. Все жаловался, что пропал клинок, а вместе с ним исчезла и какая-то тайна…
Ахун заерзал на стуле. Ему стало душно, снова захотелось пить. Он распахнул халат, вздохнул и погладил рукой грудь, покрытую седой щетиной.
— Я не придавал особого значения этим разговорам, — продолжал Керлинг, — и не пытался расспрашивать Ахмедбека. Но как-то раз он опять стал жаловаться и с досадой сказал, что если бы удалось отыскать клинок, то кончились бы его горести и он мог бы сказочно разбогатеть. Я тогда стал подшучивать, посмеиваться. Ахмедбек обиделся. Теперь я уже не смеюсь. И вот почему: три года назад, прогуливаясь по "Эмиру", я заглянул в антикварный магазин Исмаили. Вы знаете его?
Бледный Ахун отрицательно покачал головой. Нет, Исмаили он не знает.
— И что бы вы думали? Я увидел клинок. Тот самый клинок Ахмедбека.
— И вы купили его?
— Вы угадали, — рассмеялся Керлинг. — Я не мог не купить Это был экземпляр редкой, искусной работы. Но не успел я приобрести клинок, как появились десятки людей, желающих перекупить его… Я думал, думал… Керлинг хотел уже сказать, что обменял клинок на клыч, но старый Ахун не выдержал. Испытание было ему не под силу, и он крикнул:
— Нет, нет! Ни за что не продавайте!
— Почему? — спохватился Керлинг и сообразил, что чуть не допустил промаха.
— Нет, нет, господин, ни за какие деньги!…
"Ага, вот как, — мелькнуло в голове Керлинга. — Он думает, что клинок у меня. Тогда придется сделать ложный ход".
Он поставил свой стул против гостя, верхом уселся на него и, пристально посмотрев в глаза старика, начал свой "ход".
— Позвольте, позвольте… Я припоминаю. Покойный Ахмедбек говорил, что тайна клинка известна лишь двум: ему и еще кому-то. Вот имя я забыл… Уж не вам ли?
Ахун отвел глаза. Кажется, этот господин все знает. Ахмедбек оказался несерьезным человеком. Видно, и сын в него… Кто тянул за язык Ахмедбека? Рассказывать какому-то иностранцу историю клинка!… Ведь они поклялись на коране хранить тайну. Только смерть бека давала право раскрыть ее третьему человеку — наследнику, Нарузу Ахмеду. Значит, бек нарушил клятву? Что же теперь делать?
— Много ли вам дают за клинок, господин? — спросил Ахун. У него появилась шальная мысль приобрести клинок.
Керлинг назвал сумму и едва сдержал улыбку.
Старик ахнул Аллах акбар! Шутка сказать! Таких денег не скопить и за двадцать лет!
— А не подскажет ли сын Ахмедбека имя того второго, кто знает тайну клинка? — задал Керлинг коварный вопрос.
— Нет, нет! — испугался Ахун. — К Нарузу не надо обращаться. Он глупый человек. Очень глупый. Как можно было, обладая клинком, продать его? Ведь клинок вывез с той стороны Наруз Ахмед. Вывез, держал столько лет и продал. Ну, разве он не глупец?
— Вот как? Я этого не знал. Хм…
— Нарузу ничего не надо говорить, он только испортит дело. То, что знают двое, не обязательно знать троим. Хорошо, когда знает один, хуже двое, совсем плохо — трое. Мы двое знали и, видите, что получилось…
— О! — радостно воскликнул Керлинг. — Теперь все стало понятным. Значит, вы, достоуважаемый ата, и являетесь одним из двоих, знающих тайну?
— Я… — тихо уронил Ахун и рукой стер со лба проступивший пот.
— Так в чем же дело? Что вас смущает? Вы что, собираетесь унести тайну с собой в могилу, как сделал Ахмедбек? Не глупо ли? При вашем положении я не скромничал бы. Надо рассуждать по-деловому. От молчания, могу вас заверить, вы ничего не выиграете. Послушайте, ата: один знает тайну, но у него нет клинка, у второго есть клинок, но он не посвящен в тайну. Какой толк в этом? Но если оба вступят в союз, то будут и деньги, и богатство. Подумайте, Ахун-ата!
— Плохо все получилось, — смущенно забормотал Ахун. — Очень плохо. Но если сам бек разболтал, то нужно ли мне соблюдать клятву? Хорошо, я расскажу. Но при одном условии: обещаете не обмануть меня? Я очень стар, господин, мне восемьдесят лет. Мне уже трудно собирать травы, ходить по домам. Глаза стали плохо видеть, ноги отказываются носить… Но у меня есть молодая жена, совсем молодая. Ей шестнадцать лет. Она никого не имеет, кроме меня. И она собирается подарить мне наследника. Вы понимаете? Нам много на троих не надо. Если вы…
— Довольно, все понятно, — нетерпеливо перебил его Керлинг. — Я твердо обещаю и даю в этом слово.
— Спасибо. Я знал, что вы не обидите старика. Вы — человек образованный, иностранец, хорошо знали Ахмедбека…
— Да, да… я все понимаю.
— Тогда слушайте…
И Ахун рассказал все.
Освободившись от тайны, он почувствовал облегчение, будто сбросил с плеч долголетний, изрядно надоевший груз, и потянулся к чайнику.
Керлинг, все время молча слушавший, с досадой хлопнул по столу так, что подскочили вазочки, и воскликнул:
— Господи! Какой же я идиот! Я ничем не лучше этого Наруза Ахмеда.
Ладонь Ахуна, протянутая к чайнику, застыла в воздухе.
— Что вы сказали? — переспросил он.
— Что я идиот! — повторил Керлинг, не на шутку взволнованный. — Ведь я обменял этот клинок на клыч. По своей собственной воле. Я ведь ничего не знал! Ничего! Вы теперь понимаете?
Нет, старый Ахун не понимал. Лицо его сразу обрело глупое выражение. Он весь обмяк и готов был расплакаться. Он понял лишь то, что с ним разыграли злую шутку. Его обдурили. Его, восьмидесятилетнего уважаемого табиба, повидавшего на своем веку так много разных людей, обманули, как болтливую женщину. Этому иностранцу просто надо было выведать тайну клинка, и он добился своего. Теперь ему Ахун не нужен. Ай-яй-яй… Что же он натворил?…
— Вы, я вижу, не верите мне? — обратился к нему Керлинг. — Напрасно. К сожалению, эмирского клинка у меня уже нет. Это правда. Я его обменял, и клинок находится сейчас там, — он неопределенно показал рукой, — в Советской России…
Ахун молчал. Он поднялся, взял свой узелок, лежавший на полу возле ног, и, не простившись с хозяином, шаткой походкой направился к двери. Сердце его нехорошо, тупо болело от обиды, бессилия и злобы. Он долго не мог попасть ногами в башмаки.
Когда Ахун наконец обулся и за ним закрылась дверь, Керлинг усмехнулся:
— Старая обезьяна! Не поверил! И еще обиделся. Ну и черт с тобой! Для меня теперь ясно одно: дело это стоит крупной ставки. Надо вспомнить имя советского офицера во что бы то ни стало!
8
Стояла темная безлунная ночь. Из комнатушки Наруза Ахмеда тускло светился рыжий огонек. Ахун подкрался к оконцу и прислушался. Наруз Ахмед был не один. Слышались два голоса. Старик попытался заглянуть в окно, но ничего не увидел: стекло было мутное, затянутое густым слоем пыли.
"Кто там у него? — подумал Ахун. — С кем он водит дружбу, этот ишак?"
Прижавшись к стене, будто сонная птица, Ахун стоял, обдумывая происшедшее. Медленно ворочались мысли. Как ни глуп был сын Ахмедбека в глазах старого табиба, но сам себе старик казался еще глупее этого щенка. Если Наруз Ахмед, не зная сути тайны, продал клинок, то Ахун сделал худшее — он выболтал все сокровенное. Снедаемый стыдом и раскаянием, он пришел сюда, чтобы поделиться с Нарузом Ахмедом, обсудить положение, найти выход.
Старик ждал, когда гость уйдет от Наруза Ахмеда, но тот, видимо, не торопился. Стоять под окном было и трудно и неловко. Мало ли что могут подумать соседи. И Ахун решил войти в дом. Наруз Ахмед догадается, зачем явился табиб, и постарается выпроводить гостя.
Ахун пробрался во двор, вошел в открытую дверь и оказался в совершенно темных сенцах. Лишь по звуку голосов он на ощупь взял нужное направление и отыскал вход.
В комнате было двое: Наруз Ахмед и незнакомый человек, по-видимому иранец. Это был приятель Наруза Ахмеда полотер Масуд.
— Салям! — коротко бросил старик, приложив руку к груди.
— А! Достопочтенный Ахун-ата! Салям алейкум! — весело отозвался Наруз, вышел из-за стола и, подойдя к старику, пожал его дряблую руку своими сильными руками. — Вы очень плохо выглядите, — заметил он. — Что случилось? Больны, устали или неприятность какая-нибудь?
— Всего понемногу! — неопределенно ответил Ахун и опустился на низенькую скамеечку.
— Это заметно, — сказал Наруз Ахмед и вернулся к столу. — Я сразу увидел. В тот раз вы были значительно лучше.
Старик глубоко вздохнул и обвел взглядом комнату. Удивительно! За короткое время она преобразилась. Над кроватью висит цветистый коврик, сама кровать покрыта синим шелковым покрывалом. На полу — дорожка. Ничего этого раньше не было. Не было и квадратного стола на низеньких ножках, и полдюжины скамеек. В углу пыхтит медный самовар — тоже обновка! Появилась лампа… Глаз Ахуна умеет замечать. Все это новенькое появилось только что. А на столе? А на столе голубые чайники с красными узорами, такие же пиалы, белые лепешки, сахар, сушеные фрукты, мед и бутылка. Если судить по тому, как разговорчив и приветлив хозяин, тогда ясно, с чем она. На Нарузе свежий чесучовый костюм. И всем своим видом он выражает воплощенное благополучие. Вот что значат деньги! И все это позволил себе Наруз Ахмед, конечно, благодаря великодушию старого фокусника Али Мансура, не иначе!
От чая Ахун не отказался и принял из рук хозяина пиалу.
Разговор начался было о погоде, но скоро прервался.
Ахун отхлебывал чай маленькими глотками, посапывал и исподлобья разглядывал Масуда.
Когда старик покончил с пиалой, Масуд почувствовал, что он здесь лишний, распрощался и вышел.
После того как стихли его шаги, Ахун поинтересовался:
— Кто это?
— Местный житель, хороший человек и мой давний знакомый. Мы когда-то работали вместе в отеле "Дербент" полотерами. А что?
— Ничего. Я к тебе по делу.
— Я так и подумал.
— Беда случилась, — проговорил Ахун упавшим голосом.
Наруз Ахмед насторожился:
— Какая беда, с кем?
— С тобой и со мной, — ответил Ахун. Он достал из-за пояса кубышку с насом, повертел ее в руках и сунул обратно.
— Ну, ну… Говорите… Что же вы? — подтолкнул его обеспокоенный Наруз.
— Сейчас. Сейчас, сын мой. Если бы ты знал только, как мне тяжело говорить об этом, как больно моему старому сердцу, как тягостно на душе. Все случилось какой-нибудь час назад, а я, кажется, постарел на добрый десяток лет. — Ахун сделал глубокий вздох, часто заморгал глазами и начал щипать свою бороду.
— Пока ничего не понимаю…
— А я ничего еще и не сказал, — строго заметил Ахун, — И ты не торопи меня! — Он нахмурился, выждал немного и продолжал: — Сегодня вечером ко мне пришел незнакомый иранец. Он сказал, что меня зовет какой-то знатный господин, и велел торопиться. Мы сели в машину и поехали. Остановились возле особняка на улице Лалезар. — Старик закашлялся и потянулся к пиале.
Название улицы привело в смятение Наруза Ахмеда. Он хотел было задать вопрос, но сдержался и промолчал.
— Слушай дальше, — продолжал Ахун. — Иранец провел меня в богатый дом, и там встретил нас хозяин, такой же больной, как ты сейчас.
— Кто же он? — перебил его Наруз Ахмед.
— Богатый иностранец.
— Каков из себя?
— Хм… Разве это важно? Ну, как сказать… Пожилой, лет под шестьдесят. Светлый. Волосы гладкие, прилизанные. Ростом, пожалуй, с тебя. Хорошо одет. Свободно говорит по-нашему.
"Он… он…" — мелькнуло в голове Наруза Ахмеда и он поторопил рассказчика:
— Ну, ну… Говорите дальше.
Ахун продолжал:
— Этот иностранец знает кое-что обо мне и о твоем отце. Он познакомился с Ахмедбеком еще в Бухаре. Встречался с ним в Афганистане. Ахмедбек показывал ему свой клинок и рассказал тайну клинка.
— Быть не может! Что за ерунда! — воскликнул Наруз Ахмед, изменившись в лице.
Ахун покачал головой:
— Я сам вначале не поверил, но это так.
— Чушь! Отец ничего не говорил мне об этом иностранце. Он говорил о вас.
— Не знаю, не знаю, — пробормотал Ахун. — Я передаю тебе то, что я слышал. Оказывается, на этом свете нет ничего невозможного.
— Не могу поверить, чтобы отец… А зачем вас позвал иностранец?
— Я долго не мог догадаться, а потом он объяснил. Он рассказал мне все и спросил, могу ли я подтвердить, что в клинке таится важный секрет.
— И что же сказали вы?
— Я сказал, что Ахмедбека знал, что видел в его доме клинок, но ни о какой тайне никогда ничего не слышал. Он рассмеялся и говорит: "Я не верю вам. Но если вы забыли тайну, то я могу напомнить вам о ней". Иностранец вышел из комнаты и вернулся с клинком в руках. В глазах у меня помутилось. Это был клинок твоего отца, подаренный ему эмиром. Ошибиться я не мог… Иностранец спросил, подавая мне клинок: "Это он?" Я преодолел волнение, охватившее меня, и твердо сказал, что это не тот клинок. "Не тот?" удивленно спросил он. Я повторил, что не тот. Он обнажил клинок, положил его на стол, склонился над ним и произнес: "А может быть, вы ошибаетесь? Смотрите сюда!" — А у меня дрожали руки и ноги. — "Видите вот эти узоры, черепа и цифры? Ведь суть-то в них. Неужели я спутал? Не может быть на свете второго такого же клинка!" Я сделал вид, будто не понимаю, и повторил, что ни разу не видел этого клинка.
— Вы не спросили, откуда у иностранца клинок?
— Спросил. Он ответил, что ему подарил его Ахмедбек перед уходом на советскую землю.
— Но это же ложь! Почему вы не разоблачили его?
Ахун пожал плечами.
У Наруза Ахмеда все перемешалось в голове. Рассказ старика он принял за чистую монету, а потому и не мог разобраться в создавшемся положении. Зачем только понадобилось Керлингу выдумывать, будто клинок подарил ему отец, когда он купил его у Исмаили? Как мог Керлинг знать Ахмедбека? При чем здесь Бухара, Афганистан? Почему отец при жизни не обмолвился об этом ни словом? Да и мог ли отец посвятить в тайну клинка чужеземца? Нет, нет, это не похоже на отца. О клинке Керлинг узнал от него же, от Наруза, в ту злосчастную ночь… Но Наруз ни словом не обмолвился о каких-то узорах, черепах… Он сам ничего не знал, кроме того, что клинок может принести богатство. Только это он и сказал Керлингу. Выходит, что клинок все же у Керлинга. А откуда он мог узнать об Ахуне? О черт! Да Наруз сам назвал имя старика…
Ахун и Наруз Ахмед сидели у стола друг против друга, взволнованные, в глубоком молчании, думая каждый о своем.
— Что же теперь делать? — проговорил наконец Наруз Ахмед.
— Выкрасть клинок у иностранца, — твердо сказал Ахун.
— Что? — переспросил Наруз Ахмед, будто не расслышал.
Ахун повторил.
Наруз усмехнулся: хорошенькое дело — выкрасть! Если бы знал старик, чем закончилась попытка выкрасть клинок, он не предложил бы такой глупости.
— Что же ты молчишь, сын мой? — спросил Ахун.
— Думаю
— Да, верно, думать надо. Выкрасть клинок — нелегкое дело.
— Я тоже так полагаю. Очень нелегкое. Мне кажется, что не стоит и браться за такое дело.
В глазах старика блеснули злые огоньки.
— Если ты намерен и дальше жить нищим и отказываешься от богатства, идущего тебе в руки, тогда не стоит браться. Ты однажды уже оказался глупцом, хочешь стать им вторично?
Наруз Ахмед вскочил. Ярость сузила его глаза. Он подошел вплотную к старику и дрожащим от гнева голосом не произнес, а прошипел:
— Вот что я скажу вам, уважаемый Ахун-ата… Этот клинок со своей проклятой тайной сидит у меня в печенках. Я не мальчик. Я не верю, что смогу когда-нибудь стать богатым. Это лишь слова… Мне надоело их слушать… Я продал клинок, потому что не знал тайны, и считаю, что правильно поступил. На кой черт мне тайна, которой я не знаю. А теперь запомните: до той поры, пока вы не откроете, в чем заключается секрет, я не ударю пальцем о палец!
Ошеломленный Ахун смотрел на него, выпучив глаза, и беззвучно шевелил губами.
— Нашли ишака! — кричал Наруз Ахмед. — Ведь вы не полезете за клинком в дом этого господина? Значит, лезть придется мне? А знаете, чем это пахнет, если я попадусь? Так вот, досточтимый Ахун-ата, я должен знать, во имя чего я пойду на такой риск, ради чего стану жертвовать шкурой. Поэтому выкладывайте все начистоту! Тогда и будем вместе ломать голову. Не хотите? Ваше дело. Но в таком случае я вам больше не слуга… Возитесь сами с клинком… Подумайте: тайну знали отец, вы и иностранец. Но почему я один, вслепую, ничего не зная, должен красть клинок? Да быть может, эта тайна гроша ломаного не стоит! Или я хуже всех? Или мне нельзя доверить серьезное дело? Или вы хотите только использовать меня, а потом оставить в дураках?…
— Хватит! Успокойся! — наконец перебил его Ахун. — Садись и слушай!
Наруз Ахмед сел за стол и закурил.
Старик начал рассказ.
9
Немалых трудов стоило Керлингу узнать имя советского офицера-переводчика, у которого он выменял клыч. Керлинг побывал в издательстве, которое устроило тогда прием корреспондентов, в редакции газеты, где он встречался с лейтенантом. Но тщетно, почти никто офицера не помнил, а те немногие, что смутно вспоминали, не могли назвать его фамилию.
И тут он вспомнил о таджике, владельце ошханы[17], который, по словам лейтенанта, подарил ему клыч. Правда, прошло три года с лишним, ошханщик мог умереть, уехать из Тегерана или бросить дело. Но все равно необходимо было попытаться отыскать его. Быть может, он назовет имя и фамилию лейтенанта.
Керлинг обрядился в восточный костюм, надел на пояс клыч и отправился на поиски. Он обходил по очереди все ошханы и чайханы. Клыч обращал на себя внимание, его разглядывали, щупали, вынимали из ножен, но не нашелся ни один ошханщик, который признал бы в клыче вещь, когда-то ему принадлежавшую.
Керлинг напрасно исколесил и исходил все трущобы и закоулки города. Надежды его угасали.
Гуссейн принимал близко к сердцу неудачи хозяина. Он не переставал расспрашивать базарный люд и однажды пришел с известием, что где-то на южных окраинах города есть ошхана таджика Турдыева. Был ли там господин?
Приунывший было Керлинг воспрянул духом и снова двинулся на поиски. Он нашел ошхану на кривой зловонной улочке. Правда, вид ее не слишком обнадеживал: не верилось, что советский офицер мог посещать такую лачугу. Но едва Керлинг, переступив порог, уселся за низенький столик, как хозяин заведения, маленький старичок с колючими глазками, выскочил из-за стойки и подбежал к нему.
— Господин! Где вы купили эту вещь? — спросил он, не соблюдая никаких церемоний и даже не приветствуя гостя.
— Она знакома вам? — хитро улыбнулся Керлинг, поправляя ремешок, на котором висел клыч.
— Гм… Кажется, была знакома…
— Вот потому-то я и пришел сюда. У вас найдется тут подходящее местечко? — спросил Керлинг и обвел взглядом комнату с низким небеленым потолком. В воздухе стоял чад, пахло шашлыком и луком. На земляном полу восседала группа оборванных посетителей.
Хозяин, приложив руку к сердцу, поклонился и пригласил Керлинга следовать за ним.
Он вывел его во двор и усадил на пустой ящик, предварительно сбросив с него сырую овечью шкуру.
— Ваша фамилия Турдыев? — спросил Керлинг.
— Ганифа Турдыев, уважаемый господин, Ганифа Турдыев… — несколько испуганно подтвердил хозяин.
— Скажите, этот клыч не принадлежал вам когда-нибудь?
Хозяин, не понимая, к чему ведет речь этот иностранец, на всякий случай затягивал время и долго вертел клыч в руках.
Керлинг потерял терпение и напомнил:
— Мне сказали, что в сорок шестом году вы подарили этот клыч своему земляку…
Сообразив, что, собственно говоря, опасаться ему нечего, хозяин затараторил:
— Да, да, да… Вы напомнили… Это давно было… Подарил сыну старого друга, Джуме Садыкову. А как попал клыч к вам?
"Я старюсь, — думал в это время Керлинг. — Джума Садыков! Конечно, Джума Садыков, Как я мог забыть?"
Турдыеву он сказал:
— Садыков мой хороший знакомый… Умный, образованный человек. Он был моим гостем и перед отъездом на юг Ирана оставил клыч. На обратном пути он не попал в Тегеран. Клыч остался у меня. Вещь ценная, я давно хотел вернуть ее Садыкову, но не знаю адреса. Где его искать?
— Ну, это беда небольшая, — улыбнулся Турдыев. — Садыкова надо искать в Бухаре. Он и родился в ней, и живет там.
— В Бухаре?
— В Бухаре, — почему-то вздохнул хозяин.
— А вы давно оттуда?
— О! Очень давно, с шестнадцатого года, еще до русской революции уехал. Вместе с отцом Джумы мы бежали в Иран, когда началась мобилизация на царскую службу. Война тогда была, много народу уходило из Бухары. Отец Джумы умер десять лет назад, не дождался встречи с сыном, а я все живу и только собираюсь умирать…
— Вам еще рановато, — вежливо возразил Керлинг. — Вы молодо выглядите.
Старик усмехнулся:
— Сладкие слова… Слушать их приятно, но помолодеть от них нельзя.
Керлинг встал.
— Что ж… Попытаюсь отыскать Садыкова. Большое вам спасибо…
Этой же ночью Керлинг выехал на машине далеко за город и остановил машину в пустынном месте. Он вынул из небольшого чемоданчика портативную коротковолновую радиостанцию, установил ее на заднем сиденье и поднял над кузовом автомобиля длинный и гибкий стержень антенны. Подключив питание, он надел наушники и стал настраиваться. Через минуту рука его привычно запрыгала на малюсенькой пуговке ключа, выстукивая шифр. В эфир полетели точки и тире. Они означали:
"Отыщите в Бухаре Джуму Садыкова, бывшего в сорок шестом году лейтенантом, переводчиком в Иране, сделайте все возможное, чтобы клинок с головкой дракона, вывезенный им из Тегерана, попал к вам. Слушаю вас через десять суток".
Закончив передачу, Керлинг свернул радиостанцию и помчался обратно в город.
Ровно через десять суток был получен ответ:
"Джума Садыков подарил свой клинок единственному восемнадцатилетнему сыну офицера Саттара Халилова. Халилов жил в Бухаре и год назад выехал. Куда — выясняю. Слушайте меня через семь суток".
Прошло семь суток, еще семь, шесть раз по семи… Прошло три месяца, телеграммы не поступило. Эфир молчал.
Керлинг встревожился. Что случилось? Радиоточка была на централизованном учете, и за нее следовало два раза в год отчитываться. После долгих раздумий Керлинг решил принять срочные меры…
10
Когда тайна клинка стала известна Нарузу Ахмеду, он лишился покоя, день и ночь думал о ней, решился на все, вплоть до убийства, лишь бы вернуть клинок. Он так горячился, что старый Ахун в ужасе хватался за сердце.
— Ждать нельзя, — мрачно твердил Наруз, — этот несчастный иностранец может опередить нас.
— Но ты же боишься выкрасть клинок? — ехидно напоминал Ахун. — Как же мы его добудем?
— Теперь я согласен на все! Только бы скорее!
Оба они пришли к выводу, что клинок хранится в городском доме Керлинга. Однако взять его оттуда было трудно. В доме постоянно находились хозяин, его жена, штат прислуги.
За город Керлинг выезжал редко, обычно с субботы на воскресенье.
Наконец, измученный думами и уже отчаявшийся, Наруз Ахмед заявил старику, что вдвоем они ничего не добьются и что надо привлечь третьего полотера Масуда. Он приятель Наруза Ахмеда, он должен помочь, а если откажется, то уж во всяком случае не выдаст. Поэтому стоит рискнуть.
Ахун задумался. Как и большинство людей, много поживших на свете, он был очень осторожен и недоверчив. Кто его знает, этого Масуда… Однако после долгих уговоров и доказательств старик сдался. Но поставил условие: прежде чем раскрыть Масуду дело, надо хорошенько его проверить, узнать поближе. Ведь Ахун видел полотера только раз, а Наруз может ошибиться: молод, горяч.
Масуд стал частым гостем Наруза Ахмеда. Разговоры велись на разные посторонние темы, но Ахун неизменно направлял их так, чтобы выведать главное в характере полотера: жаден ли Масуд к деньгам, как он поступит, если ему подвернется, например, случай заработать без особого труда за несколько часов сумму, превышающую его годичный заработок. Оказалось, что Масуд не прочь рискнуть и, пожалуй, согласится на любое выгодное дельце. Деньги не пахнут.
Наконец старик успокоился и поручил Нарузу Ахмеду поговорить с Масудом с глазу на глаз и прямо пригласить его к участию в деле.
Наруз Ахмед оказался добрым пророком: Масуд не только согласился, но и очень обрадовался предложению.
Разговор состоялся три дня назад, а сегодня предстояло все уточнить и наметить окончательный план.
Масуд явился точно в назначенное время, а вслед за ним приплелся и Ахун.
Теперь уж нечего было играть в прятки, можно брать быка за рога. И как только все трое расселись за столом, Ахун откашлялся, разгладил бороду и обратился к Масуду:
— Наруз Ахмед сказал мне, добрый человек, что ты согласен помочь нам выйти из беды… Кхе-кхе… Так вот, надо браться за дело, если ты не раздумал.
— Почему не помочь хорошим людям, достопочтенный Ахун-ата, — солидно ответил Масуд. — Помочь можно. Только Наруз обещал рассказать мне, зачем вам понадобился этот клинок.
— А разве он не объяснил? — с наигранным удивлением спросил старик.
Масуд покачал головой.
— Что ж… Придется, видно, посвятить тебя в нашу тайну, — строго и значительно произнес Ахун, подозрительно поглядев на дверь и окно. — Только ты поклянешься памятью отца, деда и прадеда твоего, что ни одна душа не узнает от тебя, почему нам нужен клинок…
Масуд, то прижимая руки к сердцу, то поднимая их к потолку, поклялся, что будет нем как рыба.
Старик вплотную придвинулся к нему и с таинственным видом начал:
— Я не знаю, каким образом украденный у нас клинок попал к твоему хозяину. Тут дело нечистое… Но меня это теперь не интересует. Я просил господина Керлинга продать мне клинок, давал за него много денег, втрое больше, чем он стоит. Но Керлинг посмеялся надо мной. Я просил одолжить клинок под денежный залог на короткое время, он отказал и в этом.
— Значит, вы беседовали с хозяином? — удивился Масуд.
— Да, сын мой. Но его не уговорить… Злой человек и не хочет понять меня. А ты мусульманин, такой же, как и мы, и все поймешь. Ты знаешь, что такое шариат и что он означает для нас. Так вот, слушай! Отец Наруза, Ахмедбек, был моим верным и преданным другом. Ему отрубили голову клинком, который прячет у себя твой хозяин. Я дал клятву аллаху, что от этого клинка умрет и тот, кто погубил Ахмедбека. От клятвы никто меня не освободит. Клинок нужен скорее мне, чем Нарузу Ахмеду. Но я уже стар, и у меня нет сил, я не смогу расправиться с убийцей. За меня сделает это Наруз, сын Ахмедбека.
— А где живет убийца? — поинтересовался Масуд.
— Недалеко, в Исфагани. Клинок нужен нам не более как на две недели. За это время свершится то, о чем будут знать лишь аллах да мы трое…
— Всего на две недели?
— Не больше.
— Это облегчает дело, — будто про себя заметил Масуд.
— Возможно, и за неделю управимся, — подхватил Ахун. — Как только свершится праведная месть, мы водворим клинок через тебя на прежнее место.
— Понимаю… Но вы твердо уверены, что клинок у Керлинга?
— Я держал его в руках! — воскликнул Ахун. — Видел его так, как вот тебя сейчас!
— Где же он прячет его? Может быть, увез на дачу?
— Там его нет, — мрачно отрезал Наруз Ахмед.
— Непонятно, — пожал плечами полотер. — Все старое оружие развешано, я его знаю наперечет. А вашего клинка не видел…
— Придется осмотреть все, — решительно заявил Наруз.
— Понимаю, придется обыскать шкафы, — согласился Масуд.
Договорились так: в субботу, через три дня, Масуд будет натирать полы в доме Керлинга и задержится дольше обычного. Когда стемнеет, Наруз Ахмед подойдет к дому и у окна, которое Масуд специально откроет, свистнет. Масуд подаст ему клинок и оставит окно открытым. Надо сделать так, чтобы подумали, будто в дом проникли воры через окно.
Когда обо всем договорились, Ахун предложил полотеру немного денег вперед. Тот решительно отказался:
— Не надо, Ахун-ата. Вы поверили мне, я должен верить вам. Рассчитаемся потом.
…В пятницу днем почтальон принес Нарузу Ахмеду письмо, первое за много лет. Наруз не мог даже сообразить, от кого оно. Быстро надорвав край конверта, он вынул листок, развернул его и прочел:
"Уважаемый! Придите за своими документами в то место, где вы их оставили. Жду вас в субботу, ровно в восемь вечера".
— Проклятие! Керлинг! — воскликнул Наруз Ахмед. — И главное — в субботу! Вспомнил же! Не пойти? Неудобно. Черт знает что! А может быть, это и к лучшему? Значит, в субботу Керлинг останется на ночь на даче, и Масуд может действовать смелее. Но мне надо до темноты вернуться в город. Можно успеть… Скажу — тороплюсь. Что-нибудь придумаю. Придется только взять арашкечи туда и обратно, чтобы не опоздать. Ради такого дела можно и поизрасходоваться!
11
В субботу в начале восьмого Керлинг сел в автомобиль и покинул Тегеран.
План действий Керлинг наметил раньше, но сейчас, сидя за рулем, он в который раз уже мысленно отшлифовывал его начисто и уточнял кое-какие изменения на случай непредвиденных происшествий.
На полпути к загородному дому он обогнал извозчика и увидел сидящего в экипаже Наруза Ахмеда.
Керлинг съехал на обочину и затормозил. Когда экипаж подъехал, Керлинг поднял руку и спросил Наруза Ахмеда:
— Вы куда, любезный?
— К вам.
— Прошу в автомобиль.
Наруз Ахмед смешался. Как быть? Отказаться — неудобно, а отпустить арашкечи — значит опоздать в город к наступлению темноты. Наверно, придется попросить арашкечи следовать за ними. Да, да… Только так.
— Я очень тороплюсь, — пробормотал он виноватым голосом.
— Тем более!
— Я хотел и обратно на арашкечи…
— А чем хуже моя машина? — улыбнулся Керлинг. — Я могу вас подвезти в город.
Наруз Ахмед пожал плечами, расплатился с арашкечи и отпустил его.
До дачи оба они молчали, Керлинг набрасывал в уме план предстоящего разговора, а Наруз Ахмед думал о том, как бы ему не опоздать к условленному времени в город…
В кабинете хозяин усадил гостя на знакомую ему тахту и проговорил, глядя на Наруза Ахмеда в упор своими желтовато-серыми глазами:
— Вы оказались человеком слишком настойчивым.
— Что? — непонимающе переспросил гость.
Керлинг повторил:
— Да, да… очень настойчивым. Ну что ж… Это неплохо. Твердый характер.
В комнате появился Гуссейн.
— Ужин накрывать, господин?
— Накрывай. На двоих.
Гуссейн вышел.
— Я получил ваше письмо… — робко заметил Наруз Ахмед. — Вы пишете, что я могу взять свои документы…
— Совершенно верно. Вот они! — Керлинг вынул из кармана документы и подал их гостю.
Тот поспешно встал, спрятал их и сказал:
— Большое спасибо, господин. Мне можно идти?
— Как хотите. А впрочем, куда вы торопитесь? Это не секрет?
— Нет, почему же… — изобразив на лице смущенную улыбку, ответил Наруз Ахмед. — Ну, как вам сказать… Тут скрывать нечего. Меня в городе ждет женщина. Я ведь холостяк… Для души…
— Вполне понимаю вас, — серьезно ответил Керлинг и встал. Пройдя к стенному шкафчику, он открыл его, вынул оттуда бутылку вина и два бокала. Но как сказал великий Омар Хайям:
Хмельная чаша нам хотя запрещена,
Не обходись и дня без женщин и вина;
На землю выливай из полной чаши каплю,
А после этого — все осушай до дна!…
Наруз Ахмед был далек от поэзии и пробормотал в ответ что-то нечленораздельное.
Подав бокал гостю, Керлинг наполнил его вином, затем налил в свой и сказал:
— Выпьем за женщину, которая вас ждет.
Ошарашенный, ничего не понимающий Наруз Ахмед покорно выпил вино.
Керлинг сощурил глаза и спросил:
— Как? Хорошо?
— М-м-м…
— Вы правы, чудесный напиток… Присядьте на минутку. Стоять неудобно. Я вас долго не задержу, — и Керлинг отнес вино и бокалы обратно в шкафчик.
"Значит, он останется здесь ночевать, — подумал Наруз Ахмед. — Иначе бы он не заказал ужина. Это мне на руку".
— Вы, как мне кажется, — начал Керлинг, покачиваясь на каблуках, назначили свидание избраннице своего сердца на улице Лалезар?
Наруз Ахмед смотрел на него не мигая.
— Вы, по-моему, — продолжал в том же духе Керлинг, — должны, как только стемнеет, подойти к одному дому на улице Лалезар и посвистать у открытого окна. Так?
Наруз Ахмед молчал. Он смотрел на Керлинга, как мышь на удава. Из головы улетучились все мысли, будто она начисто лишилась возможности рассуждать и понимать.
Керлинг расхохотался.
— Довольно ломать комедию! Ваше упрямство можно использовать умнее. Вы ведете дурацкую игру: бросаете крупную ставку — собственную голову, а в банке медного гроша нет. Поняли? Я все знаю. Масуд продал мне ваш разговор. Но предупреждаю: если с Масудом что-нибудь случится, а впрочем… Не стоит. Вы сами поймете, что вся ваша затея не стоит бараньего хвоста. Вы поверили на слово этому выжившему из ума старику Иргашеву? Напрасно. Он солгал вам. Я не показывал ему клинка… По той простой причине, что его у меня нет. Давно нет. Я показывал Иргашеву фотоснимок, сделанный мною три года назад. А клинок, если уж вы хотите знать, находится на вашей родине.
Наруз Ахмед, потупясь, слушал. Он не верил ни одному слову этого человека, и бешенство отчаяния все больше овладевало им.
— Вы говорили мне в прошлый раз, — продолжал Керлинг, — что в сорок первом году какой-то немецкий майор обучал вас всяким премудростям. Правильно?
Наруз Ахмед машинально кивнул. Он все еще не пришел в себя и упрямо думал: "Надо этому белесому человеку вцепиться в горло…"
— И топографии?
Наруз Ахмед вновь кивнул.
— И прыжкам с парашютом?
— Да, — впервые разомкнул уста Наруз Ахмед и взглянул на хозяина. — Я совершил шесть прыжков. Из них один затяжной.
— Отлично! Все это пойдет на пользу и облегчит дело. Вам очень нужен клинок?
— Он должен быть найден!
— Я вам помогу в этом. Я тоже немного заинтересован… Вам, надеюсь, известна тайна клинка?
— В подробностях неизвестна, — покривил душой Наруз Ахмед.
— Неужели Ахун Иргашев не рассказал?
— Нет. И не скажет, пока клинок не будет найден.
— Упрямый человек. Ну, до тайны мы и сами доберемся.
— Трудно… Я видел чеканные знаки на клинке. Ничего не понять… смелея с каждой минутой, заявил Наруз Ахмед.
— Поймем. Ко всем тайнам, имея голову, можно подобрать ключи. Курите, — предложил Керлинг, подавая сигару. — И слушайте!
Он подробно рассказал, как купил клинок и как обменял его на клыч. Наруз Ахмед слушал внимательно, не перебивая, но когда в заключение услышал, что клинок сейчас находится в руках единственного сына советского офицера Саттара Халилова, он побледнел, подскочил к Керлингу и с силой схватил его за плечи.
— Что с вами? — отступая, спросил испуганный Керлинг.
— Вы сказали — Саттар Халилов?
— Да…
— И у него сын?
— Да, это совершенно точно.
Наруз Ахмед застонал и, сжав руки в кулак, постучал им по своему колену.
— Эта фамилия что-нибудь вам говорит?
— О да, — скривив губы в злой улыбке, простонал Наруз Ахмед. — О многом говорит! Саттар Халилов — бывший батрак моего отца.
— Интересно…
— О-о-о! Он мой кровный враг. Его тесть убил моего отца. Если у него есть сын, да еще единственный, то это мой сын!
Керлинг приподнял брови. Пришла очередь и ему удивляться.
— Саттар Халилов украл у меня жену, силой вырвал из рук моих слуг, и увез ее ночью из дому. Я не мог отомстить, не успел… О-о-о…
— Позвольте, — прервал его Керлинг.- А как отнеслась к этому ваша жена?
— Что?
— Ее устраивал подобный вариант?
Наруз Ахмед вздохнул и опустил голову. События восемнадцатилетней давности ожили и промелькнули перед ним так зримо, что казалось, будто в ноздри пахнуло запахом пыльных садов кишлака Обисарым…
— Это очень длинная и очень старая история, — неохотно произнес он, очнувшись. — Я уже стал забывать.
— Придется вспомнить, дорогой. Я обязательно хочу услышать ее. И не из пустого любопытства. Будьте мужчиной, успокойтесь и рассказывайте. Впрочем, погодите…
Керлинг приоткрыл дверь кабинета и громко хлопнул два раза в ладоши. Появился Гуссейн, толкая впереди себя низкий столик на колесиках, сервированный для ужина на двоих. Подкатив столик к тахте, Гуссейн неслышно исчез.
Не присаживаясь, Наруз Ахмед опрокинул в глотку две большие рюмки коньяка и, крупно шагая взад и вперед по ковру, начал рассказ.
Керлинг был вторым после Ахуна человеком, перед которым он без утайки выложил все: и ненависть свою к новой и чужой ему жизни там, на бывшей родине, и презрение к людям, которые были рабами отца и должны были стать его рабами, но почему-то учатся в вузах, ездят на курорты, командуют и хозяйничают. Слушая его, можно было подумать, что дехкане в Советском Узбекистане и Таджикистане уже много лет едят и пьют его, Наруза Ахмеда, добро. Он подробно рассказал о смерти отца, о встречах с Халиловым, о том, как насильно сделал Анзират своей женой, чтобы мстить, мстить, мстить… И за смерть отца, и за потерю земли и стад, за все, все… Он не скрыл даже того, что намерен был выместить свою злобу не только на Анзират, но и на ее потомстве.
Окончив исповедь, Наруз Ахмед уселся на тахту и яростно накинулся на еду и питье.
Взволнованный необычным рассказом, Керлинг долго молчал и наконец, отставив крошечную рюмку, изрек:
— Поразительно! Восток! Азия! Какое роковое сцепление обстоятельств! Додуматься трудно! Конечно, ваш сын теперь уже взрослый молодой человек, живет, не ведает, кто его настоящий отец… Поразительно! Скажите мне, и пусть мои вопросы вас не смущают: кто знает, что Халилов… м-м-м… украл вашу жену?
— Найдутся такие. Все происходило в кишлаке.
— А интересно, остались ли в живых такие, которые смогут подтвердить, что юноша, которого Халилов считает, возможно, своим сыном, в действительности ваш сын?
— Должны остаться…
— Это очень важно. Вы еще сами не знаете, как важно… А теперь скажите откровенно: чувство мести уже покинуло ваше сердце?
— Нет! — крикнул Наруз Ахмед. — Тысячу раз — нет. И теперь особенно. Они еще должны ответить за восемнадцать лет нищеты и позора. Клинок у Халилова. Отцовский клинок — мое богатство — у них. И сын — исчадие ада ненавистного чрева. Он должен умереть. И она, мать его, тоже должна умереть. И проклятый Саттар Халилов! Я не стерплю. Я пойду на все. Я змеей вползу к ним…
— Спокойно, спокойно…
Наруз Ахмед запустил руку в волосы и взъерошил их.
— Я бек, — задыхаясь, сказал он. — Понимаете? В моих жилах течет кровь повелителей! От нашего взгляда дрожала Бухара! Не думайте, что в нищете и ничтожестве я потерял и гордость, и чувство ненависти…
— Я так не думаю, — успокоил его Керлинг, про себя подумав: "Этот взбесившийся шакал, кажется, станет моей ручной собачкой…" — Я так не думаю, я понимаю… Очень похвально, что после всего пережитого в вашем сердце остался огонь. Такие люди в наше время — редкость!
Наруз Ахмед думал о своем и жадно курил.
— И поскольку так, — продолжал Керлинг, — я осмелюсь сделать вам предложение. Как посмотрите вы на возможность без особых хлопот и расходов оказаться на той земле, в Узбекистане?
До сознания Наруза Ахмеда не сразу дошел смысл сказанного. Он поднял голову, посмотрел в глаза Керлинга и, помедлив, глухо сказал:
— Терять мне нечего. Я уже говорил, что готовился к такой экскурсии. Она не состоялась не по моей вине.
— Отлично! — заключил Керлинг, потирая руки. — Честно говоря, я и не ожидал от вас другого ответа. Я понял это еще при первой встрече. Вспомните мои слова, что к разговору о клинке мы еще вернемся…
— Помню. И не раз раздумывал над этими словами.
— Рад слышать. Значит, я неплохой пророк! — рассмеялся Керлинг. Решим так: ваша экскурсия на родину будет преследовать две цели: во-первых, добыть клинок и расправиться со всеми, кого вы относите к числу своих кровных врагов. Второе… — Керлинг задумался, посмотрел на своего гостя и уже тихо, растягивая слова, добавил: — Второе и третье несколько проще, но ответственнее… Впрочем, об этом позже… Сейчас установим главное способ переброски на ту сторону.
Наруз Ахмед кивнул головой.
— Прыжку с парашютом вас обучали. Поэтому наметим переброску по воздуху. Место приземления изберите сами. Хоть я и бывал в Туркестане, вы знаете его лучше меня, вам и карты в руки. Там найдете моего человека. Он даст вам надежное пристанище и будет верным помощником. Кстати, этому человеку вы вручите небольшую посылочку… О ней я скажу в свое время. Документы получите солидные. Короче, обеспечу всем, чтобы успешно выполнить и наше общее дело, и ваши личные планы.
— А как быть с клинком?
— Что как?
— Тащить его сюда? Что мне делать с ним?
Хотя Керлинг и предвидел этот щекотливый вопрос, он застал его врасплох, ибо ответ на него еще не был им окончательно найден. В самом деле, что ответить? Если Наруз Ахмед знает не только о таинственных знаках на клинке, но и способ их расшифровки, то, овладев клинком, он может плюнуть на Керлинга и из покорного исполнителя превратиться в опасного соперника.
Керлинг замялся. Чтобы оттянуть время, он занялся приготовлением сложного коктейля из многих напитков, кусочков льда и фруктов. Усердно взбалтывая блестящий никелированный сосуд, он лихорадочно думал:
"Решить надо немедленно, сейчас. Но что, собственно, решать? Тайна клинка связана с Узбекистаном. Здесь, на иранской, да и на любой другой земле она ничего не стоит — пустой восточный анекдот. Тайна может "сработать" только на территории Бухары. Следовательно, если не доверить дело Нарузу Ахмеду, придется рано или поздно посвящать в тайну кого-либо другого. А где гарантия, что этот другой, очутившись за кордоном, окажется надежнее?"
— Вот что, дружище, — сказал Керлинг, наливая в бокалы свою адскую смесь. — Прекратим игру в прятки. Вы, конечно, отлично знаете, что делать с клинком. Я не верю, что старый Ахун вам ничего не рассказал. Иначе какого черта вы полезли за клинком в мой дом, рискуя собственной башкой? Предупреждаю: если вы вздумаете оставить меня в дураках…
— Что вы, господин Керлинг! Как можно! Я не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали для меня…
Керлинг усмехнулся:
— Вы должны благодарить меня не за то, что я сделал для вас, а именно за то, что я не сделал, но мог сделать. Вы надеюсь, понимаете? Так вот, продолжу свою мысль: любая попытка повести нечестную игру кончится плохо для вас.
— Не надо об этом, — запротестовал Наруз Ахмед. — Вы еще не знаете меня.
— Поэтому-то и говорю, что не очень знаю вас. Вы вправе не доверять мне, я — вам. Но мы заключаем сделку: я перебрасываю вас в Узбекистан, навожу на след клинка, обеспечивая помощь и возвращение. Вы делаете дело. Результаты — пополам. Ясно? Предупреждаю еще раз: мои люди будут знать о каждом вашем шаге в Узбекистане. На всей нашей планете не найдется места, где мог бы укрыться человек, попытавшийся оставить меня в дураках. Вы можете спросить: "Неужели никто и не пытался обмануть?" Не скрою, пытались. Нашлись такие смельчаки, но все они расплатились жизнью. Не советую следовать их примеру.
Наруз Ахмед протестующе замахал руками:
— Не хочу даже слушать! За кого вы меня принимаете?
— Молчу… Больше об этом ни слова. Надеюсь, мы поняли друг друга. Теперь о вашей задаче. Продолжаю. Дело обстоит именно так, что клинок сам по себе не нужен ни вам, ни мне. Вся суть не в клинке, а в таблице, которая вычеканена на нем. Мы должны иметь эту таблицу. Для того чтобы ее списать с клинка, грамотному человеку понадобится пять минут, не более. Следовательно, и клинок нужен нам не более чем на пять минут…
— На пять минут… — повторил Наруз Ахмед, странно улыбаясь.
Керлинг подозрительно взглянул на него.
— Вы не улыбайтесь, — предупредил он. — Да, да… Таблица — еще не все. Ее надо расшифровать, надо знать ключ к ней. Шифровальное дело — почти моя вторая профессия. Получив от вас начертание знаков — цифры и буквы можно передать по радио, — я попытаюсь найти ключ и результаты сообщу. Вам останется только действовать.
И тут Наруз Ахмед решил вдруг предпринять ложный ход, который поднял бы его цену в глазах Керлинга.
— Не надо искать ключ, — небрежно сказал он. — Вам его не найти. Этот ключ кроется в изречении из корана, которое надо отыскать над входом в одну из старых мечетей Бухары. Теперь-то я понимаю, почему отец при нашем последнем свидании приказал мне его списать. Мне ясна эта связь… — будто в глубокой задумчивости произнес Наруз Ахмед. — Я намерен был скрыть это от вас. Но теперь хочу на ваше доверие ответить откровенностью… — убежденно закончил он.
Керлинг подошел вплотную к гостю, посмотрел на него по-новому и промолвил:
— Тронут. Не ожидал. Дайте вашу руку.
Пожав руку Наруза Ахмеда, он сел рядом с ним, достал из кармана зажигалку и начал играть ею. Признание Наруза Ахмеда выбило его из колеи.
Немного погодя, Керлинг предложил:
— Вы останетесь ночевать у меня.
— Если это удобно…
— Нам никто не помешает, и мы сейчас договоримся о всех подробностях вашей экспедиции.
— Как вам будет угодно, — покорно согласился Наруз Ахмед, снова превращаясь в смиренного бедняка.
— Подготовка отнимет у нас не больше полумесяца. Многое вам уже знакомо по школе майора…
— А как я буду выбираться оттуда? — осторожно поинтересовался Наруз Ахмед.
— Очень просто, — Керлинг подошел к столу и взял карандаш с листком бумаги. — Сажать самолет не будем. Это рискованно на чужой территории. Мы подхватим вас с земли на воздух.
Наруз Ахмед, не понимая, сморщил лоб.
— Сейчас я изображу все, — продолжал Керлинг. — Представьте себе турник. Гимнастический турник. Но это не обычный турник. Высота его метров этак девять, а ширина — пять-шесть. Он сделан из легчайшего, почти невесомого металла, очень прочен, и в сложенном виде его может свободно унести один человек. На углах смонтированы две батарейки с сильными лампочками. К перекладине турника подвешено специальное приспособление, вроде подвижной люльки. Вы садитесь в эту люльку, включаете свет и ждете. Пилот, увидев мигающие лампочки, снизится на бреющий полет и выпустит трос со специальным захватом. Пролетая над турником, захват зацепляет за перекладину, и вы поднимаетесь со всем приспособлением в воздух. Трос внизу раздвоен. На одном конце его закреплен захват, а на другом — снаряжение, вроде портупеи для вас. Уже в воздухе вы надеваете на себя портупею, а турник отцепляете, и он летит вниз. Сделать это нетрудно. Замок прочен, но при легком нажиме на карабин он легко раскрывается. Избавившись от турника, вы висите на тросе, и он лебедкой, через нижний люк в днище самолета, втягивает вас внутрь. И конец делу.
Наруз Ахмед покрутил головой.
— Я понимаю, — улыбнулся Керлинг. — Эти ощущения не для людей со слабыми нервами, но вас я к ним не отношу. Кроме того, приспособление работает безотказно. Оно еще не давало осечек. Мы все это продемонстрируем на практике, и вы убедитесь, что такой способ абсолютно надежен и совершенно безопасен.
Наруз Ахмед всмотрелся в примитивный чертеж на бумаге, представил себя сидящим в люльке, а затем болтающимся в воздухе на тросе, и по спине его поползли мурашки. Но он успокаивал себя тем, что прыжок с парашютом не менее рискован. А лететь вверх или вниз — какая разница? Один черт. Дело в привычке.
После некоторого раздумья он поинтересовался:
— А где я возьму турник?
— Мы выбросим вам его заранее на парашюте. Все ясно? А теперь пошли отдыхать. Уж скоро начнет светать.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Над пустыней стояла ночь. Дул тугой "афганец". Он волочил по пескам сухие кусты янтака и "перекати-поле", жестко шуршал в песчаных барханах. Тоскливо, на разные голоса завывали голодные шакалы. Высоко-высоко в бездонной глубине неба среди россыпи мерцающих звезд обозначился глуховатый и монотонный, с каким-то тяжким, надрывным придыханием рокот авиационного мотора. Рокот постепенно нарастал, ширился. Самолет шел на большой высоте. Вскоре он пересек границу и углубился на север. Когда по расчетам штурмана под ним распростерлись песчаные волны пустыни, от самолета оторвалась невидимая с земли точка. Это вывалился из нижнего люка Наруз Ахмед. Плотно сжав веки, держась одной рукой за вытяжное кольцо и отсчитывая про себя секунды, он с нарастающей скоростью устремился к земле. И когда, по его подсчетам, до земли оставалось не более километра, он выдернул кольцо.
Освободившись от живого груза, самолет плавно развернулся, лег на обратный курс, и в это время внизу, в шести местах одновременно, вспыхнули мощные лучи поисковых прожекторов. Они точно по команде пронзили мрак, вздрогнули и заколыхались из стороны в сторону, щупая звездное небо, и скрестились в одной точке. В перекрестии лучей самолет стал отчетливо видимой светящейся птичкой с застывшими, будто раскаленными крыльями.
К его глуховатому рокоту присоединился звенящий стремительный звук. Они слились воедино. С неба упали одна за другой и рассыпались на мельчайшие светящиеся пылинки три желтые ракеты. Когда они погасли, высотную темень прорезала, будто медленная молния, длинная очередь трассирующих пуль, а затем вторая — короткая.
И тут же в темной высоте вспыхнуло маленькое, но ослепительно яркое облачко огня. Оно неслось по небу и с каждым мгновением вытягивалось, удлинялось.
Лучи прожекторов погасли.
Пылающий самолет, роняя на ходу огненные лохмотья, со страшной скоростью круто ринулся вниз.
В пустыне стало светло, как при полной луне.
Все исчислялось секундами.
Когда самолет достиг земли и врезался в нее, ухнул тяжелый взрыв, от которого зашевелились мертвые пески. Эхо подхватило его и унесло в далекие горы. Вверх взметнулся султан яркого пламени. Но он быстро сник, пожелтел и погас. Опять стало темно и тихо. Покой пустыни нарушал лишь посвист "афганца" в жесткой, утратившей жизненные соки траве да все тот же стремительно-неудержимый звон второго мотора. Но и он уже стихал, удаляясь на север.
Опасливо и нерешительно пролаял перепуганный шакал. Никто из его собратьев не отозвался.
Наруз Ахмед вышел из оцепенения, встряхнулся, лежа на песке, и начал освобождаться от парашютных лямок. Короткая трагедия разыгралась на его глазах. Сейчас на ум Нарузу Ахмеду пришли слова Керлинга. Он уверял, что за успех операции не опасается: боевые достоинства самолета и большая высота гарантируют полный успех. Советская служба воздушного наблюдения не успеет ничего предпринять. Наруз Ахмед горько усмехнулся. Не дождется Керлинг самолета и не узнает, что с ним случилось, если только пилот не успел отстукать радиограмму. Перед мысленным взором Наруза Ахмеда предстало лицо пилота: рыжие, очень прямые и жесткие волосы, светлые, как бы прозрачные глаза. Перед самой посадкой в самолет он заверил Наруза Ахмеда, что прилетит, когда понадобится, за ним обратно и выбросит трапецию. Потом отпил несколько глотков из своей фляги и передал ее Нарузу Ахмеду. Во фляге оказалось что-то немилосердно крепкое, обжигающее рот и горло, — скорее всего спирт, на чем-то настоянный. Наруз Ахмед от одного глотка едва не задохнулся. Нет, этот пилот не прилетит за ним и больше летать уже не будет. Налетался… А вот в том, что опускаться следовало затяжным прыжком, Керлинг оказался прав. Тут Наруз Ахмед выиграл во времени. При обычном прыжке он, пожалуй, попал бы в лапы прожекторов и был обнаружен.
Наруз Ахмед огляделся: кругом тьма, пески, тишина. Звуки советского истребителя исчезли. Теплый ветер, не приносящий прохлады, дул в лицо.
Наруз расстелил парашют, уложил стропы и скатал его. Затем развязал вещевой мешок и вытряхнул содержимое на землю. Тут оказались: маленькая складная лопатка, потертая полевая офицерская сумка, небольшой термос, две вместительные, наполненные жидкостью фляги и тюбетейка. Он вооружился лопаткой и вырыл в песке яму. Надо было надежно упрятать кислородную маску, парашют, вещевой мешок и комбинезон. Даже самая пустячная вещь, брошенная на земле, способна стать уликой! Подкрепившись кофе, Наруз бросил в яму и термос. Потом все это засыпал песком и утрамбовал.
Пора было двигаться. Он перекинул через плечо ремень сумки, надел на голову тюбетейку, прицепил к брючному ремню флягу, положил пистолет в задний карман брюк и зашагал на юг.
2
Через два часа после событий, разыгравшихся в воздухе, заспанный подполковник Шубников держал в руках телеграмму. В ней говорилось:
"В двадцать три сорок боевой самолет типа дальний разведчик, неизвестной принадлежности и без опознавательных знаков, нарушил государственную границу в районе шестнадцатого и семнадцатого пограничных знаков и углубился на нашу территорию. При попытке выйти обратно был перехвачен истребителем. На приказ следовать на посадку ответил огнем, после чего был сбит и упал в квадрате 318/Б. Произведите тщательное обследование территории названного квадрата и граничащих с ним районов".
Шубников быстро сформировал две оперативные группы, отвел им районы действия, усадил в машины и отправил.
А еще через час газик-вездеход подполковника бороздил волнистые гряды песков. Он сам торопился в квадрат 318/Б и вез с собой инструктора Юлдашева со служебной собакой овчаркой под кличкой Пантера.
На западе небо хранило еще плотную темноту, а на востоке горизонт уже розовел. Постепенно, едва заметно для глаза, розовый свет переходил в красноватый и уже подкрашивал нижние края облаков.
Песчаная ширь все яснее вырисовывалась впереди.
Когда на небо поднялся солнечный диск, Шубников увидел впереди, справа по ходу машины, недалеко от высокого бархана, знакомые очертания юркого самолетика По-2.
— Держи к нему, — приказал Шубников водителю.
Тот свернул вправо, и теперь встречный ветер ударил в лица сидящих в открытом газике.
Поодаль от По-2 стояли два человека в легких комбинезонах и прицеливались фотокамерами к чему-то на земле.
Машина подъехала вплотную. Шубников вышел из нее, окинул коротким взглядом груду бесформенного, обгорелого металла и представился. Один из летчиков оказался капитаном, другой — старшим лейтенантом из недалеко расположенного авиационного соединения.
Шубников обошел останки самолета, ковырнул концом сапога изуродованный пулеметный ствол и, покачав головой, заметил:
— Здорово!
— Уж куда лучше, — усмехнулся капитан. — В лепешку.
— Попробуй скажи, какой он принадлежности, — добавил Шубников.
— Да… — протянул капитан. — Врезаться с такой высоты — не шутка. А потом — взрыв и огонь. И нигде ни кровинки. Все высушило. А ведь было в нем трое. Мотор в землю ушел, откапывать придется.
Шубников кивнул, повернулся, посмотрел на хрупкий По-2 и, улыбнувшись, спросил капитана:
— Эта птичка, конечно, ни при чем?
— Я полагаю, — ответил тот. — Это моя птичка. На такие подвиги она уже не способна. Не то время.
— А вы не скажете, каким курсом шел этот покойник? — опросил Шубников, показывая на остатки самолета.
— На это вам ответит старший лейтенант. Виновник события он. Я притащил его сюда полюбоваться на труды его рук.
— Прошу прощения, — проговорил Шубников и повернулся к старшему лейтенанту. — Так это вы его?
Старший лейтенант коротко кивнул, будто его спросили, успел ли он позавтракать.
— Шел он вот так… Я перехватил его на обратном курсе после разворота. На мои требования идти на посадку он угостил меня длинной очередью. Пришлось ему ответить.
— Понятно, — заметил Шубников, всматриваясь в карту. — И кой черт понес его сюда, да еще ночью?
— Мы думали об этом, — сказал капитан. — Делать ему в песках нечего, объектов для съемки нет, да и темень — хоть глаз выколи. Скорее всего он приходил, чтобы кого-то выбросить.
— Точно, — коротко подтвердил старший лейтенант.
Шубников достал свою карту, нанес да нее красным карандашом курс самолета, место его гибели и обратился к старшему лейтенанту:
— Интересно, как далеко от этой точки проник он в глубь нашей территории. Это важно в том случае, если он действительно приходил на выброску.
— Как вам сказать… — почесал в затылке старший лейтенант, беря из рук подполковника красный карандаш. Он поставил им на карте Шубникова крестик и сказал: — Вот наша база. Она лежит как раз на его курсе, но до нас он не дотянул. Я поднял свой истребитель в воздух, когда он только что перевалил через границу. Мы шли на сближение встречными курсами. Судя по времени, он развернулся где-то здесь, — и старший лейтенант поставил на карте второй крестик. — Но это, конечно, приблизительно.
— Ясно, понимаю… Спасибо!
— Часика через три сюда пожалуют специалисты, — сказал капитан. Сейчас я полечу за ними. Они здесь каждый кусочек ощупают и пронюхают. Возможно, и разберутся поточнее.
Солнце поднималось все выше, разливая над песками расплавленное золото. Лучи его припекали уже основательно.
Летчики пожали руку подполковнику, уселись в По-2 и улетели на свою базу.
Шубников задумался. В том, что самолет приходил на выброску, он не сомневался. Но сколько человек сброшено? Один, два или три? Чем больше, тем легче искать. Предстояло обследовать большую площадь, не считая той, которой занялись две оперативные группы. Они, конечно, уже приступили к работе, связались с районными центрами и, по всей вероятности, приняли все меры к блокированию участка.
Шубников решил поначалу обследовать путь от места катастрофы до пункта, который пометил на его карте крестиком старший лейтенант. Может быть, на этом отрезке обнаружатся следы.
Подполковник потратил на это три часа с лишним, но ничего не добился. Тогда он задался мыслью начать круговые поиски — описать на машине большое кольцо, охватывающее всю площадь, на которой вероятнее всего возможно было приземление диверсантов. Шубников прикинул на карте: получалось, что круг в диаметре составит примерно сорок километров и, описывая его, можно рассчитывать на обнаружение выходящих следов парашютистов. Но этот способ гарантировал успех лишь в том случае, если диверсанты, опустившись на землю, тотчас же покинули зону приземления. Так они поступали примерно в девяноста девяти случаях из ста. Но Шубникову довелось встречаться и с такими фактами, когда диверсанты отсиживались на месте приземления по двое и трое суток. Это случалось обычно в лесистой, резко пересеченной местности, но не в песках, где видимость ничем не ограничена. Шубников все больше склонялся к мысли, что диверсанты пытаются выйти из зоны приземления и, следовательно, оставят видимые следы на песке. Пески хранят след очень долго, если не вмешается сильный ветер или дождь.
Машина стала вычерчивать огромный круг, оставляя после себя глубокую двухколейную борозду. Песок упруго скрипел под колесами. Водитель смотрел вперед, Шубников — направо, а Юлдашев — налево. Попадались следы шакалов, джейранов, но следов людей не было видно.
Исходя из того что правильная окружность равна по длине трем диаметрам, Шубников рассчитал, что машине надо преодолеть не меньше ста двадцати километров.
Когда шестьдесят километров остались позади, решили сделать остановку. Водитель осмотрел машину, долил бензина в баки из захваченных с собой канистр.
— Вы полагаете, товарищ подполковник, — обратился Юлдашев к Шубникову, — что если парашютисты выброшены, то они обязательно этой же ночью ушли с места приземления?
— Не полагаю, а предполагаю. Мне думается, что они не рискнут отсиживаться. Для этого надо иметь не только крепкие нервы, но и запасы провизии и главным образом воды. Пески есть пески. И наконец имелся бы резон отсиживаться, если бы их самолет незаметно ушел обратно. Но они, несомненно, видели прожектора слышали стрельбу. В таком случае надо убираться места высадки поскорее.
Через полчаса машина вновь тронулась в путь.
В самый солнцепек, когда на горизонте уже колыхался накаленный воздух и тень от машины сошла на нет, водитель вдруг выключил рычаг скоростей и сильно нажал на тормозную педаль. Газик вздрогнул и встал. Шубников по инерции подался вперед. Все увидели на песке ясные отпечатки человеческих ног и выскочили из машины. Следы были перпендикулярны движению машины и уходили цепочкой на юго-восток. Оставил их один человек. Можно было последовать по тому направлению, которое избрал неизвестный, но Шубников предпочел поступить иначе. Он прежде всего решил выяснить, откуда, а не куда вел след. Необходимо было точно установить, прежде чем идти по следу, кто его оставил: местный житель или же парашютист. Поэтому подполковник приказал двинуться по следам неизвестного, но в обратном его пути направлении.
Машина тяжело шла по пескам. Шубников и Юлдашев зорко вглядывались в отпечатки ног, бегущие справа. Три раза останавливались, чтобы подобрать папиросные окурки с фабричной маркой "Беломорканал. Ташкент".
Когда спидометр отмерил восемь километров, на песке запестрела истоптанная следами площадка. Все стало ясно: здесь произошло приземление. Видна была глубокая дорожка, метров семи-восьми длиной, оставленная на песке телом человека, которого волочил еще не опавший купол парашюта.
— Обойдите кругом, — приказал Шубников инструктору Юлдашеву. — Нет ли других следов, уходящих с этого места.
Юлдашев вместе с рвавшейся вперед Пантерой отправился в обход.
Шубников достал рулетку и измерил отпечатки ног. Они были одинаковы и, очевидно, принадлежали одному человеку. По длине следа Шубников определил, что рост диверсанта колеблется между 170-172 сантиметрами.
Вернувшийся Юлдашев доложил, что других следов, кроме уже обнаруженного, не замечено.
"Но тут мог приземлиться один, а в другом месте — остальные", мелькнуло в голове Шубникова.
— Давайте тщательно обследуем весь участок, — предложил он.
Юлдашев спустил Пантеру с поводка. Собака засиделась в машине — и радостно унеслась вперед.
— Ко мне! — негромко приказал Юлдашев. Пес с виноватым видом вернулся и стал у левой ноги хозяина.
Инструктор направился по одному из следов, ведущих к противоположному краю истоптанной площадки и отдал команду: "След!" Низко пригнув голову к песку и чуть пофыркивая, Пантера двинулась вперед. Через несколько шагов она остановилась и начала яростно разгребать песок передними лапами.
— Лежать! — крикнул заторопившийся Юлдашев.
Пантера легла, вытянув лапы и насторожив уши. Она крутила головой, повизгивала и явно нервничала.
Подбежал Шубников. Вместе с Юлдашевым они стали разгребать сухой, не успевший слежаться песок и вскоре натолкнулись на вещи, зарытые Нарузом Ахмедом. Из ямы были осторожно извлечены парашют, комбинезон, кислородная маска, пустой термос и пустой мешок.
Ни на одном из предметов, исключая термос, не оказалось никаких меток, могущих выдать их происхождение. На термосе же стояла марка ташкентской фабрики.
Юлдашев поднес горлышко термоса к носу и сказал:
— Кофе!
— Значит, гость из трезвенников, — усмехнулся Шубников. — Идти ему, видно, далеко — перед дорогой целый термос выдул… Что ж, поехали за ним!
Машина тронулась.
— Вы заметили — он или очень медленно идет, или сильно нервничает, обратился Шубников к Юлдашеву. — На отрезке в восемь километров он выкурил четыре папиросы.
— Скорее всего нервничает — шаг у него широк и ровен.
— Поживем — увидим, — неопределенно буркнул Шубников.
3
Во второй половине следующего дня разморенный знойными лучами солнца Наруз Ахмед выбрался на наезженную дорогу. Телеграфные провода напевали свою бесконечную унылую песню. Ни единой души не встретил Наруз Ахмед за свой долгий путь, и это его радовало. Пока что все шло хорошо. Только вот усталость и жажда донимали. Две опорожненные фляги, как и ненужную теперь лопатку, он бросил в пути. Во флягах был специальный напиток соломенно-желтого цвета, которым снабдил его Керлинг: один-два глотка утоляли жажду, хотя во рту оставался солоноватый привкус. Наруз Ахмед и раньше слышал от кого-то, что чуть подсоленная вода утоляет жажду лучше, чем пресная, но не придавал этому значения. В напитке Керлинга угадывалась примесь мяты и были какие-то другие запахи.
Наруз Ахмед присел на бугорок и огляделся. Позади, на юге, над темно-бурой грядой гор возвышались белые шапки снежных вершин. Впереди, на севере, узкой полоской уходила однообразная и скучная дорога, обозначенная телеграфными столбами. Справа и слева простирались пески. Ни кустика, ни деревца, ни холма, ни строения. Гладко, пусто, безлюдно. Пески и пески…
Наруз Ахмед приблизился к телеграфному столбу и прочел пометки на нем. Тут же у столба он вытащил карту из сумки и развернул ее на земле. Выяснилось, что километра через два будет перекресток, на главную магистраль выйдут две дороги: одна — из колхоза имени Буденного, другая из горного кишлака Обисарым. Надо поскорее добраться до перекрестка и там ждать попутной оказии. Здесь оставаться рискованно. У первого встречного может возникнуть вопрос — откуда идет пешеход. И ответ будет довольно ясный — сзади граница. И как бы ни объяснял путник свои цели, каждый, даже самый нелюбопытный, запомнит человека, попавшегося на этой дороге, и наверняка скажет кому следует. Поэтому надо спешить к перекрестку. Там естественнее любая встреча и убедительнее любой маршрут. Но, может быть, добираться к перекрестку не дорогой, а окольным путем? Нет, нельзя. И питья не осталось, и видимость кругом большая…
Наруз Ахмед спрятал карту, встал, облизал пересохшие губы и, придерживаясь обочины, зашагал вдоль дороги.
На нем был просторный парусиновый пиджак с большими карманами, летние армейские брюки, легкие брезентовые сапоги и бухарская тюбетейка, расшитая золотыми нитками. На груди был прикреплен орден Красной Звезды с отколотой на одном лучике эмалью. С левого плеча свисала на тоненьком ремешке изрядно потрепанная офицерская сумка, которую он придерживал рукой. Во внутреннем кармане пиджака лежал комплект документов: паспорт с постоянной и временной прописками и с отметкой загса о браке, воинский билет, орденская книжка, удостоверение о том, что владелец его является сотрудником бюро по сбору рекламаций Чкаловского механического завода, выпускающего приборы для опыления фруктовых деревьев, и командировочное удостоверение.
За документы и свой внешний вид Наруз Ахмед был спокоен, а вот за сумку… Сумка — иное дело. Поэтому он и нес ее так, чтобы в любую минуту можно было от нее избавиться. В сумке кроме большой суммы денег пятидесяти и сторублевого достоинства, уложенных плотными пачками, была коробка из-под табака "Золотое руно" фабрики "Ява". От табака в ней остался лишь запах. Под картонной оболочкой хранилась та самая "посылка", которая могла стать неопровержимой уликой против Наруза Ахмеда…
Вот и перекресток. Вот знакомая дорога в колхоз, а вот — в кишлак… Дороги сходятся здесь под острым углом, а на самом перекрестке стоит старый пыльный карагач. Так было и раньше, много лет назад, когда он скакал здесь на горячем карабаире…
Наруз Ахмед хотел было уже усесться под карагачом, как заметил впереди, в перспективе дороги, быстро движущуюся точку. Это мчалась сюда грузовая машина, окруженная облаком пыли. На такую встречу Наруз Ахмед почему-то не рассчитывал. Надо было быстро менять выработанный план. Не раздумывая долго, он зашагал навстречу машине, держась той стороны дороги, откуда дул ветер. Он предполагал, что машина пройдет мимо, и тогда он вновь вернется на перекресток и будет ждать.
Но случилось не так, как предполагал Наруз Ахмед. Поравнявшись с ним, водитель остановил машину, выпрыгнул из кабины и окликнул его:
— Салям, уртак!
"Сейчас спросит, откуда я иду", — сообразил Наруз Ахмед и, желая предупредить развертывание событий, опередил водителя своим вопросом:
— Алейкум салям! Куда держишь путь?
— Недалеко. В кишлак Обисарым. А ты?
— В Токанд.
— Ого! А откуда идешь?
— Из колхоза Буденного.
— Спички есть? Давай закурим.
Они сели на подножку машины, в тень, и закурили.
Водитель, молодой парень узбек, видимо, совсем недавно демобилизовался из армии. На нем была фуражка артиллериста с выгоревшим околышем, гимнастерка с отдувающимися карманами и просоленная на спине, широкие выцветшие шаровары, испачканные маслом, и стоптанные полуботинки.
В кузове старой довоенной полуторки лежали ящики, мешки, бумажные кули.
— До Токанда тебе шагать и шагать, — проговорил водитель, раздувая огонь папиросы, хотя она чуть не пылала и без того. — Верных шестьдесят.
— Ничего не поделаешь, — вздохнул Наруз Ахмед.
— Ночевать в пути придется. А почему пешком?
— Так пришлось. В колхоз добрался на попутной, а оттуда попутной нет. Я и решил выйти на дорогу.
— Тут машины ходят редко. Безлюдье, — сказал водитель.
— Что везешь? — поинтересовался Наруз Ахмед.
— Всякое: табак, соль, сахар, муку. А вот из кишлака заберу другой товар. Живой, можно сказать. Персики. Их надо поскорее доставить.
— Сегодня же и обратно?
— Непременно. Часа через два-три…
— Вот что, дружище, — решился Наруз Ахмед и достал из полевой сумки полусотенную бумажку. — На, держи. А на обратном пути прихвати меня.
Водитель ухмыльнулся, повертел бумажку, аккуратно сложил ее вчетверо, положил в карман и спросил:
— Будешь ждать меня здесь?
— Нет, зачем же, я помаленьку пойду, а ты нагонишь…
— Тоже придумал. Зачем же зря ноги бить?! Садись в кабину и поедем вместе. До кишлака управимся за час, на разгрузку и погрузку тоже час убьем, не больше, а потом обратно. Так по холодку и доберемся до Токанда. И нам будет хорошо, и персикам…
Наруз Ахмед понял, что отвергать разумное предложение неудобно.
— Не возражаю, — не особенно твердо сказал он.
— Хоп. Садись!
Водитель откинул капот, проверил уровень масла в картере, и через минуту машина затарахтела по пыльной дороге, держа путь на перевал к кишлаку Обисарым. Слева осталась дорога в колхоз имени Буденного.
Наруз Ахмед, подпрыгивая на клеенчатом пружинистом сиденье, молча смотрел вперед. Ему было немного не по себе. Он смотрел и думал, не допустил ли ошибки, согласившись ехать в кишлак. Очевидно, не надо было… Хотя, собственно, о чем беспокоиться? Прошло чуть не двадцать лет с того дня — проклятый день! — когда он был в последний раз в кишлаке. А это немало. Если он согласился на экскурсию в Бухару, то почему не заглянуть в Обисарым? Какая разница! Трудно сказать, где подстерегает его больше опасностей: в городе или в кишлаке. В городе можно повстречать старых знакомых по школе, по службе. А в кишлаке? Кто его хорошо знал в Обисарыме? Можно перечесть по пальцам: мулла, председатель кишлачного совета и подставной хозяин усадьбы. И все. Наверное, всех троих уже в живых нет. Они и тогда, в тридцать первом, стояли одной ногой в могиле. Да и сколько раз довелось ему бывать в кишлаке? Сущие пустяки. Приезжал он обычно в свою усадьбу поздно вечером или ночью и покинуть ее старался в такое же время. Нет, нет. Опасения напрасны, а взглянуть на кишлак и на усадьбу не вредно. Не надо только выходить из машины.
Перевал остался позади, и внизу показался кишлак. Водитель стал осторожно, на первой скорости, спускать машину с крутой тропы.
Наруз Ахмед впился взглядом в раскрывшуюся перед ним картину. Это был, конечно, кишлак Обисарым и в то же время как будто не он. От прежнего кишлака сохранилась лишь главная и когда-то единственная улица, а все остальное преобразилось. Долина как бы раздалась в стороны и удлинилась, уступая место новым улицам и переулкам. Появилось много домов, красивых, с большими окнами. А сады! Сколько садов! Их видимо-невидимо. Кишлак тонет в них. Да и главная улица вся обсажена деревьями. И какими деревьями! Но где же его бывшая усадьба? Почему он не видит ее? Она стояла по левой стороне улицы при въезде с перевала. Ее окружали высокие пирамидальные, похожие на кипарисы, тополя. Но теперь такие тополя растут перед каждым домом. Черт знает что! Неужели он не узнает свой дом и высокий дувал, окружающий усадьбу?
— Не приходилось бывать здесь? — спросил водитель, переключая мотор с первой скорости на третью.
— Нет, — коротко ответил Наруз Ахмед и облизал губы. Жажда начала мучить его с новой силой.
— Хорошее местечко. Со временем курорт устроят.
— Курорт? — удивился Наруз Ахмед.
— Источник какой-то целебный нашли. Говорят, здорово от желудка помогает.
Наруз Ахмед промолчал.
Машина катилась по пыльной дороге кишлака, а следом за ней, захлебываясь от ярости, мчалось с полдюжины лохматых и крупных, как овцы, собак. Около небольшого дома с настежь распахнутой широкой дверью и такими же широкими по обеим сторонам окнами водитель со скрипом затормозил и остановил машину. Собаки постояли в нерешительности, поворчали друг на друга и устало побрели по своим дворам.
"Магазин. Сельпо", — решил Наруз Ахмед, оглядывая дом.
У входа на утоптанной площадке стояло несколько дехкан, о чем-то беседуя между собой. Один сидел на корточках, опираясь спиной о стену магазина, и курил чилим.
Водитель выскочил, с треском хлопнул дверцей и крикнул в окно:
— Абдуразак-ака! Принимай! Тороплюсь!
Наруз Ахмед, полуприкрыв глаза и приняв позу дремлющего человека, настороженно посматривал по сторонам. Ему чудилось, что вот-вот кто-нибудь подойдет, увидит его и скажет: "Ба! Наруз Ахмед! А ты как сюда попал?" Он сидел, все более съеживаясь. Его охватывал страх.
Но никто не обращал внимания на незнакомого человека, все были заняты своими делами.
Из дверей магазина показался, очевидно, тот, кого водитель назвал Абдуразаком. За ухом его торчал карандаш, в кармане не совсем чистого фартука — авторучка.
Водитель откинул левый борт машины, достал из кармана пачку накладных и, подав ее Абдуразаку, бросил:
— Считай!
Абдуразак сказал что-то дехканам, и те дружно начали разгружать машину. На земле укладывались ящики, мешки, кули, листы фанеры и жести. Абдуразак осматривал упаковку, считал, сверял с накладными и делал в них пометки карандашом.
Когда все было выгружено, он поставил на бумажках свою подпись и часть их возвратил водителю. Тот забрался на свое место и запустил мотор. Когда он начал осаживать машину назад и развертываться, на подножку, с той стороны, где сидел Наруз Ахмед, вскочил пожилой человек в халате, без шапки, с голой, как колено, головой.
— Теперь к нам? — обратился он к Нарузу Ахмеду.
Тот нерешительно кивнул и взглянул на водителя.
— К вам, к вам, — ответил водитель, выруливая на середину улицы. — У вас как?
— Хорошо! Совсем хорошо! Товар первый сорт. Ждали тебя.
Машина пробежала метров двести, плавно повернула и остановилась у закрытых ворот.
Человек спрыгнул с подножки и на бегу крикнул:
— Не глуши мотор! Сейчас открою.
"Здесь будем брать персики", — решил Наруз Ахмед…
Когда машина въехала во двор, он сжал рукой колено водителя и почти крикнул:
— Стой!
— Что? — удивился тот, нажав на тормоз.
— Пока будут грузить, я немного разомнусь, — уже спокойнее объяснил Наруз Ахмед. — Подожду тебя на улице.
— Хоп! — оказал водитель и повел машину к высокому штабелю из ящиков, около которых хлопотали с добрый десяток мужчин и женщин.
Но не они испугали Наруза Ахмеда и заставили его выйти из кабины. Только оказавшись во дворе, он понял, что попал на свою бывшую усадьбу. Старый столетний каштан и приземистый большой дом… Наруз Ахмед не мог не узнать их. Такое испытание оказалось ему не по силам. Он почувствовал себя сидящим на раскаленных угольях и быстро принял решение. Скорее прочь отсюда, на улицу, куда угодно!
Стоял душный предвечерний час. На улице было тихо и безлюдно. Солнце уже скатилось за горы, и его копьевидные лучи покалывали багровое небо.
Наруз Ахмед шагнул к арыку и, набирая воду пригоршнями, стал долго и жадно пить. Напившись, он вымыл руки, лицо и, достав носовой платок, вытерся.
Поодаль от ворот, в нише дувала, который выглядел теперь значительно ниже, чем раньше, была врезана широкая доска, служившая скамьей. Отяжелевший Наруз Ахмед сел на нее и закурил. Что делать? Может быть, лучше не сидеть здесь, а потихоньку зашагать к выходу из кишлака и там подождать машину? Нет. Поступи так любой другой, никто не обратил бы на это внимания, но на него, чужого человека, взглянет каждый.
Наруз Ахмед жадно затягивался и пытался хотя бы мысленно представить себе, что сейчас в его бывшем доме. Кто там живет? Где садовник, на имя которого был записан дом? Что стало со старухой матерью и второй женой, что жила здесь постоянно?
Размышления Наруза Ахмеда прервал старик, вышедший из калитки. В его руках был тяжелый кетмень. Он не обратил никакого внимания на человека, сидевшего на скамье, и, подойдя к арыку, стал ловко взмахивать кетменем. Соорудив искусственную перемычку из илистой земли, он заставил воду повернуть и побежать по узкой канавке во двор. Потом старик принялся расчищать эту канавку. Он был широк в плечах, но очень стар. На нем была длинная белая рубаха, перехваченная повыше бедер платком, белые засученные до колен шаровары. На волосатых ногах выпирали набухшие, перевитые узлами вены.
Закончив свое дело, старик медленно подошел к скамье и со вздохом грузно опустился на нее рядом с Нарузом Ахмедом.
— Пошла водичка, — сказал он будто самому себе.
От старика сильно пахло потом. Наруз Ахмед немного отодвинулся, взглянул на него и обмер: у старика не было левого уха. Это же Бахрам! Тот самый проклятый богом Бахрам, который покинул его, Наруза Ахмеда, в тридцать первом году у переправы! И как он уцелел? Как только терпит земля эту старую развалину! Ведь он по годам не так далеко ушел от отца. Ему, наверное, сейчас под семьдесят. И почему он здесь, в кишлаке Обисарым? Что он делает? Ведь его дом в Бухаре, рядом с отцовским. Видно, укрылся здесь. Не иначе. О, за спиной Бахрама немало грехов. На него большой счет у советской власти. Довольно одного того, что он был телохранителем отца и его адъютантом в отряде! За одно это можно поплатиться головой. А он, видно, еще хочет жить, старый шакал! Вцепился в жизнь, как клещ. В кишлаке, конечно, его никто не знает, здесь тишина и покой. Наверное, и фамилию сменил. Что ж… это вполне правильно. А его, Наруза Ахмеда, он, понятно, не узнал, да и не узнает.
Противоречивые чувства раздирали Наруза Ахмеда. Ему очень хотелось напугать старика и назвать его по имени. Напомнить прошлое, потребовать ответа за то, что он изменил их общему делу, за то, что сбежал, бросил его, сына Ахмедбека! Но рассудок подсказывал, что прямо говорить опасно. Однако Наруз не удержался от искушения и решил осторожно, не выдавая себя, прощупать старика.
— Здесь живете, ата? — спросил он.
— Здесь, — кивнул старик.
— Хороший у вас дом. И усадьба. Богатый вы человек.
— Дом не мой, а колхозный. Живу в нем не я один, а три семьи.
— Но раньше он был ваш? — сдерживая волнение, продолжал Наруз Ахмед.
Старик усмехнулся:
— Никогда он моим не был. Здесь хозяйствовал байский сынок, Нарузом Ахмедом его звали. Он потом сбежал на ту сторону, и усадьба перешла в колхоз. А я здесь садовником работаю. Хорошие персики растут.
"Вот оно что, — думал Наруз Ахмед, чувствуя, что в нем закипает глухая злоба. — Садовник, значит… Хорошие персики… А чьи это персики, старая собака?!"
— И давно? — спокойно спросил он,
— С тридцать четвертого года.
— А до этого где жили?
— В тюрьме, — проговорил старик и посмотрел на собеседника. — Три года жил в тюрьме.
— За что же?
— Было за что…
Воцарилось неловкое молчание. Потом Наруз Ахмед снова начал:
— А кто же это потрудился над вашим ухом? Басмачи?
— Нет. Красный аскер. Я сам басмачом был. Всякое было… А вы-то сами откуда?
— Я? — смутился Наруз Ахмед, застигнутый врасплох. — Я из Ташкента.
— И родом оттуда?
— И родом.
— А по каким делам в наш кишлак?
— Случайно. Попутной машиной воспользовался. Был в соседнем колхозе.
Старик кивнул, взглянул еще раз на Наруза Ахмеда и начал разглаживать рукой свою бороду.
Со двора выкатила машина.
— Садись, уртак! — пригласил водитель.
— Прощайте, ата, — бросил Наруз Ахмед, встав со скамьи. — Может, еще встретимся.
— В жизни все бывает. Счастливый путь! — прошамкал Бахрам.
Наруз Ахмед занял свое место, и машина помчалась по улице в тучах пыли под остервенелый лай собак.
4
Быстро редела ночная тьма. Огненная полоска прорезала восточный край неба. Разгоралась теплая и ясная утренняя заря. Сутки отошли в прошлое.
Полумертвые от усталости Шубников, Юлдашев и водитель лежали на плащ-палатке у подножия невысокой горы, беспорядочно загроможденной каменными глыбами, валунами и галькой. Пантера пристроилась тут же, возле машины.
Парашютист, оказывается, отлично знал местность и легко ориентировался. Приземлившись и освободив себя от лишних, уже ненужных вещей, он пошел не на запад, не на север и не на восток, где жилые места, а на юго-восток, скорее даже на юг. Можно было подумать, что его влекла к себе граница. Но он туда и не собирался. Ему надо было поскорее выбраться из полосы песков, на которых оставался след. Он предательски тянулся за ним, этот след, и избавиться от него было невозможно. И парашютист двинул на юг — обратно к границе. Он знал, видно, к чему стремился. Пройдя за полдня почти сорок километров, ноги его ступили на такыр — твердую глинистую почву, напоминающую бетон. Здесь уже следы не оставались. Ветер сносил с такыра все, даже пыль пролетала мимо, не имея за что зацепиться. Голо, подметено, безмолвно… Но тонкий нюх овчарки и на окаменевшем такыре чуял запах человека. Пантера уверенно шла по следу.
Шубников и Юлдашев исколесили на машине много километров, покрытых такыром. Со всех сторон подступали пески, но диверсант не сходил с твердого грунта. Он держался такыра и шагал на юг, где такырная почва сливалась с предгорьем.
На пути диверсанта Пантера обнаружила пустую флягу, спрятанную под камень. Больше никаких видимых следов не было.
В полдень следующего дня разведчики достигли телеграфного столба, к которому вышел парашютист. И тут Пантера потеряла след. Шубников развернул карту. Ближайшими населенными пунктами значились колхоз имени Буденного и кишлак Обисарым. Надеяться на то, что парашютист отправится в эти населенные пункты, было трудно. Но не побывать в том и другом Шубников считал неправильным. И он решил так: Юлдашева завезет в колхоз и оставит там, а сам поедет в кишлак Обисарым.
Посадив измученную Пантеру в машину, Шубников и Юлдашев направились в колхоз имени Буденного.
5
Водитель понравился Нарузу Ахмеду. Он оказался простодушным парнем, не проявлял любопытства к своему пассажиру, говорил больше сам и выкладывал все, что было у него на уме. Наруз Ахмед узнал его нехитрую биографию, и его семейные дела, и даже какие кинофильмы привозили в прошлый месяц.
По пути в Токанд они дважды останавливались: первый раз у колодца, чтобы напиться и долить воды в радиатор, а второй — при встрече с грузовой машиной, которую вел приятель шофера.
В Токанд они въехали поздним вечером, когда на небе уже высыпали звезды.
Город был незнаком Нарузу Ахмеду. Он много слышал о нем, но представлял его себе очень смутно, так как бывал здесь только ребенком. Он попросил водителя подвезти его к вокзалу.
— А вы что, на поезд? — удивленно спросил тот.
— Ну да… Я спешу в Ташкент.
— Вот оно что, — с сожалением заметил водитель. — А я считал, что вы сюда, и хотел пригласить к себе. Закусили бы… Правда, домишко у меня не ахти какой, но для хорошего человека местечко всегда найдется. Может быть, отъезд на завтра отложите? Нет, правда! Посмотрели бы моих сыновей. Настоящие джигиты. Старшему уже пять.
— Не могу, дружище! Срок командировки у меня и так кончился. Я уже перехватил одни сутки, а начальство, сам знаешь, не любит неаккуратности. Сегодня я должен был быть уже в Ташкенте.
— Жаль, жаль… — покачал головой водитель.
На привокзальной площади машина остановилась. Наруз Ахмед сунул водителю еще пятидесятирублевку, пожал ему руку и вышел из кабины. Водитель поблагодарил, помахал рукой и уехал.
По площади торопливо сновали пешеходы с чемоданами и узлами в руках. Длинная очередь стояла у автобусной остановки. Наруз Ахмед смешался с толпой, купил в киоске газету и прошел в здание вокзала. Взглянув на расписание поездов, он отыскал кассу, купил билет до Бухары и отправился в ресторан. Тут было людно и оживленно. У буфетной стойки толпились мужчины, вооруженные огромными пивными кружками.
Наруз Ахмед сел за свободный столик, оглянулся и развернул газету.
Как-то непривычно для него выглядела обстановка этого ресторана: женщины-официантки, люди, громкими голосами, шумно, не стесняясь соседей, обсуждавшие свои дела… Отвык Наруз Ахмед от этого. Вспомнились ему тегеранские ресторанчики и чайханы, где каждый сам себе, особнячком, где люди с заговорщическим видом перешептываются между собой… А здесь что-то отдаленно знакомое и в то же время чужое, настораживающее и пугающее.
Наруз Ахмед, уткнувшись в газету, прислушивался к разговору за соседним столиком. За ним сидели трое узбеков и один русский. Речь шла о какой-то новой кинокартине. Собеседники спорили: правда показана в ней или выдумка, могло ли так быть в жизни или нет.
Нарузу Ахмеду пришел на ум водитель, с которым он только что распрощался. Он дал ему в общей сложности сотню. И дал не потому, что был очень щедр. И не потому, что располагал большой суммой денег, позволявшей не задумываться над расходами. Отнюдь нет. Поступил он так, следуя советам Керлинга. Керлинг же поучал — в расходах не стесняться. Он говорил: "Запомните, что в Узбекистане — деньги все. За них можно купить и продать что и кого угодно. Все, от мала до велика, без разбору дают и берут взятки. А те, кто дают взятки и берут их, умеют молчать. Это главное. Те и другие знают, что суд привлекает к ответственности и наказывает в равной мере как дающих, так и берущих".
Но Керлинг одновременно предупреждал, что взятка — одно дело, а жизнь не по средствам — другое. Взятка не вызывает подозрения: она дается и берется "один на один", а излишества на людях неизбежно привлекут к себе внимание и могут привести к провалу. Все надо делать с умом.
Водитель был первым советским человеком, которого встретил Наруз Ахмед. Он выручил его и оставил о себе неплохое впечатление. И уж едва ли он будет болтать о том, что сорвал такой приличный куш. За это его по головке не погладят. Значит, Керлинг прав.
Основательно проголодавшийся Наруз Ахмед заказал себе полный обед, сытно поел, запил его бутылкой пива, оставил официантке на чай и покинул ресторан.
Поезд стоял уже у перрона. До отхода оставалось минут десять. Наруз Ахмед выкурил папиросу и направился к своему вагону. Настроение у него было бодрое. Его появление в Токанде, да еще в таком людном месте, как вокзал, как будто прошло благополучно. Он ничем не выделялся из общей массы. Никто не обращал на него внимания. Его одежда мало чем отличалась от одежды других. Обычный человек, обычный советский гражданин…
6
Шубников подошел к несгораемому шкафу, открыл его массивную дверцу и начал перебирать толстые, плотно сброшюрованные дела с надписями на обложках. Одно дело — "Обзорные материалы за 1930 — 1932 гг." — он извлек и сел с ним за стол.
Зашуршали перелистываемые страницы. На Шубникова пахнуло историей; авантюра Ибрагимбека; разгром банды Ширмата; налет басмачей на строительство канала; расправа с активом колхоза "Заря Востока"… Далее излагались краткие итоги работы Токандского отдела ОГПУ по ликвидации последних басмаческих формирований. Наконец открылась страница с тем, что искал подполковник Шубников. Сугубо справочным, лаконичным языком было сказано:
"Ахмедбек (Ахмед Каланов, сын крупного бая Калана Ниязова), рождения 1884 года. Владел поместьями в Самарканде, Бухаре, Коканде. Имел около 25000 голов каракульских овец, более 700 верблюдов, до 300 породистых лошадей. Держал от 75 до 100 батраков. Гонял в Иран собственные караваны с каракулем.
Содержал свой сераль, количество женщин в котором колебалось от семи до пятнадцати. С 1916 по 1920гг. состоял в должности кушбеги (канцлера) при дворе бухарского эмира Саида Алимхана. В 1920 г. после падения эмирата бежал со свитой эмира в Афганистан.
В 1931 г. прорвался из-за кордона на территорию Узбекистана во главе басмаческой банды. Несколько дней оперировал, совершал налеты на колхозы, расправлялся с местным активом. Затем банда его шестого сентября 1931 г. была полностью разгромлена в районе солончаков, а сам Ахмедбек убит в этом же бою".
Еще через несколько страниц стояло:
"Наруз Ахмед (Наруз Ахмед — единственный сын Ахмедбека), рождения 1906 г.
До 1931 г. жил в Узбекистане. Окончил советскую десятилетнюю школу и специальные курсы торговых работников. Работал в системе кооперации разъездным инспектором. Имел трех жен и скрытое имение в кишлаке Обисарым. Поддерживал все время нелегальную связь с пособниками басмачества. В 1931 г. убил особоотрядца Умара Максумова, от руки которого в бою с бандой пал курбаши Ахмедбек. Затем сколотил небольшую басмаческую группу и примкнул с нею к банде курбаши Мавлана, прорвавшегося из-за кордона после гибели Ахмедбека.
Когда банда Мавлана была разгромлена, а сам он убит, Наруз Ахмед бежал за рубеж, прихватив с собой клинок, который когда-то принадлежал его отцу.
Вначале жил в Афганистане, а затем перебрался в Иран, пробиваясь случайными заработками.
Летом 1941 г. в Тегеране был завербован гитлеровским разведчиком Фриешем и активно готовился к переброске в Советский Союз в составе крупной диверсионной группы".
— Так… — проговорил Шубников, закрывая папку.
Он встал, спрятал дело, запер шкаф и прошелся по кабинету. Ему казалось, что уже можно и нужно кое-что предпринять. Утвердившись в этом решении, подполковник попросил телефонистку соединить его с начальником областного управления МГБ. Ему он коротко объяснил, что возникла надобность в присылке офицера, который не бывал еще в Токанде. Начальник управления заверил, что направит офицера, и тут же назвал его фамилию.
Шубников попросил, чтобы командируемый имел при себе не только военную форму, но и штатский костюм и явился бы прямо к нему на квартиру.
Потом он вынул записную книжку и на листочке под буквой "С" записал: "Старший лейтенант Сивко".
7
Наруз Ахмед не застал в Бухаре того, кого искал. Он не смог встретиться с Икрам-ходжой Ашералиевым, к которому имел явку от Керлинга, но зато он повидался с его молодой женой, очень разбитной женщиной. От нее он узнал, что Икрам-ходжа уже около четырех месяцев гостит у своей родной сестры в Токанде. Наруз Ахмед получил адрес этой сестры и подробные словесные объяснения, как найти ее дом.
Он был очень рад, что так быстро расстался с Бухарой. Он чувствовал себя в ней не очень спокойно. Правда, на глаза ему не попался никто из прежних знакомых, но ежесекундно он опасался этого.
То обстоятельство, что Икрам-ходжа жив, здравствует и вполне благополучен, ободрило Наруза Ахмеда. Худшие опасения его оказались пустыми. А они приходили в голову не только Нарузу Ахмеду, но и Керлингу. Да и как было не опасаться: ведь радиосвязь с Икрам-ходжой, неожиданно оборвавшаяся, так и не восстановилась до самого вылета Наруза Ахмеда. Мало ли что могло случиться!
Теперь все ясно. У разговорчивой супруги Икрам-ходжи Наруз осторожно выведал, что на их житейском небосводе темных туч не появлялось, все идет обычно.
Наруз Ахмед вернулся в Токанд. Он шагал по городу, ничему не удивляясь, ни на что не заглядываясь. Здесь ему не надо было, как в Бухаре, расспрашивать многих прохожих, чтобы отыскать улицу, на которой жил Икрам-ходжа и стоял его дом. Он знал все, что следовало знать, и поэтому спокойно и уверенно шагал на улицу Трех тополей.
Токанд — старинный город. Он спрятался в буйной зелени фруктовых садов и виноградников, весь изрезан полноводными арыками, по которым с неумолчным журчанием течет из канала желтоватая вода. В Токанде большой парк гордость города, — засаженный липами, каштанами, карагачами, тополями, чинарами, акацией, сиренью и жасмином. Центральные, замощенные крупным булыжником улицы города обставлены множеством небольших особнячков самой разнообразной и неожиданной архитектуры. Особняки эти выглядывают из-под сени густых деревьев. В былые времена в них обитала городская знать и видные купцы, а теперь размещались больницы, ясли, клубы, библиотеки, клиники. За годы советской власти население Токанда увеличилось почти вдвое, и он широко разросся по окраинам. В городе появились нефтеперерабатывающие предприятия, хлебозавод, мебельная фабрика, пивной и хлопкоочистительный заводы. Веселый перестук и перезвон слышался из помещений, занятых многочисленными артельными мастерскими. Широкими окнами смотрели на улицы здания новых школ. У входов в кино пестрели яркие плакаты и толпилась молодежь с потрепанными тетрадями в руках — в городе было два техникума. То и дело попадались новые жилые дома.
Но Наруз Ахмед не замечал всего этого, а если уж нельзя было не заметить, скептически кривил губы. Ему все не нравилось, все казалось личным оскорблением, обидой. Единственно, что утешало — это удача, которая ему сопутствовала с первого дня на чужой земле.
Жарища стояла немилосердная. Зноем дышали раскаленный воздух, потрескавшаяся и твердая как камень земля, стены домов, дувалы. В полном изнеможении клонили свои ветви деревья. Листва их, покрытая густым слоем мельчайшей липкой пыли, казалась припудренной.
Все живое требовало влаги, прохлады, а солнце почти недвижимо стояло в зените и поливало землю белым огнем.
Пройдя большую часть пути, Наруз Ахмед увидел на углу разморенного жарой дремлющего чистильщика обуви. Наруз посмотрел на свои брезентовые сапоги, покрытые пылью до самого верха. Он подошел к чистильщику и поставил ногу на ящичек. Старый иранец сразу ожил, встряхнулся и замахал двумя щетками с непостижимой быстротой.
Расплатившись с чистильщиком, Наруз Ахмед тронулся своим путем. Пройдя квартал, он свернул направо и оказался на улице Трех тополей. Посмотрел на номер дома: еще далеко, но по этой же стороне.
Улица находилась почти в центре, и почему ей дали название Трех тополей, можно было лишь догадываться. Когда-то, лет двадцать — двадцать пять назад, здесь, очевидно, росли лишь три тополя. Но сейчас вдоль тротуара тянулись зеленой цепочкой тополя, липы, каштаны, чинары, карагачи.
Дом сестры Икрама-ходжи под номером "69" стоял в глубине двора и был закрыт с улицы высоким дувалом.
Наруз Ахмед уже знал, что сестра Икрама-ходжи — старая женщина, живет в доме с мужем, прикованным к постели уже шесть лет. Других жильцов нет. Казалось, можно было идти прямо в дом — и делу конец. Но Наруз Ахмед не отважился на такой шаг. С того времени, как Икрам-ходжа выехал из Бухары, прошло три с лишним месяца. За этот срок бог знает что могло произойти… Да если и ничего не произошло, все равно рискованно совать нос в дом, где ни разу не был. Мало ли что! Быть может, там, кроме хозяев и Икрама-ходжи, окажутся посторонние люди, да еще такие, которым и на глаза не следует показываться. Быть может, сам Икрам-ходжа посмотрит на такой визит неодобрительно. Все надо учитывать — не раз напоминал Керлинг. Надо постоянно помнить, что малейшая оплошность или излишняя торопливость, необдуманный риск или неосторожный шаг могут сорвать все дело. Город невелик. Это не Тегеран, не Бухара. Да притом надо думать не только о себе и своем благополучии, но и об Икраме-ходже. На этот счет Керлинг предупреждал особо.
Наруз Ахмед прошел до конца улицы, вышел на параллельную ей, зашел в ошхану. Подкрепившись двумя порциями шашлыка и чайником чаю, он направился к вокзалу, купил свежую газету и повернул обратно.
Против дома номер "69" располагалась аптека, рядом с ней — мастерская индивидуального пошива, за ней — продовольственный магазин и парикмахерская. Место было оживленное, все время толпился народ.
Между продмагом и парикмахерской стояла длинная скамья с удобной спинкой, но она была занята.
Наруз Ахмед стал прогуливаться взад и вперед до той поры, пока старуха с двумя мальчиками не вздумала наконец подняться со скамьи. Наруз Ахмед сейчас же воспользовался местом, развернул газету и уткнулся в нее. Позиция была удобной: скамья стояла под липой с раскидистой кроной, и здесь было относительно прохладно. На скамье кроме Наруза Ахмеда сидели еще четверо. И это было на руку.
8
Разморенный жарой и ленью, Икрам-ходжа потянулся, перевалился на бок и посмотрел на стенные часы. Ого, начало третьего! Кряхтя, он поднялся с красных подушек, уложенных поверх ковра на полу, снял с гвоздя цветной халат, надел его и запахнул. Затем не торопясь окутал голову белой чалмой и вышел на улицу. Взглянув в бездонно-голубое, без единого облачка небо, Икрам-ходжа испустил глубокий вздох.
Он был уже стар; прожитые годы застилали его взор мутноватой пленкой. Но никто не давал ему его шестидесяти семи лет. Полнота как бы сглаживала следы времени. Раскормленный, толстобрюхий, он выглядел весьма почтенно, но во всяком случае не старше пятидесяти. На круглом, как таз, лоснящемся жирным блеском лице его красовался большой грушевидный нос, который с обеих сторон подпирали пухлые, с синими прожилками щеки.
Икрам-ходжа любил посиживать и не терпел лишних движений. Всякая спешка и торопливость претили ему. Желудок его, попирая благие поучения корана, никогда не пустовал. Когда он появлялся на улицах Бухары, горожане, подталкивая друг друга и посмеиваясь, шутили: "Насмотришься на ходжу, и плов варить не надо!"
Икрам-ходжа повидал свет. Говорили разное. Болтали, будто он был не только в Мекке, но и в Афганистане, Иране, Индии, Турции; будто он плавал на океанских пароходах. Люди утверждали, что ходжа кроме родного языка владел фарси и без переводчика объяснялся с турками. Был он когда-то муллой, но потом бросил сан священнослужителя и занялся контрабандной торговлей. Да мало ли еще, о чем болтали!… Дыма без огня не бывает.
Но сам Икрам-ходжа держал язык за зубами и, в отличие от других стариков, не любил распространяться о своих странствиях. Когда кто-либо заводил речь, например, о Стамбуле, он скромно молчал, хотя что-что, а уж Константинополь ему довелось хорошо узнать. Именно в Константинополе он свел приятное знакомство с еще молодым тогда господином Керлингом. С ним он встречался и после — в Кабуле, Тегеране, а в годы второй мировой войны — в Ташкенте.
Когда близкие, хорошо знавшие Икрама-ходжу люди пытались вызвать его на откровенность, он неизменно отвечал, закатывая глаза:
— В ту пору, когда я был служителем всевышнего, аллах на многое открыл мне глаза, но предупредил, что уста мои должны молчать.
С аллахом у него были довольно странные отношения. На людях Икрам-ходжа, как хороший мусульманин, обращался к нему с молитвами, но в одиночку, как утверждали злые языки, он не соблюдал ни утреннего, ни вечернего намаза и не утруждал себя запретами корана.
И тем не менее в хорошем настроении Икрам-ходжа любил живописно расписывать все прелести загробной жизни, ожидающей праведников, хотя сам отдавал явное предпочтение жизни земной…
Икрам-ходжа шел по улице величаво-медленной походкой, заложив руки за спину, выставив вперед живот и седую бороду. Он держал курс на городской рынок.
Ходжа сейчас не имел определенного рода занятий, хотя жил в достатке и ни в чем себе не отказывал. У него хватало средств на содержание себя, молодой жены, ее матери — еще не старой женщины — и на то, чтобы разъезжать по всей Средней Азии — куда душа тянула.
У него была странная, неуловимая профессия, позволявшая, не пропуская ничего через свои руки, мастерски загребать деньги. Он слыл искусным посредником. Если кому-нибудь вдруг понадобилось приобрести две-три сотни первосортных каракулевых шкурок, или несколько мешков отборного кишмиша, или десяток ящиков миндаля, или хорошо выделанное шевро для пошивки кожаного пальто, Икрам-ходжа давал надежный и верный адрес. И в случае удачной сделки он, конечно, не оставался в накладе.
В годы войны посреднические операции Икрама-ходжи приняли настолько грандиозные масштабы, что деньги потекли в его карманы рекой. Тогда люди, кровно заинтересованные в его благополучии, посоветовали ему устроиться на нетрудную работу. Икрам-ходжа внял их советам и устроился на должность завскладом в госпиталь. Там он и продержался до конца войны.
Собственно, сейчас ему можно было уже устраниться от посреднических операций: накопленных денег с избытком хватило бы до самой смерти. Но не такова натура Икрама-ходжи. Как страстный игрок, он уже не мог выйти из игры.
Икрам-ходжа достиг рынка и прошел под его высокие арочные ворота.
Рынок радовал глаз веселыми яркими красками. По одну сторону, на столах, в ящиках и просто навалом, тянулись бесконечным рядом обильные дары щедрого узбекистанского лета: персики, виноград, груши, яблоки, вишни, сливы. По другую сторону горами возвышались огурцы, помидоры, кабачки и другие овощи.
В воздухе жужжали осы и пчелы.
Икрам-ходжа продвигался сквозь гудевшую толпу, как ледокол сквозь неокрепший лед. Он никому не уступал дороги. Кто нечаянно наталкивался на него, тот отскакивал, точно мяч от стены.
— Пошт! Берегись! — раздался предупреждающий окрик сзади.
Икрам-ходжа даже не оглянулся. Но когда крик послышался вторично и Икрам-ходжа почувствовал над затылком чье-то жаркое дыхание, он нехотя посторонился.
Мимо проплыл, так же важно, как и Икрам-ходжа, гривастый и бородатый верблюд. Он волочил за собой здоровенную арбу, заваленную доверху дынями-скороспелками. От дынь исходил сладостный запах.
Икрам-ходжа потянул носом и пошел дальше.
В конце рынка под сенью столетней вербы ютилась чайхана. Она стояла на прочном деревянном настиле, под которым неумолкающе журчали воды головного арыка.
На супе — возвышении из глины, опоясывающем толстенный и корявый ствол вербы, — сидел парень лет двадцати пяти и, обливаясь потом, пил чай. Он поминутно утирал раскрасневшееся лицо белым полотенцем. Черная щеточка его усов смешно топорщилась, когда он, вытянув губы, дул на горячую пиалу.
Икрам-ходжа оглядел все вокруг пытливым взглядом своих маленьких глаз и сел возле парня почти спиной к нему. Он вынул большой цветной платок, вытер лицо, шею, грудь и тихо, будто самого себя, спросил:
— Подыскал?
— Да, — так же тихо ответил парень.
— Согласился?
— Ага…
— Подходящий?
— Немного смышленнее того.
— Смотри!
— Я ему показал все.
— Когда решили?
— Завтра, часов в девять-десять.
— Хорошо. В двенадцать жди меня в сквере против почты.
— Угу… — сказал парень.
Икрам-ходжа громко вздохнул, спрятал платок, встал и отправился домой.
Когда он прошел через ворота и зашагал по затененному тротуару, его стал нагонять Наруз Ахмед. Он следовал по стопам старика с той поры, как тот вышел со двора на улицу Трех тополей, и не упускал его из виду ни на минуту,
Наруз Ахмед был твердо уверен, что это и есть Икрам-ходжа. Фотоснимок, показанный Керлингом, полностью совпадал с оригиналом.
Выбрав подходящий момент, когда вблизи не оказалось пешеходов, Наруз Ахмед поравнялся со стариком и, протянув ему четки, проговорил:
— Достопочтенный Икрам-ата, это вы обронили?
Старик впился в незнакомого человека глазами, точно сверлами, взял четки, посмотрел на них и ответил:
— Да, я. Но их должно быть пятнадцать.
— Три остались у вашего далекого друга.
— Не теряй меня из глаз. Иди за мной. Дом, в котором я…
— Принадлежит вашей сестре, — прервал его Наруз Ахмед. — Знаю. Скажите, в какое время зайти?
— Как только стемнеет. Калитка будет открыта. Я встречу тебя.
— Хоп! — заключил Наруз Ахмед и быстро пошел вперед.
9
Телефон на столе зазвонил. Офицер Токандского горвоенкомата укоризненно взглянул на него, снял трубку и, продолжая просматривать раскрытую папку, рассеянно сказал:
— Подполковник Халилов слушает.
— Здравствуй, Саттар. Это я, Шубников.
Папка с шумом захлопнулась, и смуглая рука машинально придвинула аппарат поближе.
— Леонид Архипович! Где же ты пропадал? А я звоню, звоню… Ты мне нужен позарез…
— И ты мне тоже…
— Правда?
— Ну да… Заходи сейчас же, если не очень занят…
— Сейчас буду… Как штык!
Халилов быстро собрал со стола бумаги, папку, запер ящики, застегнул ворот гимнастерки и вышел…
Он шел по городу и думал: зачем он понадобился Шубникову. Халилов любил этого человека еще с тех старых времен. И не только потому, что Шубников спас ему жизнь, когда он, Саттар, волочился, привязанный к конскому хвосту, по пыльной кишлачной улице. Уж если вспоминать, то надо начать с того, что именно Шубников помог ему спасти Анзират.
Но нет, не только из простой благодарности полюбился Халилову этот низкорослый, смуглый малоразговорчивый человек с теплыми карими, в паутинке морщинок глазами. Саттар по-сыновьему любил его и за то, что Архипыч был прост, любил слушать людей, всегда твердо держал слово, и за меткий быстрый ум, и за душевность, нисколько не ослабляющую твердость характера.
Шубников встретил своего приятеля у входа в здание городского отдела.
— Говоришь, позарез? — напомнил он с добродушной улыбкой и, взяв гостя под руку, повел мимо вахтера в кабинет.
— Да, Леонид Архипович, вот так… — и Халилов провел ребром ладони по горлу. — Я звонил позавчера, вчера, сегодня…
На письменном столе были разложены толстые, аккуратно переплетенные папки с закладками между страницами. На допотопном, внушительном несгораемом шкафу стоял синий кувшин с водой, обернутый мокрым полотенцем. Дюжина жестких стульев чинно выстроилась вдоль двух стен. Над столом висел портрет Дзержинского, а под ним — карта области.
Шубников усадил гостя за шаткий столик, приткнувшийся к большому письменному, как лодочка к пароходу, и уселся напротив.
Халилов развернул носовой платок, вытер влажное лицо.
— Жарко…
— Тебе-то стыдно роптать, — пожурил его подполковник. — Пора привыкнуть. На что я, уралец, и то терплю.
Халилов усмехнулся.
— Во-первых, ты почти такой же уралец, как и я, а во-вторых, тебе известно, у человека уж такой характер: холодно — недоволен, жарко — тоже недоволен.
— Это верно, — согласился Шубников, закурил и протянул папиросы гостю. — А зачем я тебе так срочно понадобился?
Халилов жадно затянулся, заерзал на стуле и сказал:
— Ты помнишь тот проклятый эмирский клинок?…
— Из-за которого погиб твой тесть Максумов? — перебил его Шубников.
— Вот, вот… Он самый… Ведь он попал ко мне.
Брови Шубникова приподнялись. Он привалился грудью на столик и удивленно спросил, глядя в глаза приятеля:
— К тебе? Первый раз слышу!
— Как-то не пришлось рассказать…
— Погоди, погоди… Если мне не изменяет память, этим клинком завладел Наруз Ахмед и увез его на ту сторону.
— Точно. А три года назад клинок пожаловал из Ирана в Узбекистан и попал в мой дом. Тесен мир!
Шубников, покрутив седеющей головой и помолчав немного, потребовал:
— А ну, выкладывай все, да поподробнее!
Халилов охотно рассказал. Клинок подарил ему его дружок, офицер запаса Садыков. И подарил, вернее, не ему, а сыну после успешных вступительных экзаменов в университет. Клинок этот Садыков притащил из Ирана, где ему довелось быть в качестве переводчика. Он выменял его на клыч, тоже неплохой, у иностранца, представителя большого телеграфного агентства.
— Как только сын явился с клинком домой, я сразу узнал его, — закончил Халилов. — Такую штуку трудно забыть.
— Погоди… Этого мало. Мне помнится, что ты видел этот клинок до того, как он попал к старику Максумову и к Нарузу Ахмеду. Ты, кажется, говорил мне что-то…
— Точно, говорил. У тебя хорошая память, Леонид Архипович.
Шубников усмехнулся:
— Была бы хорошая, так не расспрашивал бы. Напомни-ка, дружище, всю эту историю. Ты видел клинок раньше?
— Видел и не раз. Тут любопытная история. Как ты знаешь, я рано осиротел. К десяти годам остался один на белом свете: отец кузнечил на бухарском базаре, повредил себе руку и, как я теперь понимаю, умер от заражения крови. Через год погибла мать с сестренкой при какой-то эпидемии. Знал я, что есть у меня дядя по матери, но где он живет — не мог вспомнить. И вот десяти лет я пошел батрачить. Хлебнул… Года через два я попал в дом Ахмедбека. Не скажу, что жилось мне у него хуже, чем у других. Это было бы неправдой. Жилось даже получше. Но это не по причине ангельской доброты Ахмедбека. В его бухарском доме всем хозяйством заправлял некий Бахрам. Проворный человек. Он ухитрялся совмещать обязанности и управляющего, и казначея, и телохранителя бека. Со мной был строг, но, как говорится в книгах, справедлив.
— Тот Бахрам, которому ты в суматохе отхватил одно ухо? — прервал рассказчика Шубников.
— Он самый, — подтвердил Халилов и продолжал. — Теперь о клинке. Увидел я это чудо впервые через несколько лет после того, как нанялся к Ахмедбеку. В лучшей комнате дома, называемой по-нашему михманханой, то есть комнатой для гостей, сплошь завешанной и застланной коврами, висел клинок. Я не мог не обратить на него внимания. Во-первых, он поразил меня, нищего мальчишку, своей роскошью. Во-вторых, как все мальчики, я поклонялся оружию и однажды, не выдержав, залез на тахту и попытался вытащить клинок из ножен, чтобы подробнее рассмотреть. На этом деле меня с поличным поймал Бахрам и так надрал уши, что я до конца дней своих запомнил все украшения на ножнах и рукояти клинка. В заключение Бахрам сказал, что я должен благодарить аллаха, что бек в отъезде, иначе очень просто мне отрубили бы голову этим клинком. Так вот, накануне падения Бухары я увидел клинок в руках моего покойного тестя Умара Максумова. Это был большой мастер, резчик и чеканщик. Слава о нем гремела по всему тогдашнему Туркестану. Клинок принес ему сам Ахмедбек. Его сопровождал Бахрам. Ты спросишь: зачем бек принес клинок Умару? На этот вопрос я не могу ответить твердо. Я выскажу лишь предположение. Ты же знаешь, что такое детская память. Она мгновенно запечатлевает все и хранит вечно. Помню, Умар сидел у своего маленького верстачка и на коленях у него лежал клинок. По одну сторону Умара стоял я, а по другую — крохотная Анзират. Мы, развесив уши, слушали рассказ Умара Максумова о том, какие мастера трудились над изготовлением клинка, как эмир Саид Алимхан подарил его Ахмедбеку. Я слушал, жадно рассматривая клинок, а потом перевел взгляд на верстачок. На краю его я увидел лоскут грубой бумаги с непонятными знаками, цифрами, человеческими черепами. Поэтому я предполагаю, что, возможно, бек заказал Максумову дополнить рисунок на клинке еще какими-то финтифлюшками. Ахмедбек не явился за клинком. Не до этого было. Он сбежал в Афганистан вместе с Саидом Алимханом. В ту ночь эмират пал и в Бухару пришла советская власть. Клинок остался у Максумова, а остальное тебе известно.
— Пожалуй, да, — согласился Шубников, думая о чем-то своем. Остальное мне известно. То, что ты рассказал, очень и очень интересно.
— Это что, — сказал Халилов. — Я звонил тебе не за тем, чтобы выложить эту старую историю. Главное не в этом…
— Как не в этом? — спросил посерьезневший Шубников. — А в чем?
— А вот послушай… Клинок, с той поры как попал в мой дом, висел на стене в моей комнате. Правда, теперь я припрятал его. Надежно припрятал.
— Припрятал? — недоуменно переспросил Шубников. — Это зачем же?
— Не без причин. Отсюда, Леонид Архипович, начинается новая история. Месяца полтора назад в мое отсутствие в дом пожаловал какой-то тип. Его встретила жена. Он назвался монтером телефонной станции, проверил аппарат, позвонил куда-то, а перед уходом, как бы невзначай, спросил, глядя на клинок: "Не продается?" Анзират даже рассердилась. Тогда он сказал: "Может быть, думаете, я много дать не могу? Так вы не беспокойтесь. За ценой я не постою". Жена еще раз сказала, что клинок не продается. Монтер покачал головой и ушел.
А совсем на днях произошел другой эпизод. Я был на службе, тетушка, как всегда, в поликлинике, а жена дома. Она полоскала белье во дворе, а потом спохватилась, что тетушки слишком долго нет. Обеспокоенная, она решила позвонить в поликлинику и узнать, в чем дело. Когда она поднялась по ступенькам на веранду, из дома выскочил какой-то оборванец, налетел на нее и чуть не сбил с ног. В руке у него был клинок. Анзират не растерялась, бросилась за вором в калитку и стала кричать. Прохожие схватили вора, отвели в милицию, а клинок вернули нам.
— Забавно! Ты был в милиции? Видел его?
— Был и видел. Парень лет семнадцати, без документов. Сразу распустил нюни. Родом якобы из-под Тамбова. Рассказывает, что на вокзале утром этого же дня его подцепил какой-то прилично одетый молодой человек и уговорил за вознаграждение в две тысячи целковых стащить клинок. Парень согласился. Украденный клинок он должен был передать своему заказчику на привокзальной площади, возле будки с газированной водой, как только стемнеет. Милиция водила якобы вора на место свидания, делала там засаду, но "заказчик" не явился.
— Я думаю… — заметил Шубников, закуривая новую папиросу. — Почему же ты раньше не сказал мне ни слова?
— Почему? Визиту монтера я не придал особого значения, а когда провалился этот ворюга, я сейчас же позвонил тебе. Позвонил, а мне сказали, что ты в Бухару укатил. Так?
— Верно.
— Потом звонил еще, ты уже вернулся из области, но опять укатил куда-то.
— Тоже верно, — согласился Шубников. — Да… Получается занятно… Я никак не предполагал, что клинок вернулся в Узбекистан, а в этом, кажется, и заключается вся суть.
— Какая суть? — недоумевающе осведомился Халилов.
Шубников немного смешался, пожал плечами и, покрякав, сказал:
— Суть?… Ну, как тебе сказать? Возможно, я не так выразился. Собственно, меня удивило это. Понимаешь?
Халилов ничего не понимал. Он смотрел на подполковника широко открытыми глазами.
— Меня удивило, — попытался Шубников придать ясность словам, — что клинок продолжает путешествовать. Так, видно, ему судьбой предначертано. Подумать только, сколько сменил он хозяев: эмир Саид Алимхан, Ахмедбек, Умар Максумов, Наруз Ахмед, какой-то иностранный корреспондент, потом Садыков и наконец ты. Семь человек. Шутка сказать…
— А почему ты тоже заинтересовался клинком? — спросил Халилов.
Шубников ответил не сразу. Он закурил, подумал, пристально посмотрел на Халилова и проговорил:
— Сейчас объясню. Я тебя вызвал, уж если говорить начистоту, не по поводу клинка. Не в нем дело. Я хотел спросить тебя: помнишь ли ты, каков был собой Наруз Ахмед? Я его плохо себе представляю. Сможешь ли ты описать мне его внешний облик?
— А что?
— Ну вот видишь. Сразу "а что?" — рассмеялся Шубников. — А если без вопросов?
Халилов смущенно улыбнулся:
— Можно и без вопросов.
— Вот так лучше.
— Но я его, мерзавца, помню таким, каким он был в те годы.
— Ничего, валяй!
Халилов постарался обрисовать внешность Наруза Ахмеда и, когда сделал это, все же спросил:
— Интересно, Леонид Архипович, а почему ты вдруг вспомнил об этом проходимце? Ведь когда я подумаю о нем, у меня на сердце нехорошо делается. Ты же знаешь…
— Почему вспомнил? — Шубников пригладил волосы. — Видишь, какая история… Этот Наруз Ахмед натворил в Иране каких-то пакостей, а когда его взяли за холку, он заявил, что является гражданином Советского Союза и его нельзя, дескать, арестовывать. Понял?
— При чем же здесь приметы? — спросил Халилов.
— А как же? Надо проверить, действительно ли это Наруз Ахмед или другое лицо, подставное.
— Хм… Интересно… — заметил Халилов. — Между прочим, когда мне Садыков рассказал, как к нему попал клинок, мне знаешь что пришло на ум? Не является ли эта история психологически тонко и умно задуманной комбинацией.
— Какая история?
— С обменом клинка на клыч.
— Не понимаю, объясни.
— Я имею в виду вот что. Допусти на секунду, что этому корреспонденту позарез нужно было переправить клинок в Советский Союз. Вот он и придумал этот обмен и всучил Садыкову клинок.
— Не могу допустить такой мысли.
— А почему?
— Это равносильно тому, что бросить клинок на дно океана и успокоить себя, что тот, кому он нужен, извлечет его оттуда. Неужели этот корреспондент, если он в самом деле был заинтересован в переброске клинка к нам, не мог придумать ничего более умного? Неужели он не мог отыскать гарантированной оказии? Откуда он мог знать Садыкова? Как он мог быть уверен, что Садыков довезет клинок до Советского Союза? А если бы Садыков поехал из Ирана в Афганистан или в Турцию? А если бы он вздумал продать клинок, как свою собственность? Тогда что бы делал корреспондент?
— А почему ты думаешь, что он не был уверен в том, что из Ирана Садыков поедет в Узбекистан, а не в другое место?
— Шатко и маловероятно. Если бы корреспондент не менял клинок на клыч, а попросил бы Садыкова быть любезным и передать клинок в Узбекистане кому-либо — дело иное. Такие случаи бывали. А в твоей трактовке поступок корреспондента равнозначен поведению человека, который дал в долг крупную сумму денег первому встречному и забыл спросить у него имя и место жительства.
Халилов пожал плечами и промолчал.
— Ну… — Шубников встал. — А припрятав клинок, ты поступил правильно. Спасибо, что зашел. Привет Анзират. Что-то давненько не видел я ее.
— А ты заходи, — сказал Халилов, вставая и подавая руку приятелю.
— Как-нибудь загляну. Джалил дома?
— Нет. По горам лазает.
— Пишет?
— Не часто. Из Памира-то почта нерегулярно ходит.
— Это верно…
Шубников проводил Халилова до выхода и вернулся к себе.
Приободренный, Халилов зашагал в военкомат.
Он остался верен своему давнему решению. Как и мечталось в молодые годы, он посвятил себя военной службе: окончил кавалерийское училище, служил в кадровых частях округа, окончил курсы усовершенствования в Новочеркасске, а всю войну провоевал в кавкорпусе генерала Плиева. Всего пришлось повидать: и радости, и горя. Бывало так, что уж терял надежду увидеть вновь родной Узбекистан. Три тяжелых ранения что-нибудь да значат. Но эти ранения, собственно, и помогли ему вернуться на Родину. В строю оставаться было тяжеловато, демобилизоваться раненько, и Халилов, согласившись работать в военкомате, получил назначение в Среднюю Азию. Некоторое время служил в родной Бухаре, а потом был переведен в Токанд.
Анзират в то же памятное лето тридцать первого года стала его женой. Вместе с ней к Халилову перебралась и тетушка Саодат, заменившая им обоим мать.
Анзират, увлеченная грандиозными планами и новостройками первых пятилеток, поступила было в текстильный институт, но с техникой почему-то у нее явно не ладилось. После многих сомнений в собственных силах, слез и раздумий она пошла в педагогический институт, жадно набросилась на учебу и окончила институт с отличием. Теперь она преподавала географию в десятилетке и нефтяном техникуме и считала, что учительство — это высшая и самая благородная профессия в мире.
Халиловы растили сына Джалила — студента Самаркандского университета. Уже второй год он жил вдали от родителей. Вот и сейчас, хотя наступило время летних каникул, Джалил кочевал с группой студентов-практикантов по Памиру. Побыл с недельку дома — и в горы…
Саттар был сейчас в золотом расцвете сил. Время, горькое детство, трудная юность, война не согнули его стан. Выглядел он, как и полагалось старому служаке, стройным, подтянутым. Но глаза с затаенной усталостью, полуприкрытые слегка припухшими веками, черные волосы, чуть тронутые сединой, и две резкие морщины на бронзовом лбу говорили о том, что добрая половина человеческого века уже прожита…
Придя на службу, Халилов позвонил домой. Там было все в порядке. Он вынул бумаги из стола, разложил перед собой и приступил к работе.
10
Икрам-ходжа встретил Наруза Ахмеда во дворе. Впустив гостя, он запер калитку, и они направились к дому, который стоял в глубине двора.
На небе уже выступили звезды.
С огромным нетерпением ожидал Икрам-ходжа прихода Наруза Ахмеда. Пароль — четки — говорил сам за себя: гость от господина Керлинга. В этом не может быть никаких сомнений. Остается пока неясным, кто он: просто посыльный или же лицо доверенное. И главное, откуда гость? С той ли он стороны или здешний? Как он нашел Икрам-ходжу в Токанде? Кто дал ему адрес сестры? Керлинг его не знал. Очень интересно.
От страшного любопытства Икрам-ходжа ощущал зуд во всем теле. Ему хотелось сейчас же забросать гостя вопросами, но он понимал, что это неприлично. Нельзя нарушать устоявшиеся в веках восточные обычаи. Нельзя пороть горячку. Нельзя говорить сразу о деле.
Дворик, где очутился Наруз Ахмед, был полон цветов. Они подступали к самым стенам дома, росли на клумбочках и куртинах, приветливо выстроились вдоль узенькой дорожки.
— Да, у вас здесь шахская оранжерея! — восхищенно воскликнул он.
— Цветы — украшение добрых душ, — скромно ответствовал Икрам-ходжа, подводя гостя к супе под яблоней. — Посиди здесь, сын мой! Я пойду распоряжусь.
— Если насчет угощения, то воздержитесь, — предупредил Наруз Ахмед. Я не так давно обедал.
Старик недовольно отмахнулся и внушительно произнес:
— Не будем отступать от обычаев отцов. Ты — мой гость!
Приложив округлым движением ладони к сердцу, он заторопился к дому и скрылся в темном дверном проеме.
Наруз Ахмед присел на супу, застланную войлоком, положил возле себя сумку, расстегнул пыльный, потный пиджак. Только сейчас он почувствовал усталость и неодолимое желание прилечь. Прилечь, закрыть глаза и забыться. Весь день проведен на ногах — в нервном напряжении, в томительном ожидании. Слава аллаху, что наконец он добрался, нашел…
Дом осветился изнутри. За прозрачной марлей в окнах — защитой от мух и мошкары — задвигались силуэты Икрама-ходжи и его сестры.
Наруз Ахмед лег на спину, уставился глазами в крупнозвездное небо и облегченно вздохнул.
Дневной зной нежно вытесняла ночная прохлада. Где-то в соседнем дворе ворковала горлинка. Воздух был напоен благоуханием цветов и слегка кружил голову.
Наруз Ахмед на секунду прикрыл глаза, и ему сразу почудилось, что он сидит-плывет в железном самолете. Он быстро поднялся, встряхнулся. Возле него стоял Икрам-ходжа.
— Назови свое имя, сын мой, — попросил он.
— Наруз Ахмед…
— Наруз Ахмед… — повторил старик и провел по лицу рукой, что-то припоминая. — Кто дал тебе четки?
— Джарчи, — назвал Наруз кличку Керлинга.
— Так я и думал. Давно?
Наруз Ахмед сказал когда.
Икрам-ходжа кивнул. Все ясно. Подробности можно выяснить потом.
— Пойдем в дом, — пригласил он гостя.
Наруз Ахмед взял сумку и разбитой походкой потащился за Икрамом-ходжой.
В комнате, обставленной по-восточному, у низенького квадратного стола, застланного цветной скатертью, хлопотала старая женщина. Она даже не взглянула на чужого человека, будто его и не было здесь. Ловкими движениями она вынимала из медного таза с водой тяжелые кисти винограда и, стряхивая их, укладывала на большое серебряное блюдо.
Выложив виноград, она молча удалилась.
Наруз Ахмед проводил ее взглядом.
— Моя сестра, — пояснил Икрам-ходжа. — Ты можешь чувствовать себя здесь, как в родном доме.
Едва заметная усмешка искривила губы Наруза Ахмеда. Родной дом! Он забыл уже, что такое родной дом. Забыл, что когда-то имел его и не ценил. А теперь само слово "родной" звучит как-то раздражающе.
Стол был уставлен едой, да такой, о которой за все эти годы Наруз Ахмед мог разве только мечтать. Здесь были холодная баранина, отварной цыпленок, колбаса "казы", свежий овечий сыр, густые сладкие сливки, пышные белые лепешки, бархатистые персики, яблоки-скороспелки с красной щечкой, куски ароматной дыни, виноград с черными до синевы ягодами, хорошо вызревшие, точно налитые воском груши.
Сели за стол, подобрав под себя ноги.
Икрам-ходжа поставил перед собой и гостем по пиале и налил в них что-то из фарфорового чайника.
Наруз Ахмед взял свою пиалу с голубой каемочкой по краю, поднес ко рту, понюхал и с усмешкой заметил:
— В прежние времена кок-чай имел другой запах и цвет…
Глаза хозяина превратились в узенькие щелочки, пухлые щеки затряслись.
— Такие встречи бывают редко, — благодушно проворковал он. — Аллах не разгневается, если мы разрешим себе выпить этот кок-чай.
Оба выпили. Наруз Ахмед крякнул. Икрам-ходжа забился в мелком кашле и замахал руками.
Оросив трапезу доброй дюжиной глотков крепкого "кок-чая", они запили ее настоящим зеленым чаем и, отяжелевшие, отвалились от стола.
Для Икрама-ходжи еда являлась усладой жизни. Он знал толк в этом деле. Тот час, когда он насыщался, был самым блаженным для него. Поев, он поудобнее и помягче усаживался, полузакрыв глаза, и думал о чем-нибудь приятном, не волнующем сердце. Не отступил он от своих правил и сейчас. Хозяин и гость расположились у стены на разостланных на полу стеганых одеялах. Старик предупредительно подложил за спину гостя несколько подушек, обложился ими сам, сладко потянулся, зевнул и полуприкрыл глаза. Неплохо бы и вздремнуть, но сегодня не до этого. Надо поговорить о деле. Пока Икрам-ходжа соображал, с чего бы начать разговор, Наруз Ахмед предупредил его. Он достал из сумки несколько тугих пачек сторублевок, бросил их на колени старика и коротко сказал:
— Вам. От Джарчи.
Икрам-ходжа сгреб деньги и, не пересчитывая, сунул их под одеяло.
— Почему прервалась связь? — тихо спросил Наруз Ахмед.
Старик вздохнул и развел руками. Он в этом не виноват. Да и никто не виноват. Просто не повезло. Его человек хранил радиостанцию в дупле старой вербы, в нескольких километрах от Бухары. А весной во время грозы в вербу ударила молния. Рация сгорела.
Наруз Ахмед покачал головой: надо же такому случиться!
— А Джарчи бог знает что передумал, — сказал он.
Старик сокрушенно развел руками.
Гость опять наклонился над сумкой и извлек коробку из-под табака "Золотое руно". Подняв крышку, он подал ее Икраму-ходже.
Брови Икрама-ходжи удивленно поднялись. Он взял в руки коробку и с недоумением посмотрел на гостя.
— Радиопередатчик. Новейшей конструкции. Шедевр, — пояснил Наруз Ахмед. — Джарчи сказал, что радист у вас — смышленый парень, разберется в этой механике…
"Значит, о Гасанове он тоже осведомлен, — мелькнуло в голове старика. — Кажется, он не просто посыльный. Керлинг, вероятно, и обо мне рассказал ему все".
Бережно держа рацию обеими руками, тяжело отдуваясь, Икрам-ходжа встал, вышел из комнаты и вернулся через несколько минут.
— Я был в Бухаре, — сообщил Наруз Ахмед. — Познакомился с вашей женой. Она мне объяснила, как вас найти.
"Здорово! — подумал Икрам-ходжа. — Человек расторопный, что и говорить".
— А как с клинком? — как бы между прочим поинтересовался гость.
— Из-за этого клинка я и торчу здесь с самой весны. И радиста притащил с собой.
Наруз Ахмед одобрительно кивнул и спросил:
— Кстати, что это за парень, с которым вы обменялись сегодня несколькими словами на рынке?
— Это радист Гасанов. А ты видел? — спохватился старик.
Наруз Ахмед улыбнулся.
— Если бы не видел, то не спрашивал бы.
— И заметно было, что мы разговаривали? — забеспокоился Икрам-ходжа.
— Для меня — да. Я шел за вами от самого дома и наблюдал за каждым вашим движением. Но для других — не думаю.
Икрам-ходжа сыто рыгнул и вздохнул. Расторопный человек, слов нет. Керлинг знал, кого посылать.
— Вы не сказали мне о клинке, — напомнил Наруз Ахмед.
— Плохо… Пока плохо. Я сообщил, что вещь находится у подполковника Халилова, но добраться до нее никак не удается.
— Пытались?
— Сейчас я все расскажу…
Наруз Ахмед, скрывая волнение, выслушал Икрама-ходжу. Рассказчиком тот был, по правде говоря, неважным: говорил нудно, длинно, повторялся. И притом как-то странно: губы его при этом почти не шевелились. Наруз Ахмед едва сдерживал раздражение.
— С монтером неплохо придумано, — заметил он, когда Икрам-ходжа наконец кончил рассказ. — А вот последний ход был слишком рискованным.
— Без риска не обойтись… Разве ты не рисковал, пробираясь сюда?
— Это другое дело.
— Наша жизнь, сын мой, в руках аллаха…
— Вор мог потащить за собой и вас.
— Меня? Ну уж нет. За каждого дурака я отвечать не намерен. Ни я его, ни он меня в глаза не видели.
— А Гасанов?
— Что Гасанов? Ему тоже бояться нечего. Он видел вора один раз, себя не называл, назначил ему встречу, а когда все провалилось, — не явился.
— А как вы узнали, что все провалилось?
Икрам-ходжа объяснил: Гасанов наблюдал за домом Халилова, и задержание вора произошло на его глазах.
Наруз Ахмед задумался. Все это не так, грубо, похищать клинок нельзя: не надо привлекать к клинку ненужного внимания. Пусть им владеет Халилов. В конце концов важен не клинок, а надпись на нем. Ведь в ней все дело. А надпись тот же Гасанов мог бы уже списать. Напрасно Керлинг умолчал об этом, давая задание старику. Он опасался, видимо, что старик сам воспользуется тайной. Но это совершенно исключалось. Надпись сама по себе еще не открывает тайны. Надо знать, как ее расшифровать… Теперь надо как-то сказать Икраму-ходже о знаках на клинке, но так, чтобы не возбудить в нем излишней заинтересованности… О такой возможности было заранее договорено с Керлингом.
Помолчав, Наруз Ахмед сказал старику, что охота ведется не за самим клинком, а за некоей надписью на нем.
Икрам-ходжа давно уже искал ответа на вопрос, почему вдруг Керлингу понадобился какой-то клинок, а потому прежде всего спросил:
— Какая же тайна кроется в надписи?
Подобный вопрос и Керлинг и Наруз Ахмед предвидели. Ответ на него был придуман заранее. Наруз Ахмед с готовностью сообщил, что клинок одно время принадлежал видному иностранному разведчику, который во время последней войны часто бывал в Средней Азии и вел здесь работу. Важные материалы, чертежи, зашифрованные списки людей, адреса, явки и прочее он по вполне понятным причинам не мог хранить при себе и спрятал в надежном, безлюдном месте. Местонахождение этого тайника он зашифровал на всякий случай в виде художественной резьбы на клинке. Внезапно покидая Среднюю Азию, разведчик не смог добраться до тайника, но вывез с собой клинок. Теперь возникла острая нужда в оставленных материалах. Их надо отыскать и обязательно вывезти. Разведчик, о котором идет речь, занимает сейчас видный пост, и Джарчи зависит от него. Джарчи он и поручил организовать всю операцию.
Икрам-ходжа доверчиво принял эту легенду, но кое-что было ему не совсем ясно.
— Почему только теперь этот видный господин хватился материалов? спросил он. — Я понял, что он покинул Узбекистан в годы войны.
Наруз Ахмед не полез в карман за объяснениями.
— Тут целая история, — стал сочинять он. — Будучи в Иране, разведчик остановился в каком-то кишлаке. Он заболел — тяжелый приступ лихорадки — и вынужден был несколько дней проваляться в постели. И в эти дни у него украли клинок. Вскоре же вор был задержан. Он оказался курдом, жителем кишлака. Но клинка при нем уже не было. Он признался в краже и назвал имя человека, которому продал украденную вещь. Это был владелец антикварного магазина в Тегеране. Быстро отыскали и хозяина магазина. Прижатый полицией, он сознался, что да, клинок он купил, но сейчас же перепродал его одному европейцу. Стали искать европейца. И этого нашли! Но клинка и у него не было. Клинок он выменял на клыч уже известному Икраму-ходже Садыкову. А вот Садыкова пришлось разыскивать очень долго. Помог в этом тегеранский ошханщик, который знал отца Садыкова, его самого и который сказал, что Садыков живет в Бухаре.
— Вот как было дело, уважаемый Икрам-ата! — закончил Наруз.
Старик поверил и в эту историю. Помолчав немного, он высказал то, о чем уже думал Наруз Ахмед:
— Господин Джарчи допустил ошибку. Надо было сразу сообщить мне, что нужна надпись, а не клинок. Надпись давно была бы у меня. Мы напрасно потеряли много времени…
— Вы правы, уважаемый, — согласился Наруз Ахмед. — Ошибку надо исправить и поскорее скопировать надпись. Этот путь более легкий и менее опасный. Сколько человек живет в доме Халилова?
— Трое: он, жена и тетка жены.
— А сын? Вы говорили, что у него есть сын?
— Я правильно говорил. Сын есть, но он сейчас в Памирских горах.
— Квартира отдельная?
— Отдельный дом. Вход с улицы и через двор.
Наруз Ахмед потер лоб.
— Что ж, давайте думать…
— Завтра будем думать!
— Почему? Что мешает сегодня?
— Во-первых, ты устал, тебе надо отдохнуть, а во-вторых, дело может обернуться так, что клинок завтра окажется в наших руках.
— Это каким же образом? — оживился Наруз Ахмед.
Старик сообщил, что завтра утром будет предпринята третья попытка овладеть клинком, Гасанов подыскал нового человека, более надежного, чем первый, и тот согласился проникнуть в дом и вынести клинок.
Наруз Ахмед нахмурился:
— Стоило ли прибегать к уже использованному и не оправдавшему себя приему? Ведь Халилов и без того уже насторожен. Он может сразу сообразить, что в клинке что-то кроется… Опасно. Очень опасно!
Икрам-ходжа пожал плечами. Другого выхода он не видел. Виноват не он, а Джарчи.
— Я и не виню вас, уважаемый Икрам-ата, — примирительно сказал Наруз Ахмед. — Вы поступили так, как должны были поступить. Но план надо изменить…
— Поздно, — сердито ответил Икрам-ходжа. — Я до двенадцати часов завтрашнего дня не смогу уже увидеть Гасанова, а он не сможет предупредить вора.
— Жаль… Очень жаль…
Наруз Ахмед понял, что дальнейшие разговоры излишни и остается одно ждать.
Икрам-ходжа вздохнул и поднялся с подушек.
— Ты останешься здесь. Сестра моя как глухонемая. Она умеет молчать и ничего не замечать. У нее есть муж, но он уже не человек и скоро покинет грешную землю. Пойдем-ка, я покажу тебе свою комнату.
Наруз Ахмед встал. Они прошли коридором и через низенькую дверь вступили в полный мрак. Но вот щелкнул выключатель. Наруз Ахмед огляделся. Они стояли в просторной квадратной комнате с одним окном, выходящим в сад. Здесь как бы уживались две эпохи: феодальная и современная. Вдоль стены разместились две односпальные никелированные кровати, застланные шелковыми покрывалами, мягкий диван и белоснежный холодильник. Посредине стоял круглый стол под бархатной скатертью, с хрустальным графином на нем. В углу виднелась тумбочка с радиоприемником "Нева" и два кресла. С потолка, закрывая стены, спускались старинные, ручной работы ковры. Толстый ковер был разостлан на полу.
— Ну и ну! — покрутил головой удивленный Наруз Ахмед.
— Это и будет нашим убежищем, — самодовольно объявил Икрам-ходжа. Здесь уж не так плохо.
— Хоп! — выразил свое удовлетворение Наруз Ахмед, сбросил с себя пиджак и начал стягивать сапоги. — Когда у вашего парня сеанс по расписанию?
— Вот уж этого я не знаю. А что?
— Надо уведомить Джарчи. Он, пожалуй, занес меня в список покойников.
— Почему?
— Самолет, из которого я выпрыгнул, подбили. Он упал и сгорел.
— Ай-яй-яй!… — ужаснулся старик. — Хорошенькое дело!
— Задержись я минуты на три-четыре, и мы бы не сидели сейчас здесь.
— Значит, ты родился под счастливой звездой. Срок твой еще не подошел.
— Выходит, что так. А с радистом вы встретитесь завтра?
— Да, в двенадцать.
— Отлично. Передайте ему рацию и телеграмму, Дайте мне листок бумаги. Карандаш есть.
Икрам-ходжа достал из тумбочки под радиоприемником стопку почтовой бумаги и подал гостю.
Наруз Ахмед, разутый и раздетый, сел за стол, набросал текст радиограммы и подал листок Икраму-ходже.
— Теперь дело за вами, — сказал он. — Джарчи предупредил меня, что шифром владеет ваш радист, а кодом — вы. Я пишу от вашего имени. Так велел Джарчи.
Старик пробежал текст глазами и вышел из комнаты. Вернулся он с книгой в руке. Сев за стол, он положил перед собой радиограмму и раскрытую книгу, надел очки и стал писать.
Закодированная им радиограмма выглядела так:
"Ваш младший брат жив и здоров. Четки и патефон получил. Голубя, подаренного вами, заклевал коршун. То, что вы просили, еще не купил, но уже подыскал. Пугает высокая цена. Надеюсь уговорить владельца. Привет от меня и моего блудного сына вам и Москве".
Икрам-ходжа прочитал несколько раз написанное, свернул листок и спрятал под стельку своего башмака. Потом подошел к розетке и выключил свет.
11
Без нескольких минут двенадцать Ирмат Гасанов появился в сквере, разбитом против городского почтамта. В этот знойный и душный полуденный час сквер пустовал. Гасанов выбрал скамью, защищенную густой травой, сел на нее, раскрыл книгу и стал читать.
С небольшим опозданием в сквер пришел Икрам-ходжа. Он прошелся по одной аллее, перебирая четки, затем по другой и наконец опустил свое многопудовое тело на скамью, рядом с Гасановым.
Тот посмотрел искоса на своего духовного наставника и продолжал читать.
— Рассказывай! — предложил ему Икрам-ходжа.
— Ничего не получилось, — проговорил Гасанов, не отрывая глаз от книги. — Клинка он не нашел. Облазил два шкафа — книжный и платяной, обыскал письменный стол, посмотрел под матрацами дивана и кроватей — нигде. Быть может, Халилов спрятал клинок во дворе?
— Не знаю, — бросил старик. — А как все прошло?
— Удачно.
— Этого мало. Скажи, как это удалось ему?
— Парень он ловкий. Перед рассветом, еще затемно, пробрался в сад, засел в малиннике, дождался утра и стал наблюдать. Когда в доме осталась одна старуха, он начал действовать. И очень хитро. Он заранее подкупил трех мальчишек, и те дежурили за стеной сада. Как только старуха показалась во дворе, он подал сигнал мальчишкам, и те с трех сторон полезли через забор к яблокам. Старуха начала гоняться за ними, а он в это время занялся домом. Я сидел в засаде на улице и видел сам, как он вышел со двора через калитку.
— Ничего в доме не взял?
— Нет, я его предупредил.
— Следов не оставил?
— Говорит, что все в порядке, комар носа не подточит.
— Ты с ним расплатился?
— Расплатился. Он уже уехал.
Икрам-ходжа положил на скамью, поближе к Гасанову, сверток, который держал в руке, и сказал:
— Прихватишь с собой. Это новый патефон. Внутри письмо. Заделай его и при первой же возможности передай. Каждое утро подходи к трансформаторной будке, что около рынка. Как увидишь крест, поставленный мелом, знай, что в полдень этого дня я приду к мосту через головной арык. А теперь иди!
Гасанов захлопнул книгу, взял сверток и удалился.
Он привык слушаться старика и беспрекословно выполнять все его указания. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что Икрам-ходжа не терпел пререканий, а с другой, тем, что Гасанов, хотя и не любил старика, но боялся и слушался. Повиновался потому, что Икрам-ходжа проявлял о нем отеческую заботу, потворствовал во всем, не жалел для него денег, никогда не выругал бранным словом. Старик был строг, сух, но не груб. Но, пожалуй, больше всего Гасанов уважал старика за деловитость и осторожность. К его действиям нельзя было придраться. Он никогда — ни здесь, ни в Бухаре — не встречался с Гасановым дважды на одном и том же месте, а каждый раз избирал новое. Он никогда не тратил на беседу, о чем бы в ней ни шла речь, более трех-пяти минут. Он умел высказать все в нескольких коротких фразах. В том случае, если обусловленные встречи по каким-либо причинам срывались, что бывало нечасто, Гасанов не предпринимал никаких шагов к налаживанию связи. Об этом заботился сам Икрам-ходжа. Гасанов получал открытое письмо, написанное женским почерком, в котором какая-то "девушка" назначала свидание. Случалось, что он наталкивался на старика в таком месте, где и не думал с ним встретиться.
Люди, мало знавшие Гасанова, затруднялись определить его национальность. Это и в самом деле было не так просто. В жилах Гасанова смешалась кровь татарина, русского, узбека и осетина. Его отец был наполовину татарином, наполовину русским, а мать — дочь осетинки и узбека.
Родился Гасанов в Ташкенте, где жили его родители, там же он окончил и среднюю школу. Воинскую службу отбывал в войсках связи, где получил профессию радиста.
Беспорядочная жизнь родителей мало способствовала правильному воспитанию Гасанова. В доме шли крупные нелады. Отец неоднократно уходил из дому к другим женщинам и неоднократно возвращался обратно. Между ним и матерью постоянно происходили безобразные ссоры, нередко заканчивавшиеся драками, в которые вмешивались соседи. Мать пыталась однажды отравиться, но, видимо, несерьезно, так как из этого ничего не вышло. Потом она уехала на курорт и не вернулась. Спустя полгода она написала сыну, что нашла хорошего человека и связала с ним свою судьбу. Гасанов равнодушно принял это сообщение: за его короткий век он немало перевидел и отцовских, и материнских "новых друзей". Отец тоже не горевал. Уже через два дня он привел в дом какую-то женщину, всего на два года старше сына.
Вполне понятно, что жизненные устои парня, выросшего в такой обстановке, были не очень прочны. И его взгляды на жизнь не отличались благородством. Юноша отлично понимал, что отец чувствует себя перед ним неловко, и злоупотреблял этим. Он высасывал из отца деньги, наотрез отказался держать экзамен в техникум и жил так, как ему хотелось. Встреча с некоей Жанной, девицей ловкой и энергичной, определила дальнейшую судьбу Ирмата. Он покинул родительский дом и перебрался в Одессу.
Началась разгильдяйская, "свободная", бесконтрольная жизнь.
Скоро они с Жанной завязали широкие бульварные и ресторанные знакомства с людьми неопределенных занятий, со львами танцплощадок и дельцами черного рынка. Вся эта накипь подхалимски крутилась вокруг боцманов и буфетчиков с иностранных пароходов, бросавших якорь в одесском порту. Эти дельцы выклянчивали и скупали все — от жевательной резинки и плохих турецких сигарет до джазовых пластинок, поношенных галстуков, отрезов и нейлоновых чулок. Было бы заграничное! Наиболее "солидные" скупали валюту, косметику и вещи посерьезнее. Все это перепродавалось втридорога в темных подъездах любителям чужеземного из числа курортников и приезжих "знатоков". У Ирмата и Жанны стал определяться более или менее постоянный круг клиентов. Тут были и эстрадники с известными именами, и женщины, ставящие целью своей жизни не отстать от зарубежных "мод", и просто прожженные спекулянты. Потом Жанна неожиданно исчезла. Гасанов стал оперировать один, продолжая жить в доме Жанниной тетки. Он сделался завсегдатаем второразрядных ресторанов и потаенных шинков. Деньги, легко приходившие в его руки, так же легко уходили. Но это не смущало Гасанова. Он не затруднял себя мыслями о будущем.
Два месяца спустя после исчезновения Жанны Гасанова едва не схватили за руку. Кое-кому стали известны не только обстоятельству, но и причины исчезновения Жанны. Более того, был обнаружен труп Жанны, упрятанный в катакомбах. Случилось это в конце сорок седьмого года. Перед Гасановым недвусмысленно замаячил призрак тюрьмы. Но свет и Одесса не без добрых людей. Нашлась "настоящая человеческая душа"; Гасанова спасли, но это обошлось ему недешево. Условия были поставлены ясные и неумолимые: немедленно распрощаться с Одессой, перебраться в далекую Бухару, отыскать старика Икрама Ашералиева и делать то, что он прикажет.
Вместе с условиями Гасанов принял на руки и портативную коротковолновую приемо-передаточную радиостанцию, вмонтированную в небольшой проигрыватель для патефонных пластинок.
Через две недели он уже был в Бухаре. И жизнь пошла вновь не так уж и плохо. Благодаря заботам Икрама-ходжи Гасанов получил должность ответственного исполнителя одной из артелей по ремонту радиоаппаратуры. В чем состояли его обязанности, он и сам толком не знал. Должность ничего не требовала от него и не возлагала никакой ответственности. Гасанов располагал своим временем, как хотел. Если он и появлялся раз в месяц на службе, то лишь затем, чтобы расписаться в зарплатной ведомости, хотя ни разу эту зарплату на руки он не получал. Она шла кому-то другому.
В Бухаре на имя Гасанова была зарегистрирована как его собственная автомашина "Москвич", которая в действительности принадлежала Икраму-ходже. "Москвич" служил большим подспорьем в той широкой деятельности, которая развернулась под оперативным руководством Икрама-ходжи.
Пользуясь просчетами в работе государственной и кооперативной торговой сети, Гасанов по указаниям Икрама-ходжи курсировал на машине по республике. Он принимал из рук определенных людей товары, имеющиеся в изобилии в одном городе, и перебрасывал их в другой, где из-за них люди толпились в очередях.
Гасанов успел и в Токанд привезти из Ташкента партию чехословацкой обуви, несколько тюков шерсти, ящик с импортной краской в порошке для одежды и ткани, нитки мулине для вышивания, а из Катта-Кур-ганского водохранилища — центнер свежей рыбы на льду.
Сам Гасанов не покупал и не продавал. Его обязанности ограничивались получением, переброской и сдачей товара в определенные руки. Тут сказывалась строгая и продуманная система Икрама-ходжи.
Сейчас, получив задание от Икрама-ходжи, Гасанов заторопился домой. Он знал суровый нрав старика и выполнял его распоряжения беспрекословно, точно и в срок. На этот раз ему самому хотелось побыстрее узнать, что за коробку передал Икрам-ходжа.
Дома он тщательно конспирировался, хотя хозяева были люди надежные, связанные со стариком общими коммерческими делами.
Гасанов переоделся, захватил с собой сверток и под предлогом того, что "Москвич" стал хандрить, полез в машину. Захлопнув дверцу, он развернул сверток. В нем оказалась крохотная радиостанция, вмонтированная в табачную коробку "Золотое руно".
— Наконец-то, — пробормотал радостно Гасанов. — Теперь мы поработаем…
12
На окраинной, незамощенной, но живописной и похожей на густую аллею улице Токанда жил со своей семьей подполковник Халилов.
Его небольшой дом из красного кирпича смотрел на улицу одной дверью и четырьмя большими окнами. С трех сторон темно-зеленой рамкой его обрамлял сад, а с четвертой, по фасаду, — палисадник.
Было утро. Жена Халилова Анзират сидела в спальной перед зеркалом и укладывала свои тяжелые косы. Закончив прическу, она приблизила лицо к зеркалу, провела несколько раз пальцами по предательским морщинкам у глаз, собравшимся в лучики, и тяжело вздохнула.
В зеркале отражалось уже немолодое, смугловатое, но еще сохранившееся лицо с яркими красивыми чертами. Анзират была в той печальной для каждой женщины поре, когда ее уже покинули свежесть, молодость и пришла зрелость: подкрались морщинки, растолстели руки, наметился второй подбородок…
В комнате хлопотала старая тетушка Саодат. Бесшумно ступая мягкими туфлями, она обходила расставленные по углам стулья и стирала с них пыль. Это было ее обычное занятие, когда Анзират оказывалась дома и тетушке хотелось поговорить с племянницей.
— От Джалила опять ничего нет? — спросила она как бы невзначай.
— Да, ни строчки… Я уже начинаю беспокоиться.
— Вот и напрасно. Что с ним станется? В горах тихо…
— А сами, тетушка, вы каждый день напоминаете об этом.
— Правильно, напоминаю. Сын не должен забывать родителей. Он должен писать каждую неделю.
Стук в дверь прервал разговор.
— Никак кто-то пришел? — оживилась тетушка Саодат. — Может, почтальон? — и она мелкими шажками вышла из спальной.
Анзират посмотрела на стенные часы: половина десятого. Городская библиотека уже открылась. Надо сходить и обменять прочитанные книги. Но какой же книгой интересовался Саттар? Конечно, забыла. А ведь он говорил вчера и сегодня, уходя на работу, напомнил, просил даже записать фамилию автора и название книги. И вот забыла. Понадеялась на память. Придется позвонить Саттару на службу.
В столовой послышались шаги и тихий разговор.
— Доченька! К нам пришли, — через дверь окликнула племянницу старушка.
Анзират быстро встала, и тяжелые серьги в ее ушах закачались. Она еще раз оглядела себя в зеркало и прошла в столовую.
Там ее ждала стройная девушка лет двадцати двух-трех, высокая и крепко сложенная.
— Здравствуйте, — сказала она, широко улыбаясь.
— Здравствуйте, — ответила Анзират, с любопытством разглядывая неожиданную гостью.
Девушка была одета отнюдь не для визита: на ней была спортивная майка и спортивные из черного сатина просторные шаровары. На ногах — теннисные туфли, окаймленные широкой лентой коричневой резины. В руке — видавший виды чемодан.
— Простите, что я в таком виде, — смущенно пробормотала она. — Я приехала семичасовым поездом.
— А, собственно, по какому делу вы ко мне? — поинтересовалась Анзират.
— Мне сказали, что вы сдаете комнату одиноким, а я совсем одна… Я пробуду в Токанде не больше…
— Кто же вам сказал, что у нас свободная комната? — не очень приязненно осведомилась Анзират.
— Ваши соседи…
— Это какие же соседи? — недоверчиво переспросила Анзират.
— А вот что рядом с вами. Такая полная женщина, Наталия Петровна. Мне дали ее адрес, сказали, что комнату сдает она. Но я опоздала, она уже сдала месяца два назад студентам-практикантам. Вот я и спросила, нет ли где поблизости, мне очень ваш дом понравился — уютный такой с виду. Она посоветовала обратиться к вам. Правда, предупредила, что вы собираетесь сдавать комнату знакомым людям. Но я рискнула зайти…
Закончив эту длинную речь, девушка вынула из кармана шаровар крошечный кружевной платочек и вытерла лоб, как после трудной работы.
— А как вас зовут? — спросила Анзират, все еще не приглашая гостью садиться.
— Людмила Николаевна. Можно просто — Люда… — и девушка мило улыбнулась.
Анзират сердито блеснула глазами на тетушку Саодат, которая делала вид, будто ничего не слышит.
— Скажите, откуда вы приехали? — поинтересовалась Анзират.
Девушка с готовностью сообщила, что из Ташкента, что она инструктор физкультуры и командирована сюда на отборочные соревнования к республиканской спортивной олимпиаде.
— Родители мои в Чкалове живут, а в Ташкенте я тоже комнату снимала с подругой… — закончила она.
Анзират выслушала все это рассеянно, будто думая о чем-то своем.
— Ну, что же… — сказала она нерешительно. — Комнату мы, правда, сдавали, но очень близким знакомым. Знаете ли, когда сын уехал учиться, пусто в доме стало. И вот моя тетушка Саодат затеяла эти дела с комнатой; пустим и пустим кого-нибудь из молодежи, дом без молодого — могила. Затеяла разговоры на эту тему с соседками. Но мы еще не решили окончательно… Право, не знаю как…
На лице девушки появилось растерянное, огорченное выражение. Она неловко, просительно улыбнулась.
В дело решительно вмешалась тетушка Саодат. Она ласково взглянула на девушку и шумно захлопотала.
— Да что же ты стоишь, доченька, садись, отдохни. Ведь с дороги, прямо с поезда. Мать-то, наверное, беспокоится, все думает: "Хоть бы нашла моя Люда угол у хороших людей". Ах, как трудно теперь с молодежью: разъезжают себе по городам, по чужим людям живут, без материнского присмотра. Садись, садись, сейчас чай будем пить…
Анзират весело рассмеялась, глядя на засуетившуюся тетушку, и примирительно сказала:
— Ну, наша тетушка, кажется, уже решила. Давайте, правда, чай пить. А пока — посмотрим комнату, может, она вам и не понравится, — и она еще раз внимательно, по-женски, взглянула на гостью.
Продолговатые, тревожно мерцающие зеленоватые глаза девушки оживились. Порозовели чуть выдающиеся скулы. Она облегченно опустила тонкие брови с изломом. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но она определенно была недурна, несмотря на по-мужски крепкие руки и слишком широкие плечи. Даже крепкий, чуть подвижной подбородок не лишал эту девушку с высокой грудью женственности и своеобразного очарования.
Анзират провела ее в комнату сына, пустовавшую уже долгое время. Людмила Николаевна поставила на пол чемодан, обвела комнату быстрым взглядом, посмотрела в окно, выходившее в сад, и воскликнула:
— Чудесно! А чья это кровать?
— Сына… А теперь ничья.
— Чудесно! — хлопнула в ладоши Людмила Николаевна, стала пробовать рукой сетку кровати, а потом уселась на нее.
Тетушка Саодат стояла у порога и, улыбаясь, наблюдала за Людмилой Николаевной.
Анзират, между тем, думала: "Сейчас попросит показать ей остальные комнаты и заинтересуется клинком. Непременно".
Но девушка пока не проявляла этого желания.
— Нравится комната? — спросила у нее Анзират.
— Очень.
— Но я должна предупредить вас, — сказала Анзират. — Комната имеет свои неудобства. Чтобы не проходить через наши комнаты, сын обычно пользовался вот этим ходом с улицы. И во двор можно ходить с улицы, а не через наши комнаты.
— Это пустяки. Мне же не век здесь жить. А можно мне посмотреть двор?
— Почему же? Пожалуйста. Тетушка, проводите Людмилу Николаевну.
Когда гостья в сопровождении тетушки удалилась, Анзират быстро прошла в комнату мужа и бросилась к телефону.
Услышав в трубке голос мужа, Анзират скороговоркой выпалила всего пять слов:
— Это я. Немедленно приходи… Квартирантка…
Не ожидая ответа, она положила трубку, и из ее груди вырвался облегченный вздох: так лучше. Пусть Саттар сам ее увидит и договорится.
Тетушка с Людмилой Николаевной вернулись.
— У вас чудный сад, — восхищенно затараторила девушка. — В нем так хорошо, что я, кажется, согласилась бы жить в саду. Вы, наверное, много внимания уделяете саду. Я буду вам помогать.
Анзират закивала головой и пригласила гостью в столовую. Ее надо было удержать до прихода мужа во что бы то ни стало. Тетушка Саодат вышла хлопотать насчет чая.
В поведении Людмилы Николаевны чувствовалась ненаигранная скромность, а в движениях какая-то порывистость. Она часто встряхивала своими густыми, коротко остриженными, отливающими золотинкой кудрями. Ломким голосом, смущаясь, она спросила:
— А сколько мне придется платить за эту комнату?
— Двадцать семь рублей.
— Что?
Анзират повторила и сдержала улыбку. Непосредственность девушки начинала нравиться ей.
— Почему так мало? — спросила удивленная Людмила Николаевна. — Мне даже по командировке полагается пять рублей в сутки квартирных.
— Мы берем за нее столько, во сколько она нам обходится.
Девушка недоверчиво покачала головой:
— Редкий случай в наше время. Вы не шутите?
Теперь и Анзират наконец улыбнулась,
— Конечно, не шучу. Дом жактовский, и зарабатывать на коммунальной жилплощади мы не намерены. И к тому же комната сдается временно, до возвращения сына.
— Прямо не верится, неудобно как-то… — повторила Людмила Николаевна. — Я в Ташкенте плачу за комнату двести рублей, но она вдвое меньше вашей, да к тому же еще проходная. Мне тут будет очень хорошо. Полы мыть я умею, стирать тоже. Питаться буду в столовой у нефтяников.
— А вы в Токанде впервые? — полюбопытствовала Анзират.
— Первый раз. А вообще-то я много путешествовала.
Людмила Николаевна рассказала, что ей довелось побывать и на севере, и на юге, что она легко привыкает к любому климату: с семи лет ничем не болела, а все потому, что регулярно занимается спортом. Она любит коньки, лыжи, волейбол и плавание. Но больше всего — снарядную гимнастику. По гимнастике она имеет второй всесоюзный разряд.
Хлопнула дворовая калитка, послышались гулкие шаги на веранде. Женщины выжидающе повернули головы к двери. В комнату вошел подполковник Халилов.
— О! Да у вас гостья! А я на одну минутку. Опять забыл ключи от стола. Придется, видимо, привязывать их к поясу.
Халилов направился было в свою комнату, но Анзират остановила его:
— Вот и хорошо! Ты очень кстати, — и повернулась к девушке. — Это мой муж. Познакомьтесь.
Людмила Николаевна встала.
— А почему я кстати? — спросил Халилов жену.
— Людмила Николаевна пришла к нам снимать комнату.
— Ах, вот что! — проговорил Халилов и тоже сел за стол. — Ну и чудесно. Откуда же и каким ветром занесло вас в наши края?
Девушке пришлось снова все рассказывать.
— Значит, будете в нашем Токанде отбирать легкоатлетов на олимпиаду? Хорошее дело, — одобрил Халилов. — Физкультурников в нашем городе много, а болельщиков еще больше. Один из них — ваш покорный слуга. А комнату-то смотрели? Понравилась?
— Очень! О такой я и не мечтала. Конечно, я могла бы остановиться в гостинице, в общежитии. Но шумно там очень, а вечером почитать хочется, одной побыть. Отдельный номер, мне сказали, могут дать, но стоит он двадцать рублей в сутки. Не шуточки! Интересно, для кого такие цены назначают, если квартирных платят при командировке в Токанд пять рублей?
Халилов усмехнулся:
— По этому вопросу надо обращаться к министру финансов. Ну, а на чем же вы столковались? — обратился он к жене.
— Я не возражаю, — сказала Анзират, вопросительно глядя на мужа.
— Значит, быть по сему, — заключил он.
— Ой, как хорошо! — обрадовано воскликнула Людмила Николаевна и, глядя на Халилова, рассмеялась заливчато, звонко, по-детски. — А я вас так испугалась! Ну, думаю, пришел злой, сердитый, сейчас скажет: — Никаких квартирантов!
— Вы сколько намерены прожить у нас? — поинтересовался Халилов.
— Месяца четыре, не меньше.
— Ага… Замечательно, Ну-ка, Анзират, отыщи домовую книгу. А вы, Людмила Николаевна, давайте ваши документы. Паспорт с вами?
— Конечно, — проговорила девушка и заспешила в комнату, где оставила чемодан.
"Посмотрим, что это за птичка, — подумал Халилов. — Неужели и эта начнет интересоваться клинком?"
Людмила Николаевна вернулась с чемоданом. Она положила его на пол и откинула крышку. В чемодане лежали аккуратно сложенные платья, туфли на высоком каблуке и разные мелочи женского туалета. Людмила Николаевна достала дешевенькую сумочку и, вытащив из нее паспорт, подала его Халилову.
Раскрыв паспорт, Халилов внимательно перелистал странички, потом перевел взгляд на Людмилу Николаевну, и брови его поднялись:
— Неужели вам двадцать шесть лет?
— А вы думали? — кокетливо спросила Людмила Николаевна.
— Ни за что бы ни дал… Ни за что…
— Не могу поверить! — воскликнула Анзират. — Самое большее — двадцать, ну двадцать два… Вы очень молодо выглядите…
— Спасибо за комплимент, — Людмила Николаевна вздохнула. — Когда-то мне действительно было двадцать два года.
— И вы замужем? — продолжал Халилов.
— Представьте себе, что да. Уже пять лет.
— Нескромный вопрос: а где же ваш муж?
— Он был, как и вы, военный, в этом году демобилизовался и месяц назад уехал на Курильские острова. Когда окончательно обоснуется там, вызовет меня.
"Ловко придумано, — мелькнуло в голове Халйлова. — Все предусмотрено".
Несколько минут спустя Людмила Николаевна, получив ключ от своей комнаты и переодевшись, отправилась в город.
— Люблю побродить час-другой по незнакомым местам, — объяснила она.
Утром следующего дня на имя подполковника Шубникова поступил рапорт. В нем сообщалось:
"В течение последних двух лет Халиловы сдавали в своем доме комнату, ранее занимаемую их сыном Джалилом, различным одиноким квартирантам. Удалось выяснить, что за прошедшее время в их доме квартировали: машинистка военкомата Гальченко, студент-практикант Поспелов, студент техникума Махмудов.
Вчера Халиловы пустили к себе на лето и осень Алферову Людмилу Николаевну, 1923 г. рождения, уроженку г. Ставрополя, сотрудницу республиканского комитета по делам физкультуры и спорта.
Алферова вручила Халилову для прописки свой паспорт.
Комната, занимаемая ею, имеет самостоятельный выход на улицу".
Под рапортом стояла подпись старшего лейтенанта Сивко.
13
Миновало полмесяца, как в доме Халиловых поселилась Людмила Николаевна, но ни сам подполковник, ни его жена, ни их тетушка не могли сказать о новой квартирантке ничего худого. Людмила Николаевна не возбуждала никаких подозрений.
И тем не менее у Халилова где-то в глубине души оставалось чувство недоверия к Людмиле Николаевне, притаились настороженность и предубежденность. Он никак не мог избавиться от этого неприятного чувства и, злясь, раздумывал над тем, как невероятно быстро и неотразимо завоевала девушка симпатию Анзират и тетушки. В открытом, полном непосредственности поведении Людмилы Николаевны ему чудилась тонкая, хорошо продуманная игра, хитро рассчитанная на завоевание полного доверия всей семьи. А что доверие к Людмиле Николаевне росло с каждым днем, было очевидно.
Через пять дней Анзират и тетушка называли Людмилу Николаевну уже просто Людой и обращались к ней на "ты". Через девять дней новая квартирантка стала обедать за общим столом.
Люда увлекала женщин своей бурлящей энергией, подвижностью, веселой деловитостью в самых простых, обыденных делах. Ни одной минуты она не сидела без дела, находила работу и себе, и другим. По утрам, вставая раньше всех, она бесшумно покидала дом, шла на рынок и закупала провизию на всю семью. Отлучаясь в город по своим делам, она находила время заглянуть домой, чтобы помочь тетушке Саодат приготовить обед. После занятий с физкультурниками, а Людмила Николаевна проводила их, как правило, в послеобеденное время, она возвращалась домой и, разувшись, вместе с женщинами поливала цветы, возилась над огородными грядками, украшала разноцветными камешками клумбы.
Думала ли Анзират, что в свои годы вернется к давно забытой физкультуре? Конечно, как педагог и женщина с современными взглядами, она везде горячо ратовала за спорт и физическую зарядку вплоть до преклонных лет. Но… лень-матушка раньше нас родилась… И поэтому Анзирйт находила для себя тысячу оправдательных причин, якобы мешающих ей заниматься физзарядкой. Услышав утром, как из радиорепродуктора несется веселое "вдох — выдох", она лишь сокрушенно вздыхала. А вот теперь уже десять дней она по утрам разводила руки "на уровень плеч", усердно нагибалась направо, налево и с радостью бежала принимать "водные процедуры".
Как же это получилось? Анзират не смогла бы объяснить. Просто, встав как-то пораньше, она вышла в сад и увидела Людмилу Николаевну. В коротких трусиках и майке, прижав локти к бокам, молодая женщина бегала по извилистым дорожкам. Она бегала так легко, пружинисто, красиво, казалась столь радостной и стремительной, что Анзират невольно залюбовалась. Вспомнились ее давние комсомольские годы и первая вылазка на стадион в Бухаре, тот ясный теплый день, когда она, девушка-узбечка, одна из первых надела на себя спортивный костюм. Ей стало грустно и обидно за себя, за то, что она так рано, без всяких к тому причин, отяжелела, физически обабилась и обленилась.
И вдруг произошло удивительное. Когда Людмила Николаевна, начиная очередной круг, пробегала мимо, Анзират вдруг сорвалась с места и побежала следом. Пробежав два круга, она почувствовала, что сердце ее сдает, дыхание со свистом вырывается из груди, кровь прилила к голове и угрожающе постукивает в висках… Людмила Николаевна прекратила бег и заставила Анзират сделать разминку шагом.
— Так не пойдет, Анзират-ханум. Начинать надо не с этого, — смеясь, говорила она.
И со следующего утра обе женщины начали с того, с чего следует начинать.
Но чем больше завоевывала Людмила Николаевна сердца женской половины дома, тем более настораживался подполковник Халилов. Его не обольщала ни домовитость, ни услужливость новой жилицы. Наоборот, приветливость и непосредственность Людмилы Николаевны казались ему искусственными, нарочитыми. Подполковник рассуждал так; потерпев неудачу в прямой атаке, таинственные охотники за клинком решили сделать обходной маневр и избрали своим орудием эту девицу, поручив ей втереться в доверие семьи. Подполковник был тверд в своих подозрениях, но решил испытать выдержку этой женщины, а заодно получить лишнее доказательство ее вероломства.
Проделал он это в ближайшее воскресенье. Все домашние были в сборе, мирно сидели на веранде и перебирали вишню, готовясь к важному семейному делу — варке варенья. Халилов достал клинок из потайного места, прихватил пузырьки со щелочью и смазкой, кусочки бязи и бинтов и появился со всем этим хозяйством на веранде, чтобы на вольном воздухе заняться чисткой клинка.
Только подошел он к столу, как Людмила Николаевна вскочила с места, подбежала к нему и воскликнула:
— Боже мой! Какая прелесть! Дайте подержать!
Халилов бросил взгляд на жену и тетушку… Ну-с, что они теперь скажут?
— Это ваш? — спросила, между тем, молодая женщина, рассматривая клинок и вытирая руки о фартук.
Халилов утвердительно кивнул.
— Ничего подобного не видела за свою жизнь, — призналась Людмила Николаевна. — Даже не представляла себе, что на свете может существовать такое чудесное оружие. Сколько же на нем украшений! Это, конечно, старинная работа?
— Бесспорно, — подтвердил Халилов, испытующе сверля Людмилу Николаевну глазами.
— Неужели это золото?
— Самое настоящее. А это — рубины, это — эмаль…
— Чудо! Ну-ка, выньте клинок, Саттар Халилович. Я занималась когда-то конным спортом, была ворошиловским стрелком и неплохо владела клинком.
Халилов вытащил клинок из первых ножен и передал его девушке.
— Ну, это бутафория… — разочарованно произнесла она. — Клинком и лозинку не срубишь. Красивая игрушка…
Халилов решил продолжать игру дальше.
— Клинок-то с секретом, — пояснил он. — У него двое ножен. Смотрите!
Надавив пальцем еле заметную пластиночку, Халилов обнажил настоящий клинок.
Людмила Николаевна ахнула:
— Вот это да!
Взяв клинок в руки, она внимательно осмотрела его сверху донизу, полюбовалась головой дракона на рукоятке, несколько раз со свистом прорезала им воздух над головой, согнула кольцом и, вздохнув, вернула подполковнику.
Халилов закончил чистку клинка, унес его, вернулся на веранду, но Людмила Николаевна и не вспомнила больше о "чуде".
"Хитра! Ой, хитра! — посмеивался про себя Халилов. — Но как рыбке ни хитрить, а быть ей на крючке!"
По его расчетам, теперь, когда Людмилу Николаевну подразнили клинком, она приложит все усилия, чтобы обнаружить место, где спрятан клинок. Но он еще поглубже укрыл его в круглой печи в своей комнате.
14
Случилось это днем, в отсутствие подполковника Халилова. Анзират, тетушка Саодат и Людмила Николаевна занимались во дворе домашними делами; тетушка мыла посуду, а Анзират и Люда вытирали ее и уносили через кухню в дом. Когда они вернулись, тетушка сказала племяннице:
— Доченька! Тебя тут спрашивал какой-то толстяк.
— Меня? — удивилась Анзират. — Кто же это?
— Не знаю. Я провела его на веранду.
Анзират поправила волосы и пошла в дом. На веранде у порога в комнату она увидела толстого старика с куцей белой бородкой, с посохом в руке. Голову его украшала безупречно чистая и пышная чалма.
Что-то далекое, знакомое почудилось Анзират, когда она встретилась взглядом с маленькими мутноватыми глазами гостя. Он учтиво поклонился хозяйке и приветствовал ее:
— Салям алейкум! Мир, покой и благословение твоему дому!
— Алейкум салям, — ответила Анзират. — Что вам надо, уважаемый?
Старик нахмурился и с неудовольствием в голосе проговорил:
— Не особенно приветливо ты, женщина, встречаешь старого человека, да еще знакомого.
"Где же я видела его? — старалась припомнить Анзират. — Глаза, голос кого-то напоминают".
— Чем же неприветливо? — удивилась она. — Вы ко мне?
Брови старика сдвинулись над переносицей, в глазах блеснул огонек. Какой позор! Он, старый Икрам-ходжа, стоит перед этой грешницей, а она даже не предложит войти в дом и сесть!
— Мои седины заслуживают большего гостеприимства, — медленно произнес он, сдерживая раздражение. — Владыка жизни запрещает нам попирать обычаи наших предков. Я не привык, чтобы меня так встречали.
"Он прав. Я, кажется, отучилась от вежливости", — спохватилась Анзират и сказала:
— Заходите в дом, уважаемый эта. Прошу…
Она пропустила старика в столовую и прошла вслед за ним. Гость, видимо утомленный ходьбой, тяжело дышал и отдувался. Он оглядел просторную комнату, потыкал своим посохом в ворсистый ковер на полу и заметил:
— Летом ковры надо на солнышке просушивать, иначе в них заведется моль.
Анзират хотела рассердиться, но сдержала себя и сказала:
— У каждой вещи есть свой хозяин.
— Да, конечно, — согласился Икрам-ходжа. — Хозяин лучше знает, что и когда надо делать, но долг старого человека — подсказать.
— Благодарю, — кивнула Анзират, по-прежнему силясь вспомнить, где же она видела этого человека.
Икрам-ходжа важной походкой прошелся по комнате, подошел к дивану, отдуваясь, уселся и поставил посох между ног.
Анзират напомнила:
— Я вас слушаю, почтенный.
Но старик не торопился. Поспешность — не в его правилах. Кроме того, он отлично знал, что муж Анзират только что покинул дом и вернется не скоро. Плотно сомкнув дрожащие веки, он беззвучно шевелил своими толстыми губами. Он отдыхал.
— Моя жизнь на исходе, — наконец произнес он после долгой паузы. Меня уже не обольщают земные радости, я свое прожил и готовлюсь к переходу в лучший мир. Скоро аллах, — он воздел руки к потолку, — призовет меня к себе. Но у меня есть сын, взрослый сын, о котором я обязан побеспокоиться. За него я и пришел похлопотать. На днях он приедет в Токанд.
И тут Анзират вдруг озарило: она вспомнила, кто этот старик. Она вспомнила годы войны, Бухару, госпиталь. Да это же Икрам Ашералиев, бывший заведующий госпитальным складом. Сколько она — сестра-хозяйка — цапалась с ним из-за мыла для стирки белья, из-за посуды, занавесок и прочего. Конечно, это он, зловредный и скупой старикашка. Но почему он оказался в Токанде? И что ему нужно? О каком сыне он толкует?
— Я вас не поняла, — сказала Анзират. — О чьем сыне вы говорите?
— О моем, красавица, о моем, — ответил Икрам-ходжа, и его толстые щеки растянулись в улыбке.
— Хм… — удивилась Анзират. — Насколько мне известно, у Икрама Ашералиева не было сына.
— Значит, узнала старого знакомого?
— Как видите…
— Вот и хорошо. А вначале не узнала?
— Вначале нет, — призналась Анзират.
— А я теперь уже нигде не работаю. Ушел на покой. Стар стал.
— Но выглядите вы неплохо.
— Спасибо, красавица, за хорошие слова. Такие слова нужны старикам, как канифоль для смычка.
Анзират весело улыбнулась и, полагая, что старик над ней подшучивает, спросила:
— И давно у вас родился сын? В ваши годы стать отцом — это редкость. Вот что значит хорошее здоровье…
И тут Икрам-ходжа сделал промах. Не сделав еще хода, он решил вытянуть козырную карту. Пусть не зубоскалит. Он прищурил глаз, пощипал свою бороденку и медленно произнес:
— Ты права, ты права… Всевышний обидел старого Икрама и не дал ему сына. Но ведь твоего мужа аллах тоже обидел. У Саттара тоже нет и не было сына.
Анзират побледнела и ощутила холодок в груди. Она смешалась, не веря собственным ушам. Некоторое время молча смотрела на старика широко открытыми глазами, а затем тихо спросила:
— Что вы сказали?
Старый Икрам наблюдал за каждым ее движением. Как он и рассчитывал, его удар дал большой эффект, Анзират побледнела.
— Ты хорошо слышала, женщина, что я сказал, — ответил он, уверенный в том, что дело сделано. — Эту тайну хранишь не ты одна. Я стар. Очень стар. Но аллах не отнял у меня памяти, время ее не погасило.
— И что же вы намерены делать с этой вашей тайной? — с вызовом спросила Анзират, оправившись от неожиданности.
"О бесстыдная грешница! Свою тайну она называет моей!" — подумал Икрам-ходжа и ответил хозяйке:
— И холодная зола иногда дает огонь. Мне ничего не стоит обронить семена раздора в этом счастливом доме, и они быстро дадут свои всходы. Но я никому не хочу делать зла. И тебе не хочу… Я…
Тут Анзират неожиданно поднялась.
— Если бы не ваш возраст и не седины, почтенный, то я бы сказала, как называют таких людей, как вы…
— Не горячись, женщина! Не надо. Я понимаю, что причинил тебе боль. Но она и не так уж велика. Зачем же нам ссориться?
Анзират указала рукой на дверь.
— Уходите отсюда, почтенный, и поскорее, — потребовала она.
Икрам-ходжа опешил. Вот это бесстыдство! Значит, он свалял дурака! Козырь оказался битым? Не с этого надо было начинать. Неужели вся затея пошла прахом?
— Ты даже не хочешь выслушать моей просьбы? — спросил он елейным голосом, продолжая сидеть.
— Не хочу! — отрезала Анзират.
Ярость ослепила разум гостя. Он встал. Щеки его дрожали.
Еле сдерживая себя, чтобы не разразиться проклятием, он сказал:
— Хорошо… Я пойду… Но будь я проклят именем Магомета, если не сделаю все, чтобы открыть глаза твоему мужу и твоему сыну. Мои уста могут молчать, но могут и говорить. И судить меня за это никто не будет. А ведь пришел я к тебе не за тем, чтобы ссориться. Я пришел к тебе с просьбой…
— Уходите! — Анзират вновь указала на дверь. — Немедленно уходите… Или я сейчас же крикну своих.
Гримаса бешенства исказила толстое лицо старика. Подобного с ним никогда не случалось! Его еще никто не выпроваживал таким образом. Он выпятил живот, вскинул голову и медленно, стараясь не терять достоинства, зашагал к двери. У порога он обернулся, стукнул посохом о пол и бросил:
— Да покинет этот дом покой! — А про себя зашептал: "Презренная грешница! Да будет проклято семя твое до седьмого колена! Пусть кость застрянет в горле твоем!"
Хлопнула дверь. И только теперь Анзират почувствовала, что близка к обмороку. Она постояла, не шевелясь, сжав рукой горло, потом сделала шаг, другой и, совершенно обессиленная, упала на диван и забилась в рыданиях.
Как он смел, негодяй, напоминать ей об этом! Перед кем она виновата? В чем ее вина? Быть может, в том, что она вскормила и вырастила сына, отцом которого был бандит, басмач, ненавистный ей человек? Но как она, мать, должна была поступить? Задушить своего собственного ребенка? Или, быть может, она повинна в том, что не сказала Джалилу, кто его настоящий отец? Но нужно ли было говорить ему об этом? Разве Джалил виноват? А она? Разве она хотела стать женой врага, убийцы ее отца? Разве ее спрашивали об этом? Что же это такое? За что такая обида? Ведь она всю жизнь тайно несла свое горе и не могла избыть его! И вот старик заговорил об этом… Зачем? Неужели он хочет разбить жизнь сына? Как много еще на свете злых людей! Неужели этот подлый человек подумал, что она могла скрыть от мужа, любимого Саттара, свой позор, свое несчастье. Да, он так думает и ошибается. В неведении только Джалил. Только он один не знает, кто его настоящий отец. Им он считает Саттара.
Анзират долго не могла успокоиться. Лишь наплакавшись вволю, она пришла в себя.
Правильно ли поступила она, выгнав старика из дому? Безусловно, правильно. Только так поступила бы на ее месте любая порядочная, уважающая себя женщина.
Анзират встала, привела себя в порядок и вышла в сад. Тетушка Саодат сидела у стола под абрикосовым деревом и перебирала стручки созревшего гороха.
— Где же Людмила Николаевна? — спросила Анзират.
— За мороженым командировалась. А толстяк ушел? Видать, приходил похлопотать о сыне, который из двоек не вылезает?
"Тетушка права. Именно о сыне", — подумала Анзират и сказала:
— О ком же больше им хлопотать!
— А ты отваживай их, доченька, от дома. Пусть в техникум идут, к директору. А если сама не можешь, поручи мне. Я знаю, как с ними разговаривать. Помнишь, как я прошлой осенью выпроводила того, что барана привел?
Анзират кивнула и через силу улыбнулась.
— Он думал, что если даст тебе барана, — продолжала тетушка, — так сын его от этого поумнеет и пятерки будет хватать. Я знаю их…
Анзират подошла к старой женщине сзади и начала гладить ее седую голову. Тетушке она ничего не скажет. Зачем тревожить старое сердце… И Саттару не скажет. А в ушах ее еще звучали слова гостя: "Да покинет этот дом покой!"
Вечером этого же дня на имя подполковника Шубникова поступил очередной рапорт старшего лейтенанта Сивко. В нем говорилось:
"Вчера в отсутствие подполковника в дом Халиловых пришел неизвестный человек и пробыл в доме минут пятнадцать — двадцать. Выяснить личность неизвестного не удалось. Или случайно, или предвидя, что за ним могут следить, неизвестный, пройдя несколько кварталов, вошел в узбекскую баню. Впоследствии выяснилось, что он вошел в одни двери бани, а вышел через другие.
Его приметы, рост выше среднего, возраст — не менее шестидесяти. Очень толст. Одет в цветной зеленый халат, на голове чалма, в руке суковатая палка. Походка медленная, грузная, важная".
15
Вернувшись домой, Халилов сразу заметил какую-то перемену в настроении жены и тетушки. Обе вели себя не так, как обычно: переглядывались, вздыхали, шептались. По всем признакам Халилов понял, что и жена и тетушка чем-то обеспокоены.
Подполковник переоделся, взял свежие газеты и прошел в сад, решив за обеденным столом расспросить женщин о причине их странного поведения.
Расположившись на скамье, он развернул газету и вдруг услышал громкий мужской смех, Халилов невольно повернул голову и сквозь прозрачную тюлевую занавеску в окне жилицы увидел мужчину.
У Людмилы Николаевны был гость! Это новость!
Халилов счел неудобным наблюдать и углубился в газету, но слух его машинально ловил разговор, доносившийся из комнаты.
"Кто этот человек?" — думал Халилов, стараясь в то же время уловить смысл передовой статьи газеты.
— Саттар! — раздался голос Анзират. — Обедать!
Халилов оставил газеты на скамье и поднялся…
Людмила Николаевна к обеду не явилась.
Кивнув головой в сторону ее комнаты, Халилов спросил жену:
— Кто?
Анзират тихо сказала?
— Поговорим после.
Обед прошел в молчании.
Подполковник уже догадывался, что, видно, гость Людмилы Николаевны и явился причиной плохого настроения жены и тетушки.
После обеда Анзират увела мужа в дальний уголок веранды и, волнуясь и спеша, стала рассказывать:
— Утром я пригласила Людмилу Николаевну сходить со мной в пошивочное ателье. Она отказалась, пожаловалась на головную боль. Я отправилась одна, а когда вернулась, увидела, что на диване в столовой сидит рядом с Людой какой-то смазливый, с усиками, молодой человек. Они весело и увлеченно беседовали, и по виду Людмилы Николаевны никак нельзя было сказать, что она плохо себя чувствует. Правда, увидев меня, она вначале смутилась, но быстро оправилась, встала и представила своего гостя. Этот тип, какой-то Ирмат Гасанов, отпустил по моему адресу сладкий комплимент и сказал, будто уже встречал меня когда-то. Я решила держать себя сдержанно и особого интереса не проявила. Людмила Николаевна надулась и увела своего гостя к себе. Только через час я услышала, как он ушел. Людмила Николаевна сразу выбежала ко мне в сад, обняла и расцеловала, стала извиняться, что без моего ведома привела в наши комнаты постороннего человека, и рассказала историю знакомства с ним. История эта кажется мне не очень-то правдивой.
— Ну, ну, — торопил жену Халилов. — Что же это за история?
В общем, со слов Людмилы Николаевны, дело выглядело так.
Прошлой ночью она возвращалась домой поздно одна: была на последнем сеансе в кино, а потом ужинала со своими физкультурниками. Пройдя немного, она услышала позади чьи-то шаги и обернулась. За нею шли двое. Один крикнул: "Девушка, не торопитесь!" Людмила Николаевна прибавила шагу. До выхода на нашу улицу ей оставалось два квартала, когда тот же голос крикнул: "Стой! Ты что, не понимаешь русского языка?" Люда вбежала на первое попавшееся крыльцо и остановилась перед чьими-то запертыми дверьми, не зная, что делать. Преследователи, между прочим прилично одетые, подбежали к крыльцу, погрозили здоровенным ножом и потребовали часы и сумку. Но Люда будто бы не оробела и повела себя геройски, как в романе. Когда один из грабителей кинулся к ней, она ударила его ногой в живот. В это время второй подскочил к ней сзади, зажал ей рот и стал срывать часы. Вот в эту-то критическую минуту из-за угла неожиданно появился герой-спаситель, тот, кто сидит сейчас в ее комнате. Он по-богатырски схватил одного парня за шиворот, встряхнул его — и через секунду тот барахтался уже в арыке. Второй, бросив Людмилу Николаевну, попытался защищаться, но получил увесистый удар в челюсть и растянулся на тротуаре. После такого урока оба грабителя обратились в бегство, а Гасанов, совершив свой подвиг, галантно проводил Людмилу Николаевну домой.
— Так они и познакомились, — закончила Анзират, — Людмила Николаевна в восторге от своего спасителя. Он и смелый, и мужественный, и красивый, и тому подобное. Он — настоящий мужчина. За час до твоего прихода герой пожаловал вторично, и вот, как видишь, сидит… А она даже об обеде забыла.
— Да, очень странно… — проговорил Халилов. — Странно и не слишком умно придумано. А я считал Людмилу Николаевну поумнее.
16
Городской пруд, что лежал между рынком и пионерским садом, был не особенно глубок, но чист. На его отлогих песчаных берегах в летние дни загорали ребятишки. Забредали сюда и взрослые поваляться на крошечном пляже, окунуться в прохладной воде.
Икрам-ходжа появился на пляже рано утром, когда ребятишек было мало. Он внимательно осмотрел берега, сбросил с себя чалму, халат, обувь, рубаху и, оставшись в длинных ситцевых штанах, решительно полез в пруд. Это было зрелище из ряда вон выходящее.
Когда вода достигла пояса почтенного ходжи, он, сделав испуганное лицо, окунулся по шею раз, другой, третий и, смачно крякнув, поплыл.
Плавал ходжа, как тюлень, и мог держаться на воде без всяких движений сколько угодно, в любом положении. Плавучесть его жирного тела была удивительной. Он перекидывался на спину, складывал руки на животе и лежал на воде, как в постели. Живот солидным курганом возвышался над водой.
Достигнув противоположного берега, Икрам-ходжа вылез из воды, по-собачьи отряхнулся всей кожей и сразу ощутил тяжесть своего многопудового тела. Выбрав местечко возле дремлющего под лучами солнца в трусиках человека, он опустился плашмя на теплый песок и тихо проговорил:
— Как хорошо…
Лежавший на спине Гасанов шевельнулся, приподнял свой край газеты, которой было прикрыто лицо, и, увидев рядом своего наставника, спросил:
— Можно говорить?
— Можно. Вблизи никого нет.
— Эх, это не женщина, а халва… — проговорил Гасанов и шумно, печально вздохнул.
"Черного ишака никогда не сделаешь белым", — подумал про себя старик, зная слабое место своего подопечного. Гасанов волочился за каждой юбкой, и все они были для него халвой.
— Дело говори! — строго сказал Икрам-ходжа.
Гасанов закашлялся, будто в горло ему что-то заскочило, и продолжал:
— Она показала мне все комнаты, но клинка я не заметил. Зато я познакомился с женой Халилова.
— Это зачем же?
— Другого выхода не было. Та пришла неожиданно и застала нас в столовой.
— Плохо, — заметил Икрам-ходжа. — Знакомство ни к чему… Как отнеслась к твоему появлению Халилова?
Гасанов никогда не лгал старику.
— Неважно, — признался он.
— Вот видишь!
— Я понимаю, Икрам-ата, но так получилось…
Старик задумался на короткое мгновение и сказал:
— Придется осторожно обшарить все комнаты. Не сразу, а постепенно, не торопясь. Клинок надо отыскать.
— Понимаю.
— Вот так. — Икрам-ходжа медленно поднялся, вновь вошел в воду и поплыл к своему берегу.
В рапорте старшего лейтенанта Сивко на этот раз сообщалось следующее:
"У жилицы Халиловых Людмилы Николаевны возникает что-то вроде романа с неким Гасановым Ирматом.
Гасанов приехал из Бухары, где живет постоянно и работает ответственным исполнителем какой-то артели.
В Токанде он проживает без прописки на Огородной улице, 96, в доме, принадлежащем Ташматову, человеку без определенных занятий.
Выяснилось также, что во дворе Ташматова стоит автомашина "Москвич", которую работники ОРУДа неоднократно видели на улицах города (номерные знаки Бухары). Есть основание предполагать, что владельцем "Москвича" является Гасанов. Он пользуется этой автомашиной. Необходимо проверить через автоинспекцию документы на машину и фамилию владельца.
Вчера Гасанов дважды заходил в дом Халиловых и выходил оттуда один.
Полное описание внешности Гасанова прилагается".
17
Наруз Ахмед лежал в саду под яблоней. Рядом на подносе стояли два чайника с остывшим зеленым чаем и пиала.
Утро обещало жаркий день. На небе не было видно ни единого облачка. Царило полное безветрие. Сквозь густой и плотный зеленый свод пробивался солнечный свет и пятнами пестрел на земле.
Ветка яблони, отяжеленная зрелыми плодами, свисала над самой головой Наруза Ахмеда и едва не касалась его лица.
В хаузе[18] у дувала лениво поквакивала лягушка.
Тишина и нежные ароматы цветов располагали к бездумному отдыху, но Наруз Ахмед даже не помышлял о покое: нервничая, ругаясь про себя, он с нетерпением ожидал прихода Икрама-ходжи.
Неудачи озлобили Наруза Ахмеда. Когда выяснилось, что и Гасанову не удалось обнаружить клинок в доме Халиловых, Наруз предложил свой план, в котором видел теперь единственный выход из затруднительного положения.
Особенно злился Наруз Ахмед на Икрама-ходжу. Все усилия старика казались ему бестолковыми, трусливыми, громоздкими. Дело с клинком приняло затяжной и поэтому опасный оборот.
Да и вообще старик изрядно надоел Нарузу Ахмеду. Вопреки утверждениям Керлинга, Икрам-ходжа, помимо всего, скучен, как дорога в пустыне. Правда, на две темы он мог говорить без конца: это о разного рода кушаньях и о своих любовных похождениях в прошлом. На худой конец, разговоры и на эти высокие темы могли бы быть терпимыми. Но беда в том, что старик оказался никудышным рассказчиком. Он говорил долго, вяло, бесконечно повторялся. Если бы он оказался в затруднительном положении Шахразады, то можно не сомневаться, что палач отрубил бы ему голову в первые же сутки. От нудных историй Икрама-ходжи у слушателей начинало ломить зубы.
Наруз Ахмед протянул руку, зло сорвал яблоко, висевшее перед глазами, надкусил его и швырнул в сад.
Он пролежал на супе еще около часа, пока в калитке вновь не щелкнул ключ. Во двор вошел омытый семью потами Икрам-ходжа. Толстяк дышал, как загнанная лошадь, и утирал пот с лица огромным платком. Он направился прямо в дом и, спустя некоторое время, вышел в сад в одних шароварах и сорочке.
Примостившись на краю супы, старик молча посидел, а потом многозначительно сообщил:
— Уехал… Вместе с ней уехал…
Наруз Ахмед молчал.
— Я что-то не верю в эту поездку, — продолжал старик. — Вот ты говоришь…
Наруз Ахмед, между тем, ничего еще не говорил. Он ожесточенно грыз ветку.
— …Ты говоришь, что Гасанов глуповат, — развивал свою мысль старик. — Но скоро ты убедишься в обратном!
Наруз Ахмед опять промолчал. Ему не хотелось спорить попусту. Старик упрям, как осел, и переубедить его почти невозможно. Против последнего, предложенного Нарузом Ахмедом плана он так яростно возражал, так плевался и кричал, что они едва не рассорились.
Наруз Ахмед подметил в этом толстяке еще одну пакостную черту: все то, что предлагал он, Наруз, старик неизменно пытался осмеять и отвергнуть, но сам взамен ничего дельного не предлагал. Так и с последним вариантом: старик считал его и опасным, и непродуманным, а своего не выставил. Лишь пригрозив Керлингом и ссылаясь на его поддержку, Наруз Ахмед уломал старика. Согласие его было необходимо не для перестраховки, а потому, что без помощи нельзя было обойтись. И не столько без помощи Икрама-ходжи, как Гасанова, с которым Наруз Ахмед лично ни разу еще не встречался. Гасанов даже не предполагал о существовании посланца "с той стороны". Но и согласившись, Икрам-ходжа не переставал ворчать и находил все новые и новые недостатки в плане. Вот и сейчас он начал скрипучим голосом:
— Когда человек ослеплен ненавистью, он не видит пути и сам лезет в зубы дракона. Ненависть не должна руководить рассудком. Я понимаю, сын мой, почему ты ненавидишь Халилова, его жену, сына. Отлично понимаю, но не одобряю твоих действий…
"Избавь меня, аллах, от глупых друзей, а с врагами я и сам справлюсь", — вспомнил Наруз Ахмед старую поговорку. Глаза его сузились, он вскочил, взялся рукой за толстый сук яблони и так стал трясти его, что яблоки градом посыпались на землю.
— Змею надо брать за горло, — сказал он и снова потряс невинную яблоню. — Они все трое захлебнутся в собственной крови. Но прежде я достану клинок…
Икрам-ходжа с испугом смотрел на посланца Керлинга. Сетка лиловых жилок на его лице проступила более отчетливо.
"Опасный человек, — подумал старик. — Очень неосторожен в своей ненависти. Такому нельзя доверять серьезных дел. Надо предупредить об этом Керлинга. Этот бешеный шакал и нас может погубить". Но Нарузу Ахмеду он сказал:
— Сегодня четверг. Подождем… Время покажет.
18
В субботу утром, как только подполковник Халилов пришел на работу, его вызвал к себе военком и сказал:
— Вчера вечером звонил Куприянов. Приказал командировать вас в Ташкент. Ночью пришла об этом телеграмма. Вот, читайте…
Подполковник взял из рук начальника телеграфный бланк и прочитал:
"Подполковника Халилова немедленно командируйте Ташкент для переговоров тчк явиться отдел кадров понедельник Куприянов".
— В чем дело? — спросил военком.
— Ничего не понимаю, — развел руками Халилов.
— Не скромничайте! Наверное, рапортишко подавали? Не понравилось в Токанде?
— Что вы, товарищ полковник! И мысли такой в голове не держал.
— Серьезно?
— Даю слово.
— Хм… Непонятно.
— Заверяю вас, что и не думал ни о каком переводе.
— Верю. Что ж, поезжайте. Я отдал распоряжение заготовить документы. Выезжайте завтра утром. Иначе не поспеете к понедельнику. А если начнут сватать куда-нибудь, звоните мне, будем отбиваться вместе.
— Спасибо. Я так и поступлю. Разрешите мне уйти сегодня на два часа раньше?
— Пожалуйста…
И без того неважное настроение Халилова вконец испортилось. Он и в самом деле никуда не подавал рапортов и не думал ни о каком переводе. Работа и жизнь в Токанде вполне устраивали его. Халилов вообще не любил прыгать с одного места на другое: он очень неохотно переезжал из Бухары в Токанд, хотя перевод был с повышением по службе. А теперь ему совсем не хотелось покидать этот небольшой уютный городок. И о чем могут быть переговоры у полковника Куприянова? Вероятно, о переводе. Может быть. Но куда? На самостоятельную работу? Да, вызов этот не ко времени. Нехорошо сейчас оставлять женщин дома одних. Поведение жилицы все более тревожит подполковника. Поворот в ее поведении так разителен, что все диву даются. Людмила Николаевна почти устранилась от домашних дел, не бегает уже по утрам на рынок, ее редко можно было видеть за общим столом, утренней зарядкой занимается одна Анзират. Людмила Николаевна вся поглощена романом с Гасановым. Они встречаются ежедневно и по нескольку раз в день.
Перемены в Людмиле Николаевне особенно огорчали тетушку Саодат, которая первая воспылала к ней симпатией и теплым чувством. Теперь печальная тетушка ходила по дому, сокрушенно качала головой и бормотала:
— Вай, вай! Замужняя женщина, а оказалась вертихвосткой. Кому же теперь можно верить?
Испытывая неловкость, Людмила Николаевна, конечно, старалась укрыть предмет своего обожания от взоров домашних. Ни Халилов, ни тетушка Саодат ни разу не видели в лицо ее рыцаря. Обычно он приходил в отсутствие хозяев, а выпускала его Людмила Николаевна неслышно, через свою отдельную дверь. Однако эта наивная конспирация никого обмануть не могла.
Анзират, по праву старшей, очень мягко завела как-то разговор с Людмилой Николаевной об этом увлечении и тактично поинтересовалась, насколько оно серьезно. Но молодая женщина отделалась шуткой.
В другой раз Анзират дала понять Людмиле Николаевне, что домашние не прочь познакомиться с ее смелым спасителем, но услышала в ответ капризное:
— Стоит ли? Быть может, он и мне скоро надоест…
После этого Анзират окончательно убедилась, что имеет дело с очень хитрой и даже порочной женщиной. Но последний трюк Людмилы Николаевны поверг всех в еще большее удивление.
В четверг она быстро собралась, уложила кое-что в чемодан и объявила, что едет с Гасановым в Ташкент. Зачем? Она и сама не смогла объяснить толком, а может быть, не захотела. Утром к дому подкатил "Москвич", она уселась в него — и была такова.
Вот уже суббота на исходе, а ее нет. Халилова вся эта история не столько удивляла, сколько беспокоила. Бацилла недоверия к Людмиле Николаевне проникла в него с первой же минуты знакомства. Ее внезапный вульгарный роман лишь подтверждал подозрение, что первоначальная ласковость и простота были только наигрышем, средством для того, чтобы втереться в дом. Теперь, когда она укатила, якобы в Ташкент, Халилов не знал, что и думать.
19
В воскресенье утром Халилов с Анзират поехали на вокзал. Заняв место в вагоне, Халилов предупредил жену:
— Пока меня не будет, постарайся не отлучаться из дому.
Анзират согласилась. Она и сама так думала.
— Если появится кто-либо подозрительный, — продолжал Халилов, — сейчас же звони Леониду Архиповичу.
— Ладно.
— Как не вовремя свалился этот вызов в Ташкент, — вздохнул Халилов.
— А ты на перевод не соглашайся, — сказала Анзират. — Объясни, что у тебя жена тоже работает в Токанде; что только недавно мы переехали сюда, устроились…
— А то они не знают…
— Если знают, их нетрудно убедить, что все это не так просто.
— Постараюсь убедить, — проговорил Халилов, целуя жену. — Иди. Уже звонки дали.
Стоя на перроне, Анзират проводила поезд. Лишь только последний вагон скрылся за стрелкой, она заторопилась домой. Какое-то внутреннее беспокойство подталкивало ее, заставляло почти бежать.
И она не ошиблась. Тетушка Саодат встретила ее на пороге таинственным шепотом:
— Явилась…
— Кто?
— Ну кто же? — И она показала на дверь Людмилы Николаевны. — Сияет, как свежеиспеченная лепешка, и прыгает, как коза. Что-то весело ей.
— Что-нибудь рассказывала?
— Хвастается, что поездка удалась на славу и ни копейки денег не стоила. А как только увидела меня, кинулась и расцеловала.
— Даже? — усмехнулась Анзират.
— Ну да! Ох, не к добру все это… — покачала головой старушка. Доиграется она!
Анзират только вздохнула и прошла в свою комнату. После обеда она вышла из дому и уселась на ступеньках веранды с книгой в руках. Минут через десять скрипнула калитка. Анзират обернулась. Из-за косяка выглядывала голова мальчугана лет десяти-одиннадцати.
— Кто будет Анзират-ханум?
— Я.
— Возьмите письмо, тетя, — сказал мальчуган, протягивая руку с конвертом и, видимо, не решаясь войти во двор.
Она встала, подошла к калитке.
— Я буду ожидать на той стороне, — шепнул мальчик.
— Кого ожидать? — спросила Анзират.
— Вас. Прочтите. Там все сказано, — и, не ожидая ответа, мальчуган стрельнул на противоположную сторону улицы.
Анзират вскрыла письмо, развернула лист бумаги и прочла:
"Жизнь твоего сына Джалила в большой опасности. Если он дорог тебе и ты хочешь отвести от него неминуемую беду, сейчас же иди за подателем этого письма. Он покажет тебе женщину, которая все расскажет и может помочь тебе. Не медли ни минуты! И никому ни слова, иначе ты погубишь сына".
Строчки и буквы заплясали перед глазами Анзират. Губы сразу пересохли. Первой ее мыслью было позвонить Шубникову, но она сейчас же отказалась от нее. А вдруг за ней следят? Здесь же сказано: "И никому ни слова, иначе ты погубишь сына". Нет, нет, Джалила она потерять не может. Риск слишком велик.
Странной, боязливой походкой, оглядываясь, Анзират прошла в столовую. Надо быстро переодеться и идти. На улице день, и ничего страшного быть не мажет. Тетушке ничего говорить не нужно.
Анзират положила страшное письмо на стол и пошла в спальню. Быстро мчались отрывки мыслей: "Кто же ее ждет? Что за таинственная женщина? Какая опасность нависла над Джалилом?"
Она переоделась, прошла в столовую и остановилась пораженная и негодующая: Людмила Николаевна, стоя у стола, читала письмо.
Услышав шаги Анзират, Людмила Николаевна подбежала к ней и, глядя прямо в глаза, сказала:
— Я прочла… С этим нельзя шутить… Идите быстрее… И не бойтесь, я и Гасанов будем наблюдать за вами. А он парень отчаянный и смелый. Идите, и она пожала руку ошеломленной женщине.
— Спасибо, — испуганно сказала Анзират и, совершенно обитая с толку, заторопилась на улицу, где ее терпеливо поджидал мальчишка.
Уже идя за ним, она оглянулась и увидела выходящих из парадной двери Людмилу Николаевну и Гасанова.
Подполковник Шубников читал в это время рапорт лейтенанта Сивко. В нем шла речь о том, что квартирантка Халиловых Людмила Николаевна по приглашению уже известного Гасанова Ирмата и на его машине совершила совместную с ним увеселительную поездку в Ташкент и обратно. Выехали они в четверг, а вернулись сегодня, в воскресенье.
В рапорте приводились такие подробности о деятельности Гасанова в Ташкенте, что Шубников дочитывал рапорт уже стоя. Он не мог усидеть на месте.
А когда дочитал, то хлопнул рукой по бумажке и воскликнул:
— Молодчина старший лейтенант! Ей-богу молодчина! Хороший глаз, цепкие руки, и главное, мозги есть!
Возбужденный, взбудораженный подполковник прошелся по кабинету. Как жаль, что рапорт лейтенанта опоздал на каких-нибудь два-три часа! Как жаль, что поезд, увезший Халилова, ушел строго по расписанию, а не с опозданием на эти два-три часа! Да! Теперь Халилов уже далеко. Ну, ничего. Завтра утром придется позвонить в Ташкент в отдел кадров военкомата и отыскать его.
20
На русском кладбище города, густо заросшем сиренью, жасмином и желтой акацией, вдали от главной аллеи, на покосившейся и полусгнившей деревянной скамье сидела женщина под паранджой.
Анзират торопливо подошла к ней и тихо спросила:
— Вы прислали мне письмо?
— Садись, — ответила вдруг женщина мужским голосом, от которого Анзират вздрогнула. Она почувствовала такую слабость, что, не желая подчиниться приказу этого человека, все же вынуждена была опуститься на край скамьи.
— Ты хорошо слышишь меня?
— Да, слышу, — ответила Анзират, чуть шевеля белыми губами.
— Ты знаешь, кто говорит с тобой?
Она отрицательно покачала головой: нет, этот голос ей незнаком. Впрочем, когда-то она слышала его. Где?
Человек в парандже усмехнулся:
— Женская память коротка… Смотри же! — и сетка поднялась, открыв лицо человека. Анзират вскрикнула: рядом с ней сидел Наруз Ахмед.
— Теперь узнала? — спросил он, опустив сетку. — Слушай меня! Твой сын…
Анзират сжала пальцами край скамьи. Ей казалось, что вот-вот она упадет. Горло свела судорога. Страх и отчаяние овладели ею.
— Что с моим сыном? — наконец простонала она.
— В этот час еще ничего. Он ходит по горам, смеется, поет свои дурацкие песни. Но по его стопам идет другой человек, в руках которого жизнь этого мальчишки. Понимаешь? И этот человек ждет только моего сигнала. Достаточно одного моего слова, слова настоящего отца Джалила, чтобы твой сын перестал видеть небо. Но я не хочу лишать тебя единственной услады. И если с Джалилом случится беда, если он сорвется в пропасть, если тело его найдут в горном потоке, то пусть свидетелем будет аллах, это произойдет не по моей, а по твоей вине.
— Замолчи! — простонала Анзират.
— Он дорог тебе… И теперь только от тебя зависит — жить ему или умереть. В твоем доме спрятан мой клинок, принадлежавший моему отцу. Как он попал к вам, я не хочу знать. Вы ограбили нас, отняли богатство, землю, скот, власть… Но клинок я требую назад. Ты знаешь, где он спрятан. Принеси его сюда и положи вон у той могилы. Если ты не сделаешь этого в течение пятидесяти минут — пеняй на себя… Ты поняла? Приказ о Джалиле будет передан в горы по радио. Ясно тебе?
Анзират машинально кивнула. Ответить она не смогла, язык ей не повиновался.
— Запомни, — доклевывал свою жертву Наруз Ахмед. — За каждым твоим шагом будут смотреть мои люди. Даже в твоем доме. Ничто не укроется от моих глаз. И если ты хочешь еще раз обнять своего сына, делай то, что я говорю. Иди и торопись!… Считай минуты. Их не так уж много: всего пятьдесят минут. Помни! Если клинок не будет принесен через пятьдесят минут, Джалил полетит в пропасть. И не думай приводить сюда людей, звонить куда-нибудь. Если со мной случится плохое, сигнал в горы дадут мои люди.
Анзират встала. Вначале пошла шагом, а потом побежала все быстрее и быстрее. В висках стучала кровь. В мозгу мелькало: "Джалил на краю пропасти. Надо спасти! Будь проклят этот клинок! Из-за него погиб отец, из-за него гибнет Джалил. Прочь его из дома! Саттар умный человек, он поймет, он скажет, что она поступила правильно. Да и сам он утром говорил, что отдаст клинок в музей. А может быть, позвонить Шубникову? Нет, нельзя! Рискованно. Шубников в Токанде, а Джалил на Памире… Пока что-то предпримут, мальчик может погибнуть…"
Недалеко от остановки автобуса к Анзират подбежали Людмила Николаевна и Гасанов.
— Ну, что там было? — шепотом спросила Людмила Николаевна.
Анзират испуганно глядела ей в глаза, не решаясь сказать правду.
— Да вы не бойтесь, говорите, — предупредила поспешно Людмила Николаевна, сжимая ее руку. — Мы вам хотим добра. Говорите?
Анзират боязливо оглянулась и коротко рассказала о разговоре на кладбище, скрыв лишь то, что "женщина" оказалась мужчиной, Нарузом Ахмедом…
— Какой ужас! — всплеснула руками Людмила Николаевна и перевела взгляд на Гасанова. — Как быть?
— Не вижу никакого ужаса, — невозмутимо ответил тот. — Надо действовать благоразумно. Идемте в милицию и заявим. Оттуда пошлют участкового, и тот сцапает эту женщину в парандже.
Анзират замахала руками.
— Вы смеетесь! Не в женщине дело… Тут целая шайка. Они следят, они все знают…
— Их можно перехитрить, — так же невозмутимо продолжал Гасанов. — Вы отнесите клинок, запомните женщину, а потом заявим в милицию.
— Нет, нет, — запротестовала Анзират. — Дело идет о жизни сына, а я буду ловить каких-то бандитов… Каждая мать поступила бы на моем месте точно так же.
— Вы правы, — согласилась Людмила Николаевна. — С этим шутить нельзя. Торопитесь! А мы будем наблюдать здесь…
Подошел автобус, и Анзират, расталкивая стоявших пассажиров, первой влезла в машину.
Время летело, а автобус полз как черепаха. Анзират нетерпеливо поглядывала в окна, возмущалась, то и дело подносила к глазам часы. Минуты летели, стрелки равнодушно ползли по циферблату…
Когда Анзират вбежала в калитку, тетушка Саодат ахнула от испуга:
— Что случилось? На тебе лица нет!
— После… потом… нет времени… — тяжело дыша, проговорила Анзират и бросилась в дом.
За нею поспешила и тетушка Саодат.
Анзират вскочила в комнату, подбежала к печи и стала отвинчивать замок дверцы. Тетушке она бросила:
— Скорее, простыню… Дорога каждая минута…
Ужас Анзират передался старухе. Она тоже засуетилась, задвигалась с необычной для ее возраста быстротой. Из шкафа на пол полетело белье, только недавно отглаженное и аккуратно сложенное старухой.
— Зачем берешь клинок? — на бегу спрашивала тетушка Саодат.
— После… все расскажу… Хоть вы не мучьте меня, — отрывисто бросала Анзират, лихорадочно завертывая клинок в простыню.
Через минуту-другую она уже сидела в автобусе и ехала к кладбищу, не отводя глаз от минутной стрелки часов.
На пути от остановки автобуса до кладбища ей никто не встретился. Никого не увидела она и на кладбище. Она легко отыскала скамью, на которой недавно сидела, огляделась и положила клинок возле той могилы, о которой сказал Наруз Ахмед. На щеках Анзират выступили красные пятна, судорога в горле все не проходила. Она перевела дух и посмотрела на часы: она не уложилась в пятьдесят минут, две минуты лишних… Но это не страшно, теперь Джалил спасен. Она сделала все, что от нее требовали. Можно уходить…
Уставшая, ослабевшая, как после тяжелой болезни, она побрела обратно. Она шла, и сознание ее двоилось, будто сделала она что-то очень важное, необходимое и в то же время что-то темное, страшное.
Перепуганная насмерть тетушка Саодат ждала ее на улице у калитки. Она даже не решилась спросить, куда дела клинок ее Анзират. Она молча, не сводя неподвижных глаз, смотрела на нее.
Анзират подошла, взяла тетушку за руку и тихо сказала:
— Пойдемте… Сейчас я все расскажу…
Но она ничего не смогла сказать. Натянутые нервы сдали. Добравшись до комнаты, она бросилась в кровать, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Старуха беспомощно топталась возле постели, не зная, что предпринять. В кабинете Саттара зазвонил телефон. Тетушка засеменила туда, и вскоре послышался ее голос:
— Доченька! Тебя зовут!
Анзират поднялась, машинально поправила волосы. Она даже не подумала о том, кто мог звонить, кому она понадобилась… Она ни о чем сейчас не могла думать, и все ей было безразлично. Анзират взяла трубку и услышала мужской голос:
— Ты благоразумная женщина и настоящая мать. Я решил испытать тебя, и ты выдержала испытание. Ступай сейчас же на кладбище и возьми клинок. Он лежит на том же месте, где ты его положила.
Голос умолк, трубка была положена.
Все перемешалось в бедной голове Анзират. Бледная, с неподвижно уставленными в одну точку глазами, она стояла возле стола, потирала лоб и старалась хоть что-то сообразить.
И все же у нее хватило сил вновь съездить на кладбище. Клинок и в самом деле оказался там, где был оставлен. И когда она опять водворила его в печь, ей показалось, будто ничего и не произошло.
Тетушка хлопотала возле нее, как около больной, и уже не решалась расспрашивать.
Анзират прошла в свою комнату, снова бросилась в кровать и, закинув руки за голову, пустыми глазами уставилась в потолок.
Перед вечером к ней подошла тетушка Саодат и виноватым, упавшим голосом сказала:
— Людмила Николаевна сбежала…
— Как сбежала?
— А так… Запихала свои вещички в чемодан, отдала мне ключ и сказала, что больше не вернется.
Анзират вздохнула. Вокруг творилось что-то выше ее понимания. Спустя короткое время она забылась в больном сне. Кошмары менялись один за другим: то она шла в поисках кого-то глухой ночью по безлюдной каменистой пустыне, и завывающие шакалы неотступно брели по ее следу; то перед нею всплывало лицо Джалила с затаенным укором в глазах, он плакал, упрекал ее в чем-то и просил никогда не писать ему; то ей чудилось, что Токанд постигло землетрясение, дом их разрушен, под его обломками стонет и зовет на помощь Саттар, и она, живая, придавленная чем-то тяжелым, не чувствует ног и даже не в силах крикнуть, то ей казалось, наконец, что Наруз Ахмед бежит за ней и в руках его колокольчик, которым он все время звонит.
Анзират проснулась с приглушенным криком и услышала, как дребезжит телефонный звонок. Она вскочила, вытерла холодный пот и побежала в кабинет.
В комнатах было светло. Ушли кошмары и страхи. Анзират бросила взгляд на стенные часы: боже мой! Десять утра! Сколько времени она проспала!
Подняв трубку, она услышала голос Саттара.
21
Халилов приехал в Ташкент в ночь с воскресенья на понедельник и остановился в общежитии Дома офицеров. Утром, даже не позавтракав, он заторопился в военкомат. И вот тут пошли события совершенно непонятные.
Оказалось, что полковник Куприянов уже три дня назад получил отпуск и уехал в Рязань, а поэтому мог беседовать с Токандом по телефону только с промежуточной железнодорожной станции, но никак не из Ташкента. Никакой телеграммы в Токанд с вызовом Халилова на переговоры из военкомата не отправлялось. В отделе кадров никто ничего не знал.
Озадаченный и встревоженный Халилов не мог взять в толк: кому и зачем понадобилось сыграть с ним такую злую шутку? Он пришел к заключению, что, очевидно, он мешал кому-то в эти дни в Токанде. Все минувшие события сплелись в одно целое и не совсем понятное: история с загадочным клинком, странное поведение Людмилы Николаевны. Кстати, ведь она при ехала из Ташкента. Придется позвонить в Комитет по делам физкультуры и спорта и навести о ней справки.
Он тут же из военкомата позвонил, назвал себя и просил сообщить, скоро ли вернется инструктор Людмила Николаевна, командированная в Токанд. Ему ответили, что никакой Людмилы Николаевны среди сотрудников комитета нет и не было и никого в Токанд комитет не посылал.
Халилов окончательна утвердился в своих подозрениях. Все ясно… Значит, как он и предполагал, Людмила Николаевна — авантюристка. Теперь подполковник не мог отделаться от дурного предчувствия. Ему мерещилось, что без него дома произошли странные, непоправимые несчастья. Надо немедленно звонить в Токанд!
Халилов выбежал из военкомата, сел в первое попавшееся такси и помчался на междугородную телефонную станцию. Он ворвался к начальнику станции и попросил заказать срочный, вне всяких очередей разговор с Токандом.
То, что он услышал от Анзират, показалось ему до того неправдоподобным, выдуманным, что он отказывался верить и с опаской подумал, не больна ли жена.
Успокоив кое-как жену и строго наказав ей запереть все двери, калитку и никуда не выходить из дому, он попросил станцию переключать его на Шубникова.
Услышав в трубке голос Шубникова, Халилов стал торопливо и бессвязно докладывать ему о нелепом положении, в котором он оказался в Ташкенте, и о том, что произошло дома. Подполковник прервал его:
— Все знаю! Спокойствие! Не теряй головы. Мы здесь оказались недостаточно проворными и кое-что прохлопали, но ничего страшного не произошло. Игра идет к концу. Ты должен срочно возвратиться. Постарайся получить место на ферганский самолет. Он вылетает из Ташкента, кажется, в семнадцать часов. А я подъеду в Фергану на машине и встречу тебя. О доме не беспокойся. Никакой угрозы сыну нет, а жене — тем паче. И главное спокойствие!
Халилов повесил трубку, вытер взмокший лоб и облегченно вздохнул. Но тут же мелькнула беспокойная мысль: а может быть, Шубников просто успокаивает его?…
22
За окном догорала вечерняя заря. Понедельник был на исходе.
Наруз Ахмед сидел у стола в своей комнате, а перед ним лежал листок бумаги из ученической тетрадки с замысловатыми знаками, арабскими буквами, цифрами и пятью черепами. Сейчас этот листок казался Нарузу Ахмеду центром вселенной.
Удача полная! Такого хорошего настроения у него давно уже не было. Все вышло именно так, как он наметил. Даже упрямый ишак Икрам-ходжа и тот вынужден признать превосходство Наруза Ахмеда и точный расчет его плана.
Вполне возможно, что подполковник Халилов там в Ташкенте уже сообразил, что его одурачили и провели за нос. Он сейчас рвет и мечет. Тем лучше. А дело сделано. И никто, конечно, не подкопается, что вместо полковника Куприянова по телефону с токандским военкомом беседовал Гасанов и что телеграмма с вызовом Халилова и фальшивым номером отправлена опять же не Куприяновым, а Гасановым. И все прошло гладко, без сучка без задоринки. Удивительно, что такую телеграмму привяли на почтамте. Но на то и дураки водятся, чтобы умные их обставляли. А кто придумал? Он, Наруз Ахмед! А кто каркал, что из этой затеи ничего не получится? Икрам-ходжа! Не верил он и в то, что Анзират поддастся на приманку, придет на свидание и принесет клинок. Не верил, что служебную телеграмму примут от частного лица.
Ни во что не верил этот старый брюзга и трус. Слушая его, можно было и сегодня сидеть с пустыми руками. Но теперь-то он вынужден признать удачу. И до чего же упрям этот старик! До глупости! Уже после того, как таинственный шифр был скопирован с клинка, Икрам-ходжа стал протестовать против возврата клинка. В своем упрямстве он не хотел внять доводам Наруза Ахмеда. А смысл в этом возврате был глубокий: если бы они не вернули клинок, то Халилов по приезде, несомненно, поднял бы такую шумиху, что небу стало бы жарко. В розыски клинка включились бы все силы милиции и МГБ. А кому нужна шумиха? Теперь Халилов ничего не предпримет. Если Анзират все ему расскажет, он постарается скрыть это дело, ибо побоится раскрыть начальству тот неприятный факт, что жена его вступила в сговор с бывшими басмачами. Но вернее всего предположить, что Анзират будет молчать и ничего не расскажет мужу: вряд ли она рискнет возбудить в нем ревность напоминанием о Нарузе Ахмеде, а тем более напоминанием о том, что Джалил не родной сын Халилова…
Халилову нет никакого резона поднимать историю: небезопасно для карьеры и весьма неприятно с точки зрения семейной. В конце концов клинок цел? Цел. В доме? В доме. Чего еще человеку надо! Да, расчет оказался верным.
Торжествующий, довольный Наруз Ахмед встал и спрятал листок с шифром в карман. В комнату вкатился Икрам-ходжа.
— Удалось купить? — спросил его Наруз Ахмед.
— Почему бы это мне не купить? — ответил старик и подал железнодорожный билет. — Поезд отходит завтра утром, можно не торопиться.
Наруз сунул билет в карман и возбужденно стал расхаживать по комнате и рассуждать:
— Теперь вот что… Мне думается, что торчать Гасанову в Токанде нет никакой надобности. Он здесь уже примелькался, а тут еще этот роман с Людмилой Николаевной… Как вы смотрите, Икрам-ата?
— Пожалуй, в твоих словах есть истина, сын мой, но…
— Никаких "но", — перебил Наруз Ахмед. — Пусть садится в свой "Москвич" и едет в Бухару. Он понадобится мне недельки через две.
— Я могу вызвать его в любое время.
— Еще лучше. Значит — отпускайте его!
— А сообщать Джарчи ничего не будешь? — ядовито поинтересовался старик.
Наруз Ахмед почесал затылок. Надо бы сообщить… Поколебавшись, он сел за стол и написал девять слов:
"План в моих руках. Помогла жена. Завтра выезжаю на место".
Отдав бумажку Икраму-ходже, он сказал:
— Пусть Гасанов передаст это не из Токанда, а из Бухары. А лучше — по пути. Так спокойнее.
Икрам-ходжа кивнул и отправился за кодом.
Город спал. По небу плыл круглый лунный диск. Лишь кое-где блеснет одинокое окно с огоньком.
В одном из кабинетов городского отдела горела яркая настольная лампа. Шубников и Халилов, одетые в штатские костюмы, сидели рядышком на диване.
— Все, что угодно, но такой фантастической наглости с его стороны я никак не ожидал, — закончил свой рассказ Халилов.
— Это не наглость, а нечто иное, — возразил Шубников. — Это, если хочешь знать, промах, просчет, непростительная ошибка. Мы ждали, когда он вылезет на божий свет, и дождались. Нам только это и нужно было.
— Значит, ты знал, что Наруз Ахмед скрывается в доме Икрама-ходжи?
— Нет, этого мы не знали.
— Хм… Может быть… Я конечно, не берусь давать советы тебе, Леонид Архипович, но не думаешь ли ты…
— Заранее могу предсказать, что ты хочешь сказать, — прервал его Шубников.
— Серьезно? — улыбнулся Халилов.
— Вполне. Ты хочешь сказать: не думаешь ли ты, дорогой товарищ Шубников, что было бы лучше не выпускать Наруза Ахмеда из города, а арестовать сейчас же, немедленно?
— Ты прав.
— Понимаю, так думаешь не только ты, но и еще ряд товарищей из моего отдела. Но нет, говорю я, сейчас нельзя брать. Всему свое время. Трудно поверить в то, что Наруз Ахмед пожаловал сюда только из-за клинка. И я не был бы чекистом, если бы взял за основу эту версию. Клинок — только повод. Наруз Ахмед — орудие в чьих-то руках. Его перебросили за кордон, предоставили самолет. А все это не так просто и не так дешево. Ясно, что перед ним поставлены другие, более важные, чем похищение клинка, задачи. В этом я ни на минуту не сомневаюсь. Мы обязаны узнать, кто хозяин Наруза и какие задачи ему поставлены. Наруз должен быть арестован лишь тогда, когда появится реальная угроза, что он сможет скрыться и бежать. Понятно, не исключен известный риск, но без него обойтись невозможно. Ясно?
— Примерно ясно… Но ты знаешь последнюю новость? — спросил Халилов.
Шубников вскинул брови.
— Наша прекрасная жилица дала лататы…
— Ч-черт!… — сорвалось у Шубникова. Он потянулся к телефону, снял трубку, набрал нужный номер и строго спросил кого-то:
— От лейтенанта Сивко звонка не было? Что? Так… Так… Хорошо… Если будет звонить еще раз, скажите, что я уже выехал на место. Да, да.
Шубников положил трубку и продолжил начатую Халиловым тему:
— Твоя новость, Саттар Халилович, состарилась еще вчера днем. Думаю, что ваша квартирантка далеко не убежит. Во всяком случае этого дома, где мы сейчас с тобой сидим, ей не миновать.
— Ты уверен?
— Уверен.
— А я, знаешь ли, будучи в Ташкенте, не зевал. Взял да и позвонил в Комитет по делам физкультуры и спорта.
— Ну и что тебе ответили?
— Ответили, что такой у них нет и не было.
— А что же другое они могли сказать, — усмехнулся Шубников. — Эта особа такой же сотрудник комитета, как и ты.
Стук в дверь прервал разговор.
Вошел шофер и доложил, что машина готова.
— Мы сейчас, — сказал подполковник.
Шофер вышел. Когда Халилов поднялся, подполковник спросил его:
— У тебя какой пистолет?
— "ТТ"…
— Не годится, — сказал Шубников и подошел к несгораемому шкафу. Нужна штука поменьше. — Он достал из шкафа "маузер № 2", проверил его, поставил на предохранитель и подал Халилову. — А твою пушку давай сюда спрячем. Вот так… Я любил "наган"… Хорошее оружие было, но жаль: как дело доходило до перезарядки — дрянь. Ну? Кажется, ничего не забыли?
Шубников подумал о чем-то, и по губам его скользнула едва заметная улыбка. Он посмотрел на часы и сказал:
— Вот уж и вторник начался. Поехали?
— Я готов.
Подполковник выключил свет, отдал ключ от кабинета вахтеру, и они вышли. У подъезда стоял газик-вездеход. Друзья сели в него, и водитель тронул машину.
23
Поезд мчал Наруза Ахмеда в Бухару.
На западе в золотистой предзакатной дымке умирал день. За окном промелькнули поля, засеянные хлопком, изрезанные арыками. Вновь потянулись пески. Подернутые мертвой волнообразной рябью, они простирались во все стороны, куда только хватал глаз.
"Проклятая страна, — думал Наруз Ахмед. — Какой дурак выдумал, что родина прекраснее всего…"
Он сидел у самого окна, смотрел и думал. Думал о том, что скоро он расстанется с землей своих предков и вернется назад, в чужой край. Ему вспомнились слова одного тегеранского купца: "Э-э, дорогой! — говорил он. Отчизна для человека там, где ему дадут хороший шашлык…" Да, теперь чужбина обернется к нему другим лицом. Теперь его ждет жизнь, настоящая жизнь, непохожая на прежнюю. Но прежде чем раскланяться с узбекской землей, он должен еще исполнить второе задание Керлинга и, наконец, свой священный долг. Он обязан сдержать клятву и отомстить за отца. Как? Ну уж это его личное дело, и ни с кем своими планами он делиться не намерен. Во всяком случае ни Джалилу, ни Анзират, ни Саттару не уйти от мести. Настигнет ли их рука самого Наруза или чья другая, направленная им, — значения не имеет. Но лишь только после того как он своими глазами увидит кровь этих трех ненавистных, выпущенную из их жил, он со спокойным сердцем покинет бывшую отчизну и трижды плюнет, трижды проклянет и эту страну, и ее неблагодарный народ.
Сладостное предчувствие удовлетворенной мести охватило Наруза Ахмеда, и он мечтательно закрыл глаза.
Двое соседей по купе мирно спали, а пожилая женщина туркменка, сидевшая напротив, читала русскую книгу.
Когда над песками стал сгущаться вечерний сумрак, поезд ворвался на разъезд, резко сбавил ход и остановился.
Наруз Ахмед прижался лбом к теплому стеклу. Пора! Цель близка. Он встал, перебросил через плечо рюкзак, прихватил металлическую тросточку и вышел из купе.
Он понимал, что появляться на безлюдном перроне разъезда, когда еще не стемнело, опасно. Одинокий пассажир невольно привлечет к себе внимание обитателей разъезда — людей всегда любопытных.
Наруз Ахмед прошел через три вагона, полных разнообразным людом, мимо спящих, закусывающих, беседующих пассажиров. До паровоза оставалось всего три вагона: пассажирский, багажный и почтовый.
Раздался оглушительный долгий паровозный гудок: на разъезд влетел встречный состав и загрохотал по второму пути.
Наруз Ахмед потянул на себя дверь, и завихрения пыльного воздуха, пахнущего углем и дымом, ударили ему в лицо. Он спрыгнул на землю между поездами, выждал, пока промчался встречный, быстро пересек полотно и направился в пески.
В небе зажглись яркие звезды, но вскоре взошла луна, и в ее серебристом сиянии блеск звезд потускнел.
Разъезд остался позади, огоньки его становились все меньше и меньше. Наконец исчез и красный огонек далекого семафора. С юга подул горячий ветер и легонько прошелестел в выгоревшей и сухой траве.
Наруз Ахмед шагал крупно, уверенно, будто бывал здесь не раз. Изредка он оглядывался, стараясь держать направление так, чтобы разъезд оставался у него строго позади, за спиной.
Прошагав с час, он обостренным зрением различил в рассеянном свете луны небольшие глиняные холмика. Это были колодцы пустыни.
Вот он, ориентир! Значит, клинок не лгал, его тайнопись оказалась верной. Сбываются мечты бессонных ночей, голодных дней.
Местность эту издавна называли урочище Кок-Ит, что в переводе означало — урочище Серая собака.
Наруз Ахмед почти побежал к колодцам, расположенным звездой примерно в сто метров диаметром.
Теперь предстояла задача более трудная: надо обнаружить второй ориентир, решающий. Только найдя его, можно добраться до тайника.
Наруз Ахмед тревожно и внимательно осмотрел местность. Да, второй ориентир отыскать не так легко. Это всего-навсего кусок рельса четырех аршин длиной. Половина его загнана в песок, а другая должна торчать на поверхности. Но рельса не видно. Его могли вытащить и увезти, или, быть может, замело песком — и тогда крах всем надеждам.
Наруз Ахмед обошел все семь колодцев, как голодный волк вокруг кошары, озираясь, подгибая почему-то колени и втянув голову в плечи. Его серая тень причудливо металась по песку, то замирая, то снова двигаясь вперед. Он сделал второй, потом третий круг — и все безрезультатно. Тогда Наруз совсем низко пригнулся и принялся исследовать каждую пядь земли в пределах десяти шагов от колодцев. Временами он опускался на четвереньки и тогда впрямь становился похожим на большого шакала. Казалось, вот-вот он поднимет лицо к бесстрастному ночному светилу и завоет.
Лишь к часу ночи, когда были проверены и ощупаны все песчаные уголочки вокруг каждого колодца и когда отчаяние готово было овладеть им, Наруз наткнулся на железный шпынек, торчавший из песка в таком месте, что нельзя было и предположить найти его. Почти весь рельс ушел в песок. На поверхности маленького барханчика оставался лишь верхний конец, сантиметров двадцать. Еще год-два — и он исчез бы.
Наруз Ахмед сообразил, почему он так долго не мог отыскать этот проклятый рельс: он искал его в пределах десяти шагов от колодцев, ориентир же торчал в двадцати пяти шагах.
Обессиленный Наруз Ахмед уселся на песке, отдохнул, выкурил папиросу и, шумно вздохнув, дрожа от нетерпения, встал, готовый к дальнейшим поискам. Теперь все зависело от точности ориентировки. Он достал компас со светящимися стрелками и отпустил зажим. Стальная тросточка длиной ровно в аршин служила ему меркой. Отмерив семь тросточек от рельса строго на восток, он уткнулся в один из колодцев. От колодца он проложил пять тросточек на северо-восток и поставил вешку. Потом от нее он отмерил еще семь — на юг, затем на север и, наконец, четыре на запад. Все! Хватит! Теперь надо копать. Он воткнул в песок тросточку, сбросил с плеч рюкзак и вынул из него небольшую саперную лопату с короткой деревянной рукоятью. Затем очертил круг диаметром в метр, опустился на колени и начал копать.
Верхний слой песка, наносный, не слежавшийся, подавался легко. Далее песок становился плотным, копать было труднее. Но все же работа быстро подвигалась вперед.
Взволнованный и потный Наруз Ахмед отбрасывал песок во все стороны, все больше углубляясь в почву и расширяя края ямы. Когда глубина ее достигла полуметра, на ладонях Наруза вздулись волдыри. Но что такое волдыри в сравнении с тем, что лежит на дне ямы? Ерунда, о которой даже не стоит думать.
Но вот что-то глухо звякнуло. Наруз Ахмед отложил лопатку в сторону, лег плашмя и с замирающим сердцем стал по-собачьи разгребать песок руками.
Когда он вытащил из ямы первый череп, то едва не закричал от радости. Он готов был расцеловать пожелтевшую кость, вскочил на ноги, обхватил череп руками и, испуская дикие вопли, принялся выделывать ногами невообразимые фигуры. Успокоившись, Наруз вновь улегся на песок и энергично заработал руками. За первым черепом последовал второй, третий, четвертый и, наконец, последний, пятый, как и указано на клинке. Теперь на песке уже лежала пирамидка черепов. Все правильно! Никакой ошибки! Сейчас он доберется.
Наруз Ахмед яростно вгрызался в песок, рвал, рыхлил его пальцами и пригоршнями выбрасывал наружу. Сердце ходило ходуном от восторга, усталости, возбуждения. Надо бы сделать передышку, но он уже не мог остановиться. Пот катился по лицу, заливал глаза, спина взмокла, и рубаха прилипла к телу. Если бы сейчас затрещали пулеметы и стали рваться снаряды, он все равно не прекратил бы рыть. Наконец палец правой руки скользнул по чему-то твердому. Наруз Ахмед всем корпусом сунулся в яму. Руки его заработали еще быстрее. И вот они ухватились за что-то. Напрягая остатки убывающих сил, Наруз вытащил здоровенный глиняный кувшин. В него можно было вместить не меньше двух ведер воды. Синие жилы вздулись на его лбу и мышцах рук, когда он приподнял кувшин, чтобы оттащить в сторону. Обессиленный, он упал рядом с кувшином.
Вот он, клад! Вот оно, богатство! Вот оно, наследство отца! Теперь все.
Когда Наруз Ахмед отдышался, он сунул руку в горловину кувшина. Пальцы наткнулись на плотный, как камень, песок. Тогда, напрягшись, он перевернул тяжелый кувшин вверх дном, чтобы вытряхнуть содержимое. Но песок, видимо, так спрессовался, что закупорил горловину, точно притертой пробкой. Видя, что из этой затеи ничего не выйдет, Наруз схватил лопатку и с силой ударил по кувшину. Лопатка отлетела от него, как молот от наковальни. Наруз нехорошо выругался, постоял в раздумье, тяжело дыша, затем схватил кувшин в охапку и потащил к рельсу. Уж против стали никакая глина не устоит!
И кувшин не устоял. Ударившись о конец рельса, он развалился на куски. Развалился, и из него высыпался песок. Да, песок. Обыкновенный песок пустыни, который на сотни километров простирался вокруг. Кругом пустыня… Везде этот проклятый песок… И во рту он хрустит, к телу прилип. В тяжелой, налитой голове — тоже будто песок…
Наруз Ахмед стоял, тупо уставившись на обломки кувшина. В глазах его мелькали желтые точки, будто колючие песчинки.
Постояв, он медленно опустился на колени и трясущимися руками стал перебирать каждый слежавшийся комочек. Песок бежал между пальцев бесконечным ручейком, и казалось, нет конца этой быстро текущей, тающей в пальцах струйке.
В эти минуты Наруз Ахмед еще неспособен был охватить умом случившееся. Мозг его будто выключился, и оставалось лишь странное ощущение, что вместе с вытекающим сквозь пальцы песком уходят из тела мысли, силы, жизнь. Это отупение длилось недолго. Внезапно он вскочил на дрожащие ноги. Больше он не мог сдерживать себя. Он рванул ворот рубахи и разразился страшными проклятиями. Он проклял аллаха и Магомета, пророка его, проклял того, кто опередил его, проклял самого себя и тот день, когда родился. Этот обезумевший человек повалился на песок и стал кататься по нему, и лишь когда на востоке заалел край неба, Наруз Ахмед пришел в себя и поднялся. Опустошенный, разбитый, он взял свой рюкзак и ковыляющей походкой поплелся к железной дороге.
24
"Москвич" катился на средней скорости по узкой полоске щебенчатой дороги. Освещенная лучами фар дорога походила сейчас на широкий арык и убегала в темную даль.
Получив от Икрама-ходжи изрядную сумму за операцию по изъятию клинка, Гасанов возвращался в Бухару. Настроен, он был отлично. Все обошлось гладко, лучше, чем он ожидал, а сумма, полученная от старика, намного превышала обычную оплату. Гасанов спокойно вел машину и мурлыкал себе под нос что-то веселое. Вдруг дорога впереди посветлела: Гасанов догадался, что его нагоняла машина. Водитель этой машины то включал, то выключал свет — и циферблаты на приборном щитке "Москвича" то вспыхивали, то гасли. Скоро раздались два коротких гудка. Гасанов определил по сигналу, что его нагоняет "Победа" и просит уступить дорогу.
Пусть обгонит! Гасанову некуда спешить. Он сбавил газ и свернул к обочине. "Победа" шурша пролетела мимо, подняв густые клубы пыли, и вскоре два красных огонька ее стоп-сигналов исчезли.
Гасанов продолжал ехать полегоньку, пока не улеглась пыль, а потом набрал прежнюю скорость.
Впереди замаячили два огонька: это задний свет той же "Победы". Чего же она тянется, как арба, и никак не оторвется от "Москвича"? Гасанов ослабил нажим ноги на педаль акселератора, но огоньки почему-то не удалялись, а приближались. Неужели "Победа" застряла?
По сторонам замелькали деревья шелковиц с шарообразными кронами, и в полосе света фар мелькнули перила моста через арык. Потом обрисовался весь мост и стоящая на нем автомашина. Это "Победа". Она застопорила. Гасанов посигналил и увидел шофера чужой машины. Он возился у откинутого капота.
"Этого еще не хватало! — с досадой подумал Гасанов и метрах в пятнадцати от моста остановил свой "Москвич". — Надо сходить узнать, что с ними приключилось".
В это время задние дверцы "Победы" распахнулись, и из машины вышли двое военных. Быстрыми шагами они направились к "Москвичу".
Гасанов смотрел на них, точно завороженный, и почти не дышал. Военные подошли к "Москвичу" с обеих сторон. Тот, что слева, открыл дверцу и низким голосом приказал:
— Подвиньтесь!
Гасанов безропотно выполнил команду и уступил свое место. Неизвестный сел за баранку, а его товарищ расположился на заднем сиденье.
Гасанов не рискнул ни протестовать, ни даже спросить, с кем он имеет дело и чем можно объяснить такую бесцеремонность со стороны офицеров.
Захлопнулись дверцы, и заурчал включенный мотор. "Москвич" тронулся вперед, у самого моста развернулся и покатил обратно в Токанд. За ним последовала "Победа". Теперь она уже не просила уступить дорогу, а покорно пробивалась через облако пыли, вздымаемое "Москвичом".
У Гасанова хватило все же сообразительности понять и должным образом оценить происшедшее. Немного погодя он оправился от столбняка, в который было впал вначале, поерзал на месте и уселся поудобнее. Нужно было раскинуть мозгами. Интересно, что они знают. И что послужило причиной? Неужели завалился старый Икрам? Быть не может! Такого волка голыми руками не возьмешь. Нет, тут что-то другое. А что же? Спекулятивные махинации? Но причем здесь эти фуражки? Они, насколько ему известно, никакого отношения к милиции не имеют. Странно. Очень странно… Плохо и то, что он не знает, сколько в его кармане денег. Дурак! Даже не пересчитал. Впрочем, деньги ерунда. Под сиденьем хранится радиостанция и закодированная, не переданная еще радиограмма. Вот это совсем серьезно. Но теряться не следует. Может быть, еще не все шансы потеряны…
Чтобы вернуть утраченную храбрость и укрепить ослабевший дух, Гасанов попробовал даже просвистать тот самый веселый мотивчик, который привязался к нему с утра.
Его спутник слева повернул голову и низким голосом бросил:
— Не нервничайте!
Гасанов угодливо улыбнулся и умолк.
Икрам-ходжа лежал на пухлом ворохе одеял и подушек в первой комнате. Все-таки на полу привычнее и куда лучше, чем на кровати. Рядом стоял низенький столик, а на нем — фарфоровый чайник.
Старик ворочался с боку на бок, вздыхал. Ему не спалось. Мысль о тайнике того крупного разведчика, о котором говорил Наруз, не давала ему покоя и отгоняла прочь сон. Почему Наруз Ахмед не привлек его к поискам тайника? Вдруг там кроме бумаг хранится кое-что и еще? Тайники бывают разные. Разведчики — тоже. Надо полагать, что этот важный господин не зевал на земле Туркестана и не забывал своих интересов…
Старику казалось, что его несправедливо обошли, и от этого на сердце накипала горькая обида. В самом деле: где же правда? Не будь его, да разве Наруз Ахмед добрался бы до тайнописи на клинке? Никогда. И где бы он нашел такого артиста, как Гасанов?
Часы на стене хрипло пробили два раза. Икрам-ходжа вздохнул. Сутки канули в вечность. Уже прошло два часа новых суток. И с каждым часом все укорачивается жизненный путь старого Икрама, все ближе подвигается он к могиле. Очень обидно! Но аллах велик, мудр, всемогущ и знает, что делает. Авось он забудет об Икраме и продлит его дни на этом свете, ну хоть бы годков на десять.
Икрам-ходжа приподнялся на локте, протянул жирную обнаженную руку к столику и нащупал на нем чайник. Он поднес его ко рту, отпил несколько глотков, поморщился и сплюнул. Крепко!
Теперь надо уснуть. К черту и тайник, и Наруза Ахмеда. Старик улегся поудобнее, плотно смежил веки и решил уснуть. Но шаги во дворе заставили его встрепенуться. Неужто вернулся Наруз? Но кто же больше? Из посторонних ключ от калитки имеет только он, и то лишь по случаю выезда. Икрам-ходжа разбросал подушки и сел. Шаги и сдержанный говор слышались уже в сенях. С кем же мог пожаловать этот бешеный Наруз? И не сошел ли он с ума, ведя в дом чужого?
В дверь постучали.
— Входите, открыто! — сказал Икрам, не зная, что и подумать.
Дверь скрипнула, щелкнул выключатель, и свет залил комнату. У порога стояли капитан, лейтенант и штатский из махалли.
— Икрам Ашералиев? — осведомился капитан.
— Да, я. А что?
— Ничего особенного… Рады познакомиться. Одевайтесь!
Икрам-ходжа быстро заморгал набрякшими веками и голосом невинного младенца заговорил:
— Зачем вы нарушаете покой старого человека? Зачем я вам понадобился? Моя душа уже разговаривает с аллахом. Я не живу, а тлею. Уже близок мой конец!
Капитан пристально всмотрелся в лоснящуюся физиономию Икрама и, не найдя в ней никаких намеков на близкий конец, сказал:
— Головешки обычно тлеют очень долго, а иногда дают и огонь. Быстро одевайтесь! — а лейтенанту приказал: — Начинайте обыск!
25
Поезд, четко пощелкивая на стыках рельсов, мчался по песчаной степи, окутанной предутренним сумраком.
Наруз Ахмед сидел на боковой скамье жесткого вагона, освещенного тусклой лампочкой. Глаза его были закрыты. Он не спал и не бодрствовал; в голове царила пустота. Все, что мог сделать смертный, — кажется, сделано. Воля Наруза Ахмеда, как изжившая свой век пружина, начала сдавать. Единственно, о чем он думал сейчас, это о том, как выбраться с этой ненавистной земли на ту сторону. Размышляя под перестук вагонных колес, он вспомнил о втором задании Керлинга, еще не выполненном, и ему стало не по себе. А что, если шеф не захочет выслать самолет и потребует завершения дела? Как тогда? Это равносильно смерти. Наруз Ахмед уже выбит из строя: не осталось сил действовать. Бежать, бежать отсюда!
Паровоз дал протяжный гудок.
Наруз Ахмед вздрогнул, приоткрыл веки и поймал на себе внимательный взгляд человека, сидевшего напротив.
Откуда он взялся, этот пассажир? Когда Наруз Ахмед садился, никого здесь не было. Как же он не заметил его появления?
Наруз сделал вид, что вновь задремал, но сквозь чуть приоткрытые щелочки век стал разглядывать нового пассажира. Молодой парень, видно, небольшой служащий. И почему он не спит?
Вагон качнуло на стрелках. Наруз Ахмед нервно открыл глаза и глянул в окно. Начинает светать. До Токанда еще далеко… Он поднял руки, чтобы провести ими по лицу, согнать усталость, и обмер: руки были в песке и глине. Да что руки! Измазаны были рукава пиджака, брюки на коленках, сапоги. Непростительный промах! Как он мог не заметить такого?
— Я вас где-то видел и не могу вспомнить где, — произнес вдруг человек, сидевший напротив. — Мне очень знакомо ваше лицо.
Этих слов было более чем достаточно, чтобы окончательно ввергнуть Наруза Ахмеда в панику.
Он через силу улыбнулся и с трудом выдавил из себя:
— Не знаю… Вы мне не кажетесь знакомым…
С этой минуты чувство страха заморозило его сердце и мозг. Чем дальше мчался поезд вперед, тем глубже овладевал им страх, все сильнее подчиняя себе каждую жилку, каждый нерв. Страх вызывал тошноту, гнусную слабость в ногах, путал мысли…
За окном пробежали станционные строения с чахлыми огнями. Поезд замедлил ход. Видимо, остановка. Опасаясь, что сосед снова начнет задавать ему скользкие вопросы, Наруз Ахмед сам обратился к нему:
— Вы не будете выходить?
— Нет, нет… — быстро ответил тот.
— Приглядите за моим рюкзаком, — попросил Наруз Ахмед, встал и пошел по вагону.
Поезд скрипнул тормозными колодками, дернулся, лязгнул буферами и встал.
Наруз Ахмед задержался в тамбуре, кое-как почистил пиджак, брюки и вышел на безлюдный перрон. Он спросил, как долго будет стоять поезд, и заспанный проводник ответил, что минут пять.
Наруз Ахмед вышел из вагона с умыслом: во-первых, он хотел проверить, не последует ли за ним подозрительный сосед, и, во-вторых, надо было размяться и согнать оцепенение. Он за ночь не сомкнул глаз и если, садясь в вагон, мечтал поспать, то после вопроса соседа уже боялся задремать хоть на минуту. Если за ним ведется слежка — надо быть начеку!
Наруз зашагал вдоль вагона, мельком взглянул на свое окно, и ему показалось, что за стеклом промелькнуло лицо попутчика. Именно промелькнуло, потому что, когда Наруз шел обратно, в окне уже никого не было. Но зато он заметил другое: возле ступенек соседнего вагона стоял молодой человек в брюках галифе и косоворотке навыпуск, перехваченной армейским поясом. Парень стоял, широко расставив ноги, дымил папиросой и в упор смотрел на Наруза Ахмеда. На правом боку парня из-под рубашки, кажется, что-то подозрительно топорщилось.
Наруз прошел до конца состава, повернул обратно, а парень все стоял и смотрел в его сторону.
Кондуктор дал свисток. Наруз Ахмед побежал к своему вагону, вскочил на ступеньки и, наклонившись, посмотрел вдоль состава: парень тоже стоял на ступеньках соседнего вагона.
Нарузу Ахмеду стало не по себе. Он вбежал в вагон и зашел в уборную. Мутное и волнистое зеркало, точно вода, подернутая рябью, отразило осунувшееся, с ввалившимися глазами лицо. Он умылся, вытерся носовым платком и вернулся на свое место. Сосед, привалившись в угол, спал. Наруз поглядел на него исподлобья и решил: "Притворяется…"
Поезд тронулся.
Миновали полустанок, разъезд. Наруз Ахмед по-прежнему сидел у окна и, казалось, наблюдал, как медленно свет еще невидимого солнца просветляет небо. Когда поезд подошел к какой-то захолустной станции, Наруз еще раз решил проверить, нет ли за ним слежки, а заодно и перекусить.
Он вышел на перрон. Молодой человек в косоворотке лениво потягивался у вагона и будто поджидал. Наруз быстро юркнул в здание низенького темного вокзала и прошел к буфету. Стоя у прилавка, он проглотил два черствых бутерброда, выпил бутылку какой-то рыжей мутной жидкости. Когда он уже расплачивался с заспанной и хмурой буфетчицей, к буфетной стойке подошел парень в косоворотке и потребовал винегрет.
Все ясно! Следят! И сосед по вагону, и этот, в косоворотке. Оба следят. Надо что-то предпринять. Нельзя тянуть за собой "хвост" в Токанд. Пусть даже все эти подозрения беспочвенны — все равно рисковать нельзя. Надо действовать быстро. Надо немедленно уходить от этих проклятых парней. Можно отстать от поезда. Если не сейчас, то на следующей остановке. Придется снова проскочить в буфет, сесть за стол, заказать себе что-либо, а поезд пусть уходит. Интересно, что они предпримут?
Способность к действию и злая решительность снова вернулись к Нарузу Ахмеду.
Расправив плечи, твердой походкой он вернулся в вагон.
Сосед спал, на этот раз, кажется, по-настоящему. Рот его был открыт, и храп был так безмятежен, что все подозрения отпали.
Наруз Ахмед уселся. Поезд дробно пересчитал выходные станционные стрелки и начал набирать скорость.
Разгоралось утро. За окном тянулась холмистая местность, поросшая саксаулом. Быстро мелькали телеграфные столбы. Провода то уходили вверх, то ныряли вниз.
Показалось небольшое овальное озерцо в зеленой камышовой оправе. Рядом пасся табун лошадей.
Горизонт удалялся, видимость ширилась. Вдали густой каймой обозначались тугаи, а за ними блеснуло зеркало реки. Вагон чуть клонился на крутых закруглениях, и тогда в окно можно было видеть паровоз.
Поезд шел под уклон. Промелькнул переезд с будкой и опущенным шлагбаумом. За шлагбаумом терпеливо стоял верблюд, на спине которого сидела женщина.
Наруз Ахмед закурил и стал соображать: оставить ли рюкзак в вагоне или захватить с собой? Лучше оставить. В нем нет ничего, что могло бы навести на след его или Икрама-ходжи.
Сосед, как и остальные пассажиры, продолжал сладко спать.
В окно блеснули лучи взошедшего солнца. Звонко загудел паровоз, будто приветствуя новый день.
Мелькнул семафор. Колеса вагона простучали на стрелках. Проплыл элеватор, ушли назад каменные пакгаузы с крупными надписями "За курение штраф". Осталась позади водокачка.
Побрякивая буферами, поезд затормозил. Станция! Подозрительный сосед даже не шелохнулся. Наруз спокойно, неторопливо направился к выходу.
Проводник предупредил его:
— Осторожнее! На первый путь принимают проходной…
Справа, отсекая станцию, действительно приближался поезд. Наруз Ахмед сошел на перрон и хотел было перескочить через первый путь, но не рискнул и решил переждать; товарный состав с крытыми вагонами проходил станцию без остановки. И тут Наруза Ахмеда осенила смелая мысль. Он посмотрел на задний вагон: парня в косоворотке не было. Наруз быстро пошел вперед, против хода товарного поезда, ища глазами первую тормозную площадку. Когда она показалась, он повернул обратно, побежал рядом с вагоном и, нацелившись, ловко вскочил на подножку площадки, ухватившись руками за поручни.
Станция осталась позади. Усевшись на верхнюю ступеньку площадки и свесив ноги вниз, Наруз посматривал на уже знакомую местность, которую он проезжал минут десять — пятнадцать назад.
Солнце карабкалось на небо все выше и выше, заливая необъятную степь розоватым светом. Паровозная труба извергала космы черного дыма. Он вился вдоль состава, стелился по земле и разрывался на лохматые куски.
Паровоз пыхтел и, задыхаясь на крутом закруглении, взбирался на подъем.
Но что за точка появилась сзади на путях, позади состава? Она, кажется, движется за поездом? Не иначе, ведь путь тут один. Точка приближалась, увеличивалась в размерах. Наруз пристально вгляделся и понял: поезд догоняла автодрезина. Да, открытая автодрезина. На ее лобовом стекле играли лучи солнца. Что же это такое? Почему здесь дрезина? Почему она мчится вслед за поездом?
Дрезина катилась быстро, расстояние между ней и поездом сокращалось и сокращалось. Теперь стало видно, что в дрезине три человека.
Холодок сжал горло Наруза Ахмеда. Неужели погоня? Он нервно подобрал ноги.
Поезд преодолел кривую, выровнялся, и дрезина исчезла из глаз.
Наруз шмыгнул на противоположную подножку, держась за поручни, далеко высунулся наружу, но и так дрезины не было видно. Он решил взобраться на крышу вагона, уже ухватился за фонарный кронштейн, но тут состав начал снова выгибаться на закруглении, и "разу показался его хвост. Лучше бы он не показывался… Дрезина! Она вплотную прилипла к заднему вагону состава. Теперь на ней был лишь один человек — моторист. Куда делись остальные два, гадать не приходилось: они стояли на тормозной площадке заднего вагона. Затем дрезина оторвалась. Просвет между ней и поездом увеличивался с каждой секундой все больше и больше.
Состав снова покатил по прямой и выровнялся. Промелькнул уже знакомый переезд со шлагбаумом. Показались тугаи и река.
Наруз Ахмед вышел из оцепенения. Он опустился на нижнюю подножку, ухватился за поручни и повис на вытянутых руках. Из этого положения ему удалось увидеть на крыше третьего от него вагона двух неизвестных, совершенно не похожих на тех проклятых парней.
Все ясно! Больше никаких иллюзий Наруз Ахмед не строил. Где-то он просчитался, и теперь надо выкручиваться — хитростью, ловкостью, силой. Пришла минута открытого боя!
Он посмотрел вниз. Быстро мелькали шпалы, поезд шел по высокой песчаной насыпи, все ускоряя ход.
Наруз вытащил из заднего кармана брюк пистолет, снял его с предохранителя и лег плашмя на пол тормозной площадки с таким расчетом, чтобы его не заметили сверху.
Впереди показалось озеро, опоясанное камышом. Около него все еще паслись лошади. В голове Наруза мелькнуло: надо сейчас же прыгнуть и скрыться в камышах! Но в это мгновение с крыши соседнего вагона раздался громкий голос:
— Встать, господин Наруз Ахмед, и поднять руки! Ваше путешествие кончено!
Наруз сжался в маленький комок. Страшным усилием воли, скрипнув зубами, он согнал свинцовую тяжесть, на секунду сковавшую все тело. Правая рука его молниеносно мелькнула, блеснув вороненой сталью, и один за другим раздались два выстрела. Им ответил заливистый гудок паровоза, все увеличивавшего скорость.
Наруз Ахмед понимал, что его выстрелы никого не поразили. Он и не рассчитывал на это, так как стрелял по невидимой цели, наобум. Его враги, видимо, залегли. Значит, он выиграл время. Пусть это время исчисляется секундами; теперь секунды решают все.
— Спокойнее! — крикнул тот же голос: — Берегите патроны!
Наруз Ахмед осторожно выглянул: никого не видно… Он приподнялся на четвереньки, быстро выпрямился и, оттолкнувшись от края площадки, прыгнул вперед на крутой, убегающий вниз откос.
На лету он услышал тот же голос:
— Вперед, Саттар! Не сорвись!
Упав на насыпь, Наруз Ахмед перекувыркнулся через голову и кубарем скатился вниз. Тут же он вскочил на ноги, оглянулся и, петляя, выплевывая набившийся в рот песок, устремился к озеру.
Предупрежденный окриком Шубникова, Халилов перемахнул на крышу соседнего вагона, соскользнул с него на площадку, на которой миг назад стоял Наруз, и, не задумываясь, тоже прыгнул. Через минуту за ним последовал и Шубников, хотя и не очень удачно. У него подвернулась левая нога.
Наруза Ахмеда и Халилова разделяли добрые две сотни метров. Шубников, заметно припадая на больную ногу, бежал позади.
Проклиная аллаха и день своего рождения, Наруз хватился, что обронил где-то пистолет, наверное на насыпи. Обогнув часть озера, он оглянулся: один преследователь быстро приближался, прижав к бокам локти, а второй отстал. Наруз побежал дальше. Пот заливал ему глаза, из груди хрипло вырывалось дыхание. Потеря оружия будто сразу отняла у него половину сил. Вытерев на ходу грязной рукой глаза, он глянул вперед, и сердце его возликовало: у самой воды, возле едва курящегося костра, на куске войлока спал белобородый старик, видимо табунщик. А рядом, низко опустив голову, дремала под седлом лошадь каурой масти.
Еще не все потеряно! Судьба протягивает руку!
Наруз Ахмед разбежался и с разгона, не касаясь повода и стремени, влетел в потертое, с изодранной подушкой седло. Конь вздрогнул от неожиданности, всхрапнул, вздыбил и шарахнулся в сторону, чуть не подмяв под себя спящего хозяина. Наруз сорвал с острой луки камчу, стегнул коня между ушами и послал его с места в карьер.
— Сто-о-ой! — протяжно прокричал Халилов и выстрелил в воздух.
Старик табунщик вскочил и спросонья заметался по берегу, дико озираясь.
Халилов бросился к нему. Грудь его тяжело вздымалась, губы запеклись. Он хотел что-то сказать старику, но забился в кашле.
Табунщик, недоумевая, уставился на Халилова черными бусинками своих узеньких глаз, потом повернулся в сторону ускакавшего. А тот, ускакав примерно на полкилометра, вдруг спешился.
— Смотри! — крикнул Халилов.
— Чего смотреть? Подпруги подтягивает, — сказал старик. — Правильно делает. — Он поднес к морщинистому, прокаленному солнцем лицу коричневые руки, сложил их рупором и зычно крикнул: — Э-э-эй! Зачем брал коня?
Наруз Ахмед вновь вскочил в седло и припустил пуще прежнего.
— Ата! — раздался голос Шубникова. Он еле ковылял, подтягивая левую ногу. — Догнать его надо. Это плохой человек, бандит…
— Бандит? — удивленно переспросил старик и внимательно посмотрел в степь. — Худой бандит. Не на того коня сел. А табак есть, начальники?
Шубников и Халилов переглянулись, и оба вытащили помятые пачки папирос. Старик взял одну папиросу, вгляделся в надпись на мундштуке и закурил. Затянулся, пыхнул дымком и опять сказал:
— Худой бандит. Совсем глупый. Не на того коня сел.
Шубников хотел было тоже закурить, вынул папиросу, но тут же смял ее и бросил. Он опустился на землю, снял ботинок, поморщился и стал растирать поврежденное сухожилие. Старик подошел к войлоку, на котором спал, вынул из-под него две уздечки и направился к пасшимся лошадям.
— Уйдет! — проговорил Халилов, нервно похрустывая пальцами.
— Так уж и уйдет, — насмешливо заметил Шубников, массируя ногу. — В степи трудно спрятаться, да еще днем. И машина наша вот-вот подкатит.
Табунщик уже шел обратно, ведя в поводу двух низкорослых, неказистых с виду лошадок: вороную и гнедую.
— Садись, начальник, — сказал он Халилову, подавая повод гнедой лошади. — Скакал в своей жизни?
— Приходилось, — усмехнулся Халилов, с недоверием посматривая на флегматичного конька.
Старик снова наклонился над войлоком, кряхтя достал из-под него тонкую волосяную веревку и пристроил ее себе на шею.
Халилов влез на неоседланного коня, и тот даже не шелохнулся.
— Одер! Кляча столетняя! — с тоской протянул подполковник, разбирая поводья.
Шубников рассмеялся:
— Ну, сейчас начнется призовая скачка. Жаль, подвернул ногу, а то бы я тоже включился.
Старик укоризненно покачал головой, неуклюже взобрался на своего вороного и сразу преобразился: стан его выпрямился, плечи развернулись, в глазах появился лукавый огонек.
— Крепко держись, начальник! — предупредил он Халилова. — Твой от моего не отстанет!
— Хоп! — сказал подполковник.
— Айда! — крикнул старик и ударил пятками в бока своего конька.
Вороной сорвался с места, точно ветер, а за ним рванулся и гнедой. Если бы Халилов вовремя не ухватился за гриву коня, то съехал бы ему на хвост.
"Вот так кляча!" — восхищенно подумал он.
Кони вытянулись струнами. Впереди мчался вороной. Халат старика пузырем надулся за спиной. Гнедой скакал сбоку вороного, на полкорпуса сзади.
Через несколько минут на дальнем краю степи показался силуэт всадника.
Старик гикнул, и кони стали как бы еще ниже.
В ушах свистел ветер.
Расстояние до всадника заметно сокращалось.
Вороной вырвался вперед, но гнедой тотчас же подхватил, свел на нет разницу и продолжал скакать, выдерживая дистанцию в полкорпуса.
Впереди уже отчетливо маячила спина Наруза Ахмеда. Он оглянулся и стал нахлестывать своего коня.
— Не на того сел! — крикнул старик. — Сто-о-й!
Наруз Ахмед скакал, выжимая из коня все, что мог.
Твердый как камень глиняный грунт незаметно сменился песчаным, но лошади почти не сбавили аллюра.
Наруз Ахмед держал путь к тугаям, к реке, надеясь найти там спасение. Но до реки было еще очень далеко. А расстояние между ним и преследователями все сокращалось. Сто метров… Пятьдесят… Тридцать… Двадцать…
Старик снял с шеи веревку, заправил петлю. Его вороной опять рванулся вперед, потом, послушный воле хозяина, метнулся в сторону. Старик взмахнул рукой и бросил аркан. Раздался свист, и Наруз Ахмед слетел с коня, точно его сдуло ветром.
Халилов промчался мимо, потом круто осадил и повернул гнедого. Старик уже спешился. Он стоял, уперев ладони в колени, над Нарузом Ахмедом. Тот лежал, распластавшись и широко раскинув руки.
Халилов спрыгнул с коня и от резкой боли едва удержался на ногах. Такая бешеная скачка без седла была для него непривычной.
Старик хлопнул его по плечу, рассмеялся и сказал:
— Молодца! Джигит!
Халилов покрутил головой, опустился на колени и взял руку Наруза Ахмеда, чтобы прощупать пульс.
— Жив!… Сердце стучит… Я уже слушал, — весело заметил табунщик. Глупый бандит! Шибко худой! Не на того коня сел. Табак есть, начальник?
Халилов уже по-другому посмотрел на изрезанное глубокими морщинами лицо старика, поднялся, пересилил боль в ногах и оказал:
— Закурим, ата! С удовольствием закурим, — и полез дрожащей от возбуждения рукой в карман.
26
Прошло девять дней.
В кабинете Шубникова за столом хозяина сидел следователь, а против него, рядышком, сам подполковник и Халиловы — Саттар и Анзират. Они отвечали на последние вопросы следователя.
Когда с этим было покончено, подполковник отпустил следователя и обратился к чете Халиловых:
— Ну вот… Теперь можно считать, что все кончено. Ты помнишь, Саттар, тот наш разговор, когда ты настаивал, что Наруза Ахмеда не следовало выпускать из города?
Халилов кивнул.
— Ты оказался прав, а я просчитался.
— То есть?
— Его можно было уже тогда арестовать, и нам с тобой не пришлось бы прыгать, как Нат-Пинкертонам, по крышам вагонов и устраивать скачки. И от того, что мы арестовали бы его в городе, а не в песках, после ряда рискованных приключений, ничего бы не изменилось. И тем не менее в своих рассуждениях и действиях, как ни странно, был прав. Дело вот в чем… О том, что на нашей земле появился непрошеный гость и что этим гостем является не кто иной, как Наруз Ахмед, мы узнали на вторые сутки после того, как был подбит самолет, нарушивший нашу границу.
Саттар и Анзират переглянулись.
— Мы это знали, — продолжал Шубников. — Я сразу почувствовал, что ради клинка и истории, с ним связанной, никакой идиот не станет рисковать боевым самолетом. Так оно и вышло. Вот слушайте, что показал Наруз Ахмед…
Раскрыв дело, Шубников стал читать:
"Господин Керлинг, знавший тайну клинка, сказал, что поможет мне перебраться в Узбекистан по воздуху и организует возвращение. Но он поставил передо мной ультиматум, непременное условие: выполнить три его задания. Первое — доставить Икраму-ходже Ашералиеву, с которым по неизвестным причинам прервалась связь, портативную радиопередаточную станцию; второе — отыскать и уничтожить живущего в Самарканде человека, оказавшегося предателем, и наконец третье — пробраться в город Чирчик, найти еще одного человека и передать ему спичечную коробку, назначение которой мне неизвестно.
Таким образом, мое появление в Узбекистане преследовало две цели. Я должен был выполнить мой личный план — отыскать клад, уничтожить семью Халиловых. Керлингу я должен был заплатить за это: выполнить его задания. Я успел сделать немного: вручил радиостанцию Икраму-ходже и нашел тайник. Об остальном я уже думать не мог. Неудача с кладом обескуражила меня: я решил бежать".
Шубников закрыл папку, отложил ее в сторону и продолжал свою мысль:
— Следовательно, в моих рассуждениях я стоял на верном пути. Не из-за клинка нарушил иностранный самолет нашу границу и выбросил парашютиста, а по иным, более веским и опасным для нас причинам. Одного я не мог предвидеть — того, что Наруз Ахмед откажется от выполнения заданий, бросит все и решит бежать. Зная психологию преступника, я, конечно, понимал, что он в первую очередь займется кладом, а потом уже всем остальным. На жадности к наживе, на страстном желании Наруза Ахмеда овладеть мистическим богатством построил свои расчеты и Керлинг, имя которого, кстати сказать, нам небезызвестно…
— Прости, Леонид Архипович, — перебил его Халилов. — У меня два вопроса.
— Давай.
— Ты сказал, что уже на вторые сутки узнал о появлении Наруза Ахмеда. Объясни, каким образом?
Шубников усмехнулся:
— Дорогой Саттар! Приходится повторять тебе прописные истины. Мы, чекисты, не боги. Без народа, без честных советских людей мы ничто, пустой звук. Так было, так будет, так произошло и в данном случае. Нашелся человек, который помог нам, который узнал "гостя". Басмаческие последыши вряд ли могут рассчитывать на короткую память народа. Этот человек был уверен, что мы сделаем все, чтобы найти Наруза Ахмеда и обезвредить его. Через самое короткое время я смогу назвать тебе и имя этого человека, тем более, что ты его знаешь лучше меня. А теперь не гадай. Вот так. Ты сказал, что у тебя два вопроса. Выкладывай второй.
— Да, да, обязательно, — оживился Халилов. — Я хочу спросить о квартирантке нашей — Людмиле Николаевне Алферовой.
— Я ожидал этот вопрос, — заметил Шубников. — Между прочим Алферова ее девичья фамилия. Сейчас она носит другую.
— Подумайте! — всплеснула руками Анзират. — Она оказалась умнее всех!
— Это что, комплимент по ее адресу? — улыбнулся Шубников.
— Да уж понимайте, как хотите, — смутилась Анзират. — Так хитро обвести вокруг пальца десяток людей, это надо уметь. Гасанов оказался щенком перед ней.
— Ты уверял меня, Леонид Архипович, — проговорил Халилов, — что ей не миновать этого дома. Неужели о ней ничего не известно?
— Это нетрудно проверить, — спокойно заметил подполковник, снял телефонную трубку, набрал номер и сказал: — Товарищ Сивко? Шубников говорит. Зайдите пожалуйста, ко мне.
На короткое время все умолкли.
В дверь постучали.
— Да, да, — разрешил Шубников.
В комнату в полной форме, с погонами на гимнастерке вошла Людмила Николаевна и, приложив руку к берету, доложила:
— Старший лейтенант Сивко явилась по вашему вызову.
Халилов и Анзират с изумлением смотрели на нее.
Шубников сердечно рассмеялся и спросил:
— Есть вопросы к Людмиле Николаевне?
Анзират сжала виски руками, Саттар усиленно потирал лоб.
Нет, вопросов не было.
ЭПИЛОГ
Над пустыней летит ветер. День и ночь свистит он в зарослях саксаула, в тугаях, завывает в урочище Кок-Ит. И все несет и несет мелкий, точно пыль, горячий песок. Там, где лежал камень, вырастает бархан, а где была лощинка, расстилается ровное место. Неутомимо, зло и сердито работает ветер. Под однотонным и скучным песчаным покровом исчезает след времени.
Вот уже скрылись последние тропы, проложенные караванами к семи иссякшим колодцам. Засыпаны глиняные площадки, окружающие их, не стал виден кусок рельса, торчавший стражем у таинственного клада. Развеян и сам холм, под которым скрывались долгие годы сокровища. Только побелевшие от солнца и дождя, вылизанные ветром человеческие черепа на песке смотрят пустыми глазницами в пространство. В них находят убежище прохладолюбивые змеи да таятся, поджидая ночи, фаланги.
Идет неторопливо время. Все дальше и дальше уходит в прошлое тайна урочища Кок-Ит, а вместе с ней и легенда о клинке эмира. В далеких бухарских кишлаках седобородые старцы еще помнят эту легенду и в звездные летние вечера за пиалой кок-чая рассказывают ее молодым… Рассказывают по-разному, но кончают все рассказчики одинаково: клад нашел узбек-пастух и отдал сокровища народу, чьим потом и чьими руками они были созданы.
Имя пастуха никто не называет: быть может, оно забыто, быть может, никто его и не знал. Но говорят, что жив этот пастух и сейчас.
Легенду эту услышал однажды русский человек, охотник. Он сидел у ночного костра, курил, слушал словоохотливых стариков, и едва заметная улыбка трогала его губы.
Когда рассказ был окончен, русский проговорил:
— Знаю я имя того человека, что нашел клад. Живет он в горном кишлаке Обисарым, звать его Бахрам. Только он не пастух, а садовник.
И русский поведал старикам историю Бахрама.
Было это давно, еще при эмире бухарском. Много золота, платины, серебра и драгоценных камней накопил эмир в своих сокровищницах. Крови людской он не жалел. Многих обездолил, ограбил и погубил, наполняя свои подземные кладовые богатствами. И собирал эмир не только золото. Любил он и редкое, дорогое оружие. У него были собраны клинки из дамасской стали, турецкой, персидской, индийской. А хорошего клинка из русского булата не было. Велел эмир своим прислужникам достать ему такой клинок хоть со дна морского.
Прихоть эмира — закон. С большим трудом, за огромную цену достали ему клинок, выкованный златоустовским мастером Иваном Бушуевым из знаменитого аносовского булата. Сам эмир испытывал его. Он разрубил им пополам десять разных клинков, а бушуевский даже не зазубрился!
Клинок с виду был прост, не было на нем никаких украшений, не было и ножен. По обычаям, прежде чем украсить эмирский клинок и вложить его в ножны, полагалось обагрить его человеческой кровью.
Эмир приказал — и за один час несколько кандальников, заключенных в зиндане, расстались со своими головами.
После этого клинок попал в руки искусного бухарского мастера, замечательного резчика Умара Максумова, и он разукрасил его. Первые ножны для клинка сделали в Турции, вторые — в дагестанском ауле Кубачи, знаменитом на весь Восток своими мастерами-оружейниками.
Несколько лет спустя приближенный эмира Ахмедбек, возвратившись из поездки в чужие страны, привез с собой семнадцатилетнюю девушку — польку Ядвигу. Он хотел ее сделать своей пятой женой, но Ядвигу увидел эмир. Красота девушки поразила Саида Алимхана. Желая угодить своему господину, Ахмедбек подарил ему девушку, а взамен получил из рук Саида Алимхана его драгоценный клинок из бушуевского булата.
Миновало еще несколько лет. Народ восстал против тиранов. Вокруг Бухары установилась советская власть. Вооруженные отряды рабочих и дехкан пошли на штурм эмирата.
Однажды темной тревожной ночью красавица Ядвига вызвала к себе Ахмедбека. Она показала ему большой кувшин, в рост пятилетнего ребенка, и сказала:
— Увези поскорее куда-нибудь подальше и понадежнее спрячь. Когда времена изменятся к лучшему, мы оба станем самыми богатыми людьми. Тут все самое ценное из того, что я получила от Саида Алимхана. Ты понял меня?
Ахмедбек поклонился.
— Исполнишь?
Ахмедбек поклонился вторично.
Той же ночью он, его телохранитель Бахрам и ближайший советник Ахун, захватив с собой пятерых джигитов, покинули Бухару и углубились в пески. Следующей ночью они достигли урочища Кок-Ит и недалеко от семи колодцев зарыли кувшин.
План тайника они нанесли на листок бумаги. Перед рассветом, когда уставшие джигиты спали, Ахмедбек и Ахун отрубили всем пятерым головы. Тела их бросили в колодцы, а головы сложили поверх ямы с зарытыми сокровищами и насыпали холм.
Ядвиге Ахмедбек сказал, что по дороге на него напали красные аскеры, порубили его джигитов и отобрали сокровища. Ядвига с горя этой же ночью повесилась.
Через три дня, накануне падения Бухары, Ахмедбек в сопровождении Бахрама явился к резчику Умару Максумову и приказал перенести план тайника с бумаги на клинок. Суеверный бек хорошо помнил слова своего отца. А тот говорил так: "Большую тайну, как и жизнь, можно доверить только крепкой стали, но не бумаге".
Однако получить клинок обратно бек не успел. Ему пришлось бежать из Бухары, скитаться по пескам, спасаясь от преследования красных частей, и, наконец, удрать за рубеж.
Клинок остался у Умара Максумова, но в тридцать первом году, когда несколько басмаческих шаек прорвались на советскую землю, им овладел сын Ахмедбека басмач Наруз Ахмед. Он привез его в кишлак Обисарым и, не зная тайны, оставил в своем доме. Бахрам, знавший о насечке, скопировал ее.
Басмачи были разгромлены наголову, Ахмедбек зарублен, а Бахрам сопровождал бековского сынка до самого рубежа. Но вторично на чужую землю уйти не захотел.
Худую жизнь вел раньше Бахрам, жизнь презренного шакала возле логова тигров. Ненавидели его люди и боялись. Был он послушной плетью в руках жестоких тиранов, их верным слугой и телохранителем. Как жалкий, голодный пес, жадно хватал он подачки с кровавого стола своих господ.
Но бывает так: совсем засох колодец, обходят его люди, кажется — ни капли живой воды не источить из него… Но копните поглубже, снимите твердую, слежавшуюся глину, пробейтесь — и заструится глубоко погребенная свежая струйка. Так и с душой иного человека… — Рассказчик умолк, задумался и поворошил костер кривой веткой саксаула. В ночную темь с треском полетели искры. Помолчав, рассказчик неторопливо продолжил: Скитался Бахрам с разбойничьими шайками басмачей по горам и пустыням, видел черные дела курбашей, пепел сожженных мирных кишлаков, кровь сотен простых людей, земляков, застреленных, зарубленных, замученных. Познал он горечь изгнания и тоску по родному дому. Как у многих обманутых рядовых басмачей, пошатнулась его вера в своих вожаков, отвернулось от них сердце. Прозрели его глаза, и увидел он, что, как молодой весенний сад, поднимается к новой жизни родной Узбекистан. Люди трудятся, строят, сеют, собирают урожай, богатеют, учатся, растят детей и внуков. Надоело Бахраму скитаться, прятаться, бояться. Плюнул он на своих курбаши, проклял их дело навеки и вернулся в родной дом.
Совесть мучила его. Пришел он к советской власти и все, что знал, честно рассказал. Искупив свою вину, он через два года поселился в далеком горном кишлаке Обисарым и стал работать. Вырастил он детей, внуков и множество фруктовых деревьев, И уважали люди, молодые и старые, седого, молчаливого Бахрама.
Началась война с гитлеровцами. Вспомнил Бахрам про сокровища, скрытые в урочище Кок-Ит, и однажды весной, когда кончились дожди и стало тепло, отправился к семи колодцам. Он разыскал тайник и вырыл кувшин. Долго смотрел он на это богатство, нажитое эмиром на крови народной. Вспомнилось ему, как умирали в зинданах тысячи и тысячи людей, как рубили головы непослушным, отрезали им языки, уши, выкалывали глаза… Вздохнул Бахрам и понес сокровища в город. Он отдал все до последнего колечка на строительство танков и самолетов.
Когда русский окончил рассказ, один из стариков спросил его:
— А велик ли был клад?
Русский задумался, бросил в костер пучок сухой верблюжьей колючки, от чего пламя вспыхнуло и осветило лица стариков, и оказал с улыбкой:
— Говорят, очень большой. Около трех миллионов на золотые деньги. Бриллианты, жемчуг, золотые изделия…
Старики молча покачали головами.
Ветер прошумел в зарослях. Далеко за барханами пролаял шакал. Ночь стояла холодная и звездная, какие бывают только в конце лета в азиатской пустыне.
Охотник встал, вскинул на плечо ружье, поблагодарил стариков за гостеприимство, прихватил убитых за день кекликов и собрался в путь.
Обычай пустыни не разрешает спрашивать имя ночного прохожего. Кто бы он ни был, дай ему место у огня, утоли его жажду горячим чаем, поделись с ним лепешкой! Старики, чтя обычаи предков, молчали, хотя им и очень хотелось узнать, что за человек поведал им историю таинственного клада. Но один из них, самый разговорчивый и самый седой, нарушил обычай и обратился к русскому охотнику:
— Пусть извинит нас гость за любопытство и назовет себя, чтобы знали мы имя хорошего человека.
Русский помялся в нерешительности, потом тихо сказал:
— Фамилия моя Шубников, Леонид Архипович Шубников.
Старик приложил руку к груди и промолвил:
— Рахмат… Пусть путь твой будет удачным, ака.
Темнота скрыла удалявшегося путника. Костер медленно догорал. Старики еще долго сидели, попыхивая трубками, и вели свою неторопливую, мирную беседу.
Следы на снегу
ВСТРЕЧА В КУПЕ
Была темная осенняя ночь.
Ветер шумел в тайге, срывая с берез пожелтевшие жухлые листья.
Лил холодный дождь. Лил надоедливо, долго насыщая землю влагой, разъедая дороги, заливая поймы, заполняя овраги, канавы, ямы. И казалось, не будет ему конца…
Рассекая ночную тьму, пробиваясь сквозь дождевую завесу, стремительно мчался курьерский поезд. Громадина паровоз, отфыркиваясь космами дыма и шипя паром, выкладывал перед собой яркую белую полосу. Побежденный ослепительным светом, тяжелый и липкий ночной мрак, казалось, с тем большей силой отыгрывался на вагонах, свет от окон которых был бледным и тусклым и исчезал быстро, как видение.
Промелькнули затянутые мглой станции Сиваки, Ушумун, Тыгда Уссурийской железной дороги. Приближалась станция Талдан. Перед мерцавшим зеленым глазком семафора паровоз издал резкий продолжительный гудок. Эхо подхватило звук, перекатило его по горным перевалам, переломило, занесло в таежные крепи и там схоронило.
В освещенном двухместном купе спального вагона, мягко покачивающегося из стороны в сторону и подрагивающего на стыках рельсов, стоял пассажир. Он был средних лет, высокого роста, сухопарый и рано полысевший.
Серыми, острыми и холодными, как осколки льда, глазами он то пристально всматривался в запотевшее оконное стекло, по которому кривыми струйками сбегал дождь, то поглядывал на ручные часы с светящимся циферблатом, то брал в руки лежащее на приоконном столике расписание поездов и быстро перелистывал книжку.
В его движениях не было ничего суетливого, но они выдавали большое внутреннее напряжение.
Когда поезд загромыхал на стрелках, пассажир пригладил рукой остатки редкой светлой шевелюры и, открыв дверь, вышел из купе. Зная из расписания, что очередной остановкой должна быть станция Талдан, он, чтобы исключить малейшую возможность ошибки, громко спросил проводника вагона, заправлявшего ручной фонарь:
– Какая сейчас станция?
– Талдан, – коротко и деловито ответил тот.
Пассажир выждал с минуту и вернулся в свое купе. Быстрым движением снял с себя пиджак и остался в шерстяном джемпере темно-синего цвета с вышитыми на нем двумя белыми оленями. Затем извлек из заднего кармана кожаный портсигар, вынул папиросу, зажег ее и, бегло осмотрев себя в дверное зеркало, опять покинул купе.
В пустом коридоре у крайнего окна в теплой пижаме стоял единственный пассажир. Он посмотрел полусонным взглядом, потянулся с кряхтеньем, громко зевнул и, зябко ежась, пошел к купе.
Поезд подходил к станции. За окнами замелькали огоньки. Видно было, как на перроне в дождевых лужах быстро образовывались и лопались пузыри.
Постепенно замедляя ход, поезд заскрипел тормозными колодками, вздрогнул несколько раз и остановился.
Делая вид, что разглядывает вокзал, освещенный бледными в дождевом тумане огнями, и снующих по перрону людей, пассажир в темно-синем джемпере выжидательно наблюдал за входными дверями вагона. Когда в них показался новый пассажир, человек в джемпере облегченно вздохнул.
В спальный вагон вошел пожилой, коренастый, крупноголовый и коротконогий мужчина с монгольскими чертами лица. На нем была куртка из меха нерпы, отороченная по борту узкой полоской черной кожи, с поднятым кожаным воротником, высокие, болотные, сильно поношенные сапоги. В руке он держал небольшой дорожный мешок, сшитый из камусов. Вид у него был усталый, по широкоскулому лицу сбегали капли дождя.
Остановившись в нескольких шагах от пассажира в джемпере, вошедший что-то буркнул себе под нос и, сняв с головы суконную кепку, отряхнул ее.
Потом он голосом с сипловатой хрипотой спросил:
– Где же тут можно пристроиться? А?
– Половина вагона пустая, можете занимать любое место, – с излишней поспешностью ответил пассажир в джемпере. – Пожалуйте ко мне. Я один. Можно умереть от скуки, – и свои слова он сопроводил гостеприимно приглашающим жестом.
– Однако сосед я плохой, – недовольным тоном заметил вошедший. Недалеко мне ехать… Совсем недалеко…
– Неважно, все равно вам где-то надо поместиться.
– Это да, верно…
– Проходите ко мне…
Дверь в купе закрылась.
Вскоре раздалось шипение тормозов. Затем ночной покой тихой, небольшой станции нарушили свисток главного и гудок паровоза. Состав дрогнул и плавно тронулся с места.
Новый пассажир, не торопясь, снял с себя мокрое кепи, куртку и повесил их на крючок. Примостившись на мягком диване, он поставил между ног свой дорожный мешок.
Помолчав немного, он вздохнул с шумом и лишь потом заговорил, путая русскую речь с якутской:
– Здравствуй, улахан тойон…* Добрался… Устал, однако, огонь в ногах. За билет дорого платить пришлось. Зачем так дорого? – и он медленно обвел глазами купе.
_______________
* У л а х а н т о й о н – большой хозяин.
– Здравствуйте, Шараборин, – сухо ответил человек в джемпере и подошел к двери. Он повернул ручку замка, накинул цепочку и, взглянув на часы, спросил: – До какой станции у вас билет?
Шараборин посмотрел ему в глаза и после небольшой паузы ответил:
– Большой Невер.
– Отлично. Как Оросутцев?
Шараборин неопределенно кивнул головой и ответил:
– Живет помалу… Хорошо живет… Разговор прислал, – и похлопал себя по голове, поросшей короткими жесткими рыжими волосами.
– Сколько времени шли? – поинтересовался человек в джемпере.
– А? – и Шараборин открыл рот.
– Шли… Шли сколько?
– А-а… Три месяца, однако. Да, три. Без малого три. Совсем трудно. Шибко трудно. Дороги нет. Мокро. Все пешком.
Человек в джемпере ничего не сказал, а, подойдя к окну, опустил и закрепил штору, затем, ткнув в пепельницу недокуренную папиросу, резко сказал:
– Приступим. Садитесь вот сюда, – он показал на место около приоконного столика и, открыв чемодан, начал в нем копаться, затем разложил на столике бритвенный прибор, налил из термоса в стакан горячей воды, окутал Шараборина по самую шею простыней, выдавил ему на голову из тюбика немного пасты и, намылив волосы, стал их сбривать наголо.
Шараборин сидел молча и неподвижно, как истукан, словно подчиняясь неизбежности. Он был занят собственными мыслями.
Человек в джемпере с брезгливой гримасой снимал с его головы жесткие, давно не видевшие воды и мыла, волосы и осторожно стряхивал их с бритвы на кусок газеты. Окончив бритье, он вынул из чемодана бинт, обильно смочил бесцветным составом из темного флакона и несколько раз тщательно протер бритую голову Шараборина.
Когда на коже начали явственно проступать ярко-фиолетовые буквы, человек в джемпере заставил Шараборина наклонить голову поближе к настольной лампе.
Он долго и внимательно всматривался в причудливый текст и, вооружившись автоматической ручкой, сделал какие-то пометки в своем маленьком блокноте.
– Так, так… – произнес он наконец. – Все ясно.
Шараборин сделал движение, будто хотел встать или изменить позу, но человек в джемпере положил руку на его плечо.
– Сидите, как сидели, – приказал он и вновь, уже другим составом, стал смывать текст на коже. И когда текст перестал быть виден, человек в джемпере, прижав одной рукой голову Шараборина, другой рукой стал писать на его голом черепе.
Он писал неторопливо, старательно выводя каждую букву. Из мелких убористых букв образовывались слова, фразы, строчки. Вначале они имели ярко-фиолетовый цвет, потом бледнели, как бы растворялись и исчезали.
Шараборин сидел с застывшим, окаменевшим лицом. Только уши его, большие, мясистые и оттопыренные, как-то странно шевелились.
– Все, – сказал человек в джемпере.
Шараборин сбросил с себя простыню, несколько раз осторожно провел большой шершавой ладонью по бритой голове и недовольно спросил:
– Опять обратно? – зрачки его глаз сузились.
– А вы думали? – бросил тот, укладывая в чемодан бритву, пасту, флаконы, кисточку.
– Я думал не так. Отдыхать надо. Опасно, однако. Ищут меня. Ты обещал в жилуху определить.
На лице человека в джемпере отразилось раздражение. Его тонкие губы поджались.
– Я знаю, что обещал. Еще рано говорить об этом.
– Зачем рано? Надо говорить. Мне своя шкура дорога. Словят меня в тайге. Как ни петляй – дорога одна. Много людей в тайге. Кончать пора, – и тяжелые глаза Шараборина, точно пауки, поползли по фигуре человека в джемпере, задержались на его левой руке, где на среднем пальце разноцветно играл в перстне дорогой камень.
Насупив редкие, колючие брови и сощурив глаза, человек в джемпере спросил:
– Сколько лет вам дали?
– Десять.
– Сколько отсидели?
– Однако, один год…
– Так вот, если будете ныть и пороть всякую чепуху, я могу помочь вам отсидеть оставшиеся по сроку девять лет.
Шараборин промолчал, застыв в неподвижности. Только руки его, большие, точно грабли, и неуклюжие, не находили себе места: они то потирали толстые колени, то мяли одна другую, то появлялись на кончике стола.
– Когда сможете добраться до Оросутцева?
Шараборин почесал голый затылок. Обратное путешествие ему не только не улыбалось, не только не устраивало его и шло вразрез со всеми его планами, оно пугало и страшило его. Как долго еще будет зависеть его жизнь от воли и желаний Оросутцева и этого облысевшего господина, известного ему под кличкой "Гарри"? Когда же настанет конец его хождениям по негостеприимной, нелюдимой тайге? Когда он, наконец, обретет покой, отыщет темную щелку, упрячется в нее и заживет, как живут другие, тихо, мирно, не думая с тревогой о завтрашнем дне, не опасаясь со дня на день и с часу на час попасть в руки органов правосудия? Почему Гарри и Оросутцев не жалеют и обманывают его? Обещают, но ничего не делают? Где и как без их помощи отыскать эту темную щелку?
– Сейчас десятое сентября, – подсказал Гарри, полагавший, что Шараборин мысленно производит какие-то подсчеты.
Желваки на лице Шараборина задвигались. Он вздохнул и уныло произнес:
– Зимней дороги надо ждать. Худо теперь. Совсем худо. Пеши худо, на коне худо, лодки нет. Опять дождь.
– Ждать нельзя, – отрезал Гарри.
Шараборин покачал головой.
– Так когда же? – настаивал Гарри.
Шараборин выдержал длительную паузу, посмотрел на Гарри немигающими глазами и неуверенно, как человек, не имеющий собственной воли, произнес:
– Видать, в декабре.
– Не позднее?
– Видать, так…
– Это меня устроит. – Гарри вынул из висящего на крючке пиджака толстую пачку сторублевок и бросил ее Шараборину.
Тот быстро схватил деньги задрожавшими вдруг руками и принялся пересчитывать их, обильно слюнявя пальцы. Он пересчитал раз, другой и лишь потом сунул пачку в карман своих брюк. Чтобы убедиться в том, что деньги попали именно туда, куда следует, он похлопал рукой по карману, и подобие улыбки искривило его толстые губы.
– Хватит? – спросил Гарри.
Шараборин кивнул несколько раз головой. Про себя он уже прикидывал, куда и как надо пристроить полученное вознаграждение и какую сумму составят все его сбережения.
– У вас теперь много денег, – заметил с усмешкой Гарри, как бы разгадав его мысли. – Вы стали богатым человеком, а со временем будете еще богаче. Сможете жить там, где захотите.
Шараборин изменился в лице. Его раскосые глаза стали еле-еле видны из узких щелей.
– Трудные деньги… Тяжелые деньги, – пробурчал он.
Гарри полез в чемодан, вынул оттуда несколько учебников для начальных классов, завернул их и подал Шараборину.
– Спрячьте, пригодятся.
Затем дал небольшую, в плотной обложке синюю книжечку.
– Это диплом об окончании вами учительского института. Будете учителем. Учителей здесь любят. Дадут и ночлег, и транспорт. И паспорт сможете получить, имея диплом. Ну, вот и все, кажется. А теперь собирайтесь, скоро Большой Невер.
Шараборин положил диплом в карман. Учебники спрятал в дорожный мешок.
– Правильный ли диплом-то? – спросил он.
Гарри скривил в усмешке губы.
– Правильный, не сомневайтесь. Укладывайте все и одевайтесь…
На станции Большой Невер Шараборин покинул спальный вагон.
Гарри вышел в туалет, отряхнул простыню, выбросил там газету с волосами, затем, брезгливо морщась, тщательно вымыл руки и протер их одеколоном.
За окном по-прежнему лил дождь.
ТААС БАС
Скованная морозом, погруженная в ночное безмолвие, долгим зимним сном спала тайга. От нее веяло суровой строгостью и безмерным спокойствием. Она напоминала огромный сказочный таинственный мир. Белокорые березы касались земли своими тонкими струйчатыми ветвями. Обнявшись мохнатыми лапами, теснились молодые, с игольчатыми верхушками ели, а над ними высились могучие и гордые медноствольные сосны.
Высокое черное небо, затканное мириадами дрожащих звезд, походило на опрокинутую чашу. От поздней луны, источавшей бледный свет, ложились причудливые тени.
Местами этот свет едва-едва пробивался сквозь сложные сплетения заиндевевших ветвей.
Тишину лишь изредка нарушали потрескивание коры на деревьях да вызывающие дрожь крики голодной совы.
Но вот в таежную тишину вошел новый звук. Звук, сначала едва уловимый, далекий, невнятный, а потом все более отчетливый, скрипящий. Скользили лыжи по снегу.
Это шел Шараборин.
Он долго, очень долго пробирался непроходимой чащей, петлял, обходил стойбища охотников и жилые места, вновь залезал в самую глухомань и вот, наконец, дошел до места, когда тайга раздвинулась, расступилась и открыла перед ним небольшую поляну.
Шараборин устал, измотался. Последний километр пути был особенно труден и отобрал у него остаток сил. Каждый новый шаг, каждое движение уставших рук, каждый глоток морозного воздуха давались Шараборину все с большим трудом, причиняли все новые и новые страдания.
И вот, наконец…
Выйдя на поляну, Шараборин остановился, вслушался. Тишина. Вгляделся и не сразу заметил, как сквозь молочно-белую морозную дымку, висевшую над поляной, выступила срубленная из вековых бревен глухая одинокая избенка. Из трубы ее, полузанесенной снегом, тонкой струйкой вился дымок, выпрыгивали и плясали в воздухе, точно светлячки, частые искорки.
Из маленького квадратного оконца, затянутого голубоватой мутью, робко высвечивал слабенький, желтоватый огонек.
Шараборин не двигался с места. От голода и холода, от усталости и чрезмерного нервного напряжения его начало знобить. Он хорошо знал якутскую тайгу, исхоженную им вдоль и поперек, ее реки и их притоки, редкие селения и одинокие станки и сейчас призывал на помощь свою память, которая должна была подсказать ему, кому принадлежит эта манящая к себе избенка, где, конечно, есть и тепло, и мясо, и крепкий чай. Он ясно понимал, что никто не должен его видеть, знал, что ему следует опасаться не только человека, но даже звезд и луны, свет которых может его выдать, поможет навести людей на след. Он долго стоял, но вспомнить, чья это изба, не мог.
В Шараборине происходила жестокая внутренняя борьба. Он был не в силах противостоять соблазну. Веселый дымок и приветливый огонек манили к себе, притягивали. Но он колебался, проклиная себя за робость, нерешительность, малодушие. В нем уже поднималась злоба к этой сгорбленной, с выпученными внизу углами жалкой избенке, прижавшейся к стене леса, придавленной толстым слоем снега. Он уже ненавидел самого себя, свое уставшее, ноющее в суставах тело, натруженные и непослушные ноги, руки, огрубевшие, прихваченные морозом, пустой желудок, надоедливо и мучительно требующий пищи.
"Однако, пойду, отдохну малость… – решил Шараборин, пересилив голос благоразумия. – И чего боюсь? Совсем как женщина. В доме, видать, кто-то один живет. Но кто же, кто?"
Шараборин сделал шаг вперед, замер на месте и насторожился: до его слуха донесся подозрительный звук. Притаенно молчала тайга, но там, у избенки, в тени деревьев повизгивала безголосая, неуловимая глазом, северная собака.
Дверь в избе отворилась, очертив рамку света. В рамке показалась человеческая фигура, и раздался голос, заставивший вздрогнуть Шараборина:
– Эй, Таас Бас! Зачем воешь? Иди сюда…
Что-то большое и мохнатое юркнуло в дверь, и она захлопнулась.
Страх кольнул в самое сердце Шараборина. У него захватило дух.
– Таас Бас… Таас Бас… – шептал он замерзшими губами. – Так вот кто живет в избе… Однако, я чуть не попался, пропал бы, совсем пропал и задаром…
Одичалым взглядом он обвел поляну, попятился назад, собрался весь, сжался в комок и сильным броском перенес свое тело в сторону от дороги.
Превозмогая усталость, Шараборин пошел в обход поляны, по цельному снегу, отмечая путь четкими следами лыж. Ноги теперь будто сами несли его.
*
* *
Хозяин избы член колхоза "Рассвет", старый, известный в округе охотник якут Быканыров проснулся чуть свет. Открыв глаза, он охнул и сейчас же закрыл их.
Только что во сне он видел себя на охоте. В сетке, поставленной им у дупла неохватной лиственницы, бился гибкий и верткий горностай, и вдруг, как назло, пропал сон, пропал и горностай.
Старик лежал еще некоторое время неподвижно, боясь шелохнуться, плотно сомкнув веки, надеясь, что приятный сон вернется к нему, но надежды его оказались тщетны. Сон минул.
"Хороший сон… Хороший горностай… – посетовал старик и открыл глаза. – А что же я лежу? Кто будет за меня разводить камелек? Кто пойдет проверять капканы? Кто покормит Таас Баса?"
Старик перевернулся с боку на бок, приподнял голову и увидел, что стрелка на "ходиках", висящих на стене, приближается к цифре десять.
– Ай-яй-яй! – как бы осуждая свое поведение, сказал Быканыров, поцокал языком, но продолжал лежать. Его глаза забегали по комнате, остановились на потухшем за ночь камельке, скользнули по шкуркам белок, лисиц, горностаев, сушившимся на распялках, пробежали по стеллажу с аккуратно разложенными на нем охотничьими припасами, заглянули в темный угол избы, где в небольшом бочонке хранилось засоленное впрок мясо сохатого, и остановились на бескурковке центрального боя с натертым до блеска прикладом.
Ружье всегда вызывало светлые воспоминания у старика. Он и сейчас подумал о своем далеком и верном друге, который подарил ему это ружье.
– Однако, пора вставать… Совсем ленивый стал, – произнес вслух Быканыров. Он нерешительным движением сбросил с себя большую оленью доху, сел на деревянной койке, застланной пушистой медвежьей шкурой, и свесил босые ноги.
– У-у… как холодно, – заметил он, поежившись, и начал быстро обуваться.
Полчаса спустя уже ярко пылал камелек, и озаренная его светом комната преобразилась и стала уютной.
Быканыров набил махоркой глиняную трубку и распалил ее угольком от камелька. Потом надел через голову короткую дошку из мягкого пыжика и перетянул ее ремнем.
За дверьми послышалось повизгивание собаки.
– Сейчас, Таас Бас, сейчас иду… – подал голос Быканыров и, сняв с колышка на стене коробку из березовой коры, сгреб в нее со стола остатки еды.
Утро стояло морозное, ясное. Чистый воздух, густо настоенный на горьковатых запахах хвои, щекотал в носу, в горле. Лучи восходящего солнца, с трудом пробиваясь сквозь верхушки сосен и елей, золотили поляну. Где-то совсем близко перекликались рябчики.
Пес, восторженно взвизгнув, радостно бросился к хозяину. Он забегал вокруг него, начал подпрыгивать, пытаясь лизнуть в лицо, потом отбежал в сторону, припал на передние лапы, зарывшись мордой в снег, и, наконец, набегавшись вдоволь, улегся у ног Быканырова, уставившись на него преданными глазами.
– Таас Бас… Таас Бас… – дружелюбно заговорил старик. – Ой-ей, есть хочет пес! Ну на, ешь вперед хозяина, – и он опрокинул коробку.
Пес накинулся на еду, помахивая пушистым хвостом.
Таас Бас был необычно велик ростом и походил на волка не только сильно развитой грудью, но и пышной шерстью желто-серой окраски, и черной полосой на спине, и крутым темно-дымчатым загривком. Это был верный друг, чуткий охотник, опытный, неутомимый следопыт, смелый, выносливый пес, не боящийся никаких невзгод и морозов, родившийся и выросший в тайге.
Пока он с хрустом кромсал мощными челюстями мясные кости, Быканыров, попыхивая трубкой, осматривал широкие и недлинные лыжи, подбитые жестким, коротко остриженным камусом.
– Ну ешь, ешь… – сказал Быканыров и направился обратно в избу. Сейчас пойдем с тобой косачей добывать. И завтрак, и обед будет у нас. Нам много не надо: одного-двух подстрелим, и хватит.
Войдя в избу, старик подбросил несколько поленьев в камелек, чтобы он не прогорел до его возвращения. Потом взял с полки патронташ и проверил каждый патрон. Сняв со стены бескурковое ружье центрального боя, он долго разглядывал, будто видел впервые, и, любовно погладив приклад, закинул за плечо.
Быканыров был очень удивлен, когда, закрыв за собой дверь, не увидел Таас Баса. Никогда этого не бывало. Всегда пес ждал его и следовал за ним неотступно.
Старик огляделся и увидел пса у конца поляны, у излома наезженной дороги. Таас Бас, фыркая и энергично встряхивая головой, что-то обнюхивал.
Старый охотник, встав на лыжи, подошел к собаке и увидел уходящий круто в сторону от дороги совсем еще свежий лыжный след.
Быканыров выбил остатки табака из потухшей трубки и, всмотревшись в след, покачал головой.
– Однако, Таас Бас, кто-то не захотел зайти к нам этой ночью, обратился он к собаке. – Совсем близко прошел и ушел. Не захотел воспользоваться нашим гостеприимством. Что же это был за человек? Почему он не зашел к нам? Куда он пошел? – продолжал он по старой привычке разговаривать с собакой.
Таас Бас, стоя в снегу по самое брюхо, поводил ушами и, тихонько повизгивая, всем своим видом как бы призывал хозяина заняться обследованием обнаруженного следа.
След заинтересовал и Быканырова. Перебравшись на свежую лыжню, он средним шагом пошел по ней, внимательно всматриваясь вперед. Таас Бас прыгал по цельному снегу, выдерживая между собой и хозяином небольшую дистанцию.
Зоркий, опытный глаз старого таежного охотника сразу подметил и определил многое: лыжню проложил таежный человек, и скорее всего якут. Шел он на северных коротких и широких, как у Быканырова, лыжах и без помощи палок. Походка у него тяжелая и необычная, немного припадает на левую ногу. Он очень устал, так как сделал четыре остановки, несколько раз прислонялся к стволу дерева, а один раз даже опустился на снег, для того, видно, чтобы передохнуть.
Пройдя километра полтора и обнаружив, что лыжный след полукругом обегает поляну, где стоит его изба. Быканыров без труда понял, что неизвестный сделал крюк умышленно.
На втором километре старик увидел Таас Баса. Тот лежал на хорошо утоптанном месте и, высунув розовый язык, тяжело дышал.
Быканыров приблизился и также без труда определил, что неизвестный именно здесь делал привал и, возможно, спал. Он не разводил огня, но вмятые в снег ветви ели говорили о том, что на них лежал человек.
А дальше от привала в тайгу опять шел все тот же, еще более свежий след лыж.
На месте привала неизвестного Быканыров присел на корточки, вынул из кармана трубку, набил ее табаком, закурил. Взгляд его стал озабоченным, встревоженным. В голове безотчетно зароились беспокойные мысли. Что вынудило человека скрываться? Почему он, уставший, пренебрег теплом, отдыхом и предпочел спать на голом снегу, на холоде?
"И, видно, желудок у него был пуст, коль нет никаких следов еды", подумал Быканыров и, оторвавшись от раздумий, опять обратился к своему спутнику Таас Басу:
– Зачем он спал здесь? Почему не пришел к нам? У нас хорошо, тепло… Как ты думаешь?
Пес встал и завилял хвостом. Он склонял голову то в одну, то в другую сторону и заглядывал в глаза хозяину.
– Мы должны знать, что за человек был здесь, – продолжал Быканыров. Однако, неспроста он обошел нашу избу. Однако, не спроста он испугался нас. В тайге так не бывает. В тайге человек человеку тогор*. Видать, это худой человек. И в голове у него что-то худое. Пойдем обратно домой. Захватим припасов и пойдем по следу…
_______________
* Т о г о р – друг.
Быканыров приподнялся и посмотрел на небо.
Таас Бас, как бы поняв его мысли, взвизгнул и бросился по лыжне к дому.
Верный и преданный друг старого охотника Таас Бас был участником многочисленных и опасных приключений за несколько лет своей жизни в тайге. Однажды на охоте, когда смертельно раненный медведь бросился на Быканырова и уже готов был подмять его под себя, собака, защищая хозяина, самоотверженно бросилась на зверя и с яростью вцепилась ему в горло. Медведь дважды огромной когтистой лапой ударил собаку по голове, но та не только устояла, но и выжила, сохранив на лбу глубокие рубцы. С тех пор за ней прочно закрепилась кличка Таас Бас, что означает по-якутски Каменная голова.
НОЧНОЕ СВИДАНИЕ
Шараборин был уже недалеко от цели, когда его настиг обильный снегопад. В полном безветрии снег падал ровно, тихо, большими мягкими хлопьями и ровным слоем ложился на уже белую, покрытую первым снегом землю.
Снегопад и радовал и пугал Шараборина. Радовал потому, что снег заметал его следы, а свои следы, как всякому злоумышленнику, ему хотелось скрыть. Пугал потому, что снег сильно затруднял и замедлял движение. К тому же, как ни экономил Шараборин, но еще вчера иссякли ничтожные остатки провизии, и сейчас он испытывал знакомые ему муки голода. Оставалась в запасе лишь начатая фляга спирта, но она ничего не значила без еды. Правда, у Шараборина были деньги. Много денег. Последний и довольно большой куш он недавно получил от Гарри. Часть денег Шараборин хранил в своем таежном тайнике, куда, кроме него, не ступала ни одна человеческая нога, а часть держал на всякий случай при себе. Но что такое деньги в тайге для такого человека, как Шараборин? Ненужные бумажки, лишний груз, лишнее беспокойство. В любом наслежном совете, в фактории Якутпушнины, в приисковом поселке Шараборина спросят, кто он и куда держит путь. А если и не спросят, то опознают в нем старого знакомого, и тогда… Нет, тайга плохое дело. Здесь нет ресторанов, буфетов, ларьков и магазинов с заманчивыми вывесками, которых так много на железнодорожных станциях, где можно купить все, что душе угодно, и где никто не спросит тебя, кто ты такой, откуда, где взял деньги. Плохо в тайге. И хоть велика она, не окинешь глазом, а каждый человек в ней на виду и на счету, да еще такой человек, как он.
Шараборин боялся наткнуться невзначай на жилье, на стойбище охотников, на людей. Он боялся показать себя и воздавал хвалу небу, что, переборов себя, не заглянул в избу старого охотника – хозяина Таас Баса.
И вообще, чем меньше он будет попадаться на глаза людям, тем лучше.
Пока все шло удачно, но надо, чтобы удача сопровождала его и далее.
Может быть, это его последняя ходка к Оросутцеву? А потом он станет свободен и не будет чувствовать над собой хозяина? Деньги, хотя и нажитые нечестным путем, ничем не отличаются от тех, что добыты горбом и мозолями. Деньги остаются деньгами. А денег у Шараборина достаточно, чтобы, не заглядывая в завтрашний день, прожить, ни в чем себе не отказывая, добрый десяток лет. Да и как знать, возможно, что эти деньги принесут новые деньги!..
Чувствуя дрожь во всем теле от голода и холода, безмерно уставший, измученный долгим путем и озлобленный, Шараборин к исходу дня достиг, наконец, цели.
Снег перестал идти. Прояснилось, похолодало. Над горизонтом висело заходящее густо-красное негреющее солнце.
Сквозь поредевшую тайгу Шараборин увидел небольшой рудничный поселок. Шараборин хорошо знал это место: он его покинул полгода назад, когда отправился на свидание к Гарри. А сейчас Шараборин не мог внутренне не подивиться; как это успел так увеличиться этот маленький, затерявшийся в тайге, глухой поселок? Что движет его рост? Что за люди живут в нем и заставляют его разрастаться? Шараборин заметил две совершенно новые улочки, аккуратные и крепкие, точно кедровые орешки, домики, рубленные из свежей сосны, с весело улыбающимися окнами. И, конечно, в этих новых домах, как и в старых, в тех, что он видел полгода назад, живут беспокойные люди, потому что из труб домов вьются тоненькие и совсем лиловые в лучах заходящего солнца дымки.
Шараборин услышал человеческие голоса, от которых за время скитания по безлюдью, глухомани, по таежным крепям уже отвыкло его ухо. И эти голоса не радовали, а тревожили напряженные и измотанные нервы, озлобляли и без того недоброе сердце Шараборина.
Он остановился, оперся о ствол сосны, сощурил свои узко прорезанные глаза и закусил толстую, мясистую губу. Он тяжело переводил дыхание и слышал, как учащенно стучит его сердце.
Между тем быстро наступали сумерки. Солнце уже скрылось в тайге.
Шараборин чувствовал, что теряет остатки сил и воли, но ум его работал. Он понимал, что сейчас, в данный момент, вход в рудничный поселок ему закрыт. Закрыт до той поры, пока на тайгу окончательно не падет ночь, пока сон не смежит глаза жителей поселка.
Неощутимые токи морозного воздуха донесли вдруг до Шараборина сильный раздражающий запах. На него дохнуло чем-то сытным, вкусным, приятным. Дохнуло так сильно, что запершило в горле, защекотало в ноздрях, засосало внутри, свело скулы. Шараборин глотнул воздух, и болезненная гримаса изуродовала его лицо.
Он молил судьбу и небо об одном, о том, чтобы поскорее попасть в теплый дом, хоть что-нибудь съесть и поскорее избавиться от этого нудного, сверлящего чувства голода.
Сумерки сгущались, но наметанный глаз Шараборина легко подметил, как из домика с одним оконцем, стоявшего на отшибе, вышел высокий мужчина и направился вглубь поселка. Около рудничной конторы он встретился с другим мужчиной, поменьше его ростом, который, судя по его неторопливой походке, скорее прогуливался, чем шел с какой-нибудь определенной целью.
Двое мужчин несколько секунд постояли на месте, а потом медленно пошли рядом, о чем-то разговаривая, и скоро скрылись с глаз Шараборина.
Сколько времени прошло с этого момента, – он не помнит. Ему показалось, что прошла целая вечность. Но вот к однооконному домику, стоявшему на отшибе, быстрыми шагами стал приближаться высокий мужчина. Несмотря на темноту, Шараборин видел, как этот высокий человек, подойдя к дому, остановился, помедлил, пошарил в карманах и достал, видимо, ключ, так как после этого послышался звук, похожий на тот, который приизводит ключ, вставленный в замочную скважину.
Дверь открылась и закрылась, и вскоре через оконце пролился неуверенный свет. С этой минуты Шараборин не сводил глаз с домика, где его ожидало спасительное тепло, и Шараборину казалось, что он больше ощущал, чем видел однооконный рубленый домик, сливающийся с темнотой. Но Шараборин ожидал. Время идти еще не настало. Полузамерзший, он продолжал стоять около сосны, прислушиваясь и вглядываясь вперед.
*
* *
Когда настала полночь и в поселке погасли огни, Шараборин медленно, все время озираясь, подполз к домику, рванул дверь на себя и, переступив порог, вошел внутрь.
Человек, сидевший на табурете возле жарко пылавшей железной печи, спиной к двери, резко обернулся и встал. Он был значительно выше Шараборина и головой едва не задевал горевшую в полнакала, под самым потолком засиженную мухами и запыленную лампочку. На нем была застиранная байковая рубаха, стеганые ватные брюки, торбаза из камуса, достигавшие бедер и поддерживаемые тоненькими ремешками, закрепленными за поясной ремень, на котором висел длинный якутский охотничий нож.
Хозяин, нахмурившись и немного наклонив голову, посмотрел на вошедшего, окутанного клубами холодного воздуха, и не сразу узнал его. И лишь когда холодный воздух растворился, и Шараборин, как медведь, встряхнулся всем корпусом, хозяин дома, скорее угрюмо, чем приветливо, проговорил низким, неприятно отрывистым голосом:
– Тогор Шараборин! Капсе*.
– Сох капсе**. Дорообо***, Василь… – устало ответил Шараборин.
_______________
* К а п с е – говори, рассказывай. Часто употребляется якутами
вместо приветствия.
** С о х к а п с е – нечего рассказывать.
*** Д о р о о б о – здравствуй.
– Где тебя столько времени нелегкая носила?
Шараборин шумно вздохнул, будто сбросил с себя непосильную ношу, и, скинув доху, опустился на койку.
– Есть хочу… Есть… Дай, а то подохну…
Хозяин молчал.
Шараборин на мгновение замер, тупо уставившись на свои ноги.
– Покорми, – вновь, раздраженно заговорил он. – Пропадаю. Арыгы бар*?
_______________
* А р ы г ы б а р? – Водка есть?
– А деньги есть? – в свою очередь спросил хозяин и усмехнулся.
– Если есть, тогда и спирт будет.
Шараборин нехотя полез в карман. Он точно знал, что не имеет мелких денег, и, скрепя сердце, вынул и отдал сторублевку.
– Ну вот, сейчас и выпьем. И под хорошую закуску, – сказал хозяин, натягивая на себя ватную стеганую фуфайку. – Садись ближе к печи и обогрейся. Продрог, видно. Садись, я быстро вернусь.
Дверь открылась и вновь закрылась. Опять заклубился холодный воздух, но горячее дыхание раскаленной печи сразу съело его.
Шараборин пересел с койки на табурет возле самой печи. От усталости, от охватившего его тепла и спертого воздуха от сырой невыделанной кожи и пересушенных валенок его начало размаривать. Он сразу опал, как перестоявшееся тесто, и тупым взглядом обвел комнату. Ее убранством служили кривоногий сосновый стол, два табурета, железная, видавшая виды кровать, заправленная меховым одеялом, и полка для посуды и еды, завешанная пожелтевшей от времени газетой. В углах большой слабо освещенной, с черными, закопченными стенами комнаты таились сумрачные тени.
Взгляд Шараборина остановился на узком окне, затянутом толстым слоем льда. "Видно через него снаружи или не видно? – подумал Шараборин. Ему хотелось, чтобы он и сейчас, здесь в избе, был не видим никем. – Нет, не видать, шибко толстый лед…"
Шараборин с трудом осознавал, что сидит в избе, под надежной крышей, у горящей печи, а там, за этим вот окном, затянутым льдом, – лютый холод. Под влиянием тепла и усталости в его затуманенной голове возникали разные картины.
Ему чудилось, что он еще бредет по тайге, продираясь сквозь чащобу, путаясь лыжами в заметенном снегом буреломе и валежнике, падает. Тогда он вскакивал с табурета с приглушенным криком и недоуменно водил вокруг глазами…
Хозяин вернулся в дом через полчаса. Он вынул из-за пазухи литровую бутылку водки, уже прихваченную у самого горлышка морозом, и поставил ее со стуком на стол, снял с себя ватник и бросил его на койку.
– Вот сейчас и погреемся, – проговорил Василий, потирая руки и заглядывая под газету на полке.
– Пора, пора… – глухо отозвался Шараборин. Он томительно выжидал, когда хозяин выставит на стол что-нибудь из еды.
Тот снял с полки и поставил на стол большую эмалированную миску со студнем, кусок холодного вареного мяса, несколько пшеничных лепешек, донышко от разбитой бутылки, наполненное крупнозернистой солью.
– Садись, непутевый, – с усмешкой пригласил хозяин гостя к столу и, взяв литровку в руки, ловким и несильным ударом выбил из нее пробку.
Шараборин, сделав над собой усилие, поднялся и, чувствуя, как дрожат ноги, придвинул табурет и сел.
Хозяин наполнил две жестяные кружки водкой. Своим большим охотничьим ножом разрезал на четыре равные части покрытый корочкой застывшего жира студень и разломил на куски лепешки.
– Пей! – подал команду Василий так резко, что Шараборин даже вздрогнул.
Он трясущейся рукой взял кружку, быстро поднес ее ко рту и залпом выпил всю водку.
– Ну как? – поинтересовался, усмехаясь, Василий, зажав в руке свою кружку.
– Учугайда*… – ответил Шараборин и жадно набросился на еду. В мгновение ока проглотил два куска студня, даже не прожевав их как следует, затем, круто посолив мясо, принялся за него. И лишь утолив первый голод, более спокойно произнес:
– Однако, шибко трудно было. Долго шел к тебе. Почти сто дней шел. Будь она проклята, эта дорога.
_______________
* У ч у г а й д а – хорошо.
Василий неторопливо, маленькими глотками отхлебывал из кружки водку, причмокивал языком и как бы в знак согласия со словами гостя кивал головой.
– Когда же ты видел Гарри? – спросил он, опорожнив бутылку.
Шараборин проглотил кусок мяса и, принимаясь за новый, ответил:
– В сентябре.
– С документами пришел или опять нелегалом?
– Гарри дал диплом. Теперь я учитель. А все одно, без паспорта боязно, все идешь и оглядываешься. Как человек – так в сторону шарахаешься. А как спишь – разное плохое снится.
– Ну, и как же ты дальше думаешь? – поинтересовался Василий, тоже начиная закусывать.
Шараборин промолчал и сделал вид, будто не слышал вопроса. Он знал, что можно и чего нельзя говорить Василию. Знал, что за человек Василий, и обычно к его заинтересованности относился настороженно и даже со страхом. Он знал, что из рук Василия не так просто вырваться, знал, что всякий, ставший на его пути, мог заранее считать себя погибшим, знал и кое-что другое. Шараборин питал неприязненные чувства к Василию, временами даже ненавидел его. И эта ненависть накапливалась постепенно, годами, с того далекого, ушедшего в прошлое, но не забытого дня, когда их впервые свела злая судьба на узкой таежной тропе. Произошло это недалеко от границы, где никак нельзя было разминуться. Тогда впервые Василий отдал Шараборину приказание.
Да, Шараборин хорошо знал Василия, а поэтому в каждом его слове, вопросе, намерении, совете, распоряжении всегда искал что-то затаенное, какую-то заднюю мысль, направленную против себя. Шараборину было известно, как расправлялся Василий иногда со своими проводниками, которые доводили его до границы, и благодарил бога, что трижды благополучно отделывался от Василия. Шараборин запомнил на всю жизнь, как од нажды Василий бросил его без гроша в кармане и без документов на произвол судьбы в незнакомом и чужом Шараборину городе Харбине, объяснив все после тем, что он был якобы пьян и ничего не помнит. На самом же деле Василию очень хотелось тогда, чтобы Шараборин попал в лапы жандармерии.
– Что же ты молчишь? – спросил Василий.
– А?
– А-а! Глухая тетеря.
Шараборин постарался изобразить на лице добродушную улыбку и вышел из-за стола. Он сел на полу посредине комнаты, снял с ног торбаза, чулки из заячьего меха и начал растирать уставшие ноги.
Его левая ступня напоминала собой деревянную колодку, на которой торчал небольшой черный сучок – остаток уцелевшего пальца-мизинца. Остальные четыре пальца ноги ему начисто отхватило пулей при побеге его в прошлом году из лагеря.
– Здорово тебя обработали, – заметил хозяин дома Василий.
– Ничего, здорово, – согласился Шараборин.
– Хромаешь?
– Маленько хромаю, – и, чтобы не тревожить себя неприятными воспоминаниями, заговорил о другом: – А как тут, на руднике?
Василий вынул пачку "Беломорканала", закурил.
– Место спокойное. Тайга – святое дело.
– А на ту сторону ходил?
По лицу Василия скользнула тень.
– Трудновато теперь. Время другое. Изменилось многое. Китайцы погоду подпортили. Ну, а Гарри что сказал? Выкладывай.
Шараборин медленно обулся, встал и похлопал себя по голове.
И на этот раз Василий сказал, как бывало с ним часто, – резко и грубо:
– Гарри написал что-нибудь?
– Да, маленько написал.
– Давай-ка быстрее намыливай голову. Вон таз с водой, а вон обмылок. Действуй, а я пока бритву направлю.
Пока Шараборин послушно намыливал успевшие отрасти рыжие волосы, Василий достал из чемодана бритву, направил ее на ремне, попробовал лезвие на своем ногте.
– Садись, – сказал он, вытолкнув ногой на середину комнаты табурет, и, когда Шараборин водворился на нем, упершись руками в колени, Василий начал брить его голову.
Хозяин брил, а гость, борясь с одолевавшей его дремотой, размышлял над тем, почему Гарри и Василий не все ему доверяют и не высказывают ему всех своих планов. Его донимала обида. Вот уж в который раз в течение последних лет до ареста и судимости и после их он ходил от Василия к Гарри и обратно. Терпит лишения, невзгоды, голод, холод, подвергает постоянно свою жизнь опасности, а так и не знает, какая между ними тайна, о чем они переписываются, что они боятся доверить ему. А тайна, видать, важная, если они ее так оберегают.
Но приходила в голову и другая мысль: может быть так лучше, что Гарри и Василий не посвящают его полностью в свои дела. Обидно, конечно, что они не считают его своей ровней, но, наверное, безопаснее. Одно дело отвечать за что-то, тебе неизвестное, и совсем другое – за то, что ты сам хорошо знаешь.
А лучше всего, конечно, избавиться вовсе и распрощаться как с Василием, так и с Гарри. Распрощаться и покинуть Якутию. Как ни просторна она, как ни густа тайга в ней, но шагать по ней с каждым годом становится все труднее, все опаснее. Правда, Гарри обещал пристроить его где-нибудь за пределами Якутии, но можно ли положиться на Гарри и верить ему? Давно он обещал это, но что-то не торопится исполнить свое обещание. А жить в вечном страхе, вечной неуверенности надоело. Сильно надоело. Да и как долго, наконец, ему еще таиться диким зверем, спать и глядеть одним глазом, точно заяц, ожидать со дня на день, что вдруг схватят, скрутят и упекут опять в лагерь! Деньги на первое время есть…
– Прямее сядь, – строго приказал Василий и ткнул Шараборина пальцем в лоб.
Шараборин оторвался от своих мыслей. Он почувствовал, что череп его снова гол и что Василий натирает его бритую голову влажной тряпицей. На гладкой коже головы уже проявлялись отчетливо и контрастно мелкие фиолетовые буковки.
Василий сосредоточенно всматривался в закодированный Гарри текст и, когда уяснил и запомнил смысл распоряжения, еще раз протер голову Шараборина и сказал:
– Все, теперь ложись спать…
Шараборин встал, облегченно вздохнул и стряхнул с себя пучки налипших волос.
– Однако, крепко спать буду, – сказал он, трогая голый затылок.
– Ну и спи, – разрешил Василий.
ТОЙ ХАЯ
Обильно выпавший снег прочно укрыл замерзшие реки, загроможденные наносником, озера, болота, кочкарники, мшаны, мари, валежники и, как бы выровняв, скрыл все изъяны земли. И залег снег надолго, до далекой-далекой в этих местах весны.
Установились лютые морозы: столбик ртути опускался порой за сорок градусов. На скованных морозом реках вспухал, пучился и лопался лед, и прорывавшаяся наружу вода образовывала натеки, наледи, именуемые по-местному тарынами. Над ними курился густой, как молоко, холодный пар. Раскалывались с ружейным треском стволы деревьев, и звонко, чуть ли не за километр было слышно, как скрипят неподрезанные полозья саней. Земля окоченела так, что при ударе металлом можно было выбить искру.
Закрепилась длинная якутская зима.
В центре переплетения якутских хребтов лежал, будто затерянный и отрезанный от жилых мест огромными пространствами, небольшой районный центр. Домики стояли поодаль друг от друга, вытянувшись в одну длинную улицу. В крайнем, более крупном, по сравнению с остальными домиками, мерцал огонек. Шагах в двадцати от него на чистом снежном фоне четко вырисовывались контуры самолета, закрепленного на расчалках. У самолета маячила одинокая фигура. Вот человек вскарабкался на крыло самолета и влез в кабину. Минуту спустя задвигался винт, мотор чихнул, фыркнул, заставив вздрогнуть самолет, сердито выплюнул через выхлопные трубы комки огня и черного дыма, чихнул еще несколько раз сряду и потом заработал четко, гулко, бесперебойно.
Прогрев мотор и выключив его, человек в меховом комбинезоне, похожий на медведя, легко выпрыгнул из кабины, натянул брезент и прошел вокруг самолета. Он окинул все хозяйским взглядом, попробовал прочность крепления и лишь тогда направился к дому, в котором мерцал огонек. Он открыл тяжелую толстую дверь, обитую лошадиной шкурой.
Просторная комната с вымытым добела деревянным полом освещалась керосиновой лампой, висящей в самом центре.
У стола, на деревянной скамье, перед портативной радиостанцией, с наушниками на голове сидела девушка в военной гимнастерке с погонами сержанта. Она напряженно вслушивалась в таинственные "точка – тире", шедшие по эфиру откуда-то издалека, и быстро наносила их на лист бумаги.
Перед ярко пылавшим в очаге огнем стоял худой, высокий майор с продолговатым суровым лицом и ясным, твердым взглядом. Его жестковатый, крупный и плотно сомкнутый рот походил на прямую линию. Глубокая ложбинка разделяла надвое большой подбородок, коротко подстриженные волосы были тронуты сединой. На лбу, возле уголков глаз и рта – морщины. Его тонкие брови тянулись к самым вискам.
Майор, расставив ноги, грел у огня руки, а когда дверь открылась, обернулся.
Не пристальным, а спокойно-внимательным взглядом он посмотрел на вошедшего и низким голосом спросил:
– Ну, как там дела, старший лейтенант?
Вошедший был летчик, якут Ноговицын. Смуглое широкое приветливое лицо хранило на заметно выпирающих скулах отпечатки таежного мороза. Черные подвижные глаза старшего лейтенанта смотрели весело и пытливо. С первого взгляда Ноговицын мог показаться не в меру широким, громоздким, неповоротливым, но как только сбросил с себя огромный меховой комбинезон, стал небольшим крепышом.
Он энергично потер руки и подошел к майору.
– Сильно хорош мороз, – бодро сказал он. – Под сорок пять градусов подкатывается. При таком морозе, как говорит мой командир, можно превратиться в ледяную окаменелость.
Ноговицын бросил взгляд на занятую приемом радистку, повесил комбинезон на деревянную перекладину возле печи и, усевшись на скамью у стены, стал снимать торбаза.
– Вы представляете себе, – продолжал он, обращаюсь к майору, – что это значит, когда ртуть падает за сорок? Это значит, что обыкновенный ртутный градусник летит к шутам и на его место выходит спиртовой.
Майор кивнул головой и, тихонько насвистывая, вынул из кармана коробку "Казбека" и протянул Ноговицыну.
– Курите, старший лейтенант.
Майор тоже взял папиросу, помял ее, постучал мундштуком о ноготь большого пальца и, ловко выхватив голой рукой из очага маленький уголек, прикурил.
– Разрешите? – потянулся к нему со своей папиросой Ноговицын.
Они теперь вдвоем стояли у огня и молча дымили папиросами.
После долгой паузы майор спросил летчика Ноговицына:
– Не застрянет в дороге наш механик?
Ноговицын пожал плечами:
– Не думаю. Он проворный паренек. И потом, до нефтебазы дорога хорошо накатана, и коней ему хороших дали. Тут всего езды-то туда и обратно часа три, не более. Я был как-то на этой нефтебазе. Да и другого выхода у нас нет. Масла не хватит. – Он помолчал немного, посмотрел еще раз на радистку, перевел глаза на койку в углу, с разостланным на ней спальным мешком, и добавил: – А что если я попробую доспать недоспанное? А? Возражений не будет?
– Отдыхайте, – сказал майор, и Ноговицын направился к койке.
Радистка закончила прием, сняла наушники и закрыла радиостанцию.
– Из Якутска, Надюша? – поинтересовался майор.
– Так точно. Сейчас расшифрую.
Девушка встала из-за стола и полезла в сумку, висевшую у окна. Она была невелика ростом, хорошо сложена и, как женщина севера, сравнительно широка в плечах и немного узка в бедрах. В ее округлом лице мягко сочетались черты русской и якутской женщины: большие темно-серые глаза, прикрытые густыми ресницами, тонкие прямые брови, прямой нос, заметно выделяющиеся скулы, густые черные волосы, заплетенные в две косы и уложенные на затылке. Четкий рисунок небольшого рта с как бы припухшими губами, и смуглый цвет кожи.
Вернувшись к столу, она села за расшифровку радиограммы.
Майору очень хотелось знать, что сообщает Якутск. Два дня назад, по радио, он полностью отчитался о проделанной здесь работе, о точном выполнении полученного задания. Вчера ему разрешили вылететь в Якутск из района, где он провел с радисткой Надей Эверстовой без малого два месяца. Сегодня за ним прислали специальный самолет, чтобы сократить время на обратный путь до Якутска, так как на перекладных этот путь занял бы добрую неделю.
В чем же дело? Зачем еще радиограмма, когда все сказано, пересказано и уточнено через летчика Ноговицына? О чем может идти речь? Может быть, он что-нибудь не так сделал? Или его отчет, возможно, потребовал пояснений?
"Да нет, не может быть, – подумал про себя майор. – Все ясно, как божий день. А если ясно, тогда зачем же?.."
Летчик Ноговицын, решивший доспать недоспанное, лежал с открытыми глазами и поглядывал на радистку. Видно, и его не меньше, чем майора, интересовало содержание радиограммы. Ему ясно приказали в Якутске лететь за майором и радисткой и побыстрее возвращаться, так как предстоял вылет в Олекму, а теперь вдруг радиограмма. Интересно, очень интересно.
Майор, накинув ватную фуфайку, вышел из избы. Его мгновенно охватил обжигающий студеный воздух. Он невольно поежился: ну и мороз!
Поздняя луна в морозном венце, осторожно раздвигая гребешок тайги, прокрадывалась на небо. Майор вдохнул воздух и сразу почувствовал, как будто кто-то кончиком иголки дотронулся до верхушек его легких. Он плотно сомкнул губы, запахнул поплотнее фуфайку.
Когда он вернулся в избу, сержант Эверстова встала из-за стола, подошла к нему и подала листок бумаги.
– Из Якутска, срочно… – сказала она.
Майор быстро пробежал глазами содержание небольшой радиограммы и невесело усмехнулся.
– Ну вот, видите, Надюша! Я вам говорил, что никогда не загадывайте вперед. Вы, кажется, мечтали завтра кушать пироги дома?
Лицо радистки выражало разочарование. Она вскинула округлые плечи и покачала головой.
– Бывает…
– Что такое, если не секрет? – спросил Ноговицын. Он приподнялся с койки, отбросил спальный мешок и спустил ноги.
– Никакого секрета нет, – ответил майор. – Вы правильно сделали, что послали за маслом. Нате, познакомьтесь, – и он подал летчику радиограмму.
Ноговицын прочел вслух:
"Майору Шелестову. Командировку продляю на десять суток. Немедленно вылетайте с радисткой на рудник Той Хая, разберитесь с происшествием и результаты радируйте. Посадочная площадка к вашему прилету будет подготовлена. Полковник Грохотов".
– Да-а-а… – протянул Ноговицын, возвращая радиограмму. – Вместо Якутска – Той Хая. Это, конечно, не одно и то же, скажем прямо. Я как-то пролетал над рудником, но садиться не садился. Вот дела-то какие… – Он вынул из-под подушки планшетку с картой и начал отыскивать на ней местонахождение рудника.
Майор Шелестов прочел еще раз распоряжение полковника Грохотова и, подойдя к очагу, бросил бумагу в огонь.
– Значит, командировка затягивается, – заметил, ни к кому не обращаясь, летчик Ноговицын.
– Ничего не попишешь, – сказал майор. – Приказ – есть приказ. Полковник правильно рассчитал. Отсюда до Той Хая, наверное, раза в два ближе, чем от Якутска.
– Два часа лету при попутном ветре, никак не больше, – доложил старший лейтенант и захлопнул планшетку. – Вот я и выспался, – добавил он весело.
– Да, спать не придется, – сказал майор, взглянув на часы. – Хватило бы времени к возвращению механика уложиться. Собирайте свое хозяйство, Надюша.
*
* *
В бездонном небе, среди звездной россыпи, глухо рокоча мотором, плыл невидимый с земли самолет. Под ним лежала, казалось, беспредельная и бесконечная, не проходимая и глухая тайга. Ночью, с высоты, она походила на безбрежное окаменевшее море.
Радистка Эверстова, примостившись в уголке, у сложенных вещей, и натянув на себя до пояса спальный мешок, дремала.
Майор Шелестов сидел, привалившись плечом к стенке фюзеляжа, и досадовал на себя, что не послушал летчика и отказался от спального мешка. Он чувствовал, как под его теплую одежду пробирается мороз и холодит тело. Ему казалось, что время тянется как никогда медленно и что летят они не второй час, а целую вечность. Он завидовал Эверстовой, что та, пригревшись, дремлет и этим сокращает время.
А тут еще в голову лезли всякие мысли. Что за происшествие стряслось на руднике Той Хая? Видимо, какое-то необычное, чрезвычайное, коль скоро потребовался немедленный вылет. Да и срок командировки продлен на десять суток. Это не шутка – десять суток. За такой срок можно облететь все районы Якутии.
Пробыв долгое время в командировке, Шелестов последние дни высчитывал каждый час, приближающий его встречу с женой и дочуркой, по которой он уже стосковался. Сегодня вечером он подумал: "Даже не верится, что через шесть-семь часов я буду дома". И вот теперь радостное свидание отодвигалось на целых десять дней. Да и неизвестно еще, хватит ли этих десяти дней на то, чтобы разобраться с происшествием. Происшествия бывают разные. Уж поскорее бы узнать, в чем там дело. Нет ничего хуже неведения, хотя бы оно продолжалось лишь несколько часов.
Старший лейтенант Ноговицын плавно положил машину на бок, затем выровнял ее и повел на снижение. Шелестов поежился, подергал плечами и потянулся к оконцу. Он подышал на него, и сквозь проталинку увидел мигающие внизу огоньки поселка, приближающиеся и быстро увеличивающиеся костры. Их было много, больше десятка, и они образовывали длинный и широкий коридор. Потом замелькали маленькие, подвижные на снегу точки бегающие люди. И снова майор подумал: что же произошло на руднике?
"Даже в таком глухом месте не обходится без происшествий, – подумал он. – Что за времена пошли такие беспокойные!"
Самолет опустился на свои лыжи, гладко, без толчков и тряски пробежал по ровному цельному снегу и замер, рокоча приглушенным мотором.
Майор Шелестов выпрыгнул из кабинки первым и затанцевал на месте, стараясь отогреть прихваченные морозом ноги. К нему тотчас же подбежало двое мужчин: один высокий, в короткой легкой оленьей дошке, другой небольшого роста, в огромной, видимо, тяжелой волчьей дохе с пушистым лисьим воротником.
Лиц обоих майор не смог рассмотреть при всем желании.
– Товарищ Шелестов? – последовал вопрос со стороны человека в волчьей дохе. Он приблизился к майору, пытаясь разглядеть его лицо.
– Так точно, Шелестов. С кем имею дело?
– Я заместитель директора рудника по найму и увольнению – Винокуров, – представился человек в волчьей дохе. – А это – комендант рудничного поселка, – представил он спутника.
– Белолюбский, – назвал себя высокий, подал руку и поинтересовался: Промерзли?
– Немного есть…
– Да, морозец правильный, до костей пробирает, – заговорил Винокуров тоненьким голоском и вдруг пронзительно крикнул: – Эй, ребята! Закройте самолет хорошенько и оставьте одного дежурить. А через часок я смену подошлю. Так бросать машину, без присмотра, неудобно.
– Правильно, – одобрил Ноговицын.
Вышли механик и радистка.
– Прошу в сани, – пригласил Винокуров. – Тут совсем рядом – с полкилометра. Мы только час назад получили указание по радио подготовить для вас посадочную площадку и выложить костры. И, как видите, все в порядке, как на заправском аэродроме. Собрали быстро людей, Подвезли сухих дров, керосину. Нам и мороз нипочем.
Все направились к саням, стоявшим в отдалении.
Винокуров не шел, а бежал легонько, вприпрыжку, сбоку тропинки, по которой шагал майор и его спутники.
Шелестову казалось, что заместителя директора следовало бы похвалить за проявленные им распорядительность и расторопность, но он почему-то промолчал.
Широкие русские, устланные сеном розвальни приняли в себя всех прилетевших, Винокурова и Белолюбского.
Пузатый и мохнатый конь всхрапнул, привычно тронул с места тяжелый груз и легко потащил его к рудничному поселку.
На пригорке у самого поселка розвальни начало раскатывать по наезженной дороге, и старший лейтенант Ноговицын пошутил:
– Побалтывать начинает…
Эверстова засмеялась, но Шелестову было не до смеха. Он был не прочь пройтись пешком до поселка, чтобы отошли ноги.
Рудничный поселок ночью выглядел беспорядочным: его можно было принять за скопище деревянных построек, разбитых без плана, без улиц. Розвальни катились возле высокого дощатого забора, иногда задевая его, и, наконец, остановились у занесенного снегом, неуютно выглядевшего рубленого домика.
– Вот тут для вас комнату приготовили, – показал на дом рукой Винокуров. – Это у нас специально для приезжих, вроде как гостиница "Гранд-Отель" в Москве. Правда, она не совсем благоустроена, но…
– Это неважно, – прервал его майор Шелестов. – Устраивайте моих товарищей, а мне надо побеседовать с директором.
– Директор в отъезде, я за него.
– Ну, тогда с вами.
– Сейчас?
– Конечно, сейчас. Где тут удобнее место для этого? – и майор, сойдя с саней, начал оглядывать теснящиеся вокруг домики.
– Пожалуйста, ко мне. Это рядом, – предложил Винокуров и обратился к коменданту: – Товарищ Белолюбский, проводите гостей. Печь там горит, постели готовы. Распорядитесь насчет еды. Посмотрите, хватит ли дровец на ночь. Если маловато, то не выпрягайте лошадь и подбросьте охапки три-четыре березовых. Можно у меня взять.
– Понятно, – коротко отозвался комендант и пригласил летчика, механика и радистку следовать за ним.
Винокуров провел майора Шелестова в рудничную контору, – строение барачного типа, – где помещался его кабинет.
Пока Винокуров отыскивал подходящий ключ, так как свой он некстати оставил дома, Шелестов разглядывал доску на стене, залепленную листочками разных объявлений.
Наконец, они попали в кабинет, и Винокуров включил верхний и настольный свет.
В кабинете Винокурова, кроме старомодного стола, нивесть откуда попавшего сюда, большого кожаного кресла и железного шкафа в углу, ничего не было. И пока Винокуров отыскивал стул для гостя. Шелестов подумал, что заместитель директора или очень деловой человек, не любящий, когда у него засиживаются посетители, или очень строгий начальник, которому нравится, когда его подчиненные докладывают ему стоя.
Теперь при свете, когда Винокуров почти утонул в глубоком кресле, майор смог рассмотреть его внешность. Это был подвижный, небольшого роста человек с белыми выцветшими бровями, из-под которых по-детски наивно смотрели маленькие голубые глаза. У Винокурова был тонкий острый нос и вьющаяся русая бородка, которую он то и дело подергивал. Общий вид у него, как решил майор, был какой-то расстроенный, вымученный. Казалось, что его мозг занят разрешением недоуменной или непосильной для него задачи.
Закурив и выдержав паузу, насколько позволяло приличие, Шелестов обратился к заместителю директора:
– Что у вас произошло?
Винокуров как бы подпрыгнул на месте, занял удобную позу и, вцепившись руками в подлокотники кресла, заговорил:
– Странная, темная история. Именно темная. Вам, конечно, известно значение нашего рудника. Предприятие, так сказать, номерное, особое. Сейчас ведутся все подготовительные работы к официальному открытию и пуску в эксплуатацию рудника в первом квартале нового года. Помимо этого правительством рассмотрен и утвержден план создания на базе нашего рудника целого комбината. Вы понимаете – комбината? Комбината, который преобразит все вокруг. И это в тайге, в глуши, вдали от железной дороги, где несколько лет назад не ступала нога человека. Когда я задумываюсь…
– Одну минутку, – вежливо прервал майор. – Значение и перспективы вашего рудника мне отлично известны. Это не совсем то, что мне сейчас нужно. Меня сейчас интересует другое, что за происшествие у вас стряслось?
– Пожалуйста, пожалуйста… Прошу прошения. Я полагал, что это будет иметь значение. Так сказать – фон. Общий фон. – Он часто заморгал глазами, вскинул кверху свои белые брови и продолжал: – Я могу короче. У нас произошло убийство…
– Убийство?
– Да, или самоубийство. И все как-то странно и необычно, – продолжал Винокуров, вертя пальцами лоскуток кожи на кресле. – Сегодня утром уборщица в кабинете директора рудника неожиданно обнаружила мертвым инженера Кочнева. Пуля, вероятно, из пистолета, попала ему в голову, чуть пониже правого глаза и не вышла наружу. Да, осталась там. – Винокуров хлопнул себя по голове. – Можно полагать, что смерть наступила мгновенно. Больше того, судя по позе, в которой был найден Кочнев, нельзя не предположить, что нападение было совершенно неожиданно, внезапно…
– Позвольте, – опять прервал его майор Шелестов. – Если вы думаете о самоубийстве, то при чем тут нападение?
– Виноват. У меня все перепуталось. Самоубийство, пожалуй, исключается. Оружия при Кочневе не обнаружено. И при жизни я никогда не видел у него ничего похожего на пистолет.
Винокуров говорил и вертел пальцами лоскуток кожи, стараясь его оторвать, и, кажется, его усилия достигали цели.
– Чем ведал на руднике инженер Кочнев? – спросил Шелестов.
– Ничем.
Майор откинулся на спинку стула. Ему показалось, что заместитель директора не понял его вопроса.
– Какую он занимал должность?
– Никакой. Он представитель Главка из Москвы и был здесь в командировке. Собственно, не только здесь, а в целом ряде мест Якутии. На нашем руднике за зту командировку он – уже третий раз. Третий и последний.
– Но чем он занимался?
– Только на днях он закончил работу по составлению плана нового промышленного района, который должен возникнуть здесь. Я же вам говорил, наш рудник – первая ласточка. Кочнев ждал возвращения директора рудника, хотел с ним что-то согласовать и должен был лететь в Москву.
– А где директор?
– И директор, и парторг в Якутске, в тресте на совещании. Они должны еще задержаться на пленуме обкома. Я тут один за всех. Кто в командировке, кто в отпуске.
– В Якутске знают об убийстве?
Винокуров сделал протестующий жест.
– Нет, нет. Я через свою радиостанцию, тотчас после обнаружения трупа, передал им о том, что произошло чрезвычайное происшествие, а что именно – не указал. Счел неправильным уведомлять об убийстве открытым текстом. Как вы находите, правильно я поступил?
– Пожалуй, правильно. А в котором часу уборщица обнаружила мертвого Кочнева?
Винокуров насупил брови и значительным взглядом посмотрел на Шелестова, потом перевел глаза на потолок.
Шелестов сообразил, что интересующая его деталь заместителю директора неизвестна.
– Не знаете?
Винокуров сделал страдальческое лицо и печально, с трогательной простотой, признался:
– Да, не знаю. Уборщица ко мне прибежала страшно испуганная, пожалуй, часов в восемь утра. Да, наверное так. Я был еще в постели. Я вскочил, мигом оделся, помчался за комендантом поселка, и вместе с ним мы побежали в контору. Там мы все и увидели. Первое, что сделали, это опечатали комнату, даже не заходя в нее и ничего не тронув. Второе – уведомили Якутск,
– Ясно, ясно… – в раздумье произнес Шелестов. – Когда вы лично видели инженера Кочнева живым в последний раз?
Винокуров подергал свою бородку, отодрал, наконец, лоскуток кожи от кресла и ответил:
– Вчера, часов в десять вечера.
– Где?
– В том же кабинете, где нашли его мертвым. Кочнев обычно там работал и спал. Но я вам должен сказать, что после меня его видел Белолюбский.
– А кто это такой?
– Белолюбский?
– Да.
– Я же вас с ним познакомил, – улыбнулся Винокуров. – Белолюбский это комендант поселка.
– А-а-а… Верно, верно, – и умолк.
Пауза затянулась, потом майор Шелестов встал и попросил Винокурова провести его в комнату, где обнаружили убитым Кочнева.
Расставшись с заместителем директора после осмотра трупа, майор Шелестов задумался. Как всегда в таких случаях, в голову лезла масса мыслей, подчас важных, значительных, а подчас и никчемных. Он знал, что надо что-то немедленно предпринимать. Надо начинать расследование, но начинать так, чтобы первыми действиями не испортить всего дела. И начинать лишь тогда, когда в собственной голове созреет определенный план действий. А такого плана пока еще не было. И это нервировало. Однако многолетний опыт работы научил его терпению и умению держать себя в руках.
И сейчас, идя в дом, где ожидали его товарищи, Шелестов говорил самому себе:
– Ничего, ничего… Все будет в свое время. Может быть, вначале придется идти неуверенно, даже, возможно, по неправильному пути, но потом, дальше, я отыщу нужную нить, ухвачусь за нее и размотаю весь клубок. А самое главное, надо самому себе ясно представить, с чего и как начать.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
В просторной комнате, обшитой дранками, но еще не оштукатуренной, от жарко натопленной печи и табачного дыма стояла духота. Спали все: летчик Ноговицын, механик Пересветов, радистка Эверстова. Не спал лишь майор Шелестов. Он сидел за столом в шерстяной нательной рубашке и теребил руками свои коротко остриженные волосы. Он просматривал протоколы допросов свидетелей, акт осмотра места происшествия, документы, оставшиеся после смерти инженера Кочнева. Просматривал и пытался осмыслить каждую, на первый взгляд даже малозначащую деталь, каждый ответ свидетеля на поставленный ему вопрос.
У Шелестова не возникало никаких сомнений в том, что представитель Главка – инженер Кочнев, старый коммунист и видный работник, стал жертвой преднамеренного убийства. Это подтверждалось всем, что добыл Шелестов за короткое время своего пребывания на руднике. Но совершенно непонятными были мотивы убийства. Недоброжелателей и врагов на руднике, как человек посторонний, Кочнев не имел. Все секретные документы, над которыми он долго работал, и, главным образом план нового промышленного района, имеющего большое государственное значение, оставались целыми и невредимыми. Они были на месте, в сейфе, стоявшем в той же комнате, где было найдено тело Кочнева. Сейф оказался запертым, замки нетронутыми, ключи от сейфа обнаружены в кармане шубы Кочнева, которая и сейчас продолжала висеть на вешалке. Винокуров заявил, что Кочнев обычно держал ключи от сейфа и дверей кабинета именно в кармане шубы и ничего необычного в этом не было. Партийный билет, удостоверение личности, командировочное удостоверение, два аккредитива и паспорт Кочнева оказались при нем.
– Зачем же понадобилось его убивать? – спросил сам себя вслух Шелестов. – С какой целью? Кому это нужно было? Кому помешал инженер? Почему не тронуты его личные и служебные документы?
Шелестов раздумывал, строил предположения. Надо было, в первую очередь, уяснить себе, с чем он столкнулся: с политическим или уголовным преступлением. Но разве это так просто и легко сделать? А между тем его профессия налагала на него обязанности видеть и знать то, что не могли знать и видеть другие.
Шелестов постучал пальцами о край стола, и оторвав глаза от бумаг, встал. Встал и лишь тогда почувствовал, как душно в комнате. Он подошел к окну, разрисованному витиеватыми морозными узорами, и открыл форточку. Клубы холодного воздуха, точно под сильным напором, ворвались в комнату, заметались в ней, затуманив свет электролампочки.
Шелестов посмотрел на крепко спящих друзей и, заметив, что одеяло сползло с механика Пересветова, поправил одеяло.
Потом опять вернулся к окну и, глубоко вдохнув чистый свежий воздух, сказал вполголоса:
– Хорошо… Очень хорошо… – И в голове сразу стало как-то светлее.
Он стоял и наблюдал, как легкий, теплый, насыщенный духотой воздух вытекает поверху через форточку наружу, а свежий, холодный и тяжелый, быстро вливается в комнату, оседает и уже приятно холодит ноги, руки, грудь.
– Ну, кажется, хватит, – сказал Шелестов, захлопнул форточку, бесшумно прошелся по комнате несколько раз, сел опять за стол и поднес руку к воспаленным от бессонницы глазам.
Он постарался еще раз собраться с мыслями, самым придирчивым образом проверил собственные действия и вдруг даже приподнялся от новой, совершенно новой мысли, пришедшей в голову: почему у инженера Кочнева не оказалось вовсе денег? Не мог же он обходиться без денег, будучи в командировке? А если у него были деньги, то куда они могли деваться?
– Почему я не обратил на это внимания ранее? – задал себе вопрос майор. – Как я мог допустить такую сплошность?
Он быстро уложил документы в полевую сумку, с которой не расставался даже во время сна, кладя ее под подушку, и стал одеваться. Натянул на себя гимнастерку, опоясался ремнем, поправил кобуру с пистолетом, закрепил полевую сумку, надел дошку и меховую шапку. Посмотрел на часы и покачал головой:
– Рано еще, но ничего не попишешь, дело не ждет.
Он осторожно, стараясь не производить шума и не разбудить отдыхающих друзей, открыл дверь и вышел.
Мороз обжег до того, что сразу выдавил из глаз слезы.
На востоке едва-едва заметно отбелился краешек неба и бледно-розовыми бликами обозначил покрытые коркой льда окошки домов.
Шелестов закрыл нижнюю часть лица теплым шерстяным шарфом, сжал плотно губы и зашагал к квартире заместителя директора рудника. Тот, конечно, спал и никак не ожидал такого раннего визита.
– Мне нужно побеседовать с комендантом поселка и с кем-либо из работников финансовой части рудника. И чем скорее, тем лучше, – объяснил свое появление Шелестов.
– Это не составит никаких трудностей, – заверил Винокуров, бухгалтер живет рядом со мной, за стеной. Человек он одинокий, и к нему можно зайти сейчас, а коменданта Белолюбского не более как через час-полтора вы сможете увидеть в моем кабинете.
Шелестов извинился и оставил Винокурова…
Из беседы с бухгалтером он выяснил следующее: накануне своей смерти инженер Кочнев имел при себе всего лишь пятьсот рублей, которые он получил по своей просьбе, в виде аванса, в рудничной кассе. У него, правда, были два аккредитива на две тысячи рублей, но обменять их на деньги Кочнев мог лишь в Якутске. Пятьсот рублей Кочнев получил около шести вечера, последнего вечера перед смертью.
Шелестов навел справки в промтоварном и продовольственном магазинах рудничного поселка, в надежде выяснить, не издержал ли эти деньги Кочнев на приобретение чего-либо необходимого, но оказалось, что он даже не заходил в магазины.
Последнее обстоятельство окончательно озадачило майора.
"Неужели поводом к убийству инженера послужили эти несчастные пятьсот рублей? Неужели я столкнулся и в самом деле с обычным уголовным преступлением? – рассуждал майор. – Странное происшествие, очень странное…"
Шелестов уже хотел пройти в контору, чтобы повидаться с комендантом Белолюбским, но передумал и решил вначале заглянуть на квартиру. Надо было выпить хотя бы крепкого чая.
Под ногами майора звонко похрустывал снег. Хорошо проторенная тропка довела до самой квартиры. Войдя в нее, Шелестов застал одну радистку Эверстову. Сидя у окна, она заплетала косы и, увидев майора, встала.
– Доброе утро, Надюша! – приветствовал ее майор.
– Что же это такое, Роман Лукич?! Вы совсем не спали и не кушали ничего, – вместо ответа на приветствие сказала Эверстова.
– А чай есть? – вопросом на вопрос ответил майор.
Эверстова быстро подошла к столу, на котором стоял медный самовар с помятыми боками, и, приложив к нему ладони, быстро отдернула их и потерла одну о другую.
– Еще совсем горячий. Садитесь, Роман Лукич, – и Эверстова взяла заварной чайник.
Шелестов сбросил с себя доху и сел за стол.
– А где товарищи?
– Пошли к самолету.
Майор с большим наслаждением выпил две кружки крепкого чая, съел несколько кусков калача и почувствовал себя значительно свежее.
– В котором часу сеанс с Якутском? – спросил он, вставая из-за стола.
– В одиннадцать, – ответила Эверстова.
И майор подумал, что пора уведомить полковника Грохотова о своем прибытии на рудник и о сути происшествия.
– Запишите, Надюша, я вам продиктую.
Эверстова взяла свою тетрадь, вооружилась карандашом и примостилась на уголке стола, заставленного едой и посудой.
– Слушаю.
– Пишите: "Полковнику Грохотову. На руднике, куда я прилетел ночью, убит представитель Главка инженер Кочнев. Убит выстрелом из пистолета в голову, в служебной комнате, с близкого расстояния, почти в упор. Служебные и личные документы Кочнева не тронуты, взяты лишь пятьсот рублей. Веду расследование. Шелестов". Зашифровывайте и отправляйте. Я буду в конторе.
*
* *
В кабинете заместителя директора рудника майор Шелестов нашел ожидавшего его коменданта поселка. Белолюбский сидел против Винокурова. Они о чем-то беседовали.
– Я к вам, – сказал комендант, приподнимаясь с места.
– Сидите, сидите, – ответил Шелестов и сам присел к столу.
Внешний облик Белолюбского являл собой полную противоположность Винокурову. Белолюбский был высокого роста и, видимо, силен физически и крепок. Несмотря на возраст (ему было, как определил Шелестов, не менее пятидесяти), волосы его еще не тронула седина, на его грубоватом, обветренном лице почти совсем не было морщин. В отличие от мягкого, добродушного и даже несколько наивного выражения лица Винокурова, склад лица Белолюбского, с выдающимся вперед подбородком, острыми, глубоко сидящими серыми глазами, свидетельствовал о решительности и воле.
Только некоторая внешняя неопрятность коменданта пришлась не по сердцу Шелестову. Лицо коменданта было невыбрито, густые черные волосы, совершенно нерасчесанные, торчали копной.
"Видимо, одинокий и очень занятый человек, – нашел майор оправдание для коменданта. – Ведь такая должность в быстро растущем поселке крайне ответственна", – и задал Белолюбскому первый вопрос:
– Когда вы видели Кочнева в последний раз?
– Позавчера, между десятью и одиннадцатью вечера, – ответил комендант. – Я шел из дому к товарищу Винокурову поиграть в шашки и около конторы встретил Кочнева. Он прогуливался перед сном. Я сказал "добрый вечер" и пошел рядом с ним. Поговорили немного.
– О чем?
– Он поинтересовался, слышал ли я по радио сообщение о событиях в Корее. Я слышал и сказал, что новостей нет. И больше ни о чем не говорили. Уж больно сильно хватал мороз. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.
– Вы пошли к Винокурову, а Кочнев остался прогуливаться?
– Нет, он тоже пошел к себе в контору.
В беседу вмешался Винокуров:
– В половине одиннадцатого товарищ Белолюбский был уже у меня.
Шелестов кивнул головой и спросил:
– И никто из вас двоих выстрела не слышал?
Оба ответили, что не слышали.
Шелестов, собственно, и ждал такого ответа. Конечно, они не могли слышать выстрела, который произошел в конторе, отдаленной от дома Винокурова не менее чем на двести метров.
– А когда вы расстались? – обратился Шелестов к обоим.
Винокуров ответил, что Белолюбский ушел от него около двенадцати ночи.
– Да около двенадцати, – подтвердил Белолюбский.
Шелестов закурил папиросу и обратился уже непосредственно к коменданту:
– Куда идут дороги с рудника?
– С рудника идет одна-единственная дорога, в жилуху, как принято здесь говорить, на юго-запад, через Якутск. Но она после первого снегопада занесена начисто.
– Так-таки начисто?
– Абсолютно, – вмешался заместитель директора. – Ни пройти, ни проехать. Снег до пояса доходит, а местами и выше, пожалуй. Наземная связь до весны прекратилась. Да это не новость, – он махнул рукой, – так было и в прошлую зиму, когда я только приехал сюда. Я уже второй год здесь сижу…
– Но мне сдается, что одна дорога, хорошо накатанная, все же выходит из поселка? – спросил Шелестов коменданта.
Тот рассмеялся, и его грубо-суровое лицо стало добродушным.
– Правильно, правильно, – согласился Белолюбский и закивал головой. Одна таки дорога есть, но она кончается в полутора километрах от поселка, у замерзшего пруда, с которого мы возим лед и воду.
– Ага, понял. А скажите мне еще вот что: кто за последние дни из посторонних был на руднике?
Белолюбский отрицательно замотал головой.
– Никто, – твердо заявил он. – Я понимаю, что вас интересует, но с той поры, как зима закрыла дорогу, никто у нас не появлялся, если не считать Кочнева да вас с вашими товарищами.
– Это точно?
– Совершенно точно, – подтвердил Белолюбский.
Шелестов встал и прошелся по комнате.
– Ну, что ж… – обратился он к коменданту. – У меня к вам вопросов больше нет.
– Можно идти? – спросил тот.
– Да, пожалуйста, – а когда комендант ушел, Шелестов сказал: – А все-таки, товарищ Винокуров, я попрошу вас проводить меня вокруг поселка. Следует посмотреть, нет ли следов, уходящих в тайгу. Как вы думаете?
– Я не возражаю, – согласился Винокуров, – но мне думается, что это напрасная затея. Никто к нам не приходил, и никто от нас не уходил. В этом я могу поручиться. Все обитатели поселка у меня в голове наперечет. Я могу вам сказать точно: 62 мужчины, 46 женщин, 25 детей в возрасте от трех месяцев до семи лет.
– Возможно, возможно. А все же пройдемтесь.
– С превеликим удовольствием. Такая прогулка, собственно говоря, даже для здоровья полезна. – И Винокуров стал облачаться в свою доху. – Погода стоит чудесная. Вот только холодновато маленько. Но я вижу, что вы тоже человек бывалый…
По дороге Винокуров говорил, не умолкая:
– А я, знаете, сам из-под Курска родом. Первое время думал, пропаду тут ни за понюшку табаку. Оробел вконец, а потом ничего. Странное существо – человек. Притащи сюда скотину с юга, она враз околеет, а наш брат ничего. Все терпит. Да что с юга! Возьмите местного оленя. Уж, кажется, истый северянин, а вот покойный товарищ Кочнев мне рассказывал, что как-то ему довелось переваливать через Верхоянский хребет. И что же вы думаете? Не выдержали олени мороза. У двоих или троих легкие порвались. Вот оно как получается. А человек выдерживает любой мороз.
– А где вы работали до приезда сюда? – заинтересовался майор.
– На Алдане. Полюбил тайгу, здорово полюбил.
Восторгаясь тайгой, Винокуров проявил большую осведомленность. Он сообщил, что около четверти лесов земного шара сосредоточено в Советском Союзе, а по хвойному лесу СССР принадлежит первое место в мире.
– А вам приходилось бывать на Алдане? – спросил Винокуров.
Шелестов ответил, что приходилось и не раз.
– Алдан – большое дело! – воскликнул Винокуров. – Два десятка лет назад на месте Алданского района шумела тайга, а сейчас? Появились Незаметный, Сталинск, Ленинск, Орочен, Чульман, Лебединый, Джоконда, пальцев на руках и ногах не хватит перечесть все города, поселки, прииски. Просто диву даешься. Я ведь сам был свидетелем, как в двадцать пятом году на Алдане жило 65 русских, 47 эвенков, и в том числе я, а теперь в одном Незаметном население под сто тысяч подпирает. Шутка сказать! А вы знаете, кто помог открыть залежи алданского золота?
– Каюсь, не знаю, – признался Шелестов.
– А я знаю, – и Винокуров закатился дробным смешком. – Помогли охотники-таежники эвенк Лукин и якут Марадынин. Я с обоими знаком был. Толковые товарищи. А что творилось на Алдане, когда слух о его золоте разошелся по стране! Жуть одна. Золотая горячка была. Буквально, золотая горячка, вроде как на Клондайке. Сколько бросилось в неприступную тайгу любителей легкой наживы! Сколько костей упрятала тайга! Ого! Алданом бредили! Я-то попал по командировке, в двадцать пятом году. Тогда еще Амуро-Якутской магистрали и в помине не было. Я вылез из поезда на Большом Невере и на своих собственных все шестьсот километров отмахал. Через реки, болота, тайгу, хребты. Нас послали семь человек. Ну и хлебнули мы горя, вспомнишь, не верится даже. – Он помолчал немного, отдышался, поправил шарф и продолжал: – А теперь на месте тайги электрические драги, экскаваторы, бульдозеры, ремонтные заводы, электростанции, огороднические совхозы. На Алдане своих огурцов, помидоров, картофеля, капусты сколько душе угодно. А машинный парк? По-моему, не в каждом районе центральной полосы можно найти столько автомашин. Когда я уезжал, на Алдане было больше двух десятков школ, два техникума, партийная школа, более полутора десятков больниц и амбулаторий. Вот на что способен советский человек.
Шелестов шел и искоса бросал взгляды на шагающего рядом с ним словоохотливого заместителя директора. Ему нравились люди, любящие край, где они работают, интересующиеся им и знающие его всесторонне; те незаметные, простые советские люди, которые с любовью делают свое дело там, куда их посылают партия и народ.
– И вот, думаю я, – закончил Винокуров, – что будет вот здесь, где мы идем, через десяток лет? Трудно представить! Все, наверное, преобразится. Эх, если бы здесь не эта проклятая вечная мерзлота…
Они шли по самой окраине поселка, который подковой опоясывала тайга. Шелестов внимательно осматривал снег. Он слушал Винокурова, но от его глаз не уходило ничего: ни накрап заячьего следа, ни лисий нарыск, ни маленькие отпечатки побежки коварного и злого горностая. Шелестов все примечал.
Он жил в Якутии уже тринадцать лет, исключая из них три года, проведенных во время отечественной войны в тылах врага. Он сроднился с Якутией, познал ее народ, местные обычаи, изучил и освоил язык якутов, эвенков, приобрел в разных районах Якутии верных друзей.
Осматривая окраины рудничного поселка, Шелестов питал надежду наткнуться на след человека, выходящий из поселка, но эта надежда оказалась тщетной. Следов человека не было.
Потом Шелестов и Винокуров вышли на дорогу, ведущую к пруду. Здесь снег от почти беспрерывной езды за льдом и водой был истолчен в пыль, которая походила на порошок нафталина. Такой снег не мог держать на себе никакого следа: ни копыта лошади, ни ноги человека.
Дорога напоминала собой окоп, протоптанный в снегу, и вскоре привела майора и Винокурова к пруду.
Пруд лежал в небольшом котловане и был загроможден вырубленным и заготовленным впрок льдом. Посредине пруда виднелась затянутая тоненькой корочкой льда прорубь, из которой почти беспрерывно черпали воду.
И осмотр пруда тоже ничего не дал. Шелестов, окончательно расстроенный, возвращался в поселок и почти не слушал своего спутника, который вновь принялся расхваливать красоты таежного края.
Видя, что майор молчит. Винокуров на некоторое время тоже умолк, а потом заметил:
– Я же вам говорил, что это пустая затея. У нас каждый человек на виду.
Шелестову не понравилась самоуверенность заместителя директора, и он сказал:
– Как же это получается? Люди все у вас на виду, всех вы знаете, а под носом у вас совершаются убийства?
Винокуров смутился. Он долго молчал, не зная, как ответить, и уже перед входом в поселок сказал:
– Виноваты… недоглядели. Я сам не могу понять, как это могло произойти.
Шелестов ничего не сказал. Они шли уже по поселку, и внимание майора привлек огромный пес, похожий на волка, неподвижно сидевший у порога дома, где отводили комнату всем приезжим.
Шелестов вспоминал, где он, уже не раз, встречал этого пса, но память дробилась, уводила куда-то далеко, и ничего не получалось.
Винокуров тоже заметил собаку и лыжи, приставленные к стене дома у самой двери.
– Смотрите-ка! – обратился он к Шелестову. – Еще кто-то в гости пожаловал. И собака, и лыжи. Видно, охотник-якут заглянул. Решил обогреться, чайку попить, покалякать и новости узнать. Они никогда мимо не пройдут. Для них крюк сделать километров в десять ничего не составляет.
Шелестов улыбнулся.
– Кажется, я догадываюсь, кто в гости пожаловал.
– Кто же это? – поинтересовался Винокуров.
– Сейчас скажу. Таас Бас! – громко позвал он пса. – Ко мне!
Пес приподнял голову, насторожил уши, но не двинулся с места.
– Таас Бас! – повторил Шелестов. – Не узнаешь? Забыл?
Нет, у пса была хорошая память. Он запоминал навсегда и хороших, и плохих людей. Стоило лишь с ними познакомиться. Второго оклика было достаточно, чтобы он сорвался с места, взвизгнул и помчался к Шелестову.
Винокуров от неожиданности струхнул, побледнел и отскочил в сторону, опасаясь попасть на зуб такому страшному с виду псу.
Но Таас Бас даже не обратил на него никакого внимания. Он вертелся вокруг майора, вздымая снежную пыль, прыгал, хватал его за рукавицы, радостно повизгивал.
– Ух, какой же ты огромный стал да пушистый, – ласкал собаку Шелестов. – Ну, довольно, довольно, хватит… Пойдем.
Винокуров, преодолев страх, приблизился.
– Старые знакомые? – спросил он.
– Да, очень старые, – ответил майор и добавил: – И пес и хозяин – оба старые знакомые.
– Так мне можно идти?
– Да, пожалуй, – разрешил Шелестов и зашагал к квартире.
А там перед ним открылась такая картина: на столе клокотал в клубах пара все тот же самовар с помятыми боками, а на тарелках горками возвышались горячие пышки. У стола сидели летчик Ноговицын, механик Пересветов, радистка Эверстова и кто-то посторонний, спиной к дверям. Шла беседа. Собственно, говорил посторонний, а остальные внимательно слушали. Никто не обратил внимания на вошедшего майора, хотя было ясно, что завтрак не начинали из-за него.
– Атас* Быканыров! – громко сказал Шелестов.
_______________
* А т а с – товарищ.
Гость не по возрасту быстро повернулся, и глаза майора встретились с узкими и темными глазами охотника, живо глядевшими на него сквозь узкие прорези век.
Старик так же быстро встал и с какой-то особой самобытной учтивостью и почтительностью направился к Шелестову.
– Дорообо, дорообо, Роман Лукич.
– Здравствуй, отец, здравствуй.
Они долго трясли друг другу руки, стоя посредине комнаты.
– Сколько же мы не виделись?
– Долго не виделись. Совсем долго…
– А все же?
– Однако, с весны того года, – напомнил Быканыров.
– Правильно, – подтвердил Шелестов, усаживая гостя за стол. – А я увидел у дома твоего пса и никак не мог вспомнить, чей же он. Ну никак!
– Худо дело, совсем худо, – сочувственно и серьезно отозвался старик, будто и в самом деле поверил словам майора. – Не узнал Таас Баса, значит глаза совсем плохие стали и память плохая. Лечить надо. Крепко лечить. Смотри, через год и меня не узнаешь.
– Шучу я, шучу, – заметил майор.
– А я тоже шучу, – рассмеялся гость.
Он свободно говорил по-русски, и только иногда в его речь вплетались обороты и выражения, свойственные коренным жителям Якутии.
Быканыров до революции работал по найму у русских купцов, в годы становления Советской власти состоял в Красной Гвардии и постоянно общался с русскими, потом, в течение двух лет, обучался в русской школе.
– Ты как же узнал, что я тут? – спросил Шелестов. – Ведь мы только вчера ночью прилетели.
– Не знал я, что ты здесь, Роман Лукич. Точно, не знал. Я к директору пришел. Сам пришел. Дело привело меня сюда. И хорошо, что ты тут. Расскажу тебе все.
– Дело делом, а сначала давайте завтракать. Как, друзья?
Все согласились, что это правильное решение. Эверстова начала разливать чай по эмалированным кружкам, и майор придвинул табурет к столу.
Но, занятый едой, он украдкой разглядывал своего старого друга. Волосы на голове Быканырова поредели, побелели, но оставались, как и прежде, жесткими, колючими, словно у ежика. Морщин прибавилось. Они напоминали собой щели. Но старость не портила лица Быканырова. Узко прорезанные живые и умные, но немного уставшие глаза его подчеркивали мудрость старческих лет. Они смотрели зорко, смело, как это бывает у людей, проведших большую часть своей жизни среди природы. Обилие морщин говорило, как раны на теле закаленного в боях воина, о том, что за плечами старика лежала нелегкая жизнь.
– Все еще охотой промышляешь? – спросил майор, допив кружку чая.
Старик кивнул утвердительно головой и добавил:
– А ты подумал, что я негоден уже, стар стал?
– Скажи пожалуйста, – подтрунил Шелестов. – Выходит, что и годы тебе нипочем? Вечно молодой и вечно охотник?
Все рассмеялись. Рассмеялся и Быканыров. Морщины задрожали у него на лбу, на висках, на щеках и разбежались в разные стороны. Он даже как бы помолодел.
– Правильно сказал. Хорошо сказал. Вечно молодой и вечно охотник. Ноги крепкие, – ходить можно. Глаза все видят, – стрелять можно.
– А что ты тут без меня рассказывал?
Быканыров отставил недопитый чай, сдвинул редкие выцветшие брови, полез в карман, достал трубку и кисет с табаком. Он не торопился с ответом и, видимо, вспоминал, о чем шла речь до прихода майора.
Сухими тонкими пальцами с выпуклыми, миндалевидными ногтями Быканыров набил глиняную трубку, умял табак в ней и, уже задымив, заговорил, ткнув пальцем в грудь Ноговицына.
– Ему говорил, ему. Якут, а летает, как птица. Высоко летает, всех видит, всю жизнь нашу видит. Счастливый человек. А жизнь совсем другая стала. Я в его годы ничего не видел. Купца одного видел и приказчика. Теперь Советская власть всему учит, а нас учили: купца почитай, урядника уважай, бога люби и бойся. А бога два было. Один шаман – наш, другой поп, русский, – ваш. – Быканыров закатился мелким смешком, сделал крепкую затяжку. – Ваш бог придет в тайгу, окрестит одного, а от него все православные идут, а когда помрет якут и хоронить надо, – наш бог приходит, шаман. – Он на минуту замолчал, задумался. – И тайга другая стала. Я ее всю исходил. Столько верст сделал, что шаману веревками не вымерять. Раньше в тайге ничего не было видно, а сейчас все видно. Раздвинулась тайга.
Встречи с Быканыровым всегда возвращали Шелестова к той далекой ночи, когда он впервые узнал старого охотника и нашел в нем верного друга. И сейчас, слушая Быканырова, майор вспомнил далекое прошлое. Шелестов не знал отца. Его отец убит током высокого напряжения за месяц до появления на свет сына. Плохо Шелестов помнил мать, умершую на седьмом году его жизни. Старик Быканыров, с которым он сдружился двенадцать лет назад, был, пожалуй, тем единственным человеком, на котором Шелестов сосредоточил свои сыновние чувства. Не было года, не считая трех военных лет, когда бы они, невзирая на огромные расстояния, их разделяющие, не встречались.
И с самой первой давней встречи Шелестов и Быканыров прониклись друг к другу глубокой, прочной и взаимной мужской симпатией, переросшей в большую человеческую дружбу.
Четко, ясно, зримо, во всех деталях стоит в памяти Шелестова та ночь, когда он, преследуя пробравшегося в тайгу из-за кордона диверсанта, попал с упряжкой оленей в большую полынью. Олени утонули, а сам он едва спасся, удержавшись на кромке льда. Но, спасшись от воды, он должен был неминуемо погибнуть от другого. Он лишился всего того, без чего человек в тайге при безлюдье и бездорожье, при пятидесятиградусном морозе вообще не может существовать: спичек, оружия, средств передвижения. Он не мог уже ни развести огня, ни добыть себе пищу, ни идти куда-либо в поисках людей и жилья.
А мороз быстро делал свое дело: Шелестов покрылся прочной, точно стальной панцырь, ледяной коркой, сковавшей все его члены.
Но ему не суждено было погибнуть. Семь дней Шелестов до этого находился в тайге, увлекшись преследованием диверсанта, и не встретил ни одной человеческой души, а тут, через каких-нибудь двадцать-тридцать минут после случившегося с ним несчастья, внезапно, каким-то чудом появился человек.
Человек этот шел на лыжах. Это был Быканыров. Через считанные минуты уже горел костер, и Шелестов, упрятавшись в доху нового знакомого, сушил у огня свою одежду.
Узнав обо всем, Быканыров оставил Шелестова до следующей ночи одного, отдав ему скудные запасы пиши и даже ружье, а сам ушел и вернулся с двумя нартами.
Этот эпизод и положил начало дружбе.
Через месяц Шелестов сам навестил Быканырова, подарил ему свое бескурковое ружье двенадцатого калибра, с которым старик никогда более не расставался.
Трижды проводил Шелестов свой отпуск в таежной избушке Быканырова. Они вместе охотились. Дважды старик, по приглашению майора, гостил у него в Якутске. Сколько было вместе продумано, пережито, переговорено за долгие северные ночи. Сколько поведали друг другу своих мыслей охотник и офицер-разведчик. Сколько незабываемого принесла эта большая дружба. Выполняя боевое задание, Шелестов нередко прибегал к помощи Быканырова, как опытного проводника и надежного переводчика, владевшего не только родным и русским языками, но и языком эвенков, юкагиров, чукчей…
Углубившийся в воспоминания майор не заметил, как Быканыров умолк и вместо него стал говорить Ноговицын. И оторвался от своих мыслей майор лишь тогда, когда старый охотник обратился непосредственно к нему.
– Клава и Вера здоровы? – спросил Быканыров о жене и дочери Шелестова.
– Все в порядке, здоровы, и тебя помнят. В гости ждут.
– Приеду. Последней зимней дорогой приеду, – заверил старик. – Белок на шапки обеим привезу. И дело в Якутск есть.
– А помнишь, как ты мне в Оймякон вез лисят, а они у тебя по дороге сбежали?
– Однако, помню, – ответил старик, кивая головой. – Помню, как и в Чурапчу приходил к тебе в гости, как угощал ты меня.
– Вот угощал я в Чурапче тебя плоховато, не криви душой, – улыбнулся Шелестов. – Не было тогда чем угощать.
– Э-э, неправильные слова говоришь, – возразил Быканыров. – Совсем неправильные. Неважно, чем угощал, а важно, что с душой, с сердцем.
Беседу друзей прервал вошедший в комнату Белолюбский.
– Я к вам, товарищ майор, – обратился он, переступив порог.
Шелестов спохватился, что, увлекшись разговором, он на какое-то мгновение забыл, что привело его сюда. – Меня прислал товарищ Винокуров, продолжал Белолюбский. – Как вы считаете, можно хоронить Кочнева?
– Нет, нельзя. Передайте Винокурову, что тело Кочнева надо сохранить до приезда сюда представителей судебной экспертизы. Это не составит особого труда при данной температуре. Как ваше мнение?
– Полностью согласен, – ответил комендант и вышел.
Шелестов встал, прошелся по комнате. Решил он, кажется, правильно. Конечно, нельзя хоронить инженера. Везти тело покойного в Москву – дело очень трудное и практически неосуществимое. Придется сюда пригласить судебно-медицинского эксперта.
– А кто умер? – поинтересовался Быканыров и смахнул с колен хлебные крошки.
– Инженер. Инженер Кочнев, приехавший из Москвы, – пояснил Шелестов и добавил: – И не умер, а его убили, а кто – неизвестно.
От этих слов Быканырова точно подкинуло. Он вскочил со стула, подошел вплотную к майору и взял его за поясной ремень. По расположению складок на лице старика Шелестов определил, что он разволновался. Шелестов ждал, что скажет Быканыров.
Тот взглянул поочередно на каждого из присутствующих, решая про себя, можно ли посвящать в такое дело всех, и, приняв решение, сказал:
– Дело у меня. Большое дело. Не напрасно я тут. Чужой человек пришел в тайгу. Я не знал, что ты здесь. Хотел повидать директора и узнать, кто пришел сюда.
– Какой человек? – недоуменно спросил Шелестов.
– Не знаю, какой, но, видно, чужой.
– Ты видел его?
– Не видел. След видел. Таас Бас на след вывел. Темный, чужой человек не дошел до моей избы. Крюк сделал, а зачем делать крюк, если человек хороший. Три дня назад. Я пошел по следу и пришел на Той Хая. За полверсты от рудника потерял след. Совсем потерял. Снег выпал, и след пропал.
Сообщение Быканыррва заинтересовало майора. Он усадил старика, сел рядом и попросил подробно рассказать обо всем.
Быканыров рассказал, как было дело, не упустив ни одной детали.
Шелестов думал: новые обстоятельства. Подозрительный человек мог появиться на руднике и уйти, не замеченный жителями поселка. И ничего в этом странного нет, тем более, что выпал обильный снег. Но что заставило его появиться здесь на столь короткое время? Не имеет ли это какой-нибудь связи с убийством Кочнева? И неужели никто не мог заметить его прихода или ухода? Ведь приходил он не просто так, а к кому-нибудь.
Смутное, глухое беспокойство овладело майором.
"Уже вторые сутки идут, а ясности пока никакой нет, – волновался он. – Хотя бы, какая-нибудь маленькая зацепочка, а то, ну, ровным счетом ничего".
Он энергично потер лоб, встал и начал натягивать на себя кухлянку легкую дошку из шкурки молодого оленя, шерстью наружу, с прорезом для головы и с длинными рукавами.
– Пойдем со мной, отец, – предложил майор Быканырову.
Старик встал и начал надевать доху
– А нам какого-нибудь дела не будет? – спросил старший лейтенант Ноговицын.
– Пока нет. Отдыхайте. Много дела будет впереди, – ответил Шелестов и подумал: "Не все же время я буду топтаться на одном месте. Не может этого быть. Определенно, не может…"
С неба падали сухие и редкие, легкие, как пух, снежинки.
– Однако, опять снег будет, – сказал как бы про себя Быканыров, поглядев на небо.
Они пошли по поселку. Почти изо всех труб ровными высокими столбами валил густой дым. Воздух был пропитан запахами свежевыпеченного хлеба, какого-то аппетитного варева, обжитых домов, жарко натопленной бани.
СЛЕДЫ
Шелестов и Быканыров сидели в конторе рудника друг против друга. Молчали. Майор курил одну папиросу за другой, а старый охотник посасывал свою неизменную глиняную трубку. Она издавала то хрип, то свист, то отчаянно потрескивала, будто собираясь взорваться, но все же безотказно дымила и вполне устраивала старика. И он не решился бы сменить ее ни на какую новую.
Молчание нарушил Быканыров.
– Зачем ты позвал коменданта? – задал он вопрос.
Шелестов посмотрел в глаза старого друга и тихо ответил, выпуская клубы дыма:
– Поручу ему обойти все квартиры в поселке. Чем черт не шутит, может быть, кто и видел постороннего на руднике. Он же в конце концов человек, а не иголка.
– Хорошо задумал, хорошо, – одобрил Быканыров. Не имея к тому никаких оснований, он тоже почему-то связывал появление в тайге неизвестного с совершенным преступлением, а потому и высказал свое предположение: – Думаю так: человек на рудник пришел, а обратно не ушел. Тут, однако, остался. Я ходил долго кругом, следов нет. Совсем нет. Гладко кругом, тайга, снег.
– И это возможно. Вполне возможно, – согласился майор.
– А зачем коменданта посылать? – спросил Быканыров. – Сходи сам, или я схожу.
Шелестов отрицательно помотал головой:
– Нельзя. Неудобно. И ты, и я новые здесь люди и можем вызвать подозрение.
– Однако, правильно, – быстро согласился Быканыров.
Шелестов, прежде чем обратиться за помощью коменданта, долго раздумывал, стоит ли посвящать лишнего человека в это странное происшествие. Вначале он решил поручить Винокурову обойти поселковые дома и побеседовать с их обитателями. Но только что покинувший контору Винокуров честно признался, что был за все время работы на руднике не более чем в двух-трех домах, и что его приход тоже может вызвать кривотолки. Поэтому пришлось остановиться на Белолюбском.
Винокуров дал ему хорошую характеристику, отрекомендовал его человеком проверенным, энергичным, который с успехом справится и с более сложным поручением.
Со слов Винокурова, Белолюбский пришел на Той Хая года полтора назад с Джугджурских приисков. Вначале его поставили работать на лесопилку, потом перевели в механический цех, затем выдвинули заведывать транспортом, а осенью назначили комендантом.
Опять на некоторое время воцарилось молчание, и опять его нарушил Быканыров.
– Зачем много думаешь? Голова заболит, – проговорил он. – Все хорошо будет. Сначала мало-мало плохо, а потом хорошо. Изловим худого человека, в тайге не скроется. Помнишь Ухгун атаха?
– Кого, кого?
– Ухгун атаха.
Шелестов невольно прикрыл глаза, и в его памяти ожило давно прошедшее. В сороковом году он и Быканыров долго ходили из одного конца тайги в другой в поисках диверсанта, пробравшегося из-за кордона. Он совершал поджоги в колхозах, факториях, на приисках и был неуловим. Якуты прозвали его Ухгун атах, что означает длинная нога. Диверсант не оставлял за собой никаких следов, действовал в одиночку и безнаказанно совершал преступления два месяца сряду. Шелестов утратил надежду изловить его, но все же изловил. И помог ему в этом старик Быканыров. Он упорно искал след диверсанта на восточной окраине Якутии и, наконец, набрел на него.
– Да, отлично помню, – заметил Шелестов. – Все-таки он не минул наших рук.
– И этот попадет, – заверил Быканыров.
В коридоре послышались шаги, раздался стук в дверь, и в комнату вошел комендант Белолюбский.
Майор пригласил его сесть и сразу приступил к делу:
– Вы сможете, не вызвав особых подозрений и ненужных расспросов, обойти квартиры в поселке и проверить, нет ли где-либо в доме постороннего человека?
Белолюбский усмехнулся, воткнул докуренную до "фабрики" папиросу в пепельницу и, в свою очередь, спросил:
– Вы мне не верите?
– Это как понимать?
– Я же не маленький. Слава богу, пятьдесят три года прожил на этом свете. Я же заверил вас, что в поселке нет посторонних. Ни одного человека. А вы не верите.
Шелестов нахмурился.
– Дело не в том, верю я вам или не верю. Я получил достоверные данные, что кто-то посторонний проник на днях в поселок и остался в нем.
Комендант взглянул мельком на Быканырова и пожал плечами.
– Кто может знать, какая и откуда нагрянет беда. Но если это так, то комендант я никудышный и гнать меня надо в шею. Нет, не может быть. Я сейчас могу рассказать вам, что делается в каждом доме, а вы нарочно проверьте. Хотите?
– Не особенно, – ответил Шелестов. – Я хочу, чтобы вы проверили, это будет удобнее.
– Пожалуйста. Если дело за мной, то я тут все вверх дном переверну.
– Этого как раз и не требуется, – пояснил майор.
Белолюбский добродушно улыбнулся:
– Я шучу. Сделаю все так, что и комар носа не подточит.
– А сколько времени займет обход?
Белолюбский задумался, и тут впервые на его покатом лбу Шелестов подметил собравшиеся в гармошку тоненькие морщины.
– К ночи, пожалуй, управлюсь.
– Отлично! – и Шелестов встал. – Не стану вас задерживать.
*
* *
Сгущались сумерки. Падал обильный снег, который предсказал Быканыров.
В избе Василия Оросутцева царила темнота.
Шараборина не было в комнате. Теплой комнате он предпочел сырое подполье. Забравшись туда, он постлал на землю медвежью шкуру, расположился на ней и заснул. Подполье не казалось ему особенно приятным местом, но он не решился спать в комнате. У него были на этот счет свои соображения.
"Что ни говори, а в подполье надежнее, – рассуждал он. – Там никто не увидит. Ему хорошо, – подумал он об Оросутцеве. – У него паспорт на руках. А мое дело собачье. А раз так – лезь в конуру".
Шараборин не слышал, как возвратился хозяин, как он отпер дверь, вошел в комнату. И лишь когда над его головой раздались тяжелые шаги и скрип прогнивших половиц, он очнулся и насторожился.
– Эй, таракан! Вылезай быстро! – громко скомандовал Оросутцев и притопнул повелительно ногой. Ему не трудно было догадаться, что гость сидит в подполье.
Шараборин не заставил себя долго ждать. Творило подполья приподнялось, и в черном проеме показалась бритая голова гостя.
– Быстрее, – раздраженно торопил Оросутцев.
– Что так? – спросил Шараборин, и на лице его отразилась смесь удивления и испуга.
Оросутцев не удостоил его ответом.
Шараборин вскарабкался наверх, напустив из подполья в комнату сырого затхлого воздуха.
– Заячья душа, – скривил губы Оросутцев, и в лице его появилось что-то свирепое. – Чего черт понес тебя в подполье? Стучался кто, что ли?
Шараборин только покрутил головой. Он не стал объяснять, чем был вызван его переход в подполье. В таком случае пришлось бы признаться в ничем не оправданной трусости. Человеку, совесть которого черна, всегда не по себе одному, и он не знает, куда себя деть. Он уселся на табурет, зевнул, протер кулаками заспанные глаза, почесал за пазухой и попросил папиросу.
Оросутцев подал ему пачку "Беломорканала" и спички.
Шараборин закурил, потянулся рукой к выключателю, чтобы зажечь свет в комнате, но хозяин остановил его:
– Не надо. Одевайся. Оставаться у меня в доме и в поселке далее опасно. Понял? Этот майор уже знает, что на рудник пробрался кто-то посторонний. Тебя, видно, выследили.
У Шараборина перехватило дыхание. Ему показалось, что на его горле затягивается петля-удавка, и он невольно сделал такое движение, будто хотел освободиться от нее. За последние дни он и без того не чувствовал внутренней собранности, а тут…
– Никто меня не видел, – неуверенно запротестовал он.
– Это ты так думаешь, чучело гороховое, а что думает майор – нам неизвестно. Да и не время разбираться, видел тебя кто или не видел. От этого нам не легче. Одевайся, становись на лыжи и дуй в тайгу. Прямо по дороге, через пруд. Засядь там, где ночевал осенью, и жди меня. Я управлюсь кое с чем и к полночи подойду. Тогда пойдем вместе. Мне тут тоже делать больше нечего. Где спички?
Шараборин возвратил спички. Оросутцев сунул коробку в карман. И сделал он это не случайно. Он отлично знал, что без огня и продуктов Шараборин не рискнет, не дожидаясь его, уйти далеко в тайгу. Оросутцев был кровно заинтересован в том, чтобы Шараборин подождал его. Шараборин сейчас, как никогда, был ему нужен.
– Торопись, торопись, – подгонял хозяин гостя, видя, что тот не особенно торопится.
Шараборин одевался молча. Если бы не темнота в комнате, Оросутцев мог бы прочесть на лице его отчаяние и негодование. Шараборин кипел от ярости, от сознания того, что через считанные минуты он вновь окажется в тайге, которая сидит у него уже в печенках, на холоде, на снегу, без продуктов, без курева, без охотничьих припасов. И возмущение его было так велико, что он не выдержал.
– Так не пойду, – сказал он вдруг с неожиданным для него упрямством. – Не пойду. Харчи давай. Ты хозяин, а хозяин даже собаку кормит.
Оросутцев скрипнул зубами. Он не терпел, когда ему перечили.
– Не ворчи, – оборвал он гостя. – Ишь ты, разворчался, – и передразнил: – Хозяин… собаку… Возьми на полке калач и ступай. Ступай, пока идет снег, и след твой заметет. Ох, достукаешься ты опять до лагерей, чертова кукла. – И он подал Шараборину черствый калач. Тот сунул его под доху, но не двинулся с места.
– Говори, куда пойдем вдвоем? – потребовал он настойчиво. – Зачем ожидать тебя?
– После узнаешь, ступай.
Шараборин потоптался на месте, посопел и опять глухо потребовал:
– Говори сейчас.
"Вот же сволочь скуластая, ну что с ним делать?" – в сердцах подумал Оросутцев, но решил изменить тактику, смягчить тон.
– Пойми же, что долго объяснять. Каждая минута дорога. После расскажу. Приду и расскажу. Далеко пойдем. Я же о тебе пекусь, о тебе забочусь. Товарищ ты мне или кто? Пойдем вместе, верь мне, и ты не прогадаешь.
Не верил Шараборин, что в сердце Оросутцева могли вдруг прорасти зерна товарищества, доброты и заботы о нем. Но он промолчал и предупредил:
– Смотри, майора за собой приведешь по следу.
Оросутцев едва сдержал охватившее его негодование, шумно вздохнул, но сказал как можно спокойнее:
– Ступай, ступай, ради бога. У меня свои мозги есть и у тебя занимать не собираюсь. Ступай…
– Сеп, сеп*… – уже миролюбиво проговорил Шараборин и толкнул дверь ногой.
_______________
* С е п, с е п – ладно, ладно.
Оросутцев долго стоял, прислушиваясь, и, когда его ухо ясно уловило скрип удаляющихся лыж, включил свет.
*
* *
До глубокой ночи прождал майор Шелестов, сидя в рудничной конторе, коменданта Белолюбского и, не дождавшись, пошел на свою квартиру.
– Видно, не так все просто, как я предполагал и как рассчитывал комендант, – сказал он самому себе, шагая по уснувшему поселку. – Но почему он не зашел и не предупредил меня, что дело затягивается? Чудак человек! Зайти к Винокурову, что ли? Спит, наверное. Ну, ладно. Утро вечера мудренее.
Снегопад прекратился. Вызвездило. Тайга безмолвствовала, и крепчал мороз. Снег под ногами похрустывал особенно звучно. До слуха Шелестова долетел звук, похожий на ружейный выстрел, и майор догадался, что это треснуло дерево в тайге, не выдержавшее лютой стужи.
Из-за ровной гряды леса на небо выползала поздняя луна. Ее рассеянный свет разливался по поселку.
Разлапистая ель, растущая у общежития для приезжих, припушенная свежим снегом, при свете луны напомнила Шелестову японскую живопись, которую он видел на открытках, тарелках, гобеленах.
В доме все спали. Кто тихо, совсем неслышно, точно младенец, а кто с переливчатым бульканьем, похожим на мурлыканье кота.
Шелестов не находил в себе больше сил сопротивляться сну, к которому его, после бессонной ночи, неодолимо тянуло с полудня.
Он чувствовал, как тяжелела и точно чем-то наливалась голова, как набухали и слипались воспаленные веки.
– Спать… Немедленно спать… – приказал он сам себе. – Иначе завтра я не буду ни на что способен.
Бросив усталый взгляд на стол, заставленный едой, и не соблазнившись ею, он вяло разделся, повалился на койку и сразу утратил ощущение действительности.
И когда его растормошили, заставили открыть глаза и оторвать голову от теплой подушки, Шелестову показалось, что он только что прилег и проспал всего лишь несколько минут. Но через замерзшее окно был виден солнечный свет, его друзья сидели за столом, а около его изголовья стоял, переминаясь с ноги на ногу и пощипывая бородку, в своей неизменной волчьей дохе, Винокуров.
Майор приподнялся.
– Который час? – спросил он.
– Без четверти десять, – ответила Эверстова.
– Отвернитесь, Надюша. Я быстро, одним мигом, – попросил он, сбрасывая с себя одеяло.
Когда Шелестов взглянул в голубые глаза Винокурова, он подметил в них какую-то тревогу:
– Какие новости?
Винокуров только этого и ждал.
– Плохие новости. Пропал куда-то комендант, товарищ Белолюбский. С утра не найдем. Я буквально с ног сбился и людей загонял до седьмого пота. Нигде нет. Ни дома, ни в поселке, ни на руднике. Ума не приложу, куда мог деваться человек? С ним никогда подобного не приключалось. Всегда он был на виду, под руками. А тут… Вот напасти навалились на нас, – выпалил он скороговоркой, не переводя дыхания, и, вынув носовой платок, обтер влажное лицо.
– Интересно… Странно… – заметил Шелестов, обертывая ноги шерстяными портянками, а про себя подумал: "Этого еще не хватало. Не наткнулся ли он, чего доброго, на пулю, подобно Кочневу".
Сообщение Винокурова встревожило всех. Его окружили Ноговицын, Пересветов, Эверстова и забросали вопросами. Не отправился ли комендант на охоту? Есть ли у него семья? Где он был вечером? Кто с ним живет по соседству? Продолжаются ли розыски?
Винокуров едва успевал отвечать.
– Когда вы его видели в последний раз? – спросил Шелестов, приведя себя в полный порядок.
– Вчера, вчера, когда посылал к вам.
Шелестов перевел глаза с расстроенного Винокурова на пустую, тщательно заправленную койку, отведенную для старика-охотника.
– А где наш гость, товарищ Быканыров?
Ответила Эверстова:
– Он проснулся еще затемно и, видно, нашел себе какое-нибудь дело. Оделся и куда-то отправился.
Майор ничего не сказал. Надев доху, он вышел, а за ним последовал и Винокуров.
Под лучами солнца снег был до того ярок, что слепил до боли глаза, и Шелестов сощурил их.
– Что будем делать? – беря под руку майора, спросил Винокуров.
– Что-нибудь предпримем. Подумаем и предпримем, – сказал майор, хотя в данную минуту сам еще не представлял, что надо предпринять. Сообщение об исчезновении Белолюбского осложнило и без того уже сложную ситуацию. "Убит Кочнев… На рудник пробрался кто-то неизвестный… Исчез комендант… перебирал Шелестов очевидные факты. – Да, тут и черт ногу сломает".
– Неплохо бы произвести обыск во всех домах, – осторожно предложил Винокуров.
"Умнее ничего не придумаешь?" – хотел спросить Шелестов, но, не высказав своего мнения, спросил о другом:
– Белолюбский пил?
– Не замечал. Чего не замечал, того не замечал. Он всегда был на глазах, всегда был чем-нибудь занят, а свободное время проводил или за шахматами, или у меня, или в библиотеке.
– Семья у него есть?
– Нет. Никого. Он одинокий.
– Коммунист?
– Беспартийный, но добросовестно готовился к вступлению в партию. Он аккуратно посещал открытые партсобрания, участвовал в выпуске стенной газеты, сам выступал с разоблачительными статейками.
– Не насолил он тут кому-нибудь?
Винокуров растерянно развел руки.
– Затрудняюсь даже ответить. Помню, он как-то вывел на чистую воду завмага Сироткина. Тот менял продукты на пушнину, а пушнину сбывал в частные руки.
– Ну и что?
– А ничего. Сироткина привлекли к ответственности и осудили.
– Да… – протянул Шелестов и хотел еще о чем-то спросить Винокурова, но вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Он оглянулся и увидел улыбающееся лицо Быканырова.
По заиндевевшим бровям, ресницам, шарфу старика Шелестов сразу определил, что тот давно находится на морозе.
– Где пропадал? – спросил майор.
Подтянувшись к уху майора, старик шепотком доложил:
– Разговор есть. Большой разговор. Новости добыл. Ищи лыжи и пойдем со мной.
Хорошо зная старого охотника, Шелестов не допускал мысли, что тот без особого основания оторвет его от разговора.
– Ищите коменданта, – сказал он Винокурову. – Не может же человек бесследно пропасть. Ерунда какая-то! Соберите коммунистов, комсомольцев и заставьте их обследовать весь поселок. Он мне самому очень нужен. Прямо чудеса в решете происходят на вашем руднике.
– Попробую, попробую… – согласился без возражений Винокуров и засеменил к рудничной конторе.
Шелестов взял под руку Быканырова.
– Слыхал, старина? Белолюбский куда-то как сквозь землю провалился. Что здесь происходит, никак не возьму в толк. А что у тебя за новости?
– Лыжи ищи, лыжи… Надо. Шибко надо. Все узнаешь. Пойдем на пруд.
– Куда?
– На пруд. Покажу что-то.
*
* *
Вокруг проруби свежий снег был испятнан многочисленными человеческими следами, и в этом Шелестов не нашел ничего необычного. Он уже знал, что с пруда почти беспрерывно, в течение дня возят воду и лед.
Но метрах в пятнадцати от проруби Быканыров показал на чистый снег, и Шелестов увидел большие, точно впечатанные… не человеческие следы.
– Медведь! – воскликнул майор и опустился на колени. – Ей-богу, медведь! Подумать, куда его занесла нелегкая! Видно, воды захотел. Да-а, это опасный гость. Медведь, отказавшийся зимой от лежки, зверь беспокойный и неприятный.
Быканыров молчал, стоя рядом и попыхивая трубкой.
Таас Бас энергично обнюхивал след, тянул носом и вел себя беспокойно.
– Ишь, почуял звериный дух, – заметил Шелестов и погладил собаку. Хороший пес, умный, жаль вот только, что у тебя голоса нет. Все бы медали золотые тебе достались. Как, отец?
Быканыров продолжал молчать.
Шелестов поднялся, сдвинул сползшую на лоб шапку и полез в карман за папиросами, не отрывая в то же время глаз от медвежьего следа.
– И махина же, видать! Смотри, какие лапищи! Вот бы с такого шкуру снять. Неплохо, совсем неплохо. Она у него громадная, ворсистая, пышная, теплая. Такую и Якутпушнина примет.
– Значит, хорошую зверину нашел старик? – выбивая трубку, заговорил Быканыров.
– Куда уж лучше, – ответил майор.
Старик усмехнулся и покачал головой:
– Однако, это не медведь.
Шелестов с удивлением уставился на него, потом посмотрел на след.
– А кто же?
– Не медведь.
– Хм… интересно. А кто же, по-твоему? Уж не дух ли чей в медвежьей шкуре? И кто говорит – старый охотник.
– Зачем обижаешь старика? – огорчился Быканыров. – Правду я сказал. Правду. Лапы медведя, но шел не медведь.
– Ну что мне с тобой делать, – немного нервничая, проговорил Шелестов и вдруг рассмеялся. Уж больно серьезным для такой обстановки показалось ему выражение лица Быканырова.
И Шелестов не мог понять в конце концов, шутит ли старик, разыгрывает его, или говорит серьезно.
"А я-то что, – подумал он, – снял чуть не два десятка шкур с медведей и вдруг не могу разобраться, чей это след". – Майор вторично опустился на колени и стал тщательно осматривать отчетливые вмятины на снегу.
– Слушай меня. Дело говорю, – подошел к нему Быканыров. – Не медведь шел, а глупый дурак. Совсем глупый. Медведь, хоть и зверь, а у него поучиться можно, а это дурак.
– Ничего не понимаю. – Шелестов поднялся.
– Пойдем по следу? – спросил Быканыров. – Я один не хотел.
– Что за вопрос, конечно, пойдем.
– Таас Бас! – позвал Быканыров.
Пес лакал холодную воду из проруби. Он оторвался от воды, поднял голову, насторожил уши и стал облизываться.
– Вперед! – подал команду старик и показал рукой на след.
Друзья пошли вслед за собакой, но не прямо по следу, а сбоку от него.
Шелестов был явно озадачен и молчал. Хотя теперь на глубоком цельном снегу след вырисовывался не так отчетливо, как на пруду, майор не мог согласиться с утверждением Быканырова, что прошел не медведь.
Достигнув ложбинки, заросшей молодыми елками, друзья скользнули по крутой снежной осыпи вниз.
След вел по дну ложбинки. Дорогу преградила большая, отжившая свой век, сваленная ветром и полузанесенная снегом трухлявая сосна.
Таас Бас остановился и присел, готовясь к прыжку.
– Смотри-ка! – сказал Шелестов. – А ну-ка, пальни в нее!
По стволу сосны юрко запрыгала упитанная, пепельного цвета белка с оттопыренными щеками. Она, казалось, не боялась опасности.
– На медведя охотимся, на зайца не смотри, – с укором сказал Быканыров и свистнул.
Белка с сосны прыгнула на елку и скрылась.
Друзья пошли дальше. След вывел их из ложбинки на небольшую поляну, окруженную березами и елями, и оборвался у разоренного ветвяного шалаша. Тут же чернели еще не засыпанные снегом остатки перегоревшего костра, обгоревшие спички, окурки от папирос.
Поляна была вытоптана человеческими ногами, и от нее в тайгу уходил след свежепроложенной, отлично видимой лыжни.
Таас Бас рвался вперед, по лыжне, но старик сдержал его.
– Где же твой медведь? – спросил он с усмешкой Шелестова.
– Ничего не понимаю, хоть убей, – признался майор,
– То-то. Человек оставил след, а не медведь. Я сразу увидел.
– Но как? Как? – горячо заинтересовался Шелестов. – Почему я не разобрался? Да и сейчас я еще не совсем уверен.
Быканыров ухмыльнулся, снял рукавицу, отодрал сосульку от шарфа и полез в карман за табаком и трубкой.
– У человека два глаза, а у охотника четыре, – набивая трубку махоркой, начал он в поучительном тоне. – Тот глупый дурак подвязал к рукам и ногам лапы медведя. Думал, не поймут люди. А я понял. А почему понял? Идем сюда, – и старик сделал несколько шагов назад, туда, где еще был виден след медведя. – Смотри! Разве у медведя задние ноги одинаковые? А? Видишь, обе левые…
Шелестов опустился на одно колено, всмотрелся. Точно. Правая задняя нога "медведя" оставляла отпечаток левой ноги.
– И как же я прохлопал? – и майор с досадой стукнул себя по лбу.
Быканыров, довольный своим открытием и проницательностью, покуривал трубку и улыбался.
– Теперь мне все ясно, – сказал наконец Шелестов. – Интересно, кому понадобилась такая хитрая маскировка? Вот бы что хотел я сейчас знать.
– Узнаем. Придет время и узнаем, – заметил уверенно старик. – Может быть, комендант пошутить захотел, – добавил он.
Они возвратились вместе на поляну. Шелестов собрал окурки от папирос, обернул их носовым платком и положил в карман. Он начал обследовать место, где стоял шалаш, в надежде обнаружить что-нибудь ценное, а Быканыров занялся изучением следов.
Майор перевернул хвойный настил, который, видимо, прошедшей ночью служил кому-то постелью, разгреб золу, раскидал обгоревшие головешки, но ничего не нашел.
– Жаль, очень жаль, но ничего нет, – сказал он вслух и обратился к Быканырову: – Ну, что там нового?
– Все новое. Все хорошо, – по-молодому звонким голосом ответил старик. – Двое здесь было, а не один. Точно двое. Один пришел до снега. Ждал, ломал лапник, делал шалаш, огонь разводил. Долго сидел, потом лежал. Другой пришел с рудника. После снега пришел. А ушли вместе. На лыжах ушли. И не шибко давно. Однако, прошло часов десять. Теперь они далеко, совсем далеко. Шибко пошли. Один русский, другой якут. Один с палками пошел, другой без палок.
Шелестов стоял. Внешне он ничем не проявлял охватившего его волнения, но внутри у него все горело. Он готов был сейчас же побежать по горячему следу, оставленному неизвестными, но здравый рассудок подсказывал, что так поступать нельзя. Во-первых, надо было скорее возвращаться на рудник и продолжать расследование; во-вторых, догонять на лыжах людей, ушедших вперед чуть ли не на полсуток, было просто бессмысленно.
– Пойдем обратно, – сказал майор.
По пути в поселок Шелестов пытался разобраться с тревожившими его мыслями, предположениями, напрашивающимися догадками, но их было так много, что все его усилия и старания привести их в определенную систему ни к чему не привели.
Вначале у Шелестова появилась уверенность, что, обнаружив следы, ушедшие в тайгу, он добился чуть ли не главного на пути к раскрытию преступления, но чем ближе они подходили к поселку, тем эта уверенность становилась слабее.
Пока все факты: убийство Кочнева, появление вблизи рудника неизвестного, загадочное исчезновение коменданта, следы под медведя, лыжня, ушедшая в тайгу, в глазах Шелестова не имели между собой взаимосвязи и представлялись разрозненными, каждый сам по себе.
"А возможно так и в самом деле?" – спрашивал сам себя майор. С другой стороны, невероятным казалось такое нагромождение случайностей, если бы они не имели какой-то общей причины.
Но и от такого вывода ему пока не делалось легче.
– Гляди! – позвал его Быканыров и показал рукой.
Оказывается, они уже достигли пруда.
На сосне у самого пруда сидел большой, черно-бархатистого цвета косач с хвостовой лирой. Он, не обращая внимания на людей, ощипывал хвою и преспокойно глотал ее, вытягивая длинную гибкую шею.
– Теперь можно стрельнуть, – сказал старый охотник и вскинул бескурковку. Он начал выцеливать птицу. Щелкнул выстрел. Эхо отозвалось звонко, раскатисто. Петух камнем упал к подножию сосны, и к нему бросился, ныряя в глубоком снегу, Таас Бас.
Когда друзья достигли поселка, Шелестов спросил:
– А как ты думаешь, отец. Один из этих двоих не тот ли тип, что не захотел показаться в твоей избе?
– Не знаю. Думаю. Видно будет.
– Я хочу тебя попросить, – вновь заговорил майор, – вместе начать охоту на этого человека с медвежьими ногами. Как смотришь ты на это?
Старик выдержал небольшую паузу и ответил:
– Якут-колхозник знает, кто приносит беду в тайгу. Чтобы изловить худого человека, пойду далеко с тобой. На самый край пойду. Тайга, тундра, море, – везде найдем.
НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Василий Оросутцев и Шараборин шли на лыжах уже почти сутки. Первое время впереди шел Шараборин, прокладывая лыжню на цельном снегу, а затем его сменил Оросутцев. И не потому, что так хотелось тому или другому, а потому, что у Шараборина сломалась пополам правая лыжа, и ему теперь легче было идти вторым, а не первым. И нужно же было ей сломаться в такое неудачное время! Во-первых, починка лыжи отняла добрый час; во-вторых, лыжа получилась уже не та, стала короче левой, непослушнее. Сыромятный ремень, скрепляющий два конца лыжи, тормозил движение, затруднял его. Расстояние, пройденное более чем за полсуток, равнялось теперь, после поломки лыжи, часовому расстоянию.
Оросутцев нервничал. Он понимал, что так далеко им не уйти. Он также понимал, что на руднике его исчезновение уже обнаружили, наверное начали розыски. Он поставил перед Шарабориным одну задачу: поскорее добыть в тайге оленей и нарты, хотя сам сознавал, что задача эта не из легких. В колхозы, на стойбища охотников ни он, ни Шараборин показываться не решались, так как опасались действовать открыто. Надо было отыскивать одиночек охотников, у которых без опасений можно отобрать оленей, или же украсть оленей где-либо, не обнаруживая себя.
Шараборин нервничал не менее своего старшего сообщника. Он отлично понимал, что от него требуется, но за эти последние сутки, как никогда ранее, его охватило чувство растерянности и неуверенности. И к этому были причины. Он не знал, а Оросутцев не объяснил еще ему, куда они держат путь и каковы их цели. Следуя указаниям Оросутцева, Шараборин выждал его в тайге, за прудом, недалеко от рудничного поселка, и вот они идут, а как долго будут идти и что им это даст, Шараборин не представлял.
Шараборина не удивило то обстоятельство, что, выбираясь из поселка, Оросутцев прибег к медвежьим лапам, но его удивляло другое: почему молчит Оросутцев о том, куда они держат путь, почему он прячет под фуфайку фотоаппарат, хотя Шараборин уже заметил его.
До аварии с лыжей Шараборин хотел было поставить вопрос ребром и объявить Оросутцеву, что не хочет быть его попутчиком. Объявить это и податься в другую, нужную ему сторону. Но теперь он отказался от этой мысли. Надо было выждать немного, хотя бы до той поры, пока они найдут оленей.
И, решив так, Шараборин действовал со свойственным ему упорством. Он делал крюки, спрямлял дорогу, залезал в крепи, где, он предполагал, вероятнее всего можно было наткнуться на олений след или на шалаш охотника, но все было пока безуспешно.
А ночи, казалось, не будет конца. Она, как бы назло, остановилась.
– Протопали столько – и напрасно, – с раздражением сказал Оросутцев и остановился.
Шараборин молчал. Ему нечего было возразить. Он, кажется, и вправду потерял свое звериное чутье, которое не раз в жизни выручало его. Оно приводило его к воде, когда мучила жажда, к кочевью, когда требовалось тепло, к стаду оленей, когда ноги отказывались идти, а идти следовало быстрее. Исчезло это чутье, будто его и не было, и тыкался Шараборин по тайге, как слепой щенок.
Про себя он думал сейчас, что оленей им, наверное, не найти, но поделиться этой мыслью с Оросутцевым опасался.
– Отдохнем немного, – сказал Оросутцев и опустился прямо на снег. Выдохся я вконец.
– Отдохнем малость, – согласился Шараборин. Он тоже измотался и, пожалуй, еще больше Оросутцева нуждался в отдыхе. И, кроме того, ему причиняла беспокойство треснувшая от мороза нижняя губа. И ранкато, казалось, небольшая, но она саднила и вызывала боль. Губа распухла. Когда Шараборин неосторожно повертывал голову и задевал губой о шарф, ему хотелось кричать от боли. Он и говорить старался поменьше, чтобы не тревожить губу.
Оросутцев и Шараборин расположились на голом снегу, освободив натруженные ноги от лыж. Они не имели даже сил сделать настил из хвои.
Оросутцев полез в свой дорожный мешок, извлек оттуда два небольших куска промерзшего мяса и один из них бросил Шараборину
Промерзшее мясо вообще есть трудно, а с треснувшей и распухшей губой тем более. Еда причиняла Шараборину нестерпимые муки и вызывала в его сердце горечь и обиду. Шараборин не ел мясо, не кусал, а точил кончиками зубов, как зверь-грызун.
Холодное мясо не утолило голода, не прибавило сил. Неудовлетворенные едой, они закурили.
– Плохо будет, если к завтрашнему дню не найдем оленей, – проговорил Оросутцев, и эти слова вылетели у него непроизвольно, вместе с табачным дымом.
– Найдем, – постарался успокоить его Шараборин, хотя сам в это не верил, а если и верил, то очень слабо.
– Придется всю ночь бродить, а отдыхать будем днем, – сказал далее Оросутцев.
– Как хочешь, – согласился Шараборин.
Сквозь черные купы сосен и елей показалась поздняя луна, и от нее по снегу поползли расплывчатые тени.
Мороз крепчал, и его студеное дыхание уже начало пробираться под одежду Оросутцева и Шараборина.
– Ну и жжет, – и Оросутцев зябко подергал плечами. – Если так посидеть с полчаса, – околеть можно.
Шараборин подумал:
"Сейчас опять пойдем искать оленей, и опять я не буду знать, для чего мы их ищем и куда торопимся".
Он долго боролся с собой, наконец не выдержал:
– Зачем ты меня с собой тянешь? А? Зачем я тебе? У меня другой план есть.
Оросутцев поднялся и начал закреплять лыжи на ногах. Шараборин решил, что Оросутцев сделает вид, будто не расслышал его вопроса, и промолчит, но тот ответил:
– Как только найдем оленей, все тебе расскажу.
– Почему так?
– Ну что ты за человек! – сдерживая раздражение, заявил Оросутцев, неужели тебе не ясно, что делаю я все не ради своего удовольствия, а потому, что так надо. И ты тоже поймешь, что это надо. Пойдем. Теперь иди ты впереди, я эти места плохо знаю.
– Я тихо пойду, – предупредил Шараборин.
– Неважно. Я тоже уже быстро не пойду.
Они оставили место привала и долго еще петляли по таежной темноте. Ветви исхлестали, а острые иглы молодого сосняка искололи в кровь их лица. Ноги у обоих набухли, отяжелели от усталости и переставали слушаться. Уже далеко за полночь перебираясь через неглубокий, вымерзший до дна и занесенный снегом ручей, Оросутцев и Шараборин вдруг совершенно неожиданно наткнулись на следы оленей и нарт.
Они остановились и замерли на месте, стараясь проследить за убегающим следом, пока он давался глазу.
И как будто сил сразу прибавилось, и не так холодно стало. Шараборину показалось, что даже губа его перестала саднить.
– Не обмануло меня чутье. Все сюда, сюда, в эту сторону тянуло. Я чувствовал, – сказал он, хотя, конечно, на след оленей и нарт наткнулись совершенно случайно.
– Да, проводник ты что надо, – высказал похвалу Оросутцев. – Хорошо ты знаешь тайгу, чувствуешь себя в ней, как дома.
Это польстило Шараборину, но в то же время и немного насторожило его. Он так мало слышал похвал из уст Оросутцева, что не мог поверить в искренность и этой, и опасался, что похвала имеет особый, неразгаданный им смысл.
Шараборину, да отчасти и Оросутцеву, проведшим долгие годы в тайге, не составляло труда определить, куда и когда прошли олени, впряженные в нарты.
– Они прошли утром, совсем рано, и туда, налево, – сказал убежденно Шараборин. – Сытые олени, бегут здорово.
– Пошли налево, – предложил Оросутцев.
Идти по следу, оставленному несколькими оленями и двумя нартами, стало куда легче. Оросутцев и Шараборин затрачивали меньше сил на движение.
Шараборин сообразил, что оленями, видно, управлял хороший и знающий местность погонщик, так как след не вилял, а тянулся почти прямо через поляны, опушки, небольшие оконца в тайге, пересекал замерзшие пруды, ручьи, озера.
Луна уже поднялась высоко, и в ее призрачно-обманчивом свете рисовались фантастические картины. Каждый пень казался издали человеческой фигурой, застывшей в напряженном ожидании чего-то; снежные нависи на деревьях оборачивались в чудовищных зверей; дорогу преграждало вдруг непонятное, неестественное препятствие, в то время как на самом деле ничего не было.
Оросутцев, шедший теперь опять впереди, несколько раз останавливался, протирал заиндевевшие от дыхания, слипшиеся от мороза ресницы, и, убеждаясь, что с ними играет лунный свет, ругался:
– Дьявол его забери, наваждение какое-то, – и продолжал шагать дальше.
После часа безостановочного движения Оросутцев и Шараборин, строго придерживаясь следа, вышли на взгорок и остановились. Лицом к ним горюнилась рубленая изба. Дым из ее трубы тянулся к небу прямым высоким столбиком и рельефно выделялся на черной стене хвои. В нескольких метрах от избы лежали двое перевернутых кверху полозьями нарт. Это лучше всего свидетельствовало о том, что где-то недалеко пасутся олени.
Оросутцев и Шараборин стояли в молчании. Их отделяло от избы не больше чем метров сорок – сорок пять.
– Я говорил, что найдем оленей, – вполголоса заговорил Шараборин.
– Молодчина, молодчина… Но найти оленей – это еще не все.
– Я знаю, но главное – найти.
– Главное – взять их, и взять без шума, чтобы не видел хозяин.
– Они, однако, тут, недалеко.
– И надо брать всех, сколько есть, чтобы на остальных хозяин не пустился за нами в погоню.
– Всех заберем. Всех.
– А упряжь? – спохватился вдруг Оросутцев. – Упряжь-то, верно, в избе?
Шараборин умолк. Он совершенно упустил из виду упряжь, а ее порядочный хозяин, конечно, держит в тепле.
– Вот в упряжи-то и будет вся загвоздка, – сказал Оросутцев. И вдруг невдалеке раздался голос, заставивший обоих вздрогнуть.
– Э-гей! Что стоите на холоде? В дом проходите! – сказал человек громко по-якутски, выйдя из избы.
Оросутцев и Шараборин лишились возможности обменяться наедине своими мнениями и выработать план действий. Они себя обнаружили, бежать было бессмысленно. Да и к тому же якут подошел вплотную. Он всмотрелся в лица ночных путников и, найдя их незнакомыми, еще раз пригласил войти в дом.
Оросутцев и Шараборин, по молчаливому согласию, последовали за ним и вошли в дом. В небольшой комнате у горевшего камелька на высоком чурбаке сидела молодая женщина с приятным разрезом черных глаз, с гладко зачесанными волосами. Она пластала на доске большую рыбу баранатку. В двух чугунных котлах на жарких угольях булькала и исходила обильным паром закипающая вода.
С потолка, в центре комнаты, свисала на длинном крючке лампа "летучая мышь".
Поздоровавшись с вошедшими, женщина взяла доску с лежащей на ней рыбой и отошла в угол.
Комната, кроме небольшого, неокрашенного, но начисто выскобленного стола и нескольких чурбаков, служивших стульями, ничего не имела.
Ночные гости не без удивления оглядели комнату, что не укрылось от взора хозяина.
– Что? Бедно живем? – спросил он с усмешкой.
– Да, небогато, – ответил Оросутцев по-якутски, так как хорошо знал этот язык.
Хозяин еще раз добродушно усмехнулся и пояснил, что он с женой только утром вчера въехал в пустовавшую до этого избу. Правление колхоза поручило им обжить дом, так как с началом сезона в него должна вселиться целая бригада охотников.
– Мы еще не успели ничего сделать. Перевесили двери, а то они с петель сваливались, мусор выгребли, застеклили окно, законопатили щели, камелек подправили да дров припасли. Еще надо нары сделать, скамьи, трубу обмазать.
Хозяину было не больше тридцати лет. Ладно сидящая на нем суконная гимнастерка военного образца, солдатский ремень и общая выправка говорили о том, что он не так давно покинул армию.
Не нарушая местного обычая, Оросутцев и Шараборин сняли с себя шапки, кухлянки, уселись на чурбаки и закурили.
Хозяин подошел к одному из котлов и снял его с огня.
– Что варишь? – поинтересовался Оросутцев.
– Капкан новый варю, в хвойном настое. Хочу запах железа отбить у него. А вы кто такие будете?
– С рудника Той Хая, – поспешил ответить Шараборин, но, поймав на себе косой, неодобрительный взгляд Оросутцева, умолк.
Оросутцев же, опасаясь, как бы его сообщник не сказал что-нибудь лишнее, заговорил сам. У него к этому времени созрел уже новый план действий.
– Я везу грузы на рудник, на трех нартах, да вот олени выбились из сил и попадали.
Шараборин молча смотрел на Оросутцева, стараясь разгадать, что он затевает, между тем Оросутцев, сидевший ближе к огню камелька, расстегивал ватную фуфайку, и под ней Шараборин вторично увидел кожаный футляр, в которых обычно хранят и носят фотоаппараты.
– А что у тебя за груз? – поинтересовался хозяин.
– Срочный и опасный – взрывчатка.
– О! Это да, – заметил хозяин.
– На руднике ждут, из себя, видно, выходят, беспокоятся, а мы застряли и не знаем, как быть, – продолжал Оросутцев.
– Далеко оставили груз?
– Километров десять отсюда.
– Давайте кушать, – вмешалась в разговор хозяйка, – а потом разговаривать будем.
На столе уже стоял котел, от которого распространялся по комнате приятный запах рыбного отвара.
У Шараборина трепетала каждая жилка от голода, и он первый ответил на приглашение, пододвинул чурбак и сел к столу. Его примеру последовали и остальные.
Ели молча. Хозяева спокойно, а гости быстро и жадно, не в силах утолить голод. После того как похлебали рыбного отвара, поели рыбы, пили крепкий чай, забеленный ломтиками замороженного молока.
Когда с едой было покончено, Оросутцев угостил хозяина папиросой и спросил:
– А у тебя олени есть?
– Понятно, есть, – ответил хозяин. Привыкший курить трубку, он держал папиросу в руках осторожно, точно хрупкую вещь. – Шесть голов есть, два быка и четыре важенки. Хорошие олени. Второй раз запрягли за зиму. Очень хорошие.
– Вот я выручи нас. Ты же колхозник и должен понимать, что значит для нашего рудника взрывчатка. Тебя хорошо отблагодарят, деньги на руднике есть. Дай нам на сегодняшнюю ночь своих оленей, мы дотянем груз до твоей избы, оставим здесь, а сами пойдем на рудник.
– А у тебя документы есть? – спросил вдруг хозяин.
Оросутцев ничего не сказал и полез в карман пиджака. Если до этого он досадовал на Шараборина, что тот сразу сказал, что оба они с рудника, то теперь мысленно благодарил его. Документ так или иначе выдал бы его сейчас, а соври Шараборин тогда, вышло бы, конечно, хуже.
Он извлек из кармана удостоверение коменданта рудничного поселка Белолюбского и подал его хозяину. Тот внимательно ознакомился с ним, вернул владельцу, а затем, переведя глаза на Шараборина, спросил:
– А у тебя?
– Есть. Обязательно есть, – и Шараборин тоже полез в карман,
– Это мой попутчик, учитель. На рудник к нам едет. Теперь у нас два учителя будут: один русский, другой якут.
Диплом, поданный Шарабориным, не вызвал у хозяина дома никаких подозрений,
– Учитель – это хорошо, – заметил хозяин. – Но отдать вам оленей я не могу. Прав таких не имею. Олени колхозные, и я отвечаю за них. Я бригадир. А помочь вам надо. Рудник – большое дело. Я был на руднике раз – рыбу возил…
– Как же ты думаешь помочь нам? – спросил Оросутцев, начиная раздражаться оттого, что возникло препятствие.
Хозяин закивал головой.
– Помогу, помогу. Сам с вами поеду. Привезем груз ко мне. Олени обвыклись со мной, хорошо бежать будут. Быстро привезем.
Положение осложнялось, надо было мгновенно находить выход.
Оросутцев встал:
– Ну вот и хорошо, дружище! С тобой еще лучше. Собирай оленей и поедем. Чем скорее, тем лучше.
Но хозяин, к немалому удивлению Оросутцева, даже не встал с места.
– Утром поедем, – сказал он. – Пусть олени отдыхают. Они три дня сюда бежали. Да здесь мы полдня дрова на них таскали. Пусть отдыхают.
Оросутцев почесал затылок.
– Жалко, к утру были бы здесь. – Ему, правда, хотелось сказать хозяину нечто совсем другое, но он понимал, что тут он навязывать своих желаний не может.
– Рано поедем, рано поедем, – успокоил хозяин. – С грузом ничего не случится. В тайге он, как на складе.
– Это верно, – поддакнул Шараборин и обратил внимание на тот факт, что теперь уже Оросутцев не прячет фотоаппарата и он болтается у всех на виду.
– И отдохнете в тепле, – вмешалась в разговор хозяйка. – Утром чаю попьете и поедите, я успею мяса отварить, – она говорила тихо, мягко, растягивая слова, как бы нараспев и одновременно, отодвинув стол, расстилала на его месте оленьи шкуры.
Оросутцев видел, что возражать бесполезно. Он предложил выкурить еще по папироске, прежде чем ложиться спать. Ему нужно было переброситься наедине несколькими словами с Шарабориным, но тот, как нарочно, первым разулся, улегся на постланные шкуры, и не успел Оросутцев выкурить и полпапиросы, как услышал храп своего проводника.
*
* *
Все складывалось вопреки желаниям Оросутцева и Шараборина. Оленей им не удалось похитить. Хозяина не удалось уговорить отдать оленей или поехать самому с ними еще ночью. А проснувшись утром, они увидели горевший камелек и хлопотавшую около него хозяйку. В ее присутствии неудобно было разговаривать.
Оросутцев выругался про себя и, поднявшись с полу, сделал знак Шараборину, чтобы он вышел из избы.
Шараборин понял его, быстро оделся, вышел и сейчас же наткнулся на хозяина. Тот уже запряг оленей и ожидал гостей.
– Все готово, – объявил хозяин. – Вас поднимать хотел.
– Мы сейчас, сейчас, – заторопился Шараборин и быстро вернулся в избу, не дождавшись Оросутцева…
Туда же вошел и хозяин.
Кушали и пили чай так же, как и вчера, в молчании.
Хозяин сам торопил гостей. Он был заинтересован в том, чтобы скорее доставить груз и приняться за свои дела. Поэтому сборы были быстры, и Оросутцев так и не успел передать Шараборину своих планов.
Хозяин сел на первые нарты, как погонщик. За его спиной пристроился Оросутцев. Шараборин сел на вторые нарты один. К его нартам были привязаны двое свободных заводных оленей.
Олени бегом тронули с места, взметывая снежные брызги.
Оросутцев сидел, глубоко задумавшись, и соображал, как поступать далее. Он отлично знал, что попал в затруднительное положение. Он рассуждал так: как только хозяин наткнется на след их лыж, подходящий к нартовой дороге справа, со стороны рудника, он сразу заподозрит что-нибудь недоброе и возьмет под сомнение все, что рассказали Оросутцев и Шараборин вчера. А если и не обратит на это внимание и погонит оленей по проложенной ими лыжне, то Оросутцев и Шараборин, вместо того, чтобы отдаляться от рудника, будут к нему приближаться. Это совсем неинтересно, нежелательно и небезопасно.
"Значит, надо от него избавиться как можно быстрее, и до того места, где мы вышли на нартовую дорогу", – решил Оросутцев.
Но как это лучше сделать? Сидя позади хозяина оленей, он мог бы без труда сбросить его с нарт в снег. Но что это давало. Ровным счетом ничего. Это значило иметь живого свидетеля, человека, для которого ничего не составляло вернуться домой, схватить ружье, встать на лыжи и поднять панику кругом. Это значило допустить непростительную глупость, на которую Оросутцев не считал себя способным.
"Его нельзя оставлять живым, – пришла новая мысль в голову Оросутцева. – Если бы он не видел моих документов, тогда бы плевать на все, можно было столкнуть и удрать. Пусть ищет ветра в поле. Но документы он видел и, наверное, запомнил".
Оросутцев оглянулся и посмотрел на Шараборина. Тот сидел, как-то странно согнувшись. Он был очень рад, что главный вопрос, вопрос об оленях, пришлось решать не ему, а Оросутцеву.
Олени бежали быстро, нарты подбрасывало, и Оросутцеву ничего другого не оставалось, как держаться или за хозяина, или за нарты.
– Куда торопишься? – крикнул Оросутцев на ухо хозяину. – Успеем…
– Чем скорее, тем лучше, – ответил хозяин, но сдержал бег оленей и перевел их почти на шаг.
Теперь можно было действовать руками. Оросутцев еще раз оглянулся на Шараборина и полез рукой под кухлянку.
Еще мгновение, и Оросутцев вытащил из ножен свой длинный охотничий нож, осторожно выпростал руку из-под кухлянки и резко взмахнул ею, чтобы нанести безошибочный удар.
Хозяин нарт ничего не заметил, но чуткие, мало ходившие в упряжи олени приняли взмах руки за сигнал и сильно рванули. Оросутцев, не ожидая этого, откинулся корпусом назад и, чтобы не свалиться с нарт, свободной рукой ухватился за рукав дохи хозяина нарт. В то же время правой рукой, в которой был нож, он успел нанести удар. Но уже не с такой силой, как замышлял, и не в то место, в которое метил. Он хотел всадить нож под левую лопатку, но всадил его в мышцу левой руки.
Обожженный внезапной болью, еще не успевший сообразить, что происходит и чего испугались олени, хозяин быстро обернулся и, очевидно, понял все. Он увидел страшные, налитые кровью глаза Оросутцева и занесенный для вторичного удара нож. Хозяин нарт, охотник и таежник, тоже умел действовать быстро. Упершись ногами в полозья нарт, он сжался в комок и, выпрямившись, нанес удар головой в грудь Оросутцева и свалил его с нарт. Свалил и сам, не удержавшись, оказался в снегу.
Перепуганные олени пронесли нарты мимо двух людей, оставшихся на дороге.
В голове хозяина оленей сейчас была одна мысль: как можно скорее, не дав возможности опомниться Оросутцеву, обезоружить и обезвредить его. Он быстро вскочил, бросился на неуспевшего подняться на ноги Оросутцева, схватил его за руку, державшую нож, и на валился на него всем телом.
– Вот ты какой комендант… – вырвалось у него вместе с порывистым дыханием.
– Сволочь… Убью… Убью… – хрипел Оросутцев, сжимая противника.
Оросутцев был тоже силен, ловок и не раз выходил победителем из рукопашных, кровавых схваток. Свободной левой рукой он со всей силы ударил хозяина оленей в подбородок и отвалил его от себя.
За это короткое время, исчисляемое секундами, он успел увидеть, как олени, нарты и Шараборин скрылись за стволами деревьев на повороте дороги.
Оросутцеву хотелось бросить своего раненого противника и побежать вслед за оленями, но он понимал, что это невозможно.
Молодой якут – хозяин оленей, едва отвалившись от Оросутцева, вновь сделал прыжок, но Оросутцев, изловчившись, успел воспользоваться ножом и ткнул им без размаху в правую сторону груди противника. Тотчас же Оросутцев получил сильный удар ногой в локоть руки, и нож отлетел в сторону.
Хозяин оленей повалился на него, и два человеческих тела, сцепившись в клубок, катались по глубокому снегу.
Теплая зимняя одежда мешала им, связывала их действия, но все же они, почти не уступая друг другу в силе и ловкости, наносили один другому удары в лицо, в грудь, в живот.
Очуров крепко держал руку Оросутцева, вооруженную ножом. И вот, улучив момент, свободной левой рукой Очуров ударил Оросутцева в лицо и отвалил от себя. Теперь Оросутцев стал свободен. Он быстро вскочил и снова бросился на Очурова.
Неожиданный удар ножом пришелся в грудь охотнику. Однако Очуров тоже успел нанести противнику сильный удар в живот. Оросутцев опрокинулся навзничь и уронил нож. Очуров, теряя силы, подполз к ножу и овладел им. Теперь Оросутцеву ничего не оставалось, как спасаться бегством.
И когда из-за поворота дороги показались олени и на первых нартах сидел Шараборин, Оросутцев крикнул что-то нечленораздельное и на трясущихся ногах устремился навстречу своему сообщнику.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Внезапному исчезновению коменданта рудничного поселка Белолюбского майор Шелестов не мог не придать значения. Он понимал, что в таком запутанном деле, как это, каждый факт подлежал тщательному расследованию. И при этом каждое новое обстоятельство надо было изучать с точки зрения взаимосвязи его с уже добытыми ранее фактами. А обнаруженные на снегу следы, в сопоставлении со всем происшедшим, могли иметь решающее значение и послужить ключом к раскрытию тайны.
Узнав об исчезновении коменданта, Шелестов прежде всего решил проверить, выполнил ли Белолюбский его поручение или не выполнил. Он предложил Быканырову, Ноговицыну и Винокурову обойти большую часть жилых домов поселка и выяснить, заходил ли в них Белолюбский.
Быканыров и Ноговицын первые справились с поручением. Возвратившись, они доложили, что в тех домах, где они побывали, комендант давно не появлялся.
Последним пришел Винокуров. Он заявил то же самое.
– Ну вот, – сказал Шелестов. – Ему было, видно, не до моего поручения. У него, наверное, нашлись более важные дела.
Глаза заместителя директора рудника глядели пусто, растерянно. Исчезновение Белолюбского сильно на него подействовало, а сейчас, установив, что комендант даже и не пытался обойти жилой поселок, Винокуров окончательно расстроился. Он стоял против майора Шелестова, не сводил с него испуганных глаз и подергивал свою жалкую бородку.
Шелестов смотрел на Винокурова, но как бы не видел его, и думал о своем. Его спокойно-внимательные глаза были сосредоточены, губы плотно сжаты.
– Кстати, – заговорил майор после долгого молчания, которое еще более смутило Винокурова. – У вас, надеюсь, имеется анкета на Белолюбского?
– А как же, – немного оживился заместитель директора. – Уж где-где, а на моем участке работы всегда полный порядок. В этом я могу поручиться. Еще не было случая…
– Принесите мне все, что у вас есть на Белолюбского, – прервал его Шелестов.
Винокуров быстро покинул кабинет и очень быстро возвратился. Он положил на стол перед майором тоненькую папочку, на которой чьей-то рукой было старательно выведено: "Белолюбский В. Я.".
– Садитесь, – сказал Шелестов Винокурову и открыл папку.
В ней он нашел всего три документа: обычную для всех анкету и собственноручно написанные Белолюбским биографию и заявление о предоставлении ему работы на руднике.
– Он у вас начал работать прямо с должности коменданта? – спросил Шелестов, перелистывая папку.
– Нет, нет. Я же вам говорил. Вначале он…
– Я отлично помню, о чем вы говорили, а потому и спрашиваю. Здесь-то это не нашло никакого отражения. Даже характеристики нет.
Винокуров развел руками, привстал немного и вновь опустился на прежнее место.
Шелестов начал знакомиться с биографией Белолюбского и пришел к выводу, что он человек грамотный. Во всяком случае, мысли свои Белолюбский излагал связно и грамматических ошибок не допускал. Лишь после внимательного изучения двух рукописных документов майор обнаружил в них кое-что, заслуживающее внимания. В биографии было сказано, что родился Белолюбский в 1898 году, а в анкете значилось, что он рождения 1901 года. По биографии его родиной являлся г. Благовещенск, а по анкете – г. Майкоп. Обнаружились и другие расхождения. Так, судя по анкете, можно было понять, что на Джугджуре Белолюбский работал шесть лет, а по биографии выходило всего четыре года. По первой он покинул Дальний Восток в тысяча девятьсот сорок четвертом году, а по второй – в сорок шестом. По первой – он владел профессией чертежника и копировальщика, а по второй – наборщика типографии.
Майор Шелестов взглянул на даты обоих документов и нашел, что биография написана более чем на год ранее анкеты.
"Темная личность. Авантюрист какой-то, – подумал Шелестов. – Сколько их еще находит приют, благодаря нашему ротозейству".
Он спросил Винокурова:
– Вы Джугджур запрашивали о нем?
– Не успели, – ответил тот и опять сделал попытку приподняться.
– За полтора года не успели?
Винокуров только развел руками. Глядя на его лицо, можно было подумать, что он готов расплакаться.
– А где его трудовая книжка?
– Он ее потерял.
– Потерял? – Шелестов поднял свои и без того высокие брови.
– Да, переходил весной реку вброд, и трудовая книжка у него размокла. Он мне ее показывал. Получилась какая-то каша.
– Значит, не потерял, а повредил?
– Да, правильнее будет так.
– А вы убеждены, что он вам показывал остатки именно своей трудовой книжки?
Винокуров вскинул плечи, смутился:
– Утверждать не берусь. Из того месива, что он мне показывал, трудно было что-либо узнать.
Шелестов побарабанил пальцами по столу, встал и подошел к окну. Проговорил он тихо, как бы самому себе:
– Вы старый коммунист, товарищ Винокуров. Ответственный работник заместитель директора рудника. Мне даже неудобно говорить вам, но я не могу не сказать. Я был о вас лучшего мнения. Я не предполагал, что вы ротозей.
Винокуров сидел, опустив голову, и нервно пощипывал бородку. Он даже и не думал возражать.
Шелестов продолжал стоять у окна, спиной к Винокурову.
– И вот теперь попробуйте ответить мне, кто же такой был комендант на самом деле? – продолжал майор. – Где он родился? Сколько ему лет? Откуда он к вам пришел? Какова его профессия? Почему, он, будучи по образованию или опыту работы чертежником или наборщиком, согласился вдруг стать комендантом поселка? Да и Белолюбский ли он? А вы, как я от вас слышал, собирались принимать его в партию.
Шелестов круто повернулся. Как это случается, ему в голову пришла внезапно одна мысль, он вспомнил еще деталь, которой, как ему теперь показалось, он не придал значения в первый день приезда.
Винокуров тоже встал, готовый безмолвно выслушивать и далее горькие, обидные, но заслуженные упреки.
Но майор заговорил о другом:
– Пройдемте еще раз в комнату, где был найден убитым Кочнев.
– Пожалуйста, – согласился Винокуров.
Войдя в комнату, Шелестов подошел к выключателю и включил свет.
– Позвольте! – воскликнул Винокуров.
– Что такое?
– Лампа!
– Что лампа? – и Шелестов перевел глаза на электрическую лампочку, низко опущенную над столом.
– Большая лампа! Такой большой, с таким сильным светом я ранее не видел. Точно, не видел. Это же не менее двухсот свечей. Тут всегда висела маленькая, а директор и Кочнев работали с настольной. Хм… Откуда же она взялась?
Шелестов начал внимательно, при помощи лупы обследовать письменный стол и нашел на его поверхности то, что искал: несколько почти незаметных отверстий от кнопок или булавок.
Он попросил Винокурова открыть сейф.
Тот достал из кармана ключи, которые теперь хранились у него, и открыл сейф.
Шелестов извлек из сейфа свернутый в трубку план нового промышленного района, над которым работал инженер Кочнев, и разложил его на столе. Вначале разместил план узкой к себе стороной, потом широкой и, наконец, положил так, что отверстия, обнаруженные им на столе, совпали с отверстиями, имевшимися на плане.
– Все ясно, – сказал Шелестов, свернул ватман в трубочку и положил в сейф.
– А когда вы приходили сюда в первый раз к убитому Кочневу, какая была здесь лампа?
Потрясенный Винокуров, чувствуя на себе внимательный взгляд и не зная, что ответить, так как он в самом деле, напрягая всю свою память, не мог ничего вспомнить, словно здесь был какой-то провал в до сих пор, казалось, совершенно ясных впечатлениях о случившемся, растерялся вконец. Мгновенно промелькнула страшная мысль об ответственности, которую он должен понести за свою халатность и нерасторопность, и мало ли еще что могут поставить ему в вину. Испарина покрыла его лоб.
– Эх, вы… – пришел ему на помощь майор. – Ведь в первый раз вы были здесь утром, свет не включали, и я вполне допускаю, что могли не обратить внимания на лампу, хотя это и очень важное обстоятельство.
– Совершенно верно, – воскликнул просветлевший Винокуров.
– Но вторично, со мной, вы были ночью, и я тогда включал свет.
– Да, правильно… Включали… И я тогда хотел обратить ваше внимание на появление большой электролампы, но не придал этому значения и потом забыл в суматохе…
Шелестов насупил брови:
– Вы шутите или говорите серьезно?
– То есть?
– Что вы тогда обратили внимание?
– Да, не шучу, клянусь вам. Мне тогда бросился в глаза яркий свет, которого до этого я никогда не видел ни при директоре, ни при Кочневе.
– Это очень существенно, – в раздумье проговорил Шелестов. – А теперь зовите сюда секретаря директора и давайте опечатаем и сейф и комнату.
*
* *
Дверь дома коменданта Белолюбского майор Шелестов открыл своим ключом. Дверь открылась с режущим душу скрипом, и Шелестов, переступив порог, постарался поскорее захлопнуть ее за собой. Застойный запах, стоявший в непроветренной комнате, сразу ударил в нос.
"Удивительно противный запах", – подумал Шелестов и нажал кнопку карманного фонарика.
Снопик белого света пробежал по стене и остановился на розетке с выключателем.
Шелестов включил свет и огляделся.
Запущенная, невыметенная комната производила неприятное впечатление и, несомненно, характеризовала ее хозяина.
"Чувствовал себя здесь гостем", – решил про себя Шелестов и принялся за осмотр комнаты.
На стенной полке, завешанной старой газетой, он нашел бутылку, пахнущую водкой. Запах водки сохранили и две эмалированные кружки.
"Пили двое", – отметил майор.
В небольшом фанерном чемодане, стоявшем под кроватью, оказались: большой волосяной накомарник, чугунная дроболейка и пустая коробка из-под папирос "Беломорканал".
Лаз под пол нетрудно было заметить, и Шелестов открыл творило. На него дохнуло сыростью. Просветив все уголки подполья, майор спустился внутрь. Тщательно обшарив подполье, он обнаружил лишь несколько папиросных окурков и маленький, не более наперстка кусочек какой-то плотной массы. То и другое он сунул в карман и покинул подполье.
Он решил более детально осмотреть комнату, обшарил все щели, заглянул еще раз на полку, под железную кровать, и в одном из углов, где на скамье стоял под рукомойником таз, заметил слипшиеся пучки огненно-рыжих коротких волос. По длине все они были почти одного размера. Он завернул прядь волос в бумагу и тоже положил в карман.
Ничего другого обыск не дал, но и то, что добыл Шелестов, заставило его основательно поработать. Подвергнув допросу ряд жителей поселка, в том числе и заместителя директора рудника, Шелестов узнал, что никто с наступлением холодов наголо не стригся и не брился. Далее выяснилось, что людей с волосами, похожими на те, что обнаружил Шелестов, в поселке оказалось четверо, но каждый из них дорожил своей шевелюрой. Наконец, было установлено, что обычно, кроме Винокурова, дом Белолюбского никто не посещал и никто не видел за последние дни, чтобы кто-либо был гостем коменданта.
У самого Белолюбского волосы были черные, большие, в чем Шелестов убедился лично. Оставалось предположить, что или кто-то посторонний обрил себе голову в доме коменданта и не убрал сбритые волосы, или же, что всего вероятнее, комендант сам лично обрил кому-то голову. Но кому? Зачем? Какие цели преследовала подобная процедура? – оставалось для Шелестова загадкой.
Выяснилось и еще одно довольно важное обстоятельство: кусочек плотной массы, обнаруженной в подполье, оказался взрывчаткой.
Шелестов пригласил к себе начальника буровзрывных работ рудника. Тот подробно рассказал, какой порядок получения и расходования взрывчатки существует на руднике. Взрывные работы на каждом участке возглавляет старший взрывник, которому, в свою очередь, подчинены отпальщики. Взрывчатые вещества и взрывчатые материалы хранятся в отдалении от рудника, в специальном складе, под постоянной охраной. То и другое выдается со склада по требованиям, которые визирует начальник буровзрывных работ.
– Имел Белолюбский отношение к взрывным работам? – спросил майор.
– Никакого, – ответил начальник буровзрывных работ.
Шелестов решил еще побеседовать с заведующим складом ВВ и ВМ, и тот сообщил еще одну новость: летом, с непосредственного разрешения директора рудника Белолюбскому со склада выдали девять килограммов взрывчатки, запалы, бикфордов шнур, якобы для глушения рыбы в пруду.
– Ну и как, глушил рыбу Белолюбский? – поинтересовался Шелестов.
– Мне он сказал, что ничего не получилось и взрывчатка якобы затонула, – ответил заведующий складом.
Шелестов заперся в кабинете Винокурова и разложил перед собой все то, что на языке следствия именуется вещественными доказательствами. Тут были окурки папирос "Беломорканал", поднятые в тайге, там, где кончался "медвежий" след, и найденные в квартире коменданта кусочек взрывчатки и пучки рыжих, слипшихся волос. Не хватало чего-то, возможно маленького, без чего нельзя было подойти к решению главной задачи. Шелестов упорно и долго думал, пытаясь нарисовать себе хотя бы примерную картину трагедии, происшедшей на руднике.
В дверь кто-то постучал. Шелестов откинул крючок и впустил Быканырова.
Старик, видно, долго был на холоде, поежился, потер руки и полез в карман за кисетом.
– Все думаешь? – спросил он майора.
– А кто же за меня будет думать, отец? – спросил с усмешкой Шелестов.
– И долго будешь думать?
– А что?
– Уйдут далеко те двое. Время идет, далеко уйдут. Словить их надо.
– Словим, не уйдут.
– Однако, не они прикончили инженера?
– Возможно.
– Одного я знаю, – сказал Быканыров.
– Кто же он? – насторожился Шелестов.
Старик набил свою глиняную трубку и распалил ее. Оказывается, за это время он успел вторично побывать за прудом и ходил по следам, оставленным двумя неизвестными, и ему кажется, что один из двоих тот, который не захотел зайти в его избу и сделал крюк, тот самый, за которым он дошел почти до самого рудника.
Шелестов разочарованно вздохнул. Он ожидал, что Быканыров назовет имя неизвестного.
– О том, что ты рассказал, я тоже думал, – заметил майор. – Я точнее тебя знаю, что один из двух ушедших в тайгу – комендант Белолюбский.
– Ой-е! – воскликнул старик. – Я об этом не думал.
– А вот второй кто? – и он начал складывать на лист бумаги вещественные доказательства.
– Это что? – ткнул Быканыров пальцем в пучок рыжих волос.
– Волосы.
– Постой… Постой, Роман Лукич, – и Быканыров взял за руку майора. Где взял волосы?
Шелестов не делал из этого тайны и рассказал своему старому другу об осмотре дома коменданта.
Быканыров пощупал волосы пальцами, сел на стул и задумался. Мысли унесли его далеко, в полузабытое прошлое.
…Тридцать первый год. Пожар в колхозе и пойманный с поличным поджигатель, восемнадцатилетний парень-якут под кличкой "Красноголовый". Он сильно пьян и еле держится на ногах. Он ничего не хочет скрывать, плачет, как женщина, и рассказывает. Научили кулаки, шаман, друзья его покойного отца. Они напоили его и подослали подпалить колхозный склад, где хранится пушнина. Он сделал так, как его учили, и теперь сожалеет об этом.
Преступника передали органам правосудия. Следствие убедилось, что рассказал он всю правду. Чуждая мести и справедливая Советская власть, учтя молодость и малограмотность преступника, простила ему поджог, помиловала и отпустила. Наказание понесли зачинщики и подстрекатели.
"Красноголовый" пожил недолгое время в селе и вдруг внезапно исчез. Кто-то распустил слух, что он утонул, кто-то говорил, что он попал в тайге под стрелу, предназначенную для сохатого, и умер. Но на самом деле все было иначе. "Красноголовый" жил и здравствовал. В тридцать третьем году он напал на двух спавших в тайге старателей, убил их, похитил намытое ими золото и был задержан при попытке перейти государственную границу в сторону Маньчжурии. Ему удалось убежать из-под конвоя.
Потом за "Красноголовым" прочно закрепилась кличка контрабандиста. Упорно ходили слухи, что он промышляет контрабандой, носит на золотые прииски опиум, кокаин, морфий, обменивает все это на золото, а золото переправляет на ту сторону. Говорили, что и сам он не раз бывал на той стороне, а изловить его никак не могли. Ну прямо-таки неуловим был "Красноголовый".
В тридцать шестом году, на одном из притоков реки Мая-Юдоме группа якутов-охотников наткнулась на двух убитых китайцев – рабочих приисков. Дело происходило поздней осенью. Только что выпала первая пороша. След от убитых вел в горы.
Охотники, в том числе и Быканыров, бросились вдогонку. Два дня они шли без сна и отдыха и все же настигли убийц. Их было трое. И они не захотели сдаться без боя. У них было оружие, и они открыли огонь. Но охотники оказались более опытными стрелками. Двоих в перестрелке они уложили насмерть, а третьего взяли живьем. Это был "Красноголовый". Он думал выкрутиться, сваливал вину в убийстве китайцев на своих сообщников, опять плакал, как женщина, и опять каялся. Но на этот раз ему не поверили, и "Красноголовый" угодил в тюрьму.
О плохих людях в тайге быстро забывают, забыли и о нем. Но в годы войны "Красноголовый" вдруг опять объявился и стал напоминать о себе. Пошел слух, что "Красноголовый" сбежал, не отбыв срока. И слух подтверждался. Нет-нет, да и попадался он якутам, эвенкам на глухих таежных тропах. Куда, откуда он шел? Какие у него были дела? Где он нашел себе пристанище? Кто его укрывал? Как он себе добывал пищу? Никто ничего не знал.
Всю войну "Красноголовый" занимался грабежами, потом якобы взялся за старое ремесло – контрабанду, а лет через пять после войны опять попался. Группа бандитов совершила налет на обоз, но в обозе оказались смелые люди и дали отпор. Двоих бандитов удалось взять живыми, и помог в этом не кто иной, как пес Таас Бас. Одним из задержанных оказался "Красноголовый".
И так уж случается в жизни. Разные бывают совпадения. В обозе был Быканыров со своим верным Таас-Басом, и вторично ему довелось передавать "Красноголового" в руки правосудия. Осудили "Красноголового". Опять он начал уходить из памяти людей, но вот совсем недавно, год назад, стало известно, что "Красноголовый" совершил побег из лагеря, получил ранение в ногу, но все же ушел.
Эти воспоминания проплыли в голове Быканырова, и он поделился ими с майором.
– А почему ты подумал о "Красноголовом"? – поинтересовался майор.
– А это что? – и старик опять ткнул пальцем в пучок рыжих волос. Вот такие и у него были.
– Ты фамилию его помнишь?
– Помню. Шараборин.
– Верно. Вспомнил и я. Верно и то, что он бежал из лагеря и числится в розыске. Так ты думаешь, что тут был Шараборин?
Старик повел плечами.
– Почему нельзя думать? Шараборин всегда оказывался там, где кровь. Плохой он человек. Совсем плохой.
Шелестов подумал о чем-то своем, а затем спросил:
– Кстати, я забыл, почему у него рыжие волосы. Он ведь якут?
Быканыров кивнул головой.
– Якут, а рыжий, потому и прозвали его "Красноголовым". У него мать была якутка, а отец русский, царский урядник. И волосы у отца были, как огонь. Убили отца партизаны. Его отец банду по тайге водил.
– Помню… Теперь все помню.
Когда Шелестов и Быканыров вернулись на квартиру, было около девяти часов вечера. Летчик Ноговицын и механик Пересветов спали на одной кровати. Радистка Эверстова, сидя за столом, делала какие-то записи в своей тетради.
Быканыров прилег на свою койку отдохнуть, а Шелестов в раздумье заходил по комнате. У него еще не было никаких конкретных доказательств тому, что Белолюбский имеет отношение к убийству инженера Кочнева, но путаная биография коменданта, его таинственное исчезновение, наконец, пребывание в его доме неизвестного, обнаружение остатков взрывчатки – все это сосредоточивало подозрения именно на нем.
О том, что с Белолюбским в тайгу ушел "Краслоголовый", Шелестов так же мог лишь предполагать, как и то, что "Красноголовый" появлялся на руднике не случайно. И теперь Шелестов думал, главным образом, о том, как поскорее нагнать Белолюбского и его спутника и схватить их. Тогда, возможно, многое неясное станет ясным. Ему не без основания казалось, что Белолюбский может дать нить, идя по которой, размотается весь этот запутанный клубок.
Шелестов подошел к спящему старшему лейтенанту и, тронув его за плечо рукой, позвал:
– Товарищ Ноговицын…
Летчик моментально вскочил, а за ним и механик. Оба они спросонья как-то смешно и оторопело выглядели. Оба, как по команде, зевнули и протерли заспанные глаза.
– Товарищ Ноговицын! Сможете ли вы сейчас вылететь в Якутск?
Ноговицын встал, вытянул по швам руки и бодро ответил:
– Для этого нужно только ваше приказание.
– Так вылетайте, не теряя времени. Вас опередит радиограмма, и на аэродром, возможно, подъедет полковник Грохотов. Короче говоря, к вашему прилету будет уже кое-что приготовлено и подвезено. Грузите все и айда обратно. Я бы хотел вас видеть здесь рано утром. Обернетесь?
Ноговицын нахмурил лоб и спокойно ответил:
– Обернусь, если не задержит Якутск или погода.
– За Якутск я ручаюсь, не задержит, а погода вас не испугает – это мне давно известно.
– Тогда рано утром я буду здесь. Разрешите отправиться?
– Да. Желаю успеха. Ни пуха, ни пера.
Ноговицын рассмеялся и начал натягивать торбаза.
– Чему вы смеетесь?
– Да вот этому русскому напутствию: "Ни пуха, ни пера". У меня отец-старик плохо говорит по-русски. Он где-то услышал вот эту поговорку, скорее всего от русских охотников, – это же охотники так говорят, – ну и запомнил ее. Запомнил, но плохо. И вот как-то провожал меня в далекий рейс, – я летел в бухту Тикси, – и, прощаясь со мной, сказал этак серьезно: "В пух тебе и прах". Вот уже было хохоту.
Шелестов, Быканыров и Эверстова тоже рассмеялись.
– Ну как, готов? – обратился Ноговицын к своему механику.
– Готов, можно и в небо, товарищ старший лейтенант, – ответил тот, затягивая "молнию" на комбинезоне.
Летчик и механик пожали всем руки, и, когда дверь за ними закрылась, Быканыров опять прилег на свою койку и сказал:
– Хорошие ребята. Веселые, молодые, а молодость, однако, не признает никаких трудностей, все одолеет. К утру они будут здесь на своей птице.
Шелестов подсел к Быканырову и, положив руку на его плечо, проговорил:
– Ты, отец, тоже молодой и тоже не боишься никаких трудностей и препятствий. И я думаю, что ты рано утром тоже будешь здесь.
Старый охотник не понял смысла сказанного майором.
– А куда же я денусь? Я вот на этой койке и буду.
Майор посмотрел на ручные часы.
– Нет, дорогой. Тебе, видно, не придется спать этой ночью. Тебе предстоит дело.
Быканыров с несвойственной его возрасту проворностью поднялся с кровати.
– Что же ты тянешь, Роман Лукич? Говори сразу, какое дело.
– Я не тяну, я думаю. От тебя будет зависеть очень многое. От тебя будет зависеть: сможем ли мы завтра броситься в погоню за этими двумя или не сможем.
– Так, говори, говори, – торопил Быканыров. – Что надо, я все сделаю.
– Сколько километров от рудника до твоего колхоза? – спросил Шелестов.
– По-разному, Роман Лукич. И смотря для кого.
– Как это так?
– А вот так. Днем шестнадцать, а ночью все двадцать. Я пойду – одно дело, а ты – другое.
Шелестов закивал головой.
– Понял. А председателем колхоза по-прежнему Неустроев?
– Он.
– Нам нужны будут к утру олени и нарты. Восемь оленей и четверо нарт. Ваш колхоз ближе к руднику. И я думаю вот о чем: пойти ли тебе одному к Неустроеву или и мне вместе с тобой?
– Ты умный человек, Роман Лукич. Давно я тебя знаю. Скажи, однако, зачем двоим делать то, что сделает один?
– Я тоже об этом думаю. Поэтому становись на лыжи и иди в колхоз.
– И пойду, самой короткой дорогой пойду. Один я знаю эту дорогу. Два часа, – и я буду пить чай у Неустроева.
– Это будет очень хорошо. Попроси товарища Неустроева от моего имени и от себя лично. Расскажи ему все толком. Он поймет и даст оленей. Я думаю, что все колхозники кровно заинтересованы в поимке таких людей, как Шараборин и Белолюбский. Который из них опаснее, – сейчас сказать трудно.
– Понимаю, – коротко бросил Быканыров, одеваясь.
– Оленей выбери хороших, нарты исправные, проверь упряжь…
– Знаю, – ответил старый охотник, – сам буду все смотреть. Оленей возьму таких, что с осени не запрягались. – Он пощупал для чего-то свои ребра и стал надевать на себя короткую кухлянку. – Таас Бас пойдет со мной.
– А вы его кормили, дедушка? – спросила Эверстова.
– Я всегда вперед кормлю Таас Баса, а потом ем сам, – серьезно ответил Быканыров. – Вот я и готов. Утром буду здесь. Раньше буду, чем прилетят молодые.
Шелестов вышел проводить старого друга. Пока Быканыров осматривал и закреплял лыжи, майор думал: "Как много раз выручал меня этот надежный товарищ. И сколько раз еще доведется мне обращаться к его помощи?"
Он пожал руку охотника и стоял на ступеньках дома, пока Быканыров и Таас Бас не скрылись из глаз за строениями рудничного поселка.
"Теперь надо предупредить Якутск", – решил Шелестов, вернувшись в комнату.
– Сколько осталось времени до сеанса, Надюша?
Эверстова посмотрела на часы и ответила: тридцать две минуты.
– Ого! Не так уж много, – заметил Шелестов и, достав из полевой сумки карандаш и бумагу, сел за стол.
Подумав, Шелестов написал короткую телеграмму полковнику Грохотову:
"Полагаю, что напал на след преступников, которые скрылись в тайге. Принял решение преследовать их. Самолет отправил в Якутск. Прошу к его прилету подготовить офицера-оперативника, умеющего хорошо ходить на лыжах, и следующее, необходимое в тайге: недельный запас продовольствия, комплект сухих батарей для радиостанции, три пары лыж, палатку с печкой, две саперные лопаты, два бинокля, два компаса, четыре спальных мешка, походную аптечку. Кроме этого, прошу выяснять, кем и сколько времени работал на Джугджуре Белолюбский Василий Яковлевич. Прошу также прислать представителя судебной экспертизы для вскрытия тела Кочнева".
– Успеете зашифровать? – спросил Шелестов, подавая лист бумаги Эверстовой.
– Успею.
– Ну, а я лягу.
– Ложитесь, ложитесь, Роман Лукич. Ведь вам завтра рано вставать.
– А вам?
– Мне что, я все ночи сплю, а вы…
– Я тоже сплю, и сейчас вы в этом убедитесь.
Эверстова принялась зашифровывать радиограмму, а Шелестов, быстро раздевшись, залез под одеяло.
Закончив сеанс с Якутском, Эверстова закрыла радиостанцию, положила ее себе под подушку и, готовя постель, посмотрела в сторону майора. "Уснул, слава богу", – и она выключила свет.
Но она ошиблась. Шелестов не спал. Он размышлял над трагической судьбой инженера Кочнева.
"Как все это нелепо. Поехал человек в командировку и больше уже не вернется. А дома, в Москве, его ждут. Была у него, видно, семья, жена, дети… Знают ли они о том, что самый близкий для них человек погиб? Наверное, уже знают. Якутск, конечно, уведомил Москву. Кто же его убил? Белолюбский или этот "Красноголовый" – Шараборин?
Шелестову было не по себе. Сознание, что убийца инженера на свободе и даже еще не установлен, отравляло его отдых, отгоняло прочь сон.
Шелестову казалось, что он действует медленно, вяло, нерешительно, что на его месте кто-то другой действовал бы активнее и за это же время добился бы определенных результатов. Ему всегда так казалось. Да и в самом деле, не пора ли на сегодняшний день иметь в руках что-то более точное, чем одни предположения?
"А что более точное? – задумался майор. – Гм… самое точное – это дать ответ на вопрос, кто и с какой целью убил Кочнева. Пока, к сожалению, на этот вопрос может ответить лишь один человек – убийца. Но через несколько дней отвечу и я. Кое-что для меня уже ясно сейчас. Что к убийству Кочнева имеет отношение Белолюбский – это для меня уже решенный вопрос. Что во всей этой истории не последнюю роль играет план, над которым работал Кочнев, – в этом я убежден. Что Белолюбский не тот, за кого себя выдает, – истина, не требующая доказательств. А дальше… Дальше идет нагромождение фактов, конкретных фактов, между которыми я еще не вижу пока закономерной взаимосвязи. При чем здесь, например, взрывчатка? С какой стати Белолюбскому понадобилось брить чью-то рыжую голову? Что за человек приходил украдкой на рудник, и можно ли утверждать, что это именно "Красноголовый"?
Анализируя свои ощущения, Шелестов приходил к выводу, что не по себе ему было, главным образом, оттого, что он не смог сразу распознать в коменданте Белолюбском несоветского человека, авантюриста. А не распознав его, он допустил ошибку, доверился Белолюбскому и дал ему поручение.
Это ошибка, определенная и непоправимая, но… внутренний голос, между тем, протестовал:
"Ты что, майор, чародей, что ли, что хочешь, взглянув на человека, ставить вдруг безошибочный диагноз, честен он или нечестен, враг или друг! Нет, брат, это не так просто! И в твоих действиях я не вижу никакой ошибки. Ты лучше подумай вот над чем: допустим, что ты не дал никакого поручения Белолюбскому. Не дал и все. И тогда бы Белолюбский не исчез. И тогда бы твой друг, опытный охотник, не нашел подозрительных следов, идущих от пруда в тайгу. И тогда бы ты не попал в дом Белолюбского, не нашел бы рыжих волос, остатков взрывчатки, не заинтересовался бы личным делом коменданта. Видишь, что получается! И действуй ты не так, а иначе, возможно, что и до сегодняшнего дня у тебя бы в руках ничего не было… Да… вполне возможно…"
С отяжелевшей от долгих раздумий головой майор Шелестов забылся лишь под самое утро.
В ПОГОНЮ
Лейтенант Григорий Петренко вышел от полковника Грохотова около часу ночи в приподнятом настроении.
Секретарь полковника предупредил его:
– Машина у подъезда. Вы готовы?
– Вполне, – ответил Петренко и, подойдя к вешалке, начал одеваться.
– Вы так хотите лететь? – удивленно спросил секретарь.
– Нет, что вы, – улыбнулся Петренко. – Я уже почти северянин. Окончательно оденусь на аэродроме. Ну, привет, – и он подал руку секретарю…
Петренко быстро сбежал по ступенькам со второго этажа, уселся в закрытый "газик", и шофер тронул машину.
"Вот это да!" – подумал Петренко уже в дороге.
И действительно, где он только не побывал за последнее время. Семь суток ехал поездом чуть ли не через всю страну от Москвы до Большого Невера. От Невера через город Незаметный – центр Алданских золотых приисков, через хребет Холодникан, по скованной льдом Лене, пробирался четверо суток до Якутска автомашиной, а сейчас уже катил на аэродром, чтобы сесть в самолет. Его направляли в командировку, в распоряжение майора Шелестова, которого он в глаза не видел и который ожидал его где-то далеко, в тайге, на руднике со странным наименованием Той Хая. А там, как предупредил полковник Грохотов, придется иметь дело с оленями, лыжами, а возможно, и с кое-чем другим.
Петренко недавно исполнилось двадцать четыре года. С тех пор как он помнит себя, его неотразимо привлекал и манил к себе север. Его влекли далекие неизведанные пространства, суровые края, глухая, изрезанная звериными тропами, тайга. Его всегда волновали книги и фильмы о севере.
Родившись на Украине, он втайне, в душе стремился к сибирским просторам, носил в груди неукротимую страсть охотника-путешественника.
Когда молодым офицерам, окончившим училище, объявили о возможности выезда для продолжения службы в Якутию, Петренко первым дал согласие на выезд и подал рапорт.
И вот он на крайнем севере, в Якутии. Только позавчера он добрался до Якутска, а сегодня летит уже дальше, как сказал полковник, на боевое задание.
Его товарищи смотрят на него, как на счастливца, считают, что ему просто везет. Петренко и сам, кажется, склонен думать то же самое. Опять новые места, и каждое новое место откладывает в нем новое, яркое впечатление.
Сейчас, по пути на аэродром, Петренко был под впечатлением беседы с полковником, кабинет которого он только что покинул.
Полковник Грохотов поговорил с ним о цели командировки, а потом подвел его к большой карте Советского Союза, висящей на стене, и сказал:
– Вот она – Якутия. Большой, суровый и очень богатый край. А вот тут, видите, еще даже не отмечено на карте, расположен рудник Той Хая, где вас ожидает майор Шелестов. Вы будете пролетать слободу Амгу, – это районный центр. В Амге жил когда-то сосланный туда писатель Короленко. В Вилюйске отбывал ссылку Чернышевский, в селе Покровском – Серго Орджоникидзе, из Верхнеленского каземата бежал Феликс Дзержинский. Смотрите, сколько места занимает Якутия. По территории она стоит на втором месте после Российской Федерации. Мне сказали, что вы сами изъявили желание…
– Так точно, товарищ полковник, – прервал Грохотова Петренко. – Мне очень хотелось здесь побывать.
– Побывать или работать?
– Конечно, работать. Я неправильно выразил свою мысль, – поправился Петренко.
– Это другое дело. – Полковник подошел к книжному шкафу. – Наша родина огромна, богата, и мы ее еще плохо знаем. А должны знать. Возьмите в дорогу вот эту книгу и почитайте. Советую почитать. Лично мне она доставила большое удовольствие…
– Спасибо, товарищ полковник. Обязательно прочту…
*
* *
Глубокой ночью самолет поднялся в воздух. Температура опустилась до 42 градусов ниже нуля.
"Как только все живое выдерживает эту страшную стужу? – подумал Петренко, располагаясь поудобнее в отведенном ему месте. – Эх, и достанется тебе здесь, южанин! Не раз еще вспомнишь теплую, привольную Украину!"
Привыкший приспосабливаться к любой обстановке, полный сил, энергии, Петренко пригрелся и вскоре заснул. Проснулся он, когда едва-едва рассветало, и солнца еще не было видно. Приник к оконцу.
Внизу то морем разливалась тайга, то тянулись безбрежные снежные пространства. Изредка попадались на глаза небольшие населенные пункты. Ближе к ним лес редел, светлел, мельчал. Светолюбивые сосны около жилых мест уж не так тянулись верхушками к небу, а больше раздавались куполами вширь.
Петренко с интересом всматривался вниз. Печные трубы в селах и деревнях, казалось, выходили не из домов, а торчали из пышных огромных сугробов. Припомнилось училище, топографический класс. Там вот так же, только не в снегу, а в вате, стояли различные домики и строения.
Большую судоходную реку Алдан – один из притоков Лены, Петренко узнал по вмерзшим в лед неподвижным кунгасам – мелким рыболовным судам. Среди моря снега и нагромождений льда эти маленькие суденышки выглядели жалко и беспомощно.
Чем дальше на северо-восток уходил самолет, тем однообразнее, угрюмее и суровее становилась природа. Надвигалась сплошная тайга, безлюдье.
В пути в воздухе застиг восход солнца. Брызнули его яркие, но негреющне лучи, и снег, будто охваченный огнем, запылал ослепительным пламенем.
Солнце все вдруг преобразило. Возникали картины невиданной красоты.
Петренко долго любовался ими. Потом, вспомнив о книге, данной полковником, он достал ее, раскрыл и начал читать:
"Простор поперек неведомый – широкая сияющая страна! Протяжение вдаль неведомое – необъятная вдоль земля!
С подножья восточных склонов путаными нитями перевита нарядная земля. С западных склонов отчеканены ее красивые луговины. С северных склонов отлиты ее мауровые поля. С южных склонов раскинулись ее зеленого шелка долины. Вытянутым листам жести подобны ее урочища. Тени не видно – светлые озера…"
Так изображают Якутию героические поэмы народного эпоса "Олонгхо".
– Олонгхо… Олонгхо… – повторил Петренко, оторвав глаза от книги. – Интересно. Надо запомнить, – и опять углубился в чтение.
"…Но подлинное лицо Якутии сурово.
На громадном расстоянии от республики лежат теплые южные и западные моря. От Тихого океана она ограждена сплошной стеной Станового, Колымского и Анадырского горных хребтов.
С севера страна открыта всем ветрам. В пределах Верхоянска – Оймокона лежит полюс холода, самое холодное место на земном шаре, где температура опускается до 84,5° по Цельсию.
Величественны просторы Якутии: пади и сопки, дуга и равнины. Темная нескончаемая тайга усеяна точно большими зеркалами – сверкающими озерами. Бесчисленны реки и речки, несущие свои воды к суровому Ледовитому океану…
Семь месяцев длится якутская зима, с хрустальным звонким воздухом, с густыми молочными туманами и полным безветрием. Двухметровым ледяным панцырем покрыты реки…
Якутия почти не знает весны. Лето наступает мгновенно. Как только вскрываются реки, за три-четыре дня набухают и лопаются почки, прорастает трава, и страна одевается зеленью…
Начинается торопливая жадная жизнь. Солнце почти круглые сутки течет расплавленным золотом по бледно-голубому небу. Белые ночи прекрасны. Голубоватый, пронизывающий свет, тишина, чуть побледневшая зелень и еще более необъятная, чем днем, безграничность просторов…
На девять квадратных километров здесь приходится одни житель, а в таких районах, как Усть-Янский или Оленекский, в пятьдесят раз меньше…"
Старший лейтенант Ноговицын круто снизил машину, повел ее почти на бреющем полете и показал рукой вниз.
Петренко отложил в сторону книгу, вгляделся: волк! Настоящий северный волк, не торопясь, ленивой трусцой пересекал голую заснеженную равнину, как бы не замечая самолета и не страшась его.
Нетронутый снег, покрывавший равнину, подобно белому атласу, отливал чистой белизной.
Потом опять потянулась тайга. Казалось, что ей уже не будет конца и края, но через некоторое время она вдруг сразу расступилась, и взору Петренко открылась такая картина: справа тянулась к небу высокая, поросшая хвойным лесом гора, а слева у ее подножия теснился поселок.
"Наверное, это и есть Той Хая, – подумал Петренко. – А что означает "Той Хая"? Надо будет не забыть спросить".
Самолет шел на посадку, и Петренко были отчетливо видны улочки поселка, рудничные постройки, каждый отдельный домик,
Заслышав звуки приближающегося самолета, обитатели поселка высыпали на улицу, а ребятишки стремглав бросились к месту его посадки. Туда же спешил заместитель директора рудника в своей неизменной волчьей дохе. Он покрикивал на лошадь, махал огромными рукавами дохи, и лошадь мчалась чуть ли не в карьер, вздымая копытами комья снега.
Когда Ноговицын, Пересветов и Петренко вышли из самолета и сели в розвальни, Петренко спросил летчика:
– Вот странно! Кругом столько леса, а в населенных пунктах я не видел ни одного деревца. Да и вот тут тоже… Чем объяснить это?
– Очень просто, – ответил старший лейтенант. – У нас в Якутии, да и вообще на севере население извечно ведет борьбу с лесом. Лес наступает, а человек обороняется. И каждому хочется, чтобы хоть над ним, над его домом было чистое небо, а не лес.
Утро стояло морозное и необыкновенно тихое. И хотя небо было совершенно чистое, в лучах солнца мелькали и поблескивали едва заметные снежные пылинки. Они покалывали лицо.
– Видно, скоро снегопад начнется, – высказал предположение Петренко.
Ноговицын покрутил головой:
– Нет, это обычная у нас картина. Это вымерзает имеющаяся в воздухе влага и превращается в снежные кристаллики. Правда, можно подумать, что скоро пойдет снег. Вот смотрите, – и Ноговицын сделал несколько выдыхов. Заметили, какой шум?
– Да, да…
– Этот шум, сопровождающий дыхание, можно услышать только при сильном морозе. Кто-то из сибиряков назвал его шорохом дыхания. А старики рассказывают, – добавил летчик, – что при желании на севере можно подслушать даже шепот звезд.
– Чудесно. А вы не знаете, почему руднику дано название Той Хая?
– Это по-якутски. В буквальном переводе Той означает – песнь, а Хая гора. Получается Песнь-гора, а обычно понимают как Поющая Гора. Вон она, видите? – Ноговицын показал на гору. – Местность вокруг также называется Той Хая, и рудник пока именуется так же.
Розвальни, между тем, уже въезжали в поселок.
*
* *
Шелестов, Быканыров и Эверстова, одетые по-походному, ходили возле четырех оленьих упряжек, оглядывая нарты и самих оленей.
Старик-охотник сдержал слово и привел оленей задолго до прилета самолета.
– Хороши олени, слов нет, хороши, – сказал Шелестов, окончив осмотр. – Спасибо тебе, отец, спасибо и товарищу Неустроеву.
Быканыров кивал головой. Он был доволен, что выполнил в срок поручение.
– А вот, кажется, и тот, кого мы ждем, – сказала Эверстова, и все обернулись в сторону приближающихся розвальней.
Винокуров остановил лошадь метрах в десяти. Из розвальней вышли Ноговицын, Пересветов и Петренко. Все направились к Щелестову.
Петренко, придерживая левой рукой винтовку, взметнул правую к головному убору и четко, по-уставному доложил:
– Товарищ майор! Лейтенант Петренко прибыл в ваше распоряжение.
– Здравствуйте, товарищ лейтенант, – ответил Шелестов, протягивая руку. – Мы ведь еще не знакомы?
– Так точно. Позавчера только приехал в Якутск после окончания специального училища и стажировки.
Шелестов спокойно и внимательно оглядел лейтенанта.
"Вот так-так. Просил прислать опытного офицера-оперативника, а пожаловал…" – подумал про себя Шелестов и сказал:
– Выходит, с корабля и прямо на бал?
– Выходит так, товарищ майор, – и Петренко улыбнулся, обнажив чистые, ровные зубы.
– На севере бывали?
– Не дальше Иркутска.
– На лыжах когда-нибудь ходили?
– Имею первый всесоюзный разряд, – и лейтенант поправил сползающую с левого плеча винтовку с оптическим прицелом.
– Ага, – заметил майор. – Это уже хорошо. А это что? – и он показал на винтовку, будто никогда ее не видел.
– Я снайпер, – ответил Петренко. – Это призовая. Я без нее никуда.
– Тоже хорошо, – одобрил Шелестов. – И лыжник, и снайпер…
– Да. И два года был тренером по боксу, – добавил Петренко.
– Ах, вот как, – это уж больше, чем хорошо. Ну так что же, знакомьтесь, – предложил Шелестов лейтенанту. – Это наша уважаемая радистка сержант Эверстова, Надюша Эверстова. А это товарищ Быканыров, мой старый друг, старый партизан, следопыт, отличный охотник и наш проводник.
– Очень рад, – пожимая новым знакомым руки, сказал лейтенант и счел нужным каждому добавить: – Грицько Петренко.
Эверстовой показалось, что лейтенант улыбается не во-время, говорит слишком самоуверенно, смотрит очень смело.
Ну, а в общем Петренко произвел на всех хорошее впечатление. Он был строен, выше среднего роста, видимо, хорошо физически натренирован. Из-под его меховой шапки выглядывала прядь русых вьющихся волос. Голубые глаза смотрели открыто, жизнерадостно. Сросшиеся у переносья широкие брови придавали его лицу мужественное выражение.
– Груз привезли? – обратился Шелестов к Ноговицыну.
– Так точно. Вот список всего. Полковник приказал еще кое-что добавить, вами не предусмотренное.
– А именно? – удивленно спросил Шелестов, развертывая список.
– Пятилитровую банку со спиртом.
– Правильно. Спасибо полковнику.
Шелестов просматривал список.
Эверстову в данную минуту больше всего интересовали сухие батареи к радиостанции, и она спросила майора:
– А батареи не забыли прислать? Ведь эти у меня почти совсем сели.
– Ничего не забыто, Надюша. Батарей два комплекта.
– Замечательно. Будем Москву слушать.
– Пожалуй, да… – как-то неопределенно согласился майор. Он свернул лист бумаги и положил его в карман. – А груз в самолете? – обратился он к старшему лейтенанту.
– Да, в машине. Я не решился без вас трогать.
– Правильно сделали, – одобрил Шелестов. – Подъедем к самолету, уложимся – и в путь. – Майор посмотрел на лейтенанта Петренко, с любопытством разглядывавшего оленей, и спросил его: – Вы сыты? Кушали что-нибудь?
– Вполне сыт.
– Не стесняйтесь, говорите правду. По пути ресторанов не будет.
– Сыт, товарищ майор. Мы со старшим лейтенантом основательно заправились перед самым вылетом.
– Подтверждаю, – сказал Ноговицын.
– Тогда к самолету. Сюда возвращаться не будем. Наш путь пойдет через пруд, вон туда, – показал Шелестов. В это время лейтенант Петренко подал ему заклеенный конверт. Подал и сказал:
– Это от ваших, товарищ майор. Передал полковник.
Едва заметная улыбка озарила мужественное лицо Шелестова. Это было именно то, в чем он нуждался. Зажав в руке конверт, он пошел к передним нартам.
Получение письма из дома, где он не был сравнительно долго, взволновало майора, хотя внешне он оставался спокоен и размерен результат многолетней профессиональной привычки к тому, чтобы ни при каких обстоятельствах, будь то в большом, или малом, не выдавать своих внутренних переживаний.
А когда подъехали к самолету, майор сказал Быканырову:
– Василий Назарович! Распредели груз равномерно на все нарты и уложи. Тебе помогут товарищи. А я пока прочитаю… Что-то мне пишут из дома?
И только очень внимательный и хорошо знающий Шелестова человек, каким был старый охотник Быканыров, смог уловить в последних словах майора едва заметные теплые нотки.
– Все будет в порядке, – заверил Быканыров.
Шелестов отошел в сторонку, вскрыл конверт и начал читать. Это было обычное письмо любящей женщины и друга, находящейся в разлуке с дорогим человеком. Таких писем пишется много, и все они как будто одинаковы, но ни одно из них не теряет от этого своей ценности для того, кому оно предназначено.
Вначале жена сообщала о домашних делах, повседневных заботах, о своей общественной работе среди жен офицеров, о самочувствии, затем шло длинное, милое своей обыденностью, и подробное описание того, как живет и что делает маленькая единственная дочурка Клава, как она растет, какие получила отметки в школе. И, казалось, не было в письме подробностей, которые бы воспринимались Шелестовым как ненужные и лишние.
Кончалось письмо словами, идущими от сердца, трогательными, волнующими, о том, как тяжело быть в разлуке и как мучительно хочется поскорее быть снова вместе.
Шелестов прочел письмо еще раз, подошел к лесенке самолета, которой сейчас уже никто не пользовался, сел на нее и задумался.
Письмо жены невольно перенесло майора в область мыслей и чувств, которые в жизни борца-коммуниста занимают не менее значительное место, чем мысли о повседневной работе.
Когда-то он, Шелестов, мечтал о совершении чего-то очень значительного и необычного, что поразило бы людей и заставило их говорить о нем. Это было давно, очень давно, когда майор был еще очень молод. Время шло, шли годы учения, тогда казавшиеся однообразными и скучными, а теперь встающие в памяти как очень привлекательные и дорогие. Комсомол воспитал в нем, не знавшем родителей, волю и настойчивость в преодолении трудностей учения и жизни. После школы пришла служба в пограничных войсках, которая дала много знаний, еще больше закалила физически и духовно. А потом Шелестов был переведен в органы разведки, с которыми у него связана пора зрелости и вся последующая жизнь, вступил в Коммунистическую партию, вне которой не может теперь представить себе своей жизни. Здесь окончательно сложились мировоззрение, характер. Здесь юношеские мечты о подвигах и героике, хотя и отвлеченные, но благородные по существу, получили реальную почву для своею осуществления.
Не стало, правда, прежней романтики, – будни труда, учения, борьбы неизбежно вытеснили ее, – но зато как углубилось знание жизни, понимание ее действительной красоты. Романтика преобразовалась в высокую цель служить своему народу, оберегать его мирный труд, беспощадно бороться с врагами родины. Зрелость сплавила, сцементировала юношеские мечтания с повседневной, не блещущей внешними эффектами, но большой, целеустремленной, жизненно нужной и подчас очень опасной работой.
Шелестов с воодушевлением отдавался профессии разведчика, которая, помимо специальных знаний и приемов, требовала от него воли, мужества, находчивости, настойчивости в достижении поставленных задач, умения разбираться в людях. Он постепенно понял, что и моральным качествам также надо было учиться, и что дело заключалось не только в преодолении внешних трудностей и препятствий, но и своих собственных привычек и многих черт характера.
Однако увлечение делом не помешало Шелестову полюбить девушку. Это было естественно, и не могло быть иначе. Шелестов встретил эту девушку перед самой войной здесь, в Якутии. Встретил и полюбил, а полюбив, часто спрашивал себя: сможет ли Вера стать ему настоящей спутницей в жизни, настоящим другом? Ведь как ни почетна работа разведчика, но она тяжела и требует от человека большого самоотречения. Он не сможет говорить, делиться с женой своей работой, своими заботами и волнениями – и что, быть может, было самым трудным, – радостью своих удач, как это имеет возможность делать большинство людей.
Но Шелестов не ошибся в Вере. В ней он нашел верного друга и моральную опору. А дочь только скрепила их союз.
Уезжая далеко в командировки, подолгу отсутствуя, Шелестов страдал от невозможности быть всегда вместе с любимыми людьми. Он преодолевал щемящее чувство тоски и говорил себе: "Я счастлив, по-настоящему счастлив. У меня очень нужная и почетная работа. У меня есть близкие, родные люди. У меня есть семья…"
Майор улыбнулся своим мыслям.
– Роман Лукич, – раздался голос Быканырова. – Совсем порядок.
Шелестов встал, отошел от самолета, осмотрел все придирчивым глазом, затем сказал:
– Хорошо, – и обратился к летчику, старшему лейтенанту Ноговицыну. Если завтра погода позволит, сделайте небольшую разведку. Не исключено, что с воздуха удастся увидеть тех, кто нас интересует. Я сейчас не могу сказать точно, в каком направлении мы сами будем двигаться. Возможно, обнаружите заметные следы. Во всяком случае, держите связь с нами.
– Все ясно, товарищ майор, но я хочу предупредить, что мне сегодня еще раз придется побывать в Якутске.
– Что случилось?
– Тело Кочнева приказано доставить в Якутск.
– Вот это, пожалуй, правильно решили. И вскрытие там произведут?
– Совершенно верно.
– Ну что ж, я думаю, что вы успеете.
– Вполне успею, товарищ майор.
– И вот еще о чем я попрошу вас. Если комендант Белолюбский вернется на рудник, сообщите.
– Все будет сделано.
Шелестов, правда, совершенно исключал возможность возвращения коменданта на рудник, но дал это указание на всякий случай. Он предчувствовал, что Белолюбский скрылся, маскируя свои следы, не для того, чтобы вновь здесь появиться, и что он уже далеко от рудника и, конечно, причастен к гибели инженера Кочнева.
Когда все было готово к отъезду, Шелестов взял под руку лейтенанта Петренко и стал его знакомить с обстановкой, в которой все они оказались. Затем каждый надел свой заплечный мешок, в котором лежали боеприпасы, спички, неприкосновенный запас продуктов.
– В путь, – раздалась команда Шелестова…
*
* *
Уже четвертый час бежали олени, впряженные в легкие нарты, по снежной дороге. Собственно, дороги никакой не было, а был след, оставленный двумя парами лыж, была четко видимая на снегу лыжня. Она вела по открытым снежным местам, опускалась в ложбины, пересекала замерзшие речушки, озерки, болота, протоки, поросшие тальником, забирала крутизну.
На нарты и в лица путников от копыт оленей летели брызги пушистого, легкого неулежавшегося снега.
Иногда след лыж заводил в такую чащу, что, казалось, уже нет возможности из нее выбраться, но путники наши выбирались и вновь продолжали мчаться вперед, делая короткие, пятиминутные остановки для отдыха оленей и для перекура.
Переднюю пару оленей вел Шелестов, хотя сказать "вел" было бы не совсем правильно. Олени бежали сами по проложенному перед ними следу. На вторых нартах сидел старик Быканыров, на третьих сержант Эверстова, а на четвертых и последних – лейтенант Петренко.
Над людьми и оленями вился пар от дыхания. Он быстро замерзал и опадал хрустящим инеем на брови, лица, шерстяные шарфы.
За нартами, то немного отставая, то забегая вперед и скрываясь из глаз, бежал бочком вприпрыжку неутомимый Таас Бас. Иногда он останавливался, наткнувшись вдруг на звериный след, и пропускал нарты. Он долго стоял, внюхиваясь в след, фыркая и поводя острыми ушами. Потом вновь бросался к хозяину и его спутникам.
След лыж уводил все дальше и дальше от рудничного поселка, вглубь тайги, петлял, путался по крепям и вымерзшему тальнику, уходил то на север, то на юг. Заросли пихтача, ельника сменялись краснолесьем, среди которых мелькали белые березы. Тайга не оставалась однообразной, она менялась на глазах, преображалась.
Тоненько позванивал колокольчик на шее оленя-вожака, впряженного в передние нарты майора Шелестова.
Тихой, безмолвной была тайга, и под заунывный звон колокольца каждому думалось о своем.
Старик Быканыров думал о "Красноголовом". Он был почему-то уверен, что судьба и на этот раз вновь свела его с Шарабориным.
На сердце у Шелестова была тревога. Он и сам не отдавал себе отчета, почему она вдруг пришла. Ничего не изменилось с той минуты, когда они покинули рудник, а волнение охватило его сердце и держало в напряжении.
"Может быть, оттого, что он до сих пор не знал, куда стремятся беглецы? Может быть, потому, что не было еще прочной уверенности в том, что, преследуя беглецов, он делает именно то, что надо делать?"
Шелестов был во власти своих мыслей.
А лейтенант Петренко с любопытством всматривался в новые для него места.
Иногда, большей частью в ложбинках или в руслах заснеженных рек, чуть ли не из-под самых ног оленей вскидывались с шумом едва отличимые от снега, похожие на комочки, белые куропатки. Напуганные, возможно впервые видящие человека, они отлетали немного поодаль и вновь садились, пропадая в снегу.
"Глупые птицы", – думал Петренко.
Они видели сидящих на березах в сторонке, в неподвижных позах, похожих на чучела, тетеревов. При приближении нарт с людьми они с любопытством вытягивали шеи, крутили странно головами, но не проявляли особых признаков беспокойства.
Очередную короткую остановку сделали у примятого снега на месте привала беглецов. Олени встряхнулись и опустили головы, отяжеленные рогами.
Старик Быканыров тотчас же вместе с майором начал тщательно осматривать место привала.
Делали они это молча, спокойно, внимательно. Шелестов поднял два окурка папирос "Беломорканал", а Быканыров извлек из снега несколько небольших костей.
– Однако, устали они, – высказал свое мнение Быканыров. – Шибко устали. Мясо ели холодное. У якута сломалась лыжа. Правая. Он ее кое-как скрепил. Худо ему стало идти. Совсем худо. Теперь он позади шел.
Шелестов про себя подумал:
"Мудр и проницателен мой старый друг. Какие зоркие и наблюдательные у него глаза. Он читает следы, как я книгу".
А лейтенант Петренко не стерпел и спросил:
– Как вы все это узнали, товарищ Быканыров?
– Что все? – переспросил старик.
– Ну, хотя бы то, что они устали, что мясо ели холодное, что сломалась лыжа именно у якута? – пояснил свой вопрос лейтенант.
Быканыров курил трубку, улыбался, а в руках вертел кость.
– Хитрого, однако, тут мало. Медленно идут, часто отдыхают наверняка устали. Здесь вот ели, курили, и прямо на снегу. И мясо ели холодное. Следов костра нет. Горячее мясо от кости отстает, а это, гляди… Лыжа сломалась у якута, сразу видать. Русский идет с палками.
Эверстова сказала:
– У нас олени сильные, хорошо бегут, и груз распределен равномерно, правильно. Я подсчитала, что ночью, в крайнем случае к утру, мы нагоним коменданта.
– А если они на лыжах пойдут по таким местам, где олень не пройдет? высказал опасение Петренко.
– Не бывает так, – усмехнулся Быканыров. – Где пройдет человек олень всегда пройдет.
– А олени у нас хорошие, слов нет. Молодец Неустроев. Спасибо ему за оленей, – добавил Шелестов.
– Неустроев знает, что делает, – заметил Быканыров. Ему всегда было приятно слышать лестные отзывы о своем председателе колхоза.
Быканыров бросил кости в снег, вытер руку, присел на первые нарты и, дымя трубкой, заговорил опять:
– Председатели бывают, однако, разные. Я всяких видел. Год, а то и два было тому назад. Приехали я и мой дружок к Окоемову. Окоемов председатель колхоза "Охотник Севера". Старый председатель. Мы к нему забежали, вроде как в гости, по пути, чайку попить, поговорить. От нашего колхоза до "Охотника Севера" сто десять километров. Окоемов дома был. Хорошо нас встретил, ласково. Выложил лепешки горячие, прямо от камелька, сохатину вареную поставил, ханяк* дал, чай пили крепкий, черный. Ешь сколько вместится. Много ели, пили, потом трубки курили, разговаривали. Окоемов говорил, а мы слушали. Он говорил про колхозные дела. Все рассказал. Кто и сколько белок настрелял в сезон, сколько горностаев, лисиц наловил, сколько сдал в Якутпушнину. Окоемов все знает: какой бык самый лучший в стаде, какой приплод дала каждая важенка, сколько оленей в колхозе, у кого какое ружье, как оно бьет, кто лучший стрелок. Я слушал Окоемова, долго слушал, а потом спросил: "Однако, скажи, сколько свадьб было в этом году в твоем колхозе?" Окоемов засмеялся и говорит: "Вот уж не считал!" А я опять спросил: "А сколько у вас в колхозе за этот год новых людей народилось?". Окоемов опять засмеялся. "Что я ЗАГС, что ли, или шаман?" Видишь, какой он. А я на его слова обиделся. Как может такой человек быть председателем? В голове у него белки, горностаи, быки, важенки, ружья, а человека нет. Человека забыл Окоемов. А наш Неустроев нет. У него первое дело человек. Вот и вчера. Пришел я, рассказал все, Неустроев и говорит: "Пошли в стадо. Выберем самых лучших". Прочный человек Неустроев. Глубоко смотрит.
_______________
* Х а н я к – кушанье из молока.
Быканыров выбил золу из потухшей трубки, упрятал ее в кисет.
Шелестов уже тоже выкурил папиросу.
– Ну, трогаемся! – сказал он, усаживаясь на нарты.
И снова побежали олени, снова замелькали опушки, укрытые снегом болота, скованные льдом реки.
Заметно начинало темнеть. Короток день в эту пору на севере.
И вот после почти часовой езды первые олени сделали вдруг такой крутой поворот у березы-тройняшки, что нарты встали на бок, и Шелестов едва удержался на них.
И все сразу увидели, что лыжня кончилась и пошла накатанная нартовая дорога.
Шелестов остановил своих оленей.
– Бедолюбский, однако, тоже пошел по этой дороге, – заключил Быканыров, не сходя с нарт. – И второй с ним пошел.
– Да, так и есть, – согласился Шелестов и тронул оленей…
Прошло не больше десяти минут, и майор остановил свою упряжку и даже оттянул ее немного назад. Он быстро сошел с нарт, сделал шага два к сторону и замер: на вмятом снегу зловеще выделялась большая лужа крови.
Шелестов стоял, не в силах оторвать глаз от крови, которая уже давно замерзла и затянулась коркой льда.
К майору подбежали Быканыров, Петренко, Эверстова.
– Кровь… – прошептала Эверстова.
– Да, и кровь человеческая, – добавил Петренко.
Снег вокруг был утоптан, умят, виднелось множество следов ног человека. Вмятины, пятна крови и беспорядочные следы ясно говорили о том, что здесь происходила борьба.
Таас Бас метался тут же, по брюхо в снегу, вдыхая в себя новые запахи.
Быканыров старался по следам на снегу представить себе хотя бы приблизительно, что тут произошло. Он нашел то место, где вначале упал с нарт один, затем кто-то другой. Он нашел и то место, где произошла первая рукопашная схватка. Тут, правда, не было следов крови, вот тут, метра два далее, можно увидеть несколько капель, а здесь… здесь целая лужа…
"Что же тут стряслось?" – думал про себя Шелестов, также оглядывая следы борьбы на снегу.
Таас Бас, между тем, сердито фыркая, разгребал в сторонке передними ногами снег. Голова его то почти полностью исчезала, то вдруг появлялась совершенно облепленная снегом, точно напудренная. Потом Таас Бас еще раз нырнул головой в вырытую им яму и вынырнул оттуда, держа что-то в зубах. Он взвизгнул и бросился к Быканырову.
– Нож, нож! – воскликнул лейтенант Петренко, наблюдавший за поисками собаки.
Все повернулись в сторону Быканырова. Тот взял нож, принесенный собакой, осторожно повертел его в руках и передал Шелестову. Это был северный якутский нож с длинным односторонним лезвием, с грубой, но прочной рукояткой из корня березы, со следами запекшейся крови.
Шелестов долго держал нож, думая о случившемся здесь кровопролитии, потом обернул его в бумагу и спрятал в полевую сумку.
– М-да… Дела… – произнес он тихо.
Все продолжали осматривать место происшествия, и от четырех пар глаз, настроенных обязательно что-нибудь найти, трудно было чему-нибудь остаться незамеченным.
Людям помогал Таас Бас, который, кажется, более всех был взволнован и метался в разные стороны.
– Кто-то ранен, а не убит, – крикнул вдруг Петренко. – Смотрите, он полз.
– Верно говоришь, – заметил Быканыров. – А там, где много крови, он лежал.
После тщательного обследования местности для всех стало ясно, что кто-то, раненный и потерявший много крови, ушел в одну сторону, а двое нарт и более чем четверо оленей – в другую, совершенно противоположную.
Встал вопрос, куда держать путь? И прежде всего этот вопрос встал перед майором Шелестовым.
Он рассуждал так:
"Направо скрылись те двое, которых мы преследовали. До сих пор они шли на лыжах, а теперь, видно, воспользовались оленями. А налево пошел тот, кому принадлежали олени".
Но это были только предположения.
Можно было разбиться на две группы: одной помчаться по следу нарт, а второй – скорее проверить, что произошло с раненым человеком и кто он.
Шелестов не хотел дробить свою группу, тем более в самом начале преследования. Кроме того, внутренний голос подсказывал ему: "Иди влево за человеком, который ранен. Возможно, от твоего появления зависит его жизнь. Возможно, если он жив, ты получишь от него важные сведения".
"Да, поедем влево", – решил Шелестов и приказал садиться на нарты. И когда все сели, он спросил:
– А где же Таас Бас?
Ему ответил Быканыров:
– Та-ас Бас ушел по следу человека.
Олени от окрика Шелестова рванули с места, но через какие-нибудь две-три минуты были им же остановлены.
Опять на снегу краснела лужа крови, хотя и меньше первой. Опять пришлось тщательно осмотреть местность, и после осмотра Быканыров сказал:
– Однако, человек уже умер.
Все молчали. Затянувшееся молчание прервал Шелестов.
– Почему ты решил, что он умер?
– Он сам не пошел. Его кто-то понес. – Быканыров шагал по следу, а за ним осторожно следовали остальные. – Женщина его понесла. Смотрите, какая маленькая нога. И тяжело ей. Нога глубоко входит в снег.
– А ну, быстро на нарты! Поехали!
И олени помчались вновь. Они пронесли нарты через засыпанное толстым слоем снега и, наверное, вымерзшее до дна болото, врезались в тайгу и, наконец, выскочили на опушку.
Все увидели маленькую, с плоской крышей и большими нависями снега на ней, рубленую избу. У самых дверей сидел Таас Бас и, задрав морду к небу, тоскливо подвывал.
"Если собака сидит и никто ее не трогает, значит опасности нет", мелькнула мысль у майора Шелестова. Он остановил оленей у самой избы, быстро соскочил с нарт я открыл дверь. Открыл и остановился: на полу почти пустой, еще не обжитой и холодной комнаты, на подостланной шкуре оленя, неестественно вытянувшись, с закрытыми глазами лежал молодой мужчина-якут.
Около него на коленях сидела женщина и бормотала что-то невнятное.
– Что случилось? – тихо спросил по-якутски Шелестов, пропуская в дом Быканырова, Петренко и Эверстову.
Молодая женщина посмотрела на него скорбными глазами, тяжело вздохнула, но ничего не ответила.
Быканыров подошел к ней, взял ее за плечо и громко сказал:
– Зинаида? Почему молчишь?
Женщина вздрогнула, посмотрела на старого охотника, и в глазах ее закипели горькие слезы.
Она упала на грудь неподвижно лежащего человека и вместо ответа безудержно разрыдалась.
Шелестов обратился к Быканырову.
– Ты ее знаешь?
– Да, это наша колхозница Очурова Зинаида, а это ее муж Дмитрий.
Все находились в таком подавленном состоянии, при котором хотя и видишь, что произошло большое горе, но не знаешь, что предпринять.
Инициативу проявила Эверстова. Она оторвала, не без усилий, молодую женщину от лежащего на полу человека, усадила ее на чурбан, встряхнула и, заглянув ей прямо в глаза, заговорила строго, почти суровым голосом по-якутски:
– Ты почему молчишь? Зачем ты плачешь? Ты думаешь, твои слезы помогут чему-нибудь? Возьми себя в руки, – и она ее еще раз встряхнула. Рассказывай, что случилось? Мы друзья твои. Кто убил твоего мужа?
– Убил… Убил… – со стоном выкрикнула Очурова и готова была вновь броситься к мужу, но Эверстова удержала ее на месте.
– Сиди так, сиди, я говорю…
– Зинаида! – пришел на помощь Эверстовой Быканыров. Он хотел, видимо, сказать что-то еще, но из глаз его закапали прозрачные, чистые стариковские слезы. Он смахнул их рукой, поморщился и тихо произнес: Хороший был колхозник… Бывший фронтовик… До самого Берлина дошел, и вот…
У Петренко в сердце мгновенно, точно порох, вспыхнула ярость и также мгновенно, как порох, тут же сгорела от слов майора Шелестова.
– Почему был? – громко спросил тот, сбрасывая с себя автомат, кухлянку, рукавицы. – Еще рано говорить об этом.
Шелестов опустился на колени, взял руку Дмитрия.
Все умолкли и застыли в напряжении.
– Он жив! – твердо заявил Шелестов, прощупав пульс. – Надюша! Давайте с нарт санитарную сумку. Быстро! Петренко, разведите огонь.
Молодая якутка сидела выпрямившись, с испугом в глазах и зажав рот рукой, как бы стараясь сдержать готовый вырваться крик.
Быканыров бросился помогать Петренко. Эверстова принесла и уже раскрывала сумку.
– Помогайте мне, – потребовал Шелестов от хозяйки дома. – Разуйте его и разотрите ноги снегом.
Сам он расстегнул ворот рубахи Очурова и приложил ухо к левой части груди. Прислушался и сказал твердо и уверенно:
– Конечно, жив! И нечего распускать нюни и разводить панику.
Он разорвал гимнастерку, сорочку и, обнажив грудь и руки Очурова, увидел две раны: одну на плече, неглубокую от скользящего удара, и вторую, более серьезную, в области правого соска.
"Эти раны, – подумал Шелестов, – нанесены, видно, тем ножом, что лежит в моей сумке".
Шелестов при помощи Эверстовой стал обрабатывать раны йодовым раствором и сульфидинным порошком.
Жена Очурова старательно растирала снегом ноги мужа.
– Довольно, довольно! – прервал ее Шелестов. – Оберните ноги во что-нибудь теплое.
Пока Быканыров и Петренко разводили камелек, набивали котелки снегом, пока Шелестов и Эверстова обрабатывали и перевязывали раны, молодая якутка пришла в себя и рассказала, как все произошло. Рассказала подробно о непрошенном визите ночных гостей, об их просьбе, о желании мужа помочь людям, попавшим в беду, и, наконец, о том, как обеспокоенная долгим отсутствием мужа, она решила выйти ему навстречу и подобрала его на снегу вот таким, какой он есть сейчас.
Шелестов осторожно кончиком своего ножа раздвинул плотно стиснутые зубы Очурова и при помощи Эверстовой влил в его рот две столовые ложки чуть разведенного спирта. Через несколько минут лицо раненого порозовело, хотя сам он по-прежнему оставался неподвижным.
В комнате уже ярко пылал камелек и шипел на огне спадающий с котелков снег. Петренко затащил в комнату большую охапку сухих поленьев и тихонько опустил на пол. Когда раненого приподняли, чтобы постелить под него вторую шкуру, он, еще не приходя в сознание, тихо, едва слышно, вздохнул. И все-таки этот вздох услышали все и сами облегченно вздохнули.
– Много крови потерял, – сказал Шелестов. – Смотрите, как он бледен. Но я уверен, что он выживет. Одна рана – пустяк, да и вторая не особенно опасна. Что у вас есть из продуктов? – обратился Шелестов к Эверстовой. Наиболее питательного?
Эверстова развела руками.
– А я не знаю… – и перевела взгляд на Быканырова, который упаковывал груз. Старик пожал плечами.
– Ну-ка, поищите, – попросил майор.
Среди продуктов оказалось несколько банок со сгущенными сливками.
– Вот это, я думаю, то, что нам нужно, – сказал Шелестов.
– Правильно, – подтвердил Петренко. – Надо открыть банку и разогреть. Сливки – это большое дело.
– Да, да, правильно, – согласился Шелестов и спросил хозяйку: Сколько было у вас оленей?
– Шесть. Шесть оленей и двое нарт. Олени сильные, очень хорошие. Они на них уехали.
– Однако, их можно упустить, – высказал опасение Быканыров. – На оленях они далеко уйдут.
– Нельзя терять ни минуты, – поддержал его лейтенант Петренко и посмотрел на еще не пришедшего в сознание Очурова. Посмотрел и подумал: "М-да… Человек был под рейхстагом, остался жив, а тут чуть не умер от руки какого-то подлеца".
– Мы их быстро догоним, – высказала свое мнение Эверстова. – У нас тоже хорошие олени. И у нас еще то преимущество, что мы будем преследовать их по накатанной, готовой дороге, а им надо ее прокладывать.
Шелестов молчал, думая о чем-то своем, потом спросил хозяйку дома:
– Значит, эти двое вам незнакомы?
– Нет.
– И теперь вы не знаете, кто они?
– Дмитрий смотрел их документы, но я не знаю.
– А каковы они собой, расскажите?
Очурова нарисовала портреты ночных гостей как могла, и со слов ее Шелестову, Быканырову и Эверстовой стало ясно, что один был русский, а другой якут. Русский, конечно, Белолюбский. Все приметы совпадали – А якут рыжий? Волосы рыжие? – поинтересовался Быканыров.
– Он совсем без волос. У него голова гладкая, как колено. Я еще подумала, зачем было человеку зимой снимать волосы?
"Волосы этот якут оставил в квартире Белолюбского, – рассуждал про себя Шелестов. – Но зачем это понадобилось?"
– Надо догонять их. Зачем терять время? – сказал Петренко.
– Правильно говоришь, лейтенант, – отозвался Быканыров.
Шелестов молчал. И хотя он сейчас сидел здесь, в лесной избушке, но мыслями был далеко в тайге, настигая этих двух, проливших кровь безвинного человека. Он слушал горячие высказывания своих друзей, но молчал. Он всегда дорожил временем, знал цену каждой минуте, но не собирался торопиться.
"Я должен услышать, что скажет Очуров", – решил он и очень удивил всех, когда объявил:
– Ночуем здесь. Пусть олени наши хорошенько отдохнут. А рано утром тронемся.
Возражать Шелестову никто не стал.
*
* *
Дмитрий Очуров пришел в себя среди ночи.
– Зина… Зина… – позвал он.
Измученная и уставшая за день, Зинаида все же не хотела ни на минуту отойти от мужа, она торопливо склонилась над ним. Приподнялся чуткий Быканыров. Он приблизился к раненому, лежащему ближе других к огню, и сказал:
– Очуров?
– Это ты? – спросил в свою очередь раненый.
– Да, я. А это мои друзья. Все хорошо, лежи и не двигайся. Повезло тебе, однако, счастливый ты человек.
Через минуту уже все были на ногах.
Шелестов запретил раненому разговаривать, а остальным задавать ему вопросы. Очурова напоили сливками, разбавленными кипятком, а предварительно заставили выпить немного спирту.
– Самое хорошее лекарство, – сказал Быканыров, держа в руках пустой граненый стаканчик, из которого давали раненому спирт.
– Любите? – поинтересовался Петренко.
– Есть грех, – признался старик. – На севере все любят спирт. Хорошее лекарство и для больного, и для здорового.
Во-время оказанная помощь сыграла свою роль. Жизнь победила. Очуров ощущал слабость от потери крови, но раны его не беспокоили. У него появился аппетит, и Шелестов разрешил накормить его густым наваром из-под пельменей.
Выпитый спирт слегка туманил его мозг. На побледневших щеках проступил румянец. В глазах появился блеск.
– Болит? – спросил Шелестов, показывая на грудь.
– Мало-мало…
– Не трудно будет отвечать на мои вопросы?
– Совсем нет…
Все сгрудились у раненого. Жена примостилась у изголовья.
– Вы, кажется, смотрели их документы?
– Да, смотрел. Русский – Белолюбский, комендант рудника.
Все переглянулись, а Быканыров не вытерпел:
– А якут кто? – спросил он.
– У него диплом учителя… я держал его в руках, – и, поморщив лоб, Очуров сказал: – А фамилию забыл…
– Не Шараборин? – подсказал старый охотник.
– Нет, не Шараборин.
Быканыров посмотрел на Шелестова, и на лице его отразилось разочарование.
Шелестов улыбнулся и сказал:
– Он же не дурак, этот Шараборин, чтобы появляться здесь под своей фамилией.
Быканыров часто-часто закивал головой.
– Правду сказал. Я не подумал.
– Оружие у них было?
Очуров отрицательно помотал головой.
– А что висело на шее у русского? – напомнила жена Очурова.
Тот усмехнулся, хотел протянуть к жене руку и со стоном опустил ее.
– Это не оружие, – пояснил он. – Это фотоаппарат в кожаной сумке.
– Фотоаппарат… – повторила про себя Очурова.
"Это совпадает с моими предположениями, – подумал Шелестов. – Значит, не напрасно Белолюбскому понадобилась электролампа такой большой силы. Не напрасно он прикалывал к столу план Кочнева".
Все смотрели теперь на Шелестова, так как никто не знал деталей происшествия на руднике.
Но Шелестов не стал больше задавать вопросов, а попросил Очурова рассказать, что произошло с ним после того, как он покинул сегодня утром дом.
Очуров рассказал все по порядку, до того момента, как он потерял второй раз сознание по пути к дому.
А Быканыров, слушая Очурова, не находил себе места. Ему не хотелось смириться с мыслью, что якут, бритый наголо, был не "Красноголовый". Старый охотник топтался по комнате, с каким-то ожесточением сосал свою заветную трубку, и множество мыслей роилось в его голове.
Когда же Очуров окончил свой рассказ, Быканыров все-таки спросил:
– Скажи, какой из себя якут?
Очуров описал его внешность. По мнению Быканырова, она совпадала с внешностью "Красноголового". Не все же уверенности быть не могло.
– Ай-яй-яй… как плохо, – сетовал старик. – Однако, было у него что-нибудь такое, чего нет у других?
Очуров силился вспомнить, но безуспешно.
– У него на левой ноге пальцев нет, – оказала Очурова.
– Пальцев? – спросил Шелестов.
– Да, пальцев. Вместо пяти, только один палец. Я сама видела, когда он разувался.
Ни Шелестов, ни Быканыров не могли, конечно, знать, что при побеге Шараборина из лагеря пущенная в него пуля сделала свое дело. И сообщение Очуровой ничего нового не внесло. Но это только казалось. Слова жены позволили Очурову вспомнить, что якут прихрамывал на одну ногу, и за эту деталь ухватился Быканыров. Перед его глазами встало то раннее утро, когда Таас Бас обнаружил след чужого человека, не зашедшего в дом.
– И тот припадал на одну ногу. Да, припадал.
– Ничего. Скоро мы узнаем, кого себе в друзья выбрал Белолюбский, сказал Шелестов. – Готовьте поесть – и в дорогу. Вам, – он обратился к Очурову, – мы оставим лекарств, продуктов, а сами пойдем по следу этих людей. И все будет хорошо.
Бледное, беззвездное небо как бы поднималось все выше и выше. Начинало светать.
САМОЛЕТ НАД ТАЙГОЙ
– Тохто… Тохто*… – твердил Шараборин сидящему впереди него Оросутцеву. – Упадут олени. Совсем упадут. Важенка совсем плохая.
_______________
* Т о х т о – стой.
Оросутцев не обращал внимания на призывы своего сообщника и гнал оленей, как одержимый.
Ему было явно не по себе. Во-первых, не так все получилось с этим хозяином оленей. Кто же мог предполагать, что дело дойдет до ножа? Ведь планировали сделать все тихо, гладко, без шума. И не потому Оросутцев нервничал, что его донимали угрызения совести за напрасно пролитую кровь. Отнюдь нет. Конечно, лучше было бы обойтись без помощи ножа, но раз Оросутцев обнажил нож, надо было кончать этого якута-колхозника. А он оставил его недорезанного. А что это означает? Это означает, что его подберут или он сам доберется до жилья, и опасность погони станет реальной.
"Хотя, – рассуждал Оросутцев. – И так плохо, и этак. Ну, убил бы я его. А куда упрячешь? В снег, больше-то некуда. И как ты ни прячь, все равно следы не скроешь на таком снегу. И никуда не денешься. Плохо получилось. Очень плохо. Не додумал я все до конца. А все спешка. Надо бы поступить по-другому. Надо было выйти тайком ночью из дому, собрать оленей, взять лыжи, нарты, и делу конец. Ищи ветра в поле. А теперь всего можно ожидать".
Во-вторых, им не повезло с самого начала. Не успели они проехать и десятка километров от того места, где оставили недорезанного якута, как нарты Шараборина налетели на какую-то корягу, занесенную снегом, и вышли из строя. Один из полозьев сломался в двух местах, и нарты пришлось бросить. Теперь Шараборин и Оросутцев сидели на одних нартах.
– И нужно же было этому случиться! – негодовал Оросутцев. – Мои нарты прошли благополучно, а его… Эх, черт бы его побрал, – выругался Оросутцев и вновь стал кричать на оленей, размахивая руками.
Обозленный и занятый своими тревожными мыслями, он не замечал, что олени бегут не так, как бежали вначале первые два-три часа. Олени сбавляли темп бега, путали ногами, спотыкались на ровном месте.
– Отощали… Выдохлись… Отдых надо дать… – твердил свое Шараборин.
Он лучше Оросутцева знал оленей и ясно предвидел последствия такой бешеной гонки.
"Пока бегут – пусть бегут", – подумал Оросутцев.
Олени вынесли нарты на взгорок, медленно, как бы нехотя спустились по чистому месту вниз к самой стене тайги, запутались между елок и встали.
Оросутцев и Шараборин продолжали сидеть.
Несколько минут прошло в молчании, а потом Оросутцев сказал:
– Они сами знают, когда остановиться. Без нас знают.
– Плохо знают, – возразил Шараборин. – Еще раз так станут, и совсем не пойдут. Неделю гулять будут, а не пойдут. Отдых им надо давать. Два-три часа ехал – отдых. И опять два…
– Ладно, хватит, – оборвал его Оросутцев. – Начнешь разводить антимонию. Собирай дрова, а я распрягу их.
Оба сошли с нарт. Шараборин начал ломать сухостой, потом вытаптывать снег на том месте, где решил устроить привал.
Оросутцев выпряг оленей. Те сошлись мордами, обнюхались, всхрапнули. Их окутало облако теплого пара. Олени не могли отдышаться.
– Дай-ка мне твой нож, – попросил Оросутцев и, получив его от Шараборина, подошел к самому маленькому узкогрудому оленю-важенке. Та еле-еле держалась на ногах, низко опустив голову. Ее трясло как в ознобе. Бока ее тяжело вздымались.
Оросутцев погладил важенку по голове левой рукой. Животное, почувствовав ласку, приблизилось к человеку, посмотрело на него влажными, измученными, доверчивыми глазами и лизнуло шершавым языком его голую руку. Потом потерлось о бедро Оросутцева.
И в это время Оросутцев сильным ударом правой руки вонзил важенке под самое сердце длинный острый нож. У важенки ноги сразу подкосились, и она, не издав ни звука, рухнула на снег.
Оросутцев опустился на колени и, не обращая внимания на слезы животного, которые каплями катились из его прекрасных глаз, вытащил нож и поднес под рану руки пригоршней. Кровь горячая, яркая била ключом, и Оросутцев пил ее большими глотками. Кровь текла красными струйками по его бороде, спадала на кухлянку, красила снег.
Шараборин стоял поодаль с охапкой дров в руках и, наблюдая, как лакомится его сообщник, облизывался.
– Разводи огонь, чего время теряешь, – сказал Оросутцев.
Шараборин пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное и начал выкладывать костер.
Оросутцев же разделывал оленью тушу. Он был мастер на эти дела. Сняв шкуру с оленя, он разделил тушу на равные части. Выбрав несколько трубчатых костей, Оросутцев разрубил их ножом и стал высасывать из костей мозг. Он делал это сопя, причмокивая, производя звуки, похожие на работу поршня.
Отобрав более лакомые куски, Оросутцев бросил их в котел и натолкал в него снегу.
Шараборин уже развел костер. Сухое смолье схватилось сразу дружно, с потрескиванием и без дыма.
Котел подвесили над самым огнем.
Оросутцев снял с нарт дорожный мешок, достал из него бутылку со спиртом, вынул пробку и, расчистив снег рукой, поставил бутылку поодаль от огня. Потом он наложил ветвей от елки и сел на них.
Шараборин расположился напротив, по ту сторону костра, на куске перепревшей сосны. Он вначале сел поближе к огню, но лопнувшая губа от сильного жара стала саднить еще больше, и Шараборин отодвинулся.
Воздух над костром дрожал, струился, как летом от зноя, и уродовал все, что было видно сквозь него. Так бывает, когда смотришь на дно реки, сквозь воду, колеблемую ветром.
И Оросутцев казался Шараборину не таким, каким он был на самом деле. Лицо Оросутцева на глазах у Шараборина то и дело менялось, делалось вдруг длинным, похожим на голову лошади, то будто раздавалось в стороны и походило на блин, то, наконец, расплывалось, и на нем нельзя было уловить знакомых черт.
Оросутцев совал руки чуть ли не в самый огонь и затем быстро отдергивал их. Потом он запел тоскливо, монотонно, тягуче какую-то непонятную для Шараборина песню без слов. Немного погодя Оросутцев умолк. Слышно было, как потрескивало смолье в огне, да булькала закипающая в котле вода.
Шараборин выжидал, когда Оросутцев объяснит ему, куда и зачем они едут. Оросутцев обещал это сделать, как только они достанут оленей. Значит, он должен это сделать теперь.
Оросутцев же в это время обдумывал, что и как надо сказать. Он не хотел посвящать Шараборина полностью в свои планы, но отлично понимал, что без объяснения дело не выйдет. Понимал он и другое, что сам он, без помощи Шараборина, не доберется до нужного места. Оно, это место, не так близко, и нужно хорошо знать тайгу, чтобы не сбиться с дороги и не заплутаться в ней. Но Оросутцева связывали сроки. И тайгу он не знал так хорошо, как знал ее Шараборин.
Оросутцев прикидывал, как сделать, чтобы не говорить Шараборину всего, но вместе с тем так, чтобы это выглядело убедительно.
В голове Оросутцева возникало до привала, да и сейчас, множество вариантов, но он все их отбрасывал. Не подходили они по той или другой причине. Перебрав все возможные варианты, Оросутцев пришел все же к выводу, что придется сказать, куда и зачем он торопится и почему ему нужен Шараборин. Другого выхода не было. Иначе Шараборин поймет, что его хотят надуть, и тогда не жди от него помощи. Конечно, можно припугнуть Шараборина, но не в такой обстановке. Сейчас он может разозлиться, плюнуть на все и уйти. А что будет делать Оросутцев один, даже в том случае, если в его распоряжении останутся олени? Этот вопрос больше всего волновал Оросутцева. Он считал себя не способным выбраться из такой глухой чащи без помощи Шараборина. Оросутцев прекрасно понимал состояние своего сообщника, его настороженность, выжидательное молчание.
"Да, дальше тянуть нельзя, – окончательно решил Оросутцев, – иначе он сбежит от меня в первую же ночь, да еще, чего доброго, уведет и оленей. И получится: близок локоть, да не укусишь".
Вода в котле уже исходила паром.
Шараборин взял тоненькое поленце и помешал им в котле.
– Ты все интересовался, куда я иду? – заговорил вдруг Оросутцев.
– Совсем нет, – ответил Шараборин. – Ты скажи правду, зачем я тебе, а куда ты идешь – мне не обязательно знать.
– Гм. Одно с другим тесно связано, – пояснил Оросутцев. – Мне надо как можно скорее добраться до Кривого озера. Понял? Знаешь такое?
– Знаю, однако.
– Был там?
– Был.
– А я вот не был. Дорогу до озера тоже знаешь?
– Тоже знаю, – подтвердил Шараборин.
– Я же и дороги не знаю. Поэтому ты должен довести меня до Кривого озера кратчайшим путем. И я не останусь в долгу. Ты получишь больше, чем ожидаешь. И, кроме этого, тебя отблагодарит Гарри.
Шараборина передернуло.
– Ты что? – удивился Оросутцев, заметив, как вздрогнул Шараборин.
– Опять Гарри?
– Да, опять. Но не скоро, весной и последний раз.
Шараборин смотрел на Оросутцева долго, пристально, силясь в его лице прочесть скрытый смысл его слов.
– Не веришь? – спросил Оросутцев и, не ожидая ответа, сказал: Честно говорю, в последний раз. Я улечу с Кривого озера на ту сторону. За мной пришлют самолет. И тебе не придется больше ходить ко мне.
Шараборин ухмыльнулся. Он, конечно, не мог поверить этому. Ясно, что Оросутцев хочет обвести его вокруг пальца. Но зачем? Неужели он хочет отобрать у него деньги, полученные им от Гарри? Ерунда! Не может быть. Если бы Оросутцева интересовали деньги, а не Шараборин, то он давно бы нашел время переложить их в свой карман. Дело, конечно, не в деньгах. Но при чем тут самолет? Какой самолет? Откуда?
– Не веришь? – еще раз спросил Оросутцев.
– Далеко, однако. Трудно поверить, чтобы долетел, – утаив все свои сомнения, ответил Шараборин.
– Чудак ты человек! Что значит расстояние в наше время? Не из Америки же он прилетит.
– А откуда же?
– Из Японии, конечно.
– Тоже, однако, далеко.
– Ничего не далеко. От ближней северной точки Японии до Кривого озера самое большее тысяча восемьсот километров. А для самолета последних конструкций это сущий пустяк.
Шараборина очень удивляло, что Оросутцев, никогда не объяснявший своих поступков, вдруг разоткровенничался. В чем же дело? Что случилось? Неужели и в самом деле речь идет о встрече самолета, который прилетит к Кривому озеру? Неужели правда, что Оросутцев собирается перебраться на ту сторону по воздуху?
– А как самолет найдет тебя? – спросил Шараборин. – Тайга – везде тайга. Озеро под снегом.
Оросутцев рассмеялся, показав свои крупные, редкие, подернутые желтизной зубы.
– Есть карты, есть ориентиры, наконец, есть сигналы.
– Опасно, – мотнул головой Шараборин. – Ночью надо лететь.
– Днем или ночью, для летчика не имеет значения.
– Ой-ей! – усомнился Шараборин. – Только ночью. Днем раз – и сшибут.
– А днем он и не полетит.
Стояла ледяная, беззвучная, как натянутая струна, тишина. Только говор двух людей, пыхтенье закипающей воды в котелке, да потрескивание смолья в костре нарушало эту тишину. И вот появился новый звук. И если бы дело происходило летом, то этот звук сначала можно было принять за звук, производимый комаром. Но стояла зима, лютая стужа. Оросутцев и Шараборин сразу уловили, что где-то далеко звенит мотор. Звенит и подвывает, становится все явственнее, все слышнее.
Оба замерли, устремив глаза в голубые просветы неба, видимые сквозь густое переплетение заиндевевших ветвей.
Едва слышимый вначале звон мотора постепенно перерос в рокот приближающегося самолета. Звук нарастал, ширился, подавлял все остальные звуки. Ясно было, что самолет шел низко и где-то близко над головами.
Непонятное чувство слабости охватило вдруг Шараборина и заставило его встать на четвереньки. К горлу подступила тошнота. По телу, точно электрический ток, пробежал озноб. Удушливый, мгновенно пришедший страх сжал сердце точно тисками. Шараборин силился не потерять самообладания, потушить, подавить страх, но он, вопреки всем его усилиям, перехватывал дыхание.
Странно охнув, Шараборин быстро на четвереньках бросился под ветвистую елку. Он опрокинул бутылку со спиртом, свалил плечом жердь, на которой был закреплен котел с почти уже сварившимся мясом. Спирт попал на огонь и вспыхнул синим дрожащим пламенем, мясо вывалилось в костер, который зашипел, задымился.
Самолет с ревом прошел над молчаливой и неподвижной тайгой, звук его мотора стал тише, слабее и, наконец, замер где-то вдали.
Запах горящего спирта, обгорелого мяса смешался с дымом, и все это едкое, вонючее полезло в глаза, в рот, в нос Оросутцева. Он вскочил с места так резко, будто его кто-то уколол. Злоба заволокла его мозг мгновенно. Он едва смог обуздать вскипевшую ярость, едва удержал себя от неистового желания броситься с кулаками на своего сообщника. Вне себя он закричал:
– Дурак! Трус! Баба несчастная… Проломить бы тебе череп надо! – он сейчас забыл совсем, что должен соблюдать известную тактику в отношениях с Шарабориным. Его побелевшие и трясущиеся от злобы губы выплескивали невпопад различные бранные и оскорбительные слова. Он в сердцах пнул ногой пустую бутылку, утерявшую драгоценную влагу, сплюнул на огонь, в котором корчилось покрытое золой мясо, и внезапно умолк.
Шараборин вылез из-под елки, встал на ноги, угловато вскинул плечи, жалко и нелепо улыбнулся. Губы его кривились и некоторое время беззвучно двигались. Потом, чтобы вернуть себе утраченное мужество, он выпрямился, расправил плечи и обвел взглядом небо. Заикаясь, он сказал:
– Это я… чтобы он не заметил.
Холодные глаза Оросутцева блеснули, но он промолчал.
Только сейчас Шараборин почувствовал неприятный зуд в ладонях и вспомнил, что прошелся ими по горячей золе. Он потер руки, подул на них и, чтобы окончательно ликвидировать неприятный конфликт, сказал:
– Спирт у меня есть. Почти полная фляга.
Оросутцев продолжал молчать и стоял, широко расставив ноги. В голову лезли тревожные мысли: откуда взялся самолет? Чего он не видел здесь, в глухой тайге?
Шараборин ходил вокруг залитого водой костра и с сожалением смотрел на погубленное мясо. О еде нечего было и думать. Он подобрал пустую бутылку из-под пролитого спирта, понюхал ее и, покачав головой, бросил в костер.
А Оросутцев думал:
"Дурак, как я не успел рассмотреть, что это за самолет? Уж не тот ли, на котором пожаловал майор на рудник? Ведь я же тот видел и хорошо запомнил. Заметил нас летчик или нет? Скорее всего, заметил. Ведь сверху все хорошо видно. Этого только не хватало!"
– Однако, низко летел, – проговорил Шараборин, не зная, что сказать другое. – Совсем низко.
– Да, – согласился Оросутцев. – Мне это не нравится. Запрягай.
Шараборин побежал за оленями. Оросутцев стал укладывать на нарты котел, дорожный мешок, а когда дело дошло до оленьей туши, он выругался и бросил ее в перегоревший костер. Надо было облегчить себя от всякого добавочного груза.
Когда все было готово и они садились на нарты, Шараборин сказал:
– Плохо ты сделал…
– Что плохо? – готовый огрызнуться, спросил Оросутцев.
– Надо было того насмерть резать.
– Я сам знаю, что плохо, – мягче сказал Оросутцев. – Кто же мог знать, что все так по-дурацки получится?
– Все надо знать, – сказал Шараборин. – Теперь, однако, надо скоро ехать до Кривого озера. По нашему следу пойдут. Хорошо бы, снег выпал.
Оросутцев ничего не сказал и тронул оленей.
*
* *
А майор Шелестов со своими друзьями мчался по свежему следу и думал лишь об одном:
"Только бы не пошел снег. Все, что угодно, но только не снег. Тогда пропало".
Примерно после часа быстрой езды Шелестов сделал первую и, как все поняли, вынужденную остановку. Взоры всех обратились к лежащим перевернутым нартам.
– Мало-мало поломались, – сказал, посмеиваясь, Быканыров.
– Значит, они теперь с шестью оленями и одними нартами, – сделал заключение лейтенант Петренко.
Эверстова посмотрела на Шелестова.
А Шелестов, по привычке, рассуждал про себя:
"Хуже это или лучше, что у них вышли из строя одни нарты?" – и пришел к заключению, что этот факт не играет никакой роли. Преступники имеют шесть оленей и поэтому, при нужде, могут перепрягать уставших.
Около брошенных нарт задержались на несколько минут и тронулись дальше.
Часа через три, когда олени выбежали на широкую безлесную равнину, между двумя горами вдалеке, впереди послышался рокот самолета, и Шелестов остановил оленей. Все соскочили с нарт.
Шелестов и Петренко обратились к биноклям. На горизонте слева обозначилась едва заметная движущаяся точка. Она приближалась, увеличивалась, и уже невооруженным глазом можно было определить, что летит самолет.
Какой то буйный восторг охватил друзей Шелестова, особенно старика Быканырова.
Самолет приближался, в воздух летели рукавицы и раздавались громкие, приветственные выкрики. Самолет опустился ниже, прошел чуть не над головами, развернулся, сделал второй заход и бросил вымпел. Тот быстро опускался на маленьком красном парашютике, относимый в сторону неощутимым движением воздуха.
Потом самолет с сильным ревом пошел вверх, прощально качнул плоскостями и полетел на запад. Все махали руками, пока самолет не скрылся с глаз.
– Молодец Ноговицын. Нашел-таки нас, – задумчиво произнес майор, глядя на горизонт.
– Хороший летчик, – решил высказать свое мнение лейтенант Петренко. Знаете, когда мы летели из Якутска на рудник, он мне показывал волка. Скажу честно, до сих пор не видел живого волка. Я сам бы его ни за что не заметил. А Ноговицын говорит, что на волков можно охотиться с самолета. Правда это или нет?
– Правда, – ответил Шелестов. – Хорошая, интересная охота. Мне однажды довелось в ней участвовать, и я получил большое удовольствие. Но лучше охотиться с самолета поближе к весне, когда потеплеет. Самолет-то должен быть открытым, а сейчас в такую стужу и носа не высунешь.
За вымпелом захотелось бежать Эверстовой. Она быстро сняла с нарт лыжи и умчалась.
– Догоню! – весело сказал Петренко, охваченный спортивным азартом, и бросился к своим нартам.
– Нет, не догнать, – бросил ему вслед старик Быканыров. – Она уже полпути прошла. И крепко идет.
– Все равно догоню, – сказал Петренко.
Шелестов вынул коробку папирос, закурил и, прикинув глазом расстояние, пройденное Эверстовой, подумал: "Пожалуй, прав старик. Не догонит".
Петренко встал на лыжи, быстро закрепил их на ногах, сбросил с себя кухлянку и побежал наискосок, не по следу Эверстовой, а к зарослям тальника, куда по его предположениям упал вымпел. Он бежал, пригнувшись, размашистым, натренированным шагом опытного лыжника.
Прошло не более полминуты, как Быканыров уже изменил свое мнение.
– Ой, догонит, догонит… Ошибку я дал. Быстрый на ноги парень. Смотри, Роман Лукич, смотри!
Старик, стоя на месте, притопывал ногами и хлопал рука об руку.
Майор, прищурив глаза, наблюдал за двумя фигурами, быстро скользящими по снегу.
"А и верно догонит", – подумал он.
Быканыров не стерпел:
– Надя! Надя! – громко крикнул он, сложив руки рупором. – Айда шибче! Айда…
Эверстова обернулась, но было уже поздно. Она увидела лейтенанта метрах в двадцати от себя.
Петренко обошел ее, вырвался вперед и, издали заметив красное пятно парашюта, направился к нему.
Он поднял вымпел, подошел к Эверстовой и подал его ей.
Та, тяжело дыша, смерила его оценивающим взглядом, но вымпел не взяла.
– Нет уж, сами несите, – сказала она. – Вам только за оленями гоняться.
Обратно они шли вдвоем, нормальным шагом. Петренко рассказал, что всего лишь три года назад впервые встал на лыжи, увлекся этим видом спорта и начал тренироваться.
– Я, конечно, не думал, что попаду на север, хотя и мечтал о нем. А вот пришлось. А лыжи, как видите, пригодились.
– Вы молодец, – похвалила, улыбнувшись, Эверстова.
– Вы шутите или серьезно?
– Вполне серьезно. Я сама занимаюсь спортом и уважаю людей, которые его любят. Вы же не только лыжник, но еще и снайпер, и боксер.
– Собственно, я увлекался всеми видами спорта, но лучшие показатели у меня были по лыжам, боксу, стрельбе.
– Ну, а я так, середнячок, – призналась Эверстова. – И не разрядник. Как-то один раз я взяла первое место по бегу на сто метров в Якутске. Это было целое событие. Я пробежала дистанцию не то за четырнадцать, не то за четырнадцать с половиной секунд.
– Это уже неплохо для женщины.
– Возможно. Но это было очень давно.
Петренко всмотрелся внимательно в лицо спутницы и подумал:
"Что значит давно? Сколько же ей лет? По-моему, от силы двадцать два – двадцать три…" – и, не сдержав любопытства, спросил:
– Когда же это было?
– Это было летом сорок первого года, когда началась война и когда я была совсем еще девчонка. Мне было всего шестнадцать лет.
– Позвольте, позвольте… – проговорил Петренко и мысленно стал подсчитывать, сколько же сейчас лет его спутнице.
– Нечего позволять, – с теплой грустью в голосе ответила Эверстова. Мне уже двадцать семь лет, я уже дважды мама и у меня два чудесных карапуза – сынишки.
– Ни за что бы не подумал! – воскликнул Петренко.
– Что не подумали?
– Что вам столько лет. Я бы не дал вам больше… больше… – и желая сказать приятное этой маленькой скромной женщине, добавил: – ну, никак не больше двадцати.
– Спасибо за комплимент. А муж меня зовет старушкой.
– Конечно, в шутку?
– Ну да, сейчас я принимаю это как шутку, но лет через пять-шесть шутка будет звучать по-иному, на самом деле состарюсь.
– А муж ваш в Якутске? – продолжал интересоваться Петренко.
– Да.
– Давно, наверное, его не видели?
– Я его сутки назад, а он меня сейчас, наверное, видел.
На лице Петренко появились растерянность и в то же время любопытство.
Эверстова звонко рассмеялась.
– Не догадались?
– Нет. Честно.
– Мой муж – механик самолета Пересветов. Вы с ним знакомы.
– Ах, вот оно что! Понятно.
– Вымпел! Вымпел быстрее! – потребовал Шелестов. – О чем это вы так горячо разговорились, что еле плететесь?
– Да так, о делах житейских, – ответила Эверстова.
– Пожалуйста, товарищ майор. – И Петренко подал вымпел.
Шелестов бросил в снег недокуренную папиросу, вынул из вымпела свернутый в трубочку листок бумаги, развернул его и прочел вслух:
"Еле отыскали вас. След от нарт идет на северо-восток. Людей и оленей не видели. Белолюбский на рудник не вернулся. Желаем успехов. Ноговицын, Пересветов".
Шелестов покачал головой и подумал: "И не вернется Белолюбский на рудник. Теперь это уже ясно", и, обратившись к своим друзьям, сказал:
– Поехали, товарищи. Нам засветло предстоит еще много километров сделать…
И опять помчались вперед, по следу, четыре пары оленей.
Старик Быканыров, не раскрывая рта, мурлыкал себе под нос несложную песенку, придуманную на ходу. Смысл ее в переводе на русский язык был таков: всему на свете есть начало и всему есть конец. Ничего нет без начала и без конца. Роет мышь, роет и дороется до колонка.
Олени бодро бежали, взметывая пушистый снег по проторенному, ясно видимому следу. След забирал то влево, то вправо, то падал вниз, под гору, то извивался и забирался в самую глухомань.
Шелестова и его друзей безмолвно встречали и провожали неподвижно стоящие сосны, ели, пихты, лиственницы.
Олени бежали по высокой вымерзшей траве, и тогда слышался хруст, будто нарты скользили не по снегу, а по песку.
Но вот олени легко взяли крутизну, начали спускаться вниз, и Шелестов остановил их: в зарослях он увидел следы костра. Резко и отчетливо чернели на снегу перегоревшие поленья, зола.
Сошли с нарт.
Это было то место, где Оросутцев и Шараборин утром делали привал и лишились завтрака из-за появления самолета.
– Десять минут отдыха. Перекур, – дал команду Шелестов. – Внимательно осмотреть все вокруг.
Не выпрягая оленей, все начали обследовать место привала преступников.
Нашли лужу крови, кости, разделанную и почему-то брошенную оленью тушу, угасший костер, в котором лежали куски обуглившегося мяса и стекла от разбитой бутылки.
"Теперь у них не шесть, а пять оленей, – сообразил Шелестов, продуктов у них, видно, нет".
– Торопились… Шибко торопились, – сделал заключение Быканыров. Все бросили.
– Наверное, почуяли погоню? – высказал предположение Петренко.
Шелестов ничего не сказал и только пожал плечами. Он еще раз подумал:
"Хотя бы не пошел снег. Сейчас перед нами открытая книга, читай и разумей, а пойдет снег – все занесет, все скроет".
Хотя день был на исходе и солнце уже укуталось на горизонте в морозную дымку, Шелестов не думал уже делать остановки на ночевку. Он не опасался за оленей и, следуя советам Быканырова, делал частые остановки. Олени до сих пор не выказывали усталости, бежали быстро, весело, бодро.
"Медлить нельзя", – решил про себя майор и сказал, ни к кому конкретно не обращаясь, а как бы разговаривая с самим собой:
– Интересно, когда они здесь были?
Быканыров, ни слова не говоря, опустился на корточки у костра и, сняв рукавицу, пощупал золу. Потом он начал осматривать кости и еще раз следы, оставленные ногами людей и оленей. Делал он это молча, с сосредоточенным, серьезным лицом.
Шелестов закурил, внимательно наблюдая за своим старым другом.
Эверстова стояла под пышной заснеженной елкой, похожей на невесту в белой фате.
Петренко незаметно подобрался с другой стороны елки и сильно стукнул по стволу прикладом винтовки. Иневый дождь вместе с большими хлопьями снега осыпал Эверстову с ног до головы. Эверстова вскрикнула от неожиданности.
– Вы стали как дед Мороз, Надюша, – рассмеялся Шелестов. Радистка, отряхиваясь, сказала:
– Ничего, я отомщу!
Быканыров поднялся, отошел от костра.
– Дело такое, – заметил он. – Они здесь были рано утром.
Шелестов посмотрел на часы.
– Ого… Четыре. Как же Ноговицын их не увидел? Хотя в такой чащобе разве увидишь! Нужно быть опытным таежником, чтобы здесь не заблудиться.
– А как вы узнали, дедушка, – поинтересовался Петренко, – что они были тут утром?
Старик встряхнул головой, посмотрел внимательно и цокнул языком:
– Годы, друг… Годы. Всю жизнь я провел в тайге. Родился здесь. Меня знает каждое деревцо, каждый кустик. Тайга – шибко большое дело. Тайгу надо узнавать душой, сердцем. У тайги много тайн, и не всем раскрывает она свои тайны. Тайгу надо полюбить, очень крепко полюбить.
– Мне кажется, я ее уже полюбил, – весело отозвался Петренко. Нравится мне тайга. Чудесный край. А какая широта! Простору сколько, – и он раскинул руки.
– Хорошо, – похвалил Быканыров. – Ты полюбишь тайгу, и она тебя полюбит, и откроется тебе, и убережет тебя. Честному человеку хорошо в тайге, а худому – плохо. Худой человек обязательно пропадет в тайге. Совсем пропадет…
– Ну, пора ехать, – прервал Быканырова Шелестов.
Оленей вывели на след. Шелестов дал команду трогаться.
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Надвигались сумерки. Крепчал мороз, и маленькими облачками от людей и оленей отрывался густой, сизый пар.
Шелестов считал, что уже пора останавливаться на ночевку, но место было неподходящее. След преступников вел наизволок по редколесью, где погуливал хотя и несильный, но при низкой температуре обжигающий ветерок.
Олени бежали уже не так весело, как днем. Они устали, и Шелестов их не понукал.
"Мои устали, а у меня два самых сильных, самых выносливых быка, рассуждал майор. – Значит, остальные и подавно устали".
Шелестов решил устроить первую ночевку в затишье, среди густой тайги, но удобного места, по его мнению, еще не было.
Когда нарты, въехали в распадок, густо поросший тальником, майор остановил оленей, и все подумали, что здесь и будет привал, но внезапно Шелестов потянулся к автомату.
Все насторожились. И лишь когда впереди с шуршащим звуком поднялся табун белых куропаток, стало ясно, какая дичь привлекла внимание майора.
– А я вообще не понимаю, как можно отличить от снега белую куропатку? – спросил Петренко. – Как это вы заметили, товарищ майор? Я сколько ни смотрю, ничего не вижу, а если и вижу, то лишь когда куропатки поднимутся.
– Привыкнешь, глаз приучишь, все будешь видеть, – ответил Быканыров. – Черные головки куропаток здорово видно. Снег белый, а они черные. И сидят они всегда головками против ветра, чтобы ветер перья им не лохматил. Птице ведь тоже холодно. А птица тоже ум имеет. Ты знаешь, как тетерев спит зимой?
– Понятия не имею, – признался Петренко. – Спит, наверное, как все спят, сядет поудобнее на ветку, глаза закроет и спит.
– О, нет, – заметил старик. – Тетерев хитрый. Он сядет высоко на дерево, сложит крылья и бух вниз в снег. Как камень. Уйдет глубоко, пророет норку вбок и спит.
– Здорово, я этого не знал.
Раздалось повизгивание Таас Баса. Все оглянулись. Пес стоял в стороне, разгребал передними лапами снег. Шерсть на его плечах поднялась.
– Что такое? – спросил Шелестов. – Что он нашел там?
– Сейчас погляжу, – ответил Быканыров и направился к Таас Басу. И стоило ему подойти вплотную, как он сейчас же определил: – Однако, прошел сохатый. Большой зверь. Совсем недавно прошел.
Подошли Шелестов и Петренко. Да, действительно, в заросли тальника уходили следы размером чуть не с глубокую тарелку.
– Вот, тальник кушал сохатый, – показал Быканыров на обглоданный тальник. – Вот еще кушал. Старый сохатый, зубы уже плохие. Старик.
Шелестов посмотрел на часы. Поздновато. С каким удовольствием он выследил бы короля тайги – сохатого! Разве есть лучшая награда настоящему охотнику, чем убить такого зверя?
– Товарищ майор… – вкрадчиво обратился Петренко к Шелестову.
– Что?
– Разрешите мне пробежаться.
Шелестов помолчал и потом сказал:
– Поздновато, дорогой.
– Я в один миг обернусь. На лыжах, а вы езжайте потихоньку. Честное слово, я мигом слетаю, а вдруг да наткнусь.
– Наткнешься, выцеливай под сердце, а то уйдет. Крепкий зверь сохатый, а этот больше лошади, – вмешался Быканыров.
Шелестов раздумывал. Он опасался, что горячий по натуре лейтенант увлечется погоней, и след сохатого заведет его куда-нибудь.
А Петренко умолял:
– Товарищ майор, ведь скоро привал делать будем. Я по своему же следу и вернусь. Вернусь и доложу, что сохатый готов, испекся. Честное слово.
"А в общем, ничего страшного нет, – подумал между тем Шелестов. – Мы все равно сейчас должны сделать привал".
Петренко смотрел на Шелестова просящими глазами, а тот все еще колебался.
На подмогу пришел Быканыров.
– Зачем думаешь? Пусти лейтенанта. Пусть пробежится.
– Ладно, – сказал майор. – Только строго с одним условием: через полчаса не увидите сохатого – обратно.
– Есть, через полчаса обратно.
Петренко быстро снял с нарт лыжи и палки, опустил голенища торбазов, достал из сумки обмотки и перемотал икры, чтобы они не ослабли, поднял голенища, поправил ремень винтовки, встал на лыжи и с места пошел крупным шагом.
Он выбежал из распадка на пригорок и размашисто пошел дальше.
– Однако, шибко бежит, – одобрил Быканыров и поцокал языком.
– Да, лыжник из него первоклассный, – согласился Шелестов, провожая глазами удаляющуюся и уменьшающуюся фигуру молодого офицера.
– А не заведет его сохатый в дебри? – высказала опасение Эверстова.
– Я ему установил срок, – коротко ответил Шелестов.
Петренко оказался точным. Едва успели Шелестов, Быканыров и Эверстова распрячь оленей на месте, избранном для привала, как лейтенант оказался тут как тут.
Он бросил на снег большого черного глухаря, рассмеялся и сказал:
– Вот вам и сохатый! Ровно на тридцатой минуте смотрю, сидит царь-птица, а сохатого нет. Ну, думаю, чем пустым возвращаться, сшибу его, и сшиб.
– Вот как! – заметил Быканыров. – Однако, у лейтенанта глаз хороший.
– Не спорю, не спорю… – согласился Шелестов.
Таас Бас осторожно обнюхал убитую птицу. У собаки была такая поза, будто глухарь сейчас взлетит и бросится на нее.
Быканыров поднял глухаря, пощупал.
– Мало-мало суховат, старик-птица.
– Ничего, – сказала Эверстова. – На огоньке он помолодеет.
– Ну, за работу, товарищи, а то темнота наваливается, – подал команду Шелестов. – Силы распределим так: за тобой, отец, – обратился он к Быканырову, – дрова и костер. Я с лейтенантом буду разбивать палатку, а Надюша позаботится об обеде.
Эверстова рассмеялась.
– Что вы, какой обед, Роман Лукич, на ночь глядя. Скорее ужин.
– Надо совместить и то и другое, – предложил Петренко.
– Правильно, – одобрил Шелестов. – Принимайтесь за работу…
Из всех четырех одному лейтенанту Петренко предстояло впервые ночевать в тайге, на снегу, при чуть ли не пятидесятиградусном морозе. Он еще не представлял себе, как это будет, хотя много раз мечтал о такой возможности. Сейчас он больше всего опасался, чтобы кто-нибудь ненароком или умышленно не намекнул на то, что он новичок в тайге. Но каждый был занят своим делом.
Старый охотник отправился ломать сухостой. Эверстова копалась в мешках с продовольствием. Таас Бас, несмотря на большой перегон, не улегся, а рыскал вокруг стоянки, что-то вынюхивая, к чему-то прислушиваясь. Олени паслись. Они разгребали копытами снег, зарывались в него головами и щипали промерзший ягель.
Снегу тут было так много, что олени подчас почти полностью скрывались в нем, и были видны лишь их коротенькие подрагивающие комочки пушистых хвостиков.
Шелестов и Петренко саперными лопатами очистили от снега до самой земли квадратную площадку размером три на три метра.
– Вот тут мы и будем спать, – сказал Шелестов и, вооружившись топором, подошел к густой ветвистой елке. Он стукнул по стволу елки обухом и отпрянул. Ветви уронили нависи снега, иней и очистились.
– А теперь мы ее вот так, – продолжал майор, расчистил у подножья елки снег и начал сильными ударами рубить дерево под самый комель. Елка вздрогнула, издала звук, похожий на скорбный вздох, как бы задумалась на короткое мгновение, потом накренилась, скрипнула и с шумом рухнула на снег.
"Отжила свой век", – с грустью подумал Петренко. Ему всегда было грустно, когда рубили деревья.
Майор, ловко орудуя топором, обрубал у поверженной елки мохнатые ветки.
– Это будет наша постель. Вместо матрацев. И ничего лучшего не придумаешь.
Лапчатую хвою перенесли и уложили на очищенное от снега место. Образовался многослойный мягкий настил.
В центре квадрата поставили на землю круглую аккуратную небольшую железную печку. От нее вывели жестяную трубу. Там, где железо должно было соприкасаться с тканью палатки, майор закрепил широкий асбестовый поясок.
Потом Шелестов и Петренко сняли с нарт меховые спальные мешки и уложили на хвойном настиле.
– А теперь все это накроем, и делу конец, – сказал Шелестов. – Вам, надеюсь, приходилось ставить палатки, товарищ лейтенант?
– И не раз, товарищ майор.
– Ну, и отлично. Так значит ваше имя Григорий?
– Да, вообще-то Григорий, а на родине звали Грицько.
– Грицько – это хорошо звучит. Грицько… Петрусь… Василь.
– Это по-украински.
– Ну, что ж, Грицько. Тащите сюда палатку, а то мы запаздываем. Видите, товарищ Быканыров уже развел огонь.
Палатка из плотного полотна закрыла целиком расчищенное и застланное хвоей место. Майор вбил наискосок в мерзлую землю четыре кола, закрепил растяжки, вывел в специальное отверстие конец трубы.
– Вот и все, готово, – сказал Шелестов, поправляя полог палатки. – Да и пора.
В небе уже высыпали звезды.
Старик Быканыров поставил по обе стороны костра рогатины и положил на них жердь. На жердь он водрузил котел и широкодонный чайник, туго набитый снегом.
Шелестов и Петренко подошли к костру. Жадное пламя уже вскидывалось вверх, освещая все вблизи, и звезды на небе как бы погасли.
Эверстова отсчитывала из мешка промерзшие и гремящие, как орехи, пельмени. Глухарь, подстреленный Петренко, лежал уже ощипанный и выпотрошенный.
Быканыров закрепил глухаря на вертеле и подвесил над огнем.
Петренко полез в самую чащу тайги, погружаясь почти по пояс в снег. Возвратился он с большой охапкой сухих дров, которые снес в палатку. Этого количества топлива показалось ему мало, и он решил принести еще. А когда вернулся вторично, из трубы уже вился дымок.
– А что будет, если я обложу палатку снаружи снегом? – спросил Петренко.
– Однако, теплее будет, – ответил Быканыров.
Лейтенант схватил лопату, принялся за работу и через несколько минут осуществил свой замысел.
Быканыров в это время оттащил в сторону нарты и поставил их по порядку на выход.
Надя повернула вертел, на котором румянился и исходил соком глухарь.
Огонь костра темнил все вокруг. Чем ярче полыхал огонь, тем, казалось, ближе придвигалась к костру ночь и обступала сидящих вокруг четырех людей. И одновременно все выше и выше поднимался черный купол неба.
Огонь лизал, жадно обгладывал сухие поленья, зло шипел, пофыркивал, с треском выбрасывая из костра снопы искр.
– Сосна горит. Ишь, какую искру дает, – заметил Шелестов, покуривая папиросу.
– Береза, однако, лучше сосны. От березы тепла больше, а дыму совсем нет, – сказал Быканыров.
– А вот дуб, тот совсем как уголь горит. Жаль, что в тайге не растет дуб, – вставил Петренко.
Таас Бас уже окончил обход местности и лежал сейчас поодаль от костра, положив большую голову на свои мощные лапы. Его глаза на свету казались зелеными светящимися точками.
Костер разгорался все ярче, все жарче, как бы вызывая на поединок лютую стужу. Но понадобилось бы очень и очень много огня, чтобы хотя на полградуса сбавить леденящий душу мороз. Он отступил лишь на какие-нибудь метр-два от костра, а дальше обжигал с неменьшей силой, чем и огонь.
Белым атласом отливали стволы близко стоящих берез. На маленькой елке таял снег от жары и падал невидимыми каплями.
– Где сейчас Белолюбский? – сказал как бы самому себе Быканыров.
– Наверное, как и мы, ужинать собирается, – ответила ему Эверстова.
– А может, бегут без оглядки, – заметил Петренко.
– Они ведь тоже на оленях, – возразила Эверстова, – а оленю через каждые два-три часа нужен отдых. Да и поесть олени должны.
– Верно, – сказал Быканыров. – Правильно говоришь. Нарты вперед оленя и без оленя не побегут.
Помолчали. Потом заговорил Шелестов.
– А глухие здесь места. Кажется, тут никогда нога человеческая не ступала.
Быканыров покачал головой.
– Э, Роман Лукич, ступали тут ноги разных людей, и худых и хороших. В восемнадцатом году в этих местах таилась банда Красильникова-Гордеева. Таилась тут, а нападала на села, стойбища, издевалась над советскими людьми. А нам, партизанам, пощады никакой не было. Летом так делали: словят человека в тайге, разденут догола, привяжут к дереву и бросят. И пропал человек. Совсем пропал. Гнус облепит его сплошь, и через час-два высосет всю кровь. Кровинки не останется. А зимой по-другому. Поймают, разденут, свяжут, воткнут в снег и водой обольют. А ведь мороз стоит, большой мороз. Такой мороз, что птица летит и падает. Потом мы побили всех бандитов.
Старик умолк, перебирая в памяти тяжелое прошлое и посасывая свою короткую трубку.
– Вы партизаном были, дедушка? – заговорил лейтенант Петренко. Расскажите нам, как вы дрались с врагами Советской власти. Это очень интересно.
Быканыров молчал и кивал головой.
– Правда, расскажите, – попросила и Эверстова. – Мне папа рассказывал что-то про генерала Пепеляева, но я тогда маленькой была, не помню уже. А когда стала больше, папа умер.
Старый охотник посмотрел на Эверстову добрыми глазами и спросил:
– Когда умер отец?
– В тридцать восьмом году. Мне было тогда тринадцать лет. Отец у меня был русский, а мать якутка. Отца выслали в Якутию в шестнадцатом году за участие в революционном движении. Он жил в Туле и работал на оружейном заводе. А здесь участвовал в гражданской войне. И с генералом Пепеляевым дрался.
– Я тоже помню генерала Пепеляева, – сказал Быканыров. – Я тоже бился против него.
Петренко и Эверстова стали упрашивать старика, чтобы он рассказал про генерала Пепеляева, их поддержал и Шелестов.
– Расскажи, отец, расскажи. Это полезно знать не только им, молодым, но и мне.
Быканыров согласился и рассказал вот что.
Японские империалисты давно зарились на советскую землю и давно вынашивали мечту стать хозяевами Дальнего Востока, Сибири, Якутии. И вот, в тысяча девятьсот двадцать втором году они подготовили к высадке на территории Советского Союза экспедицию, возглавляемую белогвардейским генералом Пепеляевым. Сформировали отряд, около тысячи человек, состоявший, в основном, из офицеров. Отряд снабдили всеми видами вооружения и Охотским морем доставили до советского порта Аян. Там отряд высадился и направился вглубь Якутии. Он шел по глухим местам, тайгой, где не было войсковых частей, не встречая сопротивления, предавая огню редкие населенные пункты, истребляя всех сторонников Советской власти. Перед Пепеляевым стояла задача захватить Якутск, свергнуть народную власть и укрепиться там.
По пути к Якутску к отряду генерала Пепеляева примыкали кулаки, остатки разгромленных банд, уголовники, и отряд все рос и рос. К зиме он дошел до районного центра – поселка Амга, от которого оставалось два-три перехода до Якутска.
Над Якутском нависла большая угроза. В Якутске не ждали врага. Якутск не располагал воинскими частями. Но надо было спасать положение.
– Я был тогда в Якутске, – продолжал Быканыров. – Коммунисты собрали отряд сотни в три человек и послали навстречу генералу. И я попал в тот отряд. Добровольно пошел. Отряд наш из Якутска добрался до деревни Петропавловской на лошадях, а оттуда пешком пошли на Амгу. Холодно, с едой совсем плохо, оружие больше охотничье. Пять дней мы шагали, но до Амги не дошли. Послал нам навстречу Пепеляев своего помощника генерала Вишневского. И начали мы с ним драться. Трудно было. В землю не спрячешься, земля как железо. Убьют товарища, мы за него прячемся и стреляем. Бился генерал, бился, а не одолел, однако, нас. Осталась нас сотня, а все бьемся. И не пустили белых в Якутск. Потом пришла подмога, и разбили мы пепеляевцев. А на другой год и самого генерала Пепеляева изловили.
Быканыров умолк и посасывал уже потухшую трубку. Немного погодя он грустно добавил:
– Однако, плохо я рассказал. Много можно говорить, а не умею.
– И так все ясно, отец, – приободрил его Шелестов. – Важно, что ты сам все пережил, испытал все тяготы тех лет и вот сидишь с нами и рассказываешь.
– Да, правильно, – согласился старик. – Я и Пепеляева самого видел.
– А нас тогда еще и на свете не было, – сказала Эверстова.
Пока шла беседа, Надя осторожно запускала в котелок пельмени, они быстро закипели, дошел и глухарь.
– Ну, давайте кушать да отдыхать, – объявил, вставая, Шелестов. Есть будем в палатке. Заносите все туда.
В палатке было просторно, тепло и светло от раскалившейся печи. Все сняли шапки и кухлянки.
Расселись по правую сторону от входа. Эверстова поставила посередине котел с пельменями и раздала ложки.
Шелестов, прежде чем приступить к еде, подмигнул Эверстовой, и та без пояснений поняла команду. Она достала из мешка алюминиевый бидон с узким горлышком и начала разливать по эмалированным кружкам спирт.
– Сегодня можно двойную порцию. Условия, приближенные к фронтовым, сказал Шелестов.
Быканыров крякнул, потирая руки.
Эверстова наделила мужчин двойной порцией, а себе налила два-три глотка, да и те разбавила водой.
Все подняли кружки, и Петренко пошутил:
– Сто грамм за дам.
– За одну даму, – поправил Шелестов.
Шелестов сразу глотнул все, одним глотком. Петренко хотел последовать его примеру, но поперхнулся, закашлялся. Быканыров отпивал свою долю маленькими глотками, будто пил горячий чай, и после каждого глотка причмокивал. Эверстова еле одолела свою порцию и даже прослезилась.
– Спирт надо умеючи пить, – сказал Шелестов, принимаясь за пельмени. – И надо знать, когда пить.
– Как это понимать? – спросил Петренко.
– А так, – продолжал Шелестов. – Вот сейчас, после дороги, перед едой, перед отдыхом это даже полезно, а вот в дорогу – нельзя. Ведь ясно, что спирт не только возбуждает, придает аппетит, но еще и притупляет чувствительность. Хватишь на дорогу, и, кажется, мороз тебе нипочем, и в сон клонит, смотришь, и заснул, когда не надо, а то и отморозил что-нибудь. Недаром же есть поговорка: пьяному и море по колено…
– Правду говоришь, – сказал Быканыров. – В дорогу идешь – нельзя пить. Спирт уйдет – совсем холодно станет.
После пельменей дошла очередь до глухаря, Эверстова еле-еле разломала его на куски.
– Ну и птичка, – усмехнулась она.
– Что птичка? Хорошая птичка, – заметил Петренко, взяв себе кусок.
Шелестов тоже выбрал кусок, попробовал его зубами и положил на место, мотнув головой.
– Совсем старая птица. Сто лет ей. Не по моим зубам, – разглядывая глухаря, проговорил Быканыров.
– Выражаясь словами одного из героев Дюма, можно сказать: я уважаю старость, очень уважаю, но только не в жареном виде, – сказала Эверстова.
Раздался дружный смех.
– Придется твоего "сохатого", Грицько, отдать на съедение Таас Басу, – предложил Шелестов.
Из-под полога высунулась голова Таас Баса. Он посмотрел своими преданными глазами на людей и тут же лег. Его глаза как бы говорили: правильно, зачем вам мучиться? Давайте старого глухаря мне. Мои зубы с ним справятся.
Эверстова собрала куски и бросила их собаке.
Потом пили густо настоенный, почти черный чай и разговаривали на разные темы. Так Петренко узнал, что Эверстова была на его "ридной" Украине.
– В начале сорок четвертого года я была в Полтаве, училась на курсах радистов, все надеялась попасть на фронт, да так и не успела, – рассказала Эверстова. – А то, может быть, встретилась бы где-нибудь с Романом Лукичом.
Тот улыбнулся одними глазами.
– Вот уж на фронте мы никак бы не встретились.
– Почему? – задал вопрос Петренко.
– Я был по ту сторону фронта.
– В тылу у немцев?
– Да.
Петренко шумно вздохнул и сказал, обращаясь впервые к майору по имени и отчеству:
– Ну, вам, Роман Лукич, есть о чем рассказать. Это ведь не шутка – в тылу врага.
– Да, бывало всякое, – уклончиво ответил майор. Он вообще не любил много говорить, а тем более не любил говорить о себе. – Когда-нибудь, в другое время поговорим. Сейчас же я предлагаю отдыхать.
– А дежурить по очереди не будем? – поинтересовалась Эверстова.
– Не будем, – ответил Шелестов. – Имея такого сторожа, как Таас Бас, можно спать спокойно. Как, отец? – обратился он к Быканырову.
– Точно, Роман Лукич. Он за версту чужого учует…
Вскоре в палатке стояла тишина.
*
* *
Проснувшись утром и высунув голову из спального мешка, Эверстова увидела майора. Он сидел по-восточному, подобрав под себя ноги, перед маленьким кусочком зеркала, прикрепленным к шесту, и брился.
Печь уже горела, и в палатке было тепло.
Эверстова обвела взглядом палатку и убедилась, что спальные мешки Быканырова и Петренко пусты.
"Здорово! – подумала Эверстова. – Оказывается, одна я всех переспала!"
Но рассвет едва-едва занимался.
Эверстова вылезла из мешка.
– Доброе утро, Надюша! – приветствовал Эверстову Шелестов, не поворачивая головы, и продолжал усердно водить бритвой по щеке.
– Доброе утро, Роман Лукич! Проспала я?
– Пока еще нет. Официально подъема не было.
– А вы знаете, как чудесно спалось. Я уже давно так не спала.
– Вы… – раздался снаружи голос Петренко. – Вы северянка, а что сказать мне, южанину? Я еще никогда не испытывал такого удовольствия. И если бы кто-нибудь сказал мне год, полгода тому назад, что можно так хорошо спать на таком морозе, в тайге, я бы ни за что не поверил.
Эверстова откинула полог палатки, сделала шаг и ахнула.
Лейтенант, оголенный по пояс, набирал пригоршнями снег и натирал им лицо, руки, плечи, грудь.
– Это же безумие! – вскрикнула Эверстова. – Роман Лукич! Посмотрите, что он делает.
– Знаю, видел… Ничего страшного, – отозвался Шелестов.
– Закалка, Надюша. Это большое дело – закалка, – повернувшись к Эверстовой, сказал Петренко. – Вы простите, что я вас называю по имени.
– Это не страшно и не опасно, а вот вы можете легкие простудить.
– Ерунда, – уверенно ответил Петренко, забежав в палатку. – Теперь я разотру тело вот этим мохнатым полотенцем, и все. Я всегда зимой снегом натираюсь, а когда нет снега, обливаюсь холодной водой.
Под смуглой, блестящей кожей лейтенанта перекатывались крепкие мышцы.
– Все это хорошо, – продолжала Эверстова. – Но не надо забывать, что вы не на Украине, а в Якутии.
– Напрасно беспокоитесь, Надюша, – вмешался в разговор Шелестов. Привычка – большое дело.
Эверстова покачала головой, вошла в палатку и посмотрела на свои часы.
– У меня сейчас сеанс с Якутском.
Шелестов окончил бритье.
– Ладно, – сказал он. – Работайте, а мы с лейтенантом приготовим завтрак…
Якутск передал, что Белолюбский на Джугджуре неизвестен, что инженер Кочнев не покончил с собой, а убит, и что убийц надо найти и задержать во что бы то ни стало.
Шелестов прочел радиограмму и покачал головой.
"Значит, экспертиза подтвердила мой вывод, – подумал он. – Конечно, убит, и задержать преступников надо при всех обстоятельствах".
Завтрак, состоявший из нарезанной крупными ломтями колбасы, сливочного масла, пшенной каши из концентрата и чая, был готов, но все ждали возвращения Быканырова, который, встав раньше всех, ушел на лыжах, заявив майору, что хочет "мало-мало погулять".
Вернулся охотник, когда уже рассвело.
– Ну как, следопыт? – встретил его вопросом майор Шелестов.
Быканыров не торопился с ответом. Он развязал шарф, опустился на корточки, набил трубку табаком, распалил ее и лишь тогда заговорил:
– Вперед ходил, по следу… Когда едешь – одно, а когда идешь другое дело. Однако, я правильно думаю: с Белолюбским бежит тот, который был у моего дома.
– Из чего ты заключил? Садись, ешь, – сказал Шелестов.
– Холодно. Они едут-едут, а потом то один, то другой сойдут с нарт и бегут рядом. Греются. И у одного ноги разные. Видать, хромает. И тот хромал.
– И вы в темноте увидели? – усомнился Петренко.
– Увидел, – коротко бросил старик и принялся за еду.
– Я не пойму, отец, что тебе дает это открытие? – пожав плечами, сказал Шелестов. – Тот это или не тот, не вижу в этом разницы.
Быканыров, занятый едой, промолчал.
ВРАГ ПУТАЕТ СЛЕДЫ
С раннего утра с севера подул слабенький и в другое время года почти неощутимый ветерок. Но сейчас, когда температура опустилась за сорок градусов, этот "ветерок" палил и обжигал до боли. Он дул немного слева, сбоку, и когда Шелестов и его друзья преодолевали открытые места, то ветер безжалостно выдувал из одежды остатки тепла, заставлял делать движения, допустимые при сидячем положении.
Стоило на какие-то секунды снять рукавицу, как пальцы рук обжигало точно огнем.
Мороз пробирал основательно, "до самых костей", сковывал тело, ноги людей, неподвижно сидящих на нартах, и потому все изредка сходили с нарт и делали пробежки.
След преступников по-прежнему то уходил в тайгу, то выбирался на открытые места, а потом привел к широкой замерзшей реке. Ее можно было угадать по одному крутому берегу и по заснеженным торосам, которыми она ощетинилась.
По неподвижной, взъерошенной, точно шерсть вырвавшегося из драки медведя, поверхности реки, можно было судить о единоборстве, поединке двух стихий: воды и мороза, происшедшем в начале зимы. Вода, видно, долго боролась, сопротивлялась, а мороз наседал и одолевал. Наконец, река, обессиленная, замерла, притихла, накрепко скованная морозом. Он покрыл ее толстой и прочной корой льда, от берега до берега. Но подо льдом, если прислушаться, кипела, сердито бурлила и глухо рокотала неуемная вода. И в этом рокоте можно было распознать угрозу: "Подожди, придет и мой черед, пусть только пригреет весеннее солнце, пусть только придут ко мне талые воды, прибавят мне сил, и я покажу тебе, мороз, какова я. Я сброшу с себя прочь твой ледяной панцырь и опять побегу свободно…"
След преступников повел по отлогому берегу реки, забежал в ее излучину, а потом вдруг забрал в сторону, на восток.
Не хотелось останавливаться, не хотелось терять времени, не особенно приятно было снимать рукавицы и на таком холоде доставать карту и компас, но другого выхода не было.
"Черт бы побрал этого Белолюбского, – подумал про себя майор. – Чего его тянет в сторону?"
Шелестов извлек из планшетки карту, снял с правой руки спиртовой компас и через несколько минут убедился, что беглецы изменили направление своего движения. Если раньше они мчались строго на северо-восток, то теперь неожиданно повернули на восток.
– Н-да… Непонятно, что они затевают, – высказал вслух свои мысли Шелестов. – Или хотят пробиться к чукчам, или к корякам…
– У них путь один, – вставил Быканыров. – И у нас путь один.
Все поправили шарфы, повязали их повыше, потуже, закрыв рот, нос и оставив только узенькие щелки для глаз.
Из-за отрогов сливавшегося с горизонтом далекого горного хребта поднялось бессильное, напоминающее сейчас рефлектор, солнце. Оно светило ярко, невольно заставляя опускать веки, но совсем не грело. В его косых лучах клубились мириады мельчайших, точно пылинки, хрусталиков.
Все сели на свои места. Шелестов тронул переднюю упряжку. Помчались олени, заскрипели полозья нарт. И опять началась погоня.
А след преступников забирал все правее и правее, наводя на бесплодные размышления Шелестова и его друзей. И в самом деле, что заставило беглецов изменить направление? Препятствий, если глядеть на северо-восток, никаких не было. Река не могла служить препятствием, а широкая долина ее, покрытая ровным слоем снега, представляла даже удобство, в сравнении с тайгой и самой рекой. В чем же дело?
"Значит, они что-то затевают, – рассуждал про себя Шелестов. – А что именно, при всем желании понять пока трудно".
Думал об этом и лейтенант Петренко:
"Остается только преследовать, – размышлял он. – Стараться побыстрее сократить расстояние и поскорее нагнать их. Никакая выдумка, смекалка, находчивость здесь ни при чем. Не помогут. Да и что придумаешь? Ничего".
И старый охотник Быканыров был занят мыслями.
"Однако, хуже нет ожидать или догонять, – думал он. – Можно разъехаться в разные стороны, но что толку от этого?"
Да, толку в этом никакого не было. И маловероятна была возможность, бросившись в разных направлениях, перерезать вдруг путь беглецам. Перед глазами бежал единственный след, он забирал все правее, он мог и дальше забирать правее, но мог неожиданно свернуть и в противоположную сторону.
Шелестов все понукал и понукал оленей, наращивая темп бега.
А незадолго до полудня, преодолев крутогор и быстро спустившись вниз, упряжка Шелестова уперлась в свежий след, оставленный нартами. Шелестов остановил оленей, огляделся, всмотрелся, и ему стало ясно. Да и не только ему, а и другим стало ясно, что они уже были тут раз.
– Это же та самая излучина реки! – звонко крикнула Эверстова.
– Да, правильно, – подтвердил Шелестов.
– Вот так штука! Что же это означает? – заинтересовался Петренко.
– Путают, однако, следы. Сбить нас хотят со следа, – сказал Быканыров.
– Вы сидите, товарищи, – распорядился майор, – а я осмотрю все хорошенько. Что мы здесь уже были, – сомнений нет. Здесь я вынимал карту, сверялся с компасом. Вон мои следы. Сидите, не сходите с нарт.
Майор встал на нартах во весь рост и начал осматриваться. Потом достал опять карту, компас, повернулся лицом строго на северо-восток. Впереди, в прозрачной морозной дымке тонули едва угадываемые глазом и меняющие свои контуры отроги хребта. Направо, откуда Шелестов и его спутники только что съехали, поднимался берег реки, местами оголенный, местами поросший низким кустарником, редколесьем. На самом крутогоре виднелась группа берез, тесно прижавшихся друг к другу, окруженная зарослями тальника. Налево размахнулась бескрайняя тайга, то зеленая, то буро-зеленая, то, наконец, черная. Тайга была и позади, где делали привал и ночевку Шелестов и его товарищи.
По виду майора, по его неторопливым движениям, по пытливым взглядам, которые он бросал то в одну, то в другую сторону, трудно было определить его мысли.
По виду он, как всегда, был спокоен и немного суров. Но так только казалось. Майора озадачил ход преступников, и он упорно старался разгадать, что они затевают. Он волновался.
"Какой в этом смысл? – спрашивал он сам себя. – Ведь они сделали круг, пересекли свой собственный и наш след и теперь уже подались на запад. Значит, обратно, назад? Зачем? Для чего тогда было тратить время понапрасну?"
– И они тут не оставили следов, не сходили с нарт. Замечаешь, Роман Лукич? – сказал Быканыров, прервав размышления Шелестова.
– Давно заметил, – отозвался тот. – Потому-то я и сказал вам не сходить с нарт.
– Значит, рассчитывают обмануть нас, – произнес Петренко.
– Одного можно обмануть, – заметил Быканыров, – двоих трудно, троих еще труднее, а четверых шибко трудновато. Однако, придется ехать и нам за ними. Опять в тайгу.
– Другого выхода нет. У них одни нарты, и на запад пошел только нартовый след, – высказал свое мнение Петренко.
– А как еще могло быть? – спросила Эверстова.
– Могло быть и так, – объяснил лейтенант, – что один поехал на нартах на запад, а другой на лыжах, или верхом на олене подался в другую сторону.
"Мысль правильная", – подумал Шелестов и решил, что одному, пожалуй, придется сойти с нарт и осмотреть следы.
– Отец, – обратился майор к старому другу. – Посмотри-ка следы. Может быть, и вправду они разъединились. Только осторожно.
– Понимаю, – коротко ответил Быканыров. Он, не сходя с нарт, снял лыжи, поставил их в колею от полозьев нарт, потом встал на лыжи и пошел вперед. Он прошел сначала на запад, куда вел новый след, постоял там несколько минут, затем вернулся, прошел на северо-восток. Там тоже задержался, осматривая следы оленей и нарт. Обостренное чутье и зрение старого охотника позволили ему по каким-то ускользающим, не дающимся другому глазу признакам определить, что оба преступника поехали на нартах на запад. – Они вместе поехали, – сказал он вернувшись.
Шелестов подумал:
"День уже наполовину прошел, надо торопиться", – и возобновил погоню.
*
* *
Когда негреющее солнце уже погружалось в густую вечернюю дымку, оказалось, что Шелестов со своими друзьями сделал еще один круг, еще раз пересек и старый след преступников и свой собственный где-то на юго-востоке и оказался на том же месте, где был в полдень, у той же излучины реки.
Остановились. Надо было дать отдых оленям.
– Да они хотят, однако, сбить нас со следа, – сказал Быканыров.
"Теперь это уже очевидно, – подумал майор. – Они сделали два круга, полную восьмерку и, конечно, умышленно".
– Они проверили и убедились, что за ними погоня, – заметил Петренко.
Шелестов протирал рукой слипшиеся от мороза веки. Последние три-четыре километра он ехал, как принято говорить, с ветерком. Оторочки его шапки, кухлянки покрывал густой слой инея.
"Вот тут я утром ориентировался с картой и компасом, – думал Шелестов, еще не покидая нарт. – Вон та самая группа берез, окруженная тальником, вон видна верхушка елки, занесенной снегом. И теперь надо узнать, где же они, в каком направлении поехали?"
Преступники поставили перед ними трудную задачу. Сейчас с перекрестка уходили три направления с готовым следом. По-прежнему на северо-восток, вдоль берега реки, на восток, через взгорок и, наконец, на запад.
Все сидели с озабоченными лицами. Шелестов не подавал команды сходить с нарт, хотя в этом уже ощущалась явная потребность: мороз делал свое дело и, как обычно, крепчал к вечеру. Надо было походить, размять застывшие члены.
Наконец Шелестов разрешил сойти с нарт, и все направились к нему, стараясь идти по уже пробитой колее, не оставляя новых следов.
Надо было посоветоваться, обменяться мнениями.
Шелестов, щуря глаза и хмуря брови, свесил ноги на одну сторону с нарт и сказал:
– Ну и ну! Шутка сказать! Через этот перекресток за день прошло по два раза пять нарт и тринадцать оленей. Попробуй-ка, разберись в этом нагромождении.
Даже Быканыров стоял, явно озадаченный, Петренко и Эверстова молча смотрели на Шелестова.
– Видите, что получается, – продолжал майор. Он вычертил пальцем на снегу против себя восьмерку, обозначил начальными буквами стороны света и заговорил опять. – Попробуем исключить маловероятное. На юго-восток они не могли поехать, так как мы приехали оттуда. Они бы столкнулись с нами. Это ясно. Это направление наверняка отпадает. Ехать вторично на запад, то-есть назад, им, по-моему, нет никакого смысла. – Майор помолчал, подумал и продолжал: – Таким образом, для них остаются два направления: на восток и на северо-восток. Иной возможности я не вижу. Но куда именно они поехали, вот в чем задача?
– А не вздумают ли они еще раз описать одну из двух петель? высказал предположение Петренко.
Шелестов поднял голову, посмотрел на лейтенанта и как бы про себя заметил:
– Одну из двух петель… Одну из двух… А какую же?
– Да любую…
Шелестов опустил голову и полез в карман за папиросами.
– Это очень рискованно и опасно для них самих, – сказал он после небольшой паузы. – Представьте себя на их месте. Они, попав вот сюда, тоже, очевидно, думали, в каком направлении податься, и не исключали возможности встретиться с нами.
– Да, пожалуй, – согласился Петренко.
– Назад они не побегут, – твердо заявил Быканыров. – Они, однако, обмануть нас хотели, и теперь пойдут вперед.
– Вперед-то вперед, но куда именно? – спросил Шелестов. – На северо-восток – вперед, на восток – тоже вперед.
Быканыров пожал плечами.
В разговор вмешалась Эверстова.
– А Таас Бас не нанюхает, куда они поехали?
Шелестов посмотрел на Быканырова, а тот, в свою очередь, на Таас Баса. Пес лежал на самом перекрестке, высоко держа остроухую голову, и, услышав свою кличку, встал на ноги.
– Шибко трудно, – ответил Быканыров. – Много следов. Он бы и сам учуял, а то спокоен.
– Но попробовать же можно? – сказал Петренко.
Быканыров закивал головой и подал собаке команду по-якутски, что в переводе означало: "Ищи, Таас Бас… чужой… ищи!"
Пес сорвался с места, энергично забегал, заметался, принюхиваясь к следам, обнюхал все четыре направления и, подбежав к Быканырову, сел против него, заглядывая в глаза хозяина. Он склонял голову то вправо, то влево, и вид у него был какой-то растерянный, виноватый.
– Прав, отец, – сказал Шелестов. – В такой путанице и Таас Бас не разберется…
А сумерки сгущались, густела морозная дымка. Уже исчезли в ней отчетливо видимые днем отроги хребта.
Олени перебирали ногами, как бы выказывая этим свое нетерпение.
Шелестов сидел несколько минут молча, потом встал и сказал:
– Мы должны исключить всякую возможность для преступников улизнуть от нас. И гадать, куда они поехали, не будем. Мы постараемся обеспечить все направления. И придется сделать так: ты, отец, – обратился он к Быканырову, – останешься здесь, у перекрестка. Спрячешься и будешь наблюдать. Если они решили еще раз сделать петлю, то им не миновать перекрестка. Понял меня?
– Правильно. Понял.
– Перед тобой будет стоять задача узнать, какое они направление изберут, если вновь появятся здесь. Но они тебя не должны видеть. Ни в коем случае. Ты должен остаться для них незамеченным. Упрячешься в тальник, вон под теми березами, и будешь ожидать. Мы оставим тебе двое нарт. Увидишь, – пропусти, ни окрика, ни выстрела, ничего. Выжди, пока они удалятся, и тогда езжай на одних нартах по их следу. Вторые нарты оставь здесь. Пусть олени отдохнут. Они нам нужны будут. Вон на той, самой большой березе, сделай зарубку, чтобы мы знали, куда ты поехал. Острием вверх – значит на северо-восток, острием направо – значит на восток. Ты меня понимаешь и знаешь, как это сделать.
– Понимаю, Роман Лукич, – ответил Быканыров. – А вы как же?
– Мы? – переспросил Шелестов. – Мы вот так: я поеду на северо-восток, а Петренко и Эверстова на восток.
– Ага, мудро… – одобрил Быканыров.
– Ясно, – сказал Петренко.
– Но еще раз запомни, – предупреждал майор старого друга. – Ты один, а их двое, и как они сейчас вооружены – неизвестно. Значит, драки не затевай. В драке можно кого-нибудь из двух подстрелить насмерть, а это не входит в нашу задачу. Мы должны схватить их обоих живыми. Ты должен высмотреть, куда они поедут, и последовать за ними. А мы тебя догоним.
– А если они здесь не появятся? – задала законный вопрос Эверстова.
– Тогда, отец, ожидай кого-нибудь из нас, – ответил майор.
– Однако, возьми с собой Таас Баса, – предложил старый охотник.
– Зачем же?
– Э-э! Слушай меня. Таас Бас найдет меня где хочешь. И посылать ко мне никого не надо. Сам найдет. А с ним я и вас найду.
Майор согласился и сказал:
– Приступаем к делу.
Двое нарт с оленями отвели на взгорок, направо от излучины реки, в самые заросли тальника. Быканыров сел в засаду у берез. Они стояли метрах в двадцати от перекрестка. С места засады перекресток был виден, как на ладони. Старик снял с нарт спальный мешок, влез в него по самую грудь и сказал:
– Теперь меня и мороз не возьмет.
– А мы вам и свои мешки оставим, – предложила Эверстова. – Зачем они нам в дороге? Лишний груз.
– Тоже верно, Надюша. Ночевать мы не собираемся, – сказал майор.
Три спальных мешка: Шелестова, Петренко и Эверстовой, постелили один на один, и получился большой меховой матрац.
– Совсем ладно, – одобрил Быканыров, кладя сбоку от себя двустволку.
Шелестов подумал и сказал:
– Вообще все вещи с наших нарт правильнее оставить здесь. И палатку, и печь, и мешки с продуктами. Оставим при себе только заплечные мешки. А ну, быстро, все сюда!
Через несколько минут весь груз с двух нарт перенесли на место засады Быканырова.
– Очень ладно, очень ладно, – сидя в мешке и попыхивая дымком, сказал Быканыров. – Совсем легко будут бежать ваши олени.
Уходя с места засады, Шелестов, Петренко и Эверстова меховыми рукавицами выровняли снег и замели следы, ведшие от перекрестка до Быканырова.
Шелестов посмотрел в сторону, где остался Быканыров, и сказал:
– Отлично. Отсюда сейчас ничего не видно, а ночью и подавно. Ну, а теперь, лейтенант, садитесь на свои нарты с Надюшей и езжайте на восток по следу. Дорога вам уже знакома. Я же поеду по следу на северо-восток. И запомните главное: мы должны встретиться на этой петле и не выйти из нее.
– А если они выйдут из петли и пойдут новой дорогой? – спросил Петренко.
– Безразлично, – твердо сказал Шелестов. – Сходимся на кругу и не выходим из него, даже если обнаружим новый след. Ясно?
– Ясно.
– Вот так. Если я наткнусь на новый след, буду ожидать вас, вы наткнетесь – ожидайте меня. Тогда решим, что делать. И еще учтите, – не загнать оленей. Через час-полтора делайте хотя бы десятиминутную остановку. Ну, а если встретитесь с ними, руководствуйтесь одним. Вы слышали, что я сказал товарищу Быканырову, то же скажу и вам. Оба они должны быть схвачены живыми. Я затрудняюсь сейчас сказать вам, как это сделать. Трудно в таких случаях дать рецепт. Но потому я и посылаю вас двоих. Сообразуйтесь с обстановкой и помните, что эти типы не остановятся ни перед чем и в средствах не будут разбираться. Не горячитесь. Знайте, что в спину убивают и храбрых. Действуйте.
– Есть действовать! – отчеканил лейтенант Петренко и, пропустив вперед себя Эверстову, направился к своим нартам.
Шелестов тоже уже хотел садиться на нарты, но вспомнил про собаку.
– Таас Бас! Таас Бас! – окликнул он пса.
Но собаки не было видно.
– Таас Бас! – вновь позвал Шелестов и услышал голос Быканырова:
– Иди, иди, Таас Бас… Иди, так надо…
Псу, видно, непонятно было, зачем и почему он должен покидать своего хозяина, но он все же выполнил команду и подошел к майору.
Тот погладил собаку, достал из кармана кусочек сахару и дал Таас Басу. Сахар хрустнул на зубах у собаки. Она повиляла хвостом и посмотрела в сторону Петренко и Эверстовой, удаляющихся на нартах на восток.
– Со мной пойдем, Таас Бас, со мной, – заговорил майор, усаживаясь на нарты. – Мы же с тобой старые знакомые. Зачем терять дружбу? Э-гей!.. крикнул он на оленей…
И перекресток опустел.
*
* *
В холодном сиянии дрожащих звезд спала тайга. С черно-бархатного и, казалось, низкого-низкого неба падали едва ощутимые игольчатые пылинки инея.
Томительно и нудно текло время.
Быканыров сидел, притаившись, на нартах, всматривался, вслушивался, выжидая возможного появления врага, и боялся кашлянуть, закурить, выдать себя неосторожным движением.
Одиночество приучило Быканырова разговаривать с самим собой, но сейчас он воздержался и от этого. Он сидел молча, тихо, точно застыл, и только непрошенные грустные мысли приходили в голову. Вспомнилась жена, умершая два десятка лет назад, вспомнился сын, погибший от рук белобандитов. И старому охотнику думалось, что очень несправедлива судьба бывает к людям: молодые уходят из жизни, а старые остаются, живут. Конечно, всем жить хочется, и старым, и молодым, но горько и обидно, что жена, которая была на десять лет моложе его, умерла раньше его. И сын тоже…
Быканыров чувствовал, как безжалостный, лютый мороз пробирается уже в спальный мешок, постепенно охватывает и холодит тело. Но он сидел по-прежнему неподвижно и невольно вздрагивал, когда похрапывали отдыхающие олени.
"Нет, сюда не вернется, однако, Белолюбский, – подумал старик. Напрасно сижу тут".
Когда наваливалась сонная одурь, Быканыров резко встряхивался и устремлял глаза на перекресток. Так случилось и сейчас. Сон начал затуманивать мозг, и старик передернул плечами. Вдруг до его чуткого уха дошел невнятный шум. Точнее, это был звук, похожий на шорох. Быканыров знал, что разные звуки могут быть в тайге, знал и то, что в таком просторе некоторые звуки умирали, едва успев возникнуть. Но схваченный его ухом звук не пропадал, а слышался все явственнее в сторожкой, выжидательной тишине.
Быканыров напряженно всмотрелся вперед, откуда доносился шорох, и увидел человека. Одинокий человек приближался к перекрестку с запада, и легкий скрип издавали лыжи, на которых он шел. Теперь уже отчетливо на фоне снега была видна его фигура. Он двигался без палок, с опаской, изредка останавливаясь и всматриваясь в дорогу.
Человек шел с той стороны, откуда его меньше всего ожидали. Вот он опять остановился, присел на корточки, опять поднялся, пошел.
Расстояние между Быканыровым и неизвестным сокращалось.
И тут Быканыров отметил, что человек припадал на одну ногу.
"Тот, тот, – подумал старый охотник. – А почему один? Где второй? Где Белолюбский? Где олени, нарты?"
Напрягая зрение, он всматривался в медленно приближающуюся фигуру. Их разделяло теперь расстояние метров сорок, не более.
У человека не было ружья, и руки его были свободны. И потому, что человек шел не так, как обычно идут честные люди, а вслушивался, всматривался, опускался на корточки, рассматривал следы, останавливался, Быканыров решил, что перед ним сообщник Белолюбского, именно тот человек, который не зашел тогда в его избу, а возможно, и "Красноголовый".
Мысли зароились в голове Быканырова. Почему он, в самом деле, один? А может быть майор или лейтенант задержали Белолюбского, а этот убежал?
"Не иначе так, – мелькнула мысль. – Да еще подранил кого-нибудь из наших. Подранил, а теперь не знает, куда идти. Боится показать новый след. А вдруг… – нет, Быканыров отбрасывал нехорошие мысли. – А что, если я его словлю? – задался вопросом старый охотник. – Шелестов, видать, словил Белолюбского, а я словлю этого. А что? Он один, ружья нет. Ой, хорошо будет! Спасибо скажет Роман Лукич".
Неизвестный дошел в это время почти до перекрестка и вновь остановился, как будто чуя, что его подстерегает какая-то опасность.
Быканыров уже не чувствовал холода. Наоборот, сейчас ему вдруг стало жарко, даже душно, и почему-то подрагивали руки. Он осторожно, не производя шума, выпростал ноги из спального мешка, подмял его под себя коленями. Потом взял в руки бескурковку.
Неизвестный присел, вглядываясь в следы.
"Ишь ты, тоже осматривает. Хочет знать, куда ушли наши, – подумал Быканыров и увидел, что человек вдруг неожиданно выпрямился. Надо подойти поближе к перекрестку. Пусть он увидит, что у меня есть ружье. Тогда он не побежит. Знает, что от пули далеко не уйдешь".
Человек постоял несколько секунд неподвижно и, будто убедившись, что опасности никакой нет, вновь опустился на корточки, продолжая всматриваться в следы.
"Так и сделаю", – решил Быканыров, и, пока неизвестный исследовал следы на снегу, он бесшумно поставил ноги на лыжи и, держа в одной руке ружье, другой раздвинул тальник и покатился вниз.
– Тохто! Тохто! – громко крикнул он, потрясая бескурковкой и приближаясь к перекрестку.
Человек быстро поднялся, увидел Быканырова с ружьем в руках, повернулся и бросился бежать в ту сторону, откуда пришел.
"Уйдет… Шибко бежит… Уйдет… – кольнула тревожная догадка старого охотника. – А я его попугаю… Возьму повыше и бахну. Пусть знает, что ружье мое может стрелять".
Быканыров остановился, вскинул к плечу приклад ружья, поскользнулся, но все же выстрелил. Эхо отозвалось глухо, тоскливо.
И вдруг произошло невероятное: человек остановил бег и упал лицом вниз. Одна лыжа соскочила с его ноги, откатилась вперед, а вторая встала торчком.
Быканыров опешил и протер глаза. Как могло случиться, что он, первоклассный охотник, убивавший белку в глаз, попал в человека, когда брал на голову выше? Ведь он хотел припугнуть его, но не убить, и даже не ранить.
А человек лежал неподвижно, распластавшись на снегу большим черным пятном.
"Худо дело… Совсем худо. Однако, убил я его. Поскользнулся, занизил и попал".
В голову пришли горькие мысли: зачем он ослушался майора? Зачем показал себя? Зачем выстрелил?
"Роману Лукичу нужен живой враг, а не мертвый. Худо получилось. А может я его только подранил?" – подумал Быканыров и пошел вперед.
Но неизвестный не проявлял никаких признаков жизни, не шевелился, не стонал.
"Убил… Убил… Худо получилось", – твердил про себя старый охотник, приближаясь к распростертому на снегу человеку.
Подошел вплотную.
Человек лежал, уткнувшись лицом в снег, левая рука его была выброшена вперед, а правая придавлена головой…
– Что же делать? – произнес уже вслух Быканыров, сбросил с ног лыжи, опустился над неизвестным и приподнял его руку. Она была тяжела, как у мертвого. Быканыров сунул руку под шапку лежащего перед ним человека и ощутил голую кожу. – "Красноголовый", – сказал он. – Шараборин. Значит, судьба мне его кончить. А что же теперь скажет Роман Лукич? Как я буду смотреть ему в глаза? Ведь он приказал, а я ослушался.
Быканыров встал, выпрямился.
– Куда же попала пуля? – спросил он самого себя. И вдруг неподвижное тело произвело резкое движение, обхватило его ноги, сильно дернуло их на себя, и Быканыров упал навзничь.
Он не успел опомниться, не успел сообразить, не успел оказать никакого сопротивления. Все это уложилось в считанные секунды. На него навалилось всей тяжестью большое человеческое тело и что-то режущее опалило бок. Свет померк…
Когда Быканыров очнулся, то первое, что ощутил, – неуемную, ноющую, рвущую за душу боль в левом боку. И, чтобы не вскрикнуть от этой страшной боли, он прикусил губы и услышал человеческие голоса.
– Ружье и патроны нам кстати, – сказал кто-то простуженным голосом, и в этом голосе Быканыров узнал помутившимся сознанием коменданта Белолюбского.
– Ехать надо, торопись… Чего ждать? – послышался второй голос. И этот голос признал Быканыров. Он принадлежал "Красноголовому".
– А не оживет ли он? Как ты его? – спросил Белолюбский.
– От моего ножа, однако, никто в живых не оставался, – ответил Шараборин. – Это у тебя плохо получается. Как у плохого охотника подранки.
Превозмогая нестерпимую боль и подавляя в себе потребность издать стон, Быканыров крепко стиснул зубы. Он чувствовал, как согревала его левый бок собственная горячая кровь, текущая из раны, но боялся пошевелиться.
– Как же оказался он здесь без оленей? – опять раздался голос Белолюбского.
– Не знаю. Зачем думать? Ехать надо, а не думать, – тревожился Шараборин.
– Ну, ехать, так ехать, – согласился Белолюбский и добавил: Наверное, он на лыжах сюда прибрел. А откуда?
Никто ему не ответил.
Немного погодя послышался характерный окрик погонщика оленей, и ухо Быканырова уловило знакомый звук тронувшихся с места нарт.
Когда наступила тишина, старый охотник открыл глаза. Над ним был звездный мир, просторный и загадочный, огромный и холодный. Быканыров с большим трудом перевернулся на правый бок, приподнялся, опершись на одну руку, и увидел удаляющиеся на северо-восток, к излучине реки нарты.
Быканыров проводил их долгим взглядом, пока нарты не слились с ночной темнотой, и подумал с горькой обидой о своей неудачной судьбе:
"Однако, обманул меня "Красноголовый". Шибко обманул. Пропаду я. Совсем пропаду… Ох, как болит в боку… Острый у него нож. Длинный нож… Пропаду, и не узнает Роман Лукич, куда скрылись Белолюбский и "Красноголовый". Худо будет… Зарубку надо сделать на березе… Зарубку… Зачем отдал Таас Баса? Выручил бы меня пес. Не дал бы меня зарезать… Глупый я старик… Совсем глупый… О-ох…"
Затаив боль, Быканыров попытался было подняться и встать на ноги, но крепкие ноги старого партизана, неутомимого охотника, исходившие за свою долгую жизнь много километров, так ослабли, что не удержали его тело. Он упал грудью на снег и задышал часто, с присвистом. Сердце выстукивало с перебоями и все глуше и глуше.
Лежа неподвижно, он думал:
"До берез недалеко… Сколько же шагов? Шагов двадцать, двадцать пять. Ноги не идут, поползу… Зарубку надо сделать. Тогда изловит Роман Лукич и "Красноголового" и коменданта… Приедет сюда… увидит зарубку… и…"
Быканыров, собрав силы, пополз к тому месту, где долго просидел в засаде. Он не мог сразу сообразить, почему вдруг так холодно стало одной руке, а увидев, что она голая, догадался, что где-то обронил рукавицу. Тогда он, оберегая от палящего, как раскаленное железо, снега руку, начал отталкиваться локтем. Он производил судорожные движения и толкал свое тело вперед, подобно гусенице. Следом за ним, на снегу, оставалась глубокая, точно пропаханная борозда.
Быканыров полз, делая частые остановки, припадая всем телом к снегу, тыкаясь в него головой, теряя каплю за каплей источник жизни – кровь.
Изредка старый охотник жадно хватал ртом пушистый снег и глотал его. Внутри у него все горело. Стремясь унять странный огонь, пылавший внутри, он все глотал и глотал снег. Глотал и опять припадал к земле, чувствуя, что силы совсем покидают его.
И все-таки, сознавая свою вину и мучаясь, что не может поправить ее, он все полз и полз, движимый вперед не столько мышцами тела, обмякшими, потерявшими упругость и силу, отказывающимися повиноваться, сколько последним напряжением воли.
И расстояние постепенно сокращалось. Быканыров видел тальник, видел растущие кучкой березы с опущенными голыми ветвями.
Достигнув, наконец, подножия самой большой березы, он обхватил рукой ее ствол, простонал от все возрастающей боли и, уткнувшись лицом в снег, опять замер на несколько минут.
"Сделаю зарубку… Сделаю, однако… не будет ругать меня Роман Лукич…" – думал Быканыров. Обхватив холодный и скользкий ствол промерзшей березы слабыми руками, он призвал на помощь все силы, уперся дрожащими коленями в снег и начал подниматься.
В висках постукивали молоточки, перед глазами плясали разноцветные огоньки. Встав с огромным трудом на ноги, Быканыров обнял руками березу и приник щекой к ее атласной ледяной коре.
– Так… Так… Теперь надо достать нож, – приказал он самому себе. Голая правая рука уже не ощущала холода и почти не слушалась. Он долго нащупывал ею под кухлянкой закрепленный на поясе нож. А губы беззвучно шептали: – Поехали они прямо к излучине… на северо-восток… Стрелу надо вырезать вверх… не уйдут… не уйдут…"
Он медленно, почти омертвевшей рукой с несгибающимися окоченевшими пальцами вырезал на белой коре березы черную стрелу острием вверх, и силы покинули его. Рука разжалась против воли, и нож выпал.
Быканыров попытался всмотреться в снежную даль, но все сливалось в глазах, звезды плясали на небе. Он сильно вдохнул в себя всей грудью обжигающий легкие студеный воздух и крикнул:
– О-э-э-э! Умираю! – но крик его, слабый, короткий, как вздох, надломился и словно провалился в пустоту.
Ноги совсем потеряли упругость и подгибались, словно подрезанные. Быканыров, не отрываясь от ствола дерева, сполз вниз. Он с трудом повернулся, уселся под березой и оперся на нее спиной.
И в это время к нему подошел оторвавшийся от привязи олень. Он ткнулся в лицо Быканырова влажным носом и обдал его своим теплым дыханием.
Олень отошел.
"А где мое ружье?" – возник вдруг запоздалый вопрос, на который Быканыров сам же и ответил: "Красноголовый" взял… взял ружье, которое подарил Роман Лукич…"
И никогда до этого, за всю свою более чем семидесятилетнюю жизнь, Быканыров не испытывал ни более сильной обиды на самого себя, ослушавшегося опытного и дальновидного майора, ни более жгучей ненависти к "Красноголовому", который так много бед принес таежникам и так хитро обманул его, старого партизана.
Быканыров был уже равнодушен к уходящей из его тела вместе с кровью жизни. Невыносимо острая некоторое время назад боль в левом боку перешла затем в тупо колющую, потом в ноющую и наконец стихла.
Старый охотник почувствовал что-то вроде облегчения. Тело его начинало наливаться приятно-сладкой истомой. Но в глазах, глубоко запавших и окруженных чернотой, еще слабеньким огоньком светилась жизнь.
– Счастливое дерево… – подняв глаза и глядя на ветви березы, тихо проговорил Быканыров. – Ты еще долго будешь видеть звезды… небо…
О большую березу, под которой сидел Быканыров, со скрипом, колеблемая небольшим ветром, терлась маленькая береза. А старику чудилось, будто совсем-совсем близко скрипят полозья приближающихся нарт. И еще ему чудилось журчание потоков талой весенней воды, шелест трав, переливчатый звон птичьих голосов.
Печальная улыбка застывала на лице старого охотника, веки смежались, будто наваливался сон.
Быканыров не слышал уже, как где-то недалеко жалобно и тревожно проплакал заяц.
ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
Мороз склеивал веки и обжигал лицо, но Петренко чувствовал себя хорошо, бодро и даже тихо напевал какую-то веселую украинскую мелодию.
– Что вам так весело? – спросила сидящая сзади Эверстова.
– А я и сам не знаю, – честно ответил лейтенант. – Возможно потому, что мне кажется, будто именно мне с вами придется поймать этих бандитов.
Эверстова промолчала и подумала:
"Да, хорошо бы, конечно".
На ухабах, косогорах нарты забрасывало и метало в стороны. Нарты натыкались на невидимые, занесенные снегом пни, их подкидывало вверх, и тогда Эверстова крепче хваталась за лейтенанта.
– Держитесь хорошенько, – предупредил Петренко, прочно упираясь ногами в полозья нарт. – А то потеряю вас, тогда мне майор задаст перцу.
Петренко и Эверстова ни на минуту не забывали, что их задача состоит не только в том, чтобы сделать повторный круг или нагнать преступников, но еще и следить за тем, не выйдет ли их след из круга куда-нибудь в сторону.
Винтовку Петренко держал на предохранителе, и она висела у него на груди, чтобы каждую секунду ею можно было воспользоваться.
Лейтенант мысленно уже разработал план, как надо повести себя в случае встречи с врагами, и чувствовал уверенность в своих силах. Этот план состоял из нескольких вариантов, в зависимости от того, где и как произойдет встреча: в тайге, на чистом месте, неожиданно встретятся они с преступниками или настигнут их.
"В живых я их, конечно, оставлю, – рассуждал про себя Петренко, – но ребра обоим попробую. Как пить дать. Это не нарушит приказа майора".
Новых следов не было. Преступники если и прошли этой дорогой вторично, то из круга не выходили.
По наезженной колее олени бежали сравнительно быстро, но, помня указания майора, Петренко регулярно, следя за часами, делал короткие привалы и давал животным отдых.
В два часа ночи сделали получасовую остановку, выпрягли оленей и пустили кормиться. Петренко с винтовкой в руках сел на нарты, чтобы исключить возможность быть настигнутым преступниками врасплох, а Эверстова вытащила из заплечного мешка радиостанцию.
Предстояло провести сеанс с Якутском. Полковник Грохотов интересовался, что дало преследование, и Эверстова сообщила, как они условились с майором, о ранении колхозника-якута Очурова, о похищении оленей и о хитрости преступников, которые пытаются сбить преследователей со следа.
– А где майор? – последовал вопрос.
Эверстова ответила и на это, объяснив, что пришлось разбиться на три группы, если майора и Быканырова поодиночке можно считать группами.
Потом Грохотов попросил передать майору, что на рудник Той Хая вылетело двое следователей, и приказал, как только они встретятся с Шелестовым, связаться с Якутском. Грохотов предупредил, что с данной минуты центральная радиостанция в Якутске все время будет слушать позывные Шелестова и что связь, таким образом, можно установить в любую минуту.
– А мне уже есть захотелось, – призналась Эверстова, окончив сеанс.
– Единственно, что могу предложить, – сказал Петренко, – это шоколаду. – Он достал и отдал Эверстовой начатую еще перед вылетом из Якутска плитку шоколада. – На более фундаментальную закуску у нас нет времени.
– Да, пожалуй, – согласилась Эверстова.
Олени вновь потянули нарты по виляющему среди густой тайги следу.
У Петренко настроение после привала изменилось. Он уже потерял надежду на встречу с преступниками и молчал. Молчал и думал о своем: думал о том, что по возвращении из командировки в Якутск, надо сейчас же вызвать к себе мать. Она и так живет одна уже четыре года, пока он учился и проходил стажировку.
"И надо попросить полковника, чтобы он дал мне хотя бы две маленькие комнатки", – подумал Петренко.
И он был уверен, что Грохотов пойдет ему навстречу. Петренко потерял отца в сорок втором году. Отец был командиром батареи и погиб на фронте. Петренко потерял старшего брата-летчика, сбитого в неравном бою. И у него осталась мать, к которой он сохранил детски-нежную любовь.
"Сколько она пережила, бедняга, сколько испытала мытарств за время эвакуации. Где ей только не пришлось побывать, и чего только не пришлось увидеть. И откуда у нее столько душевных сил? Как стойко она переносит удары жестокой судьбы и остается мужественной, работоспособной. Я ей дал слово, что будем жить вместе, и сдержу слово. С ее специальностью не трудно найти работу. Врачи в Якутии нужны не менее, чем на Украине. Но отпустят ли ее? Конечно, я думаю, отпустят", – и, вспомнив рассказ Эверстовой об ее умершем отце, Петренко захотел вдруг узнать у спутницы, есть ли у нее мать и чем она занимается. И он спросил:
– Надюша, а ваша мать в Якутске?
– Да.
– А что она сейчас делает?
– Сейчас? – Эверстова усмехнулась про себя. – Сейчас, наверное, спит.
Петренко рассмеялся.
– Да нет, вы не так меня поняли. Вообще, чем занимается?
– Это другое дело.
– Не секрет?
– Что вы! Она работает агрономом в совхозе. Она первая из женщин-якуток агроном.
– Это хорошо, – заметил Петренко.
– И этим она обязана моему отцу, – продолжала Эверстова. – Когда он женился на ней, она была почти неграмотной. Он ежедневно занимался с ней сам, потом нанял учителя и заставил идти учиться.
– Вы любите мать? – спросил вдруг Петренко.
– Очень.
– Я тоже. Как вернусь, сейчас же ее вызову из Запорожья. Как вы думаете… – но лейтенант не окончил фразы. Впереди, между стволами деревьев мелькнуло что-то темное и непонятное. Петренко даже не успел предупредить спутницу. Он резко остановил оленей, круто повернув их вправо. Так круто, что нарты встали на бок и перевернулись. Эверстова свалилась в снег.
Петренко же твердо встал на ноги, взял винтовку на изготовку и замер, устремив взгляд вперед.
Теперь и Эверстова, поднявшись, увидела, что впереди что-то мелькает и приближается к ним.
– Тс-с… – едва слышно произнес лейтенант, припал на одно колено и приложил приклад к плечу.
Он уже готов был выкрикнуть команду, которую заранее обдумал, но рассмотрел, как что-то темное и во всяком случае не человек накатывается на них.
Эверстова вздрогнула, присела и тут же крикнула:
– Да это же Таас Бас! Таас Бас, хороший пес, хороший.
Собака уже подбежала, заметалась от одного к другому, подпрыгивала, пытаясь лизнуть в лицо.
– Фу… – облегченно и в то же время разочарованно вздохнул лейтенант. Он думал, что наконец подошла решительная минута, а тут, вместо преступников, оказался Таас Бас.
Эверстова ласкала собаку.
– Как вы его не подстрелили? Вот был бы номер!
– Ну уж нет. Стрелять я не собирался, а если бы и выстрелил, то не в цель. Скажите правду, что вы подумали?
– Я… Я… – замялась Эверстова. – Честно говоря, струхнула немножко.
– Бывает, – уронил Петренко. – Это со всеми бывает. Настоящий трус тот, кто никогда не скажет о том, что испугался.
– Значит, недалеко Роман Лукич.
– Выходит так. Таас Бас, наверное, вырвался вперед.
– А уж не случилось ли что-нибудь с майором?
– Исключаю. Совершенно исключаю. Смотрите, как Таас Бас ведет себя весело.
И не успел Петренко проговорить это, как до cлуха обоих дошел характерный скрип полозьев нарт, а через несколько секунд показалась упряжка Шелестова.
Майор подъехал совсем близко. Олени сошлись морда в морду. Майор встал с нарт, размялся.
– Ну и напугал нас Таас Бас, – призналась Эверстова.
– А почему вы тут остановились? – спросил Шелестов.
Петренко объяснил.
Шелестов закурил и сказал:
– Да, напрасно мы потеряли несколько часов. Следов не видели?
– Нет… Нет… – почти в один голос ответили Петренко и Эверстова.
"Опять эти мерзавцы провели нас, – подумал Шелестов. – Значит, они решили повторить ту петлю, а не эту, и подались на запад". И спросил:
– Олени устали?
– Незаметно. Бегут хорошо, – ответил Петренко.
– Отдых давали?
– Да, несколько раз.
– Сеанс был? – поинтересовался он.
Эверстова рассказала о том, что передал Якутск и что передала она ему.
Шелестов слушал и одновременно продолжал думать:
"Не может быть, чтобы они решили вернуться назад. Надо быть круглыми идиотами, чтобы решиться на это. Это новая хитрость. И они, наверное, опять появятся на перекрестке. Нельзя терять ни минуты".
– Сколько времени по вашим часам? – спросил майор.
Петренко и Эверстова всмотрелись каждый в свои часы. Время у всех троих совпадало. Было начало четвертого.
– Возвращаемся на перекресток, – сказал Шелестов. – Вы моей дорогой, а я вашей. И будьте все время начеку.
– Понимаю, – ответил Петренко.
Все сели на нарты. Олени разминулись и удалились в противоположные стороны.
…Тайга редела. Чаще стали мелькать березы, а потом олени выбежали на безлесный кусок равнины и побежали веселее. Дорога здесь была легче, прямее, уже не попадались пни, бурелом, валежник. И видимость стала лучше. Сделалось как бы светлее, хотя до рассвета было еще далеко. Ветерок тоже стих и был почти неощутим.
По договоренности, выработанной еще в тот момент, когда покидали Быканырова, Петренко смотрел налево, Эверстова – направо.
Но перед глазами по-прежнему стелилась и уводила вперед хорошо видимая даже ночью дорога.
И вот, примерно часа через полтора после безостановочной езды по равнине, ведущей к излучине и уже знакомой, Эверстова вдруг вскрикнула, схватила лейтенанта за плечи:
– Стойте, стойте! Следы!
Петренко остановил упряжку.
– Где? – спросил он.
– Проехали. Я отчетливо видела, – и, соскочив с нарт, Эверстова побежала назад, погружаясь в снег. Отбежав метров двадцать, она с тревогой в голосе позвала лейтенанта: – Идите сюда… Скорее… Проехали и не заметили… Точно, следы…
"Как же не заметили, когда заметили", – подумал Петренко, идя к Эверстовой.
– Вот, смотрите… – сказала та.
Но можно было не говорить и не показывать. И так было видно. От накатанной дороги влево на северо-восток, под углом примерно градусов в тридцать, уходил новый, совсем свежий след, который и заметила Эверстова.
Петренко достал компас, положил его на ладонь, и компас подтвердил, что след уходил именно на северо-восток.
– Они пошли по своему прежнему курсу, – проговорил он.
– Но как не заметил Роман Лукич? – удивилась Эверстова.
– Да, действительно… Хотя, знаете что? Когда он проезжал здесь, видимо, следа еще не было.
– Так что же, выходит, что они проехали после майора?
– Выходит так, – сказал Петренко. – И уж если бы майор пропустил след, что совершенно невероятно, то Таас Бас наверняка бы его обнаружил.
– Да, да… Я и забыла о Таас Басе. Значит, они ехали следом за Романом Лукичом, по его следу, а тут взяли круто влево.
– Наверное, – разница только во времени. Мы проехали полпути до перекрестка и до излучины.
Эверстова опустилась на колени и внимательно всмотрелась в след, идущий на северо-восток и проложенный одними нартами.
– А вы знаете что? – спросила она, поднявшись. – Мы сейчас должны встретиться с товарищем Быканыровым. Так ведь? Он же должен последовать за ними…
Петренко задумался.
– Может быть он тоже проехал?
– Нет, – опровергла предположение лейтенанта Эверстова. – Никак этого не может быть. Тут прошли одни нарты. Это определит любой пионер.
– Ну, если так, то мы скоро встретимся с дедушкой, – не спорил Петренко.
– Да. И чем скорее встретимся, – тем лучше. Ведь все равно придется ожидать майора.
– Совершенно верно. Поехали!
*
* *
До перекрестка у излучины реки осталось, по подсчетам Петренко и Эверстовой, уже не более километра, но старого охотника не было.
Олени уже сбавили бег – устали.
– Я прав, – заметил лейтенант. – Дедушка Быканыров, наверное, проехал за ними.
– Могу спорить, что нет, – уверенно заявила Эверстова. – Я же полуякутка, полурусская, в тайге не раз бывала и ездила много. Я не определю точно, сколько прошло нарт, если их прошло несколько, ну, допустим, четверо, пятеро. И это очень трудно определить, но когда прошли одни нарты – ошибиться невозможно.
Петренко хотел возразить спутнице. Он хотел сказать, что большое значение имеет время суток. Одно дело днем, совсем другое – ночью. Можно же ошибиться в темноте. Но он не успел возразить. До слуха его к Эверстовой отчетливо долетел собачий вой.
Петренко придержал оленей, и те встали.
– Слышите? – спросил он.
– Слышу.
Вой раздавался метрах в четырехстах, если не меньше, от перекрестка и от того места, где был оставлен в засаде Быканыров.
– Таас Бас? – сказал неуверенно Петренко и тут же добавил:
– А может быть волк?
– Нет, не волк. Это Таас Бас. И как он воет, прямо по сердцу скребет.
– Значит, майор уже там?
– Но почему так воет Таас Бас?
– Не понимаю. Поехали…
Приближаясь к перекрестку, лейтенант думал:
"Где же Быканыров? Почему он не пошел по следу преступников? Возможно, заснул и проглядел? Ой, как жутко воет…" – и Петренко гикнул на оленей.
Уже черно вырисовывались растущие кучкой березы. Получилось так, что нарты Шелестова и Петренко подошли к перекрестку одновременно. Олени чуть не столкнулись.
Шелестов спрыгнул с нарт и быстро оглядел местность вокруг.
Стояла тишина, и только хватающий за душу вой Таас Баса нарушал ее, казался здесь ненужным и противоестественным.
Таас Бас выл в зарослях тальника. Он вырвался вперед почти за километр до перекрестка. И, подъезжая, майор также услышал вой собаки, и он взволновал его не меньше, чем Петренко и Эверстову.
– Ну, как? – спросил Шелестов, стоя на месте, и что надо было понимать под словом "как" – Петренко не мог сообразить. То ли это относилось к вою Таас Баса, то ли к тому, что заметили на пути Петренко и Эверстова.
– Мы обнаружили их след, товарищ майор.
– Где?
– Километрах, примерно, в восьми отсюда.
– Куда идет след?
– На северо-восток. Я точно определил по компасу.
– И след совсем свежий, от одних нарт, – добавила Эверстова.
– Но где же Быканыров? – спросил Шелестов, и в его вопросе послышалась тревога.
Петренко развел руками.
– Не знаю, мы его не встретили…
– Но почему воет Таас Бас? Что случилось? – не в силах сдержать волнения, спросил майор.
– Мы сами перепугались, – робко заметила Эверсгова.
А Таас Бас продолжал выть и выл как-то призывно-жалобно, точно зовя на подмогу.
Шелестов машинально поправил автомат, болтающийся на груди, сделал несколько шагов и остановился. Рядом с ним стали Петренко и Эверстова.
Они отчетливо увидели странную, точно кем-то пропаханную борозду в снегу, идущую от перекрестка туда, где был оставлен в засаде Быканыров и где сейчас выл Таас Бас.
Шелестов и его друзья стояли в оцепенении, не двигаясь.
Ночная мгла медленно, как бы нехотя, редела, таяла. Гасли в небе звезды на западной стороне, а на востоке, сквозь предрассветные сумерки уже проглядывал неуверенный утренний свет.
– Отец! А отец! – дрогнувшим голосом громко крикнул Шелестов.
Отозвалось и быстро угасло только эхо.
– Таас Бас! Ко мне! Таас Бас! – опять крикнул Шелестов.
Таас Бас умолк на мгновение, но потом завыл опять еще жалобнее, еще тоскливее.
Шелестов, вдруг сгорбившись, точно на плечи ему взвалили непосильную ношу, увязая по колени в снегу, пошел вперед, по борозде.
Петренко и Эверстова следовали за ним.
И вот при свете рождающегося утра Шелестов увидел капли замерзшей крови. Майор почувствовал, как под сердцем у него похолодело, как утратили твердость ноги.
"Что тут стряслось? – задавал себе Шелестов тревожный вопрос. Откуда взялась кровь? Почему не отзывается Быканыров?"
Тяжело дыша, идя по глубокому снегу, о том же думали и друзья Шелестова.
И то, что представилось глазам всех троих, когда они подошли к березам, точно пригвоздило их к месту: на снегу, под самой большой березой, упершись спиной в ствол, как-то перекосившись и неестественно свесив голову, сидел неподвижный Быканыров.
Таас Бас, не замечая подошедших людей, сидел возле хозяина и, задрав морду, выл. В сторонке, сбившись в кучку и подрагивая, стояли четыре оленя.
Эверстова закрыла лицо руками. Шелестов стоял, глядел и словно не видел раскрывшейся перед ним картины. Потом он рванулся вперед, завяз в снегу и упал. Его обошел лейтенант Петренко. Он подбежал к старику, опустился на колени. Полуприкрытые веками, потерявшие живой блеск глаза Быканырова показались Петренко искусственными. Брови и ресницы были густо припорошены инеем. Лицо, изрытое морщинками, с застывшей улыбкой, выражало покой и удовлетворение. От дедушки Быканырова веяло холодом, смертью. Под ним на снегу ярко вырисовывалась лужица крови, уже затянутая ледяной коркой.
– Жив? – приглушенно крикнул Шелестов.
У Петренко не повертывался язык сказать страшное слово. Вместо ответа он взялся за холодную, уже негнущуюся руку старика в надежде, что хоть слабое биение пульса опровергнет страшное подозрение. Но тщетно.
Шелестов, не повторяя вопроса, тоже опустился на колени, сбросил рукавицу, перехватил своими пальцами запястье старика. Другой рукой он медленно провел по застывшему лицу… Все противилось ужасной мысли, что его старый преданный друг уже мертв, что он сидит против человека, для которого все теперь безразлично. Шелестов бесслезно плакал. От нестерпимой внутренней боли лицо майора постарело, глаза ввалились. К чувству тяжелой утраты примешалось горькое сознание, что, возможно, он что-то не так сделал, чего-то недоучел, не предусмотрел, что это и послужило причиной гибели старого охотника.
Шелестов встал. Надо бы сказать: "Да, конец…", но вместо этого, немного повысив голос, приказал:
– Палатку. Быстрее разбивайте палатку.
Петренко и Эверстова бросились выполнять приказание.
"Нет, – сказал себе Шелестов. – Пока я не предприму всего, что в наших силах, я не успокоюсь. Я бы не простил себе этого".
У майора еще теплилась надежда, что вообще свойственно человеку. Он знал случай, когда людей, уже признанных мертвыми, удавалось возвратить к жизни. Шелестов ясно представлял себе, что надо как можно быстрее, не теряя ни одной минуты, разбить палатку, развести огонь в печи, растереть лицо, руки, а возможно и все тело Быканырова снегом, спиртом, чтобы не дать лютому холоду завершить то, что начали враги, осмотреть рану, обработать ее.
– Надя, спальный мешок!
Эверстова взяла мешок, лежащий у берез, и подала майору.
"Его нужно прежде всего обезопасить от холода, – решил Шелестов. – А может быть, он замерз?"
Вместе с Эверстовой Шелестов уложил непослушное, негнущееся тело Быканырова в меховой мешок, освободив прежде ноги старика от торбазов и сняв с него кухлянку.
Уже рассвело, хотя солнце еще не показалось.
Втроем они поставили палатку, натянули ее, принесли несколько охапок сухого хвороста, Петренко сбегал к стоящим невдалеке елям и нарубил с них ветвей. Он уложил ровным слоем лапник на расчищенном месте и осторожно посоветовал майору:
– По-моему, надо бы скорее рану осмотреть.
– Знаю, – сказал Шелестов, устанавливая печь и выводя трубу. – Но на холоде это исключается.
Эверстова ломала сухой хворост, готовясь разжечь огонь в печи, и беззвучно шевелила губами. Тяжелые мысли угнетали ее:
"Все-таки страшна смерть, – думала она. – Берет всех, кого ей хочется. И человек бессилен. Неужели мы его не спасем? Неужели он умер? Ой, чего бы я только не отдала за его жизнь! Вот Очуров. Он получил два удара ножом, а теперь уже, наверно, ходит".
И Эверстовой самой непонятно было, почему так близок, так дорог стал ей дедушка Быканыров, человек, которого она несколько дней назад совсем не знала.
– Надя! – опять обратился к ней Шелестов. – Когда сеанс с Якутском?
– В любое время, Роман Лукич. Я же вам говорила.
– Забыл… – признался Шелестов.
Эверстова положила хворосту в печь, чиркнула спичкой. Огонь занялся сразу, запылал, загудел. Железная печь, принесенная с мороза, начала постреливать, потрескивать.
Быканырова внесли в палатку, вынули из спального мешка и начали снимать с него одежду. Она вся, особенно левая сторона, была густо пропитана кровью. Когда Шелестов разрезал нижнюю рубаху и повернул Быканырова на бок, он чуть не вскрикнул: пониже лопатки в левом боку зияла страшная рана. От такой раны и большой потери крови для любого было бы чудом остаться живым.
– Все усилия напрасны, – тихо сказал майор. – Кровь уже свернулась.
Шелестов долго молчал, вглядываясь в лицо покойного, и думал: "Вот и расстался ты со мной, мой старый, верный друг".
В палатке царила тишина.
Майор вышел из палатки, сел на нарты, уперся локтями в колени и, положив подбородок на ладони рук, задумался.
А Эверстова и Петренко в тяжелом молчании сидели у изголовья покойного.
– Опять убийство, – проговорила, наконец, Эверстова.
– Да, – тихо подтвердил Петренко.
*
* *
Шелестов решил тщательно осмотреть местность, чтобы создать себе представление, как и при каких обстоятельствах погиб его друг. Идя к перекрестку, он думал: Быканыров или сам обнаружил место своей засады, или преступники заметили его.
Следы крови вывели за перекресток. Тут были видны две вмятины в снегу, оставленные телом человека. Одна вмятина была совершенно чиста, а другая почти залита теперь уже замерзшей кровью. И от этой вмятины Быканыров, видимо, и начал ползти, оставляя за собой след крови.
Какие предположения ни строил майор, но воссоздать картину убийства не мог, как не мог знать и того, что первую вмятину на снегу оставил Шараборин, когда притворился убитым.
Но некоторые выводы, в результате тщательного обследования местности, Шелестов, все же сделал.
То, что четверо оленей, двое нарт и весь груз на них оказались нетронутыми, заставляло думать, что преступники не были на месте засады, возможно, и не знали, что там скрывался Быканыров. Преступники, видимо, очень торопились, потому что не захотели тратить время на осмотр местности.
След, похожий на пропаханную борозду, с пятнами крови на нем, принадлежал только Быканырову. Других следов тут не было.
Исчезновение ружья и патронташа даже не требовало объяснений. Было бы странным, если бы Белолюбский и его сообщник, будучи безоружными, отказались прихватить с собой ружье и патроны.
Шелестов, продвигаясь шаг за шагом, дошел, наконец, до того места, где они нашли мертвым Быканырова, и тут увидел на коре березы стрелу, указывающую направление, в котором скрылись убийцы.
"Он вырезал стрелу после ранения, – решил Шелестов. – Вырезал и уже больше не сошел с места. И все говорит за то, что он, бедняга, видимо, сам виноват. Не послушал меня – и обнаружил себя. Скорее всего решил задержать их, вступил в борьбу и… погиб".
Шелестов обошел все место засады, поросшее тальником, и не нашел там ничьих следов, кроме следов оленей.
"А Белолюбский бежал на северо-восток, – решил он. – Об этом говорит стрела, это же подтвердили Петренко и Эверстова. Ну, ничего, ничего. Далеко вас, господа, не пущу. Не уйти вам от меня", – и опять мыслями вернулся к Быканырову. "А ведь я верил в тебя, отец, как в самого себя. Так верил, что не допускал мысли, что ты поступишь по-своему. Видно, мне самому здесь нужно было остаться в засаде, а тебя послать вместо меня. Но кто же мог знать, что враг придет оттуда, откуда его не ждали. Как я мог подумать, что ты, старый партизан, опытный охотник, проявишь горячность? Как странно, дико, нелепо. Несколько часов назад я слышал твой бодрый голос, говорил тебе, поучал тебя, а сейчас ты лежишь неподвижный и равнодушный ко всему".
Горькие мысли майора оборвала Эверстова, вышедшая из палатки:
– Роман Лукич! Будете передавать что-нибудь в Якутск?
– Да, – коротко ответил Шелестов. Он вошел в палатку, достал из полевой сумки блокнот и написал телеграмму полковнику Грохотову:
"Сегодня ночью от рук преследуемых нами преступников погиб наш проводник, известный охотник, член колхоза Василий Назарович Быканыров, находившийся в засаде. Обстоятельства его гибели для меня еще не ясны, и все подробности я доложу вам устно по возвращении. Прошу через дирекцию рудника Той Хая уведомить правление колхоза. Родных у Быканырова нет. Погоню продолжаю. Все данные говорят за то, что мы имеем дело с опасными преступниками, не брезгающими никакими средствами в достижении своей цели. Ставлю задачей настичь их в течение ближайших двух суток".
*
* *
Родилось яркое утро. Морозное колечко опоясывало негреющее солнце.
Быканырова решили похоронить на взгорке, под березами.
Но не так-то легко было подготовить могилу в скованной морозом земле. Вначале развели огромный костер. Когда он окончательно перегорел и опал, Шелестов и Петренко сгребли в сторону золу и обуглившиеся головешки. Потом майор взялся за топор, а лейтенант за лопату.
Но земля оттаяла ненамного, всего на каких-нибудь десять-пятнадцать сантиметров, а дальше шла вечная мерзлота, от которой топор и лопата отскакивали, как от железа.
После долгого и утомительного труда, набив на руках кровавые мозоли, майор и лейтенант отрыли могилу глубиной сантиметров на восемьдесят.
– Довольно, – сказал Шелестов, садясь на край могилы. – Зверь уже не разроет.
Тело Быканырова обернули в плащ-палатку и положили в могилу. И здесь, на дне могилы, Быканыров показался Шелестову совсем маленьким, точно мальчик-подросток.
Петренко стал засыпать могилу комками мерзлой земли. Шелестов и Эверстова стояли тут же в глубоком молчании.
Майор почувствовал, что со смертью старого друга ушел в прошлое кусок его собственной жизни.
На месте могилы уже образовался холмик, и Петренко засыпал его снегом. Эверстова плакала. Петренко отвернулся, чтобы скрыть просившиеся наружу слезы.
– Прощай, отец, прощай, Василий Назарович, – только и мог выговорить Шелестов, держась рукой за сердце.
А северное утро сияло своими красотами. Мелькали в воздухе серебристые звездочки инея. Синевой отливала тайга. Уже вырисовывались на горизонте синие отроги хребта. Но это яркое утро и все прелести его только подчеркивали тяжесть утраты и были даже как-то оскорбительны. И только сознание еще не выполненного долга и гнев к врагам приглушали боль.
Шелестов подошел к березе, вынул из ножен нож, вырезал на атласной коре дату и сделал два пояска.
"Чтобы не потерять, – подумал он. – Я еще приду когда-нибудь к тебе, отец, проведаю тебя…"
Таас Бас не мог понять, что произошло с его хозяином. Он бродил, как побитый, не зная, куда приткнуться. Вначале его беспокоила неподвижная поза хозяина, его молчаливость. Он тыкался носом в ноги покойника, старался держаться около него или на таком месте, с которого можно видеть его. А когда хозяина не стало и тело его укрыла земля, Таас Бас заметался и стал жалобно выть. Он не мог понять, зачем спрятали в землю человека, которому он был так предан, которому так верно служил и которому был другом.
И немало усилий приложил майор Шелестов, чтобы успокоить собаку. Таас Бас, наконец, перестал выть, но от поданной ему еды отказался.
Когда Петренко и Эверстова запрягали оленей, Шелестов подозвал к себе пса, погладил его, думая в эту минуту, что вот так же совсем недавно гладил и ласкал собаку Быканыров.
– Верный друг, – проговорил майор, – будет теперь у тебя новый хозяин, потерял ты старого. Жить бы ему еще да жить, а он ушел. Ну, не горюй. Я тебя никому в обиду не дам. В Якутск заберу с собой.
Шелестов, Петренко и Эверстова стали усаживаться каждый на свое место на нарты. Нарты Быканырова теперь замыкали обоз.
Таас Бас заволновался опять, забегал вокруг, а потом взбежал на взгорок к березам, где возвышался покрытый снегом холмик, и застыл на месте. Он, казалось, думал: что предпринять? Куда побежать? То ли к далекой одинокой избушке, около которой он прожил много лет, где вокруг, в тайге ему известна каждая тропинка? То ли остаться здесь у этого холмика, где лежит его хозяин? То ли, наконец, последовать за новым хозяином?
Нарты тронулись и взяли курс на северо-восток. Таас Бас остался на месте. Шелестов повернулся и окрикнул собаку:
– Таас Бас… Таас Бас… Ко мне!
Пес жалобно взвизгнул и труской волчьей побежкой направился за нартами, низко опустив голову.
ОРОСУТЦЕВ ДОПУСКАЕТ ОШИБКУ
Холодный воздух был пропитан запахом хвои. Гигантские мачтовые сосны как бы подпирали низкое черное небо, усыпанное звездами. Четкие и острые стрелы елей высились над молодыми березками. Там, где ели сплетались ветвями и образовывали подобие шатра, горел костер. Огонь с треском выбрасывал вверх желтые языки пламени.
У костра сидели Оросутцев и Шараборин. Они только что расположились на ночевку, развели огонь и теперь ждали, когда сварится мясо.
Шараборин с болезненной гримасой оттопыривал опухшую нижнюю губу и осторожно мазал ее нутряным жиром оленя.
Оросутцев рассматривал длинный кож своего сообщника, пробовал прочность его рукоятки. Удовлетворенный осмотром, он бросил нож Шараборину.
– Да, от этой штучки дырка будет приличная, – сказал он. – И в руке лежит хорошо. Все-таки здорово у тебя получилось. Я опасался, что он тебя пометит пулей или зарядом дроби, а вышло, ты его пометил. И как это ты не растерялся?
Шараборин помял губу кончиками пальцев и проговорил своим сипловатым голосом:
– Чего теряться? Он крикнул: "Тохто – стой!" Я побежал, а он – бах! Я подумал: "Однако, плохой стрелок или не хочет убивать меня. Видать, живым хочет взять". И вижу, один он, никого кругом. Тогда я взял и упал. Пусть он думает, что убил меня. Он так и думал. Совсем глупый старик. Столько жил-жил, а глупый…
– Ну-ну, а дальше? – спросил Оросутцев, положил себе на колени ружье, когда-то принадлежавшее Быканырову, и стал осматривать его.
– А дальше… Он подошел, я его за ноги хвать – и на снег, а потом раз… и конец.
– Ловко придумал. Ей-богу, ловко. Я бы, пожалуй, не нашелся, молодец, – одобрил Оросутцев.
– Я не придумал. Я уже так делал. Когда сходишься в драку один на один, это самый верный способ.
– Да… – протянул Оросутцев, поглаживая отполированное до блеска ложе ружья. Ружье ему определенно нравилось, и он, по праву старшего, решил уже присвоить его себе. – А хорошо я все-таки сделал, что послал тебя вперед на лыжах. Если бы мы подъехали к перекрестку на нартах вдвоем, он мог бы нас перещелкать.
– Не знаю. Может быть, – отозвался Шараборин, а про себя подумал: "Тебя бы убил, ты впереди сидишь, а я бы опять прикинулся убитым".
Помолчали.
Костер и двух людей окутывал ночной мрак, сдавливала и обступала тайга. Тишину нарушало потрескивание огня, на котором доходило варившееся в котле мясо второго убитого оленя.
– Однако, они опять идут по нашему следу. Худо, – нарушил молчание Шараборин.
– И твоя хитрость не помогла, – уколол его Оросутцев.
– Да, не помогла. Убил я старика, и майор теперь, наверно, совсем злой стал.
Опять замолчали.
Оросутцева томили тревожные мысли. Он опасался, что Шараборин, в конце концов, откажется вести его до Кривого озера, до места посадки самолета. А больше всего Оросутцев боялся, что Шараборин ночью просто бросит его одного, а сам исчезнет. Сам он, конечно, не доберется до озера. Оросутцеву трудно тягаться с Шарабориным в знании тайги. Тот избороздил ее вдоль и поперек, знает все потайные воровские тропы, может завести куда угодно и откуда угодно вывести. И хотя до конечной цели, как говорится, рукой подать, но не достигнет ее Оросутцев без Шараборина.
Эта тревожная мысль закралась в голову Оросутцева с того самого момента, когда они покинули рудник. Страх возрос после того разговора, когда Шараборин прямо сказал, что не имеет желания идти вместе, и что у него есть какие-то свои дела. Он еще более усилился после неожиданного появления над ними самолета.
После расправы с колхозником Очуровым Шараборин все время ныл и твердил, что их уже преследуют, что за ними погоня, в то время как к этому не было еще никаких оснований. А потом Шараборин предложил сделать восьмерку. Они на восьмерке потеряли чуть ли не сутки, но зато стало ясно, что за ними в самом деле погоня.
И опять Шараборин заговорил о том, что нет смысла идти вдвоем до Кривого озера, что Оросутцев и сам не маленький и дорогу найдет, что вообще лучше разойтись, это спутает преследователей, собьет их со следа.
Оросутцев упорно думал над тем, как заинтересовать сообщника, чем привлечь его к себе, какое изобрести средство, что предпринять, чтобы Шараборин проникся, как и он, одной целью: к сроку добраться до озера.
В былые времена Оросутцев, что хотел, то и делал с Шарабориным, а сейчас он ясно понимал, что уже не властен над ним.
Шараборина также тревожили мысли. Он чувствовал, что не может докопаться до сути, не может объяснить себе поведения Оросутцева. Он рассуждал: самолет, наверное, прилетит за Оросутцевым, иначе зачем ему идти к Кривому озеру, в округе которого на добрую сотню километров нет никакого жилья. Конечно, прилетит. Видимо, говорит правду. Но почему улетает Оросутцев? Что его заставило так неожиданно покинуть рудник?
"Однако, это интересно, – думал Шараборин. – Спросить прямо? Но нет, он не скажет правды. Знаю я его. – И вдруг мелькнула мысль, от которой захватило дух и стало жарко. – А что, если я откажусь идти дальше? Не хочешь сказать правды, не пойду! Что он со мной сделает? Ничего. Без меня он заплутается в тайге. Пропадет вовсе. Никогда не найдет Кривого озера. Точно. А что будет со мной, когда мы дойдем? Оросутцев, однако, убьет меня. Убьет и заберет деньги. Все заберет. Зачем я ему нужен буду?" Перед Шарабориным возникла совершенно новая картина, словно до этого он был слепой.
Оросутцев прервал его размышления.
– Когда, по твоим расчетам, мы будем у Кривого озера?
Шараборин насторожился: правду сказать или соврать?
И подумав, что из его ответа Оросутцев ничего полезного для себя не извлечет, сказал правду:
– Осталось, однако, километров пятьдесят. Завтра в это время.
Оросутцев посмотрел на часы: стрелка подходила к цифре шесть. Он подумал: "Если так, то до прилета самолета останется в запасе не меньше шести часов. Да, не меньше. И этого времени вполне хватит для того, чтобы заготовить дрова для сигналов. Значит, до озера совсем недалеко. Остались сутки. Ну, а если Шараборин не захочет идти дальше? Тогда что? Доберусь ли я один? Успею ли к сроку?" – и опять спросил:
– И все время держать на северо-восток?
– Да.
Шараборин снял котел с жерди, поставил его на снег. Снег зашипел, превращаясь в пар.
– Мясо готово, однако, – сказал он и подбросил в костер несколько сухих поленьев. Их сразу охватил огонь.
– Ну что ж, давай ужинать, – отозвался Оросутцев, примащиваясь поудобнее у самого котла, из которого клубами валил густой, горячий пар. Ты хвалился, что спирт есть, – угощай!
Шараборин молча полез рукой под кухлянку и снял закрепленную на поясе флягу.
"Все равно, я узнаю правду, – решил он. – Попугаю его, скажу, что не пойду дальше, и он расскажет. А спирт развяжет ему язык. Голова слабая у Василия, и когда он шибко пьет, то язык ее не слушает".
– Давай сюда, – потянулся Оросутцев. – Сам налью сколько надо.
Шараборин отстранился.
– Зачем так? Мой спирт, я хозяин.
С языка Оросутцева уже готово было сорваться ругательство, но он сдержал себя. Он вовремя сообразил, что из-за мелочи можно поссориться, а ссора к добру не приведет.
"Стерплю, стерплю", – твердил он себе, сдерживая ярость, и совсем мирно, беззлобно сказал:
– Ох, и жадный ты. А ведь мой спирт ты разлил сдуру…
– Разлил, твоя правда, – согласился Шараборин. Он сейчас тоже не заинтересован был в ссоре. У него зрели другие планы. Поэтому он добавил: – Я хозяин. Я буду угощать. Хорошо буду угощать.
– Посмотрим, – с недоверием сказал Оросутцев и поставил перед Шарабориным свою эмалированную кружку вместимостью не меньше двух стаканов.
Шараборин неторопливо отвинтил от горлышка фляги колпачок и, наливая спирт в кружку Оросутцева, повторил:
– Хорошо буду угощать.
Оросутцев был очень удивлен, когда увидел, что Шараборин явно обделил себя. Оросутцеву досталось больше спирта. Его кружка была почти наполнена. А себе Шараборин налил вдвое меньше.
Оросутцев хотел уже спросить, чем объясняется такая щедрость хозяина спирта, но Шараборин предвосхитил его любопытство:
– Я сгубил твой спирт. В долгу у тебя был. Теперь мы квиты.
– Согласен. Квиты, – и Оросутцев взял свою кружку. – Пей, а то выдохнется и уже той крепости не будет.
Оросутцев выждал, пока Шараборин высосал из кружки свой спирт, а потом уже приложился сам. Он был очень осторожен и, прежде чем выпить, подумал:
"Мало ли чего не случается в жизни! Бывало так, что и умирали от одного глотка спирта".
Оросутцев, если говорить правду, не увлекался алкоголем и пил редко. Но уж если пил, то пил до той поры, пока, как он сам выражался, душа принимала.
Он опорожнил кружку с девяностоградусной, огненной жидкостью чуть не залпом и даже не поморщился. Только две слезинки выдавил спирт из его глаз. Вдохнув в себя, вопреки правилам, выработанным опытными пьяницами, морозный воздух, Оросутцев смачно крякнул и очень ловко голой рукой выхватил из дымящегося котла горячий кусок мяса.
Шараборин последовал его примеру.
Оба ели быстро, жадно, с азартом, будто опасаясь, что кто-нибудь вдруг нарушит их еду и выхватит изо рта куски. Они громко чавкали и проглатывали мясо, почти не пережевывая его.
Хмель брал свое, кружил голову, туманил приятно мозг.
Шараборин отбросил далеко в сторону последнюю обглоданную кость и вдруг сказал:
– Последний раз пили вместе… Я, однако, дальше не пойду. Укажу тебе дорогу, а дальше ты, как знаешь, пойдешь сам.
Он сказал это и оскалил зубы в улыбке.
Оросутцев откинулся назад и от неожиданности весь как-то сжался, будто на него навели ружейный ствол.
– Ты что? – едва смог выговорить он, сдерживая накипавшую злобу.
– Не пойду, – подтвердил Шараборин и продолжал: – Ты таишься от меня, думаешь: "Глупый Шараборин, ведет и пусть ведет, а зачем ведет, не его дело". Ты уедешь на самолете, а я что? Куда я пойду? Сзади майор… Ты будешь там, а я опять в лагерь. Плохо так, совсем не годится. Ты будешь жить, а я подохну, как собака. Изловят меня. Они идут по следу, а от следа никуда не уйдешь. Тайга, тундра, горы, – везде след…
Слушая Шараборина, Оросутцев почти машинально достал папиросу и сжег не менее дюжины спичек, прежде чем закурил, хотя рядом было так много огня.
Он сделал несколько жадных глубоких затяжек, от которых еще больше закружилось в голове. Но он еще не был пьян до такой степени, чтобы не понять, что в эту минуту решалась его судьба. Он еще ясно отдавал себе отчет в своих действиях, мыслях. Он хорошо знал, что завтра, в это время, должен быть у Кривого озера, иначе все пропало. Самолет может прилететь только раз, и только завтра, как сообщил Гарри. Что делать? Но тут изворотливый и еще не отказавшийся служить ум Оросутцева внезапно подсказал ему решение, провокационный ход. Сейчас, больше, чем когда-либо, он представлял себе, что нельзя ни ругаться, ни оскорблять Шараборина.
– Чего же ты хочешь? – спросил Оросутцев.
Шараборин посмотрел на него, будто прицелился, и Оросутцев отчетливо увидел его расширенный зрачок, отливающий желтизной, точно у кошки.
– Я? Я?.. – заговорил Шараборин. – Я хочу знать, что будет со мной, когда ты улетишь?
Таким вопросом Шараборин сбивал своего сообщника с занятых им позиций. Оросутцев ожидал ответа, а не вопроса. Он замешкался, а Шараборин, воспользовавшись паузой, уже сам отвечал на свой вопрос:
– Я сам знаю. Пропаду я… Изловят меня. Так или нет?
"Он прав, – мелькнула мысль у Оросутцева. – Что же сказать ему? На какую карту сделать ставку, чтобы не сорваться?"
– Молчишь? – продолжал Шараборин и, подняв щепку, стал нервно ковырять ею в зубах.
– Нет, тебя не изловят, – сказал, наконец, и сказал очень твердо и уверенно Оросутцев. – Не изловят. Ты улетишь вместе со мной. Довольно тебе тут болтаться, жить затравленным волком, бродить по непролазным чащобам. Довольно! Хватит! Поживем еще на той стороне.
Шараборин на какое-то мгновение поверил словам Оросутцева, но потом подумал:
"Врет, однако. Доведу я его до озера, и там он меня прикончит. И никуда я не полечу". И тут же сказал:
– Хитрый ты… Знаю я тебя. Зачем я нужен на той стороне?
Сознание у Оросутцева начинало раздваиваться, мысли обрывались, путались, и ему нужны уже были некоторые усилия, чтобы выражать свои мысли правильно, логично, сводить концы с концами.
– Ты так же нужен, как и я, – сказал Оросутцев. – Нам обоим большое дело доверили. Понимаешь? Обоим. Гарри обещал тебе что-то? Обещал.
– Какое дело? – задал вопрос Шараборин.
Тяжелая мутная волна прошла по телу Оросутцева и разбилась о голову. Он скрипнул зубами, зажмурил глаза и сильно закусил нижнюю губу. Потом потер лоб рукой и бросил в огонь папиросу с изжеванным мундштуком.
В душе опять вспыхнули огоньки злобы.
Разные мысли копошились в его хмельной голове:
"Что такое тайна? – спрашивал он себя. – Тайна – это, конечно, большое дело. По крайней мере, до последних дней она была большим делом, и я ее свято хранил. Да! От нее зависела и моя жизнь, и мое благополучие. Только один Гарри знал, что я делаю и что буду делать. А что такое тайна сейчас, здесь, в такой обстановке? Ничто. Что изменится от того, что Шараборин узнает сейчас то, что знаю я? Ничего. Абсолютно ничего. Я завтра уже буду в воздухе. Шараборин только на сутки узнает то, что ему не надо знать, но зато он поверит мне и доведет меня до Кривого озера. А там… там я знаю, как мне поступить. Нет, он не попадет в руки майора. Это не нужно. Майор заставит его говорить, и Шараборин выболтает все. Он ведь трус, последний трус. Он выболтает про Гарри, а с Гарри мне, возможно, еще придется встречаться. Нет, Шараборин не попадет к майору, а если и попадет, то уже ничего не скажет. Хм… конечно, можно наврать ему сейчас что угодно. Но поверит ли в это вранье Шараборин? Он не так глуп. Он не поверит. Он плюнет и уйдет, и останусь я здесь наедине со своей тайной. И два пути останутся передо мной: или быть настигнутым майором, или издохнуть здесь в этой проклятой тайге. Я не выберусь из этой чащобы сам, даже если Шараборин расскажет, как идти. А если я выберусь и найду Кривое озеро, то приду поздно. И что толку тогда? Кому нужна будет моя тайна?"
Шараборин долго молчал, глядя на Оросутцева суженными глазами и потом опять сказал:
– Бери меня с собой. Согласен, но скажи, какое большое дело дал тебе Гарри? Если ты друг – скажи правду.
Со стороны Шараборина это был продуманный заранее, взвешенный ход.
И Оросутцев решился.
– Видишь вот это? – он выпростал из-под кухлянки футляр с фотоаппаратом. – Видишь?
Шараборин кивнул головой.
– Вот в нем все и дело. Я заснял план инженера Кочнева, и за этим планом прилетит самолет. Из-за этого плана я убил Кочнева…
– Самолет прилетит, план возьмет, нас оставит, – возразил Шараборин.
– Балда ты, – в сердцах выпалил Оросутцев, возмущаясь тем, что Шараборин и этому не верит. – Пленка не проявлена, и аппарат мы отдадим тогда, когда будем на той стороне.
Если бы Оросутцев не вспылил и не обозвал Шараборина балдой, тот бы еще сомневался, а теперь, зная характер своего старшего сообщника, он изменил первоначальное мнение.
Шараборин смотрел пристально на Оросутцева, ожидая дальнейших откровенностей. Он верил и не верил своим ушам. Никогда Оросутцев не посвящал его в подробности своих дел и поступков.
"А может и правду сказал? – успокаивал себя Шараборин. – Дорожит он фотоаппаратом. Это я сразу подметил".
– И Гарри предупредил меня, – снова заговорил Оросутцев, – чтобы я в трудный момент ничего не скрывал от тебя. Он так и писал на твоей башке. Значит он доверяет тебе.
– Почему, однако, ты загодя не сказал? – поинтересовался Шараборин.
– Потому, что ты трус, паникер, окаянная душа! – грубо отрезал Оросутцев. – Расскажи тебе все раньше, ты бы со страху давно убежал.
И этому поверил Шараборин. Такая манера говорить была свойственна Оросутцеву.
Шараборин сидел по-прежнему на собственных ногах, в неподвижной позе, и только глаза его поблескивали при свете огня.
– А ты крепко веришь, что самолет прилетит? – все-таки спросил он.
Хмель опять ударил в голову Оросутцева, земля вдруг заняла место неба, но он встряхнулся и продолжал:
– Они больше нас с тобой в этом заинтересованы. Чудак! За этим планом они чуть ли не год гонялись. Да они готовы не один, а дюжину самолетов прислать.
– Значит веришь? – повторил вопрос Шараборий.
– Э-э… за этот план они хорошие денежки выложат.
– А когда прилетит самолет? – уточнял Шараборин.
– Прилетит обязательно, черт его не возьмет. Прилетит и никуда не денется. Все учтено, все предусмотрено. Я тоже не дурак, я отдам аппарат, когда твердо стану ногой на той стороне. А иначе шиш…
Оросутцев отвечал уже невпопад, повторялся, речь его стала неровной, мысли убегали, он выхватывал их клочками.
– В какое время прилетит самолет? – упорно твердил свое Шараборин.
– Я же сказал. Ну? Будем ждать его с двенадцати ночи до двух. Разожжем пять костров конвертом. Вот так… – Оросутцев хотел начертить пальцем на снегу расположение костров, но упал на бок и выругался. Поднявшись, он рассмеялся. – Разожжем и встретим… И мое дело в шляпе… – и спохватился. – И твое дело тоже. Улетим, и шабаш. Довольно. Свое мы сделали. Мы и там еще пригодимся. Такими, как я, не бросаются, жирно больно. И буду жить, как душа пожелает. Надо только не опоздать…
– Не опоздаем, – заверил Шараборин.
– Спирт еще есть?
– Нет, – ответил Шараборин.
– Ладно, черт с ним… Не проспать бы только… Будем мы с тобой скоро как вольные птицы. Чихать мне на все.
– Однако, не проспим? – заметил Шараборин, думая о чем-то своем.
– А старика ты здорово чикнул, – продолжал Оросутцев, укладывая неловкими движениями недалеко от костра хвойные ветви. – Молодец, если бы майора так чикнуть…
– Майор не спит, видать, – оглянувшись, произнес Шараборин. – Он бежит по следу.
– Не бойся! – укладываясь спать и подсовывая под себя ружье, сказал Оросутцев. – У нас всегда два выхода: или живыми остаться, или на одной веревке болтаться. А в общем, ничего не будет до самой смерти. Ложись.
Шараборина передернуло. Он сделал головой такое движение, будто хотел освободиться от захлестывающей его горло петли, и подбросил в огонь большое полугнилое полено.
"Пусть тлеет помаленьку", – решил он и тоже прилег на другой стороне костра.
Каждый из них тешил себя мыслью, что надул другого. Вскоре в тишину ночи вошел храп Оросутцева. Он храпел так сильно, что казалось, человек или задыхается, или захлебывается.
Сообщников разделял постепенно потухающий костер. Оросутцев спал крепким, скорее тяжелым сном охмелевшего человека и не чувствовал никакого холода, а Шараборин не спал.
Он лежал с открытыми глазами, на боку, подобрав колени, и смотрел на огонь, который то совсем потухал, то, вдруг, находил себе новую пищу и ярко вспыхивал.
Гнилое полено тлело, чадило, и удушливый дым относило в сторону Оросутцева.
Шараборин не мог спать. Мысли давили его мозг. Уж сколько времени он не мог обрести душевного покоя! Сколько времени он с тревогой пытался проникнуть мыслями в будущее и найти ответ на вопрос, что его поджидает! Пытался и не находил. И вот сегодня он лежит и не знает, что произойдет с ним завтра. Не верит он Оросутцеву. Не такой человек Оросутцев, чтобы сказать правду и оказать помощь другому. Да и он, Шараборин, не такой человек, чтобы принять ложь за правду. Да, он верит в то, что Оросутцев убил инженера и переснял какой-то важный план. Ничего в этом удивительного и невозможного нет. И не вызывает у него сомнений и то, что этот план надо обязательно к завтрашнему дню доставить к Кривому озеру, куда прилетит самолет. И что за план дадут большое вознаграждение, тоже правда. И что самолет прихватит Оросутцева – тоже верно. Но вот в то, что Оросутцев готов прихватить с собой на ту сторону его, в это Шараборин никак не мог поверить. Нет, нет и нет. Зачем Оросутцеву делить с кем-то свою славу и деньги? Зачем ему нужен Шараборин? Какой дурак пожелает себе живого свидетеля, который может где-нибудь и когда-нибудь сказать что-то лишнее? Да и на что, кому нужен Шараборин на той стороне?
Шараборин поежился, протянул руку, перевернул трухлявое полено.
Вот Оросутцев. Хитрый он. Хотя и пьяный, но ума не теряет. Правда, выболтал многое, но все это не спроста, а с определенным расчетом. Оросутцеву надо, чтобы его довели до Кривого озера. Довели в срок. А все остальное насчет "вольных птиц", "свободы", – все это чистая выдумка. Зачем Оросутцеву брать на шею какую-то обузу? И ничего ему Гарри не писал насчет Шараборина. Брехня это. Гарри мог и сам сказать об этом при встрече. А там, когда они придут к озеру, или когда прилетит самолет, Шараборину придет конец. О, да… Оросутцев умеет это делать. Его не надо этому учить.
Костер уже перегорал, рушился. Шараборин придвинулся к нему поближе. Оросутцев по-прежнему храпел с каким-то ожесточением.
"А майор совсем близко, – с опаской подумал Шараборин. – И не один он. У него трое или четверо нарт. И что же получается? Дойдем мы до Кривого озера, и там меня кончит Оросутцев. Не дойдем, не успеем, – майор изловит. Изловит, и опять мне конец. И так, и этак худо. Совсем худо. И так конец, и этак конец. Оросутцев не оставит меня в живых, а я его веду. Не доведу, не успею, – майор изловит. Колотился всю жизнь, а что толку?"
Начал донимать мороз. Остывали ноги, спина, руки Шараборин прятал под кухлянку. Он ежился, вертелся на месте, но все это мало помогало.
На душе было чадно, смутно, сердце тревожно ныло и билось в груди короткими неровными толчками. Шараборин уже не мог лежать. Он приподнялся, сел, подобрав под себя ноги. Прислушался. Тайга хранила молчание. Закурил. Стало как будто теплее. Но потом дым табака показался ему горьким, вызывающим тошноту, и он отбросил прочь папиросу.
В костре догорали и пропадали последние огоньки. До утра было еще очень далеко.
Внутренний голос напоминал Шараборину, что эта ночь может стать последней ночью в его жизни, что все зависит от него самого. Надо действовать, надо что-то предпринимать. Он стоит на решающем рубеже своей жизни.
А Оросутцев храпел.
"Свинья, – подумал Шараборин. – Совсем свинья. Шибко пьяный и не мерзнет. Будет спать до утра. Однако, много я ему дал спирта". И вдруг, озаренный какой-то новой мыслью, неожиданно пришедшей в голову, он быстро поднялся на ноги, странно скособочился и тихо позвал Оросутцева:
– Василий?
Молчание.
Шараборин весь напрягся от наплыва тревоживших его мыслей, вобрал голову в плечи, сделал осторожный шаг вперед и уже громче повторил:
– Василь?
По-прежнему молчание.
Шараборин выждал несколько секунд, чувствуя, как пересыхает горло и прерывается дыхание. И уже совсем громко, точно желая разбудить Оросутцева, крикнул:
– Василь, а Василь!
Ответом был все тот же храп.
Шараборин постоял некоторое время в нерешительности, что-то напряженно обдумывая, а потом решил обойти вокруг угасшего костра. Он шел, и снег оседал под его ногами, а Шараборин нарочито сильно нажимал торбазами, чтобы звучнее слышался хруст. Он сделал круг и вернулся на прежнее место.
Оросутцев оставался недвижимым.
– Спит, как мертвяк. Здорово спит, – чуть слышно проговорил Шараборин, громко кашлянул несколько раз сряду и приблизился вплотную к Оросутцеву. Приблизился и наклонился над ним, упершись руками в свои колени.
От Оросутцева так сильно разило спиртным перегаром, что даже мороз не мог его перебить.
– Фу… Чистый спирт, – сказал Шараборин.
Оросутцев лежал на правом боку, лицом к костру, на бескурковке Быканырова. Конец ствола ружья торчал под самым его подбородком.
Шараборин безуспешно попытался вытянуть ружье, ухватившись рукой за ствол, и выругался про себя.
"Однако, крепко держит, сволочь…"
Шараборин выпрямился. Предательская дрожь пробежала по его телу, ноги и руки тряслись, но решение уже созрело и останавливаться на полпути он не мог.
"Однако, попробую пошевелить", – решил он и, прихватив рукой ворот кухлянки Оросутцева, стал дергать его, сначала неуверенно, робко, а потом все сильнее и сильнее.
Оросутцев спал непробудным сном сильно пьяного и физически здорового человека. И, как бы испытывая терпение Шараборина, стал храпеть еще громче.
"Здорово спит, черт", – отметил про себя Шараборин.
Он долго колебался, охваченный каким-то неодолимым страхом, боролся сам с собой.
"Вот, как и тогда, у избы Быканырова", – вспомнил он.
Шараборин несколько раз протягивал нерешительно руку к груди Оросутцева и, будто наткнувшись на раскаленные угли, резко отдергивал ее обратно.
"Дурак, совсем дурак… Трус… Правду сказал Оросутцев", – проклинал Шараборин в душе самого себя за робость и, наконец, преодолев ее, осторожно сунул голую руку в разрез кухлянки. Рука нащупала твердый и теплый кожаный футляр фотоаппарата. Шараборин зажал футляр и как бы оцепенел. Он не знал, не мог сразу сообразить и не сразу вспомнил, что футляр закреплен на ремне, но почувствовал, что на лбу выступили капельки пота. Стало жарко. Он стоял, согнувшись, боясь выпустить из руки то, к чему так долго опасался притронуться.
И, наконец, пришла немного запоздалая мысль. Шараборин полез свободной рукой под свою кухлянку, нащупал нож, вынул его из ножен, ловко обрезал с обеих сторон тонкий ремешок и облегченно вздохнул. Футляр с фотоаппаратом был в его руках. Шараборин постоял мгновение в раздумье, потом поднял полу кухлянки и засунул футляр в карман брюк.
Ему захотелось сейчас громко смеяться над Оросутцевым, который всегда считал себя умнее других, а его, Шараборина, принимал за глупца. Но он сдержал себя.
"Нет, однако, не засмеюсь. Рано смеяться", – подумал он.
Потом Шараборин пальцем попробовал остро отточенное жало своего длинного охотничьего ножа, опустился на одно колено, занес высоко руку для удара, да так и застыл.
"Дурак, совсем дурак… – быстро сообразил он. – Зачем его резать? Не надо. Пусть спит. Пусть живет, – и он отошел от своего сообщника. – Оживлю огонь, пусть греет его. Будет тепло, он будет спать. Проснется, а меня нет. Оленей всех возьму, а лыжи ему оставлю. Однако, на лыжах он далеко не уйдет. Нагонит его майор. Нагонит, а он будет стрелять и, может, убьет майора. И след я спутаю. А жив останется, – майор с ним говорить будет. Долго говорить. А я за это время дойду до Кривого озера. И не изловят меня. Я один, а оленя четыре. Улечу я. Скажу тем, в самолете, что настигли нас, его убили, а я отбился. И делу конец. Правильно, однако, решил".
Шараборин спрятал нож, наломал поблизости сухостоя и бросил его в костер. Тот некоторое время дымил, шипел, а потом выбросил вверх желтые огненные крылья.
– Вот я какой, – сказал сам себе Шараборин, когда собрал оленей и подвел их к нартам.
Он подтянул поясной ремень поверх кухлянки, поправил шарф. На то, чтобы впрячь оленей, ушло несколько минут. Двух свободных оленей он привязал сзади к нартам.
Собрал и уложил на нарты все: котел, заплечный мешок Оросутцева, сырое промерзшее мясо. И усмехнулся про себя.
"Еды ему не надо. Скоро его будет кормить майор".
Он кинул взор на спящего Оросутцева, взял за поводок оленей и повел их с места стоянки не на северо-восток, а на запад.
"Однако, сделаю крюк, – решил Шараборин. – Обойду горы. Там худо совсем, и олень не пойдет. Зайду к озеру слева. Там чистое место. Времени хватит, времени много, успею".
Через несколько минут его поглотила тайга.
*
* *
Ночную темень тронул рассвет. Одна за одной гасли побледневшие звезды, и восточная часть неба зацветала утренней зарей.
Оросутцеву чудилось во сне, будто над ним плывет, делая большие круги, самолет. Плавает, плавает, отыскивает место для посадки и никак не может приземлиться. Вот уже самолет совсем низко. Так низко, что даже видно летчика, высунувшегося по грудь из кабины. Летчик приветливо машет рукой и что-то кричит. Оросутцев силится понять его, но ничего не получается. Голос летчика заглушается рокотом мотора. Оросутцев тоже начинает кричать, но из его горла вылетают слабые звуки. И, конечно, летчик не слышит его. "Улетит, улетит… – в отчаянии думает Оросутцев. Что же делать?" Самолет удаляется, превращается в маленькую точку, но вот делает разворот и летит обратно совсем низко, почти вровень со снегом, прямо на него. Он страшно гудит, все увеличивается в размерах и вдруг включает фары. Они горят так ярко, что слепят глаза. А самолет вот уже совсем рядом, он убьет Оросутцева. Тот хочет отскочить в сторону, к одному из разложенных костров, но ноги не слушаются его. Они как ватные. Наконец, Оросутцев делает невероятное усилие, срывается с места и прыгает прямо в костер. Самолет с ревом проносится мимо, но огонь костра жжет ноги. Так жжет, что нельзя больше терпеть…
Оросутцев вскрикнул, проснулся и первое, что почувствовал, – жар в одной ноге. Он вскочил и обнаружил, что тлеет торбаз.
Оросутцев выругался и присыпал горящее место снегом.
Потом он почувствовал холод во всем теле и боль в голове. Он попрыгал на месте, похлопал себя руками, чтобы согреться, и лишь тогда заметил, что нет Шараборина.
"Пошел за оленями", – решил он и, повернув голову, скривился: тупая боль сильно давила в затылке.
"Хорошо бы сейчас пропустить чарочку спирта, – с сожалением подумал Оросутцев. – Сразу бы все как рукой сняло. А мы, кажется, проспали. Рассветает. Давно пора быть в дороге. Так, чего доброго, не только к озеру не поспеешь, а еще и попадешь в лапы майора. – Он обвел взглядом место привала: – И чего он там копается?"
Оросутцев постоял немного и потом крикнул:
– Эй, Шараборин! Где пропал?
Тайга переломила звук голоса и сразу поглотила его.
"Костер разводить не будем, – соображает Оросутцев. – Поздно. Обойдемся без горячего. Поедим в дороге сырого мяса. Ничего не случится. А там у озера видно будет. – Он машинально посмотрел на то место, где вчера была подвешена разделанная туша оленя и не увидел ее. – Хм… Что за чертовщина? Или он уже уложил мясо на нарты? Наверное, так и есть".
Но, осмотрев все кругом, Оросутцев не увидел и нарт.
Что-то тревожное и еще не понятное кольнуло сердце.
– Эй! Шараборин! Куда тебя черт занес? – громче крикнул он, и опять никто не отозвался.
Легкий на ногу Оросутцев обежал место привала раз, другой, третий, всматриваясь в просветы между стволов сосен, под елки, но ни мяса, ни нарт, ни оленей, ни Шапаборина не обнаружил. Обнаружил он другое и, пораженный страшной догадкой, весь съежился и обмяк: от привала, в тайгу, на запад уходил нартовый след. Вперемежку со следами оленей путался след ног Шараборина.
Оросутцев, еще не веря собственным глазам, долго смотрел, как завороженный, на уходящий след, и вдруг стремительно бросился по нему вперед. Он бежал, спотыкаясь, утопая по колени в снегу, падая и вновь поднимаясь. И когда пробежал метров сто, окончательно понял, что произошло именно то, чего он так опасался. Шараборин бросил его. Шараборин убежал. Он взял нарты, оленей и бежал.
Спазмы перехватили горло. Оросутцеву показалось, что в тайге не хватает воздуха. Он жадно, открытым ртом, точно рыба, выброшенная из воды, ловил его, глотал, чуть не задыхаясь. У него было сейчас состояние человека, не умеющего плавать и попавшего вдруг в большую открытую воду. Его охватило чувство безнадежности, безвыходности, потерянности. Все померкло перед глазами. Исчезли сосны, ели, беспросветной, серой и безмолвной показалась тайга, потемнело расцветающее небо. Все превратилось в непроглядную темень.
И Оросутцев стоял один, долго, неподвижно, свесив, как плети, руки, будто неживой, будто не человек, а что-то высеченное из камня, подавленный, опустошенный, уничтоженный и, казалось, неспособный уже ни на что.
А когда он очнулся, то первое, что сделал, сунул руку под кухлянку. Фотоаппарата не было. Рука нащупала жалкий, ненужный остаток ремня.
– Не может быть… Не может быть… – дико вскрикнул Оросутцев и бросился обратно к месту ночевки.
Он раскидал ногами хвойный настил, облазил на коленях небольшую поляну, но аппарата не нашел. И только теперь, присмотревшись к ремешку, на котором держался футляр, он увидел, что ремень обрезан в двух местах.
"А может мне все это приснилось? Как самолет и летчик?"
Нет, это был не сон. Оросутцев протер глаза и увидел только то, что и мог увидеть: ружье и лыжи.
Глаза у него точно остекленели, губы распустились, нижняя челюсть отвисла и подрагивала. Ему почудилось, что он сходит с ума. Он судорожно сжал голову руками.
И Оросутцеву не удалось сдержать то, что само по себе, помимо его воли, рвалось наружу. От сознания, что произошло что-то страшное, непоправимое, он завыл точно зверь. Из его горла вырывались звуки странные, порывистые, выдававшие растерянность, отчаяние, злобу.
Оросутцев упал на то место, где проспал ночь, упал вниз лицом, подложив под голову руки, и застыл.
Он долго лежал, пока окончательно не пришел в себя.
Он вспомнил вчерашний вечер, обрывки разговора, застрявшие в пластах одурманенной хмелем памяти.
"Да, я допустил ошибку, страшную, роковую ошибку. Я сказал ему много такого, чего не надо было говорить. Но как это все вышло? Как он посмел?"
Это последнее никак не укладывалось в голове Оросутцева. Он готов был рвать на себе волосы, биться о землю. На пути его еще никогда не попадались люди, которые бы могли его перехитрить, обмануть. А те, кто пытался это сделать, потом горько раскаивались и, как правило, расплачивались жизнью. Оросутцев всегда считал себя хитрым и умным, сообразительным и дальновидным. Его никогда не пугала пограничная стража, его не смущали замысловатые запоры сейфов, он всегда умел и удачно обходил расставленные на его пути препятствия. Он научился быстро сближаться с людьми, от которых можно было извлечь пользу для своих хозяев, умел расположить к себе этих людей, пробраться к ним в душу, говорить языком советских граждан, и вдруг… Кто, кто? Шараборин! Да, именно Шараборин! С которым он намеревался расправиться окончательно не позднее, чем сегодня, там, у Кривого озера. Этот дурак и трус смог обвести его вокруг пальца, как маленького ребенка.
И другое ясно понял Оросутцев. Он понял, что Шараборин не просто бежал, а направился к Кривому озеру. Ведь не напрасно же он украл фотоаппарат.
Оросутцев уселся на снегу. Отчаяние и гнев обострили его мысли.
"Дурак… Оболтус… Как повернулся у меня язык выболтать ему все? хлестал он сам себя. – Спирт, конечно, спирт. Он нарочно налил мне много, чтобы выведать все. Подпоил, а я идиот. Последний идиот… Поверил, кому поверил? Уж лучше бы он, сволочь этакая, прирезал меня, как этого старика Быканырова. Ведь теперь тайга проглотит, сожрет меня, – и задумался. – А почему, в самом деле, он меня не прикончил? Ведь я спал как убитый, и даже не слышал, как он залез мне под кухлянку. Что остановило его? Да, конечно, теперь все ясно! Он умышленно не зарезал меня. Да, умышленно. Он хочет прикрыться мной, хочет, чтобы меня настиг и схватил майор. Но нет, не бывать этому! Не выйдет!" – и он вскочил с места, точно его кто-нибудь хлестнул бичом.
Оросутцев быстро посмотрел на часы. Восемь утра. Он машинально завел часы и начал высчитывать вслух.
– Так, до восьми вечера – двенадцать часов, а до двенадцати ночи шестнадцать. Если я в час буду идти по пять километров, нет, по четыре километра или даже по три, то я сделаю сорок восемь километров. Могу успеть. Надо успеть. Успею. Он вчера сказал, что осталось пятьдесят километров. Это я хорошо помню. И хорошо помню, что надо идти строго на северо-восток.
Он встал на лыжи и начал быстро закреплять их на ногах, все время твердя про себя:
"Успею… Успею… А у Кривого озера мы встретимся с тобой, рыжий дьявол. И поговорим по душам. Ружье-то у меня, а не у тебя. И будь я проклят, если не найду озера".
Оросутцева немного озадачило то обстоятельство, что Шараборин пошел не на северо-восток, а на запад. Но он заподозрил в этом хитрость.
"Нет, дудки, не выйдет… – сказал он сам себе. – По твоему следу я не пойду. По нему пойдет майор".
Почувствовав вдруг прилив решимости и готовности идти хоть на край света, Оросутцев поправил ремень ружья, сорвался с места и, отталкиваясь палками, побежал, странно подпрыгивая, толчками на северо-восток.
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕГОН
Уже розовела на востоке каемочка неба, когда Шелестов, Петренко и Эверстова, в сопровождении Таас Баса, покинули место ночевки и возобновили погоню. Правильнее было бы сказать не место ночевки, а место ночного привала, так как и в эту ночь, как и в предшествующую ей, никто из троих почти не сомкнул глаз. На всех тяжело отразилась гибель старого охотника Василия Назаровича Быканырова. Не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать. И хотя каждый из троих отлично понимал, что операция еще не завершена, что преступники еще не пойманы, что надо беречь силы и быть готовыми ко всяким неожиданностям, тем не менее никто не мог заглушить в себе боль и тяжесть утраты.
Ночной привал прибавил сил, пожалуй, лишь одним оленям, которые и отдохнули и хорошо выспались.
Про Таас Баса этого нельзя было сказать. Пес, с того момента, как покинули перекресток, еще не притрагивался к еде, которую ему давали, а ночью несколько раз начинал жалобно скулить и выть.
И если Петренко и Эверстова, тяжело воспринявшие смерть человека, ставшего им близким за несколько суток знакомства, еще могли делиться друг с другом своими переживаниями, то майор Шелестов стал еще менее разговорчив. Он говорил лишь о самом необходимом.
Когда в просвет хвойного моря, колышущегося над головами едущих, показалось солнце, Шелестов посмотрел на часы: было уже начало десятого.
Тайга как бы очнулась от дремы и стала преображаться на глазах. В лучах утреннего солнца она меняла свою окраску из мрачной, хаотической, какой она казалась ночью, превращалась в спокойно-суровую и величавую. К небу тянули свои шатровые кроны могучие сосны-великаны, приветливыми и нарядными казались пушистые ели. Неповторимая игра красок чаровала глаз.
Шелестов, долго общавшийся с тайгой и любивший ее, был неспособен воспринимать сейчас всю ее красоту. Он запечатлевал все лишь зрительно, механически, а не душой.
После гибели старого друга все окружающее казалось ему незначительным. Он был в том тягостном душевном оцепенении, от которого нет лекарств. Привычка, выработанная годами, не раскрывать своих внутренних переживаний еще более усиливала и осложняла их.
Да и как он, связанный прочной мужской многолетней любовью с Василием Назаровичем, мог так, вдруг, легко освободиться от воспоминаний о нем. Нет, это не просто. Совсем не просто. Воспоминания шли чередой, ярко оживляли давно, казалось, уже забытые встречи с Быканыровым, задушевные беседы с ним, его высказывания, поступки.
Шелестова все время мучила неотвязная мысль: в какой мере он лично повинен в смерти Быканырова. И не потому мучила его эта мысль, что он боялся ответственности или наказания за случившееся, а потому, что он сильно любил старика и воспринял его гибель, как чуть ли не самую большую утрату в своей жизни.
"Да, моя ошибка, – рассуждал с горечью он, – состоит в том, что в засаде я оставил тебя, отец, а не себя и не Петренко. Но я в глубине души мало верил в то, что преступники вновь появятся на перекрестке. Я почти исключил такую возможность, а потому и решил оставить тебя. А ты, Василий Назарович, не послушал меня, видимо, погорячился и не успел продумать последствий своей инициативы. Вот как бывает в жизни. Разные бывают ошибки…"
Олени, неожиданно для майора, провалились в пустое пространство, и Шелестов не сразу понял, что упряжка и нарты угодили в большую яму, занесенную снегом. Олени вытягивались в струнку, лезли из кожи, пытаясь выкарабкаться наверх, но нарты не трогались с места. Оказалось, что левая нога майора, попавшая между пнем и стойкой, на которой держались полозья перевернутых нарт, тормозит движение.
Когда подбежали Петренко и Эверстова, майор не без усилий выпростал ногу, и олени легко вынесли нарты на крутой край ямы.
Петренко подал руку майору. Шелестов крепко схватил ее, легко поднялся наверх, но тут, ступив левой ногой на утоптанное место, присел и скривился.
– Ушиблись, товарищ майор? – озабоченно спросил Петренко.
– Да, видно так, – ответил Шелестов. Прихрамывая, он сделал несколько шагов к нартам и сел на них.
– Нужно же… – с досадой произнесла Эверстова. – Что это за яма?
– Кто же ее знает, что это за яма, – сказал майор, ощупывая ступню левой ноги. – Мало ли их в тайге…
– А ведь они тоже в этой яме побывали, – заметил Петренко, имея в виду Белолюбского и его сообщника.
– Да, – согласился Шелестов, – поскольку здесь проходит след.
– Больно? – спросил участливо Петренко.
– Немного. Видно, ушиб.
– А ну дайте я пощупаю, а вы говорите, где больно, – предложил лейтенант.
Шелестов не возражал и вытянул вперед ногу.
Петренко опустился на колени, прощупал ногу в голени, а когда дошел до ступни, Шелестов дернулся и едва не вскрикнул.
Петренко посмотрел на майора, на лице которого отразилась боль, и сказал не совсем уверенно:
– Возможно, вывих, вам надо разуться.
Майор закивал головой.
И уже более уверенно Петренко распорядился:
– Надюша! Давайте сюда санитарную сумку, я быстренько разведу огонь.
Пока Эверстова отвязывала с нарт сумку, а Петренко подбирал сухие сучья и поленья, майор еще раз попытался стать на левую ногу и опять, ощутив боль, сел на нарты.
"Черт бы побрал эту яму, – в сердцах подумал он. – Этого сейчас только и не хватало. Хорошо еще, что Грицько и Надюша не навалились на меня со своими оленями и нартами. Совсем была бы каша".
Несколько минут спустя вблизи огня костра Петренко уже осторожно держал в обеих руках разутую ногу майора.
– Да, вывих… Определенно вывих. Видите, уже опухоль, – говорил он, ощупывая больное место. – Вывих в щиколотке. Неприятно, но не страшная вещь. Со мной это не раз приключалось, когда прыгал на лыжах с трамплина. Я уже имею кое-какой опыт в этом отношении. Дайте-ка, Надюша, вазелин, – и тут Петренко без предупреждения сильно дернул на себя ногу майора, заставив его вскрикнуть, вновь ощупал, намазал вазелином и стал делать массаж. – Ну, как теперь? – спросил он майора немного погодя.
– Лучше, товарищ Грицько, – ответил Шелестов и облегченно вздохнул. Определенно лучше. Я никак не ожидал, что вы мастер на все руки.
– Уж прямо и мастер, – возразил лейтенант, смущенный похвалой. Хороший физкультурник все должен уметь.
– А вы считаете себя хорошим? – с улыбкой спросила Эверстова, довольная тем, что молодой лейтенант оказался таким энергичным и расторопным.
– А разве я так сказал? – еще больше смутился Петренко.
Шелестов и Эверстова впервые после памятной ночи рассмеялись.
– Но учтите, Роман Лукич, – продолжал лейтенант. – Опухоль увеличится и, пожалуй, продержится два-три дня.
– Чувствую, чувствую, – согласился Шелестов. – Она, эта опухоль, нужна мне сейчас, как трамвайный билет.
Теперь рассмеялся Петренко.
Ступать на левую ногу майор теперь не мог, а поэтому прыгал на правой. На больную ногу Петренко наложил компресс, а так как с компрессом нога не входила в торбаз, то последний пришлось разрезать в подъеме. Когда торбаз водворили на ногу, Петренко обмотал его своей обмоткой.
Майору неудобно было сидеть на нартах в прежней позе, он не мог упираться обеими ногами, а упирался только правой. Поврежденную ногу он положил сверху, вытянув вперед.
– Не нога стала, а какая-то колода, – возмущался майор, пристраиваясь на нарты лейтенанта Петренко. – Теперь вы, Грицько, поедете головным и постарайтесь быть внимательнее меня. Если и вы еще свернетесь в какую-нибудь яму, то нам не догнать Белолюбского.
– Догоним, куда они от нас денутся, – уверенно сказал Петренко, осматривая упряжку оленей и нарты, на которых ехал ранее майор.
Молодой лейтенант был очень доволен тем, что Шелестов поручил ему идти головным.
"Действительно, надо глядеть в оба", – рассуждал он, проверяя, как закреплен груз на нартах и не вывалится ли что по пути после такой встряски.
– Трогайте, трогайте. Зимний день короток, – поторапливал его Шелестов.
– Сейчас, товарищ майор, – отозвался Петренко, оседлал нарты и, подражая майору, гикнул на оленей.
Те взяли с места крупной рысью.
А примерно через час передняя упряжка, управляемая Петренко, внезапно встала. Олени майора не смогли сдержать бега и вскочили передними ногами на задок нарт лейтенанта.
– Что случилось? В чем дело?
Петренко легко соскочил с нарт и взял винтовку на изготовку.
– Ночевали они здесь. Видите? – показал он на виднеющиеся на снегу остатки костра, хвойный настил и отпечатки человеческих ног.
Майор внимательно осмотрел местность. Она была здесь дикой, угрюмой.
– А ну-ка, Таас Бас, ищи… ищи чужого… – отдал он команду собаке.
Таас Бас забегал, принюхиваясь к запахам, оставленным чужими людьми. Эти запахи ему уже были знакомы – и вызывали у него приступы озлобления. Шерсть на загривке Таас Баса приподнялась. Он остановился на мгновение у перегоревшего костра, потянул носом и решительно бросился на запад, по следу, оставленному нартами.
– Я пробегусь за ним, посмотрю… – сказал Петренко, снимая с нарт лыжи.
– Давайте, – согласился Шелестов. – Только недалеко.
– Есть недалеко, – и лейтенант побежал за собакой по накатанному следу.
Эверстова тоже сошла с нарт и начала осматривать место привала преступников. Она обошла вокруг костра и вдруг увидела новый след.
– Товарищ майор! – вскрикнула она,
– Да, Надюша!
– Лыжный след.
– Лыжный?
– Да.
– Куда идет?
– А вот, смотрите, – и она попыталась пробежать по свежему следу, но вскоре провалилась по колени в снег. – След ведет в противоположную сторону.
– Вижу, вижу. Пока он идет на северо-восток.
– Придется встать на лыжи и проверить, – предложила Эверстова.
– Проверить надо, но не вам. Вот лейтенант возвратится, мы ему и поручим это дело.
– Да я ведь, Роман Лукич, не хуже его бегаю.
– Не в этом дело, Надюша. Вы же теперь еще лучше должны понимать, кого мы преследуем.
– Я понимаю, но…
– А если понимаете, значит хорошо. Да вот и лейтенант.
Действительно, возвращался Петренко. Впереди его бежал Таас Бас. Пес, достигнув делянки, огляделся, опустил голову, принюхался и сразу же обнаружил лыжный след, замеченный Эверстовой. Таас Бас взвизгнул и бросился по следу.
– Что это такое? – спросил озадаченный Петренко.
– Новый след. Лыжный. Один из них пошел на лыжах. Я сразу увидела, горячо выпалила Эверстова.
Петренко присвистнул и сказал:
– А нартовый след пошел на запад, а точнее, даже на северо-запад. Я пробежал метров двести, а Таас Бас дальше. Так что же? Выходит, что и этот след надо проверить.
– Обязательно, – сказал майор. – Пройдите, проверьте, а тогда будем решать, что предпринять.
– Есть, – ответил Петренко и встал на готовую лыжню.
– Но далеко не уходите, – опять предупредил майор.
– Понимаю…
Петренко возвратился, примерно, через полчаса. Шелестов и Эверстова в ожидании его грелись у разведенного костра.
– Ну как? – поинтересовался майор.
Петренко сбросил лыжи, вытер рукавом лицо, по которому пот проложил тоненькие кривые бороздки, и доложил:
– Лыжный след ведет на северо-восток. Я пробежался основательно, но след не виляет, а идет прямо. Значит, они решили разойтись. Опять что-то затеяли. Наверно, хотят выиграть время.
Эверстова спросила:
– Не пойму, каким образом они могут его выиграть?
– Время здесь ни при чем, – ответил за лейтенанта майор. – Тут что-то другое. Они, видно, хотят распылить наши силы. Если так, то это неудачный ход. На лыжах от оленя далеко не уйдешь.
– А так не могло быть, – заговорил Петренко, – что на лыжах кто-то специально пошел для того, чтобы отвлечь на себя наше внимание?
Эверстова перевела глаза на майора. Тот помолчал некоторое время и сказал:
– Сомневаюсь, едва ли. Маловероятно. Что значит отвлечь на себя внимание? Это значит пожертвовать собой. Это вы имеете в виду?
– Получается так, – ответил Петренко.
Шелестов усмехнулся.
– Не думаю. Ни на какие жертвы эта публика неспособна. Знаю из личного опыта, что, когда на них надвигается опасность или реальный намек на нее, они скорее перегрызут друг другу горло, нежели пожертвуют собой ради сообщника. Это же не люди, а отребье рода человеческого. Перегоревший шлак, накипь…
– Да, вы правы, – согласился Петренко.
– А теперь надо установить, кто из них пошел на лыжах, а кто воспользовался нартами? – сказал Шелестов.
– Я это установил точно, – спохватываясь, что не сказал этого ранее, доложил Петренко.
– Я тоже знаю, – ответила Эверстова, прервав лейтенанта.
– Что вы знаете? – обернулся Шелестов к радистке.
– Знаю, кто пошел на лыжах. Русский. Комендант Белолюбский.
Шелестов докурил папиросу и бросил окурок.
– Совершенно верно, – подтвердил Петренко.
– А почему вы оба решили так? – спросил майор.
– Якуты так же редко ходят с палками, как русские без палок. А этот пошел с палками.
– Точно, – добавил Петренко. – И еще одна деталь: лыжный след более свежий. Это, конечно, мое предположение. Мне думается, что давность его не превышает трех-четырех часов. С натяжкой можно согласиться на пять часов; но ни в коем случае не более. За это головой могу поручиться.
Петренко умолк. Майор посмотрел на него и спросил:
– Допустим, что это так. К какому же выводу вы приходите?
– Я так считаю, – сказал Петренко и сел рядом с Шелестовым. Допустим, что Белолюбский покинул это место четыре часа назад, и идет он, в среднем, без всякого отдыха, по семь километров в час. Тогда получается, что он удалился от нас на двадцать восемь – тридцать километров. Не более. Я в этом уверен, как лыжник, и сбрасываю со счета то обстоятельство, что он идет не по готовой лыжне, а по цельному снегу. Это не так просто. Так?
– Ну, ну, продолжайте, – заметил майор.
– Значит, если, не теряя времени, последовать за ним на оленях, то его можно нагнать через два, самое большее, через три часа.
Шелестов молчал и кивал головой, думая про себя:
"Да, часа через три, не меньше. Без отдыха идти очень трудно".
– И я хочу предложить, – сказал Петренко, но его прервал Шелестов:
– Знаю, что вы хотите предложить. Заранее знаю. Я вот тоже думаю: сесть на запасные нарты, кстати олени в них еще не так устали, и пока эти три упряжки будут отдыхать, попробовать нагнать Белолюбского.
– Правильно, товарищ майор, – все более возбуждаясь, продолжал Петренко. – Только разрешите сделать это мне.
Шелестов неторопливо закурил новую папиросу. Выпустив облачко сизо-голубого дыма, он прищурился. Ему понятно было состояние энергичного, нетерпеливого и неискушенного в боевых делах лейтенанта. Он сам был когда-то таким и хорошо помнит, как ему впервые начальник пограничной заставы поручил нагнать и задержать нарушителя советской границы, проникшего на нашу территорию. С каким рвением и энтузиазмом он пошел на боевое задание. Это было давно, очень давно, но память отлично сохранила все детали боевого крещения.
Петренко сидел, как на иголках, но не решился заговорить.
Молчание затянулось, и его нарушил сам майор:
– А кроме вас и некому это сделать, – сказал он с улыбкой. – Я-то ведь инвалид.
– Правильно, товарищ майор. Ногу надо поберечь, она еще пригодится.
– Возможно, – заметил майор. – Поезжайте вместе с Надюшей.
Петренко перевел глаза на Эверстову.
– Да, только вместе. Два глаза хорошо, – а четыре лучше. Поедете на запасных оленях, а эти пока будут отдыхать и кормиться. И Таас Баса прихватите с собой.
– Ну, уж нет, – возразил вдруг Петренко. – Одного мы вас не оставим.
Шелестов внимательно посмотрел на лейтенанта, а тот, выдержав взгляд майора, продолжал:
– Да вы сами согласитесь: остаться в таком положении, – он показал на ногу, – совершенно одному, отлично зная, с кем мы имеем дело…
– Правильно говорит лейтенант, – вмешалась Эверстова. – Таас Бас должен остаться с вами, Роман Лукич. Да иначе и нельзя. Это будет преступлением…
– Даже? – усмехнулся майор. – Ну ладно, уговорили. Пусть Таас Бас остается. Собирайтесь. Вы, Надюша, снимите с нарт весь груз, а вы, Грицько, притащите мне дровец, иначе я замерзну. На одной ноге не напрыгаешься.
Когда дрова были принесены и нарты готовы к отъезду, Петренко разложил по карманам обоймы с патронами, повесил поверх кухлянки бинокль.
– Кажется, я готов, – сказал он.
– Если кажется, то проверьте еще раз, – предложил майор.
– Да, готов, – твердо сказал Петренко, поправляя ремень винтовки.
– Тогда возьмите в моей сумке наручники. И помните, что кто бы ни был этот человек, он должен попасть в наши руки живым. И еще: если не нагоните в течение четырех часов, возвращайтесь. Поняли? И последнее: продвигайтесь осторожнее, будьте всегда наготове, особенно в темных местах. Я не исключаю, что они могут устроить засаду. Иначе непонятно, зачем они разделились. А я покараулю здесь.
– Все ясно, товарищ майор. Можно отправляться?
– Трогайтесь.
– Пошли, товарищ сержант, – пригласил Петренко Эверстову и направился к нартам.
Через несколько секунд упряжка, увозящая Петренко и Эверстову, скрылась из глаз.
Шелестов опустился на одно колено, подбросил в костер сухих поленьев и сел на прежнее место.
"Странно, чтобы не сказать больше, – подумал он. – Действительно, зачем понадобилось Белолюбскому встать на лыжи, когда в их распоряжении было четыре оленя? Хм… Что же тут придумать?"
Майор сидел, положив руки между ног и сжав их коленями.
Солнце уже достигло того места, где оно должно быть в полдень. На него наползали небольшие облачка, и оно обиженно хмурилось, точно было этим недовольно.
Вспомнив, что Таас Бас после утраты своего хозяина еще ничего не ел, Шелестов подтянул мешок с продуктами, достал из него два куска замерзшего мяса и начал их отогревать на огне.
Когда мясо оттаяло, майор подозвал к себе Таас Баса. Пес подошел. Он погладил его и дал ему мясо. На этот раз Таас Бас не отказался от еды и, отойдя в сторонку, стал грызть мясо.
– Правильно, дружище, – одобрил Шелестов. – Мне тоже тяжело, ой, как тяжело, но надо жить. И горем горю не поможешь. Вот лишь бы не заснуть только от скуки, да не влипнуть, как кур во щи. И хотя ты верный часовой, а все же я поберегусь от сна.
*
* *
Через полтора часа быстрой езды по тайге след лыж вывел преследователей в русло небольшого, промерзшего до дна ручья. Местами ручей был укрыт нетолстым слоем снега, а местами обнажен до льда.
И чем дальше двигались Петренко и Эверстова, тем все более сужались и сближались крутые берега ручья, напоминая собой узкое горное ущелье.
Левый берег, позолоченный косыми лучами солнца, походил на многослойный кусок из различных по окраске геологических пород. Кое-где на нем висели, точно гирлянды, изъеденные и измочаленные дождями и морозами, потерявшие жизнь корни. Поверху, по самому гребешку берега сплошной стеной тянулась тайга.
А по правому берегу громоздились отполированные ветрами до блеска совершенно лысые черные скалы. Они то лезли друг на друга, карабкаясь вверх и как бы ища простора, то угрожающе нависали прямо над головами, готовые вот-вот сорваться. Между скал, там и сям, торчали, закрепившись каким-то чудом, молодые сосенки.
– Вот видите? – обратилась к Петренко Эверстова. – Опять он отдыхал.
– Вижу, – отозвался лейтенант. – Значит, он отдыхал уже семь раз за эти полтора часа, и если допустить, что на отдых уходило не больше пяти минут, значит тридцать пять минут долой.
– Видно, лыжник из него неважный, – заметила Эверстова.
– Трудно сказать. Возможно, что он сознательно экономит силы.
След забирал все вверх и вверх, ущелье сужалось, до рога становилась с каждой минутой труднее. Видно было, как преступник прокладывал дорогу между валунами, выпирающими из-под снега, обходил их.
Олени перешли на шаг. Нарты натыкались на валуны.
– Придется идти пешком, – сказал Петренко и хотел было уже сойти с нарт, как их подбросило и перевернуло.
– Кажется, свалились? – весело, не теряя бодрости духа, сказала Эверстова и рассмеялась.
– Да, что-то вроде этого, – в тон ей ответил Петренко, быстро поднявшись.
Олени встали. Бока их тяжело вздымались, точно меха горна. Над их головами, низко опущенными к самой земле, клубился пар.
Петренко помог Эверстовой подняться и отряхнуть снег, потом тронул оленей.
Ущелье становилось все уже и мельче и, наконец, исчезло, но подъем делался еще круче.
– Тут, должно быть, истоки ручья, – высказала предположение Эверстова.
– И из таких-то вот ручейков и образуются огромные реки. Ну что это за речушка? Так, мелюзга, а сложить их сто, двести, получится знаменитая Лена или Алдан, Вилюй, Олекма.
– Алдан, Вилюй и Олекма это притоки Лены.
– Это я знаю. И Витим тоже приток Лены. И Пеледуй.
– Правильно.
Олени, идя шагом, с трудом тащили за собой пустые нарты, которые то переворачивались, то кренились на бок, то с ходу ныряли в какие-то ямы.
Ущелье уже осталось позади, но дорогу преграждали бог весть откуда занесенные сюда полусгнившие бревна, оголенные и острые, каменные наросты и густо растущий невысокий, но очень цепкий кустарник.
Через все это было очень трудно пробиваться.
Олени вновь остановились.
– Какой-то первозданный хаос, – сказал Петренко к ослабил шарф на шее. – Смотрите! – обратился он к Эверстовой, – крутизна, крутизна-то какая!
– А, по-моему, подъему скоро конец, – заметила Эверстова. – Видите, вдали лесок начинается. Там, наверное, перевал.
– Возможно. Но куда черт несет этого Белолюбского? Вот бы что я хотел знать, – и лейтенант вытащил из кармана спиртовой компас. Он положил его на ладонь, загнал шарик воздуха в кружочек, нанесенный в самом центре стекла, и совместил надпись "Норд" с острием намагниченной стрелки.
Эверстова взглянула на компас, через плечо лейтенанта и, смеясь, ответила на его же вопрос:
– Черт его несет строго на северо-восток.
– Вы правы. Опять, как и ранее, на северо-восток, – согласился лейтенант. Он спрятал компас, посмотрел на часы и задумался.
Майор разрешил идти по следу четыре часа, а Петренко использовал только два. Значит два часа еще в запасе. Кустарник тянется еще, примерно, с километр, и пробираться через него нет никакого смысла. Силы оленей на исходе. Олени могут выдохнуться окончательно, а этого допустить нельзя. И в то же время нельзя не использовать оставшиеся два часа. Возможно, что эти два часа внесут ясность в создавшееся положение. Значит, надо действовать и не терять драгоценного времени.
– Я вот что предлагаю, Надюша, – заговорил Петренко. – Вы останетесь здесь с оленями, а я попытаюсь пробраться по следу до перевала. Посмотрю, как и что там. У нас с вами в запасе два часа. Их, я думаю, хватит мне, чтобы выбраться на гору. Как истекут четыре часа, я немедленно возвращаюсь обратно, независимо ни от чего. А олени пусть отдыхают. Иначе они нас обратно не довезут. Согласны?
– С чем? – спросила Эверстова.
– С тем, что олени не довезут нас обратно.
– Да… Но это очень необходимо?
– Что именно?
– Одному идти по следу?
– И необходимо, и неизбежно. – Петренко угадал чувства Эверстовой. Она не считала возможным пускать его одного, а потому он решил мягко и тактично объяснить, почему принял такое решение. – Олени очень устали, вы видите сами. Они могут попадать. Это нас не устраивает. Так ведь?
– Да, – еще недостаточно уверенно ответила Эверстова.
– Возвращаться обратно, не использовав определенного майором времени, неразумно. Верно?
– Да, еще два часа.
– То-то и оно. За два часа я могу отмахать километров десять-двенадцать. Возможно вполне, что Белолюбский, забравшись на гору, решит основательно передохнуть, подкрепиться чем-нибудь. Вы заметили, что он еще ни разу не разводил огня за всю дорогу? А вот тут он распалит вдруг костер, расположится, а я и свалюсь ему как снег на голову. Представляете картинку?
– Примерно.
– Я бы, конечно, не возражал идти вдвоем, но бросать на произвол судьбы упряжку, это значит потерять голову. Ведь все может быть. Мы с вами пойдем, отойдем километров пять, а Белолюбский, сделав петлю, прилет сюда, сядет на нарты и был таков.
Эверстова закивала головой.
– Я все это прекрасно понимаю, но, пожалуйста, будьте осторожнее. За это короткое время на наших глазах и так произошло много страшного.
– Ничего не поделаешь, – заметил Петренко, отвязывая лыжи и палки. Борьба без жертв невозможна.
– Ну, знаете ли… – возмутилась Эверстова. – С таким ответом я не согласна. Надо делать все возможное, чтобы жертв не было. Эти убийцы не стоят и волоса с головы такого человека, как дедушка.
Петренко уже встал на лыжи, проверил прочность их крепления, осмотрел готовность винтовки, попробовал, как действует освобожденный от смазки и почти насухо протертый затвор. Все оказалось в порядке, как и должно было быть.
Вооружившись палками, Петренко сказал:
– Вы правы, Надюша. Но я тоже прав, спорить не будем. Обещаю быть осторожным. Буду глядеть и глазами и затылком.
– Ну, счастливо… – бросила вдогонку Эверстова.
*
* *
Лейтенант затратил не больше получаса, чтобы добраться до перевала. Остановился, передохнул и немало удивился: как резко и быстро изменилось все вокруг.
Перевал был совершенно гол. На нем отсутствовала не только какая-либо растительность, но даже не держался и снег.
Взору лейтенанта открылась лежащая внизу и тоже безлесная долина, в которую круто спускался след лыж, оставленный Белолюбским.
Долина, покрытая, точно серебристой скатертью, чистым снегом, тянулась километров на восемь или девять, а дальше за нею, в неоглядную даль уходила черная тайга, похожая издали на огромную звериную шкуру.
Петренко оттолкнулся палками, легко пробежал по лыжне несколько шагов и, вглядевшись в след, уходящий вдаль, остановился как вкопанный.
– Он! Он! Неужели?!
Впереди внизу, километрах в трех от него, маячила на снегу одинокая черная точка.
Петренко, не теряя из виду эту уменьшающуюся точку, быстро вытащил из-под кухлянки бинокль, поднес его к глазам, также быстро подрегулировал линзы и четко и ясно увидел человека. До него, казалось, было теперь не больше трехсот метров, и он просматривался, как на ладони. Высокий, плечистый, в короткой кухлянке или дошке, с ружьем за спиной, энергично работая двумя палками, он быстро удалялся в северо-восточном направлении и то становился вдруг маленьким, когда низко пригибался, то вновь вырастал, когда выпрямлялся.
– Вот она цель нашей погони! Вот, наконец-то…
Сердце у лейтенанта зачастило, как у завзятого охотника, увидевшего крупного зверя. Он посмотрел на часы и подумал: "В моем распоряжении еще час с лишним".
Петренко снял с себя поочередно винтовку, бинокль, кухлянку. Винтовку он вновь повесил на шею, а кухлянку и бинокль оставил на снегу.
"Нет, от меня он не уйдет. На такую дистанцию мне не потребуется отдыха, а вот как ему – не знаю. Он с утра на ногах, а я только встал на ноги. И кажется мне, что ноги у меня больше тренированы, чем у него. А в общем, сейчас все это будет видно".
Петренко поправил шарф, сильно оттолкнулся палками и покатился вниз.
Он бежал, почти не ощущая тяжести собственного тела, превратившись в комок напряженных мышц и нервов. Ветер свистел в ушах, мороз, точно огнем, палил лицо. Петренко мчался, не обращая ни на что внимания, поглощенный единственной мыслью нагнать преступника и оправдать доверие, оказанное ему майором.
Преследование захватило, захлестнуло его целиком. Он не смотрел по сторонам, не оглядывался назад. Он весь напрягся в своем стремлении нагнать Белолюбского.
Но, пробежав с километр, Петренко почувствовал, что во рту пересохло, в груди что-то жжет, дыхание стало прерывистым, неравномерным, сердце колотится не в меру сильно.
Он сбавил темп бега, перешел на шаг, остановился, сбросил с себя ватную стеганую фуфайку и остался в форменной суконной гимнастерке. Разгоряченный Петренко уже не чувствовал холода.
"Горячо взял с места. Напрасно. Надо было постепенно наращивать темп. Ну, ничего. Сейчас придет второе дыхание. Ничего…"
Он посмотрел вперед и с удовлетворением отметил, что нужда в бинокле отпала. Расстояние между ним и Белолюбским сократилось до такой степени, что Петренко видел коменданта уже невооруженным глазом.
– Неужели не оглянется? – спросил самого себя Петренко, готовый возобновить погоню, но в этот момент Белолюбский, словно услышав его вопрос, остановился, оглянулся и бросился бежать уже сильнее.
"Теперь вперед!" – скомандовал сам себе Петренко и побежал вслед Белолюбскому, постепенно наращивая скорость.
Потом он вынул из кармана носовой платок, сунул его в рот, закусил зубами и освободил шею от шерстяного шарфа, мешавшего равномерному дыханию.
"Вот и в норму вошел", – отметил он про себя с радостью наблюдая, что расстояние между ним и комендантом сокращается.
Гимнастерка, заправленная в стеганые ватные брюки, вздувалась пузырем на спине лейтенанта, но он все ускорял и ускорял бег, призывая на помощь каждую мышцу своего натренированного тела.
Расстояние между ними сокращалось. Не более двухсот метров отделяло теперь Петренко от Белолюбского.
Мелькала мысль: "Окажет ли сопротивление?"
Ухо лейтенанта уже улавливало скрип лыж Белолюбского и звенящий звук палок, которыми тот отталкивался. Эти звуки подбадривали Петренко и давали ему новую энергию.
И вот Белолюбский еще раз остановился и повернул голову через плечо, точно волк.
Петренко немного сбавил бег, выжидая, что предпримет враг.
Белолюбский остановился на какую-то секунду и побежал вновь.
И когда дистанция между ними сократилась метров до семидесяти, Петренко сделал энергичный бросок вперед, остановился, вынул изо рта платок, вздохнул всей грудью и, сложив руки рупором, крикнул:
– Эй, бандюга! Стой!
Белолюбский мгновенно остановился, пригнулся, точно ожидая удара, неуклюже повернул голову назад и, издав какой-то нечленораздельный звук, вновь бросился вперед.
– Стой! Стрелять буду! – крикнул Петренко, снял винтовку и передернул затвором.
Но Белолюбский продолжал бежать, и лейтенант вынужден был не отставать от него.
Когда же расстояние уменьшилось метров до пятидесяти, Петренко остановился, сбросил с правой руки рукавицу, взметнул винтовку к плечу, затаил по привычке на мгновение дыхание и нажал плавным движением пальца на спусковой крючок.
Выстрел прокатился по снежным просторам многократным, долго не замирающим эхом, переломился и угас.
Петренко не брал на этот раз Белолюбского на мушку, он дал как бы предупредительный выстрел. Но преступник, видимо, решил, что надо что-то предпринимать. Он внезапно остановился, схватился за ружье, воткнул в снег палки и залег лицом к лейтенанту.
"Ага, тут не до шуток, – подумал Петренко и тоже упал на грудь, что-то вроде поединка получается", – и тут он только почувствовал и увидел, как зло подшутил над ним безжалостный мороз. Он прихватил кончик его указательного пальца и оставил маленький лоскуток кожи на спусковом крючке.
В это время грохнул выстрел, и пуля с визгом прошла над головой.
"Впервые в жизни по мне стреляют. Наверное, жеканом бьет, на дробь не надеется", – смекнул Петренко и, обуреваемый задором, свойственным всем молодым людям, крикнул:
– Бросайте ружье, господин комендант… Стрелять не умеете. Учитесь, как надо стрелять…
Он подвел линзу оптического прицела под глаз и увидел, как лежит Белолюбский, погрузившись в снег, и как торчат по обе стороны его две лыжные палки.
Одна палка легла на мушку, и Петренко спустил курок. Палка переломилась, точно срезанная бритвой. Петренко взял на прицел вторую, и опять раздался выстрел. И вторая палка была перебита надвое.
– Отбросьте ружье в сторону! – скомандовал Петренко. – Иначе оно немедленно разлетится в ваших руках. – Слышите?
Белолюбский лежал неподвижно. Через оптический прицел Петренко увидел на его спине кусок перебитой им палки.
"Чует, мерзавец, наверное, что я в него не буду бить", – подумал Петренко и вдруг заметил, что Белолюбский шевельнулся, приподнял лицо, заметенное снегом, и быстро выстрелил второй раз.
"Дурак, – отметил про себя Петренко. – Что же ты дальше будешь делать? Перезаряжать двустволку?"
Так оно и получилось. Белолюбский изогнулся, и Петренко догадался, что он полез под кухлянку за патронами.
"Но надо раньше выбросить стреляные гильзы", – рассуждал Петренко, не отводя глаз от оптического прицела и наблюдая за каждым движением Белолюбского.
А тот, опасаясь, видно, чтобы в стволы ружья не попал снег, осторожно перевернулся на бок, приподнял двустволку и переломил ее надвое для перезарядки.
Этого только и ждал Петренко. Он приложился и дал четвертый выстрел. Что-то звякнуло, хрустнуло, и Белолюбский уткнулся головой в снег.
Без всяких опасений Петренко вскочил на ноги, встал на лыжи, достал новую обойму и перезарядил винтовку.
– Вставайте! – громко крикнул он. – Вставайте, а то я сделаю из вас решето!
Белолюбский не сразу начал подниматься, и в сердце лейтенанта закралась тревога: уж не задела ли его пуля.
Нет, видимо, не задела, потому что комендант не только встал, но даже отряхнулся от снега.
– Вы не ранены? – спросил Петренко, приближаясь и держа винтовку на изготовке.
Белолюбский не ответил, а лишь отрицательно покачал головой.
Петренко приблизился метров на пятнадцать и увидел на снегу остатки того, что несколько минут назад называлось охотничьим ружьем.
"А жаль ружья, – подумал Петренко. – Ведь из него стрелял не так давно дедушка Быканыров. Но иного выхода не было. Враг без ружья лучше, чем враг с ружьем".
Петренко остановился.
Несколько минут офицер-разведчик и преступник стояли в молчании, разглядывая один другого, изучая, примериваясь.
Белолюбский смотрел озлобленно, с вызовом, и весь вид его говорил о том, что при любом положении он готов оказать сопротивление.
– Бывший комендант рудничного поселка Той Хая Белолюбский? последовал вопрос, прозвучавший для преступника, как выстрел.
– Я пить хочу, – ответил Белолюбский.
– Хотенья остаются хотеньями. Я разрешаю вам поглотать снега.
Болезненная гримаса скривила лицо коменданта, и, зачерпнув горсть снега, он затолкал его в рот.
– А теперь становитесь на лыжи и марш вперед. Быстрее поворачивайтесь! – подал команду Петренко. Белолюбский выполнил ее.
Петренко сошел с лыжни в сторону, пропустил вперед задержанного и направился за ним следом, выдерживая дистанцию шагов в десять-двенадцать.
Белолюбский шел не торопясь, неуверенно, потому что лишился палок, а возможно и потому, что устал.
Но такие темпы не устраивали лейтенанта. Короткий день быстро угасал, и надо было торопиться.
– Живей, живей, господин комендант, а то вам придется вот так, как есть, на снегу ночевать, – предупредил Петренко.
Белолюбский прибавил шагу.
– Стойте! – потребовал Петренко.
Белолюбский остановился.
Петренко приблизился и бросил ему свои палки.
– Возьмите, так лучше будет.
Белолюбский вооружился палками и зашагал увереннее и быстрее. Петренко, как тень, следовал за ним, выдерживая прежнюю дистанцию и держа оружие наготове.
По пути он подобрал ватную стеганку и надел ее. И это было в самую пору, потому что тело, разгоряченное погоней, давно остыло, и лейтенанта уже пробирал мороз.
"Хорошо еще, что свитер был под гимнастеркой, а то и околеть можно при такой температуре", – подумал он и, посмотрев в гору, на мгновение остановился. С перевала, до которого теперь оставалось рукой подать, стремглав неслась на лыжах Эверстова. Она шла по-местному, по-северному, без палок, накренив корпус вперед, и взмахами правой руки сохраняя равновесие. Под левой рукой у нее была зажата кухлянка, брошенная Петренко на перевале.
"Вот так-так, не выдержала, беспокоилась, видно", – с чувством благодарности к товарищу подумал Петренко.
Эверстова ловко обежала идущего впереди Белолюбского.
– Одевайте немедленно кухлянку. Давайте мне винтовку. Вот так. Я все видела в бинокль, который вы оставили на перевале, а когда началась стрельба, уже не могла стерпеть. За оленей не беспокойтесь, быка я привязала, а важенка никуда от него не отойдет. Ну и молодец же вы, все-таки! А Белолюбский зверем смотрит, я мельком взглянула на него. Он, наверное, узнал меня. Смотрите, даже не оглядывается.
– Пусть себе идет, – сказал Петренко, забирая обратно винтовку.
– А не убежит он? – высказала опасение Эверстова.
– Не думаю, – уверенно ответил Петренко. – Он очень близко познакомился с моей винтовкой. А на всякий случай сделаем вот что. Доставайте пистолет и идите впереди него.
– Есть, товарищ лейтенант, – ответила Эверстова.
Петренко приказал Белолюбскому остановиться и пропустил Эверстову вперед. Движение возобновилось.
Перевала достигли через несколько минут. Погода резко изменилась. Закатное солнце, точно затянутое густой синевой и безлучное, падало за пики снежного хребта, волоча за собой серые тени. Небо на горизонте, покрытое мутно-сизой мглой, припало к земле. Быстро сгущались сумерки. На перевале играла поземка, по-местному хиус, завивая в длинные хвосты снежную пыль. Тайга, раскинувшаяся внизу, за перевалом, замерла, притихла, прислушиваясь и готовясь к чему-то неизбежному.
– Метель будет, товарищ лейтенант, – сказала Эверстова. Она стояла и смотрела из-под руки на уходящее солнце. – Надо торопиться.
– Идите, идите, – отозвался Петренко и подумал: "Действительно, надо торопиться. Погода мне тоже не нравится. Как же нам поступить? Заставить Белолюбского бежать сзади, за нартами, нельзя: он тертый калач и имеет в своем арсенале тысячу уловок и хитростей. Махнет в сторону, и ищи его потом. Стрелять в него тоже нельзя, ведь его надо доставить живым. А в темноте и прицел не взять. Пустить его вперед на лыжах тоже ничего не получится. Да и как он будет идти с наручниками? Придется его на нарты сажать, а самому бежать следом. Другого выхода нет!"
А Эверстова думала о другом:
"Как хорошо, что мы успели! Еще час или полтора, и поземка замела бы след, особенно там, в долине, на чистом месте. И Белолюбский ушел бы, и мы до привала не добрались бы. Как там Роман Лукич? Наверное, уже беспокоится".
Спуск с перевала под гору, хотя и затрудненный росшим здесь в изобилии цепким кустарником, прошел значительно быстрее, чем предполагали Петренко с Эверстовой. Ветер здесь был немного слабее, и его грозное нарастание слышалось лишь в верхушках высоких сосен. Наступала быстрая в этих краях, с короткими сумерками, ночь.
Но вот показались нарты, привязанный к ним на длинной веревке олень-бык и пасущаяся в стороне важенка.
Почувствовав приближение людей, олени повернули головы.
Петренко приказал Белолюбскому остановиться, подошел и потребовал у него лыжи и палки, потом передал винтовку Эверстовой и вынул из кармана стальные наручники.
– В случае чего, стреляйте по ногам, и только по моей команде, тихо, почти шепотом сказал он и заметил, как у нее тихонько дрогнула в руках винтовка. – Поняли?
– Есть, – коротко отозвалась Эверстова.
Петренко приблизился к Белолюбскому.
– Вытяните руки вперед! – скомандовал он и, посмотрев на лицо преступника, увидел на нем подтеки липкого, уже замерзающего пота. Вытрите лицо.
Белолюбский вытянул левую руку, правой стал вытирать лицо.. Лейтенант не увидел, а скорее почувствовал, закрепляя металлический браслет на одной руке, как по нему пробежал острый скользящий взгляд преступника.
– Ой! – раздался вскрик Эверстовой.
Белолюбский, видя что его и вооруженную женщину разделяет сейчас безоружный лейтенант, размахнулся правой рукой, но… получив внезапно сильный удар в подбородок, отлетел в сторону, точно мешок с опилками, и упал навзничь.
Лейтенант, как оказалось, был начеку.
"Здорово, кажется, я его турнул", – подумал он, бросился к упавшему, но тот, быстро оправившись, вскочил на ноги и, вобрав голову в плечи, тяжело дыша, стал надвигаться на него.
– Бросьте валять дурака! – предупредил лейтенант, принимая боксерскую стойку и чуть пятясь назад. – Бросьте, а не то я вам ребра переломаю.
Но его предупреждение не возымело действия. Тот решил идти ва-банк и, подойдя вплотную, бросился на Петренко.
Возможно, что Белолюбский был физически не только крупнее, но и сильнее Петренко, но он не владел мастерством боксера. Нанеся несколько беспорядочных ударов, не давших никакого эффекта, он сразу изменил тактику и попытался схватить молодого противника и подмять его под себя. Но из этого ничего не получилось. Петренко не допускал его близко к себе и в то же время бил его в лицо, в грудь, под ребра точными рассчитанными ударами, точно вымешивал густое тесто.
Эверстова, хотя и убедилась в преимуществе лейтенанта, все же опасалась за него. Напряженная до предела, она металась из стороны в сторону, стараясь занять такое место, с которого можно было бы выстрелить, не ранив лейтенанта. Ей уже пришла в голову мысль подкрасться к озверевшему Белолюбскому и ударить его прикладом, но этого не потребовалось. Лейтенант сделал противнику полный нокаут. Получив сильный удар в висок, Белолюбский упал, точно бревно, на спину. Петренко склонился над ним, выпростал обе руки и защелкнул браслеты наручников.
Отойдя в сторону, он вытер рукавицей вспотевшее лицо, сделал несколько вдохов и выдохов и сказал:
– Ничего, сейчас отойдет. Это не смертельно.
– Подумайте, какой негодяй, – возмущалась Эверстова. – Вы знаете, я вся горю…
Петренко усмехнулся.
– Он не дурак, Надюша. Знает, что мы в него стрелять не будем, а потому и идет на все. – Он посмотрел в сторону Белолюбского. – Пусть отдыхает. Давайте запрягать оленей. Я так прогрелся, что, видно, не замерзну до самого привала.
Помогая лейтенанту запрягать оленей, Эверстова сказала:
– Ну, знаете, Грицько, это замечательно! Честное слово! Я бы никогда не подумала, что вы так легко справитесь с этаким медведем. Он же куда больше вас!
Польщенный похвалой, уставший и в то же время радостный оттого, что вышел победителем из схватки с опасным преступником, Петренко ответил:
– Спасибо добрым людям, что вызвали во мне любовь к стрелковому делу, лыжному спорту, боксу. Смотрите, все пригодилось, и все пришлось использовать.
– Да… Это большое дело… – и, прервав мысль, Эверстова сказала: Смотрите, он встает.
– Ну и пусть, – произнес Петренко. – Вы, Надюша, сядете впереди и поведете упряжку. Сзади вас я посажу его.
– А вы? – быстро спросила Эверстова.
– Я пойду сзади на лыжах.
– Позвольте, – возразила Эверстова. – Уж лучше я пойду на лыжах.
– Вы сядете на нарты, – сказал Петренко, и Эверстова прекратила разговор.
Тучи наползали на тайгу, порывами налетал ветер.
Когда нарты подвели к Белолюбскому, тот стоял, широко расставив ноги, и, видно, еле-еле держался на них. Его пошатывало из стороны в сторону.
– Садитесь вот сюда, – указал ему место на нартах Петренко.
Белолюбский не произнес ни слова, только скрипнул зубами, сел, и его привязали веревкой к нартам.
Поземка задувала уже и здесь. Она шуршала в кустарниках, завивалась, обещая буран. Подгоняемые сзади ветром, нарты покатились в обратный путь.
Уцепившись палками за нарты, скользил на лыжах Петренко.
ПУРГА
В парусиновой палатке, освещенной печкой, сидели майор Шелестов, лейтенант Петренко, сержант Эверстова и скованный наручниками Белолюбский.
Снаружи бесновалась пурга. Кругом все завывало, гудело, скрипело, сотрясалось. Ветер бушевал с чудовищной силой, крутил, свистел, люто ревел. Он вздымал снег тучами кверху и бросал на тайгу; выметал его начисто на открытых местах, обнажая стылую, промерзшую землю; зарывался в него, точно бурав, вертя глубокие воронки; перекатывал его, словно воду, волнами, мгновенно наметая бугры и сугробы.
Ветер проникал всюду: в таежные крепи, на перевалы и в ущелья, на вершины гор и в долины рек, сотрясал могучие сосны, грозясь повергнуть их в прах, гнул в дугу податливые нежные березы, лохматил и безжалостно ломал молодняк-ельник, растущий в одиночку; налетал сильными, стремительными порывами на палатку, силясь вырвать ее вместе с шестами и растяжками, закрутить и унести на своих крыльях бог весть куда. Но прочно закрепленная руками человека и приваленная метровым слоем снега палатка не только не поддавалась его усилиям, но и сохраняла внутри тепло, так необходимое людям. Только парусина палатки трепыхала и издавала звуки, похожие на барабанный бой.
Олени, отказавшись от поисков ягеля, сбились плотно в кучку и держались поближе к людям.
Таас Бас лежал в углу палатки, положив большую голову на свои сильные лапы, и глаза его выражали грустную покорность. Изредка пес поднимался, потягивался, высовывал нос из палатки и тут же возвращался на прежнее место.
Стихия неистовствовала. Тайга охала, вздыхала, стонала и как бы звала кого-то себе на помощь.
"Уже час прошел, как началась эта кутерьма, – рассуждал про себя Шелестов. – Сколько лет живу в Якутии, но еще ни разу ничего подобного не видел".
Он полулежал на правом боку, вытянув вперед поврежденную ногу, опухоль с которой еще не спала, но уже позволяла наступать на ногу. За спиной майора, подобрав под себя ноги, ютилась Эверстова. Белолюбский сидел против Шелестова, их разделяла горящая печь, а неподалеку от Белолюбского расположился лейтенант Петренко.
В красноватом отблеске пламени печки лицо преступника с оставленными на нем рукой лейтенанта синяками и кровоподтеками имело зверский вид.
Монотонным голосом, без всяких оттенков, развязно Белолюбский плел всякую чепуху, отвечая на поставленные перед ним вопросы.
Почему он покинул рудник? По самой простой причине. Выйдя от майора Шелестова с полной готовностью выполнить его поручение – обойти дома жильцов поселка, он неожиданно узнал от одного из рабочих рудника, что недалеко от пруда обнаружены следы неизвестного. Он заподозрил, что это следы именно того человека, который нужен майору. Он решил проявить инициативу, действовать немедленно, и бросился по следу. Он считает, что поступил вполне правильно, и не понимает, почему его самого вдруг начали преследовать и одели на него наручники? То, что он ушел от нартового следа в противоположную сторону, тоже объясняется очень просто: он шел ночью, не желая прерывать преследования. И сбился. Уклонился немного на северо-восток. Откуда ружье? Как откуда? Он его подобрал в пути на снегу. Его, видно, обронил тот, кого он преследовал. Почему не послушал офицера, не остановился и оказал сопротивление? Да потому, что принял этого офицера за злоумышленника, которого преследовал. Погоны не успел рассмотреть в горячке. Не до погон было, когда в тебя стреляют.
Белолюбский умолк. Ему хотелось, чтобы майор ставил ему еще вопросы, выдал бы свою осведомленность.
Наговорившись вволю, он попросил пить. Петренко налил из чайника остывшей воды и поднес ее ко рту диверсанта. Тот выпил ее большими отрывистыми глотками.
Майор Шелестов не ставил больше вопросов. Он молчал. Молчал и диверсант. Молчал и думал. Мысли его двоились. Он понимал, что песенка его спета и что выхода никакого для него нет. Ему было совершенно ясно, что майор молчит не потому, что ему нечего сказать. Если бы не вероломство Шараборина, пожалуй, стоило бы продолжать начатую сначала линию поведения, продолжать морочить голову этому майору всякой галиматьей. Он отлично знал, что обвиняемый может говорить все, что взбредет на ум, отрицать все обвинения, опровергать все улики, отметать все доказательства. Если бы не Шараборин! После совершенной им подлости, измены, какой смысл имеет эта игра? Будет ли он, Белолюбский, врать или нет, его все равно не освободят. Нет, нет. Да и в конце концов докопаются, кто он, а возможно уже и докопались. Продолжать запирательство? Молчать? Упорствовать? Зачем? Для того молчать, чтобы спасти Шараборина? Оттянуть время и дать ему возможность сесть в самолет и оказаться на той стороне? Да провались он сквозь землю, рыжая сволочь! Будь проклята эта хитрая беззубая собака, укусившая его, Белолюбского, исподтишка. Он улетит, получит деньги, предназначенные не ему, а Белолюбскому, будет жить и на все плевать, а тот, кто заработал эти деньги собственным горбом, будет сидеть за решеткой, и не год, не два, не пять, всю жизнь. О-о-о! Уж он знает, какой срок определит ему суд. Почти точно знает. Да и хорошо еще, если срок. А если похуже срока? Шараборин, обокравший его, присвоивший его деньги, будет жить припеваючи и смеяться над ним, а он в это время будет гнить. Нет! Этому не бывать! Никогда не бывать!
Но Белолюбский еще не решался сказать правду и полностью разоблачить себя. Он отучился говорить правду, хотя в данном случае и сознавал, что правда погубит и того, кто нанес ему удар в спину. Не поступи так Шараборин, Белолюбский отдыхал бы сейчас на расстоянии одного перехода от Кривого озера, и неизвестно еще, настигла бы его погоня или не настигла. Да зачем гадать? Можно точно сказать, что не настигла бы. Пурга отрезала бы путь преследователям, как она отрезала сейчас от них Шараборина. И тот, конечно, торжествует. Да, он, видно, и сделал все с таким расчетом, чтобы Белолюбский попал в руки майора. Конечно! Такая мысль приходила в голову Белолюбскому еще на последнем привале.
Шараборин для спасения своей собственной шкуры отдал на съедение его. Так что же? Ради этого молчать? Врать, зная наверняка, что вранье не спасет?
Но почему майор ни слова не промолвил о Шараборине? Почему он не заикнулся ни разу об инженере Кочневе? Неужели весь переполох начался с того, что они прирезали двух якутов: молодого и старика? А вдруг именно так? Тогда вообще нет никакого смысла молчать и прикрывать грехи того, кто тебя продал.
– Думаете? – нарушил его молчание майор.
Белолюбский вздрогнул от неожиданности, погруженный глубоко в собственные мысли. Они у него путались, собирались в петельки, завивались в узелки, а узелки развязать не удавалось. Да что там говорить: его изобретательный ум уже терял свою гибкость.
– Как вы сказали? – переспросил он.
– Я спрашиваю: думаете?
Белолюбский усмехнулся.
– Мне нечего думать, – ответил он.
– Видно есть, коли так долго думаете, – спокойно заметил майор.
Искушенный неоднократными беседами с врагами, Шелестов уже привык к их повадкам, к их тактике, и его нисколько не удивляло глупое и ничем не оправданное поведение Белолюбского. Но он не хотел раскрывать преждевременно своих карт, не хотел показывать свою осведомленность и боялся неосторожным вопросом испортить все дело.
Майор еще не знал ни того, кто убил Кочнева, ни того, с какой целью совершено это убийство, ни того, куда бежали убийцы, ни того, наконец, что их заставило разъединиться и побежать в разные стороны.
Не мог знать Шелестов и того, какая внутренняя борьба происходила у сидящего перед ним диверсанта.
Майор нервничал от сознания, что второй злоумышленник недосягаем и находится в безопасности. Пурга, конечно, упрячет его следы. А там, попробуй, ищи ветра в поле.
Подчас раздражение принимало острую форму, перерастало в ярость, при которой теряешь власть над собой: в желании встать, схватить за грудь этого матерого волка, встряхнуть его раз, другой хорошенько и заставить заговорить по-настоящему. Но кто-кто, а уж Шелестов хорошо знал, что следователь, дающий волю рукам, показывает, как правило, свое бессилие, беспомощность и неумение разоблачить врага.
А время шло. Пурга продолжала свой неистовый концерт.
Белолюбский мучительно боролся с самим собой, с охватившими его чувствами. Он так плотно и сильно сжал челюсти, что даже скрипнул зубами.
– Без трех минут восемь, – уронил Петренко, ни к кому не обращаясь и глядя на циферблат часов.
Белолюбский вздрогнул. В голове его быстро пробежало:
"Через четыре-пять часов прилетит самолет. Может быть, там, в районе Кривого озера, и пурги нет? Прилетит и увезет Шараборина. А я, идиот, сижу и молчу. А что толку из этого? Разве это спасет меня? Только ухудшит дело, усугубит вину. А он, мерзавец, будет торжествовать и издеваться надо мной".
Ярость вскипела, забурлила в нем с такой силой, что потемнело и задвоилось в глазах. Ему вдруг показалось, будто перед ним сидит не один, а два майора.
Шелестов взглянул на свои часы и небрежно сказал, обращаясь к Белолюбскому и скрывая ладонью зевоту:
– Что ж, если у вас нет настроения рассказывать о себе правду, отложим беседу до утра. Будем отдыхать.
"Отдыхать, хорошенькое дело, – подумал Белолюбский и шумно вздохнул, вытянул неестественно прямо свой корпус. – Я буду отдыхать, а Шараборин сейчас, возможно, готовит дрова для встречи самолета. Нет, этому не бывать. Не бывать, будь он трижды проклят. Я буду гнить в тюрьме или в земле, а он, рыжая собака…"
– Спрашивайте, я расскажу всю правду, – прорвало его вдруг.
Он рассчитывал, что от этих слов все вскочат со своих мест и засыплют его вопросами, но ничего подобного не произошло. Все, как сидели, так и продолжали сидеть, не издав ни возгласа восторга или удивления. Больше того, майор, видно, совсем не торопился с вопросами, и лицо его ничего не выражало. Он медленно выбрал из коробки папиросу, помял ее между пальцами и долго рассматривал этикетку на ее мундштуке, будто видел ее впервые и будто она имела для него несравненно большее значение, нежели готовность Белолюбского говорить правду. Эта неторопливость раздражала, выводила из себя диверсанта. "Будет он курить или нет? Зажжет он папиросу?" спрашивал он с досадой сам себя.
Шелестов чиркнул спичкой, закурил и прямым твердым взглядом посмотрел в глаза преступника.
– Для вас это единственный выход, – спокойно и сдержанно произнес он.
Тот пожал плечами и подумал: "Почему единственный? Хотя, да… А что он может знать обо мне? О чем он меня будет спрашивать?"
– Ну, рассказывайте, – подтолкнул его майор.
– Спрашивайте, что вас интересует, – уклончиво ответил Белолюбский. Я на все отвечу.
– Вечера вопросов и ответов устраивать не собираюсь, – с прежним спокойствием сказал майор. – Если вы решились говорить правду, начните, и вот с чего: при вас обнаружено два комплекта документов: на имя Белолюбского и Оросутцева. Ваша настоящая фамилия?
– Оросутцев, – ответил диверсант. И, немного подумав, добавил с улыбкой и развязностью, которой он пытался маскировать свою тревогу: Вам, конечно, интересно знать, как я стал Белолюбским?
– Пока нет, – неожиданно ответил Шелестов. – Всему придет свое время. Это мой последний вопрос на сегодня. Если вам есть что рассказать мне, прошу…
"Все знает, – обожгла догадка мозг диверсанта. – Знает и играет со мной, а время идет". И он заговорил, беспрестанно оглядываясь и шаря по палатке беспокойными глазами, будто в ней сидел кто-то, могущий взять под сомнение его слова или опровергнуть их…
Да, до этого он врал. Даже сам не знает, почему. Возможно, боялся ответственности. Вполне возможно. И это естественно. А теперь расскажет все-все без утайки. С самого начала и до конца. Он все обдумал, взвесил. Он готов понести любое наказание по заслугам. Так вот. Несколько дней назад на рудник Той Хая пришел Шараборин. С ним он знаком давно. Шараборин знает отлично прошлое Белолюбского как контрабандиста и в любое время мог выдать его органам следствия. Если бы не Шараборин, Белолюбский не сидел сейчас здесь, а продолжал бы честно работать комендантом рудничного поселка. Но, появившись на руднике, Шараборин, путем угроз и вымогательств, заставил его выкрасть ключи от сейфа, которым пользовался приехавший из центра инженер Кочнев. Он выкрал ключи. Шараборнн снял с них слепки и изготовил точно такие же. Потом он проник к сейфу, когда Кочнев был на вечерней прогулке, открыл сейф, извлек из него какой-то важный план и начал фотографировать. В это время в комнату вошел Кочнев. Шараборин выстрелил в него из пистолета и убил его наповал. Окончив съемку, Шараборин водворил карту на место в сейф, выбрался, никем не замеченный, из конторы и той же ночью оставил рудник. Ему, Белолюбскому, он приказал перед уходом проверить, что последует на руднике после его бегства, и явиться к нему в тайгу в условное место. Белолюбский так и сделал, в чем теперь горько раскаивается. Чтобы скрыть свои следы, он привязал к рукам и ногам оставленные ему Шарабориным медвежьи лапы. В фотоаппарате Шараборина хранится непроявленная пленка. Он несет ее к Кривому озеру. Через четыре или пять часов, а точнее говоря, между двенадцатью и двумя часами сегодняшней ночи, у Кривого озера должен приземлиться заграничный самолет и взять к себе на борт Шараборина. Шараборин рассказывал, что за план ему обещано иностранной разведкой большое денежное вознаграждение, и самое главное, чему тот придавал особенное значение, – вывоз с территории Советского Союза. Самолет прилетит, со слов Шараборина, с крайней северной точки японских островов и сядет на пять костров, выложенных конвертом. Вот и все. Хотя, нет… Этим преступления Шараборина не исчерпываются, и утаивать их теперь нет никакого смысла. По пути к озеру Шараборин на глазах у него тяжело ранил, а возможно и убил, колхозника Очурова, чтобы забрать у него оленей и нарты. Точно так же Шараборин поступил и с неизвестным якутом-стариком, ружье которого ему понравилось. Он прирезал этого старика при встрече с ним. И с ним, Белолюбским, Шараборин поступил тоже подло. Беря его в проводники к Кривому озеру, он обещал ему большое вознаграждение, но ничего не дал. Больше того, когда до озера оставалось совсем пустяки, каких-нибудь пятьдесят километров и Шараборин понял, что доберется до него самостоятельно, он бросил сонного Белолюбского на произвол судьбы, с одним ружьем и лыжами, взял оленей, продукты и нарты и удрал. Между прочим, Шараборин совсем недавно бежал из лагерей. По его шее давно веревка плачет. И еще одна маленькая деталь. Шараборин не имеет личных документов, кроме учительского диплома на фамилию Потапова.
Вот теперь все…
Белолюбский умолк.
Шелестов попросил лейтенанта подать ему полевую сумку. Получив ее, он извлек планшетку с картой и углубился в ее рассматривание.
Белолюбский спросил себя мысленно, правильно ли он поступил, изложив обстоятельства дела именно в таком виде, и решительно ответил: "Да, правильно. Да, да, да… Влип я – хорошо, но пусть и он сломает себе шею. Уж теперь-то майор не даст ему возможности выбраться на ту сторону. Ни за что не даст. В этом я уверен. И пусть Шараборин, попав, как и я, в лапы майора, говорит, что хочет, из этого ничего не выйдет. Пусть он выкручивается, пусть доказывает, что он не верблюд и не тот, кем я его представил. Едва ли ему поверят. А мне поверят. Да. Возможно, уже поверили. Я первый, сам пошел на откровенность и рассказал все. И это мне зачтется. И на следствии, и на суде я буду твердить то же самое. Я-то ведь за свою жизнь еще ни разу не попадался и не сидел, а Шараборин ой-ой! Ну… а если, бог даст, нам доведется попасть в одну камеру или отбывать срок в одном месте, я ему зубами перегрызу горло. Сам подохну, но перегрызу. Он еще узнает меня. Но чего тянет майор? Что он сроду не видел карты? Или никак не найдет это злосчастное Кривое озеро? В чем дело? Остались считанные часы! Надо немедленно запрягать оленей, садиться на нарты и, невзирая на вьюгу, мчаться, сломя голову, к озеру. Ведь Шараборин и в самом деле может улететь. Чего же ждет майор? Почему он не торопится? Надо быстро, очень быстро ехать, чтобы покрыть расстояние в пятьдесят километров и подоспеть вовремя. Хотя… если у майора сильные олени, он уверен в них и знает хорошо дорогу, то пятьдесят километров – пустяки. Ну, максимум три часа. Так чего же порю горячку? Старый дурак. Нервы. Нервы расшатались".
Белолюбский окинул вороватым взглядом лейтенанта Петренко, майора, по-прежнему разглядывающего карту, и опять продолжал свои рассуждения:
"Да, да. Можно еще кое-что продумать и, главное, не торопиться и держать себя в руках. Возможно, еще не все пропало. Если майор прихватит меня с собой до озера, а иного выхода у него, по-моему, нет, то я попытаюсь упросить его снять наручники. Попытаюсь. Что я теряю? Ровным счетом ничего. И не сейчас. Нет, нет… Не сразу, а уже в дороге. Скажу, что отмерзают руки. Начну охать, стонать. Что-нибудь придумаю. А без наручников в такой кромешной темноте стоит только метнуться в сторону, сделать пять-шесть шагов, и тебя никакой дьявол не сыщет. А стрелять в меня они не будут. Это точно. Я им нужен живой. В этом я уже убедился. Ну, а на худой конец, можно рискнуть дать тягу и с наручниками. Не так уж они и прочны. Добраться бы только до первого камня, а там они вмиг разлетятся. И пусть тогда рыжая собака разделывается за все своей собственной шкурой. Пусть. Вот только силы надо беречь. Силами подзапастись надо". И вдруг неожиданно даже для самого себя Белолюбский выпалил:
– Есть я хочу, гражданин начальник. Покормили бы.
Шелестов оторвался от карты, сложил планшетку и сказал:
– Что же вы ломались, когда вам предлагали?
– Так, по глупости… Погорячился…
Шелестов усмехнулся.
– Дайте ему что-нибудь, – сказал он Петренко, взяв от печи остро отточенный топор с изогнутым топорищем и положив под себя. – И снимите с него наручники. Пусть сам поест.
Белолюбский не верил своим ушам.
Лейтенант подал ему отваренное мясо, начатую банку рыбных консервов, кусок пшеничного калача и освободил одну руку от браслета наручника.
"Наручники! – криво усмехнулся про себя Белолюбский и размял освобожденные руки. – Жалкий металл! А какая в них сила! Вот я свободен, а через несколько минут опять раб".
Голодая более суток, Белолюбский ел быстро, жадно и даже попросил дать еще хлеба. Майор разрешил, и лейтенант дал целый калач. Тот и его уничтожил.
Во время еды Белолюбскому пришла отчаянная мысль: попытать счастья, свалить ногой печь и попробовать выскочить из палатки. Но эту мысль он сразу же отбросил, как негодную. Лейтенант, с кулаками которого он так близко познакомился, пристально следил за ним, да и загораживал выход. И пес, о котором диверсант забыл думать, лежал и смотрел на него.
"Нет, не сейчас. Теперь ломаться не буду и попрошу еще раз поесть в дороге", – решил Белолюбский.
Когда с едой было покончено, лейтенант, не ожидая команды майора, подошел к Белолюбскому и накинул на руки второй браслет.
"Вот и все", – отметил про себя Белолюбский, услышав звук защелкнувшегося автоматического замка.
Майор продолжал молчать и курил одну папиросу за другой. Вот он достал новую коробку "Казбека".
Надо было обладать большой выдержкой и крепкими нервами, чтобы не выдать своего волнения. А разве можно не волноваться, когда более или менее стала ясна картина преступления? Нет, невозможно.
Шелестов хорошо знал врагов и их психологию, чтобы принять за чистую монету признания Белолюбского. Практика говорит, что преступник всегда старается свалить вину на сообщника и максимально уменьшить свою собственную вину. В данном случае это было тем более вероятно, что Белолюбский считает Шараборина вне досягаемости властей и, следовательно, не боится его разоблачения. Что же касается самолета, то это могло быть правдой. Ведь неизвестно, какое чувство у преступника было сильней: стремление к тому, чтобы избежать очной ставки и разоблачения или, наоборот, желание, чтобы сообщник разделил его собственную судьбу.
Возможно, что Белолюбский и тут врал. А что, если нет? Сознание того, что Шараборин может избегнуть рук правосудия и нанести урон родине, передав иностранной разведке план большой государственной важности, страшно волновало майора. Он лишь не показывал этого. Конечно, если бы не пурга, и перед ним, как до этого, лежал след, он бы не пощадил ни себя, ни друзей, чтобы проверить показания Белолюбского и нагнать Шараборина. А сейчас, в такую темень и буран об этом нечего было и думать.
– Который час? – спросил Шелестов рассеянно, совершенно забыв, что на руке у него собственные часы.
– Половина девятого, – в один голос, точно по команде, ответили Петренко и Эверстова.
Шелестов с отчаянием думал:
"Уходит время, и ничем его нельзя ни восполнить, ни остановить. Как жаль, что для суток отведено всего лишь двадцать четыре часа. И как жаль, что глаза наши не могут достигать расстояний, которые способны пробегать мысли".
И мысли майора сейчас были далеко-далеко, на пути к Кривому озеру, к которому стремился Шараборин.
"Значит прав был в своих догадках Василий Назарович, – думал майор. Чуяло его сердце, что он имеет дело с "Красноголовым". Где же он сейчас, этот "Красноголовый"? Сидит где-нибудь в яме и ждет, пока пройдет непогода? Или пробирается через таежные дебри к озеру, невзирая ни на что? А может быть он уже добрался до озера? Что такое пятьдесят километров? Ерунда. А у него четыре оленя. Хм… И еще вопрос: смогу ли я добраться до Кривого озера, где никогда не был? Едва ли. Возможно и доберусь, но буду плутать. И опять нужно время".
Шелестов поднялся с места, осторожно ступил на больную ногу, шагнул, отвязал натянутый ветром шнур, отбросил полог палатки и, пригнувшись, вышел наружу. Порывистый ветер сильно ударил, прихватив дыхание, колкий снег сек лицо.
– Това… – хотел Шелестов позвать лейтенанта Петренко, чтобы обменяться с ним мнением с глазу на глаз, но сразу захлебнулся. Ветер погасил его крик на полуслове, и Петренко ничего не услышал. Да и невозможно было что-нибудь услышать среди шума бури! Вокруг все кипело, бурлило, и в белесой замети нельзя было увидеть даже пальцев собственной вытянутой руки.
Шелестов, чтобы устоять на ногах, наклонил корпус вперед, будто готовясь ударить кого-то головой, и то еле-еле удержался.
"Сидеть здесь нам крепко, – подумал он. – Будь она проклята, эта пурга. И нужно же было ей свалиться на наши головы именно сегодня! Уйдет "Красноголовый". Определенно уйдет. А чего доброго, переберется на ту сторону. И что предпринять, ей-богу, не знаю. Что только делается! Ничего не видно. Жуть какая-то", – но тут ему мгновенно пришла новая мысль.
Шелестов вернулся в палатку, задернул полог, закрепил конец шнура за стойку и остановил глаза на Эверстовой.
Радистка приподнялась и без слов поняла, что интересует майора, и сказала:
– Могу сейчас же.
Шелестов кивнул головой, сел на прежнее место, достал из полевой сумки блокнот, карандаш и стал быстро писать.
Эверстова вынула из чехла портативную радиостанцию, раскрыла ее, надела наушники и попросила Петренко вывести антенну.
Вынужденное бездействие мучило Эверстову. Она готова была разрыдаться от сознания того, что ни майор, ни лейтенант, ни она не могут придумать и предпринять что-нибудь действенное для поимки ускользающего из их рук Шараборина. А тут еще вдобавок ко всему сидит этот Белолюбский, в присутствии которого нельзя обмолвиться лишним словом.
Установив антенну, в палатку вошел Петренко. Он не мог скрыть своего волнения.
"Неужели упустили? Неужели уйдет? Как же быть? В конце концов нельзя же сидеть на месте! Шут с ней, с погодой", – думал он.
Он попросил кусочек бумаги у Эверстовой, быстро набросал на нем несколько фраз и передал листок Шелестову.
Тот прочел:
"Разрешите мне запрячь в нарты оленей, взять запасных, прихватить Белолюбского и пробираться вместе с ним к озеру".
Шелестов покачал отрицательно головой, бросил бумажку в печь и подумал:
"Горячая молодость! Для нее нет преград!" – и спросил, подавая Петренко листок:
– А как вы на это смотрите?
Быстро пробежав несколько строк, лейтенант с улыбкой ответил:
– Положительно. Прекрасно…
– Передайте тогда Надюше.
Эверстова, получив бумажку, прочла ее, посмотрела на майора и быстро закивала головой. Потом она склонилась над радиостанцией и стала искать в эфире позывные центра.
"Совещаются, – подумал Белолюбский. – Вот же бестолковые люди! Сколько же еще на свете идиотов! Ну чего тянут? Ведь скоро девять часов. Осталось каких-нибудь три часа!"
Он убеждался, что его "признание" не пошло впрок. Непонятные для него офицеры, оказывается, не желают чинить препятствий Шараборину в его намерении перебраться на ту сторону. Все внутри у Белолюбского ходило ходуном. Он не стерпел и, с трудом уняв раздражение и злобу, внешне спокойно, с прежней развязностью сказал:
– По-моему, нам торопиться надо, гражданин начальник. Улетит Шараборин. Как пить дать, улетит.
– Пурга, – не менее спокойно ответил Шелестов. – Слышите, что там творится? Придется запасаться терпением. Никакой самолет в такую погоду не прилетит. Собьется с курса. А одолеть пятьдесят километров за три часа при таком буране никому не под силу. Да и олени не пойдут.
– Олени не пойдут, – человек пойдет, – попытался Белолюбский еще раз воззвать к разуму майора. – Лейтенант отличный лыжник, я тоже неплохо хожу.
– Поздно, – отрезал майор. – Не надо было мудрить, а говорить раньше.
Белолюбский закусил губу. Гримаса передернула его лицо. Глаза его налились кровью. Он готов был взвыть от обиды, готов был кататься по земле. Мысль о том, что уже завтра, быть может, Шараборин будет далеко и, вспоминая его, станет смеяться, вызывала неодолимые приступы бешенства. Он поднял скованные руки и с ожесточением стал рвать волосы.
Но никто не обратил на это внимания.
Взоры майора и лейтенанта были прикованы сейчас к Эверстовой. Вот она подняла левую руку ладонью вверх, как бы стремясь водворить тишину, и затем сказала:
– Меня просят переходить сразу на прием.
– Нет, нет, – запротестовал Шелестов. – Ни в коем случае. Пусть сначала принимают.
Эверстова поняла майора и энергично застучала ключом.
*
* *
Было десять часов с минутами. Петренко и Эверстова по приказанию майора легли спать.
Белолюбский сделал вид, что тоже спит, и лежал с закрытыми глазами на спине, протянув ноги к печке. Опустошенный, подавленный, он потерял сон. Все рухнуло, все планы разлетелись вдребезги, и его мозг уже не видел никакого выхода.
Шелестов не спал и не пытался ложиться. Он сидел, курил одну папиросу за другой и, прислушиваясь к завываниям ветра, думал о своем. Мысли его то витали около Кривого озера, то заносили его в Якутск, в круг семьи, то возвращали назад, туда, к перекрестку, где остался лежать Василий Назарович Быканыров, то упорно бились над решением вопроса, как и что надо выведать еще от пойманного Белолюбского.
Когда сон начинал туманить его голову, Шелестов протягивал руку к сухим поленьям и подбрасывал их в печь, чтобы она не затухла.
Около одиннадцати часов майору показалось, будто порывы ветра стали слабее. Он прислушался. Действительно, палатка уже не сотрясалась, ветер не задувал в трубу, стало сравнительно теплее.
"Хотя бы… Хотя бы…" – подумал с тоской Шелестов и, приподнявшись с места, вышел на воздух.
Первое, что сейчас же бросилось в глаза, – хорошая видимость, которой не было час тому назад. Конечно, видимость не отличная и даже не обычная, но вполне достаточная, чтобы легко разглядеть и пересчитать оленей, сбившихся в кучку метрах в десяти от палатки. А еще некоторое время тому назад это было невозможно.
Снег почти не падал. Сквозь разрывы в облаках кое-где проглядывали звезды. Но самое важное – улегся ветер. Еще не совсем, правда, но значительно. Шелестов мог теперь без всяких усилий стоять во весь рост.
"Хорошо… Замечательно…" – заметил Шелестов. Вооружившись лыжной палкой и прихрамывая на левую ногу, он обошел место стоянки и убедился, что все следы ведшие на привал и с привала, исчезли, будто их никогда и не было. Кругом лежал цельный, нетронутый снег. "Выходит, что, приехав сюда вчера часом или двумя позднее, мы бы потеряли не только Шараборина, но и Белолюбского. – Майор постоял несколько минут и, наблюдая, как заметно слабеет ветер, подумал: – Выбился из сил, присмирел".
Он вернулся в палатку, не торопясь закурил и, заметив, как под приспущенными веками Белолюбского поблескивают глаза, сказал ему:
– Что притворяться, ведь не спите? Поднимайтесь.
Белолюбский тяжело вздохнул и сел.
– Курить хотите?
Белолюбский смотрел и молчал, точно приговоренный к смерти.
– Значит, не хотите курить? – повторил вопрос Шелестов.
Белолюбский передернул плечами.
– Да нет, закурю, если дадите.
Шелестов достал папиросу, прикурил ее о свою и, дотянувшись до Белолюбского, сунул ее ему в рот.
– Куренье успокаивает нервы, – заметил майор, сделал глубокую затяжку и выпустил дым. – Что ж, давайте продолжим беседу. У вас есть настроение?
Белолюбский молчал. Конечно, откровенная беседа его не устраивала. Ему хотелось бы ограничиться тем, что он уже сказал о себе и о Шараборине. Но во имя того, чтобы вызвать к себе известное расположение или даже жалость со стороны майора, ради того, чтобы получить возможность оказаться в дороге без наручников, он готов был пойти на все. Надежда на это ни на минуту не покидала Белолюбского. И хотя он отлично понимал, что после оказанного сопротивления лейтенанту, после попытки расправиться с ним ему почти невозможно рассчитывать на доверие, он на что-то надеялся. Больше того, надежда росла и крепла. Теперь Белолюбскому было ясно, что вопрос преследования Шараборина отпал. Шараборин уже вне опасности и наверняка у Кривого озера. Значит, следует думать лишь о том, как обрести свободу, как вырваться из рук майора. Можно, конечно опять избрать тактику молчания, но что это даст? Пожалуй, ничего. Это лишь обозлит майора, настроит его против него. И, видно, придется опять говорить, с расчетом, что этот разговор будет последним. Не может быть, чтобы не было выхода.
– Ну так как? – напомнил майор, прервав раздумье Белолюбского.
– Спрашивайте, – ответил тот.
– Только без вранья, – предупредил майор.
– Я говорю правду.
– Пока вы ничего не говорите, – поправил его майор.
– Ну, говорил.
– Это мы увидим. Дальше увидим, – сказал он и спросил: – Сколько времени пробыл на руднике Шараборин?
– Пожалуй, суток двое.
– Точнее.
– Не знаю.
– Вы давно знаете Шараборина?
– Давно.
– Примерно?
– Лет… лет… – Белолюбский прищурил глаза. – Да, лет двадцать.
– Где он останавливался в этот раз на руднике? У кого ночевал?
– Точно не знаю. Я бы сказал. Честно говорю, – точно не знаю.
– А не точно?
Белолюбский пожал плечами, усмехнулся. Ох, и дотошный человек этот майор.
– Меня это, скажу правду, даже не интересовало, – ответил он.
– Почему?
– Ну, видите… Я вам уже говорил. Повторю еще раз. Я давно решил покончить со своим прошлым и на руднике работал честно. Я собственным потом хотел смыть со своего тела родимые пятна. Об этом вам все скажут. Спросите любого на руднике. А когда появился Шараборин, я понял, что от прошлого не так легко отделаться. Признаюсь честно: у меня даже возникла мысль прихлопнуть Шараборина, но рука не поднялась. Одно дело защищаться, и совсем другое нападать.
– Где же вы с ним встречались, беседовали? – последовал вопрос.
– А так, где придется, в разных местах.
"Запутает он меня. Ей-богу, запутает!" – подумал Белолюбский и решил отвечать по-прежнему спокойно, хорошо понимая, что ответами на такие невинные вопросы медлить нельзя. Надо отвечать, не задумываясь.
– Конкретнее?
– Конкретнее? Пожалуйста. Один раз возле моего дома, это в ту ночь, когда он только явился на рудник. Второй раз у пруда, как мы заранее условились, в третий – около конторы, а в последний – возле продовольственного магазина.
– На воздухе?
– Да.
– На морозе?
– Конечно. А что тут такого?
– Ничего, ничего. Я просто уточняю. Ключи от сейфа вы ему тоже передавали на воздухе?
– Да, у пруда. А возвратил он их мне у продовольственкого магазина.
Шелестов кивнул несколько раз головой и закурил новую папиросу.
– Фотоаппарат Шараборин держал при себе или передавал вам? – спросил он после небольшой паузы.
– О! Шараборин хитрый человек.
– То есть?
– Он знает, что надо держать при себе.
– Значит, надо понимать, что фотоаппарат в ваших руках не был?
– Ни разу.
– Ясно.
– А зачем Шараборин взял деньги у убитого Кочнева?
Белолюбский усмехнулся, и лицо его приобрело сейчас то выражение, которое впервые там, на руднике, в кабинете Винокурова, даже понравилось Шелестову.
– Хитрость придумал. Рассчитывал на то, что следствие придаст убийству Кочнева уголовный характер и пойдет по неправильному пути. Убит, мол, с целью ограбления.
– Интересно, интересно… Коварный человек ваш Шараборин, – задумчиво произнес Шелестов. – Ну, а теперь расскажите мне по порядку, как вы дошли до жизни такой? Все, все расскажите. Кто вы, в конце концов по профессии, чем занимались, откуда родом. Учтите, что рано или поздно это придется рассказывать. А время у нас есть.
– Вывертывать себя наизнанку? – спросил Белолюбский.
– Если вам это сравнение нравится, – пожалуйста.
– Тогда разрешите мне еще раз закурить. Я покурю, подумаю. Конечно, жизнь это такая штука, что запомнить ее всю невозможно. Из-за давности времени многое выпало из памяти, но кое-что и осталось.
– А вы постарайтесь вспомнить, – посоветовал Шелестов.
– Постараюсь, – согласился Белолюбский и прикинул: "Мягко стелет, да как бы спать было не жестко. А какой выход? Опять путать? Путать все, с начала до конца? А вдруг ему обо мне известно больше, чем я думаю? Как тогда? Можно ли тогда рассчитывать на какое-то снисхождение и надеяться на то, что он снимет наручники? Едва ли. Ну, и наконец, это же просто беседа. Протокол-то он не пишет. А если мне не удастся вырваться, я заговорю по-другому".
Он жадно выкурил папиросу и начал рассказывать о себе. Но рассказывал неохотно, лениво. Он не говорил, а как бы жевал жвачку, липкую, тягучую. Складывалось впечатление, будто слова застревали у него в горле и он не находил в себе сил вытолкнуть их оттуда.
Когда Белолюбский делал длительные паузы или уходил явно в сторону, Шелестов поправлял его, умело ставил наводящие вопросы, обращал внимание на разрывы и пробелы в биографии, на неувязки во времени и датах, сравнивал противоречивые, взаимно исключающие друг друга утверждения и спрашивал, какое из них надо считать правильным.
Белолюбский насторожился. Он убеждался в том, что один рассказанный эпизод тянет за собой другой, а тот – третий, и так постепенно клубок разматывается против его желания. К каждому эпизоду невольно прилипают фамилии, детали, подробности, и все надо увязывать, обосновывать или же обрывать и молчать.
Припертый к стене поставленным вопросом, он изворачивался, ерзал от возбуждения на месте, нервничал, терял нить рассказа и путался.
"Да… он сумел меня разговорить, заставил выложить все. В тени остаются связи с иностранной разведкой, но об этом пока ни слова. И так все выболтал. А что поделаешь? Тут – или-или. Или вовсе ничего не говорить и молчать, или говорить. А начал говорить, – видишь, что получается, подумал Белолюбский, когда Шелестов перестал задавать вопросы. – Неужели он и теперь не снимет наручники? По-моему, снимет. Он, видно, не ожидал, что я так разоткровенничаюсь".
А Шелестов думал:
"Ну и тип. Негде пробы ставить. И, наверное, думает, что я весь рассказ его принял за чистую монету. Да… За ним надо наблюдать еще зорче и обязательно нести дежурство. Для кого же он переснимал план? Для кого? А в общем, об этом после. Сейчас не время". И вслух сказал:
– Что же, давайте подведем итог. Я вас понял так: вам пятьдесят четыре года. Родились в Чите. Фамилия отца и матери – Ведерниковы. Отец был извозчик, мать – портниха. Восемнадцати лет, в первую империалистическую войну вы пошли добровольцем на фронт, а потом также добровольно перешли в белую армию, с остатками которой бежали в Маньчжурию. Там вы обосновались на некоторое время, а в двадцать втором году впервые попали на территорию Якутии в составе отряда, возглавляемого белогвардейским генералом Пепеляевым. Так?
– Правильно, – согласился Белолюбский и подумал: "Память у него хорошая".
– В двадцать третьем году, после разгрома Пепеляева, вы опять бежали в Маньчжурию и обосновались в Харбине. И стали не Ведерниковым, а Красильниковым. Работали в харбинском отеле "Модерн" официантом. Затем перешли на работу в японскую фирму Кокусай унио, имевшую исключительное право на ввоз контрабандных товаров в Китай. С этого момента вы стали контрабандистом, неоднократно переходили границу в сторону Советского Союза и возвращались обратно…
– Совершенно верно.
– В тридцать девятом году вы в последний раз пробрались в Якутию под фамилией Оросутцева, решили порвать с прошлым и стать честным человеком.
– Да.
– В этих же целях вы сменили фамилию Оросутцева на Белолюбского.
– Да.
– А где вы достали документы на имя Белолюбского?
– Чего проще. В тайге за золотой песок можно достать любые документы. Купил у одного парня на Джугджуре.
Шелестов помолчал. Хитрая, едва заметная улыбка дрожала на его губах.
– Плохи ваши дела, Белолюбский, – сказал он.
– Как? Я не понял.
– Прекрасно вы все понимаете. Стаж вашей вражеской деятельности очень велик, а вот сводить концы с концами вы не научились. Да это и не так просто. Точнее, это очень сложно. Чтобы ложь выдать за правду, нужно большое искусство.
Вся уверенность, весь гонор и развязность слетели с Белолюбского, как чешуя с рыбы под ножом опытного повара.
Он пожал плечами и сказал:
– Ваше дело, думайте, как хотите.
Шелестов рассмеялся.
– Почему мое? Ваше дело думать. Ведь не мне, а вам отвечать придется.
– Я все сказал, – угрюмо бросил Белолюбский и в душе выругал себя за то, что вообще начал говорить.
– Вы сказали то, о чем нельзя не говорить, – строго сказал Шелестов. – А о главном умолчали.
– Не понимаю, – покрутил головой Белолюбский.
– Я вам помогу понять. Напомню кое-что. Зачем вы обрили Шараборина?
– Я?!
– Да, вы.
– Не брил. Он пришел бритым.
– И сбритые волосы принес в вашу квартиру?
– Не знаю.
– Это дело другое. А для чего вы получали взрывчатку?
– Рыбу глушить.
– Много наглушили?
– Не вышло ничего. Потонула взрывчатка, и не сработала капсюля.
– Допустим. А почему фотоаппарат, который вам якобы не передоверил Шараборин, висел не на его, а на вашем плече?
– Не знаю. Я сказал то, что было.
– Вы сказали, что Очурова ранил Шараборин, а ведь ранили вы. Ведь Очуров жив и здоров!
Белолюбский молчал.
"Проклятие, – думал он. – Неужели рыжая собака Шараборин попал в их руки ранее меня? Откуда он все знает?"
– Разговор предстоит еще большой, – сказал Шелестов. – Молчанием вы не отделаетесь. – Шелестов приподнялся. – Грицько! Надюша! Подъем!
Петренко и Эверстова вскочили и, еще не придя в себя, смотрели на майора заспанными глазами.
Шелестов вышел из палатки.
– Вот и конец вьюге, – сказал он громко. – И тишина какая стоит…
Разъяснило. Небо очистилось, и на нем показались звезды. Хвойное море, недавно колыхавшееся из стороны в сторону, стояло притихшее, присмиревшее. Окружающее приняло свои естественные очертания. Лишь у подножья елки ветерок слегка завивал снежную пыль, она клубилась и тянулась к палатке. Олени разбрелись и рыли копытами снег в поисках ягеля. Колокольчик на шее быка-вожака тихонько вызванивал где-то в стороне. Из палатки вышел лейтенант Петренко.
– Собирать оленей? – спросил он.
Шелестов, раскурив папиросу, посмотрел на часы.
– Да нет, рановато. Без семи двенадцать, – сказал он. – Я считаю, что прежде, чем отправиться в путь, надо основательно подкрепиться. А вы?
– Не плохо было бы.
– Ну и договорились…
НА ТОЙ СТОРОНЕ
В зале офицерского ресторана висел тяжелый табачный дым, до предела пропитанный винными парами. Звенели бокалы, слышался стук карточных колод, неумолчный гомон человеческих голосов, прерываемый то здесь, то там или раскатистым смехом, или разноязычными выкриками:
– Каррамба!
– Ферфлухт!
– Проклятие!
Лица картежников были искажены неровным верхним светом и кипевшими в них страстями.
Эдсон Хауэр сидел один за маленьким столиком, поставленным около буфетной стойки, и заканчивал чтение только что полученного письма от жены.
"…Меня крайне опечалило твое решение остаться там еще на месяц. По-своему ты, конечно, прав, дорогой. Деньги – большое дело. Сейчас я это чувствую, как никогда. Стелла, узнав, что я сменила старый "Форд" на новый "Шевроле" и купила гарнитур в гостиную, стала опять бывать у нас. Ее Джон ставит сейчас новый фильм "В тени электрического стула". Я видела несколько кадров. Что-то изумительное! Если бы ты был около меня. А в общем, смотри сам. Тебе виднее. Я буду терпеливо ждать. Если ты найдешь пару к той китайской вазе, что прислал в последний раз, вопрос о гостиной будет разрешен. Стелла, как только приходит, берет в руки эту вазу и разглядывает до того восхищенно и долго, что я начинаю злиться. Она дает мне за нее восемьсот долларов. Эта Стелла готова, кажется, умереть за доллар. Представляю, что будет с Зиммером, если он увидит вазу. Он же антиквар до мозга костей. Он с ума сойдет.
Ну вот пока и все. Сейчас пойду в банк и положу деньги. Пиши каждый день. Обязательно. Жду. Всегда твоя Лилиан".
Эдсон вложил письмо в конверт, постучал им о стол и сунул в карман.
"Да… – подумал он. – Достать вторую такую вазу неплохо, но очень трудно. Дела идут так, что побывать вторично в Северной Корее, видимо, не придется. А жаль, очень жаль. Ваза действительно стоящая и может служить украшением любого дворца. И как я тогда прохлопал?"
Пенная струя пива полилась из бутылки в стакан. Эдсон обвел прищуренными серыми глазами небольшой, но очень шумный зал, заполненный летчиками разных национальностей, и поморщился. Скучища неимоверная! И что только находят люди в картах? Непонятно.
Вспомнив, что его должен ожидать майор Даверс, Эдсон поднялся, бросил на стол бумажку и покинул ресторан.
Выйдя на воздух, он остановился на мгновение, ослепленный блеском лучей заходящего солнца. Гладь Японского моря отражала синеву неба и зыбкую солнечную дорожку. На дальнем рейде четко вырисовывались контуры военных кораблей. В прозрачном синем воздухе кувыркались белые голуби, и где-то далеко авиационный мотор напевал свою монотонную песню. Торопливо бежали на запад, видоизменяясь на ходу, курчавые облака, и края их горели светло-оранжевым пламенем.
Эдсон застегнул кожаную куртку и быстро сбежал по шатким ступенькам широкой деревянной лестницы вниз к морю.
Он не хотел опаздывать, не любил, чтобы его ожидали, и, зная, что берегом скорее можно дойти до аэродрома, зашагал по протоптанной летчиками узенькой дорожке.
С моря дул легкий западный ветерок. Небольшие волны лениво набегали на песчаный берег, облизывали его и откатывались назад.
Эдсон шел, переваливаясь с боку на бок и наступая на собственную тень.
Мысленно он подводил итог сегодняшнему дню, а потом перешел к предстоящему разговору с Даверсом.
"Это же норовистая лошадь! – рассуждал он, размахивая на ходу руками. – Трудно знать, когда и какой ногой она брыкнет. И, собственно, что он мне? Почему я должен с ним церемониться? Я вольная птица и плевать на него хотел. Не сговоримся – брошу все к чертям и улечу. А нет, так возьму и захвораю. Еще лучше. Пусть тогда повертится и походит вокруг меня". Эта мысль пришла в голову неожиданно и стала сосать его всю дорогу, как пиявка.
Нарастающий звук мотора отвлек Эдсона от размышлений. Он повернулся. С юга тяжело и низко плыл транспортный самолет.
"Айзек прилетел", – отметил про себя Эдсон и остановился, следя глазами, как самолет выпустил шасси, выровнялся и пошел на посадку.
На аэродроме шла обычная жизнь. Техники и мотористы возились у машин с откинутыми капотами, что-то подкручивая и подвинчивая, сновали бензозаправщики, выруливали на старт самолеты, постукивал электродвижок на радиостанции. Из рупора лились звуки грустной японской песенки. Японцы-грузчики, вытянувшись в длинную подвижную цепочку, таскали на склад квадратные белые ящики. Когда у машины Айзека улеглась пыль, Эдсон направился к ней. Все равно по пути.
Маленький, с плутовским румяным лицом, кругленький и весь как бы обтекаемый, Айзек стоял у самолета и заносил что-то в свой коммерческий блокнот.
Перед ним на траве лежали кожаные перчатки.
– Айзек? – приветствовал его Эдсон.
– Да, в этом я почти убежден, – весело отозвался тот.
"Никогда не унывает, как мальчишка…" – с завистью подумал Эдсон и спросил:
– Опять желтомордых привез?
– На этот раз нет. Своих ребят. Отвоевались. Двое в пути приказали долго жить.
– Да… – протянул Эдсон, не зная, что сказать.
– Вот тебе и да. Так вот и мы, летаем-летаем и долетаемся. Одного сегодня видел, ну прямо кочерыжка, а не человек.
Эдсон задержался около Айзека, чтобы переброситься несколькими словами, и спросил:
– Как у тебя эта неделя?
– Неплохо. На четыреста долларов больше.
Эдсон потоптался на месте, покачал головой и затем сказал:
– Везет тебе, в рубашке родился.
– Ха-ха-ха… – закатился Айзек. – Уж кто бы говорил, только не ты. Тебе нечего прибедняться. За сегодняшний ночной вылет ты отхватишь раза в два больше, чем я за всю неделю. Я-то ведь знаю, куда ты готовишься, – и Айзек лукаво подмигнул.
Эдсон промолчал и подумал:
"Вот же проныра! Как он узнал? Ведь Даверс говорил, что об этом не знает ни одна душа".
Айзек хлопнул Эдсона по плечу и, опять подмигнув, добавил:
– Теперь, парень, сохранить тайну трудно. Не такие времена пошли. Необычный рейс требует и необычных приготовлений. Сразу в глаза бросается.
Чтобы перевести разговор на другую тему, Эдсон громко спросил:
– Что нового за вторую половину дня на тридцать восьмой?
Айзек безнадежно махнул рукой.
– Китайские добровольцы отрезали нашу роту и начисто искромсали. У Петерса не вернулись три машины. Тома на моих глазах сбили зенитки, и он воткнулся прямо в землю. Крепс сделал вынужденную на их территории… Хватит?
– Вполне, – сказал Эдсон и тоже махнул рукой. Беседу надо было кончать, он пожелал успеха приятелю и направился через аэродром к домику майора Даверса, стоявшему в конце первого проулочка.
Ветерок покачивал открытую дверь дома, и она скрипела при каждом движении. У самого порога стояла бочка с протухшей дождевой водой. Эдсон сплюнул и по грязной цыновке через узенький коридор прошел внутрь домика, сильно пригнувшись на пороге.
Даверс лежал на раскладной кровати с сигарой во рту и с книгой в руках. Глаза его были забронированы стеклами очков в роговой оправе.
Увидя вошедшего, он поднялся, бросил книгу на стол и сунул босые ноги в шлепанцы.
– Садись, старина, – пригласил он Эдсона. – Я тебя заждался, – и посмотрел на часы. – Одну минутку, – и он стал поправлять одеяло и подушку.
Эдсон сел, снял шлем и причесал слежавшиеся на голове волосы. Залысины делали его лоб большим и высоким.
Он принюхался и почувствовал странную смесь запахов от дыма сигар, грязного белья и одеколона. В горле запершило.
Эдсон прокашлялся и обвел медленным взглядом комнату.
В ней были: ничем не покрытый круглый стол с изогнутыми ножками, два стула, кровать, телефон и гобелен на стене.
Японский гобелен редчайшей ручной работы, не вязавшийся с обстановкой комнаты, привлек внимание Эдсона.
Оторвав глаза от гобелена, Эдсон перелистал книгу с захватанными краями листов, прочел название: "Женщина-вампир" и подумал:
"Лилиан умерла бы от радости, получив такой гобелен. Для чего он ему? Странный человек!" – и Эдсон перевел глаза на майора.
Тот приводил в порядок свою хилую растительность на голове, стоя перед маленьким стенным зеркальцем.
Понаслышке Эдсон знал, что работник разведывательной службы Даверс человек с неудавшейся личной жизнью. Рассказывали, что его бросили три жены, но Даверс, кажется, переносил все эти невзгоды без особого вреда для своего здоровья.
Майор повернулся, стряхнул пепел сигары прямо на пол и сел верхом на стул против Эдсона. Потом он положил руки на спинку стула и, посмотрев на гостя близко поставленными глазами неопределенного цвета, спросил своим каркающим голосом:
– Ну, как решил?
Даверс был прям, как ружейный ствол, высок, тонок и чрезмерно сух. За глаза его называли воблой, а иногда миной замедленного действия, так как никто не знал, когда и от чего он может взорваться. Белые вдавленные виски делали его голову узкой. На лице, гладко выбритом и покрытом множеством мелких и крупных морщин, бросались в глаза отвислые щеки. Подбородка у него не было. Почти прямо от нижней губы начиналась белая тонкая шея.
– Цена не сходная, – угрюмо ответил Эдсон и невольно задержал глаза на гобелене.
– Помилуй! – воскликнул Даверс. – У тебя совесть есть?
– Бесспорно есть. А денег нет. Если и есть, то очень немного. Во всяком случае, для меня мало.
Даверс покачал головой, глаза сузились. Эдсон ожидал вспышки, но ее не произошло.
– Практичный ты, старина, – упрекнул он гостя.
Эдсон кивнул головой. Это правильно. Он был очень практичен. Практичность сквозила не только в его словах, но и поступках. Но разве это порок?
– Значит, правду мне говорили, – продолжал майор, – что когда Эдсон Хауэр богу молится, он и тогда денежные подсчеты делает, – и не дав гостю возразить, спросил: – А у других, по-твоему, денег много?
– Смотря у кого. Для этих целей, как мне и вам известно, ассигновано сто миллионов долларов. Чего же тут прижимать? Я же не в богадельню пришел. Я не солдат, я человек вольнонаемный и летаю за деньги. Это мой заработок. И я имею право торговаться.
– Бесспорно, – согласился Даверс.
– Ну, и притом, Якутия – это не Япония.
– Как я тебя должен понимать?
– Очень просто. Собьют в два счета. И ночь не поможет.
Даверс откинулся назад и расхохотался. Дряблая кожа затряслась на его щеках.
– Такая вероятность равна нулю, – сказал он. – Ты полетишь на машине с советскими опознавательными знаками. Кто же тебя собьет?
– Это неважно, – махнул рукой Эдсон. – Садиться я должен?
– Непременно.
– Вот видите! Без посадки я пойду за предложенную вами сумму, а с посадкой… А на кой дьявол садиться? Неужели их нельзя выбросить с парашютами?
– Вообще можно. Но, во-первых, у них очень много груза, а во-вторых, ты должен будешь, высадив двоих, взять на борт одного, который тебя будет ожидать и подготовит сигналы. Его ты привезешь сюда, ко мне. Тут, старина, все обдумано и предусмотрено.
Эдсон поерзал на стуле и спросил:
– А погода тоже предусмотрена?
– Ну, уж тут я ни при чем. Операция должна быть выполнена при любой погоде. Игра стоит свеч.
Эдсон ухмыльнулся, почесал затылок.
– Интересно все же, – разглаживая рукой шлем, произнес он, не глядя на майора. – Кто и сколько, кроме меня, заработает на этой операции?
Майор встал, развел руками и, пододвинув стул, тоже подсел к столу.
– На этот вопрос могут ответить только Даллес и бог. Только они, сострил он.
Эдсон не хотел сдаваться. Он твердо решил это заранее. Краем уха он слышал, что будто бы уже трое человек отказались от полета, на который он дал принципиальное согласие Даверсу.
– Я не хочу рисковать головой, жизнью за эту ничтожную сумму, проговорил он. – Там снегу по пояс. Сядешь и влипнешь, как муха в мед.
– Твоя машина на лыжах, и моторы у тебя хорошие. Я это точно знаю.
– Моторы хорошие, а вот предчувствия не совсем хорошие.
– Это удел слабых и психически больных. Ни я, ни мой шеф не относим тебя к числу таковых, иначе бы ты не сидел против меня. Профессия летчика требует людей сильных, волевых.
Эдсон с шумом вздохнул и вяло уронил:
– Люди разные бывают. Вы один, я другой.
– Ерунда! – отрезал Даверс. – Мы прежде разведчики, а потом уже люди.
Эдсон упрямо дернул головой. У этого майора на каждое слово было готово два.
– Вы забываете, майор, – сказал он, – что жизнь не стоит на одном месте. Все меняется. Не так давно мы были на севере Кореи, а сейчас опять опустились за тридцать восьмую параллель. То, что легко можно было проделать вчера, – сегодня не пройдет. Предложите любому этот полет…
– Только без философии, старина, – перебил его Даверс. – К черту эти твои диалектические узоры: "Жизнь не стоит на одном месте", "Все меняется"… Терпеть не могу. Надо лететь. Понимаешь? Лететь.
– Какая уж тут, к шутам, философия, – огрызнулся Эдсон. – Вы говорите, что "надо", а я вам говорю, что плавание предстоит далекое и трудное.
– Ничего, ты хороший пловец, Эдсон. Очень хороший.
Эдсон усмехнулся.
– Хм… хороший. Хорошие всегда и тонут. Берут даль, рискуют и тонут.
– Э! Тонуть не советую. У тебя молодая жена…
У Эдсона в груди уже нарастало раздражение. Так можно без конца тянуть волынку и ни до чего не договориться.
– При чем тут жена?
– А потом, если уж ты такой несговорчивый, – заметил майор, – то я попробую поговорить с Джемсом. Он, кажется, не из робкого десятка, деньги любит и такой же вольный сокол, как и ты.
– Нашли героя. Он, не долетая до границы, наложит в штаны и вернется.
"Это вполне возможно. Тут он прав", – подумал Даверс и спросил:
– Чего же ты хочешь?
– Вот это другой разговор. Удвойте сумму – полечу, – и он хлопнул по столу большой ладонью. – А нет, – до свиданья. Надоела эта канитель.
Даверс прошелся по комнате взад и вперед, потер рукой то место, где должен быть подбородок, и глянул на часы. Время истекало, а другого кандидата он не имел.
– Ладно! Черт с тобой, – пробурчал он. – Плачу двойную, только не ершись.
Эдсон полез в карман, достал лист бумаги, испещренный вдоль и поперек разными резолюциями, и положил на стол.
Несколько минут спустя, бросив прощальный взгляд на гобелен, довольный собой, Эдсон покинул майора.
*
* *
Вылет назначен был на двадцать с половиной часов по якутскому времени.
Ровно в двадцать на "джипе" подкатил на аэродром Эдсон Хауэр.
– Все готово! – доложил ему помощник, когда Эдсон сходил с машины. Представитель Даверса тут. Он полетит с нами.
– Пускай себе летит на здоровье, – весело отозвался Эдсон и направился к самолету, который уже напоили бензином. У Эдсона было хорошее настроение. Пятидесятипроцентный аванс от условленной платы лежал у него в кармане. Он легко поднялся по лестнице в самолет, пожал руку молодому капитану – представителю Даверса, мельком взглянул на двух невзрачных, широкоскулых, с раскосыми глазами субъектов, одетых по-северному, которых предстояло высадить на той стороне, и вдруг крикнул: – Что это за самоуправство?
Перед ним встали помощник и капитан.
– Вы полагаете, что летим на ярмарку? Сейчас же упаковать груз в два места, иначе я его весь выброшу за борт.
Груз, привлекший внимание Эдсона: железная печка, утепленные палатки, спальные меховые мешки, надувные резиновые матрацы, несколько пар лыж, подбитых короткой оленьей шерстью, набор охотничьих ружей и пистолетов, ракеты, ракетницы, радиоаппаратура, батареи, боеприпасы, взрывчатка, эмалированная и чугунная посуда, лопаты, топоры, пилы, бидоны со спиртом и продукты питания, – лежали внавалку на сиденьях.
– Толкайте все в спальные мешки, – приказал Эдсон. – На выгрузку я дам две минуты, не более, а этак и за час не переносишь.
Началась беготня, суетня, суматоха.
Весь экипаж, исключая двух субъектов, вывозимых на ту сторону, начал укладку груза.
Когда все было готово, Эдсон с выводящей из себя неторопливостью осмотрел упакованный груз, проверил, не забыто ли что, и пошел в кабину управления.
В точно назначенное время он вырулил машину на старт.
У КРИВОГО ОЗЕРА
Путь Шараборина к Кривому озеру был отмечен трупами трех оленей, загнанных, запаленных и брошенных им на снегу.
Отдавая себе ясный отчет в том, что все решает время, Шараборин не стал считаться с оленями. Он гнал их без передышки и покидал нарты лишь в тех случаях, когда его особенно донимал холод. И, покидая нарты, Шараборин не приостанавливал движения, не давал отдыха животным, безжалостно погонял их, а сам, чтобы согреться, бежал следом за нартами.
Третий олень пал у него во второй половине дня, когда до Кривого озера, по примерным подсчетам Шараборина, оставалось не более трех километров. Оставшийся четвертый и последний олень тащить нарты с человеком был не в силах. Он выпряг оленя, навьючил его сумками с мясом и, встав на лыжи, повел его в поводу. Теперь пришлось продвигаться медленно, прокладывая самому себе дорогу по глубокому снегу. Да и погода начала вдруг неожиданно портиться. Грозное, хмурое небо не предвещало ничего хорошего. Подула поземка, вернейший признак надвигающейся пурги. Солнце потеряло свои лучи и, окутанное туманной дымкой, потускнело.
Шараборин очень устал, но близость цели, знание местности удесятеряли его силы. А когда тайга начала мало-помалу редеть и расступаться, уступая место голой равнине, забирающей немного на север, Шараборин окончательно воспрянул духом. Теперь он твердо убедился, что идет правильно и не сбился с пути.
Равнина привела его к замерзшей реке, впадающей в Кривое озеро. Тут Шараборин уже бывал.
– Скоро дойду… Скоро озеро будет. Только бы пурга не разыгралась, говорил он сам себе, стараясь прибавить шагу. Но уставший олень отказывался ускорить темп, натягивал повод и сдерживал движение.
Да, тут Шараборин уже бывал. Память его прочно хранила все, что было связано с этими местами. Вот тут на изгибе реки он когда-то, будучи голодным и не имея продуктов, наткнулся на большой табун куропаток и настрелял их более десятка. Вот там, метрах в двадцати от берега, под кучно растущими соснами, образующими своими кронами что-то вроде хвойного шатра, он ставил ветвяной шалаш и прожил в нем несколько суток. А дальше, в месте впадения реки в озеро, он ловил рыбу с охотниками-эвенками. Тогда Шараборин выдал себя за представителя "Якутзолототранса", и эвенки поверили ему.
Все это было и давно, и в то же время как будто недавно.
Олень натянул повод и остановился. Остановился и Шараборин.
– Давай передохнем малость, – разрешил он животному. Олень был еще нужен Шараборину, и его надо было сохранить.
Бока оленя тяжело вздымались, тонкие ноги дрожали.
"А вдруг упадет? – подумал с опаской Шараборин. – Худо будет, один не управлюсь".
А поземка все крутила и крутила, завивая длинные, точно шлейфы, хвосты. Густая серая муть затягивала небо и превращала день в сумерки. Ветер усиливался, налетал порывами и больно сек лицо.
– Устал я, страх как устал, – разговаривал сам с собой Шараборин и посмотрел назад. Поземка быстро делала свое дело и заметала следы нарт, оленя и человека. – Вот это хорошо. Совсем хорошо. Никто меня не найдет. Подумают, пропал Шараборин, а он не пропал. Ну, пошли… пошли… понукал он оленя.
И вот, наконец, впереди показалось покрытое многослойной снежной шубой с отлогими берегами Кривое озеро. Длинное, вытянувшееся с запада на восток, оно простиралось километра на два. К южному берегу озера, на всем его протяжении, вплотную подступала высокая тайга, а северный берег был совершенно гол, и на нем крутил снежные вихри разгулявшийся ветер.
– Добрался, однако, слава богу, – облегченно вздохнул Шараборин и посмотрел на часы. – О, совсем рано! Половина пятого. Еще много времени до двенадцати часов. Все успею сделать и отдохну маленько. Напрасно торопился. Теперь пурга не страшна, теперь я уже на озере, а то бы мог сбиться.
Шараборин выбрался на середину озера, облюбовал подходящее место и тут же, не откладывая дело в долгий ящик, решил запастись сушняком для сигнальных костров.
– Конвертом… Пять костров конвертом… – твердил он, вспоминая слова своего сообщника. – И пока надо складывать в одну кучу, а то снег заметет и ничего не отыщешь.
Потянув за собой оленя, он зашагал к южному берегу, к тайге. Дойдя до первого дерева, предусмотрительный Шараборин крепко привязал оленя. Он знал, что одиночка олень, да еще голодный, не будет держаться человека и уйдет на поиски ягеля. И уйдет так далеко, что его потом днем с огнем не сыщешь. И лишь после этого Шараборин начал ломать сухостой и вытаскивать из-под снега валежник.
Нет, Шараборин не устал, куда там! Ему только казалось, что устал. И казалось, когда был в пути, когда еще не была видна цель. А сейчас он не чувствовал никакой усталости. Наоборот, своими уверенными действиями он выказывал столько энергии и физической силы, что можно было подумать, будто он весь день отдыхал, а не провел его в дороге.
Ворох сушняка все рос и рос, а Шараборин все таскал и таскал его.
– Довольно, однако, хватит. Теперь возить надо, – сказал он и, вытащив из походного мешка сыромятные ремни, стал увязывать хворост.
Ему пришлось сделать три конца на озеро и обратно, чтобы перевезти заготовленное топливо.
Прикинув на месте сложенный груз, он пришел к заключению, что хвороста все же маловато и для пяти костров будет недостаточно. Но быстро накатывались сумерки, небо срослось с землей, порывы ветра становились все сильнее и сильнее, лохматили снег, крутили вихри.
– Худо дело. Надо еще достать берестяной коры. Иначе спичек не хватит, – рассуждал Шараборин. – Ну, кору я после добуду. Время еще есть. – И тут он ощутил, что начинается снегопад.
Родившийся, выросший в тайге и проведший в ней всю свою жизнь, Шараборин знал, что надо делать, и не пал духом. Лишь на короткое мгновение ему пришла тревожная мысль: а вдруг самолет не прилетит в такую погоду, – но и эту мысль он отогнал от себя.
– Прилетит. Пурга долго не будет, – успокоил себя Шараборин.
Он понимал, что разводить костер в такую погоду, когда ветер чуть ли не сбивает с ног и крутит так, что вокруг уже ничего не видно, нет никакого смысла. Ветер разметет костер.
– Переждать надо бурю, – сказал Шараборин и опять принялся энергично действовать, предварительно закрепив повод оленя к вороху сухостоя. Он торопливо разгреб ногами снег, сделал небольшую выемку, уложил на ее дно мелкий хворост, крупные жерди густо натыкал вокруг и создал нечто вроде изгороди. Потом подвел оленя, повалил его в выемку и залег рядом с ним, прижавшись к его спине.
– Вот так, сказал он, удовлетворенный проделанным. – Иначе пропаду.
Пурга расходилась все больше и больше, бросая космы снега, окутывая все кругом непроницаемой белесой мутью.
Человек и олень, обмениваясь теплом, грели друг друга. Шараборин чувствовал, как поверх него уже образуется слой снега. Снег, конечно, не прибавлял тепла, но сохранял его, оберегал оленя и человека от ветра.
А ветер все крепчал, завывая на все лады.
Шараборин, лежа под нарастающей снежной шубой, пытался утихомирить оленя, который нет-нет, да и порывался встать и покинуть снежное логово. А когда олень успокоился, Шараборин стал разбираться в волновавших его чувствах. А времени у него было много, чтобы заняться этим.
Он был теперь окончательно спокоен за свою безопасность.
– Никто меня, однако, не найдет, – рассуждал он. – Следы пропали. Замело все начисто.
Тревога о том, что самолет в такую погоду может не прилететь, гнездилась, правда, где-то глубоко внутри, но он не давал ей разрастись.
Наоборот, Шараборин старался верить в то, что самолет прилетит и что он улетит. А как ему хотелось улететь! Как его волновала жажда не испытанных сполна наслаждений! Какие перспективы открывало перед ним денежное вознаграждение! Он даже не хотел вспоминать сейчас о той жалкой сумме денег, которую он хранил в своем таежном тайнике, куда, кроме него, не ступала ни одна человеческая нога. Именно жалкой и ничтожной, в сравнении с той, которую, как он был уверен, ему дадут за план.
– А сколько дадут? – задавался он вопросом. – И почему я не спросил Василия, сколько дадут? Дурак! Хорошо бы знать. Однако, много дадут. Может быть сто тысяч. А может быть пятьдесят. Пятьдесят – тоже много.
От одной мысли, что в его кармане окажутся такие деньги и он сможет их, никого не опасаясь, тратить куда хочет, направо и налево, Шараборин хмелел, как от выпитого спирта. Он строил различные предположения, как и куда, в какое дело лучше определить деньги, чтобы они не лежали мертвым капиталом, и, вспомнив вдруг, что сам видел в Харбине, когда случайно там был, решил:
– Открою курильню опиума. Да, правильно. Василий говорил, что курильня большой доход дает. Но это было в Харбине. А там, куда я прилечу, будет опиум?
Этого Шараборин не знал и ответить на свой вопрос не смог.
– Тогда я… тогда я придумаю что-нибудь другое, – утешил он себя. С деньгами нигде не пропадешь. Только здесь, на этой проклятой земле, я ничто, и деньги для меня ничто, все равно что снег зимой. А там другое дело.
И ему нисколько не жаль было покидать эту холодную, с вечной мерзлотой землю, которую глупцы называют родиной. И в самом деле, глупцы. Даже больше того – дураки. Что такое родина? Пустое, ничего не значащее слово. И надо же было придумать такое слово – родина! Родина там, где дадут много денег, где получишь право делать с этими деньгами, что захочешь, где можно зажить иной жизнью, где можно избавиться от гнетущего страха, навеваемого не только тяжелыми думами, но и каждым встречным человеком, даже собственной тенью, даже собственными следами. Когда-то здесь была родина Шараборина, а теперь прошло время, и не стало родины. Пропали, не оставив никакого следа, купцы, которым можно было с выгодой сбывать пушное золото – драгоценные лисьи, беличьи, горностаевые, песцовые шкурки, вымениваемые десятками на полбутылки спирта у охотников; вымерли окончательно все шаманы, с помощью которых легко было держать в полном повиновении доверчивых местных жителей; исчезли куда-то безвозвратно золотоноши, за которыми не раз охотился Шараборин в тайге, пуская в ход свой длинный нож, и из карманов которых он не раз пересыпал золото в свой карман; не стало совсем людей, так любивших дурманить свой мозг и кровь опиумом, морфием, кокаином и расплачиваться за это граммами золота.
Да, вот тогда тут была настоящая родина для Шараборина. А теперь что?
И народ поумнел. Очень поумнел. Так поумнел, что теперь уже нельзя и думать о том, чтобы у якута, эвенка или юкагира получить за склянку спирта шкуру черно-бурой лисы-серебрянки, как это было два-три десятка лет тому назад. Так поумнел, что его теперь перестали волновать золотые самородки, ради которых люди ранее перегрызали друг другу глотки. Так поумнел, что сразу опознает в тайге чужого человека и считает своим долгом присмотреть за ним. Так поумнел, что уже не нуждается в услугах такого опытного проводника, как он, Шараборин.
Кому же нужна такая родина? Никому. Во всяком случае, Шараборину не нужна. Судьба на этой родине никогда не была милостива к нему. Наоборот, она часто так сильно прижимала его, что нечем становилось дышать, она заталкивала его в такие темные щели, из которых, казалось, никогда уже не выбраться. Как много было в его жизни дней, когда он не загадывал о будущем, а с шаткой надеждой думал лишь о том, как бы уцелеть до завтра и не оказаться в тюрьме или лагере за прошлые дела.
Как можно после всего считать эту огромную землю, покрытую снегом и тайгой, своей родиной? Как можно не питать злобы к этой родине?
Шараборин долго, годами копил злобу на родину. Злоба складывалась из мельчайших крупиц неудовлетворения, отчаяния, крушения надежд, неуемной тяги к старому, отмирающему на глазах миру, непримиримой вражды ко всему новому, побеждающему. Злоба постепенно росла, формировалась, крепла, твердела и превратилась, наконец, в лютую ненависть, которую уже никак и ничем нельзя было заглушить.
– Теперь всему конец, – шептал Шараборин – Кончились изнурительные скитания. Довольно считать деньги копейками! Тысячами буду считать. Буду жить и брать все радости мира, как говорил Василий. Только он говорил не "брать", а вкушать.
Почувствовав, что мороз подбирается к нему, Шараборин задвигал ногами, стал растирать руки о шерсть оленя. Разные мысли боролись в нем.
– А если не прилетит самолет? Ну и пусть не летит. Обойдусь и без него. План у меня есть. Пойду на Большой Невер, встречу Гарри, отдам ему фотоаппарат и получу деньги. Скажу, что с Василием несчастье случилось. Скажу, что подстрелили его, а он мне передал фотоаппарат. Придумаю, что сказать. И никто не сможет проверить меня. И Гарри не сможет. А Василию конец. Совсем конец. Если его не успеет изловить майор, он подохнет в тайге. С голоду подохнет. От мороза околеет. Пурга его прикончит. И так лучше. Довольно, поводил я его. Поводил, а что видел? Ничего. Однако, все-таки он большая сволочь. А я выберусь отсюда. Не раз выбирался. Лыжи есть, олень есть, мясо есть, нож есть. Я не пропаду.
От этих мыслей Шараборин успокоился. Стало легче на сердце. Стало даже теплее. Он начал впадать в забытье, в полусон, засыпал и просыпался, возвращался к действительности, поплотнее прижимался к оленю и не отгонял сна. Время еще много, и если спится, так почему не спать? И сон его одолел.
Выла вьюга. Спал человек. Тихо дышал не спящий голодный олень. Лишь часы на руке человека неутомимо продолжали свое дело.
*
* *
Шараборин спал и видел сон. Он видел старика Быканырова, в которого всадил нож на перекрестке. Удар был силен, и нож вошел в бок по самую рукоятку. После такого удара человек не сможет больше жить. Не сможет жить и Быканыров. В этом Шараборин был твердо уверен. Но что это? Старик вдруг зашевелился, приподнялся, встал на четвереньки, начал что-то сильно кричать и пополз на него. Шараборин попятился, обронил нож. Старик поднял нож, встал на ноги и, размахивая ножом, стал приближаться. И старик стал не похож на себя. Он превратился в огромного медведя с головой человека. Надо бежать. Бежать, как можно скорее, но ноги не слушаются. А медведь все ближе и ближе, и в руке его уже не нож, а огонь.
– О-о-о! – воскликнул Шараборин, испугав оленя и заставив его вздрогнуть. И сам испугался своего голоса, показавшегося ему чужим. Он уже проснулся, но не мог еще освободиться от какой-то истомы, заволакивавшей его мозг. Перед ним еще стоял страшный образ, навеянный сновидением.
А когда Шараборин окончательно пришел в себя, он почувствовал, что руки его костенеют от холода, на ногах же его лежал олень, и они так замлели, будто отмерли.
Шараборин выпростал ноги и сразу сообразил, что если бы они каким-то чудом не попали под оленя, то он бы их уже не имел. Мороз сделал бы свое дело.
Шараборин прислушался. Стояла глубокая тишина.
– Пурги нет. Неужели я так долго спал? – он сделал движение и только теперь ощутил, что замерзли не только руки, но и все тело.
Он перевалился с правого бока на живот, уперся в землю руками и ногами и стал спиной рушить снежную кровлю. Без особых усилий он разворотил спасшую его от смерти берлогу и поднялся. Вслед за ним поднялся и олень.
Шараборин толкнул оленя, и тот, выпрыгнув из берлоги, отошел в сторонку и отряхнулся.
– А время, время?.. – спохватился Шараборин и, чиркнув спичку, посмотрел на часы. Стрелка перевалила за двенадцать. – Сколько же я спал? Дурак. Вот дурак!
По звездному черному небу низко-низко мчались разметанные ветром облака. Снег уже не шел. Ветер улегся и был почти неощутим.
Шараборин стал прыгать на месте, чтобы согреться, хлопал по телу руками и тут вспомнил, что пора разводить костер, а берестяной коры он так и не достал.
– Однако, сбегаю за корой, – сказал он, высвобождая лыжи и закрепляя их на ногах. – И оленя возьму. Навалю на него побольше. И хворосту прихвачу еще. А то ведь долго придется костры палить.
Шараборин оглянулся и увидел оленя метрах в двадцати, бегущего на запад.
– Тохто! Тохто!!! – крикнул Шараборин, но олень даже не остановился.
Шараборин стал звать оленя поласковее, но и это не помогло.
Тогда он бросился вслед оленю на лыжах. Но разве можно догнать оленя, который уже не хочет больше служить человеку!
Подпустив к себе Шараборина совсем близко, олень остановился, поднял голову, увенчанную рогами, всхрапнул, пригнулся и крупными прыжками стал удаляться.
Шараборин остановился и, налитый злобой, следил за ним глазами.
А когда олень скрылся, он выругался и погрозил ему кулаком.
– Ушел… Совсем ушел… Пошел корм искать, сволочь… – процедил сквозь зубы Шараборин и, повернув назад, бросился к тайге. Возвратился он с большой охапкой сухой березовой коры и, проверив время, начал быстро раскладывать хворост на пять кучек конвертом.
А время подходило к часу ночи.
– А что если самолет уже прилетал? – подкралась страшная мысль, от которой стало не по себе и похолодело под сердцем. – Прилетал, а я спал и ничего не слышал. Страшно…
Размышляя так, Шараборин выложил пять костров, наломал березовую кору и подсунул ее под поленья каждого костра. Потом вздул огонь, и тот змейкой взвился сначала на одной, затем на другой и, наконец, на всех пяти кучках.
Шараборин забегал, засуетился, подправляя костры, и, наконец, остановившись около центрального, задрал голову в небо. Оно уже совсем очистилось от облаков, но на нем нельзя было увидеть ничего, кроме звезд. Они дрожали, перемигивались и будто дразнили Шараборина.
"Не прилетит, не прилетит…" – как бы твердили все они в один голос.
Шараборин, протянул руки к огню, напряженно, до звона в ушах, вслушиваясь в тишину. А томительная тишина, завладевшая природой, ничего не обещала.
– Если самолета долго не будет, не хватит сушняка, – подумал он с огорчением, но идти в лес не решился.
Бежали секунды, минуты. Шараборин то и дело поглядывал на часы. А как только время перевалило за час, он уже больше не отрывал глаз от циферблата. С каждой новой минутой надежда слабела, угасала и на ее место приходило отчаяние.
Да и было от чего отчаиваться. Бежавший олень мог служить не только средством передвижения, но и пищей, без запасов которой нечего было и мечтать о возвращении в тайгу. Значит, сейчас решалась его судьба.
И вдруг уже в половине второго, в сторожкой напряженной тишине он услышал звук, заставивший его вначале вздрогнуть, а затем застыть на месте. Звук возник где-то на юго-востоке. Ясно – это пел свою песнь авиационный мотор. Робкий и неуверенный звук постепенно рос и наплывал с высоты.
Шараборин стоял, не шевелясь, будто опасаясь, как бы своими движениями не спугнуть этот долгожданный звук.
И наконец, когда звук перерос в отчетливо слышный рокот, Шараборин вскрикнул:
– Он, он! Летит… Летит!
Шараборин утратил душевное равновесие. Он испытывал такое ощущение, точно родился вторично на свет.
Он заметался от костра к костру, пододвинул упавшие поленья и вдруг начал вытанцовывать от радости на месте, издавая какие-то окающие звуки и беспорядочно размахивая руками.
Прекратив танец и пощупав в кармане фотоаппарат, он весь напрягся и стал всматриваться в черное небо. Самолет, как ему казалось, делал круги, но увидеть его никак не удавалось. Но вот Шараборин увидел три точки, три тускло светящиеся плывущие точки среди неподвижного звездного неба. Это были бортовые огни самолета.
– Прилетел! Прилетел! – опять вскрикнул Шараборин и пришел в неистовое веселье. Веселье так опьянило его, что он, не задумываясь, подобрал тут же лежащие лыжи и бросил их в огонь. – Горите, горите… Вы не нужны мне больше! Совсем не нужны! Не буду я теперь ходить на лыжах! Летать буду! Ездить на машинах буду!
Самолет быстро снижался. С ревом, свистом и рокотом, выбрасывая из выхлопных труб комки огня, он пронесся вдоль озера раз, другой, а потом, раскидав с полдюжины ослепительно ярких ракет, круто пошел на посадку.
Каждая ракета рассыпалась на множество мелких разноцветных огоньков. Тут были и синие, и фиолетовые, и красные, и желтые, и белые.
– Как днем! Как днем! Все видно, как днем! – захлебываясь от восторга, вопил Шараборин, и вдруг яркий свет мгновенно иссяк и стало темнее пуще прежнего. Шараборин от неожиданности протер глаза и лишь тогда увидел метрах в ста от себя контуры застывшей на месте большой стальной птицы. Она была уже на земле, тихо урча моторами.
Забыв про дорожную сумку, запасы мяса и про все на свете, Шараборин со всех ног бросился к самолету. Он рывком перемахнул через пылающий костер, упал раз, проваливаясь в глубокий снег, упал второй раз и вдруг растерял все силы сразу.
Тяжело дыша, он поднялся и увидел, как открылась широкая дверца в самолете и в рамке света обозначился громоздкий и неуклюжий человеческий силуэт.
– Я тут! Я тут! – заорал во все горло Шараборин и, будто подталкиваемый кем-то в спину, опять бросился вперед.
Он, спотыкаясь, подбежал к самолету и, не чувствуя самого себя от обуревавших его чувств, ухватился за поручни выброшенной лесенки.
ПОЛКОВНИК ГРОХОТОВ
В большой комнате собрался оперативный офицерский состав. Тут были и майор Шелестов, и старший лейтенант Ноговицын, и лейтенант Петренко, и сержант Эверстова.
Шелестов сидел поодаль от всех, около высокого массивного сейфа.
Через пять больших окон в комнату с улицы вливался яркий свет солнечного полдня. Здесь было тепло и забывалось о том, что за стенами дома сорокаградусный мороз. У короткой глухой стены, на которой висела карта, стоял небольшой столик с двумя стульями по бокам.
Офицеры тихо, вполголоса, но оживленно беседовали между собой, а когда в дверях показался полковник Грохотов, сразу умолкли и встали.
– Прошу садиться, – сказал Грохотов низким, резковато-властным, но не громким голосом и прошел через всю комнату к маленькому столику.
Фамилия полковника никак не вязалась с его внешним обликом. Небольшого роста, узкоплечий, худощавый, с впалыми бледными щеками. Грохотов производил впечатление больного человека. Да так было и в самом деле. За прожитые пятьдесят два года полковник испытал немало невзгод и лишений, имел несколько ранений, в том числе и одно тяжелое, и последнее время часто хворал. Болели простреленные ноги, пошаливало сердце.
У Грохотова была еще и душевная рана. В Отечественную войну он потерял всю семью. Эта рана не заживала и сочилась.
Подчиненные любили его, уважали и немного побаивались. Прошедший большую жизненную школу и школу разведывательной и контрразведывательной работы, он слыл за умного, опытного, дальновидного начальника с кипучим и деятельным характером и большой выдержкой. Грохотов никогда не выходил из себя, не нервничал, не кричал на подчиненных, не бранился зря. Он был ровен, строг, требователен и справедлив.
Собравшиеся знали, зачем их вызвали сюда, но полковник счел нужным об этом напомнить.
– Часть из вас, товарищи офицеры, знает, а часть не знает о событии, имевшем место на руднике Той Хая. А знать должны все без исключения. Сейчас майор Шелестов расскажет нам подробно обо всем. Прошу, Роман Лукич… – обратился с теплыми нотками в голосе Грохотов и, вздохнув, опустился на стул.
Шелестов покинул свое место и подошел к карте, на которой его собственной рукой был четко и ясно, видимо, для всех, нанесен маршрут проведенной операции.
Полковник Грохотов повернулся к нему вполоборота и оперся рукой на спинку стула.
– В данном случае, – начал Шелестов, – я и мои товарищи столкнулись с необычным происшествием. Я постараюсь доложить обо всем подробно.
И Шелестов со свойственной ему неторопливостью, обстоятельно, но и без лишних слов рассказал все, начиная с того момента, как он прилетел на рудник, и вплоть до той ночи, в которую разыгралась пурга. Он не скрыл от присутствующих неопределенности и неясности положения, с которым он столкнулся на первом этапе дела, и сомнений в правильности своих действий в ходе преследования врага.
Шелестов выложил все на чистоту. Он знал, что его слушают не только умудренные опытом и видавшие виды офицеры, но и молодежь, которой, как и лейтенанту Петренко, предстоит не раз столкнуться с происшествием, подобным этому. На таких и на других делах им нужно учиться. Он специально остановился на лейтенанте Петренко, который при первом боевом крещении проявил себя энергичным, способным и инициативным офицером; на сержанте Эверстовой, которая, помимо своих прямых обязанностей радистки, оказывала непосредственную помощь в поимке диверсантов.
– Успех операции, – сказал майор, – обеспечил не я один, а наш небольшой, но сплоченный коллектив. И сейчас даже трудно сказать, кто сыграл большую, а кто меньшую роль. Да и не в этом дело.
Шелестов особенно подчеркнул, что считает своей ошибкой оставление в засаде на перекрестке Василия Назаровича Быканырова. Надо было оставить или лейтенанта Петренко, или остаться самому.
– Не согласен, – с места сказал Грохотов. – У вас разве были основания сомневаться в товарище Быканырове?
Лейтенант Петренко посмотрел на Шелестова. Что он скажет?
Майор ответил без колебаний:
– Никогда я в Василии Назаровиче не сомневался, товарищ полковник.
– Так зачем же вы делаете такой вывод? Я не вижу в этом никакой логики. Вы, возможно, к такому выводу пришли потому, что товарищ Быканыров погиб.
Шелестов задумался. Ему тяжело было говорить о своем старом друге. В самом деле: в чем виновен Василий Назарович? В том, что проявил неосторожность, погорячился? Но им, конечно, руководило хорошее чувство схватить врага. И притом он ведь столкнулся не с двумя диверсантами, а с одним. Желание взять его было очень велико. И трудно сказать, как бы поступили на месте Быканырова он сам или лейтенант Петренко.
– Вполне возможно, товарищ полковник, – ответил Шелестов после долгой паузы и добавил: – У меня все.
Грохотов встал и спросил, нет ли вопросов, и после того как майор ответил на них, разрешил ему сесть. Потом заговорил сам. Он пояснил, что Шелестов коснулся лишь того, что было связано непосредственно с боевой операцией, и не затронул результатов следствия. Но это и не входило в его задачу. Грохотов отнес к заслуге майора Шелестова то, что он тщательно, придирчиво занялся сбором улик и вещественных доказательств. Такие, казалось бы, незначительные факты, как появление в кабинете Кочнева электролампы необычно большого размера, как кусочек взрывчатки, обнаруженный в подполье дома коменданта рудничного поселка, как мнимая склонность Белолюбского к глушению рыбы, склонность, которую он впоследствии никогда больше не проявлял, как пучки слипшихся рыжих волос, найденных в мусоре и, как выяснилось после, принадлежавших сообщнику Белолюбского Шараборину, как футляр от будильника, случайно найденный в тайге лейтенантом Петренко, как исчезновение из кармана Кочнева незначительной суммы денег, в то время как все личные документы инженера остались нетронутыми, как, наконец, противоречия и несовпадения в личных документах Белолюбского, хранившихся на руднике, – правильно и закономерно навели Шелестова на мысль, что убийство представителя Главка инженера Кочнева не просто уголовное убийство и что Белолюбский и его сообщник, тогда еще неизвестный, имеют отношение к убийству.
Полковник говорил медленно, тихо, с большим напряжением. Все знали, что ему по состоянию здоровья трудно долго говорить.
– Майор Шелестов, – продолжал Грохотов, – имел все основания не поверить словам Белолюбского, не поверить тому, что иностранная разведка пришлет за ним самолет с посадкой у Кривого озера. Признаюсь, что я тоже сильно сомневался в этом, получив радиограмму Шелестова в ту тревожную ночь. Насколько мне известно, в прошлом Якутии подобных случаев не было. Но Шелестов, хоть и колебался, но не мог все же исключить возможность появления самолета и, ввиду особой важности дела, уведомил меня об этом. И поступил совершенно правильно. В таких случаях и надо так поступать: оставаться со своими сомнениями и колебаниями, а меры тем не менее предпринимать, ибо никогда нельзя ручаться за абсолютную правильность тех или иных предположений. Я одобрил решение майора Шелестова и отдал приказание послать к озеру самолет Ноговицына. Нам повезло в том, что Ноговицын в ту ночь как раз находился со своим самолетом на руднике Той Хая, куда он отвозил группу следователей и специалистов. А от рудника до Кривого озера не так уж далеко. Ноговицын переждал бурю, вылетел и сделал все, что надо. Шараборин, добравшийся засветло к озеру, ничего не подозревая, принял наш самолет за иностранный, что и следовало ожидать. Таким образом, и второй диверсант попал в наши руки.
Грохотов откашлялся, прижав руку к груди, выдержал небольшую паузу и продолжал:
– Оказывается, товарищи, мы иногда еще недооцениваем силы и возможности противника. Как видите, и майор Шелестов, и я усомнились в том, что иностранная разведка решится послать к нам в тайгу, на такое большое расстояние, да еще в такую погоду, самолет с посадкой. А она послала.
Офицеры переглянулись, насторожились. То, что иностранный самолет все-таки был послан в тайгу, явилось для них неожиданной новостью.
Полковник Грохотов пояснил:
– Правда, самолет иностранная разведка послала не специально за Белолюбским. Она хотела убить одновременно двух зайцев: самолет должен был на нашей территории высадить двух агентов, прошедших специальную подготовку, и снаряжение, им выданное. И, высадив их, взять на борт Белолюбского. Но факт остается фактом. Ни погода, ни расстояние, ни климатические особенности нашей республики не остановили иностранную разведку. Самолет был послан под нашими опознавательными знаками, нарушил нашу границу, проник на нашу территорию, но… был посажен нашими самолетами на одну из советских баз.
Кто-то из офицеров не сдержался и крикнул:
– Вот это замечательно!
Раздались дружные хлопки.
Грохотов обвел всех усталым взглядом и поднял руку, прося тишины.
– Вы сами теперь понимаете, – продолжал он, – что, не имея радиограммы майора Шелестова, мы не смогли бы своевременно предупредить наших пограничников. Но, имея ее, мы предупредили пограничников, и они посадили чужой самолет. Какие выводы нам следует сделать из всего этого? Мне думается, вот какие: никогда не игнорировать мелочей. Мелочи играли и всегда будут играть большую роль в раскрытии преступлений и в поимке вражеских лазутчиков. В нашей работе и не должно быть слова "мелочь". Все может стать важным и существенным. Надо только уметь подмечать все мелочи, глубоко анализировать их и обобщать.
Второй вывод: стремиться нащупывать слабые стороны врага, его уязвимые места.
Третий вывод: до конца разоблачать пойманного врага, до той поры, пока не останется ни малейшей неясности, никакого сомнения. Тактика большинства преступников нам известна. Она показывает, что преступник становится не на путь откровенности, признания своей вины, а на самом деле пытается обелить себя, скрыв свои преступные дела и связи, оговорить другого, предать своего сообщника. Смотрите, что произошло с Белолюбским. Сказав о том, что был сфотографирован план и что прилетит самолет, он, казалось, выдал главное. Так ведь? А главное, как выяснилось, он пытался утаить. И только правильно поставленное следствие дало нам возможность размотать весь клубок. Белолюбский долго пытался водить нас за нос и делал это даже тогда, когда ему было ясно, что его собственная судьба предрешена. Когда мы приперли Белолюбского к стенке, он пытался выгородиться и взвалить всю вину на Шараборина, тогда как Шараборин только выполнял функции обычного связника и проводника.
Далее, Белолюбский, рассказав кое-что из своего прошлого, пытался умолчать о главном. Как теперь выяснилось и полностью подтверждено, он являлся агентом двух иностранных разведок: японской и американской. Агентом японской разведки он стал в тридцать втором году, с момента оккупации Харбина японскими войсками.
Он жил в то время там.
Многие из вас должны помнить, что в те годы начальником японской военной миссии в Харбине являлся небезызвестный полковник Доихара Кензи. Тот самый Кензи, которого иностранные журналисты прозвали японским Лоуренсом. Кензи прилично владел русским языком и договорился с Белолюбским один на один.
Вы, может быть, спросите, откуда полковник Кензи узнал о существовании Белолюбского. Я отвечу на этот зопрос. Белолюбский в условиях Харбина не был уж такой незаметной личностью. На Торговой улице он имел свой собственный особняк, в котором до прихода в Харбин наших войск проживала жена Белолюбского, его два взрослых сына и их жены. Белолюбский долгое время состоял пайщиком крупной японской фирмы Кокусай Унио. Он был тесно связан с активными белогвардейскими кругами. Полковнику Доихара Кензи Белолюбского рекомендовали два человека: председатель комитета белых эмигрантов Колокольников и председатель союза русских монархистов генерал Кислицын.
Как видите, Белолюбский не просто контрабандист. Кличкой контрабандиста он прикрывался, как ширмой, а на самом деле был завзятым шпионом. В сорок пятом году, вследствие событий на Дальнем Востоке, связи Белолюбского с японской разведкой оборвались. Белолюбский, бросив семью в Харбине, бежал в Южную Корею. Там его нашли американцы, перевербовали и уже, как своего агента, перебросили на нашу территорию. Наконец, следствию удалось выяснить, что за Белолюбским стоит человек, через которого поддерживается связь с внешним миром. Мы пока не знаем, что это за человек и как его зовут. Шараборину, и даже Белолюбскому, он известен лишь по кличке "Гарри". Но он не иностранец. Это уже известно. Во всяком случае, в самое ближайшее время, в первую среду, четверг или пятницу марта, мы с ним познакомимся. Между "Гарри" и Белолюбским есть такая договоренность: если самолет по какой-либо причине не прилетит, то "Гарри" будет ожидать Белолюбского на станции Большой Невер в вагоне владивостокского поезда. Надеюсь, что майор Шелестов и лейтенант Петренко организуют эту встречу.
Четвертый вывод: враг не гнушается никакими приемами, даже явно устаревшими, если они оправдывают себя в данный момент. Под этим я имею в виду использование головы Шараборина для обмена информациями между Белолюбским и "Гарри", и медвежьих лап для укрытия своих следов. С первым приемом люди ознакомились чуть ли не век назад, а второй прекрасно известен пограничникам.
Наконец, пятый, последний и особо важный вывод. Вокруг нас еще много фактов ротозейства и притупления политической бдительности. А все это наруку врагу, все это помогает ему скрываться и орудовать на нашей земле.
Вот сейчас возникает вопрос: как иностранная разведка могла узнать, что инженер Кочнев в эту свою командировку будет занят работой по окончанию плана нового промышленного района? Как – ответьте мне? Полковник остановился, обвел взглядом офицеров и заговорил вновь: – Можно предполагать, что кто-то проболтался в Главке. И именно в Главке, потому что не Белолюбский ориентировал "Гарри" на Кочнева, а "Гарри" дал задание Белолюбскому. Значит, кто-то вольно или невольно выболтал, а замаскировавшийся, притаившийся где-то враг использовал болтовню. А ключи от сейфа? Как бы их ни хранил покойный инженер Кочнев, а если они попали, когда он был еще жив, в руки диверсанта и благополучно возвратились на место, значит хранил он их плохо. Я уже не говорю о безобразной охране рудника, когда на его территорию можно проникнуть кому угодно. А назначение на должность коменданта рудника человека, биография которого и имевшиеся анкетные данные о нем не совпадали друг с другом? Легкомыслие, не имеющее себе равного! Говорить обо всем этом надо во весь голос.
Дело Белолюбского и Шараборина должно послужить примером для тех, к счастью, редких в нашем коллективе товарищей, которые думают, будто наша отдаленная республика не может привлечь к себе внимания иностранных разведок. Полагать так, значит не только глубоко заблуждаться, но и терять политическую бдительность. Кто-кто, а уж мы, разведчики и контрразведчики, обязаны постоянно помнить указание нашей партии о том, что враг не прекращал и не прекращает подрывной работы против советского государства. Он забрасывал и будет пытаться забрасывать к нам шпионов, террористов, диверсантов. Он искал и будет искать среди советских граждан людей неустойчивых и малодушных, чтобы привлечь их для работы против нас. Он фабриковал и будет пытаться фабриковать против нашей родины различные провокации. Он старался и будет по-прежнему стараться получить в свои руки любой документ, выдающий планы, замыслы и мечты советских людей. Забывать об этом нам с вами непростительно и преступно. Я кончаю. Основное сделано. Два опасных диверсанта пойманы и обезврежены. Но главное впереди. Третий и, пожалуй, наиболее опасный враг, скрывающийся под личиной советского человека, находится еще на свободе и творит свое грязное дело. Я имею в виду человека под кличкой "Гарри". Где он сейчас – трудно сказать. Кто скрывается за его спиной – покажет недалекое будущее. Наша ближайшая задача – изловить "Гарри".
ГАРРИ
Вечером того дня, когда полковник Грохотов беседовал со своими подчиненными, по одной из улиц Владивостока, держа путь к городской железнодорожной кассе, шагал ничем не примечательный с виду человек. На нем было поношенное серое демисезонное пальто, высокие фетровые сапоги и пыжиковая шапка. Приподняв короткий воротник пальто, человек придерживал его одной рукой. Холодный, резкий ветер, дувший с моря, бил в лицо, выворачивал полы пальто, пробирался в каждую щелку.
Трудно было признать в этом человеке пассажира спального вагона, с которым осенью прошлого года встречался Шараборин. Но это был он. Это был Гарри.
Высокий, сухопарый, длинноногий, он шел крупным шагом и ничем не выделялся от людей оживленного в любое время года приморского города.
Гарри был до предела раздражен и зол. Он весь был под впечатлением только что имевшей место встречи со своим патроном Хилгом. Хилг держит себя, особенно последнее время, крайне бесцеремонно и вызывающе. Хилг задирает нос, не хочет считаться с тем, что Гарри нужно ведь и отдыхать и пользоваться благами жизни, иначе зачем нужна эта жизнь? Хилг взял да и назначил свидание во Владивостоке. Дернул же его черт! Не нашел другого подходящего места. Из-за этого пришлось переть в такую даль. А чем, собственно, они, то есть он, Александр Поваляев, и Теодор Хилг, отличаются друг от друга? Почему Хилг имеет право говорить: "Я буду вас ожидать. там-то", "Вы плохо стараетесь", "Я вам поручаю" или "Перед вами дилемма", или, наконец, "О деньгах говорить еще рановато". А на долю Поваляева остается лишь соглашаться, унижаться, робко, неуверенно, возражать, приводить какие-то неубедительные в глазах Хилга доводы, а в конце концов делать все, что прикажет Хилг. Везет этому Хилгу! Он ловко пристроился под маркой друга Советского Союза в одном из европейских телеграфных агентств, и уже который год все ему сходит с рук. А уж как умело ему удается быть "объективным" в своих немногочисленных статьях. Да. Хилг – его "босс", и от этого пока никуда не уйти Поваляеву. Никуда. Он волей-неволей должен считаться с Хилгом и с его желаниями.
Сегодня Гарри, он же Поваляев, идя на свидание с Хилгом, твердо решил высказать ему все свои претензии, обиды, свою неудовлетворенность положением, но как только он увидел недовольное лицо, жесткие, холодные и недоверчивые глаза Хилга, решимость "все выложить" мгновенно пропала.
Хилг сидел один за столиком в вокзальном ресторане и тянул из кружки подогретое московское пиво.
Не успел Гарри сесть, как Хилг каким-то свистящим шепотом предупредил его:
– Заказывайте сами себе что-нибудь. Мы не знаем друг друга. Мы незнакомы. Если кто подсядет или приблизится, – прекращайте разговор. И времени у меня в обрез. Через час я еду обратно. Поняли? – и Хилг поднес ко рту кружку.
Гарри ничего не сказал, кивнул головой и, поманив к себе официанта, не глядя на карточку, предложенную им, заказал стакан черного кофе и два пирожных.
Хилг, выждав, когда официант отошел, наклонился и, навалившись грудью на столик, спросил:
– Как вы условились с Оросутцевым? Куда он должен доставить план?
Гарри легонько отстранился. Во-первых, его озадачил довольно странный вопрос, а во-вторых, он почувствовал острый и противный запах сыра рокфор, которым всегда несло от его патрона.
Собравшись с мыслями, Гарри ответил:
– Я писал Оросутцезу, чтобы план он доставил на станцию Большой Невер и искал меня с первой среды марта до пятницы в спальном вагоне владивостокского поезда. Но это в том случае, если не прилетит самолет…
– Так вот, этот случай подошел. План инженера Кочнева в наши руки не попал.
– То есть?
– Очень просто. Самолет, посланный с Японских островов, не вернулся на свою базу и пропал. Пропал бесследно весь экипаж и два человека, предназначенные к высадке в Якутии. Есть предположение, что самолет потерпел аварию над Охотским морем и не достиг восточного материка. В ту ночь над морем прошла сильная буря. – И Хилг выпрямился.
– Как все это неожиданно, – заметил Гарри.
Насмешливая улыбка тронула злые и тонкие губы Хилга.
– Наша профессия, мой дорогой, всегда, полна неожиданностей.
– Да… Что же теперь делать?
– Ничего особенного. Купите расписание поездов, сделайте подсчет и берите заранее билет. Ориентируйтесь, на всякий случай, не на среду, а на пятницу. Надо довести начатое дело до конца.
– А как же с Оросутцевым? – спросил Гарри.
– Прихватите и его к себе за пазуху, – и Хилг рассмеялся, неприятно оскалив выступающие вперед желтые зубы.
– Я не об этом, – сдерживая раздражение, сказал Гарри. Он не переносил, когда люди, без всякой причины к тому, начинают смеяться.
– А о чем?
– Насколько мне известно, за план Кочнева вы обещали Оросутцеву вывозку на ту сторону и…
– Мало ли что я обещал. Обещал потому, что была реальная возможность к этому. Он не ребенок, сам должен понимать, что посылка самолета не обычное дело. Растолкуйте ему как следует. Объясните, что до лета вопрос с вывозкой отпадает.
– Но ему, кажется, обещано и большое денежное вознаграждение?
Хилг покосил глазами на край стола, где лежал маленький, обитый кожей чемоданчик.
– Прихватите с собой. Я уйду и оставлю его. Это для Оросутцева.
Гарри задумался. Ну, а вдруг Оросутцев заупрямится, что с ним бывало уже не раз, и поставит ультиматум: или план, или вывозка на ту сторону?
– Хм… А если он…
– Никаких если, – прервал его Хилг. – Он за деньги душу свою продаст. Что вы его не знаете? Действуйте. Я буду ждать от вас условной телеграммы. Всего.
И Гарри остался один.
Кофе, поданный с большим опозданием, показался ему противным, и он через силу выпил его. На пирожное и смотреть не хотелось…
И вот он шел сейчас покупать билет, чтобы в первую пятницу марта быть на станции Большой Невер.
"Но не будет же это вечно продолжаться? – спросил он сам себя. – Не буду же я всегда у него на побегушках?"
Мысленно оглядываясь на оставшийся уже позади отрезок жизни, Гарри убеждался, что не может не признать за собой умения пробивать себе дорогу и преодолевать трудности на своем пути. А сколько было этих преград? Сколько было трудностей? Вспомнить страшно.
Ведь в самом деле, жизнь его была не легкой. Все время приходилось приспосабливаться к обстоятельствам, к "духу времени", к людям, унижаться, просить, ловчиться. В редкие моменты удавалось говорить открыто, по душам, о том, что тебя волнует, мучает, угнетает, что тебе нравится и что ты ненавидишь. Родился он в Восточной Сибири незадолго до революции в семье материально обеспеченного инженера Поваляева. Его нарекли Александром в память его деда по матери, видного адвоката. И уж очень скоро начались для Александра жизненные невзгоды. Других они как-то обходили, миновали, а на него валились, как шишки на бедного Макара. Отец умер в первые годы советской власти, а когда точно, Александр даже не помнит, как не помнит он и самого отца. Мать его ничего не умела делать, да и не хотела. Она была избалована жизнью и твердо верила в скорый и неминуемый крах советской власти. Но советская власть держалась. Сбережения погибли. Надо было работать. Александр же учился, а мать не умела работать. Она изворачивалась, как могла, продавала и обменивала вещи, но это не было выходом из положения. Подчас приходилось очень туго.
Но вот началась новая эра. Появилась отдушина. Советская власть ввела нэп. Мать сказала по этому поводу: "Так постепенно все обернется к старому. Дай-то бог. Немного осталось терпеть, Саша".
Появились иностранные концессии. И мать Саши, которой нельзя было отказать в практичности и сообразительности, поступила, как считает Александр, очень правильно, сойдясь и связав свою дальнейшую жизнь с одним из сотрудников концессии "Лена Гольдфилс" – англичанином Сплитом. Жизнь Саши и его матери резко переменилась: появились деньги, продукты, иностранные вещи.
Сплит до революции много раз бывал в России, знал русскую жизнь, любил общество, был сам гостеприимен. Александр и сейчас с удовольствием вспоминает широкий образ жизни, который ввел в их доме его отчим.
Сплиту нравился Александр. Александр был в восторге от Сплита. Сплит не раз говорил, что из парня может выйти толк, и это придавало уверенности Александру. Сплит часто и подолгу беседовал с Александром, рассказывал об Англии, о заграничных странах, о том, где и когда ему довелось бывать. Александр слушал отчима с упоением и готов был слушать его без конца.
Сплит вообще по натуре своей был весельчак и большой оптимист. Он был твердо убежден, что без английского оборудования, без английских специалистов немыслимо существование русской золотой промышленности. Он верил, что концессия "Лена Гольдфилс", глубоко пустив цепкие и разветвленные корни в недра Восточной Сибири, будет с каждым днем все более процветать. Он безапелляционно утверждал, что советская власть постепенно переродится, что социалистический эксперимент провалится, не выдержав испытания временем. Вышло, правда, несколько иначе, чем это думал Сплит. Вышло так, что коммунисты скоро смогли обходиться без чужих рук и без чужого оборудования. Концессия перестала существовать. Иностранцы убрались восвояси. Вынужден был уехать в Англию и Сплит, позабыв прихватить с собой свою новую жену – мать Александра.
Для Александра это явилось большим ударом. Опять все перевернулось вверх ногами. Намеченные планы сорвались. Надежды лопнули. Атмосфера довольства и благополучия, к которой он начал привыкать, развеялась, как дым на ветру.
Мечты о карьере, богатой жизни, поездке за границу рухнули подобно карточному домику.
И единственное, что осталось у Александра от Сплита, – это пренебрежительное отношение ко всему русскому и хорошее знание английского языка.
С переменой жизни все кругом стало серо, неинтересно и скучно.
А для матери Александра отъезд Сплита был еще большим ударом. Он ее окончательно выбил из колеи. Она впала в апатию, стала выпивать. Не будучи крепкого здоровья, она слегла и вскоре умерла.
Александр остался один. В этих условиях от него потребовалось присутствие духа, и он был уверен, что проявил его. Впоследствии он часто похваливал себя за это, не замечая, что, собственно, нужно было благодарить других. Советские люди позаботились о нем, тогда еще несовершеннолетнем, помогли стать на ноги, получить образование за счет государства. Потом ему дали работу, хорошую и полезную, где он мог бы приобрести специальность. Но эта работа показалась ему неинтересной, а главное, малооплачиваемой. Такой уровень жизни не удовлетворял его. Ему удалось устроиться на складе кинофабрики, где он имел дело с дефицитными в то время материалами – пленкой, химикалиями, – и это пришлось очень кстати. Он быстро смекнул, в чем дело, и результатом этого явилось значительное улучшение материального положения. Он овладел фотоделом, приобрел по дешевке несколько фотоаппаратов и стал на дому выполнять частные заказы. Это тоже приносило приличные доходы.
У Александра к этому времени образовался большой круг знакомых среди артистов, видных советских работников. Он встречался с ними на домашних вечеринках, танцульках, загородных прогулках.
Но тут, к сожалению, с кинофабрики пришлось уйти. Туда нагрянула ревизия, и возникли разные неприятности. Александр еле-еле выкрутился. Потом он устроился переводчиком в систему "Интурист". Помогло хорошее знание английского языка, которому обучил его отчим Сплит.
В "Интуристе", правда, не было дефицитных материалов, но открылись другие возможности. Жить было можно и вполне прилично. Надо было только проявлять умение находить нужную линию и держаться за нее.
Частые поездки по стране приносили доходы. Среди иностранцев попадались интересные, яркие люди, похожие на Сплита. Они владели толстыми бумажниками, солидными кожаными чемоданами, изящными несессерами, разными элегантными безделушками. В их окружении порой забывалось, что ты находишься не за границей, а в Советском Союзе. От них перепадало и Александру. Он не брал "на чай", но охотно принимал "подарки".
В особенности хорошо отнесся к Александру уже немолодой турист англичанин мистер Эванс. Александр сопровождал его в поездках. Они беседовали на самые разнообразные темы и очень откровенно. Заинтересованный необычной биографией Александра, мистер Эванс увидел в нем "соотечественника" и несколько раз одаривал деньгами. А когда Эванс узнал, что в Англии проживает отчим Александра – Сплит, он вызвался во что бы то ни стало разыскать его и заинтересовать судьбой пасынка.
Мистер Эванс, несомненно, сыграл определенную роль в жизни Александра.
В откровенных беседах с Эвансом Александр много рассказывал о своих впечатлениях, вынесенных из поездок по Советскому Союзу, о людях, о новостройках, об изменениях, происходящих в окраинных республиках и в деревне.
Покидая Советский Союз, Эванс заверил Александра, что в самое ближайшее время жизнь его изменится в лучшую сторону, и оставил ему ценный подарок: чудный отрез на костюм, бритвенный прибор и кожаный чемодан.
Эванс, как оказалось, не бросал слов на ветер. Прошло не так уж много времени, и через "Торгсин" на имя Александра Поваляева стали регулярно поступать переводы довольно крупных сумм.
Эта неожиданная помощь сделала жизнь Александра совсем приятной. А вскоре переводы через "Торгсин" стали единственным источником его существования, так как Александр по неизвестным ему причинам попал под сокращение штатов и был уволен из "Интуриста". Александр был возмущен таким несправедливым, как он был уверен, к нему отношением.
В эти памятные для него дни возникло знакомство с Петром Андреевичем. Правда, он и раньше сталкивался с Петром Андреевичем по делам "Интуриста", но тут Петр Андреевич пришел к нему сам и проявил к Александру самое неподдельное участие.
С первых же дней их знакомства Петр Андреевич показал себя человеком очень дальновидным, опытным в житейских делах, весьма практичным, с трезвыми взглядами на окружающее, а главное, очень сердечным и кровно заинтересованным в судьбе Александра.
По совету Петра Андреевича и при его содействии (он работал ревизором в Наркомате железнодорожного транспорта) Александр устроился учиться на бухгалтерские курсы.
Петр Андреевич уверенно говорил, что это очень пригодится.
На бухгалтерских курсах Александру показалось очень скучно: народ простой, серый, с ограниченными интересами и притом крайне однобокий. Учащиеся говорили чрезвычайно много о политике, об успехах индустриализации и коллективизации, о своей будущей работе. Все заграничное они осуждали и зло высмеивали, как буржуазное и, конечно, плохое, фанатично верили в процветание и мощь Советского Союза и неизбежный крах капитализма. В свободное от занятий время организовывали по своей инициативе всевозможные диспуты на разные темы, устраивали вечера самодеятельности, вечера вопросов и ответов, пели революционные песни.
Александр, разумеется, вторил им во всем, ходил на собрания и диспуты, но вспоминал это время, как мучительное для себя: уж очень лицемерить и лукавить приходилось ему, да так, чтобы не попасться.
А тут еще ликвидировали "Торгсин". Александр пал было духом, но на помощь ему опять пришел Петр Андреевич. Он заявил Александру, что у кого не бывает в жизни трудностей, что надо помогать друг другу и он, в частности, от души окажет ему материальную поддержку. Улучшатся дела Александра, и тогда он компенсирует Петра Андреевича чем сможет.
Александр от помощи не отказался, а по окончании бухгалтерских курсов он, опять-таки не без участия того же Петра Андреевича, устроился разъездным бухгалтером-ревизором на северную железную дорогу.
Дальновидность Петра Андреевича со временем блестяще оправдалась. Александр зажил отлично, получая заработную плату. Время от времени и Петр Андреевич "подбрасывал" ему кое-что под разными предлогами. Вначале Александр отказывался, но потом так привык к наличию свободных денег, что перестал отказываться и принимал деньги, как должное. Дружеское участие и советы Петра Андреевича не порывать с транспортом сказались в полной мере позднее, когда немцы напали на Чехословакию, потом Польшу, наконец, на СССР, а работа на железной дороге позволила Александру избежать отправки на фронт, чего он больше всего боялся.
Петр Андреевич, при встречах, уже не скрывал своего мнения о неизбежном поражении СССР в войне против Германии. Он особенно настаивал, чтобы Александр крепко держался за свою должность на транспорте, зарекомендовал себя перед своим начальством хорошей работой и входил к нему в доверие.
Когда немцы были на подступах к Сталинграду, Петр Андреевич впервые предложил Александру собрать кое-какую информацию по транспорту, сославшись на то, что она необходима для союзников.
Александр больше из страха, чем из каких-либо иных соображений, помялся, но он слишком многим обязан Петру Андреевичу, чтобы отказаться, и потому стал выполнять поручения Петра Андреевича. К тому же за информацию он также получал вознаграждение, что было очень кстати, так как условия жизни стали много труднее.
Однажды, когда Александр готовился к поездке в Мурманск, Петр Андреевич дал ему поручение встретиться с одним человеком, сообщил адрес, приметы, пароль и проинструктировал, как и что надо сказать при встрече с этим человеком.
Так Александр познакомился с сотрудником американской разведывательной службы Хилгом. Это была решающая встреча. Теперь, как сказал Хилг, надобность в Петре Андреевиче миновала. Хилг, оказывается, знал и Сплита, и Эванса, а также и все прошлое Александра. Из разговора с Хилгом Александр понял, что Петр Андреевич был представителем Хилга и в курсе многих дел. От Хилга вновь пахнуло на Александра тем манящим к себе миром, именуемым заграницей, перед которым он с молодости преклонялся. Обаяние могущества денег, исходившее от Хилга, и врученный им крупный аванс, бесповоротно решили дело. Александр получил кличку "Гарри", получил связи, явки. Хилг предупредил, что работа предстоит большая и долгая.
В сущности говоря, Александру было безразлично, на кого работать. Он не понимал этого всеохватывающего, определяющего собой все мысли и переживания советских людей чувства любви к родине, вдохновляющего их на героические подвиги. Он не знал и того, что люди вокруг него называли мировоззрением. Он не только не представлял себе, в чем оно состоит, но и не давал себе труда даже задумываться над этим.
Давно в нем прочно укоренилось лишь одно желание – попасть за границу и жить так, как жил Сплит, судя по его рассказам, как жил Эванс и им подобные люди.
Александр презирал советскую страну. От Сплита, Эванса и от многих окружавших его в детстве и юности людей он постоянно слышал произносимое с каким-то исступленным вожделением слово "заграница". Там все было не так. Там все было по-иному. Там была "настоящая" жизнь. И вот, ради достижения этого другого мира Александр без колебаний и раздумий связал свою дальнейшую судьбу с Хилгом. Он не чувствовал никаких угрызений совести. Он делал то, что надо было делать. Его это не смущало. Важно то, что он окончательно укрепил свое материальное благополучие. Он не сомневался, что был обязан этим своему умению жить, своему искусству носить личину советского человека, подлаживаться к нужным людям, находить с ними общий язык. Благодаря этому он стал нужным человеком для Хилга, за которым стояли большая власть и могущество.
Через два года после окончания войны Хилг передал на связь Александру Оросутцева, а затем Шараборина.
Хилг пояснил при этом, что Александр должен специализировать себя для работы в условиях Севера.
Александру это пришлось не по душе. Он стремился к широте, масштабам, а тут его поставили в определенные рамки.
Шли годы, и чем дальше, тем больше Александр понимал, что он всего лишь пешка в руках Хилга. Это сознание точило душу Александра.
И сейчас, шагая по продуваемой холодным ветром улице Владивостока, Александр думал:
"Неужели этот кривозубый Хилг не поймет, что я создан для более высокой роли? Неужели он не видит, что я не хуже его могу разбираться в людях? Почему он не даст мне инициативу самому подбирать нужных людей? Что такое, например, Шараборин? Какая-то человеческая накипь. Разве можно с такими кадрами делать дела?"
Приходили и другие досадные мысли. В последнее время с Хилгом все чаще возникали разные недоразумения. Во-первых, Хилг стал неаккуратно выплачивать вознаграждение. Во-вторых, он категорически запретил Александру жениться, в то время как Александр считал, что женитьба на сестре начальника движения, которая не скрывала своего расположения к нему, пойдет только на пользу дела. А Хилг сказал: "Я подумаю и скажу, а пока запрещаю". И вот он думает уже четвертый месяц. Сколько же еще надо думать?
У Александра было уже много неплохих "дел", и ему ясно, что Хилг делает себе на этом карьеру. Но он вовсе не хочет играть роль трамплина для Хилга.
Наконец, Хилг стал груб, он не терпит не только возражений, но даже советов, он считает умным только самого себя.
В самом плохом настроении Александр подошел к вокзалу.
От билетной кассы тянулся длинный, выходящий на улицу людской хвост.
Александр осведомился, кто крайний, и занял свое место в очереди.
БОЛЬШОЙ НЕВЕР
Пришел март, но весной и не пахло: до нее в этих краях было еще далеко. Лежал прочный снежный покров, стойко держались сорокаградусные морозы, с севера дули лютые, обжигающие все живое ветры.
Во всех домах с утра до ночи топились печи, над поселком и над станцией Большой Невер вились многочисленные дымки.
По узеньким улочкам поселка, сплошь заметенным сугробами, залегли капризные стежки, на которых с трудом можно было разминуться встречным.
С наступлением темноты улицы безлюдели, и поселок, казалось, вымирал. Но это лишь казалось. Веселые огоньки электролампочек, пробивавшиеся сквозь покрытые узорчатым слоем льда стекла окон, напоминали о том, что там, внутри этих рубленых домов и домиков, продолжается жизнь: люди работают, учатся, читают, справляют семейные праздники, посещают клубы, кино, слушают московские радиопередачи, словом, живут вместе со всей обширной страной разнообразной и полнокровной жизнью.
На базах Большого Невера экипировались партии геологов, разведчиков, топографов, отбывающих на север. В парках, гаражах, мастерских ремонтировались тракторы, самосвалы, тягачи, подъемные краны. Активно готовились к выходу на ранний весенний промысел охотники-таежники.
Ключом била жизнь и на станции Большой Невер, этом ближайшем к Якутии железнодорожном пункте. От Большого Невера до Якутска – столицы автономной республики по прямой линии насчитывалось около тысячи километров. На платформах станции круглосуточно разгружались тяжеловесные составы из крытых вагонов, платформ, цистерн, ледников, копров.
Ни на час не прекращалось движение по Алдано-Якутской шоссейной магистрали, берущей свое начало в Большом Невере и оканчивающейся в городе Незаметном – центре Алданского золотопромышленного района. Беспрерывным потоком по магистрали, через тайгу и хребты, с продуктами, стройматериалами, оборудованием, горючим, взрывчаткой, промышленными товарами тянулись на Алдан и Якутск "Газы", "Зисы", "Язы", "Мазы".
Майор Шелестов и лейтенант Петренко жили в Большом Невере уже четвертые сутки, имея приказание полковника Грохотова задержать неизвестного, скрывающегося под кличкой "Гарри".
Шелестов волновался, хотя и не высказывал своих тревог и волнений.
Правда, от лейтенанта Петренко, уже привыкшего к майору, не могло укрыться его напряженное состояние: достаточно того, что майор необычно много курил, с неохотой, небрежно, будто насилуя себя, ел, мало спал и стал совсем неразговорчив.
И к этому были причины: в минувшие среду и четверг – первые в марте, ни в одном из прошедших с востока на запад пассажирских поездов не оказалось человека, схожего по приметам с тем, кого Белолюбский и Шараборин именовали "Гарри".
И после этого стоило призадуматься. "Гарри" уже по одному тому, что он руководил практической работой таких диверсантов, как Белолюбский и Шараборин, несомненно, представлял собой большую опасность. Те оба являлись просто исполнителями, а "Гарри", как склонны были думать и Грохотов и Шелестов, очевидно, являлся промежуточным звеном между Белолюбским и Шарабориным, с одной стороны, и непосредственными представителями иностранной разведки – с другой. И нельзя было считать законченной затянувшуюся операцию, не выловив Гарри, лиц, связанных с ним и ему известных.
После того как в среду в спальных вагонах поездов, следуемых в Москву, не оказалось Гарри, Шелестов и Петренко решили подвергнуть самому добросовестному осмотру все пассажирские поезда, идущие как с востока на запад, так и с запада на восток. В этой работе прошел четверг, не принесший никаких результатов.
Шелестов и Петренко занимали самые тревожные мысли и опасения. Все можно думать в таких случаях: Гарри почуял расставленную для него ловушку и умышленно не появляется; перепутаны даты; встреча, возможно, должна была иметь место не на Большом Невере, а на какой-либо другой станции, а Белолюбский, чтобы отвести удар от Гарри, назвал Большой Невер; наконец, могло быть и так, что на ту сторону проникли слухи о захвате самолета, и иностранная разведка, в целях сохранения "Гарри", решила не посылать его на встречу.
Белолюбский рассказал следствию, что на станции Большой Невер проживает еще один человек, известный только ему и Гарри. Этот человек, как сказал Белолюбский, является "запасным связником". Когда Шараборин отбывал наказание в лагерях, "запасной связник" приходил на рудник к Белолюбскому с поручением Гарри. Он хорошо в лицо знает Гарри и давно связан с ним по преступной работе.
Белолюбский назвал имя, отчество и фамилию "связника", рассказал, как и где его можно отыскать, сообщил пароль, по которому с ним надо установить контакт.
Белолюбский высказал даже мысль, что при содействии этого человека нетрудно будет встретить Гарри. Грохотов склонен был, после задержания "связника", решить на месте вопрос о возможности использования его. Но "связник", как установили Шелестов и Петренко, за два месяца до этого заболел и умер.
Положить предел всем сомнениям и тревогам, или же, наоборот, усилить их во много раз суждено было сегодняшним суткам: кануну пятницы и самой пятнице.
До прихода первого пассажирского поезда Владивосток-Москва оставалось два с половиной часа. Уже наступила темнота, и в поселке зажглись огни.
Петренко сидел за столом в маленькой, хорошо натопленной комнате и, совмещая обед с ужином, кушал. На столе урчал, поблескивая никелем, самовар, стояла деревянная миска с квашеной капустой, горка свежих беляшей, сливочное масло. Петренко неторопливо разрезал надвое горячие беляши, прикрывал каждую половинку тонким слоем ломкого промерзшего масла и, кушая с аппетитом, запивал сладким дымящимся чаем.
Лейтенант любил покушать и делал это всегда неторопливо, с непередаваемым наслаждением.
А майор Шелестов, заложив руки глубоко в карманы брюк, тут же медленно расхаживал взад и вперед из угла в угол по небольшой комнатушке. В его плотно сомкнутых губах торчала потухшая папироса, которую он изредка машинально посасывал.
"А что если Гарри и сегодня не появится? – думал он. – Каким же образом тогда его отыскать? Где его постоянная резиденция? Кто сможет назвать его фамилию? Ну хорошо, допустим, что Шараборину он известен только под кличкой, – а Белолюбскому? Неужели и Белолюбский ничего не знает? Не может быть. Не верится что-то. Уж не утаил ли Белолюбский от следствия свою осведомленность о Гарри? А может быть, мы уже прохлопали Гарри в среду? Может быть, он уже проезжал Большой Невер, но не владивостокским, а московским поездом? А мы его искали во владивостокском".
– Роман Лукич! – молящим голосом обратился Петренко.
Шелестов остановился, посмотрел на лейтенанта рассеянным взглядом. Он был занят своими мыслями.
– Садитесь, ради бога, за стол, – продолжал Петренко. – Одному и еда не лезет в горло. Честное слово.
Майор посмотрел на уменьшившуюся наполовину горку беляшей и усмехнулся. Нет, лейтенанту нельзя жаловаться на отсутствие аппетита.
– Не хочется что-то, – вяло ответил майор и провел рукой по жесткому ежику седеющих волос.
– А вы через силу.
– Это уже не впрок, – ответил Шелестов. – Кушать надо тогда, когда захочется. Пойду-ка я лучше пройдусь немного по воздуху. Может быть, аппетит нагуляю. А ты поспи. Обязательно поспи. Я зайду за тобой.
Петренко вздохнул:
– Вам бы тоже не мешало вздремнуть, Роман Лукич. Вы ведь, как и я, не спали ночь.
– Ничего, ничего. Молодым сон больше нужен.
Шелестов надел на себя длиннополую тяжелую доху из собачьего меха с большим, нависающим на лицо капюшоном, прихватил меховые рукавицы, закурил новую папиросу и вышел.
Он постоял немного на ступеньках, вглядываясь в темное звездное небо, и зашагал по узенькому переулочку, стиснутому заборами и заваленному снегом.
Колючий ветерок бродил по уснувшему поселку. Мела пороша. Вдоль улицы тянулась колонна автомашин. На скатах побрякивали тяжелые цепи. Шелестов уступил дорогу машинам и сошел на обочину.
Он долго бродил по главной улице из конца в конец, потом заглянул в гостиницу и отправился на станцию.
Там у дежурного он навел справку, не опаздывает ли владивостокский поезд, и, получив ответ, что поезд идет точно по графику, вышел на перрон.
Старик, одетый в большую овчинную шубу, посыпал песком площадку около будки с горячей водой.
В свете вокзальных фонарей переливалась и искрилась снежная пыль. Прогнувшись, свисали отяжеленные снегом провода. Снегом были засыпаны крыши вагонов, платформы и разбегающиеся лучами в стороны железнодорожные пути. На путях в ночной темноте вспыхивали и гасли желтые, красные и белые огоньки.
Шелестов стоял, прислушиваясь к разным звукам. Маленький маневровый паровоз "овечка", кряхтя и посапывая, бойко бегал по рельсам, волоча за собой цепочку вагонов. Когда паровоз скрылся, Шелестов подошел к багажному складу. Со склада вывозили на тележках изготовленные по стандарту аккуратные белые ящички, обтянутые проволокой.
Шелестов бродил по безлюдному перрону, уже ничего не замечая, углубившись в собственные думы.
Он вспоминал погибших инженера Кочнева, дедушку Быканырова, раненого колхозника Очурова и не хотел смириться с мыслью, что Гарри не явится на Большой Невер и минует руку правосудия.
Шелестов сказал самому себе:
"Чего я, собственно говоря, волнуюсь и переживаю? Из-за того, что Гарри не было в среду и в четверг? Но для встречи избраны три дня недели: среда, четверг и пятница. Почему надо обязательно думать, что он должен явиться сюда именно в первый или на второй день, а не на третий? Ерунда какая-то!"
Но и это не успокоило. А потом Шелестов опять стал обдумывать различные варианты, пытался, как всегда в таких случаях, отыскать в собственных действиях что-то неправильное, непродуманное, упущенное, непредусмотренное, что могло повести к срыву встречи.
Пытался, но не находил и сердился на самого себя за наивность и глупость. Мысль о том, что, не зная в лицо Гарри, не имея пароля для связи с ним, он лично идет на риск, сейчас совершенно не занимала его. Волновало одно, что задание может оказаться не выполненным и враг минует его руки.
"Ну… сегодняшние сутки решают все", – подумал Шелестов, посмотрел на часы и с тем же настроением, с каким и вышел, отправился домой.
Петренко спал сном праведника и даже не шелохнулся, когда вошел майор.
– Ничего не поделаешь, придется будить, время не ждет, – сказал Шелестов и громко позвал: – Грицько! Пора, брат…
Лейтенант поднялся не сразу. Вначале он раскрыл глаза, которые, кажется, ничего, кроме недоумения, не выражали, поморгал, осмотрелся и, увидя майора, стоявшего посередине комнаты, быстро сбросил с себя меховой пиджак и вскочил.
– Я и не раздевался, – сказал он, как бы оправдываясь.
– Ну и хорошо сделал, – одобрил Шелестов. – Надевай пиджак, скоро подойдет владивостокский.
Чтобы надеть пиджак, шапку, шарф и рукавицы, потребовалось две-три минуты.
– Оружие? – спросил Шелестов.
Петренко похлопал рукой по боку.
– На ремне, товарищ майор. Все в порядке.
Когда майор и лейтенант подошли к перрону, в радиорупоре объявили, что на второй путь прибывает поезд Владивосток – Москва.
– Пошли, пошли… – и Шелестов взял за руку Петренко.
Они уже изучили за минувшие двое суток станционные порядки и направились к тому месту перрона, где обычно, по их наблюдениям, останавливался спальный вагон прямого сообщения.
Послышался гудок паровоза. Звук повторился в разных концах и рассыпался. Друзья прибавили шагу.
– Будем действовать в прежнем порядке? – спросил Петренко.
– Да, да. Я войду в вагон, а вы сторожите в тамбуре.
Слепя глаза светом ярких фар, окутанный шипящим паром, сдерживая ход, могуче проплыл заиндевевший и залепленный снежными комьями паровоз. За ним потянулись вагоны.
Шелестов почувствовал, как зачастило сердце, и уже машинально ощупал карманы: в правом лежал пистолет с досланным в ствол патроном, в левом металлические наручники.
Не ожидая, пока состав окончательно остановится, майор вскочил на подножку спального вагона и отрекомендовался проводнику.
– Где ваш напарник? – спросил он.
– Спит.
– Тогда идите сами в другой конец вагона, заприте дверь и стойте в тамбуре. Не выпускайте никого из вагона. Абсолютно никого. И без шума. Ясно?
– Так точно, – и проводник исчез.
Дождавшись, когда поезд остановился и рядом оказался лейтенант Петренко, Шелестов прошел через две двери в вагон и в коридоре сразу обратил внимание на мужчину такого же, примерно, как и он, роста, с редкой шевелюрой на голове. Он выделялся среди немногих пассажиров, стоявших у окон, своим унылым длинноносым лицом и синим джемпером, украшенным крупными белыми оленями. Он стоял у открытого купе и внимательно всматривался в Шелестова.
"Интересно, – подумал Шелестов, остановившись и откидывая капюшон. Я его именно таким по описаниям и представлял себе. Это редко бывает. Брать его буду в купе… Здесь люди, неудобно. Нечего поднимать шум. Да кстати поинтересуюсь и его вещами".
Он подошел к Гарри так близко, что тот попятился, и заглянул в купе.
– Свободно? – спросил Шелестов.
– Да-а, – как-то неопределенно ответил Гарри.
– Отлично, – заметил Шелестов и полушепотом добавил: – Если вы Гарри, – заходите сюда. Я без билета. Принес вам кое-что от Оросутцева.
От стерегущего взгляда майора не укрылось, как у Гарри едва заметно дрогнули щеки и в настороженных глазах метнулся и мгновенно угас страх. А может быть это был результат неожиданности.
– Входите, входите… – ответил Гарри, чуть замешкавшись. – Я вас что-то не понял. Я тоже сейчас войду.
"Чего он не понял? – прикидывал в уме Шелестов, войдя в купе и присаживаясь на диван. – Удрать думает, не выйдет…"
Вошел Гарри. Он закрыл за собой дверь, сел напротив и, откинувшись на спину, скрестил руки на груди. Настороженные глаза его обратились к Шелестову. С трудом сдерживая волнение, он спросил:
– Я не понял… что вы мне сказали?
"Кажется, обойдется дело без пистолета", – подумал майор Шелестов и полез в левый карман за наручниками.
Но тут произошло то, чего майор никак не ожидал. Гарри быстро наклонился вперед в нанес два молниеносные удара: левой рукой под солнечное сплетение, а правой – в висок. Удары были до того сильные и точные, что Шелестов, едва издав что-то похожее на стон или вздох, как мешок, повалился на пол.
*
* *
Лейтенант Петренко, дежуривший в тамбуре, с трудом сдерживал свое нетерпение. Он видел отлично, как майор подошел к человеку в синем джемпере, затем вошел в купе, как за ним последовал тот, в ком можно было почти наверно предполагать "Гарри".
– "Наконец-то попалась гадина, – торжествовал Петренко. – Напрасно мы волновались. И все правильно: пятница, владивостокский поезд, без пиджака, в джемпере. А чего же Роман Лукич тянет? Наверное, обыскивает купе. Что ж, это вполне правильно. Может быть и мне пойти на подмогу? Хотя нет, не стоит. Майор не любит инициативу, идущую вопреки его приказаниям. Подожду…"
Паровоз дал гудок.
Петренко открыл первую дверь и посмотрел в коридор. Он был совершенно пуст. Пассажиры отправились на свои места. Из-за противоположных дверей выглядывало лицо проводника.
Состав плавно тронулся с места. Поплыли мимо станционные огни.
"Черт побери, поехали, – подумал с досадой Петренко. – Это уж совсем некстати. Придется на Сковородино сходить. Затянулось дело. Неужели майор принялся его допрашивать?"
Поезд начал ускорять ход.
"Нет, надо пойти. Помогу, – решил окончательно Петренко и взялся за дверную ручку. Он уже хотел открыть дверь, как тут увидел майора, идущего по коридору в своей длиннополой дохе, с капюшоном, опущенным на лицо, с опущенной головой. – Один? Почему один? – обожгла тревожная мысль. Неужели это был не Гарри? Ошиблись? Куда же он, проклятый, провалился?"
Поезд уже громыхал на выходных стрелках.
"Будем прыгать на ходу", – решил Петренко.
Майор вошел в тамбур и, не дав лейтенанту возможности произнести хотя бы слово, резко ударил его в горло. Петренко отшатнулся, едва устояв на ногах, и увидел, как майор, открыв на себя дверь и подобрав одной рукой полы дохи, выпрыгнул на ходу поезда.
Оглушенный на мгновение ударом, Петренко с опозданием сообразил, наконец, что произошло. Сглотнув что-то, комом застрявшее в горле, он с разбегу, не воспользовавшись поручнями и подножкой, бросился из вагона.
Достигнув земли, Петренко не удержался на ногах, упал ничком, зарывшись руками и лицом в глубокий снег. Приподняв голову, он почувствовал, как по телу пробежала дрожь: перед его глазами торчал конец контрольного столба из куска рельсовой стали. Еще несколько сантиметров, и он угодил бы в него головой.
Поезд с грохотом пронесся мимо.
Вскочив на ноги и убедившись, что он цел, невредим и даже не ушибся, Петренко выбрался на железнодорожное полотно. Осмотрелся по сторонам и ничего не увидел. На фоне черного звездного неба и множества скупо высвечивающих огоньков станции и поселка он не обнаружил преступника.
Лейтенант опустился на корточки, всмотрелся пристально назад и лишь тогда нащупал глазами удаляющийся в сторону Большого Невера силуэт человека. Человек шел по путям.
Петренко сбросил с себя меховую куртку, вытащил из кобуры пистолет и бросился вдогонку.
Он бежал и думал:
"Что же случилось с Романом Лукичом? Если Гарри смог вырядиться в его доху, то значит… Не допустил ли я ошибки, оставив Романа Лукича? Возможно, ему нужна помощь? Но теперь уже поздно. Да, поздно. Теперь надо схватить этого…"
Гарри, заметивший погоню, подобрал полы дохи и прибавил ходу.
Когда расстояние сократилось метров до тридцати, Петренко дал выстрел из пистолета и крикнул:
– Стой! Стой!
Гарри побежал еще быстрее. Ему следовало сбросить с себя тяжелую, длиннополую доху майора, которая, конечно, его стесняла, но он, видимо, не догадался этого сделать, а может быть рассчитывал на свои силы и, как бывает часто, переоценил их.
Уйти от молодого, тренированного и бегущего почти раздетым лейтенанта было трудно.
Гарри, как понимал Петренко, пытался поскорее достигнуть станции, рассчитывая, видно, оторваться от преследования и затеряться среди железнодорожных составов на путях. А лейтенант хотел во что бы то ни стало лишить его этой возможности и, напрягаясь, все приближался к нему.
"Я бы на его месте остановился и послал мне навстречу одну-две пули, – подумал Петренко. – Неужели он без оружия?"
Но вот расстояние сократилось шагов до пяти. Гарри понял, что ему не уйти. Он уже давно так не бегал и сейчас, задыхаясь, пожалел, что не сбросил вовремя эту тяжелую доху, которая его теперь погубила. Видя безвыходность своего положения, Гарри решился на уловку и, не сдерживая бега, бросился на шпалы и растянулся. Он хотел, чтобы преследующий его споткнулся и упал, и тогда можно было бы еще померяться с ним силами.
Как Гарри рассчитывал, так и произошло. Петренко наткнулся на него с ходу и потерял почву под ногами. Но одного не мог предвидеть Гарри. Налетев на него, Петренко угодил со страшной силой носком торбаза в глаз Гарри. Тот, готовый уже вскочить, повалился на бок и потерял сознание.
С лейтенантом же ничего особенного не произошло. Зацепившись ногой, он перекувырнулся через голову, отлетев на добрый десяток метров, и тут же, вскочив на ноги, увидел неподвижно лежащего Гарри.
Достав из кармана фонарик и держа наготове пистолет, Петренко приблизился к лежащему.
"Куда же я его стукнул? – спросил он себя, посвечивая фонариком. – Не иначе, как в голову. А в общем, сейчас не время в этом разбираться".
Петренко достал наручники, и через секунду щелкнули браслеты.
*
* *
Стоял яркий, солнечный воскресный день. Такие дни частыми гостями в этих краях бывают лишь с приближением весны. Снег отдавал такой ослепительной белизной, так ярко мерцал под косыми лучами солнца, что надо было или прищуривать глаза, смотря на него, или же надевать очки с предохранительными стеклами.
"Газик-вездеход" мчался по накатанной и расчищенной автомагистрали, побрякивая цепями на задних скатах, и сейчас легко, на второй скорости преодолевал крутизну хребта Холодникан.
Сдав пойманного диверсанта на руки специальному конвою, майор Шелестов и лейтенант Петренко возвращались в Якутск.
В "газике", обитом фанерой и обтянутом брезентом, было, конечно, теплее, чем снаружи.
За рулем сидел Шелестов.
– Вот как оно бывает в жизни, дорогой товарищ Грицько, – проговорил он, уже в который раз вспоминая все детали ночи с пятницы на субботу. – А ведь я, слава богу, не новичок, не первый год работаю и не первый раз встречаюсь с глазу на глаз с врагами. Правильно, оказывается, говорит пословица: "Век живи, век учись".
– Да… – протянул Петренко. – А я вот сейчас думаю, как бы поступил я на вашем месте. Я бы…
– Тут нечего и думать, – прервал его Шелестов. – Надо было, убедившись, что это Гарри (а я был убежден в этом), наставить ему в лоб пистолет прямо в коридоре, и делу конец. Без всяких церемоний.
– Пожалуй, верно, – согласился Петренко и добавил: – И идти нам надо было вдвоем. Тут бы он ничего не придумал и даже не попытался бы.
– Тоже правильно, – заметил Шелестов.
– Ваше счастье, – заговорил опять Петренко, – что он ограничился только этими двумя ударами. Хорошо, что он не воспользовался ножом. Ведь могло быть хуже.
– Хуже некуда, – крутнул головой Шелестов. – Я еще никогда за свою жизнь не попадал в такой просак. Подумать только, как можно опростоволоситься. Буду докладывать полковнику, так он еще, чего доброго, не поверит.
Петренко усмехнулся.
– А к чему такая щепетильная честность?
– Что, что? – спросил майор и покосил глазами на лейтенанта.
Тот продолжил свою мысль:
– По-моему, не обязательно докладывать полковнику все детали. Важно что? Важно то, что приказ его выполнен, и Гарри пойман. Я бы на вашем месте… – и Петренко умолк, почувствовав на себе твердый взгляд суровых глаз майора.
– Вы что это, серьезно? – холодно спросил Шелестов и даже сбавил ход машины, которая уже достигла перевала.
Петренко смутился и не сразу ответил. Он не видел ничего порочного в том, что сказал. Ему очень не хотелось, чтобы майор Шелестов, которого он полюбил, с которого брал пример, у которого учился, как стать настоящим разведчиком, получил из-за своей откровенности какую-нибудь неприятность. Но врать было противно натуре лейтенанта, а потому он ответил:
– Конечно, серьезно, Роман Лукич. Что вы находите в этом плохого? Дело-то от этого уже не пострадает!
Шелестов выдержал паузу, о чем-то раздумывая, и сказал:
– Так вот что, товарищ лейтенант. Запомните: если мне будут предлагать вас в подчиненные, я откажусь. И знаете почему?
Петренко вспыхнул.
– Знаю, товарищ майор. Простите меня. Я ведь от чистого сердца. Я по-дружески предложил. Я никогда в жизни никого не обманывал. Верите?
– Хочется верить, – ответил Шелестов. – И не желал бы в вас разочаровываться. В любом деле, а в нашем особенно, ложь недопустима. Как мне ни неприятно, но я честно расскажу и полковнику Грохотову и всем товарищам о своей ошибке. Моя ошибка послужит уроком для остальных. А кто таит и прячет от коллектива свои ошибки, тот рано или поздно не удержится и от прямого обмана. Поняли?
– Прекрасно понял.
– И еще запомните: прежде всего долг, а потом уже все… и дружба.
– Согласен, товарищ майор.
– На словах согласны, а в душе?
– Тоже, Роман Лукич.
– Хорошо, – одобрил майор, и глаза его потеплели. – Теперь я не откажусь от вас, товарищ Грицько. И мы вместе еще не одного врага выловим…
Преодолев перевал, "газик" на тормозах стал спускаться вниз по врезающейся в таежный массив автомагистрали.
Голубой пакет
1
Стеклянная дверь и оба окна в парикмахерской были распахнуты настежь, и все-таки в небольшом квадратном зале стояла духота, воздух был насыщен густым сладковатым запахом мыла, пудры и одеколона.
Кроме пяти клиентов и пяти потных мастеров, усердно их обрабатывавших, здесь томилось еще несколько человек, ожидавших своей очереди. В большинстве это были местные жители. Ждали они давно: оккупанты — офицеры и солдаты гитлеровской армии — обслуживались вне очереди. Об этом предупреждало объявление при входе.
По стенам были расклеены и другие засиженные мухами объявления на немецком и русском языках. В каждом из них выделялось набранное крупным шрифтом слово «Ферботен!» («Запрещено!»). Это были многочисленные приказы коменданта, полиции и городской управы.
Среди мастеров обращал на себя внимание проворством рук, этакой особой лихостью и чистотой работы сравнительно молодой человек, припадавший на левую ногу, с копной рыжих волос на голове и серыми плутоватыми глазами. Все старались попасть к нему. Он брил и стриг вдвое быстрее и значительно лучше, нежели его собратья.
Это был известный в Горелове парикмахер Степан Заболотный. Жизнь Заболотного началась и проходила в этом небольшом старинном городе. Ранняя смерть отца и болезнь матери привели к тому, что еще пятнадцатилетним мальчишкой он поступил учеником в парикмахерскую.
Правда, раньше Степан мечтал быть геологом. Его влекли широкие просторы, тайга, горы, нехоженые тропы. Ему хотелось пожить под открытым небом. Он бредил экспедициями, открытиями. Степан всей душой любил природу, рвался к ней, но мечты пришлось отложить до лучших дней.
А пока — добросовестный и старательный — он стал искусным мастером своего дела, и это быстро оценили в городе. Его одолевали артисты местного драматического театра, его пытался переманить к себе директор областного дома отдыха для руководящих работников.
Возможно, что Степан и сменил бы свою профессию на студенческую аудиторию, но война с белофиннами помешала этому: комсомолец Заболотный вернулся из госпиталя домой с изуродованной и укороченной левой ногой.
А вскоре по шоссейным дорогам и пыльным большакам родной земли поползли на восток гитлеровские полчища. Тихий Горелов был оглушен грохотом артиллерийской канонады, гулом бомбовых ударов, окружен зловещими огненными сполохами горящих деревень. Гитлеровцы оккупировали городок.
И вот сейчас Степан добросовестно трудился над скудной шевелюрой гитлеровского интенданта, своего постоянного клиента.
Ожидающие со скучными лицами сидели за круглыми столиками, вяло перебирая немецкие газеты и ярко расцвеченные иллюстрированные журналы.
Степан, незаметно взглянув на часы, принялся массировать солидную плешину интенданта. Он бережно расчесал его жидкие, бесцветные пряди, уложил их слева направо и, отойдя в сторону, полюбовался содеянным.
— Гут, — сказал интендант, разглядывая себя в зеркало, и добавил: — Зер гут…
— Пжалста, — заученно ответил Степан и ловким движением снял с клиента простыню.
Интендант встал, застегнул ворот мундира, достал из бумажника новенькую, хрустящую бумажку и положил ее в приоткрытый ящик.
— Ауфвидерзеен, — попрощался он.
— Счастливо, — поклонился Степан.
На свободное место хотел было усесться переводчик городской управы, но Заболотный развел руками:
— Не могу… Прошу прощения… Обед…
Он снял халат, сложил инструменты и, сказав что-то на ухо своему коллеге, покинул мастерскую.
2
Жаркий июньский день стоял над Гореловом. Неторопливой прихрамывающей походкой Степан шагал по тротуару, обходя выбоины и зеленые пятна лебеды, проросшей между плитами. В руках он нес закопченный, видавший виды примус.
На Степане была коричневая сатиновая косоворотка и темно-синие брюки из грубой шерсти. Давно не видавшие утюга, они пузырились на коленях.
Хромота придавала облику Степана некоторую солидность и степенность.
Он раскланивался со своими знакомыми, преимущественное клиентами, насвистывал себе что-то под нос и, не торопясь, шагал.
А как ему хотелось мчаться сейчас очертя голову!
Калининская улица, изуродованная боями сорок первого года, с развороченной булыжной мостовой, полуразрушенными и сожженными домами, вывела его на главную в городе площадь.
Теперь здесь размещались учреждения оккупантов: гестапо, военная комендатура, полиция, городская управа.
Перейдя пыльную, исполосованную глубокими колеями и местами поросшую бурьяном площадь, Заболотный вышел на Почтовую улицу и, миновав квартал, свернул на Базарную.
У длинного красно-кирпичного дома Степан остановился. Между тусклыми, замазанными известкой окнами висела вывеска, изготовленная из листа кровельного железа и оправленная в деревянную рамку:
ГОРОДСКАЯ БАНЯ
Открыта с 8 утра до 6 вечера
(Разрешение Горуправы № 869/3 от 16.X.1941г.)
Под вывеской была раскрыта низкая, почерневшая дверь, ведущая в подвальное помещение дома. Заболотный пригнул голову и шагнул через порог.
Он отлично знал, что вниз ведут одиннадцать крутых, стертых от времени каменных ступенек. Но Степан торопился. Он достиг седьмой, а через остальные перемахнул и едва устоял на ногах.
— Ты что? С ума спятил? — раздался низкий хрипловатый голос истопника, стоявшего у верстака.
Пожилой, грузный, в безрукавке и испачканном переднике, он держал в руке молоток, с помощью которого прилаживал к старому оцинкованному ведру новую дужку. Крупную голову его венчала копна густых, черных, но уже сильно тронутых сединой волос. Изжелта-седые усы свисали на губы. Резкие морщины бороздили хмурое лицо и крутой лоб. Это был истопник бани и руководитель городского подполья Чернопятов.
Заболотный возбужденно провел рукой по своей рыжей шевелюре, оглядел беглым взглядом котельную и шагнул к истопнику вплотную. Держа в одной руке примус, он другой горячо сжал плечо Чернопятова.
— Григорий Афанасьевич! Чепе! Только радостное! Нужно немедленно действовать! — выпалил он, не переводя дыхания.
Истопник нахмурился.
— Тише ты! Можешь говорить спокойно? Сколько я тебя учил. — Он склонил голову и на всякий случай поглядел в дверной проем. — Какое там чепе?
Степан бросил примус на верстак и сказал уже более спокойно:
— Завтра утром через город пройдет машина из ставки Гитлера… — и он пытливо посмотрел, какое впечатление произведет на Чернопятова сказанное.
Чернопятов недоверчиво приподнял брови и продолжал сгибать до нужного положения железную дужку ведра.
— Дальше… — только и сказал он.
— На машине едет специальный курьер или нарочный, бес его знает, с почтой для командующего танковой армией фронта, — продолжал Степан.
Чернопятов повернул голову, внимательно взглянул на Заболотного и спросил:
— Откуда ты такого нахватался?
— Ко мне только что заходил Скиталец.
Чернопятов поставил ведро на верстак и вытер руки о передник.
— Скиталец? — переспросил он, скрывая за вопросом возникшее беспокойство.
— Да! — горячо подтвердил Степан. — С ним на квартире живет унтер-офицер из комендатуры.
Чернопятов кивнул. Да, это было известно.
— Так вот, — продолжал Заболотный, — вчера, поздно вечером, унтер рассказал ему, что машину приказано встретить и обеспечить охраной на дальнейший путь. Выпили они с унтером, и тот расхвастался, что назначен в охрану курьера. Под пьяную лавочку выболтал, каким маршрутом пойдет машина, где назначены остановки, где будут заправляться. Все…
— Да… интересно! — задумчиво проговорил Чернопятов, и угрюмость его будто рукой сняло. — Если действительно все верно, то случай редкий…
— Уж куда интересней! — обрадовался Заболотный.
— Так, так… — вымолвил Чернопятов, разглаживая усы. — На машинах почту из ставки возят… Значит, осмелели господа нацисты. Пронюхали, видно, что партизаны наши ушли в дальний рейд. Очень хорошо… А что еще сказал Скиталец?
— В пять часов, после дежурства, он придет в баню. В штатском. И будет вас ждать.
— Ага… Ладно.
— Ну, я побегу, — сказал Заболотный. — Клиентов много.
Чернопятов посмотрел на него исподлобья, помолчал немного и затем проговорил:
— Больно шустрый ты! Смотри, поаккуратней… Как стемнеет, загляни на всякий случай к Митрофану Федоровичу.
— Есть! — ответил Степан и в два прыжка выскочил по щербатым ступенькам наверх.
Чернопятов проводил его взглядом, перевел глаза на верстак и, увидя забытый Заболотным примус, усмехнулся:
— Тоже мне конспиратор…
Он постоял немного, а потом в раздумье зашагал взад и вперед по большим каменным плитам котельной.
Котельная помещалась в длинном, закопченном подвале с сырыми, в подтеках, стенами. Дневной свет проникал сюда через открытые двери и небольшое окошечко над верстаком. Под сводчатым бетонным потолком висела запыленная электрическая лампочка. Она давно уже не горела: энергии только-только хватало самим оккупантам.
Правую сторону подвала занимали два горизонтальных котла, половину стены, слева от входа, — деревянный верстак с закрепленными на нем параллельными тисками, заставленный железными и эмалированными ведрами, тазами, кастрюлями, жаровнями, примусами и керосинками.
Баня работала два раза в неделю, и истопнику разрешали подрабатывать в свободное время на ремонте домашней утвари.
В самой глубине подвала вдоль узкой стены стоял топчан, покрытый грубошерстным одеялом, а над ним висело что-то ободранное и облезлое, ранее именовавшееся ковром.
Чернопятов расхаживал, погрузившись в свои мысли. В котлах глухо бурлила вода. Сегодня баня работала.
Потом, видимо, придя к какому-то решению, Чернопятов шумно выдохнул воздух, подошел к крайнему котлу и привычным движением ловко откинул голой рукой накаленную дверку.
В лицо ему полыхнул жар.
Окинув взглядом топку, подернутую фиолетовыми язычками пламени, Чернопятов взял совковую лопату и, черпая ею уголь, наваленный тут же между котлами, сделал несколько бросков.
Захлопнув дверку, он снова уставился на верстак и, покачав головой, обронил:
— Гляди-ка! Даже примус забыл!
3
Шоссейная дорога, покрытая мелкой желтой щебенкой, узкой полосой убегала в лес. Вплотную к ней высокой стеной подступали деревья. Местами они отбегали в сторону, и тогда слева и справа от дороги расстилался веселый зеленый ковер, прошитый нежными, неяркими полевыми цветами.
Стояло теплое раннее утро, омытое прохладной росой, освещенное ласковым июньским солнцем.
По лесной дороге быстро бежала штабная легковая машина.
Солдаты охраны сидели в напряженных позах, держа в руках автоматы. Худосочный лейтенант, начальник охраны, сидя рядом с водителем, поглядывал по сторонам. Он чувствовал себя не очень хорошо. Он не любил поездок по загадочно молчаливым лесным дорогам. Правда, в штабе говорили на днях, что партизан здесь уже нет.
Их или выкурили отсюда, или сами они куда-то ушли. Майор Шмальц даже на охоту рискнул два раза выехать. Но кто знает… Россия такая страна, а русские такой народ…
Всю дорогу лейтенант молчал, боясь пропустить малейший звук.
Курьер спал, привалившись к спинке сиденья, надвинув фуражку с огромным козырьком на глаза, и его выпяченные вперед губы издавали тихий свист. Он спал, не чувствуя, как подбрасывает машину на неровностях дороги.
Водитель сосредоточенно вглядывался в дорогу. Это был его первый рейс в здешнем районе, и местность была ему незнакома. Раньше он водил машину, обслуживавшую «зондеркоманду», в районе Минска. Заметив вдали какие-то серые строения, он спросил лейтенанта:
— Горелов?
— Рано, — ответил тот и поднес к глазам цейсовский девятикратный бинокль.
Машина спустилась в ложбину, и домишки скрылись.
Лейтенант раскрыл лежавшую на коленях планшетку и всмотрелся в карту, заложенную под целлулоид.
— Деревня Лопухово, — проговорил он. — До Горелова тридцать два километра…
Водитель поерзал на месте и, выражая нетерпение, сказал:
— Воды надо бы долить в радиатор, а то закипит.
— В Лопухове есть колодец, — ответил лейтенант, и этот ответ прозвучал как разрешение сделать остановку.
Машина выскочила на взгорок, и деревня открылась как на ладони. Ее рубленые почерневшие от времени и замшелые избы с взлохмаченными камышовыми крышами были рассыпаны по обе стороны дороги. Многие печально и грустно глядели темными, пустыми проемами окон и дверей. Кое-где они были заколочены досками.
Колодец стоял посреди деревеньки, с левой стороны по ходу машины, около столетней вербы с длинными, струйчатыми ветвями.
Машина сошла на обочину, легко перевалила через отлогий кювет и остановилась у самого колодца.
Лейтенант первым выскочил из машины и объявил:
— Сорок минут на заправку машины и завтрак.
Столичный курьер проснулся. Приняв вертикальное положение, он некоторое время недоуменно осматривался, пытаясь понять, как сюда попал, а потом зевнул, потянулся и полез в карман за сигаретами.
Пока водитель наливал в бак бензин из последней канистры, лейтенант приседал и неуклюжими движениями разминал затекшие от долгого сидения журавлиные ноги.
Солдаты, раздевшись до пояса, шумно резвились возле колодца. Один из них, держа в руках ведро, выплескивал на остальных воду, а те, дико гогоча, прятались друг за друга. Приняв «душ», они разостлали под вербой брезент, выложили консервы, хлеб, сахар, поставили громадный термос с кофе и, громко переговариваясь, приступили к завтраку.
К их компании присоединились курьер и водитель. Первый внес в общий котел банку ананасов и коробку сардин, а второй — темный кусок жирной отварной свинины.
И никто из них не заметил, как босоногий подросток вывел из крайней избы старенький дамский велосипед, уселся на него и, энергично заработав ногами, скрылся в лесу.
Лейтенант занимался своим делом. Сняв мундир и став в таком виде еще худее, он вымылся у колодца, затем извлек из машины офицерский плащ, небольшой черный с желтой окантовкой чемоданчик и направился к вербе.
Расположившись чуть поодаль от компании, он достал из чемоданчика два яйца, баночку со сливочным маслом, кусок голландского сыра, хлеб, кружок колбасы домашнего приготовления и плоскую флягу, обернутую сукном.
Белые, покрытые веснушками руки лейтенанта заработали. Он аккуратно отрезал четыре ровных тоненьких ломтика хлеба, помазал их сливочным маслом и прикрыл пластинками сыра.
Потом не спеша снял скорлупу с яиц, разрезал их пополам, посолил и положил рядом с бутербродами. Колбасу он предварительно понюхал, а затем уже отрезал от нее несколько кусочков. Все, что было не нужно, он упрятал в чемоданчик, потом отхлебнул из фляги и приступил к еде. Ел он неторопливо, тщательно пережевывая, отгоняя рукой налетавших мух.
Солдаты, быстро набив желудки, занялись анекдотами. Над тихой деревней покатился громкий смех.
— Кто хочет посмотреть многодетную мать? — крикнул курьер, показывая рукой на дорогу.
Все повернули головы. Деревенскую улицу переходила небольшая гладкошерстная сука со страшно выпирающими на боках ребрами, а за нею вслед, налетая друг на друга, урча и кувыркаясь, плелось семеро разномастных и крохотных беспокойно-веселых щенят.
Заметив людей, сука в нерешительности остановилась, потянула носом и присела. В ее влажных черных глазах засветилась голодная тоска.
Лейтенант проглотил прожеванный кусок и, зацокав языком, поманил собаку к себе.
Та виновато повертела головой, поднялась, отошла на шаг и вновь села.
— Цуца!… Цуца!… — звал ее лейтенант.
Собака не двигалась.
— Осторожная, дрянь, — сказал курьер.
— Понимает, что нерусские, — добавил водитель и швырнул в нее пустой консервной банкой.
Собака отскочила в сторону, поджала хвост и вновь присела.
— Не так, — заметил один из солдат.
Он взял хлебную корку, полил ее водой из термоса и, круто посолив, бросил собаке.
Та жадно схватила корку на лету, щелкнула зубами, но тут же бросила, затрясла головой и зачихала.
Солдаты захохотали.
Собака продолжала стоять, несмотря на попытки людей подманить ее. По давней, извечной собачьей привычке она ждала, когда насытившиеся двуногие уйдут прочь, и тогда она безнаказанно воспользуется ничтожными остатками их обильной трапезы.
За избами послышался шум автомобильных моторов. Через деревню со стороны Горелова промчались четыре грузовые автомашины с высокими, обтянутыми брезентом кузовами.
Лейтенант встал, посмотрел на часы и, убедившись, что сорок минут растянулись до часа с лишним, отдал команду:
— Быстро собираться!
Солдаты встряхнули брезент, оделись, закурили и стали усаживаться в машину.
Когда люди отошли, собака трусцой направилась к вербе, за нею устремились и щенята. Мать, многочисленного семейства, виляя хвостом, начала подбирать хлебные корки, колбасную кожуру.
Водитель включил мотор, но, увидев вдруг поднятую руку лейтенанта, не тронул машину. Лейтенант вынул из кобуры массивный парабеллум, уселся поудобнее, уложил ствол пистолета на согнутую в локте руку, прищурил левый глаз и плавно нажал на спусковой крючок.
Выстрел оказался на редкость точным. Пуля угодила собаке в ухо и вышла насквозь. Сука даже не взвизгнула. Передние ноги ее сразу подломились, она ткнулась носом в землю и вытянулась. Кончики задних лап легонько вздрогнули.
Курьер захлопал в ладоши:
— Браво! Ловко, господин лейтенант! Глаз у вас хороший!
Водитель нажал педаль сцепления, включил скорость, и машина тронулась.
Щенята, вначале испуганные выстрелом и метнувшиеся в сторону, теперь пришли в себя. Мать их лежала спокойно, как лежала много раз. Казалось, нечего было бояться. Они подбежали к ней, начали тыкаться мордочками и принялись сосать еще не успевшее остыть и свернуться теплое молоко.
4
Километрах в восьми от Горелова шоссейную дорогу пересекала небольшая, но глубокая речушка. Через нее был перекинут мост на деревянных сваях.
Строили мост задолго до войны и ни разу не ремонтировали. Сваи почернели, покрылись мхом, перильца обвалились, поперечные доски «играли» под колесами на все лады.
Речушка выбегала из леса и вновь уходила в него. Ее темно-зеленые и почти неподвижные воды укрывал высокий, в рост человека, камыш.
Курьерская машина легко взяла подъем, перевалила через него, спустилась на выключенной скорости к мосту и, взвизгнув тормозными колодками, внезапно остановилась. Посреди моста торчал воткнутый между бревен березовый шест, к которому был привязан большой кусок фанеры с надписью:
Halt!
Verkehr gesspert!
3 km. veiter rechtsfahren! [19]
Гитлеровцы многозначительно переглянулись.
— Мина! — высказал предположение один из солдат.
— Вполне возможно, — поддержал второй. — Ничего в этом нет удивительного.
— Или неисправен, — заметил курьер.
— Сворачивай! — отдал команду лейтенант и, достав планшетку, обратился к карте.
Водитель с досадой почесал затылок, осадил машину назад и спустил с насыпи. Колеса запрыгали по ухабам и горбатым колеям лесной дороги.
Всмотревшись в карту, лейтенант отыскал мост, тоненькую красную нитку (дорогу), уходящую вправо, и нитку немного пожирнее, голубого цвета (речушку). Они вились рядом, как бы прижимаясь друг к другу.
—Дорога идет вдоль реки, — изрек лейтенант, — а переправы я не вижу.
Курьер ухмыльнулся и не без удовольствия кольнул начальника охраны:
— Переправы — дело временное и на картах не обозначены. Через три километра вам представится возможность ею полюбоваться.
Когда штабная машина скрылась в лесу, из камыша вышел Степан Заболотный. Штаны его были засучены выше колен, на плечах болтались туфли, связанные шнурками. Он огляделся, прислушался. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц.
Припадая на левую ногу, Степан быстро, как только мог, выбежал на мост, выдернул шест с куском фанеры и зашвырнул его в камыши.
— Движение открыто! Пожалте бриться! — сказал он с усмешкой и торопливо скрылся в лесу.
5
Машина тем временем пробиралась вперед. Дорога жалась к речке. Справа к ней подступал лес, мрачный, неподвижный. Гитлеровцы приумолкли. Лесная сторожкая тишина действовала угнетающе. Они сидели в напряженных позах, крепко держа автоматы и ручные пулеметы, и водили глазами по сторонам, ловя малейший шорох.
Подходил к концу второй километр. Дорога становилась все глуше, то уводя машину глубже в лес, то прижимаясь к реке и повторяя ее изгибы. Никакого намека на переправу не было.
Лейтенант снова вытащил планшетку и долго мигал над нею белесыми ресницами: дорога километра через два забирала вправо от реки и вела к леспромхозу.
Лейтенант спрятал планшетку и, скосив глаза, взглянул на счетчик: уже перевалило за третий километр. Ему стало не по себе. Не то чтобы его охватил страх, но к сердцу подступала какая-то смутная тревога.
— Когда же кончится этот проклятый объезд? — зло выкрикнул водитель, нарушив общее молчание.
И тут заговорили все сразу.
—Дорожники на глазок прикидывают, — усмехнулся курьер бодрясь.
— Черт бы их побрал! — выругался водитель.
— Все, наверное, через мост чешут, — высказал предположение один из солдат, — а мы сюда сунулись. Смотрите, ни одной встречной не попалось, и колея мало наезжена.
— И то верно, — согласился второй. — Надо было осмотреть мост и ехать помалу. Те, что через деревню ехали, так и сделали, наверное…
— Где вы раньше были, умники? — огрызнулся водитель.
— А место, место-то какое проклятое, — сказал третий солдат. — В такой чащобе, чего доброго…
Но его грубо оборвал лейтенант:
— Замолчать! Что за паника? Почему проклятое? Чудесное место.
Все снова притихли. Машина вскарабкалась на крутую горку и легко покатилась вниз. Между дорогой и рекой узенькой полоской потянулся орешник.
— Да, — протянул с ехидцей курьер, — чудное местечко!… Только я бы…
Он не успел досказать: под машиной что-то треснуло, с ходу она нырнула вниз, ударилась передком в плотную земляную стену и перевернулась набок.
— Огонь! — раздалось по-русски из-за ближайшего куста.
И тут же из зарослей орешника брызнула автоматная очередь, щелкнули пистолетные выстрелы, треснуло дробовое ружье центрального боя и в заключение ухнула самодельная граната.
И вновь стало тихо.
Шесть подпольщиков выбежали из чащи к глубокой яме, куда нырнула машина, стараясь заглянуть в нее. Никто из врагов не подавал признаков жизни.
— Похороны по первому разряду, Григорий Афанасьевич! — усмехнулся молодой веснушчатый парень в соломенном капелюхе.
— А ну-ка, сигай сюда, Тимошка, — приказал ему Чернопятов. — Пощупай, как они себя чувствуют. Только осторожно, гляди! Петро! Федор! — обратился он к двум другим. — А вы поищите почту да соберите оружие. Живо!
Трое партизан спрыгнули вниз.
— А их вытаскивать не будем, — проговорил Калюжный, имея в виду убитых гитлеровцев.
Чернопятов усмехнулся.
— Пусть на машине так и едут в свой рай без пересадки…
Большой желтый портфель нетрудно было заметить: конец его торчал из-под тела курьера.
Один из подпольщиков вытащил портфель и бросил его Чернопятову:
— Не это ли?
Чернопятов схватил портфель налету, кинжалом оборвал его крышку, и на землю высыпались газеты, письма и большой пакет из плотной голубой бумаги, прошитый, осургученный и опечатанный.
Строго секретно
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ.
ИЗ ВЕРХОВНОЙ СТАВКИ.
В случае опасности захвата противником — уничтожить.
Командующему Н-ской бронетанковой армией генерал-лейтенанту
Отто-Фридриху Шторху.
ТОЛЬКО В ЛИЧНЫЕ РУКИ.
Так гласила немецкая надпись на пакете.
— Все, — крикнул Чернопятов. — Соберите бумаги и оружие! Ни одного листика не оставлять!
Трое выбросили наверх из ямы два легких пулемета, пистолеты, автоматы, вылезли и подошли к Чернопятову. Он сидел на корточках и, перебирая письма, читал вслух адреса. Товарищи слушали.
Никто не заметил, как поднялся немецкий лейтенант. Он протянул руку к лежавшему рядом парабеллуму и, уставившись страшными глазами на подпольщиков, схватил пистолет. Сухо щелкнул выстрел.
Тимофей, стоявший ближе всех к яме, покачнулся, взмахнул рукой и упал, не издав ни звука. Пуля угодила ему прямо в затылок.
Лейтенант дико захохотал. Чернопятов вскинул автомат, прогремела короткая очередь…
Подпольщики подбежали к яме: лейтенант лежал, откинувшись на спину. На лице его окаменела гримаса смеха.
Чернопятов повернулся, приподнял Тимофея, но тот валился из рук.
Подпольщики в молчании сняли шапки.
— Эх, растяпы! — в сердцах проговорил Чернопятов, опуская мертвое тело товарища на землю. — Какого хлопца потеряли…
— Да… — глухо уронил Калюжный.
— Засыпайте яму, — махнул рукой Чернопятов. — Пора уходить…
Чернопятов к любой боевой операции — малой или большой, легкой или трудной — подходил всегда одинаково серьезно, вдумчиво, расчетливо. В этом сказывался склад его дисциплинированной натуры. Он заранее пытался учесть все шансы «за» и «против», подсчитать плюсы и минусы, представить, как будут развертываться события.
И сегодняшняя операция не являлась исключением.
Каждый подпольщик, идя на нее, заранее знал, что от него требуется.
Почти все участники налета на машину провели ночь без сна. Казалось, чего проще: забраться в лес, вырыть «волчью» яму, замаскировать ее и ждать. Но так лишь казалось.
Чтобы это сделать, надо было прежде всего выбрать наиболее подходящее место для ямы; быть твердо убежденным, что машина пойдет именно этим путем; вынести из тайников, разбросанных в лесу, оружие; наконец, выбраться из города, не попав на глаза бдительных патрулей.
Предупрежденные Скитальцем патриоты знали главное: откуда, куда, каким маршрутом следует специальная машина, численность ее охраны. Но этого было еще недостаточно.
Вставало много вопросов. Их надо было решить в течение полусуток, и подпольщики их решили.
Теперь следовало устранить все следы операции, что имело огромное значение, и этим подпольщики занимались.
6
В полдень прошел короткий, но сильный дождь, и сейчас по умытому, нежно-голубому небу торопливо и вразброд бежали запоздалые облака. Ярко светило солнце.
Начальник местного отделения гестапо стоял у открытого окна, выходящего на городскую площадь, и наблюдал, как стекала вода с тротуара, как оживала площадь.
Зазвонил настольный телефон. Гауптштурмфюрер отошел от окна, снял трубку. Говорил военный комендант города майор Фаслер.
— Сегодня в шесть утра ко мне должна была прибыть машина со специальным курьером, идущая к фронту. Сейчас начало первого, а ее нет.
— Чем могу быть полезен я, любезный майор?
— Как вам сказать… Не думаете ли вы, что с ней могло произойти что-либо в дороге?
— Поломка? Задержка?
— Это ерунда.
— А что бы вы хотели?
— Хм… Я бы хотел, чтоб она пришла вовремя. Я должен сменить охрану и отправить машину дальше. Но ее нет. Не произошла ли авария? Преднамеренная, так сказать, авария?…
— Что, что? Преднамеренная авария?
— Вот именно.
— На своей территории я исключаю возможность аварии и диверсии. На дорогах спокойно и проверено. Партизаны орудуют далеко от наших мест.
— Тогда что же предложите мне думать, господин гауптштурмфюрер?
— Не понял.
— Я спрашиваю вас, что мне думать? Машина в начале седьмого выехала из деревни Лопухово, а в Горелов до сих пор не прибыла.
— Откуда вам известно, что она миновала деревню Лопухово?
— Я посылал туда двух мотоциклистов. Только что они вернулись и стоят передо мной. Опрос жителей дает основание думать, что машина прошла деревню. Алло! Вы меня слышите?
— Да, да… Сейчас я к вам подъеду.
Гауптштурмфюрер положил трубку, вновь снял ее и вызвал машину из гаража.
7
Под вечер прошел небольшой «слепой» дождь, второй за день.
Угасли краски заката. Наступили сумерки.
В подвал, где помещалась котельная, свет и днем проникал слабо. Сейчас здесь было почти темно. Чадившая на верстаке керосиновая лампа с лопнувшим стеклом скудно освещала часть комнаты.
Чернопятов закрыл двери и сидел, задумавшись, на топчане.
Он был доволен прошедшим днем. Утренняя операция удалась, группа благополучно вернулась из леса, и, если бы не гибель Тимофея, все было бы хорошо. Но вот Тимофей…
Чернопятов и его друзья ясно сознавали, что в их борьбе с врагом жертвы неминуемы. Но все же гибель товарища всякий раз казалась неожиданной, нелепой, случайной и оставляла в сердце глубокий, неизгладимый след.
Городское подполье было невелико, но представляло собой сплоченную и хорошо законспирированную организацию. Участники подполья жили в самом городе и для прикрытия своей нелегальной деятельности где-то и кем-то служили и работали. Это давало им самим и их семьям возможность хотя и впроголодь, но все же жить. Оккупанты крепко чувствовали удары патриотов и отлично понимали, что небольшой город, в котором они хотели бы считать себя полными хозяевами, не покорен и оказывает сопротивление.
Подпольщики не распыляли своих сил. Они работали целеустремленно, не хватаясь за то, что казалось более легким и удобным. Связанные по радио с фронтом, они подчиняли его задачам всю свою полную опасности и постоянного риска боевую работу. Это была сильная сторона подполья. Но было одно обстоятельство, осложнявшее дело: в районе города сейчас не имелось партизанской базы. Партизанский отряд под командованием Новожилова, сформированный в лесах Гореловского района, в мае ушел в дальний рейд и действовал сейчас на жизненно важных коммуникациях противника.
Город Горелов стоял в стороне от главных магистралей. До войны в нем насчитывалось не более сорока тысяч жителей. Кроме небольшой мебельной фабрики, железнодорожного депо, электростанции, кирпичного завода и нескольких артелей промкооперации, здесь не имелось никаких других промышленных предприятий. В военном отношении город не мог служить опорным пунктом для гитлеровцев, но зато в нем разместилось много тыловых, хозяйственных и полицейских учреждений оккупантов. Фронт предложил городским подпольщикам сосредоточить внимание именно на этих учреждениях.
Подполье насчитывало теперь двадцать семь человек, разбитых на шесть не зависимых одна от другой групп. Каждая группа возглавлялась старшим, и только старший встречался с Чернопятовым. Остальные могли лишь догадываться, что во главе всей организации кто-то стоит.
Начало подполью в Горелове было заложено горкомом партии еще до оккупации, когда линия фронта приблизилась к городу. Дело это доверили местному старожилу, крепкому, испытанному человеку Калюжному. А тот в свою очередь в помощь себе привлек комсомольца парикмахера Заболотного.
История же появления в городе Чернопятова такова. Он был кадровым офицером Советской Армии и перед войной командовал стрелковым батальоном одной из частей, входивших в Н-скую армию. Эта армия в числе первых приняла на себя удары гитлеровских полчищ в начале войны. Отрезанная от фронта, она в течение двух месяцев дралась в тылах врага, упорно пробиваясь на восток.
Она громила гитлеровские гарнизоны, автоколонны на шоссейных дорогах, аэродромы и базы оккупантов, поднимала на воздух мосты и склады противника, пускала под откос железнодорожные эшелоны. Она шла через дремучие леса Белоруссии, через топкие болота Полесья, форсировала многочисленные водные преграды и, где бы ни встречала врага, навязывала ему бой. Однако ряды армии редели. Настало время, когда из нее с трудом можно было сколотить только полк. От батальона Чернопятова уцелело шесть человек.
Остатки армии расположились на отдых в лесу, в четырех километрах от Горелова, находившегося в руках гитлеровцев. Ночью командование связалось по рации со штабом фронта. Был получен приказ: обойдя Горелов, пробиваться дальше на восток, выйти на Н-ский участок фронта. Начальнику разведывательного отдела армии подполковнику Бакланову было предписано направить в Горелов толкового офицера разведчика, который, связавшись с Калюжным, должен был наладить сбор и передачу разведывательных сведений для штаба армии и фронта.
Перед подполковником Баклановым встал вопрос: кого послать? Почти все офицеры разведчики или погибли, или заменили погибших в строю солдат.
Выбор пал на Чернопятова. Надо сказать, что многим выбор этот показался неудачным. Среди уцелевших офицеров были люди значительно моложе его, более энергичные и сами горевшие желанием остаться на нелегальной работе в тылу противника.
Чернопятов сносно объяснялся по-немецки, но некоторые из офицеров владели языком лучше. Чернопятову был немного знаком город Горелов: в двадцать пятом и двадцать шестом годах он работал там инструктором допризывной подготовки. Но в политотделе армии был офицер, родившийся в Горелове и проживший там пятнадцать лет.
В характере комбата проглядывали черты, которые можно было бы отнести к отрицательным: он отличался медлительностью, из-за чего у него не раз возникали стычки с командиром полка; он любил по всякому поводу и даже без повода побрюзжать, вызывая этим раздражение у товарищей; на партбюро возникал разговор о его не совсем безразличном отношении к спиртному.
— Что же вы нашли в нем? — спросили подполковника Бакланова.
— Я знаю этого человека с восемнадцатого года.
— И все?
— Пожалуй, все.
— И вы уверены в нем?
— Как в самом себе.
— Но ведь он не согласится…
— Согласится, — ответил Бакланов.
И он был прав: Чернопятов согласился и в дождливый ноябрьский вечер тысяча девятьсот сорок первого года в обычной гражданской одежде, имея в памяти явку на квартиру Калюжного, появился на улицах Горелова.
Горелов был наводнен оккупантами. Здесь стояли пехотинцы и кавалеристы, летчики и танкисты, артиллеристы и саперы. Шло укомплектование новых частей и пополнение старых, потрепанных в боях. Формировались в спешном порядке и отправлялись на фронт маршевые батальоны. Повсюду были понатыканы пулеметы, пушки, минометы, улицы были запружены танками, бронемашинами, тяжелыми грузовиками.
С первых же шагов Чернопятову не повезло. Пробираясь на квартиру к Калюжному, он напоролся на ночной патруль и был обстрелян. Несмотря на ранение, ему удалось уйти. Истекая кровью, он метался по незнакомым дворам, перебегал улицы, перелезал через изгороди и заборы и лишь в каком-то маленьком садочке повалился на землю. Силы покинули его…
Чернопятов пришел в себя утром на чьем-то чердаке. Нога его оказалась перевязанной. Скоро на чердак заявился вихрастый, курносый паренек лет шестнадцати, назвавший себя Костей.
Рана была не очень опасная, но Чернопятов чувствовал себя плохо. Поднялась температура, появилась хрипота. Мать Кости поняла, что у раненого воспаление легких. Трудно сказать, выдержал ли бы его организм в жестокой схватке со смертью, если бы не этот паренек Костя и его мать.
Только перед новым, сорок вторым годом капитан Чернопятов почувствовал себя окончательно выздоровевшим и встал на ноги. Костя помог Чернопятову разыскать Калюжного, а уже потом, через Калюжного, капитан связался и с Заболотным.
В начале сорок второго года Калюжный устроил Чернопятова истопником в баню. Когда-то, в юношеские годы, Чернопятов работал истопником в Тамбове у частного владельца городской бани. Теперь это неожиданно пригодилось.
Минул год. Чего только не пришлось испытать за это время! Вначале успехи были невелики, а горя людского повидали много. Силы подполья приходилось собирать по крохам, осторожно, обдумывая и проверяя каждый свой шаг. Постепенно группа крепла, удары по врагу становились все более смелыми. Часто в тиши и мраке ночи, согреваясь собственным дыханием под грубым одеялом, Чернопятов пытался мысленно представить себе день, когда выйдет из вагона поезда на тамбовском вокзале и с вещевым мешком за плечами придет на знакомую улицу.
Он не будет предупреждать о своем приезде ни письмом, ни телеграммой, появится неожиданно, тихо подойдет к заветному и уже ветхому домику, построенному еще руками отца, откроет ключом, и сейчас хранящимся в его кармане, знакомую до мельчайшей щелки дверь и скажет:
— Вот я и пришел!… Живой и здоровый!…
А иногда казалось, что он никогда уже не вернется. Никогда не увидит сына, дочь, жену. Тогда уходил прочь сон, и Чернопятов поднимался утром с мешками под глазами, усталый, разбитый, с горьким осадком на душе…
Маленькая разведывательная группа выросла, и Чернопятов стал руководителем подпольной организации, насчитывающей шесть самостоятельных групп.
Да, подполковник Бакланов знал что делал. Он увидел в Чернопятове не только недостатки, присущие в той или иной мере каждому человеку, но и то, чего не могли уловить другие. Была в Чернопятове эта самая «закваска», как выражался Бакланов. И когда его спрашивали, что надо понимать под «закваской», подполковник неопределенно пожимал плечами. Трудно было это объяснить. Видимо, подразумевалось что-то особенное в характере человека, скрытое от чужих глаз…
…Чернопятов пососал цигарку и сплюнул. Она давно уже погасла. Он хотел было подойти к лампе и прикурить, но услышал за спиной едва уловимый шорох и прислушался. Шорох приближался.
Это не смутило Чернопятова. Он встал, отодвинул топчан и снял со стены старый, измызганный ковер, державшийся петлями на гвоздиках.
Только очень зоркий и внимательный глаз мог различить на сырой, почерневшей стене очертания, узкой и невысокой (примерно по грудь человека) дверцы. Она вела в соседнее, такое же, как и котельная, подвальное помещение, где когда-то до войны размещался засолочный пункт горторга. Отсюда можно было проникнуть в развалины трехэтажного дома, рухнувшего от прямого попадания бомбы.
Руины дома — сплетение искореженных взрывной волной перекрытий, груды спаянного цементом кирпича и обломки железа — давно уже поросли травой. В них очень удачно скрывался почти незаметный, подобный щели, пролом под рухнувшей лестничной клеткой, который вел в подвальные помещения.
Этот ход, сооруженный Чернопятовым с помощью друзей, часто выручал подпольщиков.
Шорохи не прекращались. Кто-то шарил в потемках, пробираясь на ощупь через скрюченные велосипедные рамы, изуродованные колесные ободья, старые обожженные духовки, через различный хлам и лом, которым было забито соседнее помещение.
Но вот стало тихо, и через несколько секунд послышался условный стук.
Чернопятов извлек из кармана массивный медный ключ с узорчатой бородкой, сдвинул хорошо пригнанную к двери планочку, вставил ключ в замочное отверстие и повернул его раз, другой, третий. Дверь открылась бесшумно.
— Шагай, Митрофан Федорович! — бросил Чернопятов в темноту.
Низко пригнувшись, едва касаясь руками пола, в мастерскую влез Калюжный. Он выпрямился в углу у верстака и стал щупать голову.
— Везет тебе, старина! — улыбнулся Чернопятов.
— Не говори… — отозвался Калюжный. — Опять черт угораздил стукнуться башкой об эту перекладину!
Калюжный был старше Чернопятова лет на пять. В организации он стал правой рукой Чернопятова и его первым советчиком. В годы Гражданской войны Митрофан Федорович партизанил на Урале, а в Горелове обосновался с двадцать третьего года. Жил он с женой, тремя дочерьми и сыном-подростком.
Калюжный отличался сердитым, крутым характером, любил, чтобы его понимали с полуслова. Он руководил самой большой группой подпольщиков и, как считал сам, держал ребят в ежовых рукавицах.
Страдая различными недугами, свойственными человеку в его возрасте, Калюжный, тем не менее, был, как никто иной, вынослив. В ходьбе, например, с ним трудно было тягаться. Он был узок в плечах, невысок, свои негустые седоватые волосы неизменно расчесывал на аккуратный пробор. Калюжный не считал себя стариком и сердился, когда Чернопятов называл его «стариной». Но Чернопятов уловил эту слабость и частенько подтрунивал над другом.
Сейчас Калюжный стоял у верстака и, нахмурившись, поводил по сторонам строгими глазами.
— Садись, старина, — пригласил его Чернопятов.
Глазки Калюжного сердито блеснули. Присаживаясь, он недовольно буркнул:
— Далось тебе «старина»! — и тут же спросил: — Разобрался в бумагах? Есть что-нибудь дельное?
— Хе-хе!… — усмехнулся Чернопятов и весело посмотрел на Калюжного. — Ну, ладно… Беру слова обратно.
— Ты скажи, как пакет? — нетерпеливо повторил Калюжный.
— Быстрый ты человек. До чего же быстрый!… Сразу тебе вынь да положь! В пакете, брат, оказались такие бумаги, что у меня чуть ум за разум не заскочил…
Калюжный недоверчиво посмотрел на друга.
— Точно! — подтвердил Чернопятов. — Я читал и глазам не верил. А руки тряслись, будто кур воровал. Ох, и куш мы оторвали!
— Что же там? — сгорал от нетерпения Калюжный.
— Сейчас увидишь… — Чернопятов полез под верстак, отодвинул разную железную рухлядь, вынул из стены кирпич и сунул руку в отверстие. Оттуда он вытащил объемистую стопку бумаг.
Усевшись на прежнее место, он со свойственной ему неторопливостью разложил бумаги на коленях, разгладил их и начал перелистывать.
— Я разобрался только в названиях документов, но и этого довольно. Смотри!
Калюжный схватил бумаги, начал их листать.
— Ничего не пойму… Тарабарщина!
— А ты читай заголовки, — сказал ему Чернопятов. — Под каждым из них я написал по-русски.
Торопливо забегали пальцы Калюжного. Он перекидывал страницу за страницей, вглядывался к карандашные надписи, сделанные рукой Чернопятова, шепотом приговаривая:
— Черт возьми!… Вот это да!…
— Сто семнадцать страниц! — заметил Чернопятов.
— Ужас!… — проговорил Калюжный. — Просто ужас! — Он задумался и продолжал: — Что же нам делать? Если передавать все это шифром по радио, то уйдет полгода…
— Прежде чем передавать, надо их грамотно перевести, а это тоже время.
— И немалое, — согласился Калюжный.
— Да… А дело срочное, — покачал головой Чернопятов. — И перегружать рацию нельзя. Завалим мы Костю. Запеленгуют нас гестаповцы в один момент. Сейчас Костя передает четыре — пять минут два раза в неделю, а если взяться за это… — Он потряс ворохом бумаг перед носом Калюжного и присвистнул.
Калюжный вздохнул:
— Я же говорю, что полгода уйдет.
— Ну, насчет полугода ты маленько загнул, — поправил его Чернопятов. — Я прикинул. Получается два месяца, если передавать ежедневно и по полчаса. Вот она какая штука!
— Пусть два месяца, — согласился Калюжный. — Но кому тогда будут нужны эти документы? На что годны?
— Хе-хе!… Ребятам на самокрутки пойдут в самый раз… — заметил Чернопятов. — Положение хуже губернаторского. Купила баба порося!…
Калюжный задумался, поджав свои тонкие губы.
Чернопятов смотрел на него, тая в седых усах улыбку. Он понимал, что как ни быстр в решениях, как ни опытен в делах подполья Калюжный, все равно вдруг, сразу он не предложит ничего.
Лицо Калюжного выдавало его растерянность.
— Вот же задача, — признался он в своей беспомощности. — Ничего не придумаешь…
— А я вот придумал, — проговорил Чернопятов и весело подмигнул товарищу.
Тот насупил брови.
— Да, придумал, — повторил Чернопятов. Сняв с ноги ботинок, он вытащил из-под стельки сложенный в квадратик листок бумаги, развернул его и подал Калюжному. — Читай! По-моему, это единственный выход.
Калюжный взял листок, исписанный мельчайшим, но разборчивым почерком, и стал читать.
— Молодец ты, Григорий Афанасьевич! Ей-богу, молодец! А ведь мне не пришло это в голову.
— Хе-хе!… А мне пришло перед самым твоим, приходом, — признался Чернопятов. — Согласен?
— Полностью! Только вот что… — Он приложил палец колбу и закрыл глаза, пытаясь что-то вспомнить. — Мы какие явки им сообщали?
— Новые. Одну на Готовцева, вторую — на всякий случай — на меня. Это было в начале мая, когда они собирались прислать человека за деньгами…
— А-а… — вспомнил Калюжный. — За этими немецкими фальшивками?
— Вот-вот…
— Тогда все в порядке, — заявил Калюжный и спрятал листок за околыш кепки. — Завтра в двенадцать ночи депеша пойдет.
8
А в это время к городу подъезжала легковая машина, в которой восседали комендант города и начальник гестапо. Машину сопровождали четыре мотоциклиста.
Когда машина миновала мост через реку, начальник гестапо сказал:
— Как видите, в нашей зоне никаких следов нет.
Комендант вздохнул и ничего не сказал.
Поездка закончилась ничем. Выяснилось, что через деревню Лопухово за одно только утро по направлению к городу прошло десятка три машин. Несколько из них делали остановку в деревне.
Крестьяне на все расспросы отвечали неохотно и уж, конечно, ничего не могли сказать о какой-то особенной машине.
— А не думается ли вам, — вновь заговорил начальник гестапо, — что она не вышла еще с конечного пункта?
Комендант фыркнул:
— Я же телеграмму имею. В том-то и дело, что вышла. Вот куда девалась она, это мне непонятно. Неужели черт их понес проселками?
— Глупость, — заметил начальник гестапо.
— А что вы думаете? — проговорил комендант. — Взяли да и поехали, как короче и быстрее.
— Тогда бы они давно были здесь.
— Пожалуй, да…
Около комендатуры комендант кивнул своему спутнику и вышел. Начальник гестапо поехал к себе.
Не успел он сесть за свой стол, как зазвонил телефон и опять раздался голос коменданта:
— Это я, майор Фаслер… Мне только что вручили вторую шифровку… Машина вышла и должна давно быть у нас.
Начальник гестапо сделал нетерпеливый жест и ответил:
— Но ведь я с вами лично облазил все овраги и кюветы. Вы же сами убедились, что нет следов, ни аварии, ни взрыва.
— Я понимаю… — проговорил комендант. — Но что мне делать? Вы знаете, какое это серьезное дело?
— Знаю. Вы говорили. Но машина — не иголка. Это же машина, с людьми. И, наконец, почему вы не предъявляете претензий полевой полиции, фельджандармерии? Это же их, военное, а не мое дело. Я занимаюсь мирным населением.
В трубке послышался вздох. После короткой паузы комендант проговорил:
— Это ваше «мирное» население хуже открытого врага там, на фронте, — и он повесил трубку.
Начальник гестапо ругнулся.
— Черт знает что! Неужели нельзя было отправить курьера с такими документами по воздуху? А теперь ломай голову!
В дверь раздался стук.
— Войдите! — разрешил начальник гестапо. Вошел молоденький оберштурмфюрер Мрозек, с гладко причесанной шевелюрой, подтянутый, аккуратный, в новехоньком мундире. Представившись, он осведомился:
— Разрешите спросить?
— Что у вас?
— Я вам уже докладывал… Трое суток назад, в середине ночи, в эфире опять появилась неизвестная радиостанция… Мы ее именуем «крот».
— Вы уверены, что это именно та, которую засекли раньше, или новая?
— Смею вас уверить, что та же. Почерк радиста нам уже знаком. Она опять работала всего три минуты и исчезла. Видимо, перешла на прием.
— Ну?
— А эти трое суток не появлялась, хотя дежурство несли беспрерывно.
— Что дала пеленгация?
— Начальник группы заявляет твердо, что радист с рацией скрывается в городе и где-то недалеко от вокзала.
— Все это мне известно и надоело слушать. Вы цацкаетесь с этим «кротом» уже полгода, — и начальник гестапо резким движением переставил с места на место телефон. — Я хочу знать, когда «крот» будет в наших руках. Ясно?
— Точно так.
— О чем вы хотели спросить?
— Продолжать дежурство пеленгаторщиков или сделать перерыв?
Начальник гестапо всплеснул руками:
— Вы или ребенок, или идиот, — проговорил он, сдерживая раздражение. — Каждый день толкуем об этом «кроте», а вы спрашиваете, делать перерыв или нет. Никаких перерывов! К дьяволу перерывы! Усилить группу и дежурить круглосуточно, пока не достанете из-под земли этого «крота». Хватит болтовни!… Идите!…
9
Время близилось к обеденному перерыву. Немногочисленные рабочие депо станции Горелов с нетерпением ждали гудка.
Без пяти двенадцать я вился гитлеровский надсмотрщик, эсэсовец Фалькенберг. Тяжеловесный и неповоротливый, он вошел в депо, остановился у ворот и, заложив руки глубоко в карманы, стал наблюдать. Его маленькие свиные глазки перебегали с одного предмета на другой, в то время как красное квадратное лицо было абсолютно спокойно: не шевелился ни один мускул.
Фалькенберг был жесток и злопамятен и производил тем более страшное впечатление, что почти не разговаривал. Каждый знал, что вызвать его недовольство — значит подвергнуть себя суровой каре. Никто не имел права ни присесть отдохнуть, ни выйти покурить. Пусть это будут только минуты. Категорически, под угрозой избиения, воспрещалось вести не относящиеся к делу разговоры и тем более собираться группами. Никакие доводы во внимание не принимались.
Фалькенберг строго и неукоснительно проводил в жизнь установленные им драконовские порядки. На первый раз виновный лишался на неделю обеденного перерыва и в течение недели же обязан был работать лишний час без оплаты. При повторном нарушении виновник немедленно увольнялся, и никакого денежного расчета с ним не производилось. Все шло в карман Фалькенберга, который выплачивал заработную плату сам. Он не вылезал из депо от начала и до конца работы.
Фалькенберг интересовался, однако, только распорядком и никогда не вмешивался в производство, в котором был полным неучем. Производством ведал мастер Карл Глобке, разрешавший рабочим именовать себя Карлом Августовичем.
Глобке был полной противоположностью Фалькенберга. У них нельзя было отыскать ни одной схожей черты, разве только то, что оба они были немцами и прибыли из Германии.
Старик Глобке, в прошлом сам рабочий, сносно объяснялся по-русски и прекрасно знал свое дело. Он был пунктуален, строг, требователен, но при всем этом справедлив. Он мог терпеливо выслушать рабочего, подать ему совет. Он никогда не сквернословил, не повышал голоса. Были и такие случаи, когда Глобке даже отпускал людей с работы по семейным делам. Его побаивались, как и всякого начальника, но в то же время уважали. Считали неудобным подвести в чем-либо старика Глобке. Поэтому, если выводился из строя станок, портился поворотный круг или ставилась негодная деталь на паровоз, делалось это так, чтобы старик был вне подозрений. Он никак не походил на представителя оккупантов, и рабочие за глаза именовали его Карлуша.
На Фалькенберга Глобке не обращал никакого внимания, как будто эсэсовца и не существовало… Им нельзя было не сталкиваться, не встречаться, но они будто по сговору умели объясняться без слов, жестами. При встрече Глобке молча кланялся, а Фалькенберг молча кивал. Этим дело и ограничивалось.
Без ведома Фалькенберга давать гудок на перерыв и в конце работы не разрешалось, а он старался выгадать каждую лишнюю минуту. И сейчас он стоял неподвижный, подобно живой туше, как бы олицетворяя собой произвол и жестокость оккупантов.
Уже прошла лишняя минута.
Из своей застекленной конторки вышел худощавый, сухонький, как всегда чисто выбритый, с аккуратно повязанным галстуком Глобке.
Он подошел к Фалькенбергу, вынул большие карманные часы и показал их эсэсовцу. Тот молча кивнул и ловко сплюнул в сторону. Глобке повернулся и направился в котельную.
В топке холодного паровоза очищал колосники от нагара подручный рабочий Костя Голованов. Он был голоден и ждал гудка как манны небесной.
Как и многие его товарищи, он воспринимал гудки по-разному. Два гудка: утренний и послеобеденный, призывавшие к работе, раздражали его. Не потому, что по натуре он был лодырь и не хотел трудиться, а потому, что приходилось тратить свое время и молодые силы, работая на оккупантов. Два же других гудка, звавшие на отдых, поднимали настроение, смягчали его злость.
И вот наконец гудок взвыл.
Все бросили рабочие места.
Костя выбрался из топки, быстро спустился с паровоза и отряхнулся от насевшей на него ржавой пыли. Лицо его было черным, только светились белки по-мальчишески озорных глаз и ровные, один в один, зубы.
Он вытирал руки паклей, когда к нему подошел Глобке.
— Как ваши дел, молодой челофек? Когда кончайт? — поинтересовался он, играя концом цепочки от часов.
— Завтра, Карл Августович. Уж больно много нагара.
— Это есть правильно, — согласился Глобке. — Завтра, очшень корошо. Желаю вам приятный аппетит.
Глобке пошел к выходу. Костя следом за ним.
Поравнявшись с Фалькенбергом, Костя поздоровался, хотя отлично знал, что, требуя приветствий, сам эсэсовец никогда не отвечал на них.
Так произошло и сейчас.
«Свинья толстомясая!» — отметил про себя Костя и побежал поперек железнодорожных путей.
Костя жил в районе вокзала и в обеденный перерыв всегда ходил домой.
Дорога шла через виадук, за бетонированным забором, ограждавшим территорию станции, и отнимала тринадцать — пятнадцать минут, поэтому Костя редко пользовался ею, а ходил домой напрямик.
Перепрыгивая через рельсы, он достиг поворотного круга и, лихо перемахнув через высокий забор, оказался на Поперечной улице, от которой до его переулка было рукой подать.
Этот короткий путь требовал всего три — четыре минуты.
Костя замедлил шаг и стал внимательно поглядывать на заборы. На одном он заметил нарисованного неумелой рукой человечка с тонкими, как ниточки, руками и ногами. На туловище человечка можно было разглядеть две цифры: 9—13.
Лишь двое могли понять значение этих цифр: тот, кто писал, и Костя. Никакой шифровальщик не в состоянии был бы разгадать смысл рисунка. Допустим, кто-нибудь понял, что цифра 9 обозначает сегодняшнее число, а цифра 13 — время дня. Ну и что из этого? Могли он воспользоваться своей сообразительностью? Нет!
Дом, где жил Костя с матерью, имел две небольшие комнатушки, переднюю и кухоньку. Белизной своих стен он ярко выделялся из зелени вишневого садика, того самого садика, где в ноябре сорок первого года Костя нашел раненого комбата Чернопятова.
Вбежав в переднюю, Костя позвал:
— Мама!
— Я… Я… — отозвался тихий голос, и из кухни вышла маленькая, худенькая женщина лет шестидесяти.
— Мамочка, скорей теплой воды! — торопливо попросил Костя. — Надо умыться и срочно бежать в город.
Он украдкой взглянул на стол, где его ожидал завтрак: вареная картошка, кусок черного хлеба и стакан молока. Подавив соблазн, Костя скинул спецовку и, вымывшись над тазом, надел выходные брюки, расчесал волосы и торопливо вышел на улицу.
Будучи для своих семнадцати лет мал ростом, Костя шагал широко, размашисто, помогая движению руками, и от этого казался крупнее. Время от времени он встряхивал головой, отбрасывая назад волосы.
«В моем распоряжении сорок пять минут, — мысленно рассуждал он. — Что же получается? Если туда двадцать, да обратно двадцать, да пять минут там, получается сорок пять. Не годится… Надо успеть забежать домой и хотя бы переодеться. Придется поднажать… Неудачное время назначил Митрофан Федорович… Видно, что-то срочное. Не иначе… Он никогда в перерыв меня не вызывал».
Сэкономив пять минут, Костя добрался наконец до лавки, где продавались случайные вещи.
Тут, как всегда, толпился народ. Костя огляделся, обвел равнодушным взглядом полки с товарами, обошел длинное помещение, задержался несколько секунд возле женщин, разглядывавших туфли, и направился к прилавку, за которым стоял, скрестив руки, Калюжный.
— Покажите мне сорочку, пожалуйста, — попросил Костя, — лучше трикотажную.
Калюжный молча, с обычным сердитым выражением и, как показалось Косте, очень медленно повернулся к полке и стал перебирать несколько лежавших на ней разноцветных сорочек. Делал он это с неохотой, будто знал, что покупатель перед ним нестоящий, который только щупает товар и ничего не берет.
А у Кости дрожала от нетерпения каждая жилка, и в душе он поругивал своего старшего за медлительность. Ему хотелось крикнуть:
«Ну давайте, давайте любую, Митрофан Федорович! Вы же знаете, что мне это безразлично, а тянете! Я же опоздаю!…»
По мысленным подсчетам Кости прошло уже минуты три.
Наконец Калюжный выложил на прилавок синюю сорочку и застыл в невозмутимой позе, сложив руки на груди. Костя быстренько развернул ее и, забыв спросить о цене, сказал:
— Эта мне нравится! Беру… Заверните…
Ему почудилось, что в глазах Калюжного промелькнуло что-то вроде укора: эх ты, конспиратор!
Тогда Костя спросил цену и, схватив чек, метнулся к кассе.
«Ну, славу богу! — облегченно вздохнул он, оказавшись на улице. — Еще успею».
Он пуще всего боялся встретить кого-либо из знакомых и потерять на этом несколько минут, а потому шел быстро, опустив голову и не глядя на прохожих.
«Скорее!… Скорее!…» — твердил он себе и ускорял шаг.
Вернувшись домой, Костя развернул покупку и вынул из нее листок бумаги.
Костя был радистом и шифровальщиком одновременно. Он знал то, что другим подпольщикам было неведомо. Через него проходили самые секретные сообщения. Раньше Чернопятова он узнавал предписания разведотдела армии, в его руки попадали для зашифровки явки организации и все донесения о работе подполья. Он был средоточием всех тайн.
И вот еще одна тайна доверена ему. В его руках радиограмма фронту. Она гласила:
Нами захвачена почта из ставки Гитлера в адрес командующего Н-ской бронетанковой армией генерал-лейтенанта Шторха, документы о вновь сконструированном и подготовленном к серийному производству сверхмощном тяжелом танке «дракон». В документах данные — о вооружении, броне, мощности двигателей и маневренности нового танка, инструкция по применению его в бою.
Документы и чертежи занимают сто семнадцать страниц. Передача по радио исключена. Переправить документы через линию фронта нарочным нельзя, рискуем потерять. Предлагаем два варианта:
Первый: высылайте человека по известным явкам, паролям.
Второй: направляйте самолет с посадкой на поляну «К» — условия и сигналы сообщим.
Ваше решение ждем десятого в четыре пятнадцать. Комбат.
Костя так увлекся чтением, что не заметил, как вошла мать.
— Сынок! — вскрикнула она. — А ну-ка взгляни на часы!
Костя повернул голову и обмер: до гудка оставалось четыре минуты.
— Опоздал!
Он свернул листок и подал его матери:
— Спрячь, мама! Хорошенько!…
Когда за Костей захлопнулась калитка, она грустно покачала головой и подошла к висевшей в углу иконе. Пошептав молитву, она перекрестилась, сделала поклон и, протянув руку, спрятала листок под ризу Николая-угодника.
— Сохрани его, Господи! Отведи от него все беды! — проговорила она вслух. — Он же у меня последний…
В это время прогудел гудок.
Мать глубоко вздохнула и устало опустилась на диван.
Брошенная Костей сорочка попалась ей на глаза, и она горько усмехнулась. Сорочка уже трижды появлялась в доме и трижды исчезала. Мать положила ее на колени, начала складывать, и слезы покатились из глаз.
Трех сыновей она родила, выкормила, вырастила, а в живых остался один Костя. Самый младший…
Первый сын умер задолго до войны; второй, телеграфист, погиб при бомбежке станции Горелов в самом начале войны.
Костя был намного младше своих взрослых братьев, с малых лет он относился к матери с особой лаской. И пока не пошел в школу, целыми днями крутился возле нее, помогая и по дому и на небольшом огороде. Соседние мальчишки прозвали его «маменькиным сынком».
Когда он подрос, его забота о матери не уменьшилась. Никакой домашней, даже женской, работы Костя не чурался. Он бегал по рынкам и по магазинам за продуктами, пилил и колол дрова, топил печи, таскал воду из колонки, заправлял лампы керосином, мыл полы, пытался ремонтировать обувь. И все это он делал весело, беззаботно, любовно.
В оккупированном городе Костя с матерью остались случайно. Они увязали пожитки, договорились с железнодорожниками и собрались выехать в Омск, к жене покойного сына. Но получилось так, что за неделю до сдачи города Костю послали на рытье окопов в дальнюю деревню. А когда он вернулся, об отъезде думать было поздно: в город нагрянули гитлеровцы.
А затем, сам того не ожидая, Костя стал участником подполья, да не рядовым, а святою святых подполья — радистом.
Началось с того, что в январе сорок второго года в Горелове появился паренек старше Кости года на три. Это был Миша Токарев — радист, присланный разведотделом Н-ской армии в распоряжение Чернопятова.
Чернопятов счел самым удобным укрыть Токарева в домике с вишневым садочком.
В лице Кости Токарев нашел верного помощника. Радист никуда не отлучался из дому и только по ночам выходил на часок — другой во двор подышать свежим воздухом. Когда он проводил сеансы, Костя безотлучно находился при нем, с огромным интересом и жадностью вникая, в тайны знакомого ему дела.
Да иначе и быть не могло. Еще с пятого класса школы Костя увлекался радиоделом, был старостой кружка радиолюбителей-коротковолновиков в городском доме пионеров, хорошо изучил азбуку Морзе. По разработанной им схеме кружок сконструировал очень интересный портативный приемник, который был отмечен на областном смотре пионерской самодеятельности.
Для подполья было крайне важным иметь радиста-дублера, который в случае нужды мог бы заменить Токарева. Чернопятов, еще живя в доме Головановых, убедился, что Костя — сметливый, серьезный и надежный паренек, что ему, несмотря на молодость, можно вполне доверять.
С разрешения Чернопятова Токарев обучил Костю не только работе радиста-оператора, но и сложному шифровальному делу. Одобрил это начинание и разведотдел Н-ской армии.
В конце апреля сорок второго года Токарев допустил оплошность. Желая хоть чем-нибудь помочь семье, которая его укрывала, он как-то ночью отправился с мешком на станцию, чтобы набрать с платформы, стоявшей в тупике, угля. И больше не вернулся: на другой день Мишу Токарева нашли убитым на путях.
Трудная и ответственная обязанность радиста-шифровальщика легла на Костю.
Мать, конечно, знала обо всем. Но она не вмешивалась в его дела. Больше того: сердцем чувствуя, чем грозит сыну малейшая неосторожность, она помогала ему и во время сеансов дежурила во дворе. А по ночам молила Бога, чтобы Он отвел от сына беду…
Вот и сейчас мать сидела, держа в руках сорочку, и беззвучно плакала от сознания своей беспомощности. Она видела, что юность сына проходит в невзгодах, в смертельной опасности. Кто же повинен в этом? Война, кругом война… Она воспринимала судьбу Кости по-матерински, и сознание того, что он рискует жизнью во имя Родины и что такая жизнь — подвиг, который готовы совершить тысячи сынов народа, не могло умерить ее мучительной тревоги.
10
В кабинете военного коменданта города шло совещание. Тут были офицеры комендатуры, представители местной полиции, сотрудники полевой жандармерии и фельдгестапо, срочно созванные для обсуждения чрезвычайного положения.
Присутствовал и начальник гестапо, хотя он, как и прежде, считал, что розыск машины — не его дело. Он сидел и с наигранным вниманием разглядывал узоры на ковре.
Выступали все, кому не лень. Каждый считал своим долгом высказать какую-то догадку, предположение и хотя бы коротенькое, но собственное, отличное от других, мнение. Потом заговорил комендант майор Фаслер.
— Подытожим, господа,—сказал он. — Как ни печально, но большинство склонно предполагать, что на машину в пути следования совершено нападение. Из этого нам и надо исходить.
— Выходит, по-вашему, — не сдержался начальник гестапо, — что враги захватили живыми курьера с почтой, охрану и затянули их в лес?
— А что? — спросил комендант.
— Куда же девалась машина? — задал вопрос гестаповец. — С машиной им управиться было труднее.
— Они могли угнать машину, — робко высказал свое мнение начальник полиции.
— Нелепость! — воскликнул гестаповец. — Она не могла пройти незамеченной через пункты жандармерии. Мы имеем теперь проверенные данные о всех машинах, шедших в нашем направлении. Машины с курьером среди них нет.
— Что же вы предлагаете? — обратился к нему комендант.
— Искать, — ответил начальник гестапо. — Искать по маршруту ее следования, а не вблизи города…
Вошедший дежурный прервал его и попросил снять телефонную трубку. Гестаповец подошел к телефону.
Звонил его заместитель.
Он доложил:
— Только что видел Филина. Занимательная история. Он получил письмо от небезызвестного Новожилова…
— Командира партизанского отряда? — недоуменно спросил начальник гестапо.
— Совершенно верно.
Все присутствовавшие на совещании замерли и насторожились.
— Дальше! — потребовал начальник гестапо.
— Новожилов хочет прислать к нему свою дочь и просит, чтобы он пристроил ее где-либо в городе на работу, желательно около себя. И советует Филину выдать дочь за свою сестру. Понимаете? Между прочим, эта дочка владеет немецким языком. Филин уверен, что это партизанская разведчица или связная. Он хорошо знает Новожилова и отлично помнит, что у того есть три сына и никогда не было дочери. Я предполагаю, что партизаны замыслили какую-то комбинацию.
— Когда она должна явиться?
— Об этом в письме не сказано, но, очевидно, в ближайшее время.
— Гм… Да… Так… Сейчас я приеду, — проговорил начальник гестапо и положил трубку.
Взгляды всех остановились на нем.
— Что-нибудь новое? — с затаенной надеждой в глазах поинтересовался майор Фаслер.
— Да, новое, — ответил начальник гестапо, — но не имеющее никакого отношения к машине. Простите, но мне надо быть у себя.
Присутствующие переглянулись.
11
От домашних дел Костя освободился в двенадцатом часу ночи. Он успел выкупаться, принес воды из колонки, прополол грядку с луком, поставил подпорки возле расцветающих кустов золотого шара, сбегал к знакомому железнодорожнику и выпросил у него бутылку керосина. Потом он зашифровал телеграмму, спрятал ее и стал ждать своего времени.
Мать уже спала во второй комнате, а может быть, только делала вид, что спит.
Костя прошелся босиком по прохладному полу, вымытому им же, погасил свечку и вышел во двор.
Ночь стояла тихая, теплая. Со станции доносилось пыхтение и гудки маневрового паровоза, свистки сцепщиков и стрелочников, лязг буферов. Костя прошел до калитки и, убедившись, что она заперта, вернулся. Он сел на маленькую скамеечку, сделанную еще отцом, и прислонился спиной к стене дома.
Звезд на небе было такое множество и горели они так ярко, что видны были пышные кусты золотого шара, горшки с фикусами и олеандрами, вынесенные на лето на воздух, скворечня на крыше сарая, береза-двойняшка, растущая в самом углу, у забора…
К сеансу Костя был готов. Он еще ни разу не сорвал ни приема, ни передачи, хотя причин к этому бывало больше чем достаточно.
Как-то весной на станцию прибыл эшелон с вражеской пехотой и простоял двое суток. В саду Головановых ночевал целый взвод, а Косте предстоял прием. И он принял важное сообщение, хотя по двору беспрерывно расхаживал часовой.
А в конце мая у них в доме две недели стоял гитлеровский офицер интендантской службы, занятый отгрузкой леса в Германию. Но и тут Костя ухитрился провести все сеансы. Он забирался на чердак, в погреб, устраивался под открытым небом в саду, укрываясь в специально сделанном окопчике.
А что стоили встречи с Калюжным? От него Костя получал донесения, ему одному вручал ответы.
Условия каждой встречи приходилось заново изобретать, тщательно продумывать, чтобы она не походила на предыдущую и не навлекала на себя подозрений.
Очень сложно было доставлять Калюжному уже расшифрованные телеграммы с заданиями разведотдела или с важной ориентировкой. Их приходилось носить через весь город, прибегая к помощи тайников, условных «почтовых ящиков», где Костя прятал телеграммы и откуда Калюжный или Чернопятов позже их брали.
Как-то, идя с рынка, где он извлек из тайника очередное донесение, Костя попал в облаву. Полиция ловила воров, ограбивших буфет при офицерском клубе. В донесении шла речь о расправе с заместителем бургомистра города и перечислялись подробности этой операции. Едва Костя успел сунуть в рот исписанный листок, как полиция схватила его и стала выворачивать карманы. А однажды случилось еще хуже. С депешей от Калюжного, не успев забежать домой, пришлось идти на работу. А донесение было особо важным: разведотдел фронта извещался о том, что в окрестностях города, в одном из бывших домов отдыха, открыта школа «Абвера» по подготовке диверсионных кадров. Подполье называло фамилии предателей, завербованных в школу.
Только вошел Костя в депо, как начался поголовный обыск. Гестаповцы искали листовки, разбросанные в тот день по городу. Выйти из депо нельзя: у входа стоял эсэсовец Фалькенберг.
Костя нашелся. Подойдя к знакомому слесарю, он попросил у него щепотку самосада и скрутил из телеграммы такую огромную «козью ножку», что слесарь от удивления вытаращил глаза. И никогда в жизни не бравший папиросы в рот, Костя выкурил «козу» до конца.
Часто смерть почти настигала Костю, шла по его пятам или забегала и ждала его впереди. И не раз спасала Костю только случайность.
Но комсомолец Костя ясно сознавал, ради чего он идет на смертельный риск. И как ни трудно было порой, он не сворачивал с избранного пути.
…Время шло медленно. Тишина клонила ко сну. Боясь дремы, Костя встал и тихо вошел в дом. Он закрыл окна внутренними ставнями, зажег в углу за печкой две свечи, потом вновь вышел во двор и вернулся с радиостанцией и батареями.
Разложив все на столике, он неслышно отворил дверь во вторую комнату и вгляделся в полумрак. Мать лежала на кровати одетая, прикрыв глаза рукой.
— Мама! — шепотом позвал Костя.
Она встрепенулась и повернула голову:
— Ты что, сынок?
— Работать надо, мама…
Она знала, что от нее требуется, встала, сунула ноги в домашние туфли, накинула на голову темный платок и вышла во двор, чтобы ходить, прислушиваясь к каждому шороху, до той поры, пока сын не позовет: «Пора спать, мама».
Костя надел наушники и сел за стол.
Армейский радиоцентр уже ждал и подавал свои позывные. Костя ответил, тщательно отрегулировал настройку и, убедившись, что на приеме ничего нет, перешел на передачу.
Костя отстукивал ключом автоматически, думая в это время о том, что враг слушает его точки — тире и тщетно пытается их разгадать.
Три дня назад он передал телеграмму в несколько строк обычных знаков. Если бы гитлеровцы только знали, о чем говорят эти точки — тире! А речь шла о том, что к воинской платформе прибыли два состава: один с авиабомбами, а другой с горючим; что на бывшем выпасе, между городским кладбищем и лесом, гитлеровцы оборудуют новый аэродром и на нем уже ночует до сорока бомбардировщиков.
Костя искоса взглянул на часы: прошло пять минут. Хорошо. Очень хорошо. Осталась четвертая часть телеграммы. Значит, он уложится в семь минут…
С шумом распахнулась дверь, и на пороге появилась мать. Ужас исказил ее лицо. Тяжело дыша, держась одной рукой за дверной косяк, а другой за сердце, она выкрикнула каким-то придушенным голосом:
— Родной!… Спасайся!… Немцы!…
Горло Кости перехватило горячей волной. Он оборвал передачу и сдернул с головы наушники.
— Где?
— Лезут через ворота… валят забор.
Костя вскочил. В виски и затылок сильными, ощутимыми толчками застучала кровь.
— Беги в сад! — строго приказал он.
— А ты?
— Беги не медля! — крикнул Костя, и мать, всхлипнув, скрылась.
Костя подскочил к двери, накинул на нее крюк, вставил ножку стула в дверную ручку, подтащил диван. Сердце колотилось гулко, на лице выступила испарина. Он замер прислушиваясь. Кругом было тихо, и не хотелось верить, что пришла беда.
Он обвел глазами кухню, будто запоминая все, что здесь находилось, и в это время ясно расслышал приглушенные голоса. Он потушил одну свечку и решил: «Выберусь через окно в сад». Отключить питание от рации, выдернуть антенну, сжечь на пламени свечи шифровку было делом двух — трех секунд.
В сенях раздались шаги, и кто-то забарабанил в дверь.
«Успела ли скрыться мама?» — мелькнула тревожная мысль.
Костя схватил радиостанцию, прижал ее к груди и бросился во вторую комнату, к окну, выходившему в сад. Надо было осторожно, без шума открыть ставню, распахнуть окно и выпрыгнуть в куст сирени. А от него три шага до пролома в соседском заборе.
Придерживая одной рукой рацию, Костя потянул ставню на себя. Но тут звякнуло стекло, и перед его лицом мелькнуло острое жало плоского немецкого штыка. Костя едва успел отпрянуть. Штык скрылся и блеснул вторично.
«Окружили!…» — пробежало в сознании.
А в дверь ломились, колотили прикладами. Раздавались требовательные выкрики и грубая брань.
Мысль Кости работала скачками, но вместе с тем так остро, как это может быть лишь в минуты смертельной опасности. Он понимал, но не хотел верить, что настал конец.
— Держись, Костя! — зло крикнул он и с силой ударил рацию об острый угол печки. Осколки разлетелись по всей комнате.
Кругом стоял грохот. Казалось, качается весь белый домик. Барабанили в окна, в двери. Над головой послышался тяжелый топот, посыпалась штукатурка с потолка. Значит, гестаповцы разобрали черепицу и уже проникли на чердак…
Костя стоял посреди комнаты и дрожал, как олень, окруженный со всех сторон волками.
И вдруг неожиданно пришло странное спокойствие. Теперь он знал, как поступить. Он опустился на колени возле буфета, приподнял половицу и извлек из-под нее большую противотанковую гранату, обвязанную промасленной тряпкой. Костя отбросил тряпку, снял предохранитель гранаты и стал ждать. Он слышал, как кто-то бился в дверь всем корпусом и натужно кряхтел. Затрещав, дверь слетела, и в комнату ворвались, разъяренные гестаповцы.
Костя дунул на свечу и бросил гранату. Взрыв потряс весь домик до основания. Сильная взрывная волна вышибла ставни, окна, вздыбила пол, потолок, перевернула мебель…
12
Части Н-ской армии, теперь полностью укомплектованной и заново вооруженной, после многодневных тяжелых боев стали на отдых. Разведотдел армии разместился в небольшой освобожденной от фашистских захватчиков, разоренной и почти безлюдной деревеньке.
Начальнику разведотдела полковнику Бакланову отвели однокомнатную избу, сложенную из крепких сосновых бревен. На стене уже была пришпилена карта. Под нею стоял железный несгораемый ящик с двумя ручками по сторонам. Кроме соснового стола и железного ящика, в избе было полдюжины табуреток и стояла походная раскладная кровать, прижавшаяся к глухой стене. На сером шерстяном одеяле лежали автомат с запасными дисками к нему и две чешуйчатые гранаты «Ф-1», похожие на сосновые шишки. На надувной резиновой подушечке красовалась артиллерийская фуражка с выцветшим околышем.
На столе стояли два полевых телефона, пепельница из консервной банки и солдатский котелок с торчавшей из него деревянной ложкой. Полковник Бакланов, уже немолодой человек с крупными чертами лица, в очках, чем-то напоминавший усталого учителя, сидел за столом над раскрытой папкой и читал ориентировку главного разведывательного управления.
Ориентировка говорила о том, что фашистская Германия, не успев еще залечить тяжелые раны, полученные зимой, доукомплектовывает остатки разбитых частей, формирует новые и гонит их на восток. В район Курска непрерывным потоком движутся воинские эшелоны противника, колонны автомашин, тяжелая артиллерия, новые самоходные пушки. Идет грандиозная перегруппировка войск, подтягиваются резервы, перебазируется авиация стратегического назначения.
Бакланов отвел уставшие глаза от фиолетовых машинописных строчек, снял очки, захлопнул папку и встал. Он был высок, держался прямо. Теперь в нем без ошибки можно было узнать старого кадрового офицера.
Спрятав папку в несгораемый ящик, Бакланов заглянул в котелок. Гречневая каша застыла. Он попробовал взять ее ложкой, но каша поддавалась плохо. Бакланов чиркнул зажигалкой, поднес ее к потухшей папиросе и направился к койке, расстегивая на ходу поясной ремень. В это время кто-то постучал в дверь.
Бакланов застегнул ремень и разрешил войти.
Стремительно вошел начальник отделения капитан Дмитриевский. Молодой, быстрый, он подал полковнику расшифрованную радиограмму и сказал:
— От Чернопятова.
— Садитесь, — сказал Бакланов, прошел за стол и стал читать полученное сообщение.
Вдруг он поднял глаза на Дмитриевского и строго сказал:
— Я уже предупреждал вас… Не докладывайте телеграмм частями. Когда будет окончание? Ведь это же не конец? — он наклонился над текстом и прочел глуховатым голосом: — «Предлагаем два варианта. Первый: высылайте человека по известным явкам, паролям…» А дальше?
— Гореловский корреспондент оборвал передачу на этом месте без предупреждения, — доложил капитан. — И больше в эфире не появляется, несмотря на наши позывные.
Черные и густые, точно наклеенные, брови Бакланова строго сдвинулись.
— Оборвал? — переспросил он.
— Так точно.
Бакланов отложил папиросу и уставился глазами в темное пятно небольшого окна. Потом он снова пробежал телеграмму глазами и забарабанил пальцами по столу.
— Черт возьми! — бросил он немного погодя. — Вы понимаете, какие ценные материалы захватили ребята? Мы знали, что по личному указанию Гитлера видный конструктор фон Тротте работает над созданием нового, сверхмощного танка, но не знали, что его назовут «драконом» и что он уже готов. Готов и прошел испытания. Да… — Бакланов вновь энергично забарабанил пальцами. — Молодчина Чернопятов, порадовал! Теперь дело за нами. Нельзя терять ни минуты. Пока фашисты наладят серийное производство «драконов», наша промышленность обеспечит армию специальными снарядами, которыми можно будет обломать клыки новому зверю. А для этого мы должны знать его сильные стороны и уязвимые места. Хм… Как же мог прерваться сеанс?
Капитан Дмитриевский пояснил: сеанс начался в ноль шестнадцать и неожиданно прервался в ноль двадцать одну минуту. Дежурный оператор подозревает, что гореловский корреспондент пытался передать знак «Мне угрожает опасность», но, по-видимому, не успел. Правда, оператор не совсем уверен в этом, так как смог принять только одно слово «мне», которое тот передал открытым текстом. Армейский радиоцентр вызывал гореловского корреспондента два часа подряд, но безрезультатно… Дежурный оператор и сейчас слушает.
— Уж коль он перешел на открытый текст, — заметил Бакланов, — то, видно, неспроста. Что же там стряслось?
Дмитриевский пожал плечами и ответил:
— Многое можно думать…
Он ведал разведывательной и подрывной работой за линией фронта, дважды сам побывал в тылах противника, кое-что повидал и понимал, что на оккупированной территории опасность подстерегает на каждом шагу.
— А все же? Что вы предполагаете? — настаивал Бакланов.
Дмитриевский как-то неловко потер свой высокий лоб, собравшийся в морщинки. Ему почему-то не хотелось высказывать сейчас свои затаенные мысли. Срыв одного сеанса еще не давал основания бить тревогу…
— Возможно, что-нибудь помешало передаче, — произнес он, — и радист решил прервать сеанс… Воз…
— Вы говорите не то, что думаете, — прервал его на полуслове Бакланов. — Не то…
— Нет… Почему? — слабо возразил Дмитриевский. — Вы же помните, как получилось со мной в Орше в прошлом году.
— Ну, ну… Дальше! — как бы подтолкнул его Бакланов.
— Туманова вела передачу, — продолжал капитан, — а я дежурил на улице. И вот мчится мой паренек и докладывает: эсэсовцы окружили квартал и начинают повальные обыски. Передачу пришлось прервать. Тридцать два часа я и Туманова отсиживались в пустой и холодной голубятне. А связь восстановили только через неделю. И уже не из Орши.
— Но если мне не изменяет память, Юлия Васильевна успела дать сигнал «Связь временно прекращаю»? — напомнил Бакланов. — Так, кажется?
— Совершенно верно, — согласился Дмитриевский.
— А этот пытался передать другой сигнал и не успел, видно… — Бакланов встал из-за стола и заходил по комнате. Отжившие свой век половицы жалобно поскрипывали под ногами. — Все это очень печально и некстати, — произнес он. — Вы только подумайте, какого зверя они ухватили! «Дракона»!… Одно название чего стоит! Молодчина Чернопятов! Герой! Да… И если с ними стряслась беда… — Он умолк и, подойдя к столу, машинально передвинул полевой телефон с места на место.
Бакланов и Дмитриевский молчали и думали. Думали и молчали… Долгую паузу нарушил капитан:
— Попасть под радиопеленгатор — это худшее, что может случиться, но нельзя исключать и многое другое…
— Как это понимать, многое другое? — задал вопрос Бакланов и сам же попытался ответить на него: — Вы хотите сказать: перегорела лампа, отказало питание или еще что-либо в этом роде?
— Вполне возможно.
— Не думаю. Гореловский корреспондент отличался дисциплинированностью и аккуратностью, за что и представлен к награде. Не допускаю мысли, чтобы он начал сеанс на неисправной рации, а если и начал, то предупредил бы нас. Тут что-то другое.
Дмитриевский промолчал. Ему нечего было возразить.
— Вы не теряете надежды, что связь возобновится? — спросил его Бакланов.
Капитан кивнул.
— Хм… Я хочу тоже верить в это, — проговорил Бакланов. — Ну, а если не возобновится? — Бакланов вновь взял телеграмму и прочел вслух: — «Предлагаем два варианта. Первый: высылайте человека по известным явкам…» Две возможности, — повторил он. — И возможно, что во второй шла речь о присылке самолета… Какая досада!…
— Это был бы самый желательный вариант, — подхватил Дмитриевский.
— Но сейчас совершенно невозможный, — заметил Бакланов. — О посылке самолета мы договориться без связи не сможем. — И он покачал головой. — Нужно же такому случиться?
Бакланов бросил телеграмму, подошел к карте и всмотрелся в нее.
— И что вы все-таки предлагаете? — обратился он, не оборачиваясь, к Дмитриевскому.
— Ждать утра, товарищ гвардии полковник, — последовал ответ. — По условиям связи в шесть утра контрольно-проверочный сеанс, обмен позывными и только. Возможно, корреспондент выйдет…
— А если не выйдет, товарищ гвардии капитан? — прервал его Бакланов, не меняя позы и продолжая рассматривать что-то на карте. — Не выйдет ни в шесть, ни в семь, ни завтра, ни послезавтра. Тогда что, я вас спрашиваю?
— Вы не дали мне докончить, — сказал Дмитриевский.
— Прошу! — произнес Бакланов и резко повернулся. — Ради бога!
— Ждать утра и одновременно готовить к посылке человека, — отчеканил капитан.
— Вот! Правильно! — одобрил Бакланов. — Готовить. И с таким расчетом, чтобы сегодня же ночью выбросить. Дело архисрочное. Кто у нас свободен?
— Свободны трое, но послать придется Туманову, — ответил капитан.
Полковник едва заметно усмехнулся и внимательно посмотрел на капитана своими умными прищуренными глазами.
Дмитриевский вспыхнул, и кровь прилила к его лицу.
Работая полтора года с Дмитриевским, полковник знал, что капитан далеко не безразличен к разведчице. Их обоих соединяло хорошее, молодое чувство. И оба скрывали друг от друга то, что совсем нетрудно было заметить окружающим. Вместе с Тумановой капитан дважды был в тылу врага. Знал Бакланов и то, что, когда на карту ставятся интересы дела и речь заходит о Тумановой, капитан всегда старательно подчеркивал свою объективность. Случалось, он даже строже относился к Тумановой, чем к другим.
— Но почему именно Туманову? — переспросил полковник.
Еще не успокоившийся Дмитриевский ответил хмуро:
— Могу предложить свою кандидатуру.
Бакланов раздраженно взмахнул рукой и строго потребовал:
— Отвечайте на мой вопрос.
Капитан изложил свои доводы. Свободны трое: лейтенант Назаров, сержант Караулова и лейтенант Туманова. Первый знает радиодело, но еще не обучен шифру, вторая владеет шифром и только изучает радиодело. Следовательно, их можно послать только в паре. Туманова же является и радисткой и шифровальщицей.
— И все? — полюбопытствовал Бакланов.
— Нет, не все, — сказал Дмитриевский. — Чернопятов сообщил нам в начале мая две явки. Основную — к повару кафе «Глобус» Готовцеву и запасную — на себя. На тот случай, если Готовцева не окажется на месте. На явку надо посылать женщину под видом сестры Готовцева и с документами на ее же имя. Сестра Готовцева работает в минской комендатуре переводчицей, свободно объясняется по-немецки. Туманова же, как вам известно, неплохо владеет немецким языком.
— Так, так… Ясно. Кстати, напомните, в связи с чем Чернопятов сообщил нам эти явки и пароли, — попросил Бакланов. — Я тогда был в командировке в Москве.
Дмитриевский кратко рассказал. Люди Чернопятова в конце апреля произвели небольшую операцию. Они вскрыли сейф бургомистра города и изъяли свыше трех миллионов рублей в советских знаках сторублевого достоинства. Деньги надо было вывезти с оккупированной территории. Разведотдел договорился с Чернопятовым о присылке к нему человека, получил явки и пароли. Но через несколько дней Чернопятов сообщил, что деньги оказались фальшивыми, изготовленными в Германии. Тогда командующий приказал сжечь их.
— Хм, забавная история! — заметил Бакланов. — Так… А когда Юлия Васильевна вернулась из-за линии фронта?
— Девять дней назад…
— Так ли? — поинтересовался Бакланов, вынул из кармана записную книжку и стал перелистывать ее.
— Точно так, — подтвердил Дмитриевский. — Сегодня у нас девятое, а она вернулась первого.
— Положим, у нас сегодня не девятое, а уже десятое, — поправил Бакланов. — Это мы, полуночники, сбились со счета. — И он взглянул на часы. — Сейчас без двух минут три. А успела отдохнуть Юлия Васильевна? Как она чувствует себя?
Дмитриевский улыбнулся. Что он может сказать? Она чувствует себя, как обычно, и ни на что не жалуется.
— В ее возрасте я тоже ни на что не жаловался, — сказал Бакланов, — но это вовсе не означало, что я не уставал и не нуждался в отдыхе. Ну, ладно… Решим так: побеседуйте обо всем с Юлией Васильевной самым подробным образом, а я доложу ваше мнение командующему.
— Слушаюсь, — Дмитриевский встал. — Можно идти?
— Идите, — разрешил Бакланов и проводил взглядом капитана.
13
Десятого июня в половине восьмого утра Чернопятов открыл дверь котельной. В глаза ударили яркие лучи солнца. Чернопятов прищурился и зябко повел плечами. В его «пещере», как он именовал свое жилище, всегда царили полумрак, сырость и прохлада. Баня топилась лишь два раза в неделю, в остальные дни топливо расходовать не разрешалось.
Закрепив обе половинки двери на стенные крючки, Чернопятов взглянул на тротуар. Там, как на пружинках, уже подпрыгивал бойкий воробушек.
— Прилетел, шельмец? — усмехнулся Чернопятов. — А где же остальные?
Воробушек чирикнул, что, видимо, означало: «Сейчас все будут».
Чернопятов спустился вниз и возвратился со старой жестянкой из-под кофе, в которую складывал крошки. Сегодня там был пшенный концентрат.
Около дверей уже суетилась добрая дюжина серых комочков, которые скакали и щебетали, требуя завтрака.
Чернопятов помял в руках концентрат и высыпал на край тротуара. Воробьи шумно набросились на еду, жадно хватая большие кусочки слипшейся промасленной каши. Они вытягивали шейки, топорщились, тужились и все-таки проглатывали их.
Не прошло и минуты, как с кашей было покончено.
Воробьи сразу отяжелели, напыжились и смотрели с каким-то недоумением на своего кормильца. Некоторые принялись приводить себя в порядок, перебирая клювом перышки.
— Довольно, християне, — сказал Чернопятов, сел на порог и начал крутить цигарку.
Так было ежедневно. Привык к этому Чернопятов, привыкли и воробьи. Чернопятов закурил, расстегнул ворот рубахи.
— Теплынь-то какая!… Хорошо!…
Он благодушно нежился под ласковым солнцем, дымил самокруткой и посмеивался про себя. Знали бы гитлеровцы, какие документики упрятаны под его верстаком! Хе-хе! Куда там! Разве можно додуматься до этого! А машина? А курьер? Так и пропали? Пропали! Как корова языком слизнула. Все сделано чисто. Раз — два — и концы в воду. Пусть поломают головы. И Костя уж, конечно, «отстучал» и ответ, видно, получил. Какой, интересно, вариант изберет полковник Бакланов? Скорее всего — второй. Не иначе, как самолет пришлет с посадкой. Это удобнее всего и быстрее. Да чего там гадать? Бакланов решит, ему виднее: дядька мозговитый. Хорошо бы сейчас взглянуть на него. Как он выглядит, как воюет, старый служака… Обтерла его жизнь, обкатала. Полковник, шутка ли сказать?! А ведь был когда-то шахтер. Коногон, кажется. Вот что значит человек!…
Рассуждая таким образом, Чернопятов попыхивал дымком и поглядывал на улицу.
Вот показалась немецкая походная кухня на жестком ходу, влекомая сытым и куцехвостым мерином. Она громко тарахтела по булыжной мостовой. На передке восседал пожилой солдат с заспанным лицом. Он отгонял кнутовищем надоедливых слепней, осаждавших круп лошади.
Походную кухню обогнали три мотоциклиста в эсэсовской форме, а потом показалось печальное шествие. Окруженные плотным кольцом автоматчиков, устало брели человек двадцать арестованных. Среди них Чернопятов заметил двух женщин. Все шли молча, низко опустив головы, держа в руках свертки, узлы, мешки.
«Видно, в Германию отправляют!» — подумал Чернопятов, всматриваясь в лица арестованных. Но никого из знакомых он не обнаружил. Процессия свернула на перекрестке с Биржевой улицы на Почтовую.
В доме напротив открылось окно, и показалось худое изможденное лицо женщины. Женщина поклонилась Чернопятову, и он ответил ей тем же. Так происходило почти ежедневно.
Чернопятов знал от соседей, что женщина, с которой он, по сути дела, не был знаком и ни разу не обмолвился ни единым словом, до войны работала учительницей. После гибели на фронте мужа ее разбил паралич, отнялись обе ноги, и она уже не покидала своей комнаты.
Женщина окинула улицу грустным, рассеянным взглядом и задернула занавеску.
— Пора за работу, Григорий Афанасьевич, — промолвил Чернопятов. — Довольно посиживать.
Он хотел уже подняться, но вдруг заметил на противоположном тротуаре Калюжного. Тот шагал своей обычной неторопливой походкой, не поворачивая головы, не оглядываясь.
«Что бы это могло значить? — подумал Чернопятов. — Радиограмму принес?»
Нет, этого не могло быть. В подполье существовали раз и навсегда установленные порядки. Чернопятов не нарушал их сам, не разрешал нарушать и другим. Способы доставки радиограмм ему, а также и от него разрабатывались с учетом обстановки в городе, времени года. Калюжный никогда не приносил радиограмм. Он прятал их в тайники. Чернопятов знал, что ответ Бакланова на радиограмму он должен будет вынуть не ранее десяти утра из «почтового ящика» № 4. Так в чем же дело? Почему Калюжный появился сейчас?
Чернопятов весь превратился во внимание, теряясь в догадках и не находя объяснения происходящему.
А Калюжный, достигнув дома, где жила бывшая учительница, замедлил шаг, вынул из кармана сложенную газету и, развернув ее, стал просматривать на ходу.
Что-то дрогнуло в груди Чернопятова. Это был условный знак, обозначавший: «Следуй за мной и будь осторожен. Не исключена слежка».
Что произошло? С кем? Провожая глазами удалявшегося Калюжного, Чернопятов наблюдал, не следует ли кто за ним по пятам. Но нет, ничего подозрительного не наблюдалось.
Когда Калюжный пересек Минскую, Чернопятов встал и, не теряя товарища из виду, направился вслед за ним по другой стороне улицы. Чернопятов шагал и ощущал непривычную тяжесть в ногах. Был он человеком неробкого десятка, но неизвестность действовала удручающе. Словно вокруг тебя кромешная темнота, а где-то рядом находится смертельный враг. Врага этого надо уничтожить, иначе погибнешь сам. Но глаза ничего не видят, удары проваливаются в пустоту, каждый шаг ведет в неизвестное. И человека охватывает чувство унизительной беспомощности, жалкое чувство бессилия.
Терзаемый недобрыми предчувствиями, Чернопятов продолжал идти.
А Калюжный, достигнув угла и как бы невзначай обернувшись, повернул на улицу, ранее носившую имя Комсомольской. Посреди улицы тянулся бульвар, обсаженный столетними липами. Пройдя до конца бульвара, он повернул назад. Ход этот был оправдан. Калюжный в свою очередь хотел убедиться, нет ли «хвоста» за Чернопятовым. Они разминулись почти на середине бульвара, «проверились».
Чернопятов торопливо добрался до того места, где Калюжный сделал поворот. Он увидел друга на противоположном конце.
«Сейчас все выяснится… Сейчас… осталось полсотни шагов», — рассуждал Чернопятов.
Под сенью развесистой липы когда-то стояла скамья. Теперь от нее остались лишь два столбика, врытые в землю и почти сгнившие. На одном из них сидел Калюжный, а второй оставался свободным.
Калюжный держал перед собой развернутую газету.
Чернопятов подошел к столбику и сразу присел, будто кто-то ударил его под коленки. Он достал из кармана жестяную коробочку с махоркой и стал вертеть цигарку.
В обе стороны сновали прохожие, мелькали мундиры гитлеровцев. Чернопятов неторопливо, сдерживая дрожь пальцев, обрывал кончики бумаги.
Калюжный молчал, делая вид, что целиком поглощен газетой, но и его руки подрагивали.
Улучив минуту, когда поблизости никого не было, Калюжный наконец заговорил своим сердитым, сдержанным голосом:
— Я боялся, что меня возьмут под слежку… но, кажется, нет. Ночью погиб Костя…
Чернопятов просыпал табак на землю и почувствовал мгновенную сухость во рту. Что он сказал? Ночью погиб Костя? Уж не ослышался ли? Нет, нет, не ослышался, ночью погиб Костя! Перед глазами запрыгали разноцветные огоньки: красные, синие, фиолетовые…
— Он проводил сеанс… передавал наше донесение, — тихо говорил Калюжный, прикрывшись газетой, — и налетели гестаповцы. Не один, а несколько человек. Они ворвались в дом. Что-то взорвалось. Видно, Костя воспользовался гранатой. Трое убиты, двое тяжело ранены, а Костя погиб… Так изуродован, что и узнать трудно.
Калюжный умолк, заметив прохожих.
«Погиб Костя… погиб… погиб!…» — беззвучно шептал Чернопятов. Он смотрел прямо перед собой, и предметы в его глазах двоились.
— Передал обо всем Сеня Кольцов, ночью слышавший взрыв, — продолжал Калюжный. — Он разыскал мать Кости в соседском сарайчике. Она ему рассказала. Утром ни жив ни мертв Сеня прибежал ко мне, хоть ему и запрещалось это. Мать Кости плоха. Видно, уж больше не жить ей на этом свете… Радиограмму Костя, видимо, не успел передать… Вечером попозднее зайду к тебе… Все. Я пошел.
Он тут же встал, свернул газету, сунул ее в карман и уверенно зашагал по бульвару.
Чернопятов продолжал сидеть не шевелясь, глядя пустыми глазами в землю. Да, это был, пожалуй, самый меткий и самый предательский удар, нанесенный подполью. Погиб не только радист, умевший хранить все сокровенные тайны и со смертью которого оборвалась связь с Большой землей; погиб не только Костя Голованов, вихрастый, курносый, жадный до дела и неугомонный семнадцатилетний паренек, которому только бы жить и жить, погиб не только активный подпольщик-патриот, ставивший священную борьбу с врагами превыше всего — погиб еще и человек, спасший от смерти Чернопятова, рисковавший при этом своей собственной жизнью.
Сколько усилий и забот, сыновней любви и ласки проявил он, ухаживая за больным и беспомощным Чернопятовым! Сколько раз кормил его Костя из собственных рук! Сколько часов провел около него, неподвижного, ослабевшего, читая вслух рассказы Джека Лондона из потрепанной, захватанной книжки!
Уже давно Чернопятов мечтал по окончании войны усыновить Костю, заменить ему умершего отца. И он как-то сказал об этом Косте, а тот ответил коротенькой наивной фразой: «Ой! Даже не верится!»
В своих мечтах Чернопятов заходил далеко. Он видел перед собой Костю-инженера, Костю-офицера, Костю-ученого. Он твердо верил, что это будет, что иначе и быть не может. Он ни на минуту не сомневался в том, что его жена, уже взрослые сын и дочь примут самое горячее участие в судьбе юноши.
И все рухнуло. Кости нет и никогда уже не будет. Возможно, встретятся на жизненном пути Чернопятова еще многие чудесные и умные ребята, такие же чуткие и человечные, но это будут уже другие, не Костя…
Чернопятов с трудом поднялся. Горе отяжелило его. Резкая складка легла между бровями, глаза потухли. Путь с бульвара до бани показался ему самым длинным за всю его сорокапятилетнюю жизнь.
Открыв дверь и спустившись вниз, Чернопятов постоял некоторое время у верстака, глядя на все пустыми и блуждающими глазами.
Он закурил, задумался. Но жизнь напомнила о себе. Она не ждала, требовала борьбы, требовала сил его, Чернопятова.
— Прощай, Костя! — вслух произнес Чернопятов. — Мы не забудем тебя!…
14
Вернувшись от командующего армией, полковник Бакланов вышел из машины у околицы своей деревеньки и пошел к дому пешком.
В палисадниках перед избами отцветала сирень, и ее пряный аромат висел над улицей.
В этом году она цвела по-особенному буйно, дружно и долго, будто хотела дождаться возвращения тех, кто ее сажал, растил и лелеял.
Разоренная деревенька с редкими уцелевшими хатенками, вся простреленная и обожженная, являла собой резкий контраст с праздничным цветением сирени.
Бакланов обошел колодезный сруб, у которого деловито трудились солдаты, оголенные до пояса. Покидая деревню, гитлеровцы пристрелили двух собак и бросили в колодец. Солдаты очистили его и теперь вычерпывали из него воду.
У входа в избу стоял часовой, а на ступеньках крылечка сидел капитан Дмитриевский. Увидев Бакланова, он бросил недокуренную папиросу, встал и сошел с крыльца, уступая дорогу.
Бакланов молча прошел в избу, за ним последовал Дмитриевский.
— Завтракали, капитан? — спросил Бакланов, сняв фуражку и положив ее на подушку.
— Только что…
— Жаль, я думал, что составите мне компанию, — он подошел к окну и растворил его настежь. Запах сирени полился в комнату. — Как Горелов?
— Молчит, — ответил Дмитриевский.
Бакланов помедлил немного, глядя в окно, потом сказал:
— Командующий и член Военного совета одобрили наше решение. Значение захваченных гореловской группой документов исключительно важно. Приказано вывезти их во что бы то ни стало и безотлагательно. Командование фронта придерживается того же мнения.
Они говорили, стоя посредине комнаты друг против друга.
— Беседовали с Юлией Васильевной?
— Так точно, беседовал, и самым подробным образом.
— Ну?
— Она готова.
Бакланов вздохнул:
— В этом я не сомневался. Юлия Васильевна всегда готова. Ну что ж… пригласите ее сюда.
— Слушаюсь, — ответил Дмитриевский и удалился.
Бакланов подошел к полевому телефону.
— Чайка! Прошу шестнадцатого. Да, да… Здравия желаю, Владимир Дмитриевич! Уже знаете? Вот и отлично. А время я скажу… Да. Машина нужна будет в двадцать три ноль-ноль. Конечно, послезавтра (что условно означало «сегодня»). Да, на выброску. Через часок я подошлю капитана Дмитриевского. Договорились? Есть!
Бакланов положил трубку и прошелся по комнате. Через окно сквозь сетку распустившихся ветвей сирени процеживался свет солнца. Он дробился на мелкие блики, устилал пол пестрым ковром и делал комнату празднично-нарядной и веселой.
Но на душе полковника было невесело: гореловский корреспондент молчал. Он не вышел на контрольный сеанс и не отвечал на вызовы армейского радиоцентра. Тревожные догадки и предположения граничили уже с уверенностью: значит, там, в Горелове, стряслась какая-то беда. Но какая? На это никто не мог ответить.
И сам по себе напрашивался вопрос: если там что-то случилось, то не повлияет ли это «что-то» на выполнение задания Тумановой?
Это очень беспокоило не только Бакланова, но и члена Военного совета и командующего армией. Но другого выхода не было.
«Вся надежда на Чернопятова, — подумал Бакланов. — Григорий Афанасьевич не должен оплошать. Он стреляный воробей. Да и Юлия Васильевна — человек, уже искушенный в таких делах. Найдет решение на месте. Немыслимо сейчас предусмотреть все неожиданности и препятствия. Какая-то доля риска обязательна в подпольной борьбе. Наша задача — свести эту долю к возможному минимуму».
Стук в дверь прервал размышления Бакланова.
— Входите! Входите! — громко пригласил он.
Вошли капитан Дмитриевский и лейтенант Туманова, девушка лет двадцати двух. Она сделала шаг, стала в положение «смирно» и, приложив руку к пилотке, представилась:
— Товарищ гвардии полковник, лейтенант Туманова явилась по вашему вызову.
Бакланов невольно залюбовался ею. В простой, но хорошо подогнанной красноармейской гимнастерке с полевыми погонами, в короткой шерстяной юбке черного цвета, в ладных хромовых сапожках, Туманова выглядела очень молодой, стройной и привлекательной. На ее волнистых густых волосах, собранных в тугой узел на затылке, с трудом держалась пилотка. Орден Красного Знамени и медаль «За отвагу» поблескивали на гимнастерке.
— Здравствуйте, Юлия Васильевна, и еще раз здравствуйте! — приветствовал ее Бакланов, взял за руку, подвел к столу и усадил на табуретку. — Как я понял капитана, вы согласны?
— Да, — ответила Туманова. — Я готова. Лишь бы хватило опыта…
Бакланов лукаво и немного грустно усмехнулся.
— Я не привык говорить комплименты. Не скромничайте… Попрошу закрыть окно.
Капитан закрыл окно и встал в сторонке, возле стены.
— Все ли вам ясно? — обратился Бакланов к Тумановой.
— Все ясно. Насколько возможно здесь, я ознакомилась с делами и обстановкой гореловской группы. Приложу все силы, чтобы справиться с задачей, — спокойным и ровным голосом проговорила Туманова.
— Отлично! — заявил Бакланов. — Ноя не хочу от вас скрывать: там могут быть неожиданности. Нас очень беспокоит одно обстоятельство…
— Срыв передачи? — предупредила его Туманова.
— Да! — подтвердил Бакланов и посмотрел на капитана. Тот стоял, рассматривая карту. — И в данном случае я даже не знаю, что подсказать, что посоветовать. Как полагаете, капитан?
Дмитриевский был погружен в изучение карты: и не сразу понял вопрос.
— Простите? — переспросил он полковника.
Бакланов вторично изложил свою мысль.
Дмитриевский выслушал его и, помедлив, ответил:
— Очень трудно что-либо посоветовать. Придется ориентироваться на месте. Нам не из чего выбирать. Мы располагаем явками, но лишены возможности их проверить.
— И у нас нет оснований не верить Чернопятову, — добавила Туманова. — Он же не дает новых явок?
— Все это верно, друзья, — задумчиво произнес Бакланов. — И одна явка на него же самого.
Не может же Чернопятов не доверять самому себе! Ноя думаю о другом. Не следует забывать, что писал он радиограмму до того, как прервалась радиосвязь. Мы не знаем, почему она прервалась. Может быть, сейчас Чернопятов дал бы нам другие явки. Может быть, вся обстановка в корне изменилась. Мне кажется, что идти на основную явку без всякой проверки было бы неосторожно.
— А что вы предлагаете? — живо заинтересовалась Туманова.
— Я бы порекомендовал, — продолжал свою мысль Бакланов, — прежде чем войти в это кафе, предпринять небольшую разведку. Изобрести что-нибудь, согласуя это с обстановкой. Важно убедиться в том, «благополучен» ли Готовцев. Это сделать не так уж трудно, поскольку он работает в ресторане.
— Понимаю, — кивнула Туманова.
— Совершенно верно, — добавил капитан. — В конце концов важно узнать, работает ли Готовцев. Если работает, можно смело идти к нему.
— Да, да… — подтвердил Бакланов. — Нам известно, что организация у Чернопятова построена на независимых друг от друга группах. И если в опасности радист, то это еще не значит, что опасность грозит и Готовцеву. Но тем не менее осторожность необходима.
— Я так и поступлю, — промолвила Туманова. — Я постараюсь попасть в город пораньше и кое-что предприму.
— Пароли запомнили? — спросил Бакланов.
— Да, они несложные и легко запоминаются.
— Рацию в город не вносите ни при каких обстоятельствах, — предупредил Бакланов. — Это вообще опасно, а тем более сейчас, когда прервалась связь. Возможно, что их радиста запеленговали.
— Это мне ясно, — ответила Туманова. — Рацию и все остальное я спрячу в лесу, а дальше будет видно. В город явлюсь только с документами.
— Вы сообразуйтесь с тем, что центр будет слушать вас круглые сутки, — напомнил Бакланов, — по десяти минут после каждого четного часа. Спрячьте рацию поближе к городу, чтобы воспользоваться ею без большой задержки или быстро перебросить в город, в надежное место.
Туманова кивнула.
— Самолет будет здесь дежурить с момента первого вашего сигнала и до вызова, — добавил Бакланов. — А о сигналах для приема самолета придется договориться с летчиком заранее. Вот как будто и все. — Бакланов встал. — Прощаться не будем. Я провожу вас на аэродром. Идите, отдыхайте. А вы, капитан, поезжайте к командиру авиаполка. Он вас ждет.
15
Начальник гестапо проснулся в это утро необычно поздно. Вся эта кутерьма с курьерской машиной не выходила у него из головы. Заснул он лишь под утро, а встал с болью в висках и с каким-то неприятным осадком во рту.
Лежа в постели, он подумал, что торопиться на службу не имеет смысла. Сейчас же начнутся звонки коменданта города, начальника гарнизона, начальника местной полиции и фельджандармерии, опять посыплются вопросы, на которые надо что-то отвечать, а его от этих вопросов уже тошнит. Пусть там за него выкручивается его заместитель: он умеет разводить дипломатию и за словом в карман не полезет. Да и формально он — начальник гестапо — прав. Он не считает ни себя, ни свой аппарат ответственным за загадочное исчезновение курьера вместе с машиной. Какое ему до всего этого дело! У него и своих хлопот по горло. Достаточно того, что в городе работает подпольный радиопередатчик, который не удается никак запеленговать и выловить. Достаточно того, что еженедельно на улицах города появляются крамольные листовки со смелыми призывами бить оккупантов, и авторы этих листовок продолжают здравствовать и творить свое дело. Достаточно, наконец, того, что в течение только последнего месяца зарегистрировано шесть чрезвычайных происшествий. Да еще какие происшествия! Среди белого дня, чуть ли не на глазах у дюжины горожан, у дверей почты убит следователь криминальной полиции. Убит наповал выстрелом из пистолета, и убийце удалось скрыться. Под городским телефонным коммутатором обнаружен подкоп из соседнего дома, а в этом доме уже в течение десяти месяцев жил гауптман интендантской службы, человек безукоризненной репутации. И думай что хочешь! Персонал, обслуживающий городскую электростанцию, весь без исключения сменен заново уже три раза, а всего неделю назад опять произошла умышленная авария, оставившая все учреждения на четыре дня без света. В кабинете управляющего биржей труда в ночь на воскресенье возник почему-то пожар, и от списка лиц, подготовленных к отправке в Германию, остался один пепел. В зоне нового аэродрома как-то на днях был задержан подозрительный тип без всяких документов. Схваченный, он отказался отвечать на вопросы, а когда двое автоматчиков повели его в контрразведку, он по дороге бежал. А всего лишь два дня назад возле заезжего дома кто-то крикнул, что во двор проник советский парашютист с гранатами в руках. Поднялась невообразимая паника, стрельба. Никакого парашютиста не нашлось, как не нашелся и человек, поднявший тревогу, а в перестрелке было убито двое полицейских и один немецкий солдат.
От одного этого голова идет кругом, а тут еще курьерская машина…
Шут с ней, с этой машиной! Пусть начальник гарнизона и комендант портят себе нервы. Не он — начальник гестапо — получил уведомление о проходе машины, а комендант. Не к нему идут шифровки, а к коменданту. Не он обязан был встречать машину и менять на ней охрану, а комендант. Так ему и карты в руки! Пусть и отбрехивается…
Начальник гестапо постарался даже не вспоминать об этом злосчастном курьере, которому, видимо, и в самом деле не повезло, и подумал о сообщении агента Филина. Это совершенно иное дело, конкретное, ясное.
Вчера он сам встретился с Филином и прочел письмо, им полученное.
Да, все обстоит так, как и доложил ему заместитель.
Командир партизанского отряда пишет:
«…Явится к тебе моя дочка. Устрой ее где-нибудь около себя».
Что это означает? Это означает, что дочка уже послана. Он не просит разрешения, согласия Филина, а посылает дочку. Возможно, уже послал. Об этом ясно говорит слово «явится».
Вот это интересно! Чертовски интересно! Не может быть никаких сомнений, что эта девчонка не обычный связной, а человек с определенными полномочиями. В письме идет речь не о том, чтобы Филин принял ее и приютил надень—два. Нет! Речь идет о том, чтобы устроить ее надолго. А командир отряда далее пишет: «Она девка способная, мастер на все руки»… и еще: «К тому же она и немецкий неплохо знает»…
И тут можно без ошибки сказать, что партизаны посылают в город человека для установления связи с местным подпольем, а может быть, и для руководства им. Партизанский отряд стоит сейчас далеко от города, а терять связи с подпольщиками не хочет. А возможно, партизаны решили воспользоваться радиостанцией подполья, которой сами не имеют. Наконец, не исключено и то, что партизаны подготавливают и намерены осуществить совместно с городскими подпольщиками какую-либо крупную диверсию.
Вот это дело! Настоящее, чисто агентурное дело, требующее ума и хитрости. Тут можно развернуть интереснейшую комбинацию. Можно заставить эту девчонку работать на себя и не только выловить подпольщиков, но и проникнуть в партизанский отряд.
И думать надо именно над тем, как заставить эту девчонку работать на нового хозяина. Хватать и сажать ее в подвал не имеет ни расчета, ни смысла. Так может поступить лишь круглый дурак, ничего не понимающий в вопросах контрразведки. Ее надо встретить, приютить, дать ей работу, но…
— Филин не дурак! — воскликнул начальник гестапо и прервал сам собственные размышления. — Теперь бы нам схватить этого «крота»! А может быть, он уже в наших руках? А может быть, и гостья уже пожаловала к Филину? А вдруг? Вдруг сразу и «крот» и гостья!
Вспомнив, что, покидая ночью службу, он просил не звонить ему на дом и не тревожить его, начальник гестапо вскочил с кровати и бросился к письменному столу, на котором стоял телефон. Он потребовал соединить его со своим заместителем. Немедленно!
Просьба была тотчас же удовлетворена, и в трубке послышался знакомый голос.
— А вы мне очень нужны…
— Знаю, — прервал его начальник гестапо. — Прежде скажите: как дела у Филина?
— Ждет. По старым условиям она должна явиться к нему с наступлением темноты и прямо на работу.
— Это сказал Филин?
— Совершенно верно.
— А как с «кротом»? — спросил начальник гестапо.
— Плохо…
— Опять прохлопали?
— Хуже.
— Что? Как хуже? Что случилось? Не тяните!…
— Его накрыли за работой, ворвались в дом, а он бросил гранату. Сам отправился на тот свет и прихватил с собой трех наших. А двоих тяжело ранил. Один из раненых полчаса назад отдал богу душу, а второй, кажется, готов последовать его примеру…
— Майн гот! [20]— воскликнул начальник гестапо. — Ослы! Идиоты! Кто руководил операцией?
— Оберштурмфюрер Мрозек, но я не вижу здесь его вины…
— То есть?
— Дом был закрыт, и его пришлось брать штурмом. Я на месте Мрозека поступил бы так же, как поступил и он: ломать двери и врываться.
— А рация?
— Он ее уничтожил.
— Но кто же этот он? Что это за герой?
— Молокосос… Подросток лет семнадцати — восемнадцати.
— А с кем он жил?
— Со старухой матерью.
— Ее схватили?
— К сожалению, нет. Скрылась.
— Черт знает что…
После долгой паузы заместитель осведомился:
— Когда вас ожидать?
Начальник гестапо помолчал и затем ответил:
— Я не приду… Да, да… Я прихворнул, и надо отлежаться. Командуйте там… — и он положил трубку.
16
Опустилась ночь. Плотная тучка на горизонте слизнула огрызок поздней луны. Темнота прикрыла временные аэродромные сооружения, боевые машины, упрятанные в земляных гнездах.
Лес, окружающий взлетную площадку, слился с темным небом.
Капитан Дмитриевский и Юля отдыхали на траве возле «эмки». Он сидел, прислонившись спиной к парашюту, а она полулежала рядом.
Оба молчали. Уже все было переговорено, каждый думал о своем. Он — о том, что в который уже раз любимый человек уходит в неизвестное, навстречу опасности. Сейчас снова улетит Юля, и медленно потянется время, без счета… И он снова будет думать о ней, волноваться до той поры, пока она не окажется опять рядом. Он попытался представить себе ее первые шаги на той стороне, мысленно ставил себя на ее место и последовательно, шаг за шагом, старался проследить путь в Горелов и обратно.
Она думала о другом. В тот самый миг, когда самолет оторвется от земли, лейтенант Юлия Туманова исчезнет, прекратит существование. Будто и не было ее. Она перевоплотится, перейдет в другое состояние, станет не тем, кем была минуту назад. В самолете будет сидеть совсем другая девушка… Такова профессия разведчика. Она не может предугадать, что случится с нею в воздухе, над территорией, захваченной противником, как не может предсказать и того, что ожидает ее. Надо быть готовой ко всему.
В мыслях своих она уже была там. Как всегда в таких случаях, хотелось ускорить течение времени и начать немедленно действовать.
Юлия Туманова была девушкой смелой, то есть умела преодолевать, подчинять своей воле то стихийное чувство страха, полное отсутствие которого вряд ли вообще возможно. Опыт многих опасных заданий подсказывал, что распускаться нельзя, что чувство страха лишает человека способности принимать правильные решения, а это еще более увеличивает опасность.
В памяти Тумановой промелькнули все события последнего времени.
…Разведчик Ковальчук три недели назад выбросился ночью с парашютом под Борисовом и достиг земли уже мертвым: его сразила в воздухе вражеская пуля. Радистка Вера Серебрякова, прыгнувшая весной этого года в районе Чернигова, спустилась на минное поле и мгновенно погибла. Младшего лейтенанта Остапенко парашют отнес в расположение фашистского концентрационного лагеря. Он упал на колючую проволоку, повис на ней и, окруженный врагами, застрелился.
А разве думали Ковальчук, Серебрякова и Остапенко, отправляясь на задание, что идут они в свой последний путь?
Переживания Тумановой как бы вращались по кругу: секунды какой-то неопределенной слабости чередовались с моментами твердой решимости.
Подсознательно Юля чувствовала, что она найдет в себе силу и твердость. И это ощущение было самым главным.
— Ты не уснула? — спросил капитан, проводя рукой по ее волосам.
— Что ты! Какой тут сон! — улыбнулась Юля.
Дмитриевский сжал ее руку. Он вложил в это пожатие все: свою любовь, свое уважение перед ее скромным мужеством и все-таки спросил:
— Не трусишь?
— А если и трушу, то не скажу.
— Понимаю тебя, Юленька, и прошу об одном: будь осторожна, проверяй и выверяй каждый свой шаг, прежде чем сделать его. Ведь ты одна у меня на свете. У тебя есть я, брат, мать, а у меня никого.
— Одна… одна… — повторила Туманова. — А как ты меня называл, когда я стала работать у вас? Помнишь?
— Помню. Недотепа. Но ты ведь и впрямь была тогда несмышленыш, всему удивлялась, не понимала, как надо хитрить с врагом, как обманывать его.
— А теперь?
— Ну, а теперь — дотепа! Теперь ты умница. Но и умники должны быть осторожны.
— А ты будешь мысленно помогать мне?
— Ежечасно! — горячо воскликнул Дмитриевский. — Ты знаешь, что я делал, когда зимой из-под Сухинич ты одна улетела в тыл? Я был с тобой мысленно все время, я наблюдал за тобой, считал минуты, часы, сутки. Помнишь, незадолго до твоего вылета мы ходили в лес? Так вот, когда ты улетела, я покоя не мог найти себе. Рано утром, до начала работы, стану на лыжи и по твоему следу туда, в лес. Стоят те самые заснеженные ели, под которыми мы проезжали, виднеются две полоски от твоих лыж, я иду по ним один, совершенно один, а кажется мне, что ты идешь тут же. А потом вернусь в ту избу, где ты жила, на окраине Сухинич, и смотрю на твою фотографию. И спать не могу, и чудится мне всякое. Или среди ночи бегу к радистам, нет ли от тебя весточки…
Со стороны палатки дежурного по аэродрому послышались голоса, и Дмитриевский умолк. Он повернул голову и увидел луч ручного фонаря, острой полоской проколовший темноту.
— Идут, — сказал он. — Надо вставать!
Оба поднялись. Дмитриевский взвалил на себя парашют. Юля накинула на плечи маскировочный халат и взяла в руку небольшой вещевой мешок.
— Давай попрощаемся, Андрюша…
В темноте капитан не мог заметить, как быстролетная улыбка на мгновение озарила строгое лицо Юлии. Свободной рукой он прижал девушку к груди и крепко поцеловал в губы, в глаза, в лоб.
— Вот и хорошо, — тихо произнесла Туманова. — Не забывай и читай твое любимое «Жди меня, и я вернусь», — пошутила она.
Капитан хотел обнять ее еще раз, но лишь крепко пожал руку. Голоса и шаги приближались. Щупая дорогу, изредка помигивал острым лучиком ручной фонарик.
Подошли Бакланов, командир авиаполка, дежурный по аэродрому, пилот, штурман и моторист.
— Как настроение? — весело осведомился пилот.
— В норме, — спокойно ответила Туманова.
Штурман взял из рук капитана парашют, подошел к ней и сказал:
— Давайте-ка я обряжу вас…
Юля сразу стала какой-то неуклюжей, похожей на медвежонка, казалось, уменьшилась ростом.
Пилот и штурман надели шлемы и полезли в свои кабины. Моторист направился к винту.
— Ваши руки, дорогая, — обратился Бакланов к Тумановой. — Вот так. Ишь, какие горячие! Что значит молодость! Волнуетесь?
— Да нет, не сказала бы, — улыбнулась Туманова.
— Берегите себя, — проговорил Бакланов. — Держите связь. Помните, что душой, сердцем и думами мы будем с вами. И вот еще что… — добавил Бакланов, отводя Туманову в сторону. — На личной связи у Чернопятова состоит немец антифашист. Это надежнейший человек, о котором мы пока ничего не знаем: ни фамилии, ни клички, ни где и кем он работает. Сведения о нем Чернопятов боялся доверить даже шифру и радио. И это правильно. В таких делах рисковать нельзя. Я вас попрошу при встрече с Григорием Афанасьевичем порасспросить подробнее об этом человеке и запомнить хорошенько.
— Понимаю. Все сделаю.
— Вот и отлично, — одобрил Бакланов. Он еще раз пожал ее руки и помог забраться в самолет.
Туманова заерзала в тесной кабине, стараясь усесться поудобнее, свесила через борт руку и позвала:
— Капитан!
— Да? — отозвался тот и шагнул к ней.
Она незаметно для других погладила его своей маленькой ладонью по щеке и тихо сказала:
— Все будет хорошо!
Дмитриевский сжал ее руку.
Винт поворачивался вначале неохотно, с усилием, с каким-то упорным нежеланием, потом вдруг свистнул и зачертил радужные круги.
Провожающие отошли в сторону.
Пилот дал газ, развернул дрожащую машину почти на месте и повел на старт.
На старте он остановил ее.
Провожающие сбились в кучку и смотрели вслед. Дмитриевский прикусил губу и махнул рукой, хотя отлично понимал, что Юля не видит его.
На старте вспыхнул голубой огонек и погас, и тотчас же множеством крохотных огоньков обозначилась взлетная дорожка.
Взревел мотор. Мощная волна воздуха подняла пыль. Самолет рванулся с места и слился воедино с мраком ночи.
— Двадцать три часа семь минут, — произнес Бакланов, взглянув на часы.
17
Через девятнадцать минут на высоте тысяча шестисот метров самолет подошел к линии фронта. Штурман показал рукой вниз. Туманова свесила голову, но ничего не увидела. И так каждый раз. Когда бы она ни летала, на переднем крае царили тишина и покой, и даже не верилось, что там, внизу, укрытые в окопах и траншеях, сидят притихшие люди, готовые в любую минуту открыть огонь.
Вдруг вражеский прожектор прорезал небо косым лучом. Пилот мгновенно сбросил газ, и рокот мотора стих. Винт почти бесшумно рассекал воздух. Но на какую-то долю секунды пилот, видимо, опоздал. Слепящий глаза луч прожектора вцепился в самолет и повел его. Тут же загрохотали зенитки. Пилот свалил машину на левое крыло, и она так быстро скользнула вниз, что Туманову прижало к правой стороне кабины.
Огненный столб света растерянно заметался уже где-то справа: жертва ушла из его цепких лап.
Тумановой вспомнился недавний эпизод, когда немецкий ночной бомбардировщик, ослепленный тремя советскими прожекторами, не смог уйти и воткнулся в землю. Она понимала — сейчас все зависит от искусства пилота.
Машину качнуло с борта на борт, как пароход от удара большой волны; впереди светлыми пучочками обозначались разрывы зенитных снарядов. А снизу вверх к самолету жадно торопились огненным, несущим смерть пунктиром желтые, зеленые и красные пулеметные очереди.
Что-то удушливое и тошнотворное подступило к горлу.
Прожектор погас, и пилот сейчас же увеличил обороты мотора. Замолкла и стрельба. Гитлеровцы, видимо, ожидали налета на свой передний край и, убедившись, что их опасения напрасны, успокоились.
Самолет, набирая высоту, углублялся во вражескую территорию.
Пилот смотрел вниз. Там, время от времени включая фары, пробирались невидимые с воздуха автомашины. И только по их огням можно было определить, что самолет шел над шоссейной дорогой, которая служила ориентиром.
Туманова вытянула шею и посмотрела на пилота. Он уверенно держал штурвал и спокойно вел машину. Порою казалось даже, что он спит, настолько незаметны были его движения.
Штурман, наоборот, все время двигался, поглядывал по сторонам, обращался к карте, смотрел на приборы.
Где-то далеко на юге быстрые фиолетовые росчерки молний полосовали небо, освещая на короткий миг край земли.
«Там фоза и, наверное, идет дождь», — подумала Туманова.
Прошло еще двадцать семь минут.
Из-под задней кромки левого крыла стали выплывать редкие и робкие огоньки, разбросанные цепочкой на черном фоне.
Штурман поднял планшетку и ткнул пальцем в карту: железнодорожная станция. Да, станцию трудно укрыть: выдают огни. Как ни вертись, а без семафора, без света на стрелках и на тупиках не обойтись.
Самолет отклонился от шоссе и от станции круто вправо. Огоньки исчезли. Внизу потянулись массивы лесов.
Немного спустя пилот сделал один круг, второй и, развернув машину против ветра, сбавил газ. На смену трескучему рокоту мотора пришел легко шуршащий и даже приятный шум винта, вращающегося на неполных оборотах. Высота стала стремительно падать: тысяча сто… тысяча… девятьсот… восемьсот… семьсот…
«Приготовьтесь, Юлия Васильевна, — сказала сама себе Туманова. — Подходит ваша пора».
Она взглянула вниз. Туманная дымка исчезла. Смутно обрисовывался лес. Мелькнуло что-то светлое, видимо озеро. Вокруг ни огонька, никаких признаков человека. Все мертво.
Стрелка указателя высоты приближалась к цифре 600.
Штурман поднял руку в перчатке. Пилот впервые за весь полет повернул голову.
Туманова поднялась, поправила лямки парашюта, неуклюже перевалилась через борт и, держась за него одной рукой, стала осторожно подвигаться к задней кромке плоскости. Встречный поток воздуха подталкивал ее в спину.
А внизу тьма.
Туманова остановилась. Это был ее шестнадцатый прыжок вообще и шестой в тыл врага. И все-таки было страшно. Она глубоко вздохнула, вдела правую руку в резинку, соединенную с вытяжным кольцом.
Пилот прощально помахал рукой.
— Удачи! — крикнул штурман, не отрывавший от нее глаз.
Туманова кивнула.
Затем она присела, как перед прыжком в воду, и, оттолкнувшись от ребра плоскости, бросилась в ночную пучину.
18
Косте Голованову теперь было глубоко безразлично, кто позаботится о его теле, где и как его похоронят. Он сделал свое дело. Он поступил так, как подсказала ему его чистая совесть, сердце настоящего человека. Ценой собственной жизни он спас доверенное ему дело. Тайну подполья он унес с собой, и ключ к этой тайне не могли подобрать гитлеровцы.
Но небезразлично это было подпольщикам.
Чернопятов распорядился вынести ночью тело Кости и похоронить, хотя бы во дворе, чтобы потом, в лучшие дни, перенести его на кладбище.
Но тут выяснилось, что это далеко не безразлично и гестаповцам.
Когда подпольщики из группы Калюжного, которому было поручено вынести тело Кости, повели днем наблюдение за домом Головановых, они ничего не обнаружили. Двор был пуст, дом раскрыт настежь, и казалось, что ни тем, ни другим больше никто не интересуется. Но так лишь казалось. Ночью подпольщики убедились в этом.
Они не пошли все, а послали на разведку одного очень ловкого и сметливого парня, Семена Кольцова, жившего неподалеку и хорошо знавшего и дом и двор Головановых. Того самого Кольцова, который принес Калюжному страшную весть о гибели Кости.
Кольцов, отлично знавший все соседние дворы, проник в сад не с улицы, а через сады, выбрал себе удачную позицию, с которой был виден вход в дом Головановых, и залег. Залег и стал наблюдать. Он пролежал почти два часа и, не обнаружив ничего подозрительного, хотел было уже подать условный сигнал своим друзьям, ожидавшим его за забором, но почему-то помедлил. Помедлил всего три — четыре минуты. И эти минуты спасли и его самого и трех других подпольщиков во главе с Калюжным.
Из дома вышел человек, в котором Кольцов, приглядевшись в темноте, сразу узнал солдата.
Он вышел тихо, постоял некоторое время, свыкаясь с мраком ночи, и прошел к воротам, бесшумно шагая.
У ворот он задержался.
Кольцову пришла в голову мысль прокрасться к солдату и расправиться с ним. Для Кольцова это не составляло никакой трудности. Если он, выполняя приказ подполья, смог уничтожить среди белого дня следователя криминальной полиции и удачно скрыться, то уж за исход этого поединка мог поручиться. Но голос рассудка остановил его.
«Пусть себе стоит, — рассуждал Кольцов, — а когда пойдет обратно, я его тихонько пристукну. И Костю вынесем».
А солдат все стоял, вырисовываясь черным пятном на серых воротах. Он чего-то ожидал.
Потом тень шевельнулась, двинулась, и Кольцов услышал скрип калитки. Солдат вышел на улицу. И сразу же за этим раздалось мяуканье кошки. Но имитация была до того неудачна, что Кольцов сразу сообразил: крику кошки неумело подражал солдат. Но зачем ему это понадобилось?
Это выяснилось очень скоро.
Вновь скрипнула калитка, и теперь уже в нее вошли пять человек. Они, осторожно ступая, пересекли двор и остановились у входа в дом. Один из солдат легонько постучал автоматом в стену, и из дома показались еще три человека.
Не обмолвившись между собой ни единым словом, солдаты постояли несколько секунд, затем четверо пришедших скрылись в доме, а четверо вышедших из дома покинули двор.
«Засада! — догадался Кольцов. — Они ждут нас, сволочи… Эх, если бы у меня была хотя бы паршивенькая гранатка!»
Но гранаты не было ни у Кольцова, ни у его друзей.
Кольцов пополз обратно, и распоряжение Чернопятова осталось невыполненным.
19
Приземлилась Туманова на самом краешке лесной поляны, помеченной на карте маленьким крестиком. Еще немного — каких-нибудь двадцать — двадцать пять метров — и она угодила бы на деревья. Коснувшись земли и упав в траву, девушка замерла, напряженно вслушиваясь. Откуда-то сверху, со стороны, едва доносился рокот удалявшегося самолета. Вокруг стояла тишина: ни шороха, ни феска, ни крика птицы. Безмолвие.
Выждав несколько минут, Юля поднялась с душистой травы, встала на колени и осмотрелась. Поляну плотно окружал лес. Гребень его ломаной линии едва-едва вырисовывался на темном звездном небосклоне.
Туманова высвободилась из парашютных лямок и взглянула на часы с фосфоресцирующим циферблатом — они показывали пятнадцать минут первого.
«Уже одиннадцатое июня», — подумала разведчица и вынула компас. Она без труда определила направление, по которому ей следовало двинуться.
Девушка еще раз осмотрелась, старательно, как можно туже скатала парашют и, взвалив его на плечи, зашагала к лесу. Влажная высокая трава почти достигала колен, и ее аромат слегка кружил голову.
Лес стоял хмурой, непроницаемой стеной. Она вошла в него, сделала шаг — другой и непроизвольно остановилась: казалось, будто ее опустили в черную тушь. Надо было переждать, пока глаза привыкнут к темноте. Скоро стали угадываться очертания стволов и просветы между ними.
Не торопясь, пристально вглядываясь, осторожно нащупывая ногой землю, она двинулась вперед. Густая паутина, протянувшаяся между деревьями, прилипала к лицу, рукам, одежде.
Ветви цеплялись за парашют. Туманова сняла его с плеча и взяла под мышку.
Ноги стали погружаться во что-то податливо-мягкое, пружинящее, и она догадалась, что это мох.
Кое-где в чаще робко и сиротливо высвечивали своими огоньками одинокие светлячки, изредка попадались гнилушки, излучавшие мертвый, едва теплившийся свет.
На душе было чуть тоскливо, смутно. Туманова понимала, что лесной мрак оберегает ее лучше любого укрытия, но от этого не становилось легче, и она не могла освободиться от неприятного, сковывающего чувства.
Куда ни шагни, куда ни сверни — повсюду подстерегал затаившийся мрак. И трудно сказать, одну ли ее укрывал и оберегал он!
Да чего таить: было и страшновато. Кто посмеет отрицать, что ночью, наедине с мрачным девственным лесом это чувство не овладеет им, не напружинит нервы, не заставит сильнее биться сердце?
Но вот лес начал понемногу редеть, и Туманова выбралась на небольшую поляну, поросшую густым папоротником.
Она передохнула немного, достала из-за пояса финку и выкопала вместительную яму. В нее она уложила парашют и засыпала его землей. Затем вынула из вещевого мешка две галеты, полплитки шоколаду и небольшой термос с чаем. Незадолго перед вылетом Дмитриевский уговаривал ее поплотнее поужинать. Но она отказалась. Андрей упрашивал, доказывал, что после прыжка ей надо быть бодрее, что надо набраться сил, но она так и не послушалась. И объяснила почему.
Отец Юли всю свою жизнь провел в лесу. Он родился в семье лесничего, долгое время работал научным сотрудником в лесных заповедниках и погиб в лесу. За три года до войны, передвигаясь по замерзшей таежной реке в Забайкалье, он вместе с лошадью и санями провалился под лед и не смог выбраться. Василий Туманов считал лес своим домом, любил, знал все его тайны и сумел эту любовь внушить детям. Он нередко говорил дочери: «Если хочешь хорошо видеть в лесу ночью, никогда не набивай желудок. Полный, сытый желудок притупляет зрение. Днем это незаметно, а ночью сильно сказывается».
Юля свято верила в житейскую мудрость отца, помнила его наказы и поэтому ограничила себя перед вылетом только стаканом крепкого горячего чая и бутербродом.
Сейчас, подкрепившись галетами и шоколадом, отхлебнув несколько глотков из термоса, она почувствовала себя вполне бодрой. Теперь надо было покинуть место, где зарыт парашют, так же быстро, как она покинула и зону приземления. Этого правила она придерживалась постоянно и никогда не нарушала его.
Сверившись с компасом и внеся небольшую поправку в направление своего движения, Туманова поставила пистолет на предохранитель и вновь углубилась в лес. Вскоре ноги ее заскользили по мягкому настилу из прошлогодней хвои. Лиственный лес сменялся хвойным.
Вдруг впереди послышался звук льющейся воды. Юля остановилась. До реки, по ее расчетам, было еще далеко. Она вслушалась и поняла: где-то совсем рядом грустно и мелодично ворковал невидимый родник.
Успокоенная, она пошла дальше и, пройдя час, решила сделать основательный привал, дождаться утра.
Юля выбрала укромное местечко под огромной густой елью, сбросила с плеч вещевой мешок, сняла маскхалат и разостлала его. Огня разводить не решилась, да в нем и не было особой нужды: в мешке имелся карманный фонарик.
Прежде чем улечься, ей надо было написать коротенькую радиограмму, зашифровать ее и передать армейскому центру. Она понимала, с каким нетерпением там ждут от нее первой весточки, как волнуются Андрей и полковник Бакланов.
Тому, кто сам не пережил этого, трудно по-настоящему понять то беспокойное, напряженное чувство, с каким ожидают первого сигнала от заброшенного в тыл врага радиста. И хотя выброска является только началом всей трудной и большой задачи и, может быть, не самой ее опасной частью — все равно первый принятый от разведчика сигнал наполняет ожидающих таким чувством облегчения, словно сигнал этот означает благополучный исход всего дела. «Конечно, они не спят, — думала Туманова, — ни Андрей, ни полковник. А как получат радиограмму, успокоятся».
Она закрепила фонарик за еловую ветку глазком вниз, с таким расчетом, чтобы свет не рассеивался по сторонам, но не зажигала его. Затем достала рацию, заученным, проверенным движением подключила крохотные портативные батарейки, рассчитанные всего на два часа непрерывной работы, вывела антенну, надела наушники.
Теперь можно было набросать радиограмму. Туманова вынула из рации блокнотик, карандаш и включила фонарь. Снопик света лег на землю небольшим ровным кружком. Но не успела она зашифровать коротенький текст, как появился враг. Враг жестокий и неумолимый. На свет устремились бесчисленные сонмища комаров. С нудным, пронзительным звоном эти ночные разбойники зароились над нею. Они свирепо набрасывались и с остервенением вонзали свои острые хоботки в лицо, шею, руки, жалили, жалили и жалили… Юля отчаянно хлопала себя по щекам, полбу, отмахивалась, но ничто не помогало. На смену кровожадным разбойникам появлялись все новые и новые, еще более свирепые и еще более жаждущие крови.
Покончив кое-как с зашифровкой, Туманова достала из мешка головной платок и завязала им лицо, оставив лишь щелку для одного глаза. Так стало лучше. Можно было приступить к работе.
Тихо щелкнул выключатель, и вспыхнула крохотная лампочка. Теперь уже не было надобности в свете фонаря, и Туманова выключила его. Она поправила наушники и поморщилась, попав в ужаснейший радиохаос. Тысячи различных звуков хлынули в уши: пощелкивание, резкое потрескивание, жалобный и монотонный писк многочисленных морзянок, разные музыкальные мелодии, завывание, постукивание… Но она упорно искала в этом океане звуков позывные армейского радиоцентра и нашла их.
Когда Туманова начала уверенно выстукивать ключиком телеграфные знаки, к ней пришло то радостное ощущение, которое так знакомо разведчикам-радистам в минуты связи с Большой землей. Невидимая воздушная нить пробиралась сквозь все преграды, шла от сердца фронтового коллектива к сердцу разведчицы и вливала в него новые силы.
Она мысленно представила себе Андрея. Конечно, он стоит сейчас возле дежурного оператора в машине армейского радиоцентра, жадно курит и пристально всматривается в однообразные точки и тире, выбегающие из-под руки оператора…
Юлю охватило чувство теплой нежности к самому дорогому для нее человеку, такому близкому и такому недосягаемому сейчас. И стало грустно, что по-настоящему они так и не объяснились друг с другом… Будто боялись что-то спугнуть словами.
А дежурит на радиоцентре Зойка Снежко, забавная, любящая поспать девчонка. Юля сразу узнала ее по «почерку», как узнала бы и всех других операторов.
Передача заняла три минуты. Только три. Получив «квитанцию» о приеме телеграммы, Туманова выключила рацию и спрятала в мешок.
Затем она встала, наломала хвойных веток и уложила их ровным слоем под елкой. Кинув под голову вещевой мешок, она закуталась в маскхалат и улеглась, согнувшись калачиком, поджав чуть ли не к самой груди коленки. Одна… Одна-одинешенька в темной ночи, в глухом, спящем лесу.
И хотя усталость и нервное напряжение разморили ее основательно, сон пришел не сразу. Чуткое ухо ловило дыхание леса, текли сбивчивые, ленивые мысли.
Странно, она почему-то не думала о том, что ждет ее завтра с рассветом. Нет. Думами она была в кругу фронтовых друзей.
Вспоминался вчерашний день, вечер. Никто не знал, куда именно и с каким заданием летит Туманова; об этом никогда не говорилось. Но все догадывались, что она летит за линию фронта. И этого было достаточно.
Переброски на ту сторону не были редкостью в разведотделе армии, но все же каждая из них являлась значительным событием. Человека, готовящегося, как принято было говорить, к «ходке», неизменно окружали повышенное внимание и теплая товарищеская забота.
С каким трогательным усердием лейтенант Паша Назаров исправил вчера в ее фляге колпачок, пропускавший воду! Он корпел над этим колпачком часа три, пока не добился своего. Он обкатывал его на специально выструганных им же деревянных болванках, подгонял резьбу. А как был рад, когда убедился, перевернув флягу, что вода из нее больше не сочится.
А Женя Караулова! Та Женя, которая сама уже имела за плечами пять «ходок» за линию фронта! Она собственноручно, несмотря на протесты Тумановой, перешила то платье, которое сейчас лежит аккуратно скатанное в ее вещевом мешке под головой. Она же уложила вещи в мешок и подсунула туда лишнюю плитку шоколаду, сбереженную из своего пайка.
А начальник радиоцентра! Как тщательно выверял он для нее рацию, а потом, не найдя достаточно хорошего, по его мнению, ручного фонаря, отдал ей свой.
Приходило на память многое, многое, но мысли путались, ускользали. Она засыпала…
20
В пять часов утра в дверь к полковнику Бакланову кто-то осторожно постучал.
— Входите… дверь отперта, — разрешил Бакланов.
Вошел Дмитриевский, несмотря на столь ранний час, по-обычному чисто выбритый, строго подтянутый. Свежий подворотничок четко выделялся узенькой полоской на его смуглой шее.
Андрей был удивлен, застав полковника на ногах. Бакланов стоял у окна, держа в руке потухшую папиросу. Лицо у него было необычное: утомленное, осунувшееся. Он словно постарел за ночь.
— Ну, что? Есть что-нибудь от Юлии Васильевны? — спросил полковник с плохо скрытым волнением.
— Так точно! — не сдерживая своей бурной радости, выкрикнул капитан и подал полковнику расшифрованную телеграмму.
— Что же вы… — быстро сказал Бакланов, почти выхватив у Дмитриевского бланк, и прочел: — «Приземлилась точно в заданном месте.
Парашют спрятала, зону покинула. Ожидаю утра. Юлия».
Бакланов помолчал, держа в руке листок, и тихо произнес:
— Что же можно сказать? Прекрасный у вас товарищ… Девушка большой душевной силы, смелости…
— Да, — смущенно начал капитан. — Ко мне часто приходит детская мысль: хорошо бы, думаю я, иметь этакий сверхсовершенный радиоэкран, что ли… я не знаю, как его назвать. Или аппарат. Ну, это неважно. Суть не в этом… Включить бы такой аппарат, увидеть бы на экране всех наших людей на той стороне! Понимаете? Вот представьте себе: подсели мы сейчас к аппарату, повернули рычажок — и пожалуйте: на экране Юлия Васильевна! Повернули другой: смотрим — Вавилов. И все нам видно. Не попали ли они в беду, не нужна ли им помощь… Здорово было бы! Только это мечта.
— Да, это верно. Но вот пока мы не в состоянии узнать даже, что помешало гореловскому корреспонденту закончить передачу, почему он умолк…
Бакланов открыл коробку папирос, угостил капитана, закурил сам и резко, деловито закончил:
— Что ж… Будем надеяться, что не сегодня-завтра Юлия Васильевна откроет нам гореловскую тайну.
Дмитриевский взглянул на койку. Она была нетронута, аккуратно заправлена, и, как вчера, на ней лежали автомат, диски к нему, две гранаты и фуражка.
Бакланов перехватил его взгляд, нахмурился, сел за стол и взялся за бумаги.
— Садитесь, — сказал он, — докладывайте, что у вас…
— Вернулась с задания группа Вавилова.
— Когда?
— В четыре ночи.
— Беседовали с Вавиловым?
— Так точно. Наши данные полностью подтверждаются. К мосту по реке подобраться нельзя. И плот с взрывчаткой нельзя пустить. Немцы поставили в воде перед мостом заградительные сети.
— Прочные?
— Металлические.
— Плохо. Подготовьте донесение на имя командующего за моей подписью. От Вавилова потребуйте подробный рапорт. Еще что у вас?
— Шестой корреспондент подтверждает, что на территории бывшего кислородного завода действительно развертывается мастерская по ремонту танков и автомашин. Из Германии прибыла группа рабочих в количестве сорока трех человек. Среди них французы, русские и поляки.
Гитлеровцы огородили территорию завода колючей проволокой.
— Эти данные проверены? — поинтересовался Бакланов.
— Да.
— Информируйте командующего авиацией. Еще?
— Пленный фельдфебель начал давать показания.
— Что он говорит?
Дмитриевский пожал плечами:
— Боюсь, что он пытается нас дезинформировать.
— Из чего вы заключаете?
— Он назвал номера частей, якобы стоящих против нашего участка, в то время как мы располагаем сведениями, что эти части переброшены месяц назад на Северный фронт.
— Хм… Я так и предполагал. Когда Воронков едет на передовую?
— Он готов, ожидает меня.
— Передайте с ним приказание начальнику разведотдела сибирской дивизии — добыть нового «языка». И добыть побыстрее! Желательно офицера.
— Есть!
Бакланов прислушался. До его слуха долетел тяжелый и беспрерывный гул, похожий на далекие раскаты грома. Он сообразил, что у соседа слева работает дальнобойная артиллерия резерва главного командования, еще вчера тянувшаяся через деревню.
— Давно началась эта музыка? — спросил он.
— Минут сорок назад, — ответил Дмитриевский.
Бакланов задумался. Как же он не услышал этого гула ранее?
Состояние Бакланова тревожило капитана: полковник был сегодня необычно беспокоен, рассеян, лаконичен.
— У вас все? — спросил Бакланов и встал.
— Так точно, все…
— Идите… — разрешил полковник. — А сообщения Юлии Васильевны докладывайте мне тотчас после расшифровки… — Он посмотрел на часы. — Она, наверное, сейчас пробирается в город… М-да… Хорошая девушка… Счастливый вы человек, капитан. Идите…
Дмитриевский вышел на улицу. У стены соседней избы сидел неизменный ординарец полковника и смазывал автомат.
Капитан поманил его пальцем.
Ординарец подбежал, на ходу вытирая тряпкой вымазанные руки, и хотел было представиться, но Дмитриевский взял его за поясной ремень и отвел в сторону.
— Что с полковником? Он не спал сегодня? — спросил капитан.
Убедившись, что предстоит разговор не служебного характера, ординарец покашлял в кулак, опасливо посмотрел в сторону избы и тихо сказал:
— Плохо, товарищ гвардии капитан. Когда полковник был на аэродроме, ему позвонил начальник политуправления фронта. Я ответил, что полковника нет. Потом он звонил еще раз и опять не застал. А следом за звонком передали телефонограмму. Я ее принес и обмер: вчерашней ночью погибла жена полковника. Прямое попадание бомбы в госпиталь. Она как раз делала операцию… Вот так…
21
Спала Туманова немного, как умеют спать разведчики, и встала перед восходом солнца.
Звезды уже померкли. В лесу посветлело. Предутренний ветерок неуверенно шелестел в верхушках деревьев. Между медно-красными соснами и темными шершавыми елями легко мелькали атласно-белые стволы берез.
Юля быстро собрала все свое имущество, сверилась еще раз с картой и компасом, наметила наикратчайшее направление и отправилась в путь.
Минут через десять она выбралась на тропу, которая ясно выделялась на карте, а в лесу была почти незаметной. Ею, видно, редко пользовались. Идти стало легче, но в то же время опаснее: кто-нибудь мог встретиться. Однако еще опаснее оставлять следы вне тропы.
Тропа пробиралась сквозь лесные заросли, стлалась по песчанику, обтекала заросшие жирной травой болота, терялась во мхах и вновь выходила в стройный бор, чтобы вести все дальше и дальше на юго-запад.
В лесу все светлело. На востоке поднималась широкая густо-алая кайма.
Тропинка выбежала на давнюю вырубку леса, уже заросшую молодым орешником. Такие места здесь называются сечами. На Туманову набежал по-утреннему прохладный и задорный ветерок. Он деловито захлопотал в листве орешника.
Тропка пробежала через сечу и вновь углубилась в лес.
Отдохнувшая, со свежими силами, Туманова бодро шагала. Ушел ночной мрак и унес с собой все тягостные и неприятные ощущения.
Через дорогу переползал едва заметный ручеек. Он сочился тоненькой хрустальной и прозрачной ниткой и, беззаботно журча, разговаривал сам с собой. Туманова остановилась полюбоваться им. И вдруг все кругом преобразилось: далеко на востоке из-за края земли вышло солнце, и его первые лучи заиграли в вершинах сосен.
Юля стояла, не шевелясь, как зачарованная. Солнце! Его радостно встречал пробудившийся от дремы лес, такой угрюмый и пугающий ночью и такой торжественный и величавый сейчас. Ему слали свой привет проснувшиеся птахи, уже щебетавшие вокруг на разные голоса. Солнце! Сколько раз в жизни довелось Тумановой встречать его восход и сколько раз приходилось провожать его за горизонт, грустить в сумерки и искать первую звездочку, затеплившуюся в небе!
«Как может быть счастлив человек, лишенный возможности хоть изредка видеть восход и заход солнца?» — говорил отец Юли.
Да, отец прав. Всякий раз по-особому, по-разному воспринимала она это ни с чем не сравнимое зрелище. И вот сейчас…
Она шла, радуясь рождению дня. Свет властно овладевал лесом, уже можно было различить каждое деревце, каждый кустик. Слева красуется мягкий и пушистый, как ковер, хвощовый мох. Сосны уже выбросили свои свечи. На кончиках разлапистых ветвей елок ярко выделяются молодые побеги салатного цвета. Лес становится опять смешанным. На полянки выбегают деревца рябины, осины, ольхи, кустится орешник. Изредка попадаются дубки, растущие группками.
А сколько будет ягод в этом году! Белыми звездочками усыпана земля.
«Как хорошо! — вздохнула Юля. — Если бы Андрей был со мной рядом!» — подумала она и вздрогнула: белка, распустив хвост, махнула над ее головой с елки на елку и, быстро карабкаясь по стволу, спряталась на самой макушке дерева.
Тропинка неожиданно вильнула вправо. Пройдя несколько шагов, Туманова вернулась к месту поворота. Кажется, так и должно быть… Но чтобы не ошибиться, она обратилась к карте. Да, правильно: тропа уходила строго на запад, а ей следовало держаться юго-запада. Она спрятала карту, посмотрела на компас и вновь зашагала.
Пройдя еще с километр, она выбралась на большую, длинную, изогнутую поляну и окончательно убедилась, что идет правильно.
С северной стороны поляны лежало озеро. Оно было показано на карте. Молочно-белый, волокнистый и уже прозрачный туман поднялся от воды. Он добрался до леса и мохнатыми клочьями повис на ветвях деревьев.
Туманова подошла к озеру, поросшему с краев густой, по грудь человека осокой. Оно было похоже на кусочек светло-голубого неба, оброненный на землю.
Раздвинув осоку, Юля глянула на воду. Темно-коричневая краснолапая кряква, сидевшая у зарослей, зорко посмотрела на неожиданную гостью и, не поднявшись, отплыла к противоположному берегу. Она разрезала грудью неподвижное зеркальное плесо и волокла за собой острый, угольчатый след.
— Какая умница! — произнесла Юля. — Чувствует, что ей не грозит опасность.
Утка скрылась в воде и неожиданно закрякала.
Туманова ступила сапогами в воду, наклонилась, увидела, как в зеркале, свое отражение, улыбнулась и стала умываться.
Теперь нужно было основательно подкрепиться. Голод давал о себе знать. Развязывая мешок, Туманова сказала:
— Дождя не будет: роса большая.
Она запрокинула голову: в небе пышными скоплениями тянулись белогрудые, точно лебеди, облака, а под ними парил, рисуя небольшие круги, коршун…
22
Чернопятов не спал эти ночи. Ему было не до сна. Он не мог еще оправиться после смерти Кости. Каким образом гестапо удалось напасть на след парня? Ответить на этот вопрос могло только гестапо. О том, что Костю предали, не могло быть и речи. Такую, самую страшную, возможность Чернопятов исключал. Костю как радиста и участника подполья знали лишь трое: Чернопятов, Заболотный и Калюжный. За обоих последних Чернопятов мог поручиться, как за самого себя. Но Костю могли и не предать, а выследить. А если так, то что навело на след Кости?
Возможно, что под слежкой оказался не Костя, а кто-нибудь из них троих, знавших его как радиста. Тогда следует разобраться, кто именно: Чернопятов, Заболотный или Калюжный — допустил оплошность и навлек на себя подозрение?
Заболотный знал, где живет Костя, но уже более года не видел его. Следовательно, это подозрение отпадает.
Чернопятов, покинув дом Головановых, в котором он проживал нелегально, встречался с Костей очень редко. Последний раз он принимал Костю у себя в мастерской месяца три назад. Стало быть, Чернопятов не мог служить причиной провала.
Оставался Калюжный. На его обязанности лежало поддерживать постоянную связь с Костей и изредка встречаться с ним. Они виделись накануне катастрофы. Костя заходил в лавку и «приобрел» там сорочку.
Но если гестаповцы «вышли» на Костю через Калюжного, напрашивался сам собою вопрос: почему они не арестовали Калюжного? Конечно, за этим могла скрываться определенная тактика гестаповцев, определенный расчет: слежка за Калюжным дала им радиста, авось даст и еще кого-нибудь…
В окно котельной уже пробивался утренний свет, а Чернопятов лежал на своем твердом топчане, закинув руки за голову, и все думал и думал.
И потом он вспомнил, что есть четвертый человек, знавший Костю: это Семен Кольцов. Да, да, да. Кольцов знал Костю до войны, знал его отца, мать, братьев, он живет недалеко от дома Головановых, на той же улице, и он первый сообщил Калюжному о смерти Кости.
Но разве можно заподозрить Семена Кольцова в предательстве? Нет, нельзя. Есть такие люди, которым нельзя не верить.
И Семену нельзя не верить. И не только потому, что он беззаветно, до дерзости храбрый, готовый на самопожертвование человек. И не потому также, что ни у одного из участников подполья нет такого богатого боевого счета, как у Семена, а потому, что он — подлинный патриот, душой и телом преданный Родине, потому, что в нем течет кровь отца, отдавшего свою жизнь за то же дело, за которое борется он, его сын, потому, что братья Семена — офицеры Красной армии, потому, что сестра его одной из первых в городе Могилеве была публично повешена гитлеровцами.
Нет, Семен никогда не встанет на позорный путь предательства. Об этом нельзя и думать.
Но возможно, он помимо своей воли вывел гестаповцев на след Кости?
Тоже невероятно. Тогда он прежде сам должен быть на подозрении. И если бы он был на подозрении, гестаповцы давно схватили бы его. Не медля ни минуты. Они не ведали о том, что расправа со следователем криминальной полиции, вскрытие сейфа в бургомистрате, неоднократные аварии на электростанции, взрыв гранаты в солдатском клубе, поджог склада с оружием во дворе полиции и многое другое — дело рук не кого иного, как Кольцова.
Кольцов не мог навести гестаповцев на след Кости еще и потому, что за время оккупации он не посещал дом Головановых. За это Чернопятов мог поручиться.
Но тогда как же это случилось? Что думать?
Думать можно двояко: или Костю запеленговала немецкая радиоконтрразведывательная служба, или же допустил какую-либо оплошность Калюжный.
Хотя Костя и проводил передачи не в строго определенные дни и часы, хотя он и сводил сеансы до нескольких коротеньких минут, его все же могли засечь.
Но если Калюжный?…
Чернопятов резко поднялся с топчана. Ему не надо было одеваться. Он не раздевался с вечера.
Отвернув кран в стене, он наполнил водой кружку и выпил ее до дна. Прошелся по котельной…
А как поступить с голубым пакетом? Что делать с захваченными документами огромного военного значения? Ведь танк «дракон» пускают в серийное производство!
«Эх… — вздохнул Чернопятов. — Знал бы полковник Бакланов, что хранится у меня под верстаком! Что же предпринять? Где выход? Неужели все труды пропали даром? А ведь недешево дался нам этот пакет… Костя… Тимошка… — он прикрыл глаза рукой и решился. — Надо повидать Калюжного… Во что бы то ни стало. Предупредить его и посоветоваться… У меня мозги уже не варят…»
23
Израненная снарядами и бомбами, истерзанная гусеницами танков и самоходных пушек, лежала шоссейная дорога. Над ней монотонно гудели телеграфные провода.
На верхушке столба сидел старый нахохлившийся ворон и лениво, нехотя чистил перья своим большим клювом.
Выбравшись из лесу вперед, как дозорный, стояла тонкая рябина. Под нежными порывами утреннего ветерка она слегка раскланивалась из стороны в сторону.
Было пусто и безлюдно. Тишину нарушало лишь звонкое и переливчатое пение жаворонков, вьющихся в небе.
Туманова огляделась, намереваясь покинуть свое укрытие у дороги, но далекий, возникший где-то в западной стороне шум остановил ее. Она опустилась на землю, укрывшись за ветвями.
Шум приближался, и уже можно было расслышать треск мотора.
На шоссе показались два солдата-мотоциклиста. С треском и шумом, подскакивая на ухабах, проехали они на своих «БМВ» и скрылись из глаз. За ними появился бронетранспортер. Он шел на большой скорости, лязгая и гремя металлом, а следом потянулась колонна длинных и тупорылых трехосных грузовиков. В кузовах длинными рядами чинно, точно на параде, сидели гитлеровцы. Солнце поблескивало на металле оружия. Борты грузовиков были разрисованы желтыми полосами и трехголовыми уродливыми драконами.
Секунды шли, шли, и казалось, им не будет конца. Прошло минут пятнадцать, прежде чем скрылась из глаз последняя машина колонны.
И снова стало тихо и безлюдно на шоссе.
Разведчица быстро выбралась из своего укрытия, легко перепрыгнула через кювет, взглянула на дорожный столб, на дощечке которого стояла цифра 6, и с беспечным видом зашагала в южную сторону.
На ней было простенькое, но хорошо сшитое ситцевое платье с мелкими черными цветочками на красном фоне. С головы полуспадала шелковая косынка. В одной руке она держала сумку, в другой — небольшой букетик цветов.
Через несколько минут ее обогнала автоцистерна, и Туманова сошла на обочину, а когда показалась машина с пустым кузовом, подняла руку.
Водитель притормозил, остановил машину и высунул голову из дверцы. Туманова видела, что рядом с ним сидел, склонив голову, солдат в зеленой форме. Он, видимо, спал.
—Довезите меня до Горелова, — обратилась она по-немецки к водителю.
Тот с нескрываемым любопытством оглядел ее и, толкнув локтем своего соседа, воскликнул:
— Эй, дружище, полезай в кузов! Освободи местечко представительнице слабого пола.
Сосед протер глаза, свирепо зевнул и недоуменно уставился на Туманову. Она показалась ему явлением из другого мира.
— Пошевеливайся! — заторопил его водитель. Солдат безропотно покинул кабину и залез в кузов. Его место заняла разведчица. Машина тронулась.
24
А начальник гестапо гауптштурмфюрер Штауфер продолжал «хворать». Он валялся в постели, курил, читал свежие газеты, доставляемые ему на дом, но мысль о дочке командира партизанского отряда не покидала его.
В конце дня он вызвал к себе своего заместителя и принял его, лежа в постели.
— Крутит меня всего, — пожаловался он. — Или простыл, или переутомился…
— А температура? — поинтересовался заместитель.
— Тридцать семь и три.
— Надо полежать.
— Я и то думаю. А как дела у коменданта?
Заместитель усмехнулся и махнул рукой.
— Не на месте сидит человек, — проговорил он. — Он растерялся окончательно. Ежеминутно звонит, мечется по городу, поднял на ноги гарнизон.
— А что вы думаете? — спросил начальник. — Куда в самом деле могла деваться машина?
— Ума не приложу. Я мало верю в то, что она прошла Лопухово. Это очень шаткая версия. Вот что она была в Стодолинске — это факт. Я сам звонил туда.
— Но от Стодолинска до нас больше трехсот километров, — заметил начальник.
— Точно. Я и посоветовал майору Фаслеру искать следы на этом отрезке.
— Правильно поступили, — одобрил начальник и спросил: — Мать «крота» нашли?
Заместитель беспомощно развел руками.
— Пока нет.
Оба умолкли. В комнату вошел солдат с подносом в руках. На нем были две чашки с горячим кофе и подрумяненные тостики.
Заместитель подвинул стул поближе к кровати, и солдат поставил на него поднос.
— Прошу, — пригласил начальник своего заместителя и сам взял чашку. Сделав глоток, он спросил: — Вы подготовились к встрече этой партизанской девки?
— Да, да… Я только что беседовал с Филином и дал ему исчерпывающие указания. Он сам горит от нетерпения повстречаться с нею. И народ я проинструктировал.
— Самое главное — спокойствие, — предупредил начальник гестапо, отхлебывая кофе маленькими глотками. — Никаких препятствий ей не чинить. Предоставьте ей полную свободу. Пусть ходит по городу, устраивается.
Заместитель кивнул, а шеф его продолжал:
— Как только она пожалует, сейчас же позвоните мне. И вообще держите меня в курсе событий. Я почему-то уверен, что эта способная девка, как выражается в письме ее мнимый папаша, выведет нас на городское подполье.
Заместитель вздохнул и поставил на стул пустую чашку.
— Наша ошибка состоит в том, — медленно проговорил он, разминая сигарету, — что мы решили схватить «крота» и потеряли его. Мы лишили себя больших перспектив. Мы поторопились. Надо было выждать. Поверьте мне, что «крот» понадобился бы нам в связи с визитом новожиловской дочки.
— Пожалуй, да, — неохотно согласился начальник гестапо.
Ему не хотелось признаться в том, что захват «крота» — его собственная инициатива. Не кто иной, как он приказал при обнаружении радиста немедленно брать его. А заместитель придерживался иного мнения. Он считал, что главное заключается в том, чтобы засечь нелегальную радиостанцию, взять ее под наблюдение, а с арестом радиста временно воздержаться.
— Кому вы поручили наблюдение за ней? — спросил он после долгой паузы.
— Оберштурмфюреру Мрозеку.
Начальник гестапо поморщился. Он не особенно любил этого желторотого птенца, дамского сердцееда.
— Справится он?
— Я уверен.
— Хорошо, — согласился начальник. — Пришлите его ко мне. Я сам с ним побеседую.
Заместитель встал, поставил стул к стене и поклонился.
25
Небольшой мрачноватый зал кафе «Глобус» с низким, закопченным потолком и стенами, оклеенными обоями салатного цвета, заполнялся обычно с наступлением вечера.
Это было единственное место в городе, где гитлеровские офицеры имели возможность посидеть за стаканом вина и потанцевать.
Солдатам и местному населению входить в кафе запрещалось. Исключение делалось лишь для женщин. Они могли появляться в любое время, с кавалерами и без кавалеров, при условии мало-мальски приличного наряда. Но последнее принималось в расчет главным образом тогда, когда женщина появлялась одна, без офицера, что бывало событием довольно редким.
В городе все чаще и чаще останавливались на ночевку различные части, идущие к фронту. Офицеры, радуясь передышке, шли или в офицерский клуб или в кафе. Большинство предпочитало кафе: здесь было веселее.
Зал освещался большой люстрой, невесть откуда сюда попавшей .Она спускалась с потолка так низко, что человек среднего роста мог без труда достать до нее рукой.
Столы украшала самая разномастная посуда, начиная с бокалов чистейшего хрусталя, тарелок саксонского фарфора и кончая грубыми гранеными стаканами из обыкновенного мутного стекла. Скатерти пестрели красными и желтыми пятнами. В этот вечер кафе было переполнено. В половине десятого на подмостки, расположенные в углу, правее буфета, поднялись скрипач, аккордеонист, трубач, виолончелист и пианист. Вслед за ними под жидкие хлопки публики развязно выбежала певица, пользовавшаяся у офицеров местного гарнизона особой популярностью.
Это была размалеванная женщина неопределенного возраста, с выщипанными бровями и чудовищной прической, напоминавшей собой цветочную клумбу. Платье из плотной ткани канареечного цвета с голубыми разводами подчеркивало пышность форм этой особы. Она кокетливо раскланялась во все стороны и одарила кого-то воздушным поцелуем.
— Марго, привет! Повесели нас, старуха! — весело закричали офицеры.
Оркестр заиграл танго тридцатилетней давности, и Марго низким голосом, в нос, затянула:
Шуми-ит но-очной Ма-арсель…Тотчас говор стих. Задвигались стулья, часть столов опустела, и на небольшом «пятачке» перед буфетом начались танцы.
Успевшие подвыпить кавалеры сталкивались с официантами, старавшимися пробраться сквозь плотный строй танцующих, наступали дамам на ноги, роняли пепел от своих сигарет на их плечи. Когда пение и музыка умолкли и танцующие хлынули на свои места, в зале появилась Юлия Васильевна.
Следуя советам полковника Бакланова, она еще днем предприняла разведку и выяснила, что
Готовцев действительно работает шеф-поваром в кафе «Глобус», что он жив, здоров, невредим. Все это удалось ей узнать без труда от безногого инвалида, продававшего мороженое возле дверей кафе. Инвалид оказался покладистым и добродушным парнем. Он охотно вступил в беседу. Пока Юля уничтожала безвкусное мороженое, единственным достоинством которого было то, что его долго держали на льду, инвалид выложил ей все, что ему было известно о кафе «Глобус».
Туманова узнала, что кафе содержит немец Циглер, что официантами работают русские, помощником повара — не то немец, не то поляк, шеф-поваром — известный здесь кулинар Готовцев. На работу он приходит часов в пять дня, а уходит поздно, не раньше двух ночи. Готовцев (а это мороженщику известно точно) работает еще в другом месте, на вокзале, где он занят с семи утра до двух дня. Но вокзальный ресторан — это уже не то, что было до войны. В нем раздают обеды проезжающим солдатам.
Все эти полезные сведения помогли разведчице ориентироваться. Правда, ее смущало то обстоятельство, что явка назначалась между девятью и десятью часами вечера. Ведь Готовцев мог принять ее и в шесть и в семь часов. Но, очевидно, были какие-то причины, с которыми подпольщикам приходилось считаться.
У Тумановой вначале появилась мысль — вызвать Готовцева или передать ему записку, но это шло вразрез с условиями, которые сообщил Чернопятов. Нельзя нарушать их. Ведь не просто же так, с бухты-барахты, подпольщики назначили явку не днем, а вечером и не на квартире, а именно в кафе.
У Тумановой оставалось еще много времени, и она решила переждать в укромном уголке городского сада, на скамеечке за старой беседкой, среди кустов сирени.
Ровно в девять она появилась возле кафе. Прежде чем войти, она раза два прошлась мимо, охваченная сомнениями и нерешительностью, потом взяла себя в руки и переступила порог. Переступила, когда умолкла музыка, а войдя в зал, на какое-то мгновение растерялась.
Да и нетрудно было растеряться, попав с темной, тихой и безлюдной улицы в этот ярко освещенный, шумный зал.
Но девушка быстро овладела собой. Однажды ей довелось оказаться в обстановке гораздо более сложной: зимой сорок первого года под видом корреспондента одной из провинциальных немецких газет она попала на банкет старшего и высшего офицерского состава в Орле. Вот это было испытание! А сейчас что!… В ее сумке лежали надежные документы…
Неторопливой походкой, рассеянно глядя по сторонам и небрежно играя сумочкой, разведчица направилась между столиками к буфетной стойке, за которой, как она поняла со слов мороженщика, всегда находился хозяин кафе Циглер.
Он и сейчас стоял там. Навалившись животом на стойку, этот небольшой человечек, с черепом гладким и круглым, как бильярдный шар, краснощекий, с лихо подкрученными на кайзеровский манер усами, с нескрываемым любопытством смотрел на приближавшуюся молодую женщину.
Туманова подошла, поздоровалась на чистом немецком языке и, не ожидая ответа, спросила:
— Я могу видеть вашего шеф-повара?
Циглер оторвался от стойки и выпрямился.
На лице его можно было прочесть крайнее удивление. Он попытался уточнить:
— Господина Готовцева?
— Ну да!… Даниила Семеновича Готовцева, — подтвердила Юля, заметив, что офицеры, сидевшие близ стойки, обратили на нее внимание.
— А вы кто? — поинтересовался Циглер. — Что ему сказать?
— Скажите, что его просит сестра…
— О!… — воскликнул Циглер. — Сестра!
— А что? — любезно и не без кокетства улыбнулась Туманова.
— Ничего! Видит бог, ничего! Роскошная сестра! Господин Готовцев будет рад, и я лично разделяю его радость. Сию минуту! Сию минуту!… — он резко выбежал из-за стойки и, прищелкивая пальцами, скрылся за дверью, прикрытой тяжелой портьерой.
Туманова подумала, что удобнее всего было бы сейчас присесть, но поблизости свободного столика не оказалось. «Неудачное место, хуже и придумать трудно», — отметила она про себя, торопливо вынула из сумки веер и, развернув его, стала обмахиваться.
За ближайшим столиком шумела офицерская компания. Юля сразу разобрала, что говорят о ней.
Раздались возгласы:
— Катастрофически красива!
— Прямо до неприличия!
— Ослепнуть можно! В такой трущобе!…
— Я… я тут бываю ежедневно. И не видел. Поразительно!
У разведчицы дрожал каждый нерв. Но она спокойно стояла, опираясь на локоть, и внимательно разглядывала портрет Гитлера, заключенный в багетовую рамку.
Один из офицеров разлил вино по бокалам, поднялся и обратился к своим собутыльникам:
— Господа! Прошу встать! — все поднялись, загремев стульями. Офицер повернулся к Тумановой так, чтобы она его видела. — Пьем за ваше здоровье и благополучие, прекрасная фрейлейн! Вы лучший из трофеев в этом городе!
Он поднял бокал на уровень глаз, и все сделали то же.
Девушке пришлось наградить офицера улыбкой и слегка поклониться. В это время из-за портьеры показался Циглер и с ним человек в белом переднике и колпаке. На вид ему было лет тридцать пять, не более.
Туманова стояла вполоборота и сделала вид, что не заметила их появления. Это было обдумано заранее: ведь не могла она сразу же броситься мнимому брату на шею! Она не была твердо уверена в том, что придет именно Готовцев, которого она никогда в глаза не видела. Сейчас все решала выдержка, железная выдержка и нервы. Ведь сестра не может ошибиться и спутать родного брата с посторонним человеком. Если с Циглером по игре случая пришел не Готовцев, а кто-либо другой, то малейшая оплошность с ее стороны может повлечь за собой провал. Значит, надо выждать какие-то секунды. Пусть Готовцев, если он не лишен сообразительности, первым обратится к ней.
Туманова продолжала смотреть, улыбаясь, на веселую компанию, когда раздался возглас:
— Валечка!
Она нарочито вздрогнула. Вспыхнувшая от волнения краска на ее лице оказалась как нельзя кстати. Повернувшись и сделав шаг навстречу, она отозвалась не менее радостно:
— Брат, Даниил!
Они бросились друг к другу, обнялись и расцеловались на глазах у всех, как заправские артисты. Встреча получилась такой естественной, жизненно правдивой, что вызвала дружные аплодисменты офицеров, чего никак не ожидала Туманова.
Теперь уже можно было прикладывать руки к горящим щекам, смущенно улыбаться.
— А я-то тебя уже неделю жду! — радостно говорил Готовцев, держа «сестру» за руки и заглядывая ей в глаза.
«Молодчина!» — восторгалась в душе Туманова.
— Никак не могла, — ответила она быстро. — Не отпускал комендант. А ты все такой же!…
— Да что я!… Что мне сделается?! Я здесь, как у бога за пазухой! — и Готовцев подмигнул хозяину кафе. — Хорошо сделала, что вырвалась. Что же мы стоим тут? — Он рассмеялся. — И на нас смотрят, как на чудо! Пойдем! У меня здесь каморка.
Он обнял ее за талию и повел в ту же дверь, из которой только что появился. Когда они оказались в полутемном и длинном коридоре, Готовцев оглянулся назад и, никого не обнаружив, шепнул:
— Здорово получилось! Ей-богу, здорово! И комар носа не подточит. Но все же… — он приложил руку к груди. — Горячо стало… Вот так оно бывает в жизни. Сюда, сюда! — Он показал на узенькую щель, в которую проглядывал свет.
А хозяин кафе в это время стоял за стойкой, подкручивал усы и думал о чем-то своем. К нему подбежал официант. Циглер поцеловал кончики сложенных пальцев и умиленно произнес:
— Красотка! Бутончик! Антик!
— Прошу бутылку «Мартеля».
— Не могу… Понимаешь, не могу!… — сказал Циглер.
— Простите? — недоумевающе переспросил официант. — Уже нет «Мартеля»?
— Не могу оставаться равнодушным при виде подлинной женской красоты. Я эстет! — и спохватился: — Тебе что?
— «Мартеля»… Бутылку «Мартеля», — повторил официант.
— Сию минуту! — и Циглер повернулся к буфету.
Офицеры за длинным столиком уже пили за счастливых брата и сестру.
А они в это время сидели в небольшой, без окон, с глухими стенами клетушке, освещенной крошечной электролампочкой под самым потолком. Всю обстановку составляли железная койка с матрацем без простыни, покрытая неизвестно как сюда попавшей мохнатой казачьей буркой, и ящик с пустыми бутылками.
Готовцев и Туманова сидели рядом на койке. Готовцев с любопытством разглядывал документы «сестры», выданные оккупационной администрацией города Минска: паспорт, удостоверение и пропуск, дающий право на беспрепятственный проезд всеми возможными видами транспорта в город Горелов и обратно. Срок пропуска исчислялся десятью сутками. На паспорте имелись все необходимые отметки. Удостоверение свидетельствовало, что владелица его состоит на службе в минской военной комендатуре в качестве переводчицы.
Готовцев покачал головой и, возвращая документы, произнес:
— Ничего не скажешь… Чистая работа! С такими документами можно и до Берлина доехать. Показывали кому-нибудь?
— Да, один раз, у моста, — ответила Туманова, спрятала документы в сумку и невзначай бросила взгляд на литографию с изображением свирепо глядящего Гитлера, наклеенную на стене.
— Чудно? — спросил Готовцев, заметив ее взгляд.
Разведчица усмехнулась:
— А вы привыкли?
Готовцев нахмурился, опустил голову, толкнул носком ботинка ящик и проговорил:
— К этому нельзя привыкнуть. Делаю вид, что привык, с трудом терплю. Терплю потому, что надо. Иной раз до того тошно, что не знаешь, куда себя деть. Согласен хоть к черту на рога, лишь бы не видеть этих противных морд! — он встал, приоткрыл дверь в коридор и объяснил: — Так лучше… Будет видно, если кто подойдет. Хотя никто в мою каморку и не заглядывает.
Они помолчали. В условиях нелегальной работы часто бывают моменты, когда люди, встретившиеся по паролю, до этого не видавшие друг друга, исходя из требований конспирации, не знают, о чем можно и о чем нельзя говорить. Так было и сейчас. Туманова понимала, что Готовцев — только промежуточное звено, что он не должен знать, для чего и с каким поручением она явилась. Его дело — принять ее и передать кому следует, по цепи, в которой он, Готовцев, связан, очевидно, лишь с одним человеком и ни с кем другим. И, конечно, он не знает Чернопятова, потому что не всем подпольщикам дано знать руководителя подполья.
Юля чувствовала себя связанной. Это понимал и Готовцев.
После недолгого молчания она спросила:
— Как будем действовать?
— Как приказано, — ответил он. — Завтра вечером сведу вас туда, где вы нужны или кто вам нужен.
— Только завтра, и вечером? — удивилась Юля.
Готовцев развел руками и пояснил:
— Не подумайте, что это мой каприз. Мне строго наказано, как поступать. Утром ко мне придет товарищ Степан…
— Сюда?
— Нет, на вокзал. Я работаю в двух местах. Он придет и скажет, куда вас проводить.
Получалось не совсем так, как рассчитывала разведчица. Она тешила себя надеждой к утру выбраться из города окончательно вместе с драгоценными документами о «драконе», и такое долгое ожидание ее никак не устраивало. Она не могла держать Бакланова в неведении более суток. Там могут бог знает что подумать!
«Кто такой Степан? — рассуждала она про себя. — Во всяком случае это не Чернопятов. Того звать Григорий Афанасьевич. Его подпольная кличка «Комбат». И еще вопрос, кому меня передаст Степан? Возможно, что между ним и Чернопятовым стоит еще кто-то. Возможно, что Степан не знает Чернопятова так же, как не знает его и Готовцев. Тогда я не вырвусь из города и вечером. Это уж совсем плохо».
— О чем вы так задумались? — участливо спросил Готовцев. — Что вас беспокоит?
Туманова вздохнула, провела рукой по лицу.
— Я планировала иначе.
— Ничего не поделаешь! Если бы все зависело от меня…
«Конечно, он прав, — рассуждала Юля, — он поступает так, как ему приказано, но от этого не легче. Значит, надо немедленно покинуть город, пробраться в лес и информировать Бакланова. Завтра же вечером можно вернуться в город. Да в лесу и спокойнее, нежели здесь. Но вообще сложно…»
— Видите ли, — заметил Готовцев. — Город наш невелик. Тут каждый человек на счету, и это заставляет быть очень осторожным. Товарищ Степан правильно делает: если я сейчас поведу вас к нему, это всем покажется подозрительным. И мало ли что может случиться!…
Пока Готовцев говорил, Юля уже твердо решила: .
«Вернусь в лес. Рацию пока вносить в город не буду. Потом ею займутся товарищи…»
— Ну, что ж, — проговорила она, порываясь встать. — Скажите, где и в какое время я увижу вас завтра?
— А… куда же вы? — оторопело и с удивлением проговорил Готовцев.
— Пойду за город и пробуду там до вечера.
— Да что вы? Да разве я допущу это? Хорошенькое дело! Хм! Приехала сестра, а родной брат выпроваживает ее среди ночи. Тут и дураку взбредет в голову что-нибудь недоброе.
— А как же быть?
— Да никак. Останетесь у меня.
— До завтрашнего вечера?
— А что? Вы не беспокойтесь. Здесь лучше, чем в любом другом месте, да и, кроме того, вы же моя сестра!
— Ну, а если мне надо покинуть город? — улыбнулась Юля.
Готовцев помолчал немного и сказал:
— Только не сейчас, не ночью. Не мое дело расспрашивать, что вас тянет за город. Значит, нужно. Но это рискованно и может навлечь подозрение не только на вас, но и на меня.
Туманова колебалась. Доводы Готовцева звучали убедительно. Но мысль о том, что она более суток не подаст ни одной весточки разведотделу, очень тревожила ее.
Она вздохнула и вымолвила:
— И все-таки мне надо уйти.
— Куда? Зачем? — горячо возразил Готовцев. — Я не вижу в этом никакой необходимости. Да мне Степан голову оторвет, если с вами что случится!
— Ничего со мной не случится, — успокоила его разведчица. — Документы у меня в порядке, и я вольная птица.
Готовцев недоумевающе пожал плечами, задумался и, придя, видимо, к какой-то мысли, сказал:
— Не будем спорить, сестричка. Сейчас я вас никуда не пущу. В этом можете не сомневаться, а если вам так уж нужно выйти за город, то вы сделаете это утром. Вот так, — и он прихлопнул рукой по своему колену. — Вам далеко шагать, если не секрет?
Туманова подумала, что ничего страшного не будет, если ответит на вопрос правильно. И она ответила:
— Шесть километров.
Готовцев задумался, что-то соображая и подергивая себя за мочку уха.
— В каком направлении?
— На Оршу.
— Отлично. Все сделаем как нужно. Утром рано я поеду на ферму за молоком и захвачу вас. Высажу на шестом километре или где вы найдете нужным, а на обратном пути заберу. В вашем распоряжении будет час. Хватит?
— Пожалуй, — неопределенно ответила девушка.
Этот вариант являлся как бы компромиссом и устраивал ее. Утром она свяжется с армейским центром и информирует обо всем Бакланова.
— Договорились, — подвел итог Готовцев и усмехнулся. — И волки сыты, и овцы целы. Старшего брата всегда надо слушать. Отдыхать будете здесь. Закройтесь изнутри и спите на здоровье! Сторожа я предупрежу, а хозяину объясню, что вы не в ладах с моей женой и на дом идти не хотите.
— А он как, ваш хозяин, сговорчивый человек? — поинтересовалась Туманова, уже окончательно утвердившись в решении последовать совету Готовцева.
— Он чудак большой, — пояснил Готовцев. — С ним можно договориться о чем угодно. Да разве в этом дело… Иногда задумаешься, и так тоскливо станет на сердце, что завыть хочется…
— Это почему же?
— Ну как вам сказать… Степан требует, я выполняю. Понимаю, что Степан не для себя старается. Завожу дружбу вот с такими, как Циглер, да и еще кое с кем из посетителей. Иногда и выпить приходится, подчас и Советскую власть ругнуть…
Разведчица засмеялась: «Чистая душа этот Готовцев!»
— Ведь это же для дела. Понадобится — и «хайль Гитлер!» крикнешь, — заметила она.
— Понимаю, все понимаю, — ответил Готовцев. — Но вот люди, наши, советские люди, живущие здесь, не могут этого понять, и объяснить им нельзя. Для них Готовцев — фашистский прихвостень, пособник. Ярлык пособника нацепят, и будет он на шее до самой могилы болтаться.
— Это уж слишком, — возразила Юля. — Придет время, и все объяснится.
— Хм… — усмехнулся Готовцев. — А как же все это объяснится? Не так это просто, как вам кажется. Ведь людей не десяток и не сотня. Целый город…
Ну, хорошо, придут наши. Что вы прикажете делать мне и Степану? Ходить по дворам и докладывать каждому, что мы, дескать, вот какие, а не такие, как вы думали, или выступить на митинге? Или пропечатать наше фото в газетах? Вот оно, какое дело, дорогая… и думать об этом тяжко.
Туманова молчала, не находя, что ответить.
—А в общем будет видно,—и Готовцев встал. — Унывать нечего. Не это главное. Вы есть хотите?
— Не откажусь. С утра во рту, кроме мороженого, ничего не было.
— Что же вы молчите!—с укором произнес Готовцев. — Сейчас я вам закачу такое порционное блюдо, что вы пальчики оближете.
Он вышел.
Юля пощупала рукой койку и подумала: «Не так страшен черт, как его малюют».
26
Чернопятов и Калюжный сидели в это время в котельной, на топчане, рядом, плечо к плечу.
— Ты понимаешь меня, — проговорил Чернопятов.
— И понимаю и нет, — ответил Калюжный, сопровождая свои слова глубоким вздохом. — Понятно мне, что в нашем положении все может случиться, мы же не в бирюльки играем. И тут я с тобой согласен. Но что я попал под подозрение…
— Ну, а если? — перебил его Чернопятов.
— Плохо. Тогда плохо.
— Вот об этом-то я и толкую, — произнес Чернопятов и обнял друга. — Я сам в это не верю, Митрофан Федорович, понимаешь — не верю, но что из этого?
Калюжный молчал. Воцарилась пауза, а потом вновь заговорил Чернопятов:
— Не будем гадать на кофейной гуще. Лучше примем меры. Давай договоримся так: ты прекращаешь встречи со своими ребятами. Понял? Пока, временно. И предупреди каждого из своей группы, чтобы они поочередно наблюдали за тобой и твоим домом. Ведь нам важно выяснить, ведется за тобой слежка или нет. Если нет — то нам плевать на все. Значит, мы ошиблись и не в тебе дело. Понял?
Калюжный кивнул. С такой мерой он был согласен.
— Нам достаточно для этого день — два, — продолжал Чернопятов. — Как бы осторожны гитлеровцы ни были, следя за тобой, ребята все равно их наколят. Не завтра, так послезавтра. А ты, чтобы сбить их с толку, побольше толкайся среди людей, не имеющих к нам никакого отношения. Останавливай, разговаривай, зайди в гости к кому-либо…
— Понял, Григорий Афанасьевич, — ответил Калюжный.
— Добро! — подвел итог Чернопятов. — А теперь давай думать, что нам делать с пакетом.
— Я уж думал.
— Ну?
— Есть выход: послать человека с документами через линию фронта.
— Да… топать двести километров — это не тяп-ляп. Тут нужен ходок да ходок. Об этом я тоже думал.
— А больше ничего не придумаешь, — заметил Калюжный.
— Больше ничего не придумаешь, — повторил Чернопятов и покачал головой. — Ты прав… Эх, Костя, Костя… Как трудно нам без тебя, голубок… Знал бы ты, хлопчик…
— И еще вопрос, — сказал Калюжный, — где найти такого парня, который бы добрался до передовой и перебрался на ту сторону.
— Парень-то есть, — проговорил задумчиво Чернопятов. — Разве Сенька Кольцов не тот парень?
— Кольцов? — ухмыльнулся Калюжный. — Да!
— Тот, — согласился Калюжный. — Сенька полезет черту на рога, только прикажи. Но ты же знаешь, чем он занят?
— Знаю. Подбирает ключик своему квартиранту-летчику.
— Чего там подбирает — подобрал уже! — возразил Калюжный. — Летчик два раза таскал его на своей машине на аэродром.
— Здорово! — удивился Чернопятов.
— А ты думал! Этот летчик — командир отряда.
— Смотри! — продолжал удивляться Чернопятов.
— Вот теперь и решай! Если будем посылать Сеньку, летчика придется бросать.
— Придется, — неуверенно сказал Чернопятов и добавил: — Другого человека нет. Я всех перебрал. Да… А пробраться на аэродром тоже неплохо…
— То-то и оно!
— Хорошо! — вдруг решительно сказал Чернопятов и хлопнул друга по плечу. — Подождем эти два дня, а когда с тобой выяснится, поговорим с Кольцовым. Ладно?
— Давай так.
— А теперь ступай, — и Чернопятов встал.
27
Поздно ночью телефонный звонок поднял с постели начальника гестапо гауптштурмфюрера Штауфера. Он быстро вскочил и схватил трубку.
— Да… Слушаю…
— Гость прибыл, — раздался голос заместителя.
— Подробности?
— Ничего не могу добавить. Филин только что позвонил по городскому телефону и в подробности не вдавался. Это — приятное известие, но есть и неприятное.
— Ну, ну?
— Пришла шифровка от бригаденфюрера. Вызывает к себе по поводу этой машины с курьером, будь она неладна. Комендант раззвонил на всю вселенную.
— На когда?
— Четырнадцатого вечером надо быть у него. Значит, утром надо выезжать.
— Поезжайте вы, — сразу решил Штауфер.
— Я? — удивился заместитель.
— Да, да. Объясните бригаденфюреру, что возникла интересная комбинация, ну и к тому же я прихворнул. А относительно машины скажите, что мы предприняли все, от нас зависящее. И кстати намекните, что если с нас спрашивают, то надо предупреждать в таких случаях. Если бы комендант не сказал, то мы и до сих пор ничего не знали бы об этом курьере. Разводить руками после того, когда человек исчез, поздно. Надо было раньше думать. В том случае, если шеф… Хотя позвольте. Вы где?
— На службе.
— Ага… Я сейчас приеду… Да, да… И обо всем договоримся. Подошлите машину… Сколько сейчас по вашим?
— Начало третьего.
— Ерунда! Сейчас я приеду.
28
Ранним утром 12 июня за городом по шоссе катилась большая телега, запряженная резвой молодой лошаденкой.
Лошадь трусила мелкой рысцой, звонко цокая подкованными копытами, а ее хозяин, сутуловатый старикашка в латано-перелатанной рубахе, машинально помахивая кнутом, дремал, пригревшись на солнышке.
За жестяными бидонами, на самом задке, свесив ноги, пристроились Готовцев и Туманова.
Бидоны глухо стучали, тарахтели колеса, можно было мирно беседовать, не боясь, что старик услышит.
— Через часок я обернусь, — предупредил Готовцев.
— Хорошо. Я выйду вам навстречу.
— Чувствуйте себя как дома, — посоветовал Готовцев. — Главное, не думайте, что вы на оккупированной территории. Хуже всего, когда станешь об этом думать. Сразу какая-то робость охватывает, начинаешь озираться, кажется, что за тобой следят… Я всегда стараюсь не думать.
— Постараюсь и я, — заверила его Юля и поинтересовалась, кивнув в сторону старика: — А он?
— А что он? Ерунда. Его дело — сторона. Он из ближней деревни, работает по наряду от управы. Две недели отработает — и домой! Кого ему не доводилось возить за эти годы! Привык…
Разведчица посмотрела по сторонам.
— Я тут сойду, — сказала она.
— Уже? — удивился Готовцев. — Еще далеко до шестого.
— А мне безразлично, — ответила Юля.
Готовцев крикнул:
— Демьяныч, а Демьяныч!
— Ась? — отозвался возчик.
— Остановись!
— Можно,—нехотя ответил старик и остановил лошадь. Та покосила глазом, всхрапнула, почесала голову об оглоблю.
Готовцев и Туманова спрыгнули на дорогу.
— Сестренка хочет грибков поискать, — объяснил Готовцев.
Старик усмехнулся:
— Какие сейчас грибки! Рановато грибкам…
Туманова прикусила губу и в душе ругнула Готовцева. Надо же было такое ляпнуть! Сказал бы уж лучше цветы рвать.
Готовцев тоже сообразил, что ляпнул. Но делать было нечего: он подмигнул и добавил:
—Такая уж она охотница… Ну и пусть побродит. А на обратном пути мы ее прихватим. Только ты не заходи далеко, — предупредил он Туманову.
Старик промолчал и даже не повернулся. Готовцев уселся на свое место и отдал команду:
— Трогай, Демьяныч!
Лошадь дернула и снова затрусила мелкой рысцой.
Юля умышленно сошла здесь. Подвода должна преодолеть небольшой подъем и спуститься в лощинку. За это время можно будет никем не замеченной свернуть в нужную сторону и добраться до шестого километра.
Строго и тихо было в лесу. Его тишину и покой нарушал лишь нежный пересвист птиц. Сквозь кроны деревьев проглядывало глубокое солнечное небо.
Туманова оставила здесь вчера много своих меток: зарубки на стволах, надломанную березку, трухлявое бревнышко…
Прежде чем подойти к тайнику, где она вчера спрятала свой вещевой мешок, Юля обошла лес вокруг этого места и, лишь убедившись, что ей ничто не угрожает, опустилась в яму, образованную корнями поваленной бурей сосны.
Вынув блокнот, она набросала телеграмму, зашифровала ее. Положила около себя взведенный пистолет, развернула рацию, надела наушники и начала настраиваться.
Она сидела в яме, опираясь спиной о могучее сплетение корней сосны, похожее на осьминога. Отстучав свои позывные и не уловив позывных армейского радиоцентра, она прослушала перекличку с полярниками по радиотелефону, несколько песенок, переданных авиамаяком, настроилась было на «Последние известия», но тут раздались знакомые позывные сигналы.
Юля прибавила громкость, обменялась приветствием с дежурным оператором и начала передачу.
Спокойно выстукивала разведчица знакомые знаки и вдруг неожиданно вздрогнула: что-то сильно треснуло. Не отрывая руки от ключа, она вытянула шею и застыла: на нее настороженно глядели два испуганных глаза…
В десяти — двенадцати шагах от ямы лежал на земле гитлеровец, прижав грудью автомат. Он не шевелился, не сводил с нее настороженного, неподвижного взгляда.
Кровь бросилась Тумановой в голову. Но она больно прикусила губу, затаила дыхание, выбила ключом условный знак и прервала передачу. Потом незаметно повела рукой под корень, нащупала пистолет и медленно-медленно, будто в ее руке был сосуд с драгоценной влагой, стала поднимать его до уровня ямы.
А гитлеровец по-прежнему не двигался, и его поведение было непонятно. Не могла же знать Туманова, что гитлеровцу было строжайше приказано следить за каждым ее шагом и не обнаруживать себя, но он неосторожно наступил на сухую ветку и упал. Теперь он лежал растерянный, думая в эту минуту не о том, что сейчас предпримет эта женщина, а о том, что сделает с ним его начальник.
Они смотрели молча, как бы пытаясь загипнотизировать друг друга.
Когда ствол пистолета почти достиг уровня земли, разведчица внезапно вскинула руку, заметила, что гитлеровец прикрыл глаза, и дважды нажала на спусковой крючок.
Она умела стрелять метко.
Гитлеровец вскочил было на ноги, но, взмахнув руками, тут же рухнул.
Туманова выждала несколько секунд.
Вокруг стояла тишина. Она выскочила из ямы и бросилась к убитому.
Да, он был уже мертв.
В это время сзади раздался шум. Девушка быстро оглянулась, но не успела отскочить. Кто-то из кустов налетел с ходу, сбил ее с ног. Лежа, она увидела над собой лицо, заросшее густой рыжей щетиной, и выпученные, как у жабы, глаза. Гитлеровец натужно дышал ей в лицо и сопел, стараясь схватить ее правую руку. Рядом слышались голоса.
Юля изловчилась и, растопырив два пальца, с силой ткнула ими в глазные впадины врага.
— У-у-у… — простонал гитлеровец и невольно потянулся руками к лицу.
Туманова с силой пнула его коленкой в низ живота. Тот утробно крякнул и отвалился. Она быстро вскочила. Так быстро, точно внутри нее развернулась сильная стальная пружина… но тут же вновь свалилась, сбитая с ног чьим-то тяжелым кулаком.
Она не могла больше сопротивляться. Силы ее иссякли. Она вся дрожала, дыхание вырывалось со свистом.
Два дюжих солдата завернули ей за спину руки и надели наручники. Потом приподняли и усадили рядом с гитлеровцем.
Она видела, как совсем еще молодой эсэсовец, в чине оберштурмфюрера СС, разглядывал ее рацию. У него было нежное, как у девушки, лицо с тонкими и мягкими линиями.
Грудь Тумановой вздымалась часто и порывисто. Было такое ощущение, словно внутри все горит. В висках звонко и четко выстукивали молоточки.
Но страха не было. Она ощутила его раньше, когда увидела перед собой два пристальных глаза. Потом он ушел куда-то, исчез. Его вытеснила горячка борьбы.
Эсэсовец, окончив осмотр рации, положил ее в вещевой мешок, где хранились пожитки Тумановой, и сказал что-то солдату. Тот, вынув из кармана металлический свисток, резко и протяжно свистнул.
Откуда-то издалека, подобно эху, отозвался такой же, но только покороче, а затем рявкнула сирена автомашины.
Юля поняла: это — конец.
29
Полковник Бакланов и капитан Дмитриевский уже минут десять находились в закрытом кузове трехтонного «зиса», где размещался походный армейский радиоцентр.
Незадолго до их прихода от Тумановой был принят сигнал: «Мне грозит опасность», — затем передача оборвалась. Полковнику и капитану немедленно доложили об этом по телефону. Теперь они взволнованно и молча стояли возле оператора, не теряя надежды, что разведчица снова выйдет в эфир. Но она не откликалась.
Оператор сидел у рации, вслушивался и изредка отстукивал свои позывные.
В машину вошел шифровальщик и подал полковнику листок бумаги. Это была радиограмма, принятая от Тумановой. Бакланов прочел: «Работаю из леса. Только что вернулась из города. Нашла брата. Вечером он передаст меня Степану. Все…» И дальше сигнал: «Мне грозит опасность».
Усталое и осунувшееся лицо Бакланова ничего, казалось, не выражало. Он посмотрел на мгновенно побледневшего Дмитриевского и почти неслышно сказал:
— Спокойно, капитан! Спокойно…
Начальник радиостанции подошел поближе к Бакланову:
— Товарищ гвардии полковник, я начинаю подозревать…
— Подите вы, ради бога, со своими подозрениями! — оборвал его Бакланов и вышел из машины.
Начальник радиостанции оторопело посмотрел на капитана и недоуменно пожал плечами.
До двенадцати часов дня беспрерывно и далее до десяти минут каждого нечетного часа вызывала армейская радиостанция Туманову.
Ответа не было.
30
Начальник гестапо гауптштурмфюрер СС Штауфер сидел за столом. Перед ним стоял молодой, с нежным девичьим лицом оберштурмфюрер СС Мрозек, руководивший арестом Тумановой.
Первый был разъярен, лицо у него покрылось красными пятнами, а Мрозек с бледным, как снег, лицом стоял, вытянув руки по швам, стараясь унять дрожь в ногах.
— Вы… Вы!… Я не могу даже подобрать достаточно сильных слов! — выкрикивал Штауфер визгливым голосом. — Вы классический дурак, Мрозек! Вы сумасшедший! Вы опасный человек! Вы помните, что я вам приказал?
— Так точно, господин гауптштурмфюрер! — выдавил из себя Мрозек.
Штауфер злорадно усмехнулся, и его длинное, острое лицо с мелкими, подвижными морщинками еще больше обострилось в брезгливой улыбке.
— Повторите приказ! — потребовал он.
Мрозек постарался справиться с охватившим его страхом и, собравшись с духом, прерывающимся, тонким голосом отрапортовал:
— Вы приказали не прикасаться к ней пальцем, следить за каждым ее шагом и не обнаруживать себя!
— А вы?! Вы что наделали?!
Мрозек молчал.
— Я вас спрашиваю! Вас!… — взвизгнул Штауфер, подпрыгнув на стуле и обнажив желтые мелкие зубы.
— Если бы не солдат,—робко подал голос Мрозек, — все было бы иначе… Он потерял ее из виду, бросился вперед и выдал себя. Она убила его и хотела завладеть автоматом. Тогда она смогла бы…
— Что она смогла? — прошипел Штауфер.
— Убить еще…
— Боже мой! — воскликнул Штауфер. — Ко всем своим качествам вы еще и трус! Одна девка против четырех солдат и офицера! Позор! — Он схватил пачку сигарет, вынул одну, но, не донеся ее до губ, сломал и бросил через плечо. — Ведь вы же знали… Ведь я разжевал вам все и сунул в рот, в рот! Вам оставалось только проглотить, а вы и этого не сумели. Я тысячу раз повторил вам, что эта девка нездешняя. Несомненно, она доверенное лицо и идет в город для встречи. Я вижу, что вы безнадежный болван, не человек! Вы не понимаете самых простых приказов. Вы позволяете себе думать, когда надо исполнять. Какое право вы имеете думать? Я за вас думаю!
— Я не боялся, что она убьет меня, — попытался объяснить Мрозек. — Но жаль людей…
— Людей! Да плевать я хотел в конце концов на всех людей! — вновь вскипел Штауфер. — Пусть бы она убила еще одного — двух идиотов солдат, но только ушла бы. Вы это понимаете? Ей надо было предоставить полную свободу действий, следить за каждым ее шагом, установить, куда она пойдет, с кем будет встречаться, узнать, зачем она сюда пожаловала. — Сказав это, Штауфер сделал руками жест, будто схватил кого-то костлявыми пальцами. — Затем снять их всех, одного за другим, по очереди! А вы, как пустоголовый полицейский, сцапали и посадили ее в подвал! Что теперь прикажете с ней делать?
Мрозек молчал.
— Почему вы не доложили мне, когда вернулись?
— Вы еще изволили отдыхать. Я вернулся очень рано.
Штауфер взял в рот сигарету и со злобой вновь выплюнул ее.
— Кто ее допрашивал?
— Я, потом Грейвиц.
— Ну?
— Она ответила, что ничего не скажет.
Наступила пауза.
— Кто был переводчиком? — спросил Штауфер, приходя мало-помалу в себя, и, взяв третью сигарету, чиркнул наконец зажигалкой.
— Никто.
— Как никто?
— Она хорошо владеет немецким, и переводчик не потребовался.
Штауфер встал и театрально схватился рукой за лоб.
— Подумать только!… Подумать только, какое счастье давалось в руки! — неожиданно тихо промолвил он. — Где она сидит?
— Здесь! Дано приказание подготовить одиночную камеру в тюрьме.
— Сфотографировали?
— Так точно.
— Оттиски сняли?
— Так точно.
Штауфер наконец уселся поудобнее, как-то обмяк и погрузился в грустные размышления, совершенно забыв о подчиненном.
Провал!… Провал, какого еще свет не видел! Узнали о появлении важного агента, обсудили все, спланировали, расставили силы и… провалились! Стыд! Стыд и позор! Конечно, она ничего не скажет. Скорее умрет, чем скажет. О, русские знают, кому можно и кому нельзя доверять серьезные дела! Этого у них не отнимешь. Они не дураки. Хм!… Да разве может повториться подобный случай? Выследить и прихлопнуть всю эту русскую банду разом! Да еще получить в руки крупную птицу, может быть, из самой Москвы! Нет, и думать нечего. Так может случиться только раз. И этот великий шанс он, Штауфер, потерял! Потерял по вине этого недоноска! Теперь хоть пальцы грызи, но ничего не получится. И не стоит попусту тратить силы и нервы… Хотя… впрочем…
Какая-то искорка надежды мелькнула в мозгу Штауфера. Он взглянул отсутствующим взглядом на молодого гестаповца.
— Вы поняли теперь, что натворили? — спросил Штауфер.
— Так точно!
— Поздно! Здесь вам нечего делать. Сдавайте дела, получайте документы и отправляйтесь на фронт, к черту!… Там вам вылечат нервы! Это лучшее, что я могу вам предложить, и то не ради вас, а ради вашего отца, которого я уважаю, но который, к сожалению, передал вам очень мало своего ума. И зарубите себе на носу, что ни разведчик, ни контрразведчик из вас никогда не получится. Для этого дела философы не годятся. И не воображайте, что вы человек. Вы только получеловек и полунемец. Идите! — Штауфер махнул рукой, будто отшвырнул что-то.
Подчиненный вытянулся, козырнул и вышел вон, прикидывая в уме, что отделался сравнительно легко.
Штауфер посидел немного в раздумье, затем снял трубку и набрал номер.
— Это я!… Добрый день! Пренеприятная история. Уже слышали? Да, но что толку? Конечно, молчит и не собирается говорить. И подумайте, она отказалась от услуг переводчика! Да! Прекрасно владеет нашим. А вы знаете, что у нее отобрали? Нет? Так вот послушайте, — Штауфер взял со стола протокол и начал перечислять. — Портативная радиостанция и комплект портативных батарей к ней, пистолет, кодированная и разбитая на километры карта Гореловского района, компас, ракетница, комплект военного обмундирования и всякая мелочь. И знаете что? Я готов усомниться, что она партизанка. Да, да. Скорее, это делегат с той стороны, а партизанский отряд использован как перевалочная база. Ей нужны были связи, а поэтому ее поначалу бросили к партизанам. Что? Красива? Вы видели? Даже очень? Хм… Значит, снимки готовы?
Так вот послушайте. У меня родилась идея. Возможно, фантастическая. Возможно, за глаза вы назовете меня безрассудным человеком. Тут, как говорится, придется ставить на карту больше, чем лежит в кармане, но придется. Короче говоря, это разговор не для телефона. Заходите ко мне, и мы все обсудим. Да, сейчас! Вот так. Алло! Захватите фотоснимки!
Штауфер положил трубку, прошелся по комнате и изрек:
— Красивые женщины всегда более податливы и уступчивы, нежели уроды, и любят собственную жизнь, как никто другой. Так сказал мне когда-то Гиммлер… Это было давно. Тогда мы оба были еще совсем молодыми людьми. Какую карьеру он сделал!… Возможно, Гиммлер и прав. Он во многом оказался прав. Что ж, попробуем…
31
В кафе Готовцев появился раньше обычного. Вид у него был расстроенный. Торопливо войдя в кухню, он рассеянно кивнул своему помощнику и, засучив рукава пиджака, принялся тщательно намыливать руки под краном.
Его помощник — немец, приставленный комендантом города, умело разделывал на столе свиную тушу.
Сторож таскал и с грохотом бросал на пол охапки аккуратно наколотых березовых дров.
Готовцев надел на себя колпак, фартук, но вместо того, чтобы приступить к работе, сел на скамейку. Нервный тик подергивал левое веко, и Готовцев то закрывал глаз, пытаясь унять тик, то вновь открывал его.
Он не заметил, как появился Циглер. Хозяин тихо подошел сзади и положил ему руку на плечо. Готовцев быстро поднялся.
— Гутен таг, господин Циглер!
Тот кивнул в ответ и, сделав знак рукой, вышел. Готовцев последовал за ним.
В зале было пусто. Циглер подвел Готовцева к стойке и, напустив на себя заговорщицкий вид, подал ему обрывок газеты. На сером клочке четко выделялось несколько цифр, написанных синим карандашом. Коверкая русские слова, Циглер объяснил, что герру Готовцеву уже дважды звонили по телефону, назвать себя отказались, но оставили вот этот телефон.
«Неосторожно, очень неосторожно!» — подумал про себя Готовцев, подходя к телефону, висевшему на стене возле буфета.
Он снял трубку, набрал номер и, услышав голос, спросил:
— Вы звонили? Я только что пришел. Через час? Хорошо.
Положив трубку, он долго не снимал с нее руки, будто собираясь позвонить еще куда-то. Видно было, что телефонный разговор не улучшил настроения Готовцева. Он оставался таким же хмурым и озабоченным.
— Красавица сёстр делайт вам грос хлёпот, — усмехнулся Циглер и, многозначительно кивнув головой, добавил: — Я есть все зер гут понимайт.
Готовцев не знал, что ответить, и неопределенно пожал плечами.
— Господин Циглер, мне надо отлучиться на часок.
— Часок?… Часок?… Такой роскошный сёстр можно айн, цвай, драй часок.
Готовцев поблагодарил хозяина и хотел уже было удалиться, но тот задержал его.
— Айн момент, — сказал Циглер и полез в буфет. Достав оттуда бутылку вермута, он подал ее Готовцеву.
Тот удивленно посмотрел на хозяина.
— Презент ваш сёстр, — объявил Циглер.
Готовцеву ничего не оставалось, как принять бутылку и поблагодарить хозяина.
32
В половине третьего в кабинет начальника гестапо ввели арестованную.
Штауфер сидел за письменным столом, а подтянутый человек с замкнутым лицом, в отличном штатском костюме расположился у маленького столика напротив. Перед штатским лежала чистая бумага и две автоматические ручки.
Туманову посадили на табуретку. Она медленно обвела глазами комнату: одно окно с видом на площадь, письменный стол, круглые стенные часы, тумбочка и на ней сифон с газированной водой, на стене карта, а повыше ее — портрет Гитлера. В углу широкий и приземистый несгораемый шкаф, а на нем букет ландышей в небольшой фарфоровой вазе.
Юля остановила взгляд на Штауфере. Тот делал вид, что увлечен чтением какого-то документа и не обращал на нее внимания.
«Неприятный тип, — сделала она заключение. — Подбородок срезан, волосы прямые и жидкие, черты лица острые, кожа — будто мятая бумага… Ему не меньше сорока пяти, и он всего лишь гауптштурмфюрер, то есть капитан».
На сидящего по правую руку господина в штатском она посмотреть не решалась, но чувствовала, что тот, откинувшись на спинку стула, внимательно разглядывает ее.
Штауфер отложил наконец документ и повернулся к арестованной.
Он долго смотрел на нее, не мигая, маленькими темными глазами и пришел к выводу, что она красива. Молода и по-настоящему красива. Все в ней хорошо: и рост, и фигура, и черты лица, и волосы, и главное — глаза. Синие, большие, печальные. Но последнее, очевидно, явление преходящее и объясняется ее положением. Вчера, возможно, они не были печальными и под ними не рисовался этот темный ободок.
Туманова не отвела глаз и тоже смотрела на Штауфера, будто хотела угадать, что таится в душе этого человека.
— Хм!… — бросил Штауфер, вышел из-за стола, остановился напротив Юли и сложил на груди руки. — Должен откровенно признаться, что у вас на редкость фотогеничное лицо. Просто поразительно! Такое лицо хорошо давать крупным планом на экране, с акцентом на глаза. Вот именно, на глаза! Да и вообще, следует сказать, что природа расточительно щедро одарила вас. Надеюсь, вы не замужем?
Туманова оставила вопрос без ответа, только ее брови едва заметно дрогнули. Поэтому Штауфер продолжал:
— Хотя в документах значится, что вам двадцать три года, но этому поверить трудно. Выглядите вы значительно моложе. Вам можно дать самое большее двадцать лет. Да, собственно, и двадцать три года еще не тот возраст, чтобы взваливать на свои плечи такую тяжесть, какую взвалили вы! В вашем возрасте человек не способен на серьезные дела. У него еще нет жизненного опыта. Он еще не переработал в себе все, что дало ему образование. Он еще не способен на отдачу…
«Глупец!» — подумала разведчица и припомнила: знаменитый хирург Пирогов к двадцати шести годам уже был профессором; Ньютон обогатил науку законом тяготения, когда ему было двадцать пять лет; Лермонтов — великий русский поэт — в двадцать семь лет уже окончил свой жизненный путь.
«Глупец!» — Тонкая усмешка тронула губы девушки.
— Зачем вы избрали такую беспокойную профессию? — продолжал Штауфер. — Что вам мешало стать актрисой, педагогом, ну, наконец, музыкантом? А?… У разведчиков очень тревожная жизнь, полная неуверенности в завтрашнем дне. У разведчиков все зависит от счастья. Вы случайно не читали записок известного разведчика Роберта Букара?
Туманова покачала головой.
— Напрасно!… В них очень много ценного и поучительного. Я лично читал и перечитывал их несколько раз. Роберт Букар справедливо говорил, что самая опасная разведка та, которая связана для агента с необходимостью жить в продолжение нескольких дней на неприятельской территории. Храбрецы, идущие на это, рискуют обычно жизнью. А вы так смело проникли на неприятельскую территорию.
— Эту территорию я считаю своей, — заметила Юля.
Штауфер вскинул короткие брови и расхохотался.
— Ах, вот как! Вы считаете ее своей? Любопытно! Даже забавно! — он прошелся взад и вперед и снова занял прежнюю позицию. — Это уже парадокс. Хм!… На своей территории вас зацепили на крючок, на котором не было даже наживки. Вы это понимаете? Вы уподобились беззаботному мотыльку. Увидев огонек, устремились на него и опалили крылышки. Так сильно, что вам уже не расправить их, не взлететь, не запорхать. Вот так, прелестное дитя! Вы сами полезли в западню, и она захлопнулась. А вот выбраться из нее значительно труднее. Почти невозможно. Я нарочно подчеркиваю слово «почти». Надеюсь, вы меня понимаете?
— О, да! Вы на редкость ясно формулируете свои мысли.
Штауфер уловил иронию в словах арестованной, помолчал немного, переглянулся с гестаповцем в штатском и заговорил вновь:
— Очень приятно, что мы понимаем друг друга: я — вас, вы — меня. Вы неглупая женщина. В этом я не сомневаюсь. Вам должны быть понятны вещи, которые непонятны другим: для всякого агента, а тем более тайного, будь он хоть ста пядей во лбу, провал в конце концов неизбежен, как неизбежна смерть для каждого человека. Все дело во времени. Поэтому каждый агент, не лишенный здравого смысла, обязан заранее, заблаговременно обдумать и твердо решить, как он станет себя вести в случае провала, какой ценой он продаст свою жизнь. Но!… Если агент по складу своей натуры, по характеру, неопытности, наконец, по легкомыслию не подумает об этом, то, конечно, не поздно подумать об этом и в самый решающий момент. Вот вы… — Штауфер запнулся, сделал вид, что у него явилась потребность прокашляться, и продолжал: — Вот вам сегодня утром наш сотрудник сделал предложение?
Туманова кивнула.
— Вам оно ясно?
— Как никогда.
— Вы обдумали его?
— Тогда же.
— И…
— И тогда же ответила.
— Но, насколько мне, как начальнику гестапо, известно, вы отклонили наше предложение?
— Если выражаться мягко, то да, отклонила. Оно меня не устраивает.
— Это наперекор логике! — воскликнул Штауфер.
— У каждого своя логика.
— Позвольте, позвольте! — запротестовал Штауфер. — Есть же логика, общепринятые нормы, которые…
— Не тратьте напрасно свое красноречие, — прервала его Туманова. — Ваше предложение меня не устраивает.
— Вы напрасно упорствуете, — с деланно-мягким укором заметил Штауфер. — Упорство ничего не даст. Посудите сами: вас взяли с поличным, с такими вещественными доказательствами, что и следствия не нужно. Запирательство бессмысленно, глупо… Вашу судьбу можно свободно решить без суда. Помимо всего, вы убили солдата германской армии. Вас захватили с оружием в руках. А сейчас война. Ее законы неумолимы. Вы понимаете, что это значит?… Только чистосердечные показания могут изменить отношение к вам. Мы заинтересованы…
— Я понимаю, в чем вы заинтересованы! — опять прервала его Туманова. — Не стоит повторяться. Я испорчу вам настроение.
— Это слепое упрямство с вашей стороны, — глухо произнес Штауфер, чувствуя, как внутри его начинает подниматься злоба. — Странная вы женщина! Неужели голос благоразумия утратил для вас силу?
Штауфер пожал плечами, взял стул у стены, поставил его почти вплотную к арестованной и уселся.
— А я не верю, что вы внутренне согласились с проигрышем, — проговорил он. — Не может этого быть! Вы прежде всего человек, и притом женщина. Вы будете бороться за жизнь, цепляться за каждую возможность. Давайте немного пофилософствуем. — Штауфер занял позу поудобнее, закинул ногу на ногу, отвалился на спинку стула и закурил. Он читал в романах, что солидные детективы всегда красиво курят. Это хороший тон. — Наша жизнь так коротка, что, право, глупо самому же сокращать ее! Вот, скажем, я… Я родился на свет божий немного раньше вас, дорогая. Следовательно, пожил и повидал больше. И трудно сказать, что я видел чаще: хорошее или плохое. Скорее плохое. И все-таки я хочу жить! И никогда по собственной воле не расстанусь с жизнью. Никогда! Человек существует и борется за существование, а не за смерть. А вы? Что решили вы? Умереть? Героиней? Мгновенно и легко? И чтобы ваша смерть, как принято говорить, пошла в назидание потомству? Я разочарую вас, дорогая. Вы — агент. А агенты, как правило, умирают в одиночку, бесславно, и смерть их остается тайной для окружающих. Это раз. Теперь два: вы умрете не легкой, не быстрой и далеко не героической смертью. Сначала вам выколют глаза, вот эти синие глаза, которые, наверное, кто-то любит, вслед за этим удалят ваши нежные уши, а потом последует нос, язык… Что же тут романтического? Ян Гус, и тот был в лучшем положении, когда его публично поджаривали на костре. За него кто-то страдал, им кто-то гордился… И вот представьте себе на одну минуту, что через несколько дней ваше тело будет обезображено и предано заботе червей! Брр! И никакой славы!
Туманова молчала и печально смотрела на букетик родных лесных цветов, стоявших на сейфе. Как попали они сюда? Зачем? Или это сентиментальность, уживающаяся с изощренной жестокостью?
А Штауфер продолжал:
— Я знаю, что вы мне возразите: «Неважно, что я умру. Важно то, что в народе обо мне останется память». Что же, я вам отвечу: глупо! Для чего мертвому память о нем? Что из того, что кто-то и когда-то, будучи в хорошем настроении, вспомнит о вас через сто или тысячу лет? Или обо мне, или вот о нем, — Штауфер кивнул головой в сторону гестаповца в штатском. — Нам-то какая польза от этого? Мертвому ничего не нужно: ни памяти о себе, ни славы, ни почестей, ни любви. Ничего абсолютно. Все это для живых. И если живые порой говорят так много о мертвых, пишут о них, то уж поверьте мне, что делается это потому, что выгодно для самих живых. И только. Вы можете сказать и другое: я, мол, умерла, но не выдала тайны. Тоже глупость. Тайна в наше время — понятие условное. Если ею владеют несколько человек, это уже не тайна. А вашей тайной владеете не вы одна.
Зазвонил телефон.
Штауфер потянулся рукой, снял трубку, назвал себя и перебросился с кем-то ничего не значащими фразами.
— Продолжим, — повернулся он к Тумановой. — Вам ясна моя мысль?
— Вполне, но непонятно, к чему она?
— Я с удовольствием объясню: нам жаль вас. Мы эстеты, нам жаль губить молодую жизнь, разрушать прекрасное. Я склонен полагать, что вас может ожидать иной, лучший, нежели смерть, удел. Вы не знали, куда вас заведет судьба. И вы по молодости, из-за упрямства не хотите спасти себя. Мы пытаемся сделать это за вас…
— Не стоит, — прервала его Туманова. — О себе я подумаю сама.
Штауфер умолк и встал. Он исчерпал себя, да и терпение его начало истощаться. Он не любил вести такие любезные и отвлеченные беседы, считал их особо тонким и трудным приемом и прибегал к ним в редких случаях. В нем поднималось бешенство.
Что делать? Она, конечно, ничего не скажет. Никакие сентиментальные беседы ее не разжалобят. С ней надо поступать иначе: колотить, резать, пилить, жечь! Вот тогда она, может быть, заговорит. Может быть! Но, возможно, и не заговорит. На этой земле ему не раз встречались люди, которые вели себя так же, как вот эта.
А как досадно! Все затеянное рушится, как карточный домик! Испорчена такая игра, такая комбинация! И все из-за одного молокососа, будь он трижды проклят!
Штауфер пнул ногой стул, и тот отлетел к стене.
— Мы знаем все! — чуть не крикнул он. — Знаем, что пробрались вы сюда не без помощи командира партизанского отряда Новожилова, что он заранее предупредил кое-кого о вашем появлении, что вы владеете нашим языком и не прочь бы устроиться в городе.
«Что такое? — соображала между тем Юля. — Что он несет? Какой партизанский отряд? Какой Новожилов? Зачем мне устраиваться? Или он провоцирует?»
— Ведь вы не станете отрицать, что это правда? — спросил Штауфер.
— Никому не запрещено фантазировать, — ответила Туманова.
— Ах вот как… — вспыхнул Штауфер. — А зачем вы заходили в офицерское кафе?
— Какое кафе?
— «Глобус».
— А разве туда вход воспрещен? — поинтересовалась Юля.
— Но вы, вы зачем заходили?
— Затем, зачем и все…
Быстрая конвульсия пробежала по лицу Штауфера, мышцы задергались.
— Вы знакомы с поваром Готовцевым?
— Да, он мой брат, — ответила Туманова и тут же с опаской подумала, что попала под слежку, по-видимому, не в лесу, а еще раньше, в городе. Иначе он не задал бы вопроса о Готовцеве. Но тут же вспомнила о документах, своих документах, попавших в руки гестаповцев. Вспомнила и поняла, что навлекла беду и на Готовцева.
Штауфер рассмеялся мелким, икающим смехом, почти не разжимая тонких, бледных губ. Смех булькал у него глубоко внутри.
Он подошел к столу, взял паспорт и прочел вслух:
— «Готовцева Валентина Семеновна», — и повернулся в сторону гестаповца в штатском: — А его как?
— Готовцев Даниил Семенович, — ответил тот.
Только теперь Туманова взглянула на штатского. Это был широкоплечий человек лет тридцати, с пышной золотистой шевелюрой. На нем был коричневый костюм «в елочку», воротничок светлой сорочки безукоризненно выутюжен, галстук тщательно завязан.
Штауфер продолжал:
— «Родилась в деревне Клявдино, Черновицкого уезда…»
— И Готовцев оттуда же, — добавил гестаповец в штатском.
— Значит, он — ваш брат? — с невинной улыбкой спросил Штауфер.
— Я уже ответила.
— Может быть, вам изменяет память?
— Какой же вы непонятливый, — устало заметила Юля. — Я же объясняюсь с вами на вашем языке!
— Но, может быть, Готовцев вас не знает? — продолжал свое Штауфер.
Туманова промолчала. Возникла тревога: неужели они арестовали Готовцева?
— Молчите? Вы об этом не подумали?
— И думать не хочу.
— А вдруг он вас не знает? Сестра, допустим, не забыла своего родного брата, а брат, возможно, забыл сестру? — Штауфер обошел письменный стол и ногой нажал на кнопку звонка, вмонтированную в пол. Вернувшись, он продолжал: — Ваш «брат» не так уж далеко отсюда. Вы напрасно упорствуете. Это же вопреки здравому смыслу, а вы человек рассудительный. Правильно?
— Вам виднее, — ответила Туманова, прекрасно сознавая, насколько прав гестаповец. Конечно, факты против нее. Да еще какие факты! Ее схватили во время сеанса, с пистолетом, радиостанцией, у нее отобрали все, что выдавало ее профессию. Правда, враги что-то путают. Вопрос о партизанах, о каком-то письме задан неспроста. Но…
Раздался осторожный стук в дверь.
— Прошу! — громко сказал Штауфер.
— Обернитесь и посмотрите! — приказал Штауфер арестованной.
Предчувствуя недоброе, Туманова повернула голову, и что-то перехватило ей горло. Шагах в трех от двери стоял Готовцев. Он смотрел себе под ноги и растерянно мял в руках синюю кепку.
Сколько надо было иметь душевных сил, чтобы не измениться в лице и не выдать себя!
— Кто это? — спросил Штауфер, пытливо следя за девушкой.
— Мой брат, — совершенно спокойно ответила она, не теряя надежды, что, может быть, так же ответит и Готовцев. И если даже Готовцев станет отрицать, то их обоих уличит Циглер. Да что Циглер! Их уличат десятки офицеров, наблюдавших сцену свидания в «Глобусе»! Стало быть, погиб и Готовцев. Понимает ли он это? Наверное, понимает.
Штауфер шумно вздохнул и спросил по-русски:
— Господин Готовцев, вы знаете эту особу?
Разведчица замерла.
— Да, знаю, господин гауптштурмфюрер, — последовал четкий и уверенный, не соответствующий внешнему виду Готовцева ответ.
Туманова едва удержалась, чтобы не вздрогнуть. Только сейчас — слишком поздно! — в голосе Готовцева она расслышала что-то страшное.
Штауфер не сводил с нее глаз, следя за каждым движением, а она внешне спокойно смотрела на него.
— Отвечайте только на вопросы! — предупредил Штауфер предателя. — Кто она?
— Разведчица! Пришла ко мне с паролем…. И не сестра она мне… Ее прислал в город командир партизанского отряда Новожилов… Да, под видом своей дочки… От Новожилова я имею письмо… Я могу его… — и предатель полез в карман.
— Не надо! — остановил его Штауфер. — Письмо адресовано вам, и она, конечно, заявит, что знать ничего не знает.
Туманова почувствовала, как внутри у нее все похолодело. Правда перемешалась с каким-то диким вымыслом и лишь усугубляла ее положение.
Предатель хотел что-то сказать, но Штауфер предупредительно поднял руку и спросил его:
— А что вы скажете относительно документов?
— Документы у нее липовые, на имя моей сестры. А сестра живет и работает в Минске. Это можете проверить, господин начальник, — заявил Готовцев.
Теперь Штауфер обратился к Тумановой:
— Ну, как? Что вы на это скажете?
— Абсолютно ничего.
— Врет она, господин гауптштурмфюрер! — окончательно распоясался Готовцев.
— Довольно! — строго прервал его Штауфер. — Можете идти!
Готовцев умолк. Туманова не видела, но представила себе, как он угодливо раскланялся и осторожно, без шума прикрыл за собой дверь.
— Презанятная история! — воскликнул Штауфер и рассмеялся. Потом он расстегнул высокий воротник мундира и, повернувшись спиной к арестованной, стал цедить в стакан воду из сифона. И тут Туманова вздрогнула, почувствовав на своей руке чье-то прикосновение. Она резко отдернула руку и обернулась в сторону гестаповца, сидевшего справа от нее. Он же, приложив палец к губам, предупреждал ее о молчании. Затем, взглянув с опаской на своего начальника, пьющего воду, перегнулся через стол и сунул в ладонь разведчицы маленький кусочек бумаги, сложенный в несколько раз. И тотчас же, как ни в чем не бывало, склонился над столом.
Туманова машинально зажала бумажку. Она жгла ей ладонь, подобно раскаленному углю. Что это значит? Как понять поступок гестаповца? Какая-нибудь провокация? Может быть, она сама идет в расставленные ей силки? А что, если взять и швырнуть ему в физиономию этот клочок? Швырнуть и сказать: «Не выйдет!» А что не выйдет? Нет, нет!… Она должна узнать, что там написано! Непременно узнать!…
33
В тюремный коридор выходили двери восемнадцати одиночных и общих камер. Каждая дверь запиралась на ключ и на большой железный засов с замком.
Толстые стены и массивные двери, обитые железом, надежно охраняли тайну камер. Звуки умирали без отголоска, растворяясь в мертвой тишине.
В длинном коридоре царил полумрак. Тускло мерцали под тяжелым серым потолком электрические лампочки. У входной двери, прижавшись к стене, стоял жиденький столик. На нем лежала книга рапортов. В другом конце коридора виднелся пожарный кран с подвешенным к нему брезентовым шлангом. Ничего другого здесь не было.
Шаркая по каменному полу грубыми казенными ботинками, подбитыми гвоздями, прохаживался дежурный. На его поясе тихо звенела связка ключей. Длинные руки повисли у самых колен, и весь он походил на какое-то лесное существо, угрюмое и молчаливое. Из-под широкого низкого лба выглядывали маленькие глаза, застывшие в холодном безразличии и спокойствии. Следы перенесенной оспы усиливали общее отталкивающее выражение лица. Трудно было бы придумать более подходящий тип для роли стража этого мрачного места!
От длительной привычки ходить подолгу в ограниченном пространстве он переваливался с ноги на ногу, ритмично покачивая грузное тело. Изредка он задерживался то у одной, то у другой двери, настороженно вслушивался, заглядывал в «глазок», но, не заметив ничего необычного, опускал голову и продолжал обход своей качающейся походкой.
В конце коридора вспыхнула сигнальная лампочка и резко затрещал звонок. Дежурный снял с пояса связку и, подбирая на ходу нужный ключ, не спеша направился к входной двери. Вставив ключ в замочную щель, он повернул его несколько раз и потянул тяжелую дверь на себя. Она открылась. Вошли четыре человека: Туманова, два конвоира и плотный гестаповец в чине оберштурмфюрера СС.
Конвоиры остановились. Гестаповец взял дежурного под руку, отвел в сторону и стал ему что-то нашептывать. Тот слушал, молчал и лишь угрюмо кивал. Поговорив минуты три-четыре, гестаповец громко спросил:
— Ты понял?
— О, да…
— Веди!
Дежурный в сопровождении гестаповца направился в противоположный конец коридора.
— И ты подумай, какая стерва! — возмущался вполголоса гестаповец. — Он ее разоблачил: на очной ставке, а она ни в какую. «Не знаю», — говорит.
— Кто «он»? — нахмурившись, задал первый вопрос дежурный.
— Да вот этот же шеф-повар, о котором я говорил.
— А… — протянул дежурный. — Дурак, он дурак. Надо было пройтись легонько по ее мордашке, тогда бы она сразу признала родственничка.
Гестаповец покрутил головой и усмехнулся. Они остановились у камеры № 13.
— Здесь? — спросил гестаповец.
— Точно так! — ответил дежурный.
— Обязательно предупреди смену о том, что я сказал, — заметил гестаповец.
— Понятно! — глухо ответил дежурный.
Гестаповец, насвистывая, зашагал к выходу.
Конвоиры проводили его глазами.
— Сюда давайте, — подал голос дежурный.
— Вперед! — приказал конвоир.
Туманова пошла по коридору.
Дежурный уже снял засов с дверей и вставлял ключ. Открывая дверь, он поднял голову и остановил свой взгляд на девушке. Та испуганно вздрогнула, но, пересилив страх, попросила:
— Воды бы мне…
Один из конвоиров рассмеялся.
— Ну-ка, Курт, дай ей попить!…
Второй конвоир начал снимать автомат, болтавшийся за плечами. Но дежурный опередил его. Он зло толкнул Туманову в плечо. Девушка вытянула руки, пытаясь за что-нибудь зацепиться, но встретила только пустоту и, пролетев через несколько ступенек, ведущих вниз, упала на каменный пол.
Дверь захлопнулась.
— Ну и здоров же ты, Генрих! — восхищенно сказал конвоир. — Силища!…
Кривая улыбка смутно обозначилась на лице дежурного. Он внимательно посмотрел на растопыренные пальцы своей правой руки и спокойно принялся навешивать замок.
…Туманова с трудом встала. Отчаяние и бессилие душили ее: никогда и никто не поднимал на нее руки! Готовая ко всему с той минуты, когда на нее в лесу надели наручники, она сейчас только по-настоящему поняла, что это означает. Ей показалось, что она упала на дно глухой пещеры. Над ее головой, так низко, что она свободно могла дотронуться рукой, едва-едва теплилась мутная электролампочка. Камера, шириной не более двух метров, походила на каменный гроб. Сырые стены и потолок покрывала слизь зеленоватого цвета. Было по-могильному сыро и безмолвно.
Значит, конец всему! Мир остался за этими глухими, непроницаемыми стенами. Огромный, радостный мир, в котором жили Андрей, полковник Бакланов, брат Леонид, старая мать, верные фронтовые друзья.
Да, это конец. И никто ничего не узнает о ее судьбе! Здесь, в этом каменном гробу, ей суждено встретить смерть.
Туманова посмотрела на руку, зажатую в кулак, и вспомнила о клочке бумаги. Она помнила о нем, когда ее выводили из гестапо, везли в машине, вводили в тюрьму, и забыла на короткое мгновение, когда втолкнули в камеру.
Она разжала пальцы и увидела на ладони комочек бумаги. Осторожно расправив, она поднесла ее поближе к свету и прочла:
«Я ваш друг. Я горжусь вашим самообладанием. Мужайтесь, не падайте духом. Можете рассчитывать на все мои силы».
Не веря собственным глазам, разведчица перечитала записку несколько раз. Как все это понять? Кто он, этот странный человек? Перед нею тотчас возник образ гестаповца в штатском: пышные волосы, отливающие золотом, сосредоточенный взгляд замкнутого лица, твердые губы. Он не задал ей ни одного вопроса, он все время что-то записывал, склонившись над столом.
Человек даже в последний момент его жизни не перестает на что-то надеяться. Так случилось и с Юлей. Эти фразы, написанные рукой гестаповца, вызвали где-то в глубинах сознания искру надежды.
Но голос рассудка предупреждал: провокация! Хорошо продуманная и строго рассчитанная провокация! Гестаповцам невыгодна твоя смерть. Они должны знать, кто ты, кем послана, с каким заданием сюда явилась. Готовцев тебя предал, но он ничего не знает о тебе. И теперь гестаповцы пойдут на все, чтобы добиться цели. А эта крохотная записка — провокация. И тебе сейчас, как никогда в жизни, нужна физическая и душевная сила.
А вдруг?! Вдруг этот гестаповец именно тот человек, тот преданный человек, о котором вскользь упомянул перед ее вылетом полковник Бакланов? Что тогда? Может быть, стоит ему сказать одно слово — и все станет ясно? Ведь тот немец лично связан с Чернопятовым.
От этой мысли Тумановой стало жарко. Неужели возможно такое совпадение? Нет!… Не может этого быть! Осторожность! Еще раз осторожность!
Юля глубоко вздохнула и села на железную койку, покрытую мятой соломой. Она подобрала ноги, обхватила руками колени и уткнулась в них подбородком.
Тревожные мысли теснились в голове.
Сколько раз за войну ей удавалось миновать рук врага, а вот теперь… И глупо в ее положении чего-то ждать, на кого-то надеяться. Теперь остались муки, потом смерть…
Пестрой вереницей промелькнули перед мысленным взором родной дом, мать, брат, школьные друзья. Кажется, совсем недавно она была пионеркой. Потом комсомол. Пионервожатая. Институт. Фронт. Андрей… Это пришла любовь. Ну, конечно, Андрей!…
Воспоминания, полные особенного, волнующего смысла, на минуту согрели ее и ушли. Юля сидела все в той же позе, и тихие слезы струились по ее щекам.
Неожиданно загремел засов. Щелкнул ключ. Дверь открылась, и на пороге показался дежурный. Он пропустил в камеру раздатчика пищи. Тот тихо поставил на койку железный котелок и, отойдя к двери, произнес:
— Ешьте при мне!
Юля взглянула в котелок. Там была какая-то сероватого цвета жидкость, на поверхности которой в немощном свете лампы мерцало несколько капель минерального масла.
34
Чернопятов стоял у верстака, упираясь в его край своими сильными руками, и внимательно глядел, как горит примус, выбрасывая с шипением ярко-фиолетовое пламя. Когда пламя дрогнуло и переметнулось на одну сторону, он взял иголку и тщательно прочистил горелку. Пламя выровнялось, образовало широкий огненный венчик.
Возле верстака на пустом ящике сидела старуха — хозяйка примуса — и не сводила с огня своих мутноватых слезящихся глаз. На коленях ее покоилась большая плетеная кошелка.
— Ну как, мать? — спросил Чернопятов, подкачивая примус.
— Хорошо! Как новый!
— А ты говорила, не будет гореть. Вон как шипит, что паровоз!
— И в самом деле, — согласилась старуха, — а я уж и не надеялась… Примус-то старенький, поди, ровесник мне.
— Еще послужит! — улыбнулся Чернопятов.
Он погасил примус, старательно обтер его тряпкой и собственноручно уложил в кошелку.
— Если будет хандрить, приноси.
Старуха зубами развязала узел на головном платке, вынула из него несколько смятых немецких марок и молча положила на верстак:
— Дай бог тебе здоровья!… Прощевай.
— Счастливо, мать!
С кряхтением и вздохами старуха стала подниматься по крутым ступенькам.
Косые лучи клонящегося к западу солнца заглядывали в мастерскую, но почти не освещали ее. Только на уголок верстака падал желтый блик.
Чернопятов вытер о передник запачканные руки, скрутил цигарку, закурил и, присев на ящик, на котором только что сидела старуха, призадумался.
В том, что Семен Кольцов согласится идти на ту сторону, он не сомневался. И ради документов, хранящихся в голубом пакете, можно отказаться от аэродрома. Это дело не горит. Но терзали иные сомнения. Конечно, Семен — ловкий, головастый, смелый и напористый парень. Лучше его никто не справится с таким поручением. Но справится ли и он? Вот вопрос. Чтобы соваться через передний край немцев, надо хорошо знать этот край. Сейчас ведь не сорок первый год, когда на фронте были дыры, в которые можно было всунуть целую дивизию. Сейчас фронт уплотнился. Немцам туговато приходится. Как они ни бахвалились, а все же пришли к войне позиционной. Принудили их. И вот попробуй сейчас отыскать не дырку, а хотя бы маленькую щелочку. Где она? Кто ее укажет? Кто подскажет, кто посоветует: в каком направлении лучше податься?!
Да, радиосвязь — великое дело!
И двести километров до фронта — тоже дело нешуточное. Если поездом добираться, нужны документы. Крепкие, верные документы. И еще придумать надо, зачем это Семену Кольцову, парню из Горелова, понадобилось вдруг пробираться на восток. Зачем? И придумать-то трудно. А документы где возьмешь?
Значит, идти надо на своих двоих, без документов. Двести километров. Шутка сказать! Это верных десять суток, не меньше.
А как идти? Лесом? По карте и компасу? Только так! А иначе — крышка. В первом же населенном пункте схватят, обыщут—и конец! Да и в лесу могут перехватить. Тут, поближе, еще можно проскочить, а там, возле передовой, каждый кустик на учете. Сцапают, как миленького. И, наконец, не все же время будет тянуться лес, пойдут и открытые места. А как тогда? День лежи, а ночь шагай?… Ничего себе: так и за месяц не доберешься.
Расстроенный окончательно, Чернопятов встал, подошел к верстаку, в сердцах отшвырнул какую-то кастрюлю, стоявшую на краю, и, повернувшись, заметил чьи-то ноги в дверном проеме. Он пригнулся и увидел Заболотного. В руках у того был старый железный таз.
Заболотный быстро скатился вниз по ступенькам и, подбежав вплотную к Чернопятову, выпалил прерывающимся шепотом:
— Готовцев — предатель!…
Чернопятов отшатнулся:
— Ты… в своем уме?
Глаза Заболотного сверкали. Он вытер рукавом лоб с проступившими на нем росинками пота.
— Предатель, я говорю!… Я брил Скитальца, видел Демьяныча. Они все рассказали… В тюрьме сидит Валентина Готовцева, которую мы ожидали! Ее арестовали сегодня утром.
Чернопятов схватился за сердце и тяжело опустился на ящик. Лицо его покрылось мертвенной бледностью. Час от часу не легче. Тимошка, Костя… Теперь Готовцев — предатель.
— Григорий Афанасьевич, что с вами? — испуганно спросил Заболотный.
— Ничего… подожди… сейчас пройдет, — ответил тот ровным и тихим голосом и осторожно вздохнул. — Не обращай внимания…
Хорошенькое дело — не обращай внимания! Ничего подобного не случалось до сих пор с Чернопятовым, хотя подполью и наносились тяжелые удары. Кто-кто, а уж Заболотный отлично знал, что сердце Григория Афанасьевича никогда не шалило. Но, видно, всему есть предел.
Чернопятов сидел прямо, молча, не отрывая руки от груди, стараясь дышать ровно, без напряжения.
— Отпустило, — тихо промолвил он. — Да, отпустило. Скажи на милость! Нужно же приключиться такому не вовремя… Говори, Степа, я слушаю тебя…
Заболотный рассказал о том, что узнал от Скитальца. К Готовцеву явилась в кафе девушка, и он ее выдал. Сегодня днем Готовцева вызывали в гестапо, и он на очной ставке уличил девушку. Но она ни в чем не призналась. Как ее арестовали, Скиталец не уточнил, но тут кое-что дополнил Демьяныч.
— Какой Демьяныч? — переспросил Чернопятов, хотя отлично знал его.
Заболотный пояснил: Никанор Демьяныч Сербии из деревни Лужки. Он по наряду от управы обслуживает кафе «Глобус». Сегодня утром ездил на молочную ферму с Готовцевым. Тот был не один. С ним из города выехала сестра, которую он оставил в лесу «собирать грибы». На обратном пути они хотели захватить сестру, но она на шоссе не вышла. Потом на пути встретилась женщина из Лужков, сказала, что в лесу была стрельба. А Готовцев только усмехнулся. Старику это показалось подозрительным. Он слышал о том, что у Готовцева есть сестра, что она работает якобы на немцев в Минске, и ее появление здесь, странная поездка в лес за грибами, да еще стрельба навели на нехорошие мысли.
— И вот когда я, — продолжал Заболотный, — увязал рассказ Демьяныча со словами Скитальца, мне стало все ясно.
Чернопятов подумал: «Значит, Костя успел-таки передать телеграмму, если Бакланов выслал человека».
— Как ты инструктировал Готовцева? — спросил он.
— Я предупредил, — твердо заявил Заболотный, — что если к нему под видом сестры явится женщина, он должен принять ее, укрыть и уведомить меня.
— И все?
— Да, все!
— Знает ли он кого-либо из наших, кроме тебя?
— Никого!
— А Костю Голованова?
— А при чем тут Костя? — удивился Заболотный. — Да и что он мог о нем знать?
— Я спрашиваю об этом потому, — тихо произнес Чернопятов, — что Кости уже нет. Костя погиб. В дом к нему ворвались гестаповцы, и он подорвал себя и их гранатой. Это было позавчера ночью.
Заболотный стоял потрясенный. Он оцепенел и не мог выговорить ни слова. В голове все смешалось. Он шел сюда со страшной вестью, но здесь его ожидала не менее страшная. Только необходимость что-то решать, принимать срочные меры вывела его из оцепенения.
Чернопятов спросил:
— А насчет Демьяныча Готовцев не догадывается?
— Что вы! Откуда?! — с тревогой ответил Заболотный. — Ведь старик по наряду у них в кафе работает.
Зная о том, что Готовцев — родственник Заболотного и что именно Заболотный рекомендовал его на подпольную работу, Чернопятов сказал:
— Он и тебя может выдать…
— Я думал об этом, — признался Заболотный. — Да уж лучше бы меня…
— Не говори глупостей, — оборвал его Чернопятов.
Заболотный нахмурился.
— Думал я и вот о чем: почему он раньше меня не выдал? Что ему стоило? Ничего. Значит, ему это невыгодно…
— Не понимаю, — заметил Чернопятов.
— Может быть, я и не то сказал, — поправился Заболотный, — но мне кажется, что ему неинтересно было предавать меня одного. Он хотел узнать, кто стоит за моей спиной.
— Он твой шуряк?
— Да, он женат на моей родной сестре.
— Хм!… Интересно, как она поведет себя, узнав, что Готовцев — предатель.
— Клавдия задушит его собственными руками, — сильно волнуясь, произнес Заболотный. — В этом я могу поручиться своей головой. Разрешите мне поговорить с ней, и вы убедитесь…
— Подожди, Степа… подожди… Давай обдумаем все, со всех сторон.
35
В одиннадцать часов вечера закрытая тюремная машина доставила Туманову в гестапо.
В кабинете Штауфера, кроме него и гестаповца в штатском, находился хозяин кафе Циглер. Туманова поняла, что его вызвали сюда для очной ставки.
Ее усадили на прежнее место.
— Этот человек вам, конечно, тоже знаком? — спросил Штауфер, не скрывая иронии.
— Вы угадали, — ответила разведчица.
— А вы ее тоже хорошо запомнили? — спросил Штауфер.
— Конечно, я узнал бы ее из тысячи! — заверил Циглер.
В голове Циглера была страшная путаница. Он не мог сообразить, в чем провинилась «роскошная» сестра его шеф-повара, которую он так любезно встретил и с которой беседовал.
— Неужели вы… — попытался он что-то сказать Тумановой, но его прервал Штауфер:
— Не волнуйтесь, господин Циглер. Это не должно вас удивлять. Не смею вас больше задерживать.
Хозяин кафе попятился и, поклонившись, вышел.
Туманова взглянула на тумбочку, где стоял сифон с газированной водой, и судорога передернула ее лицо. Она непроизвольно провела сухим, воспаленным языком по запекшимся губам и с невероятным усилием отвела глаза от сифона.
Целый день ей не давали воды. Не дали даже умыться, на что она так рассчитывала. А после обеденной бурды, которая оказалась не только отвратительной по вкусу, но и пересоленной, жажда мучила немилосердно.
Штауфер отлично понимал состояние арестованной: все делалось по его приказанию. Он подошел к тумбочке и наполнил стакан прозрачной газированной водой. Подняв стакан до уровня глаз, он наблюдал с подчеркнутым вниманием, как поднимались вверх маленькие пузырьки, выбрасывая мельчайшие брызги.
— Ну-с… Что же мы будем делать дальше? — спросил он арестованную.
Разведчица молчала, плотно сжав губы.
Штауфер поднес стакан ко рту и, запрокинув голову, стал пить воду крупными глотками. Его кадык ритмически двигался. Поставив пустой стакан на место, Штауфер прищелкнул языком, погладил рукой по груди и повел допрос дальше:
— Вы не передумали? Нет? Неужели вам не ясно, что перед вами выбор: или рассказать о себе все, ничего не утаив, или… — и он сделал выразительный жест над своей головой. — Я понимаю, что неприятно и то и другое, но существует правило: всегда выбирать из двух зол наименьшее. Я бы лично в вашем положении…
— Вам тоже придется когда-нибудь выбирать! — не сдержалась Юля.
Глаза Штауфера побелели. Он быстро подошел к сейфу, взял лежавший на нем кусок резинового шланга в палец толщиной и, крепко зажав один конец в своей руке, приблизился к арестованной…
— Вы… неразумная! — зло, сквозь зубы, бросил он. — Всякому терпению может прийти конец. Я не намерен слушать ваши остроты. Я могу сделать так, что ваш язык будет говорить только то, что мне нужно.
Туманова посмотрела ему в глаза и усмехнулась.
Зазвонил телефон. Штауфер хлестнул шлангом по голенищу сапога и подошел к столу. Повернувшись к арестованной спиной, он снял трубку.
— Да, я! Ну? — спросил он резко и отрывисто. — Ерунда! Делайте то, что вам приказано. Вот, вот!… К вашему сведению, нет на свете человека, который не страдал бы каким-нибудь недугом. Что?…
Гестаповец в штатском наклонился вперед, тронул девушку рукой и тихо, едва шевеля губами, произнес:
— Вы прочли мою записку? Доверьтесь мне… — Он умолк, заметив движение Штауфера, и углубился в бумаги.
Туманова испытующе взглянула на него. И ей почудилось, что в его глазах мелькнуло участие.
Кося глазами на Штауфера, гестаповец снова быстро зашептал:
— Я готов помочь вам… надо действовать осторожно… Слушайтесь меня…
Туманова подозрительно смотрела на него и молчала.
— Возможно, даже… — Он быстро выпрямился и умолк.
Штауфер повернулся вполоборота и, видимо, заканчивал разговор:
— И я болен, и вы больны! Отправляйте его в лагерь! К черту! Да, сегодня же! Я уверен, что он там быстро поправит свое пошатнувшееся здоровье. Все!
Он бросил трубку на рычажок и, обратившись к гестаповцу, сказал:
— Распорядитесь сейчас же вызвать Готовцева!
Штатский поднял голову.
— Он, вероятно, еще на службе. Мы постараемся при его содействии уточнить кое-какие подробности, — продолжал Штауфер.
Гестаповец поднялся и молча удалился.
Штауфер прошелся по комнате и присел на подоконник, играя концами шланга.
— Вы учтите, фрейлейн, — предупредил он Туманову, — я перестану с вами церемониться. Вы накликаете беду на свою голову. Мне попадались такие, как вы, и еще почище. Они тоже пытались дурить, но потом горько раскаивались. И еще запомните, что нет на свете такого человека, который в конце концов не разговорился бы у меня! Поняли?
Туманова смерила его презрительным взглядом и с брезгливостью сказала:
— У вас физиономия крысы…
Штауфер замер от неожиданности. Кровь быстро сходила с его острого лица. Заложив руку за спину и наклонив голову, он стал медленно приближаться к девушке и вдруг быстро взмахнул над ее головой резиновым шлангом.
36
С северо-запада на город надвигалась туча. Вспышки молнии уже обжигали ее, раскаты грома приближались. Туча наступала медленно, неумолимо и постепенно гасила звезды.
Пахнул свежий, предгрозовой ветерок, зашелестел в листве деревьев, встряхнул тяжелые флаги со свастикой у входа в гестапо, промчался по городу, волоча за собой пыль и мусор.
В дверях здания гестапо показался Готовцев. Он вторично пытался помочь Штауферу заставить разведчицу сознаться, но из этого ничего не вышло. Раздосадованный и озлобленный, он покинул кабинет, чувствуя, что гауптштурмфюрер не был в особенном восторге от хода следствия.
Готовцев остановился на улице, раздумывая, возвратиться ли в кафе, до закрытия которого оставалось минут двадцать, или же идти домой. Решил идти домой.
Поминутно озираясь, перебегая с одной стороны улицы на другую, Готовцев добрался до своего переулка. Туча уже висела над городом и как бы остановилась. Длинная ломаная молния прорезала небо, озарила на миг все вокруг, и грохнул такой удар грома, что в ушах Готовцева зазвенело.
Он бросился бежать по переулку, юркнул в проходной двор, и вдруг перед ним, точно из-под земли, появились две фигуры.
— Кто? — вскрикнул Готовцев и шарахнулся в сторону.
— Свои, Даниил, без паники, — успокоил его знакомый голос Заболотного.
— Степан? — не без опаски спросил Готовцев, подходя поближе и заглядывая в лицо.
— Он самый, — спокойно ответил тот.
— А это кто? — предчувствуя недоброе, задал вопрос Готовцев, вглядываясь в спутника Заболотного.
— Тоже свой, — сказал невозмутимо Степан. — Веди нас к себе… Мы с вечера ждем тебя и надоели Клашке. Она уже спать улеглась.
— А что случилось? — спросил Готовцев с тревожными нотками в голосе.
— Ничего особенного… Надо ночку отсидеться у тебя. Нас трое.
Готовцев оглянулся.
— Что ж, пошли, — нехотя согласился он и повел двоих через проходной двор к небольшому дому с крылечком, стоявшему рядом с полуразрушенным общежитием бывшего сельскохозяйственного техникума. Зашумел дождь — крупный, стремительный, прямой.
У самого крыльца, держа наготове ключ от дверей, Готовцев увидел третьего. Он отделился от темной стены и присоединился к ним.
Готовцев долго не мог попасть ключом в замочную скважину, так тряслись его руки, и наконец отпер дверь.
Первым в дом вошел Заболотный.
37
В начале третьего Туманову в бессознательном состоянии доставили в тюрьму. Два конвоира вытащили ее из арестантской машины и, подхватив на руки, внесли в коридор.
— Фу! — произнес один из конвоиров. — Как будто и не велика птичка, а тяжелая.
— На дворе дождь? — спросил дежурный.
— Такой льет… — ответил конвоир и, взглянув на неподвижную Туманову, заметил: — Чего доброго, богу душу отдаст. Потеха, да и только! Когда туда везли, все воды просила, а сейчас…
Дежурный посмотрел на арестованную. Она лежала на боку, вытянув одну руку, и будто спала. Спекшийся рот ее был слегка приоткрыт. Под глазами лежали густые синие полосы. Платье, пропитанное кровью, прилипло к спине.
Дежурный направился к пожарному крану, снял брезентовый рукав, вытянул его, задрал конец вверх и открыл вентиль. Вода стремительной струей рванулась к потолку. Дежурный направил сильную струю прямо в лицо арестованной, и она мгновенно очнулась. Вода заливала рот, нос, глаза. Девушка пыталась изменить положение, приподнялась на руку, но безжалостный дежурный зашел с другой стороны и продолжал свое дело. Струя снова свалила ее.
Конвоиры прыгали, как ребятишки, и хохотали.
— Встать! — свирепым голосом крикнул дежурный и отвел струю в сторону.
Хватаясь за стену, Юля встала и сильно закашлялась. Дежурный закрыл кран и, не собрав шланга, подошел к двери камеры.
— На место! — скомандовал он.
Но Туманова кашляла до конвульсий, выплевывала воду, добравшуюся до легких, и чувствовала, что вот-вот упадет. Ноги почти не держали ее, и голова кружилась.
— На место! — повторил дежурный.
Оттолкнувшись от стены, разведчица сделала шаг, другой и медленно сошла по ступенькам вниз, боясь взглянуть в лицо страшному тюремщику. Едва достигнув койки, она упала на нее и, забыв о боли в спине, вызванной побоями, мгновенно забылась в полусне-полуобмороке.
38
За небольшим квадратным столом, застланным старенькой клеенкой, друг против друга сидели Чернопятов и Готовцев. Заболотный стоял за спиной Готовцева, Калюжный дежурил в уголке.
Посреди стола тихим огоньком теплилась стеариновая плошка. По стенам двигались большие расплывчатые тени.
Чернопятов писал. Странно было видеть, как мускулистая, неуклюжая на вид рука Чернопятова держала тоненький химический карандаш и старательно выводила мелкие буквы.
История падения Даниила Готовцева была такова. Как-то ночью сорок первого года Заболотный брал воду в колонке, стоявшей наискось от его дома. В это время где-то недалеко прогремел выстрел. Время было тревожное, беспокойное. Оккупанты днем и ночью проводили аресты, обыски, облавы. Показываться ночью на улице без специального пропуска категорически запрещалось. Во избежание неприятностей Заболотный, не успев наполнить ведра, заторопился к дому. На полпути он услышал свистки патрулей, какие-то крики и увидел бегущего человека.
Заболотный быстро, насколько позволяли ему ведра, юркнул во двор и хотел было запереть калитку, но запыхавшийся человек окликнул его:
— Степан!
— Даниил!
Только теперь они разглядели друг друга. Неизвестный оказался Готовцевым.
— Я к тебе… Степан… укрой… скорее… — выговорил он задыхаясь.
— А что с тобой? — с тревогой спросил Заболотный.
— Убил немца!… Сейчас убил!… Скорее, они будут искать!…
— Беги в дом, там открыто, — торопливо сказал Заболотный, — а я запру калитку!
Отдышавшись и придя в себя, Готовцев рассказал, что произошло. Он шел с вокзала, где работал в ночную смену, и нагнал двух людей, шедших впереди. Один был немец — унтер-офицер, а второй — русский, молодой парень. Унтер-офицер, держа в одной руке пистолет, другой толкал парня вперед. Он наносил ему удары по затылку, и тот плакал, как ребенок.
Готовцев не мог перенести этого зрелища, и решение созрело у него мгновенно. Налетев на унтер-офицера сзади, он выхватил из его рук пистолет и выстрелил ему прямо в лицо. Тот упал. Парнишке Готовцев приказал бежать, и в это время услышал свистки патруля, привлеченного выстрелом. Вот и всё.
Слух о расправе с немецким унтер-офицером облетел полгорода. Все поражались смелости неизвестного, дерзнувшего открыто напасть на представителя оккупантов.
Естественно, что Готовцевым заинтересовался и Чернопятов. Заболотный рассказал все, что знал о Готовцеве. Отец его много лет работал поваром и умер за два года до войны. Сестра Готовцева, учительница, жила в Минске. Месяца четыре спустя после убийства немецкого унтер-офицера Чернопятову через Бакланова удалось выяснить, что сестра Готовцева по заданию белорусских партизан устроилась работать в минскую военную комендатуру переводчицей.
Эта маленькая подробность ускорила решение: Чернопятов поручил Заболотному привлечь Готовцева к подпольной работе, на что тот, не колеблясь, согласился. Заболотный представился Готовцеву как доверенный человек партизанского отряда, скрыв свое отношение к подполью.
По договоренности с Чернопятовым было решено использовать Готовцева как хозяина явки.
Он мог принимать людей не только дома, но и на работе: в вокзальном ресторане и в офицерском кафе. Дополнительно его решили использовать для сбора разведывательных сведений: он вращался среди гитлеровских солдат и офицеров.
До появления Тумановой явочный пункт Готовцева ни разу не использовался, зато он регулярно сообщал Заболотному сведения о проходивших через город воинских частях, нумерации их, пути следования и вооружении.
Но подпольщики не знали главного: Готовцев с декабря сорок первого года уже состоял агентом гестапо под кличкой Филин. Это выяснилось только сейчас.
Оказывается, унтер-офицер, в которого стрелял Готовцев, не умер. Он выжил и назвал Готовцева. Обстоятельства дела были вовсе не такими, как об этом раньше рассказывал Готовцев. Унтер-офицер заведовал складами на вокзале, и через Готовцева ему удалось успешно сбыть на рынок большую партию похищенных продуктов. Когда пришло время делить куш, унтер-офицер поскаредничал и предложил своему сообщнику ничтожную часть. Готовцев возмутился и пригрозил выдать унтера. Тот решил избавиться от свидетеля. Он дал понять Готовцеву, что просто пошутил, затянул его к себе в конторку, и они выпили. Потом отправились домой к Готовцеву, чтобы обо всем договориться.
На улице унтер-офицер нарочно затеял ссору и вытащил пистолет. Завязалась борьба. Готовцеву удалось повернуть руку противника, и пуля угодила в хозяина пистолета.
Немец на допросе покаялся во всем и был послан в штрафную роту, а Готовцев на шестой день после покушения принял предложение гестапо и стал осведомителем.
Все это, рассказанное им самим и дополненное Заболотным, занес в протокол допроса Чернопятов. Осталось выяснить еще кое-какие подробности.
— А почему ты его не выдал? — и Чернопятов кивнул в сторону Заболотного.
— Клавку пожалел, — ответил Готовцев. — Любит она Степана… Да и я от него ничего худого не видел. В тот раз, когда получилась история с унтером, он все-таки укрыл меня…
— Н-да!… — усмехнулся Чернопятов. — Ты, оказывается, еще не лишен благородства!
Готовцев с досадой пожал плечами. Его раздражало, что эти люди не могут понять самой простой вещи.
— Если бы я сказал о Степане, — объяснил он, — надо было говорить и о себе. А тогда бы они сели на меня верхом и заездили. Штауфер и так попрекает меня, что я плохо работаю!
— Так, допустим, — проговорил Чернопятов. — Теперь объясни нам, как же ты выкрутился перед своим Штауфером, когда выдавал ему девушку, названную твоей сестрой? Что ты ему сказал?
— Я знал, что вы об этом спросите, — усмехнулся Готовцев, вытаскивая из кармана помятый конверт, — я тоже кое-что соображаю. — Он развернул листок бумаги, заполненный печатным шрифтом от руки, и протянул его Чернопятову.
— «Дорогой Даниил Семенович! — прочел вслух Чернопятов. — Выручи ради старой дружбы. Явится к тебе моя дочка, устрой ее где-нибудь около себя. Она девка способная, мастер на все руки и давно просится в город. К тому же она и немецкий неплохо знает. А чтобы не было лишних хлопот перед начальством, она будет представляться твоей сестрой. Постарайся, дружище! Я тебя отблагодарю. Дела у меня идут неплохо. Бургомистр и комендант довольны работой. Переселился на новую квартиру, где раньше жил военком. Приезжай, будешь дорогим гостем. Твой Петр Новожилов. 9 июня 1943 года».
Подпольщики недоумевающе переглянулись, Чернопятов нахмурился, силясь что-то сообразить. Готовцев смотрел на них, не скрывая насмешливой улыбки.
— Это письмо я получил по почте, — он взглянул на конверт, — и в тот же день показал Штауферу.
На конверте были ясно видны печати и даты почтового ведомства.
— Петр Новожилов? — спросил Чернопятов.
— Вот именно, Петр Новожилов, — подтвердил Готовцев, — командир партизанского отряда. А что он был когда-то моим другом, пол-города знает. Три года сряду работали вместе на мебельной: он завстоловой, а я поваром. Я так и сказал Штауферу. Знать, мол, ничего не знаю, получил письмо, а.вы уж решайте, как быть. Мое дело маленькое. А объяснять Штауферу, кто такой Новожилов, надобности не было. Эта фамилия ему хорошо известна.
— Выходит, что Новожилов… — начал было Заболотный, но Готовцев не дал ему возможности докончить фразу.
— Ничего не выходит! — отрезал он со свойственной ему напористостью и, обращаясь к Заболотному, добавил: — Это письмо я написал сам и бросил в почтовый ящик через час после того, как ты сказал, что, быть может, приедет гостья. Я знал, что рискую, но другого выхода не было. Штауфер поверил. Да и не мог не поверить. Гостья-то все-таки явилась? Явилась! И я в стороне. Что она там расскажет, это уже не мое дело.
Чернопятов откинулся на спинку стула и пристально смотрел на Готовцева.
— Какой же ты подлец! — тихо произнес он.
— Куда чище! — горько усмехнулся Калюжный. — Не только своих продавал, но и гестаповцам — хозяевам — мозги морочил!
Чернопятов не сводил глаз с Готовцева. Поражало, что в начале беседы предатель дрожал, хныкал, пытался разжалобить, а потом вдруг осмелел, начал рассказывать о своих делах развязно и цинично. Чернопятов записал что-то на листке бумаги и подвинул его Готовцеву.
— Прочти и напиши: «Все со слов моих записано правильно, в перечисленных преступлениях признаю себя виновным».
Вертя карандаш, Готовцев что-то напряженно обдумывал. Его окружали грозные и неумолимые судьи. Они имели чистую совесть, крепкие руки. К предателям такие руки беспощадны. Это он понимал. Его нижняя губа мелко дрожала.
Судьи ждали.
— Ну? — произнес Чернопятов.
Готовцев откинул липкие волосы, издал какой-то рыдающий звук и приготовился писать. Рука вначале не повиновалась ему. Буквы становились дыбом, наскакивали друг на друга. Потом он, видимо, успокоился и обратился к Чернопятову:
— Продиктуйте лучше.
Чернопятов начал диктовать. Готовцев подвинул к себе плошку и… дунул на нее. Язычок пламени сорвался, плошка погасла.
Это было так неожиданно, что в первое мгновение все растерялись.
Тотчас же в кромешной тьме загремел стол, опрокинутый Готовцевым, полетел брошенный им стул. Послышался топот ног, выкрики. Готовцев бросился к дверям, но, получив сильный удар под солнечное сплетение, отскочил в сторону и устремился к окну.
В руке Калюжного вспыхнул ручной фонарь. Луч метнулся в одну сторону, в другую — и остановился на предателе. Бледный, с искаженным злобой лицом, горящими глазами, он прижался всем телом к стене.
— Вот тебе последнее жалованье… Иуда! — раздался глуховатый голос Чернопятова. И грохнул выстрел…
39
Штауфер явился на работу с опозданием на два часа. Войдя в кабинет, он подошел к стенному календарю, оторвал листок и бросил в корзину.
Было чертовски скверное настроение, приступать к работе не хотелось.
Дело Готовцевой остановилось на мертвой точке. Минули сутки, и не удалось узнать даже ее настоящей фамилии, не говоря уже о том, с каким заданием она здесь появилась, кто ее направил.
Она упорно молчала, а если и говорила, то обязательно дерзости. Побои переносила с какой-то безропотностью и потрясающим спокойствием. Штауфер бросил взгляд на кусок шланга, лежащий на подоконнике. Шутка сказать! От одного удара такой штучкой взвыть можно, а она хоть бы вскрикнула. Какой-то фанатик, а не человек!
— Н-да, — протянул он со вздохом. — Дела идут неважно.
А тут еще история с этой злосчастной машиной курьера. Не успел он, придя ночью домой, улечься в постель, как позвонил военный комендант. Оказывается, он провел дополнительную проверку и установил точно, что спецмашина проследовала через деревню Лопухово и таинственно исчезла между нею и городом. Чудеса! Куда же она могла исчезнуть, спрашивается? Не растворилась же в воздухе? Дико и непостижимо! Ведь ехали шесть человек, вооруженные двумя пулеметами, автоматами, пистолетами, гранатами. Целая боевая единица, способная самостоятельно вести бой! Да, но с кем вести бой? Если бы он случился, то остались бы хоть какие-нибудь следы. А то ведь никаких! И что же теперь делать? Где искать эту машину?
В дверь постучали. Вошел обершарфюрер и, выбросив вперед правую руку, приветствовал шефа:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! — рявкнул Штауфер, и это прозвучало так, будто он хотел сказать: «Подите вы к дьяволу!»
Гестаповец подошел поближе к столу и нерешительно кашлянул.
— В чем дело? — с раздражением спросил Штауфер.
Обершарфюрер вобрал в себя воздух, с шумом выпустил его и доложил:
— Минувшей ночью господин Готовцев, под кличкой Филин, покончил жизнь самоубийством…
Короткие брови начальника гестапо медленно поднялись вверх, глаза округлились. Он потихоньку отвалился на спинку кресла и застыл в неподвижной позе с полуоткрытым ртом.
Обершарфюрер растерянно переминался с ноги на ногу и колебался: продолжать или выждать.
Он предпочел последнее и, не мигая, смотрел в ошалелые глаза своего начальника.
— Как покончил? — чуть не шепотом спросил Штауфер после нескольких томительных секунд.
Обершарфюрер, рассудив за это время, что он не является виновником события, несколько приободрился и, имея в виду главным образом «как», ответил:
— Вогнал себе пулю в область сердца из пистолета русского образца модель «Т».
Обершарфюрер на всякий случай сделал шаг назад.
Штауфер схватился руками за край стола, точно собирался сдвинуть его с места, и своим визгливым, бабьим голоском вскрикнул:
— Откуда у него пистолет?!
— Не могу знать, господин гауптштурмфюрер! — последовал быстрый ответ.
— Где это произошло? Когда? Откуда и как вы узнали? — посыпались нервные вопросы.
— Произошло это, как я уже вам доложил, на собственной квартире Готовцева и, по всей видимости, ночью или перед утром. Утром жена Готовцева вернулась домой и нашла его мертвым. Она тотчас же заявила в полицию.
— А где была в это время жена? — спросил Штауфер.
— Это тоже выяснено. Жена его работает телефонисткой на городском коммутаторе. До часу ночи она дежурила, а потом пошла в гости к своему родному брату, у которого и осталась ночевать.
— Кто такой ее брат?
— Брат? Брат — парикмахер, отличный мастер и ни в чем предосудительном не замечен. К тому же инвалид.
— Вы были на месте?
— Так точно.
— И почему решили, что тут именно самоубийство?
Этот вопрос не смутил обершарфюрера. Он объяснил:
— По обстановке в комнате, по направлению выстрела, по положению тела…
— А пулю, пулю нашли?
— Да, то есть никак нет! Пуля сидит под левой лопаткой, и при вскрытии ее, наверное, удастся извлечь.
— Где труп?
— В морге городской больницы.
Штауфер шумно вздохнул и, подойдя к окну, уставился отсутствующим взглядом на площадь. Минуту спустя он повернулся, присел на подоконник и сказал:
— Н-да… Странно! Не могу согласиться, чтобы Готовцев сам покончил с собой… Никто не убедит меня в этом. Он трус. Понимаете, трус! А трусы, да будет вам известно, никогда не расстаются с жизнью по высшим соображениям. Это истина, не требующая доказательств.
— Пожалуй, да, — вынужден был согласиться обершарфюрер, хотя в душе был не согласен с теорией шефа и имел на этот счет свое мнение. Но ему хотелось поскорее закончить этот неприятный разговор.
— Соседи у Готовцева были? — поинтересовался Штауфер.
— Так точно! Были и есть! Дом, в котором он проживает, состоит из двух самостоятельных квартир, по две комнаты в каждой. В квартиру Готовцева вход с улицы, а в другую — со двора. Соседка его — пожилая женщина с двумя детьми.
Муж — пивовар, по добровольному желанию выехал в Дрезден и работает там на пивном заводе. Фамилия его Монаков. По картотеке не значится. Я допросил ее. Она была дома. Говорит, что проснулась от какого-то короткого стука, но не может утверждать, что это был именно выстрел. Вот и все.
— Да, именно все! — иронически подчеркнул Штауфер и отпустил подчиненного.
40
На дневном допросе Штауфер почему-то не прибегнул к побоям. Гестаповец в штатском, склонившись над бумагой, добросовестно заносил в протокол все вопросы, задаваемые Штауфером, и терпеливо ожидал ответа. Но напрасно. Арестованная молчала.
Скоро Штауфер ненадолго отлучился. Гестаповец в штатском встал из-за стола и, подойдя к Тумановой, крепко молча пожал ее руку повыше кисти. Взглянув на нее с состраданием, он шепнул:
— Прошу вас, доверьтесь мне! Спасение возможно!…
Разведчица ничего не ответила. Страшная жажда мучила ее. От внутреннего огня мутился рассудок, окружающее воспринималось в каком-то тумане.
Штауфер вернулся. Допрос продолжался недолго. Через час ее отвезли обратно в тюрьму.
Обессиленная, Туманова опустилась на койку и уронила голову на руки. Ей хотелось заснуть и не проснуться, чтобы не испытывать этой непереносимой жажды. Но страх, что вдруг она уснет и действительно никогда больше не проснется, заставил ее подняться. Она стала ходить по камере, напряженно думая о гестаповце в штатском. Мучительные раздумья вконец обессилили ее, и она снова бросилась на твердую, как гранит, койку.
Прошедшим утром Туманова твердо решила делать все, чтобы ускорить приход смерти: она откажется от еды, будет вести себя со Штауфером так, чтобы он ее избивал до потери сознания, ляжет спать не на койку, а на ледяной каменный пол. Но теперь, вернувшись с допроса, она думала о другом: жить, бороться! Мучиться, но жить до последней возможности.
Она не отказалась от обеда и съела пересоленную свекольную похлебку и горстку консервированных бобов. Жажда с новой силой охватила ее. Начались кошмары. В мозгу толпились бесформенные мысли, плыли бессвязные картины. Все это жило какое-то мгновение и опять уходило.
Только часам к одиннадцати Юля забылась в тревожном сне. А в два часа ночи дверь открылась, и в камеру вошел только что заступивший на дежурство тюремщик Генрих.
Заключенная спала и что-то бормотала во сне.
Дежурный с несвойственной ему подвижностью быстро спустился по ступенькам и прислушался.
— Мне нужен Чернопятов… Только Чернопятов!… Нет, вам я ничего не скажу! — бормотала она.
Дежурный зарычал и своей огромной ладонью шлепнул Туманову по лицу. Она в испуге вскочила, спрыгнула с койки и прижалась к сырой стене. Она смотрела на Генриха, сложив руки на груди и пытаясь унять бурное дыхание.
В это время в камеру вошли трое: Штауфер, гестаповец в штатском и обершарфюрер.
Дежурный неуклюже потоптался на месте, хотел было что-то сказать, но Штауфер сделал движение рукой, и он исчез.
— Буйствуете? — заметил с язвительной усмешкой Штауфер, обводя взглядом камеру.
Разведчица молчала, не сводя с него измученных глаз.
— Ответьте на два вопроса, и я оставлю вас в покое! — продолжал Штауфер. — Сколько вам платят, какой ваш оклад?
Ей захотелось плюнуть в его физиономию, но она была лишена даже этой возможности. Во рту все пересохло, язык распух и еле-еле поворачивался.
— Этот вопрос вас не устраивает? Отлично? Я предложу другой: скажите, дорогая, вы девушка или замужняя? Поверьте, что ни первый, ни второй вопрос не имеют никакого отношения к вашей судьбе. В данном случае вы просто разрешите спор между двумя мужчинами.
Юля молчала.
— Что ж, прекрасно! — невозмутимо заметил Штауфер. — И все-таки я хочу заверить вас в присутствии свидетелей, что вы заговорите. Но… молчание и упорство обойдутся вам очень и очень дорого. Колотить я вас больше не буду. Вы привыкли, видно, чтобы вас били. Мы испробуем другое. Да, да! Если до утра вы не объявите через дежурного, что желаете вести откровенный разговор, вас переведут в общую камеру. В мужскую! — Он повернул голову к обершарфюреру: — Сколько их там?
— В шестой? — уточнил тот.
— Ну да!…
— Двадцать семь человек.
— Слышали? — любезно улыбнулся Штауфер. — Двадцать семь молодчиков, давно лишенных женского общества! Дезертиры, мародеры, трусы, симулянты и прочая дрянь, усомнившаяся в непобедимости нашего оружия! Возможно, что с ними вы найдете общий язык.
Туманова внутренне содрогнулась.
— Молчите? Значит, согласны? — И он обратился к гестаповцу в штатском: — Составьте акт, что арестованная согласна.
— Сейчас? — спросил тот.
— Можно и после, а мы пройдем в шестую камеру.
Штауфер вышел вместе с обершарфюрером, а гестаповец в штатском остался. Не успела закрыться дверь за ушедшими, как он вынул из бокового кармана пиджака плоскую алюминиевую флягу, положил ее на койку и сказал:
— Вода. Это вам…
Туманова взглянула ему прямо в глаза.
Тот сказал:
— Плохо, когда человек уже сам ни в кого не верит и лишает веры других. Я знаю, что вы обо мне думаете, но вы жестоко ошибаетесь. Меня привело сюда только чувство восхищения. Я обязан помочь вам…
— Уйдите!… Я вам не верю… — с трудом проговорила Юля.
— Вы сами роете себе… — с грустным укором в голосе начал гестаповец и прервал, не окончив фразы. Дверь открылась, вошел дежурный. — Так вот… решайте сами! — в совершенно другом тоне добавил гестаповец и вышел.
Туманова выждала, пока Генрих навесил засов и запер двери, а потом бросилась к глазку и поглядела в него. Дежурный удалился.
Она торопливо спустилась вниз, схватила флягу и забилась в угол камеры. Дрожащей рукой она отвинтила колпак и сухими, потрескавшимися губами припала к горлышку фляги. Она пила, не отрываясь, пока не почувствовала, что фляга пуста.
— Вода… вода! — шептала она, зарывая флягу в соломенную труху. — А вдруг она отравлена? — Юля задумалась и горько сжала губы. — Ах, если бы так!…
Она уселась на койке, как обычно обхватив колени руками. Сразу стало легче дышать, исчезла палящая боль в груди, прояснились мысли. Будто огромная тяжесть свалилась с плеч.
Перед глазами стоял этот непонятный, загадочный гестаповец. Кто он и чего добивается? Он сказал что-то о восхищении… Просит довериться ему… Тоже непонятно! Ну, допустим, она доверится. Что тогда? Как поступит он? Не может же он, жертвуя собой, спасти ее?
От волнения и нахлынувших мыслей сердце забилось чаще. Юля потерла виски, лоб. Надо хорошенько все обдумать, все взвесить. Главное, спокойно, как бы со стороны.
Почему не рискнуть в ее положении? Что она теряет, решив проверить гестаповца? Как будто ничего.
Если он рассчитывает покорить ее своим великодушием, расположить к себе и, пользуясь этим, вызвать на откровенность, то он ошибается. Никогда и ни при каких условиях нельзя открыть ему, кто она, с какой задачей и кем послана сюда! Никогда!
Девушка задумалась. Много внутренних голосов нашептывало ей: «Доверься! Без риска нельзя. Доверься и проверь! А вдруг он в самом деле тот человек, о котором говорил Бакланов?! Вдруг он готов на любую жертву во имя твоего спасения?! Ты же теряешь единственную возможность, единственный шанс! Решается вопрос о жизни и смерти. Действуй, рискуй, время не ждет, ты же разведчица!…»
И только один голос предостерегал: «Не торопись! Риск не всегда себя оправдывает. Один неосторожный шаг может оказаться и последним шагом! Не торопись!»
41
В комнате полковника Бакланова, несмотря на поздний час, царило оживление. Дверь то и дело хлопала, приходили и уходили офицеры штаба и разведотдела, летчики, танкисты, сотрудники армейской газеты. У каждого были свои неотложные вопросы, и их следовало оперативно решить.
Сосредоточенный и хмурый, Бакланов слушал доклад командира одного из батальонов. Это был средних лет человек с темным, загорелым лицом и с совершенно белой головой. Он докладывал о том, что на участке его батальона в заброшенной землянке сегодня была обнаружена немецкая радиостанция. Бакланов слушал комбата и исподволь поглядывал на сидевшего в углу на табуретке капитана Дмитриевского.
Тяжелые мысли теснились в голове полковника. Все говорило о том, что с Юлией Васильевной приключилась какая-то беда. К тревоге командира, ответственного за жизнь подчиненных и успех предпринятой операции, примешивалось и другое. Бакланов, еще не успевший пережить свое личное горе, не мог оставаться равнодушным к горю товарища по войне.
Бакланов опять взглянул на капитана. Тот сидел ссутулившись, опустив руки между коленями, погрузившись в раздумье. Две ночи провел он без сна, лежа с открытыми глазами. Мысль его пыталась пробиться через огненное кольцо фронта, за сотни километров, в неизвестный и злополучный городок Горелов, где в какой-то опасности была Юлия.
«Все будет хорошо, дорогой, ты не волнуйся», — припомнил он ее слова при расставании.
Командарм уже приказал перебросить во вражеский тыл для вывозки документов специальную группу, но высказался против посылки с этой группой капитана Дмитриевского. И не потому, что не доверял ему. Капитан слыл опытным разведчиком и смелым офицером. Командарм опасался, зная со слов Бакланова об отношениях между молодыми людьми, что, обеспокоенный за судьбу любимого человека, Дмитриевский может пойти на неоправданный риск и сорвать операцию по вывозке документов.
Бакланов наблюдал за Дмитриевским, слушал комбата и в то же время думал: «Что же случилось с группой Чернопятова, целы ли документы?»
— Какие будут приказания? — спросил его командир батальона.
Бакланов не успел ответить: запищал телефон. Полковник снял трубку.
— Да, да… я!… Что? Везут? Отлично! А почему я должен спать? Всего хорошего.
Он положил трубку и сказал комбату:
— Никаких приказаний пока не будет. Завтра я подъеду сам.
Когда комбат вышел, полковник подошел к Дмитриевскому, положил руку на его плечо и сказал:
— Не надо отчаиваться. Юлия Васильевна — бывалая разведчица, ее не так-то легко обвести вокруг пальца…
— Я об одном вас прошу, — горячо заговорил Андрей, — убедите командующего, что возглавить группу должен именно я! Иначе быть не может!
— Может! — решительно заявил Бакланов. — Война — жестокая штука, дорогой мой. У нее свои законы. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, когда фашисты выпустят такого зверя, как «дракон»! Наше промедление может обойтись Родине очень дорого. Если мы узнаем о «драконе» все, что нам надо знать, раньше, чем он будет выпущен на поля сражения, страна, товарищ капитан, скажет нам большое спасибо. Мы спасем тысячи жизней наших бойцов. Вы понимаете? Тысячи, десятки тысяч! Мы обязаны подготовить «дракону» достойную встречу и сразу выбить ему зубы. Поэтому главная задача группы — вывезти документы.
Дмитриевский встал и твердо произнес:
— Я все отлично понимаю, товарищ гвардии полковник. И до той поры, пока документы не будут отправлены на Большую землю, не предприму ни шага к розыскам Тумановой.
Бакланов внимательно посмотрел в глаза капитану.
— Я вам верю, — произнес он наконец, — верю. И попытаюсь уговорить командующего.
В сенях раздались голоса, послышался топот сапог, осторожный стук в дверь.
— Да! — разрешил Бакланов и круто повернулся.
Двое автоматчиков в запыленных маскхалатах ввели в комнату пленного. Один из бойцов, тот, что помоложе, шагнул вперед, принял положение «смирно» и доложил:
— Товарищ гвардии полковник! Докладывает сержант Гринько! По приказанию…
— Отставить! Вольно, — остановил его Бакланов. — Когда взяли?
— Часа полтора назад.
— Кто?
— Так что я и рядовой Вакулин, — сержант покосился на своего товарища. — Мы возвращались с задания… Ночь и день провели в их тылу. А когда переходили большак, глядь, мотоцикл с прицепом. Завяз в замоине, стрекочет и ни с места. Этот, — он кивнул на пленного, — сидит в коляске, а водитель толкает. Мы прикинули и решили помочь хлопцам. Водитель оказался шибко беспокойным, Вакулину чуть палец не откусил. Мы решили с ним расстаться, а этого доставили в сохранности. Он с перепугу все скулил. Вот документы, товарищ полковник! — и сержант подал Бакланову небольшой пакетик.
Полковник пожал руки автоматчикам, вызвал дежурного, распорядился хорошенько накормить солдат, выдать им подвести граммов водки и уложить спать.
Пленного, еще совсем молодого человека с бледным, перепуганным лицом, усадили против стола.
Он сидел, как истукан, сложив руки на коленях, боясь шевельнуться, повернуть голову, и со страхом ожидал начала допроса.
По цвету его новенького мундира, шевронам и знакам различия нетрудно было догадаться, какой род оружия он представлял.
— Приступим! — обратился Бакланов к Дмитриевскому. — Спросите имя, фамилию и звание.
Пленный вздрогнул, будто его ударили, вскочил и быстро, механическим голосом ответил:
— Оберштурмфюрер СС Отто Мрозек…
— Какой части?
— Никакой. Я еще не успел прибыть в часть. В документах есть предписание. Меня схватили в пути, но я не сопротивлялся, а сам…
Бакланов сдержал улыбку, переглянулся с Дмитриевским и спросил:
— Откуда ехали?
— Из города Горелова, — последовал ответ.
— Горелов!… — это слово заставило насторожиться полковника и вздрогнуть капитана.
— Когда покинули Горелов?
— Утром будет двое суток.
— Чем вы там занимались?
— В течение двух месяцев являлся стажером отделения гестапо.
Так полковник Бакланов и капитан Дмитриевский узнали не только о том, как погиб Костя Голованов, но и о том, в какую беду попала Юлия Васильевна. Оберштурмфюрер оказался тем злосчастным гестаповцем, которому не удалось взять живьем радиста и который, вопреки строгому приказу начальника гестапо Штауфера, схватил в лесу разведчицу.
42
Чернопятов и Калюжный нетерпеливо ждали Степана Заболотного. Надо было решать вопрос чрезвычайной важности. Накануне Скиталец через Степана неожиданно сообщил, что есть возможность вызволить из рук гестапо посыльную фронта. Он предложил сделать нападение на арестантскую машину, в которой ее доставляют из тюрьмы на допрос.
Это было делом нешуточным.
Чернопятов и Калюжный сидели на верстаке, свесив ноги, и обдумывали предложение.
Легче было разделаться с машиной курьера, где сидели шесть вооруженных до зубов гитлеровцев. Там был глухой лес. В городе все сложнее. Налет днем исключался. Об этом не стоило и думать. Ночь, конечно, облегчала операцию, но все же оставались почти непреодолимые трудности.
С наступлением темноты в городе начиналось усиленное патрулирование. Патрули, по три-четыре солдата не просто прогуливались по улицам. Они закреплялись за определенными кварталами и были связаны друг с другом целой системой сигналов.
Патрульные группы имели, кроме личного оружия, ракетные пистолеты и свистки. Дежурные на пожарной вышке и на колокольнях трех церквей могли по числу и цвету ракет тотчас узнать, где произошло происшествие и в какой район нужно высылать вооруженный комендантский резерв.
Комендантский резерв из тридцати солдат круглосуточно дежурил в кузовах двух грузовиков. В их распоряжении имелись два мощных рефлектора, установленных на кабинах машин, два ручных и два станковых пулемета, четыре злые, натасканные на травле людей овчарки. На каждой машине резерва стояла сирена, вой которой разносился на полгорода.
По условным сигналам в угрожающий район устремлялся наряд местной полиции, укомплектованный дюжиной предателей, и мчались десять вооруженных до зубов эсэсовцев на мотоциклах. Вся эта немалая и хорошо вооруженная свора, руководимая военным комендантом или его помощником, мгновенно замыкала в прочное кольцо опасную зону и принималась за тщательное прочесывание.
— Хорошо бы поднять ложную панику в другом каком-нибудь месте! — предложил Калюжный. — Отвлечь внимание…
— Слов нет, хорошо, — не возражал Чернопятов. — Я уже думал об этом.
— И что же?
Чернопятов усмехнулся и вздохнул.
— Одно «но» мешает. Они же, подлецы, каждую ночь меняют ракетные сигналы.
— Да плевать на эту сигнализацию!
— Не плюнешь, брат. Если железнодорожному участку присвоена, например, белая ракета, то откуда бы ты ее ни пустил, резерв все равно мчится к станции и никуда больше. Они тоже не лыком шиты, кое-что соображают.
Калюжный усмехнулся.
Чернопятов посмотрел на него.
— Чего ты ухмыляешься? — поинтересовался он.
— Ты меня не понял. Пропади они пропадом, эти ракеты! Я с ними, если помнишь, чуть не влип в прошлом году.
— А что же ты имел в виду?
Калюжный подобрал под себя одну ногу, поудобнее уселся и объяснил:
— Допустим, что в противоположном конце города пожар. Или еще чище: грохнет взрыв. И не один, а два, а то и три! Как ты думаешь, резерв бросят туда?
— Бросят! — твердо сказал Чернопятов.
— Так что же еще требуется?
Теперь усмехнулся Чернопятов и хлопнул своего друга по ноге.
— Очень немногое: знать точно, когда этот взрыв понадобится.
Калюжный нахмурил лоб, силясь что-то сообразить.
— Не понял…
— Что же тут непонятно? Мы не можем заранее знать, в какое время пройдет тюремная машина. Она ведь не по расписанию ходит.
Калюжный почесал затылок и с явным огорчением произнес:
— Ты прав. Я этого не учел…
— Одно ясно, — сказал Чернопятов и хлопнул кулаком по колену, — налет должен быть совершен без единого выстрела, без шума. Если это удастся, успех обеспечен, не удастся, все сорвется.
Чернопятов насторожился, прислушался.
— Стучат! Степан, видно. Удалось ли ему поговорить со Скитальцем?
Оба спрыгнули с верстака, отодвинули койку, сняли ковер и открыли дверь потайного хода.
Вошел Степан.
— Видел? — встретил его вопросом Чернопятов.
— Да!
— Садись, говори! — торопил его Чернопятов.
Заболотный обтер влажное лицо, расстегнул воротник, выпил воды и только после этого стал обстоятельно излагать все, что услышал от Скитальца.
— Машина, на которой ее повезут, нам будет известна.
— Это — главное, — одобрил Калюжный.
— А сколько машин занято перевозкой? — спросил Чернопятов.
— Две машины. Все время две. И насчет конвоя выяснил. В кабинах, кроме водителей, ездят по два автоматчика.
— А маршруты? — поинтересовался Чернопятов.
— Завтра скажет. Примерно он знает, но хочет уточнить. И хочет вас видеть, Григорий Афанасьевич. Говорит, обязательно надо.
— Когда?
— Завтра, сказал, сам зайдет.
Чернопятов кивнул. Немного помолчали.
Затем Калюжный тихо, ни к кому не обращаясь, проговорил:
— А ведь за мной слежки нет…
— Ну, и?… — как бы подтолкнул его Чернопятов.
— А раз нет слежки, стало быть, никто из нас не мог служить причиной провала Кости. Его запеленговали.
Заболотный посмотрел на Чернопятова. Тот машинально кивнул, думая о своем, и после непродолжительной паузы спросил Калюжного:
— А как дела у Кольцова?
— У Семена всегда хорошо, — ответил Калюжный. — Золото, а не парень.
— Ты говорил ему?
Калюжный тряхнул головой:
— Нет. А ты все-таки решил посылать?
Чернопятов вздохнул и развел руками.
— В том-то и загвоздка, что никак не решусь. И надо посылать, и боюсь. Шуточное ли дело столько протопать! И еще пустым — куда ни шло, а с этими бумажечками — не того… Боюсь, что и их потеряем, и парня загубим… В руках же не понесешь, это тебе не спичечная коробка, придется прятать пакет на груди или под поясом, а коли так, то при первом же обыске парню каюк. Избавиться от пакета, выкинуть его или припрятать не удастся.
Чернопятов умолк, и вновь наступило молчание. Вопрос о том, как поступить с голубым пакетом, оставался нерешенным.
— А что, если податься к Новожилову? — произнес Заболотный. — Все же до партизан ближе, чем до фронта. И не так опасно. И документов особых не потребуется.
— Думал и об этом, — заметил Чернопятов. — Это нам сподручнее. Только искать Новожилова — все равно, что за ветром гоняться. Он же и часу не сидит на месте.
— А знаешь что? — хлопнул себя по колену Калюжный. — Надо послать Никанора Демьяныча Сербина к себе в Лужки.
— Дальше? — спросил Чернопятов.
— Правильно! — воскликнул Заболотный.
— Что правильно? — насторожился Калюжный и, нахмурившись, посмотрел на Степана. — Ты же не знаешь, что я хочу сказать.
Заболотный улыбнулся:
— Догадываюсь.
— Ну, хлопцы, мы собрались сюда не загадки отгадывать, — напомнил друзьям Чернопятов. — Говорите дело!
— А я что?… — смутился Заболотный. — Я и говорю дело. Я понимаю, к чему клонит Митрофан Федорович. В Лужках, у какой-то старухи, отлеживаются двое раненых новожиловских ребят, и Демьяныч с жинкой подкармливают их. И уж ребята эти лучше нас знают, где искать отряд.
Калюжный покачал головой и, не сдержав улыбки, сказал:
— Ну и гусь ты, Степка, а ведь и в самом деле отгадал.
— А от Демьяныча они таиться не станут, — добавил Заболотный.
— Как смотришь, Григорий Афанасьевич? — спросил Калюжный.
— Толково! — одобрил Чернопятов и обратился к Заболотному: — Завтра же повидай Демьяныча, объясни ему все толком и скажи, чтобы он смотался к себе в Лужки. Понятно? Точка! — он посмотрел на часы. — Скоро два… Давайте поговорим о том, для чего собрались. Потом поспим часок-другой, а утром пойдете по домам. Так лучше. Значит, решаем: идти в открытый бой или не идти. Что ты думаешь, старина?…
43
Четырнадцатого июня в двенадцать дня в тюрьме сменялись дежурные. Коридорного Генриха Гроссе сменял Отто Вольф. Они совсем не походили друг на друга. Маленького роста, худощавый, очень подвижной и разговорчивый, Отто рядом со слоноподобным Генрихом выглядел подростком. На носу Отто сидели очки в металлической оправе: он был близорук, да и не молод уже — за сорок перевалило.
Дежурные пожали друг другу руки, и Генрих угрюмо спросил:
— Как дела?
— Отлично, хуже некуда! — весело ответил Отто и улыбнулся.
Генрих пристально уставился на сменщика своим тяжелым взглядом.
Отто усмехнулся.
— Загипнотизировать хочешь? Так я не гожусь для гипноза! Глаза неподходящие, — пошутил он. — Всех не загипнотизируешь! Теперь многим пора подумать над тем, как избавиться от кое-какого гипноза…
— То есть? — поинтересовался Генрих.
Отто пожал плечами.
— Ну, например, как избавиться от разлюбезного фюрера и его войн. А?
— Будь я проклят, если ты не кончишь на виселице и если я не помогу тебе в этом! — свирепо произнес Генрих. — Я не о том спрашиваю. Почему твои дела плохи?
— А-а!… — Отто выгнул дугой свою тощую грудь, встал по стойке «смирно» и отрапортовал: — Я понадобился на фронте! — И он высоко поднял указательный палец. — Без меня там дело не выходит! Вызывают на переосвидетельствование.
— Тебя?
— Именно меня, с моими глазами, с моими камнями в печенке. Но я скромен и не хочу отнимать воинскую славу у наших уважаемых генералов. Я могу дать им дельный совет отсюда.
— Болтун! — оборвал его Генрих. — Пойдешь как миленький!
Отто не смутился.
— Как сказать, — философски ответил он. — Желание — великое дело, а у меня его нет. Зато у меня есть свои соображения. Во-первых, там стреляют и, чего доброго, влепят в меня, а это неблагоприятно отразится на моей печенке. Во-вторых, из Вольфов остался я один, а остальные — и все моложе меня — с помощью разлюбезного рейха благополучно отправились на тот свет. Один брат сложил кости во Франции, второй — в Алжире, третий — под Ростовом, четвертый — в Словакии. Я думаю, хватит. Ну, а если они без меня все-таки не могут обойтись и забреют, я знаю, как поступить. Может же из пяти братьев хоть один оказаться чуточку умнее!…
— Язык тебе надо отрезать, шут гороховый! — бросил Генрих. — Вот пойдешь на передовую, там тебе голову прочистят!
— Ты прав… Ты прав… — закивал Отто. — Прочистить следует. За последнее десятилетие так закоптили, что щетка нужна основательная. Один Геббельс чего стоит!
Генрих безнадежно махнул рукой и сказал:
— Пойдем!
Они прошли по одной стороне коридора, заглянули в камеры и пересчитали арестованных.
Прежде чем приступить ко второй стороне, выкурили по сигарете. Потом Генрих подошел к пожарному крану, отпустил вентиль и, когда побежала тоненькой струйкой вода, подставил рот и напился.
Проверив наличие арестованных, оба остановились у столика. Генрих раскрыл книгу рапортов, сделал в ней запись.
— Налицо — пятьдесят шесть, на допросе — двое, в больнице — трое, на кухне — один. Итого: шестьдесят два. Расписывайся!
Вспыхнула электролампа, и зазвонил звонок.
Генрих, не успевший еще передать ключей, открыл дверь и впустил двух конвоиров, втолкнувших в коридор Туманову и секретаря бургомистра, арестованного накануне за похищение нескольких тюков сукна.
— Принимайте дорогих гостей! — доложил один из конвоиров.
Генрих обвел заключенных своим страшным взглядом и отдал команду:
— Руки за спину, собаки! К своим камерам, марш!
Арестованные выполнили команду и зашагали по коридору. Секретарь бургомистра остановился около седьмой, а Туманова у крайней, тринадцатой камеры. Они стали лицом к дверям и ждали, пока их впустят.
Генрих угостил конвоиров сигаретами, и те закурили.
— Сдал? — спросил один из конвоиров, обращаясь к Генриху.
— Вроде…
— Когда снова заступать? — поинтересовался конвоир.
— Завтра в это время.
— Есть предложение, — конвоир подмигнул, — зайти в клуб промочить глотку.
Генрих молчал, тупо разглядывая свои растопыренные пальцы.
— А чего тут смотреть? — заметил Отто. — Пей, пока пьется. А то вызовут на переосвидетельствование, тогда будет поздно.
— Пойдем, — без особого желания согласился Генрих.
— Гляди! — вдруг сказал второй конвоир, показывая в конец коридора.
Все повернули головы: Туманова, припав губами к пожарному крану, пила воду.
— Ну и пусть себе пьет, — махнул рукой Отто. — Всю не выпьет, останется и на случай пожара.
Генрих окинул его грозным взглядом, помедлил, как всегда, и громко крикнул:
— Эй, падаль!
Девушка быстро отпрянула и стала лицом к двери камеры.
— Усади эту куклу! — бросил Генрих и подал сменщику связку ключей. — Пошли! Пить так пить! — предложил он конвоирам.
44
Дверь камеры с треском захлопнулась за Тумановой. Она присела на краешек койки. Да, она поступила рискованно, воспользовавшись неплотно закрытым пожарным краном, но зато как освежили и подкрепили ее эти несколько глотков воды! Счастье, что мрачный дежурный был не один, иначе не миновать бы беды, он не простил бы подобной вольности. А рука у него тяжелая… Бог знает, сколько людей отправил на тот свет его кулак! Только чей-то запрет, видно, мешает этому Генриху расправиться и с ней.
Снова вернулись неотступные мысли: скоро ли развязка?
Штауфер вызывал ее на допрос сегодня рано утром и все время бушевал, грозил. Он кричал, что она проклянет день своего рождения, приводил цитату, якобы библейскую, что и псу живому легче, нежели мертвому льву, и, наконец, предупредил, что в свою камеру она больше не вернется, так как ее с нетерпением ожидает общая солдатская камера.
Но она вернулась. И теперь со страхом ждала, когда за ней придут.
Лучше смерть! И сил у нее для этого хватит, и как позвать смерть — она тоже знает. Руки и ноги свободны, а это главное.
Юля хотела было прилечь на койку, но неожиданно загремел засов. Сердце ее упало, во рту сразу пересохло.
Тяжелая дверь распахнулась, и коридорный впустил в камеру гестаповца в штатском. Он нетерпеливо махнул рукой; коридорный поспешно прикрыл дверь.
Гестаповец постоял у порога, пристально глядя на Туманову, затем медленно спустился по ступенькам вниз и вынул из кармана флягу.
— Где пустая? — спросил он тихо.
Юля показала глазами на койку.
Гестаповец порылся в соломенной трухе, нашел порожнюю флягу, спрятал в карман, а на ее место положил принесенную.
— Я сделал так, что вы останетесь в этой камере, — просто сказал он.
Чуть слышный вздох слетел с губ Тумановой, и она облегченно провела рукой по влажному лбу, будто снимая с себя что-то очень страшное.
— Ну, как… решились вы? — продолжал гестаповец и укоризненно посмотрел на нее. — Я понимаю… вас пугает моя служба, мое положение. Но именно это и поможет нам. Я уже говорил, что ваша участь мне не безразлична. Почему вы упорствуете? Не вся Германия состоит из подлецов и нацистов…
Юля вслушивалась в каждое слово гестаповца, всматривалась в его лицо, ловила нотки искренности в его словах.
— В Германии вы можете встретить сотни честных, по-настоящему честных людей…
— Сотни? — зло усмехнулась Туманова. — Не так уж богато…
Гестаповец покачал головой:
— Вы ловите меня на слове. Возможно, я не так выразился.
— Кто вы? — вырвалось вдруг у Юли. — Скажите прямо.
Гестаповец приподнял свои красивые густые брови, и легкая улыбка тронула его губы.
— Все, что я могу сказать о себе, так это то, что зовут меня Роберт Герц, что я обыкновенный стажер гестапо. О том же, кем я был раньше, почему и как попал сюда, говорить не имею права. Это не моя тайна. Во всяком случае, я не друг Гитлера и не поклонник его идей. Со мной здесь считаются, я занимаю известное привилегированное положение. Это тоже имеет свою историю, свои причины…
— Что вам нужно от меня?
— От вас — ничего. Но для вас — я должен…
— Прониклись жалостью?
— Если хотите, да…
Разведчица усмехнулась. Голос осторожности предостерегал: будь начеку!
— Чего же вы все-таки добиваетесь? — спросила она.
— Вашего доверия.
— Допустим. А дальше?
— Я спасу вас. Вы будете свободны.
Противоречивые мысли Тумановой молниеносно менялись. Мелькнуло: «Все-таки это он… Тот самый человек, связанный с Чернопятовым». И следом за этим: «Провокация! Дьявольская, тонкая провокация! Как он, простой стажер, может вырвать человека из камеры, из лап гестапо?» Но сомнения снова вытесняла надежда, кружила голову, звала, обещала свободу, жизнь, возвращение к друзьям.
Чувствуя, как на щеках проступает нервный румянец и пылает лицо, Юля, призвав на помощь всю свою выдержку, сказала внешне спокойно:
— Хорошо. Я согласна. Доверюсь вам. Но говорите сразу: какой ценой? Чем я или мои друзья должны отплатить вам?
Герц нахмурился, его красивое лицо мгновенно изменилось и стало жестким, даже каким-то хищным.
— Повторяю, — твердо сказал он. — Никакой платы ни от вас, ни от ваших друзей я не требую. Вы можете меня ненавидеть, но что дает вам право оскорблять меня?
Юля смутилась. Охваченная волнением, она прижала руку к груди и искренне сказала:
— Простите… Я не хотела вас обидеть.
Лицо Герца просветлело.
— Значит?
— Я согласна!…
— Больше мне ничего не нужно. Я заставлю вас изменить свое мнение о многих немцах. И, кстати, докажу, на что способен…
Дверь приоткрылась, и показалась голова дежурного.
— Что? — спросил Герц.
— Обед… — ответил тот.
Герц вопросительно взглянул на Туманову.
— Да, да… буду… я очень хочу есть, — сказала она неожиданно.
Герц сдержал улыбку и вышел из камеры.
45
Тюремный надзиратель Генрих Гроссе вышел из солдатского казино и задержался на ступеньках. Он стряхнул со своего мундира хлебные крошки, поковырял в зубах, а потом медленной походкой, вразвалку зашагал по тротуару.
С лицом, покрасневшим от изрядной дозы пива, Гроссе стал на вид еще свирепее. Генрих шел, глядя себе под ноги, казалось, ничего не замечая, но стоило только появиться впереди офицеру, как он мгновенно разворачивал плечи, подтягивался, выпячивал широкую грудь и, пожирая глазами старшего, лихо козырял, чеканя шаг.
Возле городской бани Генрих остановился, похлопал по своим карманам, поглядел на вывеску Чернопятова и, мурлыча себе что-то под нос, начал спускаться по ступенькам в котельную.
Чернопятов с напильником в руке возился у тисков и, увидя Генриха, оторвался от работы.
Гроссе подошел к нему вплотную, осмотрел его своими тяжелыми, мутноватыми глазами и начал рыться в карманах. Делал он это не спеша, со свойственной ему медлительностью, и наконец извлек зажигалку, огромную зажигалку, изготовленную из крупнокалиберного пулеметного патрона. Он повертел ее в руке, подал Чернопятову и угрюмо сказал на неплохом русском языке:
— Капут… Сломалась… чинить надо.
—Ладно, господин унтер-офицер, — отозвался Чернопятов. — Не такие штучки починяем, — и, подтолкнув мрачному клиенту пустой ящик, тихо пригласил: — Садись, Генрих! Ты что, уже? — Чернопятов щелкнул себя по горлу.
— Есть маленько, — признался Генрих. — Нельзя было отказаться.
— А с кем?
— Конвоиры затащили. Пришлось раздавить пару бутылок…
— А-а-а… — многозначительно протянул Чернопятов и стал разбирать зажигалку. Он вынул из нее ватку, фитиль, пружину, кремень, снял колесико и разложил все это на куске газеты.
Генрих сидел, опершись локтем на одно колено, и вздыхал. В это время в котельную донеслись частые завывания сирены и хлопанье зениток. Генрих поднял голову и взглянул на Чернопятова. Тот вскинул брови.
— Никак, тревога?
Чернопятов неопределенно пожал плечами:
— Что-то вроде этого… Пойдем поглядим?
Генрих утвердительно кивнул.
Они выбрались наружу. По мостовой промчалась пожарная машина, потянув за собой хвост пыли. По тротуарам в ближайшее бомбоубежище бежали горожане, волоча за руки детей.
На станции, захлебываясь, заливались паровозные гудки.
Запрокинув головы и прикрыв глаза от солнца ладонями, Чернопятов и Генрих всматривались в высокое небо. Вначале они ничего не увидели и лишь немного спустя в разрыве облаков заметили маленькую серебристую, сияющую в лучах солнца точку. Вокруг нее, подобно облачкам, вспыхивали и таяли разрывы зенитных снарядов.
Самолет шел не по прямой, а делал большие круги и снижался. Вон он уже появился под облаками.
— Видать, разведчик, — заметил Чернопятов.
— Не иначе.
— А здорово лупят!
Генрих отозвался с усмешкой:
— Ему хоть бы что. Смотри, опять заходит. В третий раз.
— Что-то ищет? — сказал Чернопятов.
— Ему сверху виднее…
Сирены перестали завывать, но зенитки яростно стреляли и стреляли.
— Как бы не сбили, — тихонько высказал опасение Чернопятов.
— Не похоже, — возразил Генрих. — Видать, мастер. И смотри, до чего же смелый. Еще ниже спустился.
Самолет описал четвертый круг над городом, сразу взмыл, нырнул в облака и исчез.
— Лови ветра в поле, — заметил довольный Чернопятов.
— Ас… — добавил Генрих.
Зенитки умолкли, точно по команде, и стало так тихо, что до слуха дошел тоненький, как шмелиное гудение, звон удалявшегося самолета.
Чернопятов и Генрих вернулись в котельную.
Генрих уселся на кровать, расстегнул ворот мундира, врезавшийся в его мощную шею, и энергично покрутил головой. Потом он с силой рванул борт мундира. Одна пуговица отлетела и завертелась на каменном полу.
Чернопятов легонько придавил ее ногой и посмотрел на Генриха:
— Ты что?
Генрих не ответил. Он тупо смотрел на носки своих огромных, грубых ботинок, и его толстые губы беззвучно шевелились.
— Опять хандра? — уже догадываясь в чем дело, спросил Чернопятов.
— Не могу я больше, Григорий, — с тоской проговорил Генрих. — Понимаешь, не могу! Сил нет. Боюсь, что ни сердце, ни мозг не выдержат, — и он снова начал беспокойно теребить борт мундира. — Осточертела мне эта шкура.
— Успокойся, Генрих, не распускайся, — задушевно сказал Чернопятов.
— Хорошо тебе говорить, — покачал головой Генрих. — А побыл бы ты на моем месте…
— Каждый нужен на своем месте, — возразил Чернопятов. — Никто другой на твоем месте не смог бы сделать для нашего дела столько, сколько сделал ты.
— Сегодня перед рассветом, — продолжал Генрих, — во дворе тюрьмы опять расстреляли шестерых. И я стоял тут же, смотрел. Должен был стоять… Все шестеро из моего коридора. Одному лет под семьдесят. За что их расстреляли? Это — самое страшное. Троих докалывали штыками. У меня перед глазами туман стоял. Готов был броситься на палачей, на этих тупых идиотов, душить, топтать их, — он с силой сжал здоровенные кулаки и скрипнул зубами. — Они сами звери и из меня сделают зверя. А та женщина, что я тебе говорил, мать двух партизан, — повесилась. Вчера повесилась… А ты говоришь, успокойся…
Чернопятов вздохнул. Он понимал Генриха, но не в силах был помочь ему.
— Что же делать, дружище? — тепло сказал он. — Надо терпеть.
— Терпеть… — повторил Генрих и горько усмехнулся. — Терпение, конечно, тренирует характер, но если слишком долго терпеть, человек может стать тряпкой. Я видел сам в концлагере…
Чернопятов промолчал. В душе он был согласен с Генрихом.
— А ты знаешь, как тяжко жить, — продолжал тот, — когда честные люди считают тебя подлецом. Ну как могут думать обо мне заключенные? Зверь! Скотина! Чудовище! Не иначе… А ко всему этому отец с матерью наделили меня такой внешностью, что на кого ни взгляну, — трясется. И иной раз хочется крикнуть во всю глотку: «Я же не тот, за кого вы меня принимаете!» А приходится молчать. Ты советуешь терпеть. Но это же пытка! Вот хотя бы эта Валя Готовцева, или как ее в самом деле? Одним видом своим я внушаю ей ужас, отвращение. Она убеждена, что я изверг, палач. Да и почему она должна думать другое? Почему? А я как увижу ее, так готов разреветься. Я ее при первой встрече толкнул. И не рассчитал. Упала она. А не толкни я, ее бы конвоир автоматом ударил. И еще как бы ударил! Или с водой… Я окатил ее из пожарного рукава. А разве она догадается, почему? Ей же запретили давать воду, выводить к рукомойнику, кормят пересоленной едой, а тут она наглоталась воды на добрые сутки. А вчера по физиономии ей залепил. Да, залепил! А что было делать? Гестаповцы пришли с обходом. Рыщут по камерам. А меня будто кто толкнул: впустил их в четырнадцатую, а сам к ней, в тринадцатую. Захожу — спит. Слышу, бормочет во сне, твою фамилию называет. У меня сердце зашлось. Не знаю, что делать… Поднял руку и хлопнул ее. Она как вскочит, как крикнет — и они тут как тут. Сразу трое. Вот, брат, какие дела! Зато сегодня я ее угостил, — и Генрих неожиданно весело ухмыльнулся. — Оставил не привернутым пожарный кран, вода сочится… Когда привели ее с допроса, я завел болтовню с конвоирами. А она присосалась к крану, пьет. Я смотрю одним глазком, но молчу…
Чернопятов подошел к Генриху, пожал его руку выше локтя.
— Ах, Григорий, Григорий, — продолжал тот. — Поверишь, как бы хотелось мне зайти в камеру, сесть с ней рядом, обнять, сказать что-нибудь ласковое. Ведь у меня такая же дочка… Клара… Хорошая дочка. Посидел бы с ней рядом, рассказал бы ей, кто я, что за человек. Подбодрил бы. Сказал бы, что мы думаем о ней день и ночь. Показал бы ей вот эти мои руки. Эх!…
Генрих замолчал, а потом уже другим, деловым тоном сообщил:
— Фамилия моего сменщика — Вольф. Отто Вольф. Запомни. Хороший человек. Живет в крайнем доме у кладбища, на квартире у сапожника. Если его не забреют на фронт, организуйте встречу с ним, обязательно.
— Хорошо, — заметил Чернопятов. — Что ты еще можешь мне сказать?
— Еще вот что. Маршрут узнал: в какой машине повезут, скажет мне сменщик. Охраняют машину два автоматчика. Но не это главное. Главное — устроить все сегодня в ночь.
— Сегодня? — переспросил Чернопятов и задумался. — Почему?
— Я свободен. Если будет нужна моя помощь…
— Понятно… понятно… — произнес Чернопятов, поглаживая небритую щеку и прикидывая что-то в уме. — Что ж… попытаемся сегодня.
Генрих встал. Застегнул воротник мундира.
— Договорились.
— Где будешь вечером? — поинтересовался Чернопятов.
— Степан знает, — ответил Генрих. — Я пошел… А зажигалка пусть полежит, — и что-то вроде улыбки пробежало по его мрачному лицу.
Генрих Гроссе шагал домой.
Немец по рождению, антифашист по убеждениям, отличный механик по профессии, он своей жизнью как бы отразил судьбу большой, лучшей части немецкого народа в труднейшую эпоху его существования.
Генрих родился в большой семье потомственного металлиста заводов Круппа. Среди его заводских товарищей в Эссене, где он начал работать учеником, были люди разных взглядов, разных политических направлений. Были аккуратные и благонравные правые социал-демократы, противники последовательной революционной борьбы с капитализмом; были сторонники пламенного Карла Либкнехта, революционеры, верящие в силу рабочего класса и его победу; были постные христианские социалисты, пытавшиеся примирить непримиримое… В бурных спорах, в боевых выступлениях в дни забастовок ковалось сознание честного немецкого юноши Генриха Гроссе.
В 1914 году, когда германский милитаризм развязал Первую мировую войну, Генрих оказался на русском фронте. Лжепатриотический, шовинистический угар и ему вскружил голову: видимо, его рабочая закалка была недостаточной. Он думал, что идет защищать родину. Но заблуждение длилось недолго, ужасы войны заставили его задуматься над ее бессмысленностью. Слова многих товарищей по заводу и пламенные призывы Либкнехта предстали перед ним в новом свете.
Он хорошо помнит волнующие, радостные дни братания с русскими революционными солдатами в 1917 году. Здесь, в окопах, он понял, что у немецкого рабочего и солдата одна судьба, одни интересы и желания с русскими рабочими и солдатами. И когда кайзеровская армия в 1918 году бросилась на молодую Советскую республику, он перешел на сторону Красной армии. Всю Гражданскую войну Генрих провел на фронтах, бился против белогвардейцев и интервентов и в начале двадцатых годов вернулся на родину. Тяжело было дома: инфляция, безработица, нужда… Побитые кайзеровские генералы и офицеры при поддержке королей пушек снова подняли головы. Как грибы, стали плодиться различные фашистские организации. Единственной силой, которая противостояла фашизму и разоблачала его, была Коммунистическая партия Германии.
Генрих Гроссе по мере усиления разгула нацистов, разгрома рабочих организаций, еврейских погромов становился все более убежденным антифашистом. Он неоднократно с оружием в руках участвовал в боевой защите рабочих собраний от банд гитлеровских штурмовиков и эсэсовцев.
Когда Гитлер захватил власть и Германия превратилась в нацистскую тюрьму, Генрих Гроссе, работавший на заводе, вошел в связь с товарищами и стал участником подпольной коммунистической группы. В 1941 году его мобилизовали и отправили на восточный фронт.
Но даже не начав воевать, он был тяжело ранен. Еще до первого боя его часть подверглась воздушному налету русских. Генрих очнулся в госпитале. Его четыре месяца латали и чинили, а затем, как непригодного для фронта, прикомандировали к концентрационному лагерю под Гореловом. Он стал очевидцем зверств, творимых фашистами на оккупированной территории. Он твердо решил помогать русским в их борьбе против гитлеризма. В памяти Генриха живо вставали слова вождя Германской компартии Эрнста Тельмана: «Гитлер — это война! Поэтому — долой Гитлера, долой фашизм во имя блага своей Родины и всего человечества!»
Работая шофером на лесозаготовках, он возил советских пленных и в одной из партий заметил офицера, который, несмотря на раны, истощение и слабость, проявлял удивительную силу духа, подбадривая и поддерживая других. Звали его, как потом узнал Генрих, Найденовым.
Как-то в феврале сорок второго года Генрих гнал из леса к станции Горелов свой трехосный грузовик с прицепом, груженный девятиметровыми сосновыми бревнами. Груз сопровождали шесть военнопленных, в их числе и Найденов. Генрих посадил Найденова в кабину. Остальные вместе с охранником расположились на бревнах в кузове машины.
За долгие часы завьюженного пути Генрих узнал историю советского офицера, попавшего в плен тяжело раненным. Найденов оказался уральцем, работал в Златоусте, в Челябинске — в тех местах, где когда-то Генрих сражался за молодую Советскую республику.
Генрих и Найденов отлично поняли друг друга, поверили друг другу.
Это произошло в феврале, а в апреле грузовик Генриха с пятью военнопленными, охранником и овчаркой, посланный на дальнюю вырубку, не вернулся к обеду. Под вечер на розыски его отправился начальник охраны во главе своей команды. В лесу они нашли привязанными к соснам охранника, шофера грузовика Генриха Гроссе и овчарку, а машина и пять пленных, среди которых был и Найденов, исчезли.
Великодушие Найденова и его друзей, даровавших жизнь охраннику, объяснялось просто.
Убив охранника, они поставили бы под удар Генриха, а Генрих был инициатором, организатором и душой побега.
Розыски ничего не дали.
Позже, когда расформировали лагерь и Генрих был назначен в тюремную охрану, к нему на квартиру явился неизвестный, оказавшийся впоследствии Черноголовым, назвал его Скитальцем и передал привет от старого знакомого. Генрих улыбнулся и подумал: «Ну, за Найденова теперь можно быть спокойным. Добрался…»
46
Косые лучи заходящего солнца перебегали через рабочий стол полковника Бакланова и светились на бревнах противоположной стены. Бакланов сидел на койке и деревянной ложкой доедал из стоявшего на табуретке котелка остатки гуляша.
Запищал один из полевых телефонов. По звуку можно было определить, что это аппарат, соединяющий с командующим.
Бакланов быстро подошел, повернул ручку и снял трубку.
— Так точно… Состав группы Дмитриевского? Могу перечислять. Лейтенант Назаров, радистка Прохорова и проводник с овчаркой. Что? Совершенно точно: Дмитриевский четвертый. Так… так. Когда прикажете привезти их? Слушаюсь.
Полковник положил трубку и довольно улыбнулся. Нелегко ему было убедить командующего в целесообразности посылки во главе группы капитана Дмитриевского. Но все же убедил.
Андрей ожил. Он стал энергично готовиться к вылету: отбирал и проверял оружие, боеприпасы, питание для радиостанции, медикаменты, запас продуктов.
Его интересовало, как работает овчарка, как слушает своего проводника, прикомандированного из войск МВД. Было проведено практическое занятие, совершен пробный спуск собаки с парашютом.
Наблюдая за кипучей деятельностью капитана, Бакланов радовался. Он не замечал ни суматохи, ни горячки. Все делалось быстро, толково и организованно.
Бакланов взглянул на часы и хотел было послать своего ординарца за капитаном, но тот, неизменный в своей аккуратности, явился сам минута в минуту.
— Как дела? — поинтересовался Бакланов.
— Нормально, товарищ гвардии полковник.
— Садитесь, курите и слушайте. В двадцать два ноль-ноль вашу группу примет командующий и будет беседовать с людьми.
— Ясно, — ответил Дмитриевский, подсаживаясь к столу.
Бакланов отодвинул в сторону бумаги и книги и разложил карту.
— Помните, о чем сообщал Чернопятов в предпоследней телеграмме? — спросил он.
— Примерно. Что-то о новом вражеском аэродроме.
— Вот-вот. Сегодня над Гореловом летал наш разведчик, — Бакланов разгладил карту ребром ладони, приподнялся и склонился над ней. — Он блестяще провел аэрофотосъемку. Данные Чернопятова подтвердились. Вот здесь (он показал острием карандаша) они соорудили ложный аэродром. На нем насчитывается около сорока фанерных макетов самолетов. А тут вот (острие карандаша перебралось налево) скрывается настоящий аэродром. К нему тянут узкоколейку. Это очень интересно. Пути на станции Горелов забиты составами…
Дмитриевский с должным вниманием слушал своего начальника, но не понимал, какое отношение данные воздушной разведки имеют к поставленной перед ним задаче.
Бакланов догадывался об этом, но не хотел начинать разговора с конца.
— Ясно? — спросил он.
Дмитриевский кивнул, но взгляд его выражал недоумение.
— Командующий приказал, — продолжал Бакланов, — приурочить выброску вашей группы к моменту серьезной обработки с воздуха гореловского аэродрома и железнодорожного узла. Совместить, так сказать, два полезных дела: под грохот бомбежки, в общей суматохе ваша выброска пройдет незамеченной.
Дмитриевский вскочил.
— Чудесно! Это лучшее, о чем можно мечтать! — воскликнул он. — Вы знаете, как я теперь поступлю?
— Догадываюсь.
— Я прыгну первый, а люди будут приземляться на мои сигналы. Группа сконцентрируется в одном месте.
— Хорошо, — заключил полковник. — В вашем распоряжении, вернее, в распоряжении пилота, будет достаточно времени, чтобы сделать не один, а несколько заходов на выброску. ,
— Совершенно верно.
— И немцы вряд ли помешают. Им будет не до вас. Командующий посылает одиннадцать боевых машин. Они там устроят такой «сабантуй»!…
— Представляю!
— А теперь к делу. Где вы намерены приземлиться?
Капитан потянулся к карте, всмотрелся и показал на контуры большой поляны в лесном массиве. Бакланов побарабанил пальцами.
— Там, где опустилась Юлия Васильевна? Отставить! Не годится. Проторенные дороги не всегда приводят к цели. Что вы теряете, если приземлитесь вот здесь, в пяти километрах южнее?
Дмитриевский, не отрывая глаз от карты, помедлив, согласился.
— Решено. Ваши дальнейшие действия?
Капитан начал докладывать:
— Как только соберу группу, радирую вам, а действовать начну с утра. Подыщу понадежнее место для базирования группы, для приема самолета, потом проверю подходы к городу. По моим расчетам, на это уйдет весь завтрашний день. К вечеру попытаюсь пробраться в город.
— План хорош, — одобрил Бакланов. — Но подумайте вот над чем: нельзя ли, прежде чем идти в город, захватить «языка»? Хотя бы из местных. Через него надо точнее определить обстановку в городе. Сделать это не так уж сложно. Шоссе не охраняется, движение по нему редкое. Но, — он поднял палец, — «языка» не отпускать от себя до конца операции.
— Понимаю!
— Дальше?
— Попытаюсь связаться с Готовцевым.
— Отставить! — сердито возразил Бакланов и хлопнул ладонью по столу. — Здесь особенно нельзя повторяться. На Готовцева шла Юлия Васильевна… Пусть Готовцев даже благополучен — неважно. Идите на Чернопятова.
— Слушаюсь…
— Особенно внимательны будьте в лесу. Сигнал тревоги Юлия Васильевна дала из леса. Не исключено, что гитлеровцы оплели его засадами, секретами. А может быть, где-нибудь поблизости от ее высадки расположена секретная резиденция, или офицерская школа, или склады. Все может быть. И никакой горячки, никакой спешки. Понятно?
— Так точно.
Бакланов вышел из-за стола.
— Теперь пойдемте потолкуем с вашими людьми…
47
Тюрьма находилась в северо-западной части города, в самом конце жилых кварталов, против бывшего лесоторгового склада. За тюремной стеной лежал пустырь, а еще дальше, на бывшем опытном поле, стояла зенитная батарея.
Два тюремных корпуса, расположенных параллельно друг другу и обезображенных маскировочным камуфляжем, едва выделялись на фоне звездного неба. Территорию тюрьмы окружала пятиметровая кирпичная стена, усыпанная поверху осколками стекла и обнесенная колючей проволокой. По углам высились сторожевые вышки с прожекторами.
В одиннадцать часов вечера во дворе тюрьмы коротко рявкнул глухой сигнал автосирены. Тяжелые железные ворота медленно раскрылись. Мигнув прорезями замаскированных фар, две арестантские машины выкатились со двора и помчались в город.
Расстояние от тюрьмы до гестапо не превышало трех километров. Через пятнадцать минут машины появились на центральной городской площади, пересекли ее и замерли около серого каменного здания.
Часовой у дверей нажал кнопку звонка в стене. Ворота тотчас распахнулись, впустили машины во двор и закрылись.
Автоматчики окружили машины и, когда конвоиры отворили дверцы кузовов, стали выкликать арестованных по фамилиям.
Первой вызвали Готовцеву. Юля быстро спрыгнула на землю, жадно вдохнула ночной воздух, взглянула на тихое черное небо, усыпанное звездами, и, забросив руки за спину, направилась в помещение.
После утреннего разговора с Герцем противоречивые мысли все еще волновали ее. Поступок Герца казался ей неестественным. Даже если он действительно антифашист, если он связан с немецким или партизанским подпольем, он не может ставить на карту свое положение и свою жизнь ради одной русской девушки, о которой ему почти ничего неизвестно. Он не должен пойти на такую опасную авантюру, не имея представления о важности ее боевого задания. Ведь он ни словом, ни намеком не дал понять, что знает о цели ее приезда в город. А если так, то ради чего он ставит себя под удар? К чему клонится его затея? Что он предпримет теперь, получив ее согласие?
— Стоп! — скомандовал часовой, и Юля вздрогнула. — Лицом к стене.
Она повиновалась.
Автоматчик откашлялся, подтянулся и постучал в массивную дверь.
48
В одиннадцать часов десять минут ночи взревели моторы самолета. Группа Дмитриевского поднялась в воздух. Сделав круг над аэродромом, самолет лег на боевой курс и вскоре скрылся во мраке. Бакланов проводил его взглядом, закурил и обратился к командиру авиаполка:
— Скоро?
Командир взглянул на часы со светящимся циферблатом и ответил:
— Минут через пятнадцать.
— Подожду, — решил Бакланов, и они вдвоем стали прогуливаться по полю.
Аэродром, укрытый ночной тьмой, оживал. То там, то здесь возникал рокот моторов, и вскоре все слилось в единый тяжелый гул, от которого подрагивала земля.
— Сейчас бомбардировщики пойдут, — сказал комполка.
Над аэродромом взмыла синяя длиннохвостая ракета, осветила все вокруг на короткий миг и, рассыпавшись на мельчайшие звездочки, угасла. Первая приземистая машина, пригибая траву, пронеслась мимо, за ней вторая и через равные промежутки времени — остальные девять. От гула звенело в ушах. Потом он стал ослабевать, растворяться в ночи.
— Ни пуха ни пера, — сказал комполка и вторично посмотрел на часы. — Минута в минуту…
49
— Вы не представляете, как мы можем быть щедры, — говорил Штауфер сидевшей против него Тумановой. — И вы не пожалеете. Ведь наша жизнь в конце концов сводится к удовлетворению потребностей. И глупо было бы оспаривать это. Мы лишили вас на короткое время того, к чему вы привыкли. И смотрите, что получилось! Вы неузнаваемо изменились. Уже не тот нежный цвет лица, не те глаза; они у вас запали, в них появились тоска, страх, ваш подбородок подался немного вперед. А ногти! Обратите внимание на свои ногти! А они, видно, знали маникюр. Но стоит с завтрашнего дня предоставить вам ванну, парикмахера, набитый платьями гардероб, духи, крем, отличную еду — и вы снова расцветете. Я скажу вам старую, избитую истину: мы живем только раз… Не так ли?
Туманова молчала.
— Как плохо воспитаны русские! — с деланным огорчением произнес Штауфер. — Просто поражаюсь. С ними обращаешься вежливо, корректно, предупредительно, а они молчат…
Штауфер закурил, глубоко затянулся и, приблизившись к девушке, пустил густую струю дыма ей в лицо.
— Хам! — коротко и тихо сказала она.
Штауфер сделал вид, что не расслышал, однако уже не повторил «шутки». Он не хотел раздражать арестованную, руководствуясь при этом своими соображениями, и быстро переключился на другую тему:
— Ну-с… Могу вас огорчить. Ваш «братец» Готовцев только что сообщил, зачем вы пожаловали в Горелов…
Туманова внутренне содрогнулась, но Штауфер внезапно замолк и вытянул шею, прислушиваясь к чему-то. Из глубины ночи донесся нарастающий гул. Штауфер и Герц переглянулись. И в это время в городе завыла сирена, яростно захлопали зенитки. Не прошло и минуты, как землю потряс первый бомбовый удар, следом за ним второй, третий.
Дверь распахнулась без стука. В кабинет ворвался запыхавшийся обершарфюрер.
— Русские бомбят аэродром и железнодорожный узел! — выпалил он.
Штауфер и Герц не шелохнулись.
— Конвоиров сюда! — спокойным голосом приказал Штауфер.
Не удосужившись повторить полученное приказание, обершарфюрер исчез.
Страшный грохот раздался совсем рядом, на площади. Здание гестапо заскрипело, застонало, содрогнулось. Взрывная волна тугим, горячим вихрем распахнула окно, сорвала маскировку, ворвалась в комнату, раскрыла настежь двери. С потолка и стен посыпалась штукатурка. Сифон с газированной водой покачался на тумбочке, свалился на пол и разбился. Разложенные на столе бумаги вспорхнули беспорядочной стаей и разлетелись по комнате.
Штауфер и Герц вскочили. Первый стал ловить бумаги, второй бросился закрывать окно.
Самолеты ревели над городом, бомбы со свистом и воем врезались в землю, взрывы раздавались все чаще.
В кабинет вбежали два конвоира и остановились, тяжело переводя дыхание.
— В тюрьму! — пискливо крикнул Штауфер. — В шестую камеру!
«В солдатскую, в мужскую!» — мелькнула в мозгу Юли страшная догадка.
Конвоиры подхватили ее под руки и потащили в коридор.
Она теперь знала, что делать: бежать! Вырваться и бежать! Конвоиры непременно откроют по ней огонь. И все… Больше ничего не надо. Быстро и хорошо…
Юля рванулась, но тщетно. Эсэсовцы держали ее крепко. Она поджала ноги в надежде, что они ее уронят, но эсэсовцы легко подняли ее и понесли. Уже у входа из коридора она неожиданно встала на ноги и бросилась вперед, стремясь свалить с ног хотя бы одного из автоматчиков, но и это не удалось. Автоматчики крепко держались на ногах и выкрикивали злобные ругательства.
Во дворе Юля сделала последнюю попытку: ударила ногой конвоира, шедшего справа, тот споткнулся и, падая, потянул ее за собой. Возможно, что на этот раз план удался бы, но на помощь конвоирам подоспел водитель машины. Втроем они схватили Туманову, подняли и швырнули в кузов ближайшей арестантской машины. Дверь захлопнулась.
Стоя в темном коридоре, Штауфер наблюдал всю эту сцену через открытое окно.
Город был озарен ослепительно белым светом. В небе под облаками шипели развешанные летчиками осветительные «люстры». Воздух был испещрен бесчисленными цветными нитями трассирующих пуль. Из стороны в сторону метались белые столбы прожекторов.
Арестантские машины одна за другой выехали на площадь. Первая, в которой оказалась Туманова, пересекая площадь, чуть было не нырнула в огромную воронку, оставленную взрывом бомбы. Водитель, чертыхаясь, удержал машину на самом краю, осадил ее назад и, объехав воронку, с лязгом включил вторую скорость. Машина запрыгала по избитой булыжной мостовой и, сокращая путь, пошла почему-то не обычным маршрутом, а глухими переулками. В одном из них водитель так резко надавил на тормозную педаль, что конвоиры стукнулись головами в лобовое стекло: дорогу преградила легковая машина «опель-капитан».
Не видя объезда, водитель тюремной машины дал требовательный сигнал. Тогда из «опеля» показался человек, лицо которого разглядеть во мраке было невозможно. Он подошел вплотную к кабине, в руке его что-то мелькнуло, и один за другим прогремели шесть выстрелов.
В водительской кабинке воцарилась тишина.
Неизвестный подбежал к «опелю» и вернулся с коротким ломиком в руке. Сильным ударом он сбил замок с арестантской машины и, открыв дверку, крикнул по-русски:
— Выходить! Быстрее!
Ему ответила тишина.
— Выходите же, черт вас возьми!
После второй команды из машины выпрыгнули трое мужчин, а женщина нерешительно задержалась в дверном проеме.
— Бегите, вы спасены! — объявил неизвестный.
Трое бросились в переулок и скрылись в темноте.
Неизвестный подхватил Юлю на руки и направился к «опелю».
А бомбардировщики носились по небу, как разъяренные демоны, и удары бомб сотрясали землю.
50
Группа подпольщиков таилась в развалинах бывшего городского театра, устремив глаза в небо, по которому, подобно черным молниям, мелькали ревущие бомбовозы, делая заходы для очередного удара.
Неожиданно начавшаяся бомбардировка города была как нельзя кстати, но никому и в голову не пришло сейчас увязать ее с предпоследней радиограммой Кости Голованова и с появлением сегодня днем советского разведчика над Гореловом.
— Вот так дают! — глядя в небо, восхищенно заметил Калюжный. — И кто же мог думать, что они придут нам сегодня на помощь!
— Молодцы, хлопцы! — отозвался стоявший рядом Чернопятов. — А мы ломали головы…
— Глядите! — вскрикнул Заболотный.
Все повернули головы в сторону вокзала, где взметнулся огромный столб пламени. Он был так велик, что захватил край неба.
— Что это?
Словно в ответ раздался страшный взрыв.
Едва стих грохот, как опять стали слышны самолеты и уханье бомб. Наблюдая за небом, подпольщики не забывали дела, ради которого собрались.
Короткий и резкий свист вызвал их на улицу. Около разрушенного дома стоял человек и всматривался в темноту.
— Идет! — сообщил он приглушенным голосом.
— Какая? — спросил Чернопятов.
— Пятерка.
— Ее нам и надо.
Из подворотни выбежали еще трое и присоединились к группе Чернопятова. Теперь их было уже восемь человек.
— Быстро! — распорядился Чернопятов.
Все устремились к развалинам. Не прошло и минуты, как огромные глыбы кирпича, спаянного цементом, перегородили улицу.
— По местам! — скомандовал Чернопятов.
Группа рассыпалась, исчезнув в темноте.
Сперва послышался шум приближавшейся машины. Она подошла к препятствию и остановилась. Из кабины выскочил водитель, а вслед за ним один из конвоиров. Конвоир мигнул карманным фонарем и осветил груду кирпичей, перегородившую улицу. Водитель нагнулся, разглядывая препятствие.
В это время на него и на конвоира навалились сразу пятеро.
Трое подбежали к кабине и вытащили оттуда ничего не понимающего растерянного эсэсовца. Борьба была короткой и почти беззвучной.
Более сложным оказалось открыть дверь кузова. На это ушло добрых пять минут. Наконец, с помощью железного бруска удалось сорвать замок вместе с петлей. Дверь открылась, и арестованные, уже сообразившие в чем дело, один за другим выскочили из машины.
— Все? — с нарастающим беспокойством спросил Чернопятов.
— Все, — ответил кто-то.
— А девушка где? — не удержался Заболотный.
— Нет девушки, — ответил тот же голос. — Когда ехали в тюрьму, она была с нами, а на обратном пути ее посадили в другую машину.
Подпольщики остолбенели.
51
Автомобиль «опель-капитан» вылетел на одну из окраинных улиц города, прижался к узенькому тротуару и остановился возле небольшого дома.
Мужчина вышел первым. Обойдя машину, он открыл переднюю дверцу и выпустил Юлю. Она быстро осмотрелась.
Кирпичный дом с облупившейся штукатуркой, наглухо забитыми окнами и разрушенными ступеньками крыльца выглядел отчужденно и неприветливо. Темная улица была пустынна.
Провожатый мигнул фонариком, и его луч осветил не только входную дверь в дом, но и железную дощечку с надписью: «Улица Кирпичная, 38».
Человек привычным движением достал ключ, открыл дверь и первым вошел в дом. Юля шла сзади.
Луч фонаря указывал дорогу. Хлопнула одна дверь, другая — и, наконец, они оказались в большой, заставленной мебелью комнате.
Чиркнула спичка, загорелась свеча. Мужчина поставил ее на буфет и повернулся.
Это был стажер гестапо Роберт Герц.
— Куда вы меня привезли? — спросила девушка.
— Это моя служебная квартира, — пояснил Герц.
Дом, снаружи поражавший своим убожеством и обветшалостью, внутри выглядел совсем иначе.
— Вы разведчица и должны понимать, что значит служебная, — добавил Герц.
Туманова посмотрела на него с удивлением. Но он даже не попытался расшифровать сказанное, считая, очевидно, что она хорошо его поняла.
— Эта дверь ведет в спальню, — продолжал Герц. — Там вы можете отдохнуть и найти кое-что из одежды. Я все приготовил. Из спальни есть ход в туалетную комнату. Если хотите воспользоваться ванной, пожалуйста. Колонка исправна, дрова есть. Разводить огонь вы, по-видимому, умеете лучше меня.
Бровь у Тумановой приподнялась. Она соображала: что за намеки? «Вы должны понимать, что значит служебная» или «Разводить огонь вы, по-видимому, умеете лучше меня»?… Впрочем, ладно. Посмотрим, что будет дальше…
— Через эту дверь, — показал рукой Герц, — вы попадете в кабинет. И, наконец, через эту мы вошли. Почему вы так смотрите? Вы по-прежнему не доверяете мне?
Туманова тряхнула головой.
— Вы, кажется, лишили меня этого права, — ответила она.
— Рад слышать, — заметил Герц. — Чувствуйте себя здесь полной хозяйкой. Это ключ от входной двери. — Он положил его на круглый стол. — Вы можете покинуть дом, когда вам заблагорассудится. Это — ваше дело. Но я не советовал бы вам выходить из дома до определенного времени. Учтите: чтобы вызволить вас, мне пришлось уложить троих своих земляков, а троих ваших выпустить на свободу. Гестапо, конечно, уже поднято на ноги.
— Хорошо. Я последую вашему совету. Но как долго надо пробыть здесь?
— Хотя бы до утра.
— Хорошо. А вы поможете мне выбраться из города?
— Я сделаю все, что вы прикажете.
— Благодарю, — сказала Туманова.
— А теперь мне надо покинуть вас, — произнес Герц. — Тревога кончилась, и меня могут хватиться. В буфете есть кое-что из еды. Если будут стучать, то не отзывайтесь и не открывайте дверь. Если зазвонит телефон, послушайте: кроме меня, никто сюда звонить не может. — Он взглянул на часы. — Уже прошло пятьдесят шесть минут новых суток. Вам надо отдыхать. Желаю спокойной ночи.
— Спасибо, — ответила Юля.
Герц отвесил поклон и направился к выходу, но девушка его остановила:
— Господин Герц!
— Да? — он быстро повернулся.
— У меня к вам необычная просьба.
— Можете просить все, что пожелаете.
— Оставьте мне пистолет… Все-таки я одна и… женщина.
Герц без малейшего колебания опустил руку в задний карман брюк, извлек из него «Вальтер», заменил расстрелянную обойму новой, щелкнул предохранителем и молча подал пистолет Тумановой.
— Прошу, — сказал он коротко.
Девушка, взяв пистолет, ощутила холодок стали. Держа его в руке, она смотрела на гестаповца, а он на нее. Так они стояли несколько мгновений. Потом она взволнованно сказала:
— Еще раз спасибо! Большое спасибо!
Герц опять поклонился и вышел.
Юля долго стояла неподвижно, опустив руки, совершенно сбитая с толку. За всю свою небольшую жизнь она не перенесла столько треволнений, как за эту короткую летнюю ночь. В таком круговороте событий нетрудно потерять голову: какой-то час все изменил. Она уже не в каменном мешке тюрьмы, а здесь, в этом доме, она свободна, ей не угрожает опасность, в руках у нее оружие! Снова жизнь!
Она стояла посреди комнаты и думала.
Если Герц — гестаповец только по положению и должности, а в душе благородный, смелый человек, связанный с подпольной группой Чернопятова и выполняющий его указания, тогда все хорошо. Так хорошо, что и придумать трудно. Ну, а если?… И прежние сомнения вновь овладели ею.
Если Герц не тот, за кого она его принимает? Если, добиваясь цели, поставленной перед ним гестапо, он только мастерски разыгрывает свою роль?
Но в чем же все-таки состоит эта цель? Именно на этот вопрос Туманова ни ранее, ни сейчас не могла найти ответа, как ни старалась. Это было какой-то головоломкой.
Может быть, Герц хочет поразить ее проявленным великодушием и жертвой, ради нее принесенной, усыпить ее бдительность, вызвать на откровенность и выведать то, чего не мог добиться Штауфер угрозами и побоями?
Но это же ерунда! Гестаповцы не настолько глупы, чтобы рассчитывать на успех такой дешевой комбинации.
И тут внезапно ей пришла совершенно новая, очень простая мысль.
Если Герц маскируется, он не станет добиваться ее доверия и расположения. Он не будет выспрашивать ни о чем. Он доведет свою «благородную» роль до конца, отпустит Юлю, куда она захочет, и отойдет в сторонку. Но с этой же минуты она явится предметом неослабной слежки гестапо. За нею поведут неусыпное наблюдение, и ей нельзя будет сделать ни шагу. Это было самое страшное. Она ведь еще не выполнила задания и обязана его выполнить! И если она все же начнет действовать, то может оказаться причиной гибели многих. Следовательно, если Герц — орудие гестапо в его хитрой комбинации, то ей предстоит выдержать немало испытаний. Снова надо идти навстречу неизвестной судьбе. И здесь каждый шаг, каждое движение должны быть взвешены и строго рассчитаны.
Юля вздохнула и как бы очнулась от забытья. Она только теперь оглядела комнату. Первое, что бросилось в глаза, — это громоздкий и неуютный буфет, украшенный вычурной резьбой. Рядом — длинный диван с высокой спинкой, посреди комнаты — круглый стол, покрытый темной бархатной скатертью, шесть полумягких стульев и узкое трюмо в углу. Типичное убранство зажиточной провинциальной квартиры. Обои коричневого цвета с золотистыми виноградными гроздьями придавали комнате мрачноватый вид.
Со стены с большого и единственного портрета на Туманову смотрела сравнительно молодая женщина с неестественной улыбкой. Улыбались одни губы, в то время как лицо и глаза оставались безучастными. Казалось, в глазах застыл какой-то немой вопрос.
Юля подошла к зеркалу и невольно вздрогнула: почти чужое лицо глядело на нее.
Штауфер был прав. Она изменилась до неузнаваемости. Девушка поправила сбившиеся и загрязненные волосы, провела пальцами по впалым и бледным щекам.
«Посмотрел бы на меня Андрей», — подумала она и повернулась, чтобы взглянуть на свой профиль. Огорченная и опечаленная, Юля отошла от безжалостного зеркала и решила осмотреть остальные комнаты. Обход их не внес ничего нового в ее положение. Спать она решила на диване в кабинете, где находился телефон.
Растопив колонку в ванной, Юля вернулась в первую комнату. В буфете она нашла сыр, масло, яйца, бутылку вина, кусок грудинки и хлеб. Нетрудно было догадаться, что все это заранее приготовил Герц.
Туманова с жадностью набросилась на еду. «А может быть, он и в самом деле наш человек? — рассуждала она, уплетая ароматную грудинку. — Мне же обязательно хочется сделать его плохим, видеть в его поступках ложь и обман, подвох и расчет. Почему так? Неужели среди гестаповцев не может оказаться один антифашист, настоящий немец патриот?»
52
Телефон зазвонил без четверти пять. Юля проснулась мгновенно, привстала, хотела взять трубку, но заколебалась. А что, если звонит не Герц? Но потом решилась. Соскочила с дивана и ответила.
Звонил, конечно, Герц. Он справился, как она отдохнула, и попросил ее быть готовой. Минут через пятнадцать он приедет. Туманова встала, умылась, привела в порядок волосы. Платье, приготовленное ей Герцем, было чуть-чуть широко в талии. Сшитое по моде из серой шерстяной ткани в клетку, оно выглядело даже нарядным. Платье, видимо, принадлежало женщине со вкусом и аккуратной, умеющей беречь свои вещи: на нем не было ни единого пятнышка. Может быть, это та женщина, которая и сейчас смотрит на нее с портрета с улыбкой и вопросом в застывших глазах?… Какая участь постигла ее? Может быть, она приняла смерть от тех рук, что так заботливо передали ее платье Юле?
Может быть. Но что делать?!
Горячая ванна, еда и сон, хотя и короткий, но глубокий, без кошмаров, вернули девушке силы. Молодая, здоровая, она чувствовала себя бодрой и готова была идти навстречу новым испытаниям.
Отдохнувший от напряжения мозг требовал уже новой работы. И, прохаживаясь по комнате в ожидании Герца, Юля старалась представить себе дальнейшее.
Послышался шум подъехавшей машины, вошел Герц, сдержанно поцеловал протянутую руку и сказал:
— Доброе утро! Вы преобразились!
Туманова улыбнулась:
— Это вы меня преобразили!
— Скажите, как мне вас называть? — спросил Герц.
Она, не задумываясь, ответила:
— Зовите Марией.
— Хорошее имя, — сказал Герц. — Вы готовы?
— К вашим услугам.
— Тогда едем… Выходите. Я сейчас…
У подъезда стоял уже знакомый «опель-капитан». Юля устроилась на заднем сиденье и стала ждать. Герц погасил свечи, запер дом, сел за руль и тронул машину.
— Куда вам лучше? В какую сторону?
— Поезжайте в направлении Орши, — не смутившись, ответила девушка.
— Вы прилягте, пока едем по городу, — посоветовал Герц.
Машина быстро проехала город из конца в конец и выбралась на шоссе. Герц свел машину на обочину и затормозил.
— Переходите ко мне, — предложил он.
Юля перешла, села рядом, и машина снова тронулась. Впереди виднелся мост через реку, за нею заливные, покрытые зеленым ковром луга, а дальше начинался лес, над гребнем которого висел диск солнца.
Сделав вид, что она поправляет волосы, Юля повернула зеркальце и посмотрела назад. Шоссе было совершенно пустынным: никаких признаков слежки или преследования.
— Я везу вас, как говорят, наобум, Мария, — заговорил Герц. — Вы подсказывайте…
— Мне все равно, — ответила она, хотя на самом деле ей было не все равно: она не хотела отъезжать слишком далеко от города.
Юля опустила стекло. Легкий ветер обдал лицо утренней свежестью. Восходящее солнце ярко брызнуло горячими лучами и ослепило глаза. Стало необыкновенно легко и радостно. Вокруг искрилась жизнь, прекрасная, вечно юная. Юля почувствовала, как горячая волна охватила ее, и слезы подступили к горлу. Взволнованная, она молча взяла руку Герца, лежащую на руле, и пожала ее.
Герц благодарно кивнул головой и улыбнулся. Шоссе привело к лесу. Он высился по обеим сторонам дороги. Позади остался третий километр, и на взгорье показался перекресток.
— Давайте съедем с шоссе, — попросила Туманова.
Герц сбросил ногу с акселератора и выключил скорость.
— Налево или направо? — спросил он.
— Безразлично…
Машина, послушная руке Герца, сделала плавный поворот налево, съехала на проселочную дорогу и пошла под уклон.
На повороте Юля взглянула еще раз назад и вторично убедилась, что вслед за ними никто не едет.
Машина между тем уже спускалась в низину, густо поросшую мелким осинником и молодыми елками. И тут Герц допустил небольшую оплошность: он выключил рычаг сцепления, чего не надо было делать. Спустившись своим ходом в небольшую размоину, «опель-капитан» скользнул задними колесами, завяз и остановился. Герц включил первую скорость, машина дернулась и забуксовала. Герц начал качать ее взад и вперед, нажимая на конус сцепления, но это не помогло. Задние колеса продолжали буксовать со зловещим свистом, и машина постепенно сползала в более топкое место.
Герц выключил зажигание и, смущенный, посмотрел на свою юную спутницу.
Юля впервые за последние шесть дней по-настоящему, заразительно и искренне рассмеялась. Что значит маленькая задержка? Разве может она омрачить это ликующее утро? Разве унять ей радость, звенящую в груди?
— Приехали? — весело спросила она.
Герц вздохнул, покачал головой и вышел из машины. Осторожно ступая, чтобы не запачкать начищенных до блеска ботинок, он выбрался на сухое место, обошел машину, заглянул под задний мост и сказал:
— Ерунда! Сели немного на дифер…
— Моя помощь не нужна? — осведомилась Туманова.
— Что вы! Сидите! Здесь сыро и грязно.
Герц быстро снял с себя пиджак, бросил его на переднее сиденье, засучил рукава и, вооружившись небольшим топориком, стал рубить елки.
Он сделал из них настил, выложил ими обе колеи, а затем, достав из багажника саперную лопатку, стал срезать ею кочку, на которой покоился дифер.
Напевая тихонько какую-то песенку, Юля взяла в руку прямоугольный кусок картона, прижатый к лобовому стеклу автомашины, и прочла на нем: «Проезд всюду и в любое время». В левом углу красовалась свастика, а внизу чья-то неразборчивая подпись, скрепленная печатью гестапо.
Туманова воткнула пропуск на место. Потом она обвела глазами приборы машины, и взгляд ее остановился на пиджаке Герца. Из наружного бокового карманчика торчал уголок какой-то коричневой книжечки, и он отчетливо выделялся на фоне носового платка. Туманова оглянулась назад, вынула книжечку и раскрыла ее. На нее глянул Герц. Это было служебное удостоверение с хорошим фотоснимком. Рядом каллиграфически-безукоризненным почерком были выведены фамилия, имя, должность и чин владельца. Юля всмотрелась в готический шрифт и вздрогнула. Раздался голос Герца:
— Вот и готово!
Кровь ударила в лицо Тумановой, и она быстрым движением сунула удостоверение обратно.
Подошел Герц и бросил лопатку под заднее сиденье. Потом он обтер руки концами, надел пиджак и, усаживаясь за руль, сказал:
— Больше не будете надо мной смеяться, — и включил мотор.
— Посмотрим, — заметила Юля.
Герц тронул машину, и она легко выбралась из размоины, а через минуту вышла на живописную опушку, окруженную березами и соснами.
— Дальше не надо, — сказала Юля. — Оставьте меня здесь!
Герц развернул машину, заглушил мотор.
Туманова быстро выскочила. Вышел и Герц. Он полез в багажник.
В лесу было тихо. Еще не спала роса. Девушка оправила измятое платье и вгляделась в недосягаемую высь родного неба. По нему плыло белое облачко, похожее на парусный кораблик. Юля стояла зачарованная, хотя, странное дело, где-то в подсознании, видимо, в результате выработавшейся привычки, фиксировалось все происходящее.
— В этом ранце, — раздался голос Герца, — есть все, что необходимо человеку на добрую неделю.
Он положил ранец у ног девушки.
— Благодарю. Вы все предусмотрели, — проговорила она и перевела глаза с туго набитого ранца на Герца.
Он стоял, опустив руки, и смотрел ей в глаза. И во взоре его была как будто печаль.
— Так может случиться только раз в жизни, — медленно произнес он, и грудь его поднялась в глубоком вздохе. — Только раз и не с каждым. Случись это с кем-либо другим и расскажи он мне подобную историю, я, скажу честно, взял бы истинность ее под сомнение. Я знаю, что вы мне не верили, но бог с вами. Теперь мне остается предупредить вас. Я спас вашу жизнь, рискуя собственной, не требуя от вас ничего! Но мне будет безмерно больно, если вы сами погубите себя.
Девушка насторожилась.
— Я не поняла вас, господин Герц!
— Вы прекрасно меня поняли, фрейлейн Мария, — проговорил Герц. — Я не пророк, но могу предсказать, что вы вновь попытаетесь пробраться в город…
Туманова вопросительно подняла брови. Герц продолжал:
— Мне это так же ясно, как то, что сейчас утро. Я не хочу знать, какие причины побуждают вас решиться на этот опрометчивый шаг. Я хочу только предупредить вас: будьте крайне осторожны, берегите себя! Вас уже ищут. Мне думается, что я вижу вас в последний раз… Но запомните: если снова вас постигнет беда, я опять, как друг, приду вам на помощь.
— Чем я могу отблагодарить вас?! — каким-то неестественно приподнятым голосом воскликнула Туманова.
Герц задумался и сказал:
— Хочу просить об одном: если положение на фронтах изменится и ваши придут сюда, засвидетельствовать мое поведение по отношению к вам.
— Охотно сделаю, — твердо сказала Юля.
— И еще у меня просьба… — Да?
— Обещайте мне, что, если вам будет угрожать опасность или же понадобится помощь, вы обратитесь ко мне.
— Обещаю! — заверила девушка. — Но как я могу сделать это практически?
— Очень просто, — Герц вынул из пиджака записную книжку, написал что-то, вырвал листок и подал Тумановой. — Черкните мне несколько слов по этому адресу. Можно почтой, можно любой оказией. Я явлюсь, куда вы позовете, и сделаю все, что в моих силах.
— Хорошо, — ответила Юля, — благодарю вас от души! — и подала ему руку.
Герц вновь поцеловал ее и, не сказав более ни слова, направился к машине.
Туманова молчала, не сводя с него глаз и о чем-то раздумывая.
Герц сел в машину, она плавно взяла с места, поднялась на пригорок и вскоре исчезла из глаз.
— Непостижимо… Значит, все-таки?… — проговорила Юля, подытоживая ход своих мыслей.
Она подняла увесистый ранец, внимательно оглядела опушку и направилась в лес. Пройдя шагов десять, не более, она выбрала подходящую сосну с сучком и повесила на него ранец. Затем быстро зашагала на юго-запад.
53
Чернопятов открыл дверь котельной, и солнечные лучи полились в подвал. Он постоял несколько минут у порога, бросил поджидавшим его воробьям горсть неочищенного проса, сел на чугунную тумбу у края тротуара и задумался.
Остаток ночи прошел без сна: неудача, постигшая подпольщиков, не давала ему покоя. Почему гестаповцам вдруг вздумалось на обратном пути в тюрьму пересадить Готовцеву из «пятерки» в «шестерку»? Уж не пронюхали ли они чего? Не может быть! К ночной операции привлекались только старшие групп, люди надежные, проверенные. Удивительнее всего, что «шестерка» так и не появилась. Ее прождали два часа. Она или простояла ночь во дворе гестапо, или вернулась в тюрьму другим маршрутом.
Предпринимать новое нападение на машину не имело никакого смысла. Гестаповцы сделают выводы из ночного происшествия и примут необходимые меры. В крайнем случае они переведут Готовцеву из городской тюрьмы во внутреннюю.
Как же выручить посланца фронта? Что предпринять? Голубой пакет все еще лежит здесь!
Из раздумья его вывел гитлеровский солдат. Он остановился у входа в котельную и хозяйским оком стал оглядывать дверь. Странное снаряжение солдата удивило Чернопятова: за плечами у него была винтовка, в руке ведерко, в другой — скатанная в рулон бумага.
Не обратив на Чернопятова ни малейшего внимания, солдат поставил ведерко на землю и, вынув из него кисть на короткой рукоятке, стал энергично замазывать старый приказ начальника гарнизона, уже давно красовавшийся на половинке двери. Затем из свернутой в рулон пачки он вынул листок и наклеил его на дверь.
Выполнив свое дело, солдат закурил сигарету и, взяв ведерко, зашагал дальше.
Чернопятов подошел к объявлению. На листке красовались фотографии семи мужчин и женщины, совершенно незнакомых Чернопятову. Текст гласил:
Разыскиваются скрывшиеся в городе или его окрестностях опасные преступники (см. фото слева направо): Самойлов, Шкурба, Лисичкин, Зуев, Бугаенко, Тюрин, Готовцева и Пестов…
На этом месте Чернопятов прервал чтение, и глаза его впились в лицо молодой женщины. Он долго рассматривал снимок, стараясь запомнить каждую черточку. Потом дочитал объявление:
…за обнаружение названных лиц или за их поимку назначена большая денежная премия и бесплатная двухнедельная экскурсия в одну из западноевропейских стран. Бургомистр Юрст.
15 июня 1942 года, г. Горелов.
Чернопятов вторично прочел объявление, еще раз всмотрелся в снимок и застыл в полном недоумении.
«Ничего не понимаю, — признался он сам себе. — Ровным счетом ничего! Значит, она бежала, она на свободе? Как же это произошло? Кто и как мог ее вырвать из тюрьмы?»
Совершенно сбитый с толку, Чернопятов не знал, что предпринять. Потом спустился в котельную, переоделся и торопливо зашагал к центру города.
Спустя полчаса он уже заходил в городскую парикмахерскую.
Все мастера были заняты. Чернопятов сел у круглого столика, взял в руки иллюстрированный журнал крупного формата и принялся его перелистывать. Но рисунки двоились в глазах, на страницах журнала всплывало грустное лицо 304
Валентины. Изредка он поглядывал на первое кресло, где Заболотный добривал немецкого артиллериста. Заболотный уже приметил Чернопятова, но и вида не подавал. Руки его работали ритмично, уверенно, только несколько быстрее обычного. Он торопился.
Музыка, лившаяся из репродуктора, умолкла. Голос диктора вначале на немецком, затем на русском языке объявил:
— Кто желает совершить приятную прогулку в одну из стран Европы и получить необходимые средства для этой цели, тот должен оказать реальное содействие оккупационной администрации в розыске и поимке преступников Самойлова, Шкурбы, Зуева, Тюрина, Пестова, Лисичкина, Бугаенко и Готовцевой, скрывающихся в городе и угрожающих безопасности мирных жителей. Всякий, кто предоставит им убежище, подлежит смертной казни.
В репродукторе послышалось щелканье и снова заиграл оркестр.
Заболотный спрыснул своего клиента одеколоном, припудрил, сдернул простыню и сказал:
— Готово!…
Артиллерист встал не сразу. Он приблизил лицо к зеркалу, осмотрелся, погладил облезший нос и, бросив мастеру смятую бумажку, вышел.
— Прошу! — пригласил Заболотный Чернопятова.
Тот сел в кресло и, улучив удобную минуту, тихонько шепнул:
— Мне срочно нужен Скиталец!
Заболотный кивнул.
— Повидай его во что бы то ни стало. Пусть скажет, где можно встретиться. А теперь царапай, в один заход!
54
В начале двенадцатого Чернопятов деловито вошел во двор полуразрушенного, нежилого домика и, пройдя бурьянами, углубился в густой, разросшийся малинник. Здесь он улегся в тени старого, щелистого забора. Забор этот граничил с садиком дома, выходившего на параллельную улицу, где квартировал Генрих Гроссе.
Тюремный надзиратель любил в свободное от дежурства время повозиться в хозяйском саду. Вот и сейчас он с ножом в руке, мурлыча солдатский марш, обходил густой вишенник вдоль забора.
За забором послышалось легкое троекратное покашливание. Генрих лениво осмотрелся, зевнул и улегся в траву, прислонив голову к широкой заборной щели.
— В моем распоряжении двадцать минут, — тихо предупредил Генрих. — В двенадцать я должен заступать. Здесь никого. Говори, Григорий!
Чернопятов опросил:
— Слышал?
— Что слышал? — в свою очередь спросил Генрих.
— По радио передавали…
— А… насчет побега?… — Генрих достал сигарету и закурил. — Я кое-что разузнал. Готовцеву действительно усадили в суматохе бомбежки не в «пятерку», а в «шестерку». Но на «шестерку» тоже был налет. Готовцева и трое мужчин как в воду канули. Ищут бежавших с обеих машин.
Лицо Чернопятова вытянулось.
— Что все это значит?
Генрих, глядя в небо, проговорил:
— Видно, в городе, кроме нас, нашлись еще порядочные ребята…
После долгой паузы Чернопятов продолжал:
— Если бы нам удалось напасть на след Готовцевой! Она нужна нам позарез. Документы в голубом пакете все еще лежат…
— Подумаю об этом, — заверил Генрих. — Есть один шанс, ненадежный, правда, но ничего не поделаешь.
— Что? Говори!… — обрадовался Чернопятов.
— Пока не скажу. Не сердись, Григорий! Вот когда проверю, тогда…
— Но ты же пойми, что дорога каждая минута! — убеждал его Чернопятов.
— Понимаю, — ответил Генрих. — Но выкладывать тебе сплетни не стану. Я слышал кое-что, совсем немножко, а вот повидаю сменщика — проверю. Иди, Григорий! — он встал. — Мне пора…
— А когда ты сменишься?
— В восемь.
Чернопятов знал, что Генрих упрям и уж если не хочет чего-нибудь сказать, то не скажет.
— Желаю удачи! — Чернопятов направился к выходу.
— Не унывай! — бросил ему вдогонку Генрих. — Думаю, что мы отыщем эту хорошую девушку!
55
Солнце припекало основательно. Чернопятов чувствовал, что рубаха его взмокла, а по лицу змеились ручейки пота. Возле бани он огляделся и, не заметив ничего подозрительного, стал шарить в кармане, отыскивая ключ. На дверях котельной по-прежнему висело объявление, извещавшее о побеге «опасных преступников». Крайней в ряду была фотография Готовцевой. Все так же грустно смотрели ее большие глаза.
«Вот где загадочная история, — подумал Чернопятов. — Исчез человек! Ищи теперь! А где искать? Если Генрих ничего не сообразит, придется своими силами, через старших групп что-нибудь предпринять».
Чернопятов стал отворять дверь, и в эту минуту сзади послышался голос:
— Я хочу вам предложить фитили для керосинок. Тридцать фитилей.
Точно молния прожгла мозг Чернопятова. Пароль! Это же пароль! Он резко повернулся.
Перед ним стояла молодая женщина в обычной деревенской одежде, с сильно набеленным лицом, подведенными бровями, с простым ситцевым платком на голове. Белая кофта свободно лежала на ее плечах, а пестрая широкая юбка спускалась чуть ли не до щиколоток.
Сердце у Чернопятова обмерло. Глаза! Он чуть было не вскрикнул, но сдержал себя и ответил обусловленной фразой:
— Если новые, то беру в неограниченном количестве.
— Новые, — проговорила девушка каким-то упавшим голосом и добавила: — Григорий Афанасьевич, да?
— Да, родная!… Ты видишь? — он показал глазами на объявление.
Туманова кивнула.
— Спускайся вниз, а я посмотрю…
Она сошла по ступенькам и скрылась в котельной.
Чернопятов сначала с силой выдрал крючок, которым крепилась дверь, а затем начал его заново прилаживать. Мысли заметались беспокойным роем. Нет, чего-либо подобного с ним еще не приключалось. Что творится только?! Сама пришла! Откуда? Как? Его распирала радость, лицо светилось, он улыбался и одновременно хмурил брови: «Не подвох ли это, не провокация ли?»
Прилаживая крючок, он внимательно, наметанным глазом посматривал направо и налево, тревожась, не привела ли она за собой слежки. И тут требовалась выдержка. Железная выдержка. Он всей душой рвался в котельную, чтобы поскорее увидеть и расспросить пришедшую, но силой воли заставлял себя возиться с крючком: «Надо проверить, тщательно проверить!…»
Чернопятов провозился минут двадцать и, не обнаружив на улице ничего подозрительного, спустился вниз.
Он быстро подошел к Тумановой, большой, сильный, взволнованный, неожиданно взял ее голову в свои большие руки и поцеловал.
— Ой! — только и произнесла Юля и опустилась на ящик.
— Как тебя звать-то, дочка?
— Юлия.
Чернопятов провел рукой по лбу, как бы не веря происшедшему. Затем взял с верстака большой медный таз с пробитым дном, облупленную эмалированную кастрюлю и сунул девушке.
— На всякий случай. Ты — заказчица. Из деревни Лужки. Запомни: Лужки. До нее десять километров на восток. Поняла?
— Да, — улыбнулась она.
— В деревне около ста дворов. Староста — Бутенко. Немцев в деревне нет… Там всего один полицай… Я для вида буду работать… А теперь, — он вставил в тиски и зажал железный брус, затем взял в руки ножовочную пилу. — А теперь я и не знаю, с чего начать. Говори сама… Скорей говори!
— Ваш Готовцев — предатель! — сказала Туманова.
— Знаем… Хоть поздно, но узнали. Готовцева уже нет. Избавились мы от него.
— Вот как! А что случилось с радистом? Почему оборвалась связь?
— Костя наш погиб…
Юля опустила голову.
— Как погиб?
— Его станцию запеленговали… Но об этом потом! Ты говори о себе!
Она рассказала, как армейский радиоцентр принял неоконченную депешу Чернопятова, как было решено послать с рацией ее, как она приземлилась в лесу, пошла к Готовцеву, была схвачена гестапо.
Чернопятов слушал, поглядывал на нее, прикидывал. Он все еще не мог свыкнуться с мыслью, что посланник фронта вырвался из гестапо, настолько все было невероятно.
— Все? — спросил он.
— Да, все.
— Значит, порядок! Готовцев ничего не утаил. Все совпадает… Помнишь старичка подводчика, что вывозил вас за город?
— Ну как же!
— Это — наш старик. Он про тебя рассказал, думал, что ты настоящая сестра Готовцева… Ну, а где ты скрылась, у кого?
Туманова покачала головой.
— Ни у кого…
— Погоди, — нахмурился Чернопятов, — ничего не понимаю! Откуда ты пришла?
— Из леса.
— Из леса? — протянул Чернопятов. — А ты знаешь, что тебя ищут?
— Еще бы не знать! На два объявления наткнулась. Смотрю на свое фото, а холодок по спине бегает. И ноги, как ватные. А при входе в город, у моста, проверили документы. Пережила бог знает что.
— Какие документы? — недоуменно спросил Чернопятов. — А ну покажи!
Туманова подала завернутые в носовой платок и изрядно потертые бумажки: удостоверение и пропуск на имя Решетниковой Дарьи Семеновны.
— Вы, Григорий Афанасьевич, говорили относительно деревни Лужки, — улыбнулась Юлия Васильевна, — а я, выходит, и в самом деле лужковская.
— Как попали они к тебе? — хмуря лоб, спросил Чернопятов.
— Сейчас расскажу. Дело в том, что на мне до этого было такое платье, показываться в котором в городе я не могла ни при каких условиях. Платье надо было сменить, и я пошла на риск. Я выбралась на проселок, что идет вдоль края леса, засела в кустах и стала выжидать. Просидела с час, но ничего подходящего не появлялось. Я начала уже терять надежду, и вдруг на дороге показалась женщина средних лет с девочкой-подростком. Я вышла из укрытия и остановила ее. Я пустила слезу и наврала ей, что скрываюсь от угона в Германию и что мне надо обязательно сменить одежду. Вначале она будто не поверила мне, потом заинтересовалась, разглядела мое нарядное платье и согласилась отдать свою одежду. Мы начали переодеваться, и она, как мне показалось, стремилась ускорить эту процедуру больше меня. Думаю, что решающую роль в успехе обмена сыграло мое платье, а не слезы, которые я пустила.
— Ну, а документы, документы откуда? — продолжал допытываться Чернопятов, держа в руках удостоверение и пропуск.
Туманова вывернула наизнанку глубокий врезной карман юбки и рассмеялась:
— Эта тетя так торопилась избавиться от моего общества, что забыла вынуть документы, вот отсюда. Мне просто повезло.
— Вообще тебе везет, — ухмыльнулся Чернопятов. — А ты знаешь, кто такая Дашка Решетникова?
— Нет, конечно.
— Ловкая спекулянтка, жена лужковского полицая, вреднющая и языкастая бабенка. Об этом происшествии она раззвонит на всю губернию и еще приукрасит. Если уже не раззвонила.
— Кто же мог знать?! Да и что мне оставалось делать?
— Да… пожалуй. Но теперь эти бумажонки в огонь, — проговорил Чернопятов и, чиркнув зажигалкой, запалил документы. — Они свое дело сделали. И твое счастье, что все обошлось благополучно. А мы-то, мы-то… — продолжал он. — Выследили ночью «пятерку» и навалились на нее. Перебили охрану, освободили арестованных, а тебя нет. Оказывается, ты в «шестерке» была. Но теперь рассказывай главное: кто тебя выручил?
— О, это длинная история! — Юля сдвинула брови. — Очень длинная. Все расскажу по порядку. Но у меня к вам еще несколько вопросов.
— Давай, родная!
— Вы личный состав здешнего гестапо знаете?
— Примерно, да.
— Кто такой Штауфер?
— Начальник гестапо.
— А Грундт?
— Иоганн Грундт? Это — страшный человек. Он по должности младше Штауфера, обычный следователь, а по чину старше. Он штурмбаннфюрер СС. Рук Грундта не миновала ни одна жертва, попавшая в гестапо.
— А фамилия Герц вам о чем-нибудь говорит?
— Герц… Герц…
— Да, Роберт Герц.
Чернопятов прищурил один глаз, покрутил ус.
— Не слышал. Возможно, новенький. А ты не спутала?
— Нет, именно Герц. Стажер гестапо.
— Стажеров и референтов там полно. Но можно выяснить.
— Пока не стоит. Теперь дайте мне чего-нибудь перекусить.
Чернопятов всплеснул руками:
— Какой же я дурак! И не спросил! Сейчас, дочка!… Ведь я здесь живу… — и Чернопятов полез под верстак.
56
По лесу в это время пробиралась группа капитана Дмитриевского. Все были одеты в пятнистые маскировочные халаты и терялись в них среди сочной и яркой зелени травы и кустистых зарослей. На правом фланге, пружинисто натягивая длинный поводок, шла крупная серой окраски овчарка.
Вокруг стояла тишина и прохлада. Лучи полуденного солнца, процеживаясь сквозь переплетение ветвей, устилали землю веселыми светлыми пятнами.
И только птичья перекличка и легкое шуршание движущихся людей нарушали лесной покой.
Как и рассчитывало командование, внезапный налет советских бомбардировщиков на аэродром и железнодорожный узел внес такой переполох в ряды Гореловского гарнизона, что с успехом можно было выбросить не только группу Дмитриевского, но и целый десант.
Разведчики приземлились в пяти километрах от той поляны, на которую опустилась Туманова, стало быть, в двенадцати километрах от Горелова. Ночь они провели невдалеке от места приземления, а с утра приступили к осмотру леса, двигаясь по направлению к городу.
Дмитриевский растянул группу в цепочку, на зрительные интервалы. Он не тешил себя надеждой, что обнаружит что-либо в районе, сравнительно далеком от города, но, помня советы полковника Бакланова, действовал осторожно. Когда по расчетам до города оставалось километров девять, а до большой поляны — всего два, от проводника поступил по цепи знак тревоги.
Сержант Волков, проводник овчарки, поманил к себе капитана вплотную.
— В чем дело? — тихо спросил Дмитриевский.
— Следы, товарищ гвардии капитан, — также тихо ответил тот и показал рукой.
В трех местах на песчаной почве ясно различались следы: прошли трое, оставив отпечатки подошв, подбитых подковами и гвоздями.
— А почему ваш Морж так волнуется? — спросил Дмитриевский, посмотрев на широкогрудого, здоровенного пса. Морж рвался с поводка, шерсть на его загривке стояла дыбом.
— Людей ведет собака, и он ее учуял, — ответил Волков.
— Собака? — переспросил капитан.
— Так точно! — подтвердил Волков. — Вот ее след, — показал он на едва заметные круглые отпечатки, идущие вперемежку со следами человеческих ног. — Рослая собака, видно, овчарка.
Капитан повел группу по следам. Они уходили в лес от шоссе, через шесть километров круто повернули влево, через овражек, и еще раз влево. Теперь они тянулись перпендикулярно шоссе и параллельно своему первоначальному движению.
— Челночный поиск, — доложил проводник собаки. — Они кого-то разыскивают.
Дмитриевский разрешил сделать короткий привал. Люди перекусили, покурили. Обменялись мнениями.
Капитан разбил группу на две части. Одну послал по следу, а вторую выдвинул вперед, параллельно шоссе, и оставил в засаде.
Через полчаса на месте привала уже никого не было.
57
Прислонившись к верстаку, Чернопятов внимательно слушал Туманову.
— Я понимаю, Григорий Афанасьевич, — говорила она торопливо, — не имея радио, мы не сможем вызвать самолет. Партизанский отряд ушел из района, связи с ним нет… Остается единственный выход: нести голубой пакет к линии фронта.
— И мы поможем тебе, Юля, поможем. Бросим все силы!
— Что ж, давайте действовать, — заключила девушка.
— Завтра утром решим все.
— А как же быть с Герцем? — спросила она.
Чернопятов пощипал усы, подумал и ответил:
— Я одобряю твое решение. Пиши! — он выдвинул ящик верстака и вытянул из него засаленный конверт и листок бумаги с опаленным углом. Из кармана извлек огрызок химического карандаша и подал его Юле.
Пока она занималась письмом, Чернопятов раздвинул под верстаком железный хлам, тщательно прошелся веником по расчищенному месту, разостлал на нем матрац и свое пальто.
— Вот, — подала Туманова заклеенный конверт.
— Так… Пойдет, как срочное, — заметил Чернопятов. — Сейчас я это дело организую, а ты, дочка, полезай-ка туда! — и он указал рукой под верстак.
Девушка улыбнулась:
— Умещусь?
— Жилплощадь можно увеличить, тазы и кастрюли передвигаются.
Когда Туманова влезла в свое укрытие, Чернопятов обложил верстак листами железа и сказал:
— Вернусь поздно. Отдыхай, Юлия Васильевна.
58
Солнце пало за горизонт и острыми огненными пиками своих лучей воткнулось в нагромождение темно-дымчатых облаков, как бы осветив их изнутри. Постепенно выцветали краски неба.
С двух балконов здания гестапо, украшенных старинными лепными карнизами, устало свисали тяжелые и неподвижные флаги со свастикой.
Один караульный, с автоматом в руках, мерно расхаживал вдоль фасада гестапо, а другой стоял в неподвижной позе у главного входа.
На площадь из узкой незамощенной улицы, подняв облако пыли, вылетел мотоциклист. Сделав полукруг, он подкатил к гестапо, сбросил газ, притормозил и соскочил с седла. Предъявив пропуск часовому, мотоциклист бросился вверх по ступенькам, пробежал по коридору и застыл у массивных высоких дверей. Прежде чем постучать, он поправил поясной ремень, кобуру с пистолетом, подтянулся.
Едва он коснулся пальцами двери, как послышался высокий голос Штауфера:
— Войдите!
Мотоциклист вошел, вытянулся, щелкнул каблуками и представился.
— Есть? — спросил Штауфер.
— Так точно, есть, господин гауптштурмфюрер! — ответил мотоциклист, протягивая серый засаленный конверт. — Его принес почтальон в опустил в прорезь!
— Почтальон? — переспросил Штауфер, вскрывая конверт с брезгливой миной на лице.
— Так точно!
Штауфер прочел письмо, сунул его обратно в конверт и бросил на стол.
— Идите, — сказал он. — И позовите ко мне штурмбаннфюрера Грундта. Он внизу, во внутренней тюрьме.
— Есть позвать штурмбаннфюрера! — повторил солдат и вышел.
Улыбка искривила тонкие и плотно сжатые губы Штауфера. Он еще раз взял в руку конверт и прочел на нем надпись, сделанную рукой Тумановой: «Здесь, Кирпичная, 38. Роберту Герц».
Штауфер постучал ребром конверта о стол и задумался.
Дверь распахнулась, и в кабинет вошел штурмбаннфюрер Грундт в полной эсэсовской форме.
Погладив энергичным движением свою пышную золотистую шевелюру, он без приглашения сел на стул и проговорил:
— Я только что из больницы. Шофер находится в тяжелом состоянии, и доктор не ручается за его жизнь, — Грундт стукнул кулаком по столику. — Черт возьми! Если он подохнет, я не доберусь до виновников!
Речь шла о шофере тюремной «пятерки», на которую совершили налет подпольщики. В горячке и спешке они не довели дела до конца — тяжело раненный шофер еще жил, хотя язык его уже не ворочался и от него нельзя было добиться ни одного слова.
— Не нервничайте, господин штурмбаннфюрер! — успокоил его Штауфер. — Это не в ваших правилах.
В глазах Грундта блеснули злые огоньки.
— Кто же мог предположить, что в то время, когда я был занят этой упрямой мадам, какие-то сволочи совершат налет на вторую машину?
— Не нервничайте, — повторил Штауфер. — Я уверен, что вы доберетесь до виновников… Да, да!… Я даже больше чем уверен в этом. Как вы знаете, Готовцеву доставили сюда в «пятерке» и обратно должны были везти в «пятерке». А в «шестерку» она попала по моей инициативе…
Стул под Грундтом заскрипел, он подался всем корпусом вперед. Сейчас в нем нельзя было бы узнать скромного стажера Роберта Герца.
— Вы хотите сказать…
— Я хочу сказать, — прервал его Штауфер, — что нападавшие были твердо уверены, что в «пятерке» везут Готовцеву. А уж она-то, наверное, знает своих друзей.
Грундт откинулся на спинку стула и вздохнул. Это открытие ему еще ничего не давало. Мало ли что знает Готовцева!
— А вы не теряете надежды, что она вспомнит обо мне? — спросил Грундт с усмешкой.
Штауфер молча протянул ему конверт. Грундт взглянул на него и вскочил с места. Торопливым движением он извлек из конверта листок бумаги и прочел:
Дорогой мой друг и доброжелатель! Вы опять правы. Мне не обойтись без вашей помощи. Я хочу видеть вас. Жду завтра, 16 июня, в шесть утра, на том же месте, где мы расстались. Ваша Мария.
— Поражен! Убит! — воскликнул Грундт. — С благоговением преклоняюсь перед вами, господин Штауфер. Вы — гений! У вас какой-то дар прозрения! Окончательно проникаюсь сознанием своего собственного ничтожества… Я расскажу о вас в Берлине!
— Довольно, хватит!… К чему такие громкие слова? — остановил его с довольной улыбкой Штауфер.
Грундт заходил по кабинету.
— А я свинья, — неожиданно признался он. — Когда вы изложили мне свою идею, я подумал, что это — слишком опасная игра. Театр! Да, да!… И мне показалось, что вас устраивает не исход игры, а сам процесс ее… Есть же такие азартные люди… Но она, она! — Он прихлопнул рукой по письму. — Какая простота! Какая наивность! — Он еще раз пробежал глазами текст: «Дорогой мой друг!… Вы опять правы!… Ваша Мария…» Дура! Набитая дура!… А еще разведчица!…
— Не согласен — возразил Штауфер. — Она вовсе не дура. Она умна и держалась очень осторожно. Дело в том, что, осуществляя мою идею, вам талантливо удалось убедить ее, заставить поверить в то, что вы не тот, за кого она вас принимала. Кроме того, она — женщина. А женщины верят красивым людям…
Тут настала очередь самодовольно улыбнуться Грундту.
— Получается так, — произнес он, думая о чем-то своем, и спросил: — Неужели она сумела незаметно вернуться в город? Ведь ее должны были сразу засечь! Приняты все меры…
Штауфер усмехнулся.
— Я не думаю, что она в городе. Это слишком рискованно. Во-первых, у нее нет никаких документов, во-вторых, платье, которое мы ей подсунули, очень приметно. Готовцева где-то в деревне. Оттуда она и отправила письмо. А меры ведь только сейчас приняты.
— На первый взгляд это звучит логично и убедительно, — согласился Грундт. — Но у нас нет никаких донесений. Странно!…
— Завтра все выяснится, — спокойно ответил Штауфер. — Ровно в шесть утра господин Герц предстанет перед своей подопечной. И могу заранее предсказать, что она попросит у вас или документы или помощь, чтобы пробраться в город! Жребий был брошен знаете когда?
Грундт вопросительно посмотрел на Штауфера. Тот сделал паузу и торжественно продолжил фразу:
— Когда вы ей вручили собственный пистолет и она не ухлопала вас из него.
— Пожалуй, да… Это была самая рискованная секунда.
— Вот именно. Вы сразили ее этим пистолетом без выстрела. А теперь проверим, что сделали наши молодчики. — Штауфер снял трубку телефона, нажал кнопку и сказал: — Грейвиц? Зайдите!
Через короткое время в комнату вошел штурмшарфюрер.
— Грейвиц! Что вы предприняли по моему указанию?
— Все сделано, господин гауптштурмфюрер! Она никуда не денется. На перекрестки дорог посланы секретные пикеты на мотоциклах. Фото Готовцевой роздано восемнадцати агентам. В район, очерченный вами на карте, утром выброшена на автомашинах подвижная группа с радиопередатчиком. Назначено патрулирование дорог. Через начальника крипо [21]предупреждены их посты в деревнях.
— Ясно! Запомните: если с ее головы упадет хоть один волос, то вы навсегда расстанетесь со своей головой. Наблюдение, и только наблюдение! Все встречи фотографировать! Лиц, с которыми она будет встречаться, брать под слежку и ни одного без моего ведома не трогать! Мне думается, что явилась она сюда не одна. В лесу ее кто-то поджидает. Ну, и городские ее сообщники от нас никуда не уйдут, — Штауфер довольно потер руки.
— А как быть с шофером и двумя конвоирами «шестерки»? — спросил Грейвиц.
Штауфер достал из кармана ключ и подал Грейвицу.
— Поезжайте к ним. Объявите мою благодарность и объясните, что им придется еще некоторое время посидеть. Узнайте, что они хотят, и обеспечьте их всем необходимым, вплоть до водки. Вот так! Ступайте!
Грейвиц вышел.
— Вы — гений! — еще раз воскликнул Грундт. — Я поражаюсь… Как все это просто и в то же время мудро!
Штауфер скромно пожал плечами и сказал:
— Если она, паче чаяния, попросит вас подвезти ее в город на вашей машине, не отказывайте! Но никаких вопросов… По-прежнему предостерегайте, предупреждайте об опасности, расстилайтесь перед ней ковром!
— Понимаю. То есть продолжать прежнюю линию.
— Да, да, да… И только!
59
Огромный ствол сосны, сваленный буреломом, уже прогнивший и поросший травой, надежно укрывал двух людей и собаку.
Часа за три до захода солнца сержант Волков, проводник собаки Морж, заставил своего пса улечься на землю и положил руку на его холку. Пес кого-то чуял и нервничал.
Дмитриевский ползком выдвинулся вперед, приподнял голову и сразу же между стволами увидел трех гитлеровцев. Они двигались прямо на засаду. Впереди, нюхая воздух, шла без поводка овчарка.
Капитан быстро сообразил, что стычка неизбежна. Если сейчас начать перебираться в другое укрытие, то от слуха овчарки это не укроется.
Он на руках подтянулся к сержанту и коротко объяснил:
— Как подам сигнал, спускайте собаку!
Волков кивнул головой.
— Стрелять только по моей команде! — продолжал Дмитриевский. — Постараемся взять их живьем.
Группа приближалась, и от засады ее отделяло расстояние не больше ста пятидесяти метров.
Внезапно собака гитлеровцев остановилась, вытянула шею, повела головой и зарычала. Эсэсовцы переглянулись. Один из них тихо скомандовал овчарке: «Вперед!… Тихо! Шагом…»
Капитан выжидал.
Морж попытался подняться, но Волков шлепнул его, и пес, прижав уши, остался на месте. Все затаили дыхание.
Когда гитлеровцы приблизились метров на двадцать, их овчарка бросилась вперед.
Дмитриевский толкнул лежавшего рядом Волкова, и тот отпустил Моржа. Пес вскочил пружиной, и в трех-четырех шагах от укрытия столкнулся нос к носу со своим собратом.
Овчарки сцепились. Черно-серый клубок покатился по земле.
Гитлеровцы опешили. Приняв Моржа за волка и не видя людей, двое из них с криками и ругательствами бросились к грызущимся собакам, а третий растерянно закружился на месте, не в силах предугадать, с какой стороны грозит опасность.
— Огонь повыше голов! — тихо приказал капитан, и короткие очереди из автоматов прорезали воздух.
Гитлеровец, кружившийся на месте, мгновенно упал на землю, а остальные большими прыжками бросились бежать.
— Хальт! Хальт! — крикнул Дмитриевский, но это не возымело действия.
Гестаповской овчарке тоже удалось вырваться из зубов Моржа, но только на секунду; он вновь налетел на нее, сшиб с ног, вцепился в горло. Волков позвал Моржа. Пес неохотно отошел от своей уже мертвой жертвы. Он был весь в крови, победа стоила ему половины правого уха.
— Стреляй по бегущим! — скомандовал сержанту Дмитриевский, а лежавшему эсэсовцу приказал бросить оружие.
Гитлеровец послушно отбросил автомат, перевалился на спину и поднял руки. Капитан подбежал к нему, связал руки и разрешил сесть.
Волков дал вслед бегущим три одиночных выстрела. Взмахнув руками, один гитлеровец свалился, но второй продолжал бежать, и было ясно, что ему удастся скрыться.
Оставив сержанта около пленного, Дмитриевский решил преследовать убегающего. Его надо было поймать во что бы то ни стало.
Капитан заставил Моржа взять след. Разгоряченный смертельным поединком пес первое время не мог понять, чего от него требуют, бросался в стороны и, лишь успокоенный проводником, ухватился за след и стремительно повел за собой.
Но в это время впереди сухо щелкнул выстрел. Не сразу сообразив в чем дело, Дмитриевский отпустил собаку.
— Вперед, Морж! Вперед! — скомандовал он.
Морж мгновенно исчез, а капитан устремился за ним. Он бежал с автоматом на изготовке и вдруг увидел возвращающегося Моржа. Пес подскочил к нему, весело виляя хвостом и повизгивая. «Сбился!» — с тревогой подумал Дмитриевский.
Но оказалось совсем другое: из кустов вышли лейтенант Назаров и радистка Прохорова. Это она стреляла по бегущему и уложила его на месте.
Убитых гитлеровцев и их овчарку зарыли. Капитан с ходу начал допрашивать пленного. Он оказался радистом из команды СС, приданной гореловскому гестапо, и сопровождал группу с радиопередатчиком.
Дмитриевский предупредил эсэсовца, что если он будет правдиво отвечать на все вопросы, то ему сохранят жизнь. Поощренный этим обещанием и, по-видимому, смирившийся со своей участью, радист не стал упорствовать и рассказал все, что знал.
Гестапо поставило перед их группой задачу прочесать участок леса за шестым километром, между шоссе и рекой. Приближаться к городу ближе пяти километров воспрещалось. При обнаружении в этой зоне женщины группа обязана была условным ходом предупредить гестапо и сообщить место своего нахождения. Тогда к этому месту должна была прибыть специальная команда на мотоциклах. Обнаруживать себя группе не разрешалось. Кто такая женщина, радист не знал. В десять вечера шестнадцатого июня, то есть завтра, группа обязана выйти на девятый километр шоссе, куда прибудет смена.
Вот все, что знал радист.
Но и в этом было достаточно много загадок. При чем здесь женщина? Кто она? Почему гитлеровцам запрещалось себя обнаруживать и приближаться к городу? Что творится за пятым километром?
Дмитриевский поднял людей и цепочкой снова повел за собой.
Пятый километр не принес ничего нового, как не принес и четвертый. Лес был тих, спокоен, нигде никаких следов.
На подходе к третьему километру проводник Волков условным свистом остановил движение, и группа приблизилась к нему. На небольшой опушке, окруженной березами и соснами, Волков обнаружил следы, оставленные автомашиной.
Дмитриевский опустился на колени, пощупал рукой песок и пришел к выводу, что машина была здесь не очень давно, во всяком случае не более суток назад. Рисунок протектора покрышек еще не успел утратить четкой формы.
Измерив рулеткой расстояние между колесами, он пришел к выводу, что здесь прошла легковая машина.
Правда, все это еще ничего не давало, но напрашивался вопрос: что надобно было машине на этой опушке, в стороне от шоссе? Не пришла же она сюда лишь затем, чтобы сделать разворот?
— Товарищ гвардии капитан, — окликнул Волков Дмитриевского. — И здесь следы!… Машина тут стояла…
Капитан заторопился к сидевшему на корточках Волкову.
Да, машина стояла здесь некоторое время, что подтверждалось лужицей масла. И здесь же капитан увидел отпечатки мужской и женской обуви.
Наивно было бы думать, что маленькие следы оставлены Юлией Васильевной, но все же сердце Дмитриевского забилось.
Он измерил следы: мужской показал тридцать два сантиметра, женский — двадцать пять.
— Товарищи! Ко мне! — слишком громко крикнула откуда-то слева радистка Прохорова. — Посмотрите, что я нашла!
Дмитриевский выпрямился.
— Тише!…
Осторожно ступая по опушке, Дмитриевский и Волков углубились в чащу и, сделав шагов двадцать, увидели Прохорову. На крик прибежал и Назаров.
Прохорова стояла возле сосны. Рука ее тянулась к сучку, на котором висел туго набитый немецкий ранец.
— Не тронь! — остановил ее Назаров.
Прохорова испуганно отдернула руку.
Назаров оглядел ствол, обошел сосну вокруг и только после этого снял ранец.
В нем оказалось килограмма четыре белых сухарей, банка засахаренного меда, несколько кусков сахара, восемь банок мясных консервов голландского происхождения, круг копченой колбасы, пачка галет, полдюжины коробок спичем и плоская фляга, наполненная красным вином.
— Запасливый кто-то! — усмехнулась Прохорова.
Дмитриевский промолчал. Его занимал вопрос: какая связь между ранцем и машиной?
Намеченные им планы никак не согласовывались с событиями. Надо было искать новые ходы, менять тактику. Показания пленного наводили на какую-то загадочную историю с женщиной. Появление в лесу легковой машины тоже, видимо, связано с женщиной. Потом этот ранец. Он особенно заинтересовал капитана: ранец не утерян, не брошен, а оставлен здесь специально. Он для кого-то предназначен. А поскольку в нем продукты, то, надо полагать, этот кто-то не будет долго мешкать и явится. А это уже «язык».
— Товарищ Назаров, — объявил Дмитриевский, — останетесь с товарищем Волковым здесь в засаде! Через три часа я приду вам на смену. Кто бы ни появился, задержать и дать знать мне! Сигналы прежние. Я расположусь в километре строго на север. Прохорова останется с пленным.
Дмитриевский обошел опушку и в полкилометре от нее сделал привал.
Сумерки сгущались. Лес погружался в темноту. На небе затеплилась первая звездочка.
Вслушиваясь в лесную тишину, Дмитриевский сидел, прислонившись к дереву, и потягивал укрытую ладонями папиросу. Рядом лежал автомат.
Теплая июньская ночь вступила в свои права. Темнота уже окутала все вокруг, и даже светлые стволы деревьев чуть угадывались. И только небо, усыпанное звездами, излучало бледный, голубоватый свет.
Усталость давала себя знать: наваливалась сонная одурь, клонилась голова. Капитан решительно встряхнулся и встал.
60
Юля спала под верстаком на жесткой постели, устроенной Чернопятовым. Ей снился Андрей, и она видела возле себя его строгие и доверчивые глаза. Она не слыхала, как вернулся Чернопятов, как впустил кого-то. Негромкий разговор спугнул ее сон.
— Я побаиваюсь немного, — убеждал кого-то Чернопятов, — как воспримут твое появление на передовой.
«С кем это он?» — подумала разведчица.
И вдруг Чернопятову ответил голос, от которого по сердцу ее прокатился холодок:
— А почему они могут плохо воспринять? Ведь я приду не один, а с нею.
Кому мог принадлежать этот глуховатый, неторопливый голос с акцентом? Где она уже слышала его? Почему он вызвал у нее страх?
— Пожалуй, ты прав, — согласился Чернопятов. — Вдвоем не страшно. Да и паролями я вас обеспечу надежными. А мундир поновее у тебя есть? Этот уж больно паршиво выглядит. Нет в нем блеска, шика…
— Для такого случая найду.
Туманова напрягала память, стараясь вспомнить что-то, но это ей не удавалось.
— Договорились, — заключил Чернопятов и спросил: — Что же? Разбудить Юлю? Познакомить вас? Вот она всполошится!
— Представляю, — ответил собеседник. — Но будить не надо. Пусть отдыхает. Я вернусь через час. Ровно через час. И буду ожидать вас у выхода.
— Ладно, — согласился Чернопятов.
Туманова лежала не шевелясь. Она услышала шаги, скрип отодвигаемой койки, какие-то тихие шорохи и последние слова неизвестного:
— Значит, ровно через час…
Вновь загремела койка, и через некоторое время раздался кашель Чернопятова.
— Григорий Афанасьевич! — позвала Юлия.
— Проснулась? — спросил он и начал отодвигать листы железа. — Ну, как спалось? Выползай, уже время.
Юлия Васильевна вылезла из-под верстака, оправила платье, осмотрелась. Котельную освещала чадившая керосиновая лампа с заклеенным стеклом.
— Я уже давно проснулась… — проговорила она. — Я слышала ваш разговор… Кто был у вас?
— А ты не угадала? — спросил Чернопятов.
Юля отрицательно тряхнула головой.
— Тогда я скажу тебе, — Чернопятов усадил девушку на койку и сел рядом с ней. — Был Генрих Гроссе, из тюрьмы…
Туманова отшатнулась и испуганно посмотрела в глаза Чернопятову.
— Тот… страшный… который…
— Он самый, дочка, — прервал ее Чернопятов. — Внешность бывает обманчивой. Генрих — наш человек. Надежный и верный. Это — сын той будущей Германии, с которой мы будем дружить, в которую верим. Ему в душу Гитлер не сумел заложить фашистской начинки. Благодаря Генриху мы захватили голубой пакет, за которым тебя прислали, благодаря ему мы узнали, что ты арестована и что тебя предал Готовцев…
Юля нетерпеливо прервала его. Ухватив руку Чернопятова, она, испытующе глядя ему в глаза, спросила:
— Тогда как же объяснить…
— Успокойся, Юля, Генрих — старый антифашист. Он известен как Скиталец, и он все сам объяснит тебе лучше меня. Да и времени у вас для этого будет достаточно. Он пойдет твоим провожатым. С ним можно идти куда угодно… Через час он выведет тебя из города.
Туманова опустила голову. Нет, этого она никак не может себе представить! Что угодно, но только не это! Генрих — мрачный и угрюмый тюремщик, один вид которого приводил ее в ужас, — старый антифашист, свой человек, и человек самый надежный!
— Вот так, дочка, — сказал Чернопятов. — А теперь давай собираться. Времени осталось немного. Теперь мы сделаем из тебя парня. Маскарад, так маскарад. Девкой опасно идти. Вот для тебя одежонка. Переодевайся!
61
В это утро, шестнадцатого июня, следователь гестапо штурмбаннфюрер Грундт был разбужен телефонным звонком. Дежурный по отделению штурмшарфюрер Грейвиц доложил, что уже десять минут шестого и что «опель-капитан» из гаража уже вышел.
Грундт быстро вскочил с постели и бросился в туалетную комнату под холодный душ.
Спустя несколько минут он стоял уже перед зеркалом в своем штатском коричневом костюме, превратившись в стажера Роберта Герца, и с особой тщательностью вывязывал свежий галстук.
Потом он прошел в свой кабинет, сунул в задний карман брюк пистолет, лежавший на столе, переложил из карманов форменной одежды в карманы костюма документы, бумажник, портсигар, зажигалку и вынул из ящика стола чистый носовой платок. Он подушил его одеколоном и тоже положил в карман.
«Дура! Ах, какая наивная дура! — рассуждал он про себя, еще раз осматриваясь в зеркало. — Но как и когда она сумела отправить письмо, да еще почтой? Неужели и тут прав Штауфер? Неужели ей удалось добраться до деревни и оттуда отправить письмо? Сомнительно и маловероятно. Пройти в деревню в таком платье и без документов — это уже не риск, а безрассудство. В деревне на учете каждый человек, и ее задержит первый полицай. Нет, тут что-то не так… В деревню она не полезет. За это я могу поручиться. Уж тогда скорее можно предположить, что она выбралась на шоссе и вручила письмо шоферу первой проходящей машины. Да, так могло быть. Ведь с того места до шоссе совсем недалеко. А вдруг… — и Грундт, уже шагнувший вновь в свой кабинет, остановился. Ему пришла в голову совершенно новая мысль. — А вдруг она не одна? Как я мог упустить это из виду? Конечно, не одна. У нее есть провожатый, который смог быстро переправить письмо в город. И этот провожатый отсиживался в лесу и ждал ее. Не случайно она попросила везти ее из города в направлении Орши. Но, видно, провожатый не полномочен решать те задачи, которые стоят перед нею. Иначе бы она не просила свидания и помощи. Здорово! Вместо одной, ко мне в руки попадут двое. Теперь уж она расписала меня перед своим напарником, как своего освободителя. Очень здорово! Но, на всякий случай, надо…»
Грундт выдвинул ящик стола, извлек из него второй пистолет, проверил патроны в обойме и спрятал его в правый карман.
Перед тем как покинуть дом, он позвонил дежурному по гестапо и поинтересовался:
— Что слышно?
— Штурмшарфюрер Грейвиц доложил, что есть новость, заслуживающая внимания.
— Короче! Что за новость? — строго потребовал Грундт.
— Звонил начальник крипо. Вчера рано утром на проселочной дороге у леса неизвестная молодая женщина остановила жену полицейского Решетникова из деревни Лужки и, угрожая ей оружием, заставила снять с себя одежду, а ей отдала свою. И документы отобрала. По описанию Решетниковой, неизвестная походит на интересующую нас особу.
«Это можно было предположить. Отчаянная девка», — подумал про себя Грундт, а в трубку сказал:
— Немедленно свяжитесь с начальником крипо… Пусть сейчас же пошлет курьера в Лужки и доставит к нам одежду, которую навязала неизвестная этой Решетниковой. Немедленно! И еще: дайте сейчас же указания контрольным пунктам патруля и городской агентуре, чтобы женщину с документами Решетниковой тоже брали под наблюдение. Но не задерживали и не арестовывали. Понимаете?
— Точно так.
— А что сообщают из леса?
— Пока ничего.
— Хорошо, — заключил Грундт. — Я выезжаю. Часов в семь или в половине восьмого позвоните гауптштурмфюреру и доложите ему, что я отправился на свидание. — И он положил трубку.
Выйдя из дому, Грундт отпустил шофера машины, сел за руль «опель-капитана» и поехал.
62
По краю опушки, заложив руки за спину, прохаживалась Туманова.
Ее сапоги и комбинезон до колен были влажны от росы. Солнце уже взошло, но в лесу еще таились сумерки. Легкий голубоватый туман нехотя отступал, открывая свету лесные поляны, заросли, тропы. Юля услышала далекий шум мотора. Она повернулась и замерла, как бы опасаясь неосторожным движением спугнуть этот еще не окрепший звук. Но он приближался, становился явственнее.
Через короткое время в просветах деревьев мелькнул черным глянцем лака знакомый «опель». Он выкатил на поляну, развернулся и встал. Грундт-Герц выключил мотор, открыл дверцу, вышел и остолбенел: что за черт! Новая метаморфоза! Ведь жена полицейского Решетникова, как и положено жене, должна быть женщиной, и на ней, по-видимому, была женская одежда, но почему тогда на этой мужской наряд? Откуда она смогла выцарапать рабочий комбинезон, огромные сапоги, пиджак, потрепанную фуражку? В чем дело? Или этот болван, начальник крипо, как всегда, напутал и на сей раз? Непонятно. Совершенно непонятно…
Гестаповцу стало немного не по себе, и он медленным шагом направился к девушке, пытаясь предугадать, о чем она заговорит с ним сейчас.
— А я уж потеряла надежду! — громко сказала Юля.
Грундт-Герц через силу улыбнулся и на ходу укоризненно покачал головой.
— Я, кажется, не давал повода, — и он взглянул на часы. — В моем распоряжении еще три минуты. Но что это за маскарад? Как удалось вам?… — Он не окончил. Сзади раздался какой-то шорох, и Грундт-Герц быстро обернулся.
К нему, огибая «опель-капитан», приближались Чернопятов, Калюжный и Заболотный. У первых двух в руке было по пистолету, а у последнего — граната.
Лицо Грундта от неожиданности исказилось судорогой. Вобрав голову в плечи и став меньше ростом, гестаповец невольно попятился и потянулся рукой к заднему карману брюк.
— Спокойно, господин штурмбаннфюрер! — раздался по-немецки окрик сзади, заставивший гестаповца вновь обернуться.
Теперь рядом с Тумановой, вооруженный пистолетом, стоял коридорный из тюрьмы. На нем был новенький мундир с весело поблескивающими, начищенными пуговицами.
— Руки вверх, да побыстрее! — потребовал Генрих Гроссе.
Грундт какое-то мгновение раздумывал, потом медленно поднял руки. Взгляд его, пугливый и беспокойный, продолжал искать выхода. Он чуточку повернул голову, скосил глаза влево. И тут увидел еще троих вооруженных мужчин и девушку, вышедших из леса в сопровождении овчарки. Лицо его мертвенно побледнело, глаза погасли: он понял, что погиб.
Генрих Гроссе бесцеремонно вывернул карманы гестаповца, извлек из них два пистолета, портсигар, личные документы, записную книжку, авторучку, зажигалку и передал все Чернопятову. Заболотный приказал Грундту протянуть руки и, когда тот выполнил команду, прочно перевязал их телефонным шнуром.
— Представление окончено, господин стажер! — рассмеялась Туманова, и этот смех полоснул по сердцу гестаповца. — Хотя вы и блестяще вели свою роль, но все-таки провалились. И знаете, почему?
Грундт угрюмо молчал.
— Вы очень неосторожны, — продолжала девушка. — Помните тот случай, когда у вас забуксовала машина? Конечно, помните. Вы сняли на несколько минут свой пиджак и положили на переднее сиденье возле меня. И это вас погубило. В маленьком наружном карманчике вашего пиджака, вот тут, — она дотронулась рукой до кармана Грундта, — я обнаружила вот это. — Девушка взяла у Чернопятова отобранную у гестаповца небольшую книжечку в коричневом кожаном переплете с золотым тиснением, развернула ее и поднесла к лицу Грундта. — Если бы здесь была только ваша фотография, но здесь поставлена еще и фамилия: Иоганн Грундт… Штурмбаннфюрер СС… Вы забыли, что имеете дело с разведчицей… При затеянной вами игре такие вещи не рекомендуется держать при себе.
Грундт продолжал угрюмо молчать.
— Печально… Очень печально! — иронически проговорил Генрих Гроссе. — Вы, господин штурмбаннфюрер, действовали, как настоящий стажер, за которого себя выдавали, а не как опытный следователь, каким считаетесь! И как это вы могли додуматься со своим шефом упрятать в тюрьму водителя и конвоиров «шестерки»! Вы решили, что стены тюрьмы настолько прочны, что не пропустят и звука? Напрасно! Все люди имеют язык и уши. Кроме того, люди имеют друзей. У вас одна ошибка следовала за другой. А главной вашей ошибкой было то, что вы считали, будто в Германии наберется лишь какая-нибудь сотня порядочных людей. Роковое заблуждение! Их значительно больше.
Дмитриевский подошел к Чернопятову, показал на часы. Тот кивнул головой. Они оба отошли в сторону. Капитан достал карту.
Юля не сводила глаз с Генриха. Могла ли она подумать, что под мундиром гитлеровского тюремщика бьется такое большое и честное человеческое сердце! Несмотря на напряженность обстановки, Юле было трудно сосредоточиться: слишком быстро менялись события.
Вчера она договорилась с Чернопятовым захватить Грундта и на его же машине, с его пропуском добраться до линии фронта. Шофера обещал дать Чернопятов. Но не могло же прийти в голову Тумановой, что этим шофером окажется дежурный тюремщик. Генрих Гроссе вывел ее из города. Он шел по улицам и выкрикивал пароли встречным патрулям с такой развязностью, с какой может идти и выкрикивать только подгулявший представитель оккупантов.
На третьем километре за городом они встретились с Чернопятовым, Калюжным и Заболотным.
Дальнейший путь прошел без приключений. Ранец оказался на прежнем месте, и, так как в их распоряжении оставалось около часа, Юля предложила подкрепиться. Никто не предполагал, что две пары глаз внимательно следят за ними. Лейтенант Назаров и сержант Волков, сидевшие в засаде, сразу узнали Туманову, догадались также, что она в кругу своих, и лишь Генрих Гроссе своим мундиром и видом привел их в замешательство. Назаров отправил Волкова к Дмитриевскому, асам продолжал вести наблюдение.
Что произошло через несколько минут, трудно передать. Тут же на поляне подпольщики обнялись с посланцами фронта. Юля плакала. Все еще не веря, она блестящими от слез глазами смотрела на капитана. А он, взволнованный не меньше ее, торопливо обсуждал с товарищами план дальнейших действий…
Подбежала радистка Прохорова и подала листок бумаги. Капитан прочел и передал Чернопятову. Потом посмотрел на часы:
— Двадцать минут седьмого. В дорогу, товарищи! Нам надо шагать тридцать километров.
Участники группы Дмитриевского поднялись и стали закреплять на спинах вещевые мешки.
Чернопятов подошел к Юле, вынул из-за пазухи и торжественно вручил ей объемистый, перевязанный крест-накрест шпагатом голубой пакет.
— Вот то самое, ради чего ты жертвовала жизнью. Охота закончилась. «Дракон» пойман!
Юлия Васильевна кивнула головой и передала пакет капитану. Тот спрятал его в вещевой мешок.
— Кто-кто, а уж артиллеристы помянут нас добрым словом! — заметил Калюжный.
— Не только артиллеристы, — добавил Заболотный.
Прохорова протянула руку Дмитриевскому. Она, по распоряжению Бакланова, оставалась в Горелове радисткой подпольной группы.
— Ждите моих позывных, — сказала она.
Туманова улыбнулась и обняла подругу:
— Первую радиограмму приму сама.
Подпольщики попрощались с Генрихом Гроссе.
— Еще встретимся, друзья, — взволнованно проговорил Генрих, рассматривая по привычке свои растопыренные пальцы.
— Обязательно! — ответил ему Заболотный. — В новой Германии.
— Нет, пораньше, — возразил Генрих. — Я не буду сидеть сложа руки. Я думаю, что Скитальцу подыщут подходящую работенку. Рот фронт!
Чернопятов подошел к Тумановой.
— Прощай, дочка! Теперь до победы не встретимся… Но эти семь дней и ночей я никогда не забуду, — и он крепко обнял и расцеловал ее.
— Становись! — поторопил Дмитриевский и раскинул руки.
Крайним на правом фланге стал сержант Волков с Моржом. За ним — Грундт, следом Генрих Гроссе, затем Туманова, потом пленный радист, лейтенант Назаров. Замыкал колонну капитан.
— Направо! — тихо подал команду Дмитриевский. — Шагом марш!…
Группа вытянулась цепочкой, пересекла поляну и скрылась в лесу.
63
Бакланов спал одетым, напряжение последних дней измучило его. Всю ночь он бодрствовал, ожидая вестей от группы Дмитриевского, и только перед рассветом задремал.
Его разбудил начальник радиоцентра, который принес радиограмму. Бакланов приблизил к глазам листок бумаги и стал читать:
Задание выполнено без потерь. С нами документы и трое интересных людей. Самолет высылайте сегодня к двадцати трем часам на поляну, что в пятнадцати километрах на запад от деревни Паршино. Наши сигналы: восемь костров коридором и две белые ракеты на посадку. Капитан Дмитриевский и лейтенант Туманова.
Бакланов вскочил, обнял начальника радиоцентра и поцеловал. Тот, опешивший и никак не считавший себя виновником торжества, отступил на шаг и растерянно произнес:
— Прохорова ждет ответа…
— Я сам, — сказал Бакланов и, подойдя к столу, повернул ручку телефона. — Осу мне, да, Осу!… Дежурный оператор? Бакланов говорит! Передайте одиннадцатому корреспонденту, чтобы ожидали самолет при любой погоде. Да!…
Потом он ухватился за ручку второго телефона и замер. «Не рановато ли? — пришла осторожная мысль. — Ведь в три часа утра окончилось заседание Военного совета… Нет!» — и он решительно завертел ручку телефона.
Трубку долго не снимали, и, наконец, в ней послышался глуховатый, заспанный голос командарма.
— Товарищ генерал… — начал Бакланов.
64
Время шло к двадцати трем часам. Дул легкий ночной ветерок. Из лесу доносились таинственные шорохи. У догоравшего костра на краю поляны сидели Генрих Гроссе, капитан Дмитриевский и Туманова.
Немного поодаль от них, упершись друг другу в спины и поддерживая один другого, сидели связанные штурмбаннфюрер Грундт и пленный солдат-радист. Около них, вытянув вперед лапы и полуприкрыв глаза, дремал Морж.
Остальные ребята во главе с лейтенантом Назаровым дежурили на поляне около кучек хвороста.
Юля ворошила хворостинкой угли в костре и неторопливо вела свой рассказ. И когда ее собеседники узнали все, что произошло с ней за эти дни, она облегченно вздохнула и добавила:
— Что меня толкнуло залезть в карман его пиджака, не знаю. Ведь после того как он вручил мне свой пистолет, из которого я могла тут же его прихлопнуть, я уже твердо уверовала, что он именно тот человек Чернопятова, о котором меня предупредил полковник Бакланов. А когда я развернула удостоверение… Да, это был просто случай.
— Не согласен, — хмуро возразил Генрих Гроссе. — Совершенно не согласен. Это не просто случай и вообще не случай… Не будь вы разведчицей, вы бы, конечно, не заинтересовались его карманом. Этот поступок логично вытекал из вашей постоянной настороженности. Это не случай, а закономерность. И то, что этот господин, — он кивнул в сторону Грундта, — бросил свой пиджак возле вас, тоже не случайность, а оплошность — результат переоценки своих сил и недооценки сил противника.
— Хм… — усмехнулась Юля и зябко повела плечами. — Ну, допустим, что так… А то, что вам удалось узнать, что произведенные в покойники шофер и конвоиры с «шестерки» оказались живы и здоровы и сидят в тюрьме, это, по-вашему, не случайность?
Генрих подумал, выдержал небольшую паузу и проговорил:
— Если так рассуждать, тогда и тот факт, что мой сосед выболтал о проходе через Горелов машины с секретной почтой, тоже чистейшая случайность?
— Выходит, так, — заметила Туманова. — Нелепое нагромождение случайностей.
— Видите, в чем дело… — хотел было вновь возразить Генрих Гроссе, но его прервал капитан Дмитриевский.
Обратившись к Тумановой, он сказал:
— А почему нас должно пугать, что это случайности? Один великий русский ученый сказал, что счастливый случай помогает всегда тому, кто делает все, чтобы на него наткнуться. Ясно тебе? Жизнь и особенно война показывают, что многие крупнейшие события бывают обязаны своим рождением счастливому вмешательству случая. Я как-то читал…
Дмитриевский не договорил: в небе возник вибрирующий гул мотора, и все быстро вскочили на ноги.
Самолет приближался с тяжелым нарастающим рокотом и, помигивая бортовыми огнями, требовал условных сигналов.
— Костры! Костры! — отдал команду Дмитриевский и обнял одновременно Юлю и Генриха. — Завтрашний день мы встретим в кругу друзей.
1954-1955 гг.
Крюково — Нальчик
Примечания
1
Сарбазы — эмирские солдаты.
(обратно)2
Анаша — гашиш, наркотик из листьев конопли.
(обратно)3
Камча — плеть.
(обратно)4
Кауши — кожаные калоши
(обратно)5
Мударрис — преподаватель медресе.
(обратно)6
Медресе — высшее мусульманское духовное училище.
(обратно)7
Курбаши — командир басмаческого отряда.
(обратно)8
Мирза — писарь.
(обратно)9
Палван — богатырь, силач.
(обратно)10
Аскеры — солдаты.
(обратно)11
Мазар (араб.) — гробница, могила мусульманского святого.
(обратно)12
Махалля — квартал.
(обратно)13
Ичкари — женская половина дома.
(обратно)14
Тугаи — заросли кустарника.
(обратно)15
Нас — жевательный табак.
(обратно)16
Терьяк — дурманящий табак.
(обратно)17
Ошхана — харчевня.
(обратно)18
Хауз — искусственный водоем.
(обратно)19
Стоп! Проезд воспрещен! Объезд 3 км вправо!
(обратно)20
Боже мой!
(обратно)21
Криминальная полиция.
(обратно)


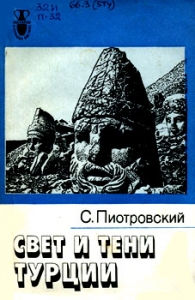
Комментарии к книге «Голубой пакет», Георгий Михайлович Брянцев
Всего 0 комментариев