Ольга Репьева Необыкновенные приключения юных кубанцев
В основу произведения положены воспоминания свидетелей, участников многих описываемых здесь событий и в первую очередь — моего дедушки Тютерева Федора Дмитриевича.
Ему и посвящаю я свой скромный труд.
Часть первая ПОВЗРОСЛЕВШИЕ ДОСРОЧНО
Ярое августовское солнце уже припекало вовсю, когда Андрей, поддерживая карманы, вприпрыжку сбежал с откоса гравийки и балкой, поросшей молодым ивняком да белолистом, направился наконец домой.
Обещав матери, что отлучится ненадолго, он с утра примчался сюда набрать камушков для пряща (так хуторские пацаны называли рогатку); но подзадержался, увлекшись стрельбой по «чашечкам», соблазнительно белевшим на крестовинах телеграфных столбов, что рядом с дорогой.
Тут, видимо, следует уточнить: с мозгами у будущего нашего героя обстояло вполне благополучно, и имей он неделю назад эту подростковую забаву, в свои неполные пятнадцать лет подобного вандализма наверняка себе бы не позволил. Но сегодня, когда только и разговору, что вот-вот объявятся оккупанты, он расколошматил более двух десятков керамических изоляторов («Нехай, гады, ремонтируют!»), пока не надоело и не вспомнил, что давно пора быть дома.
Несколько слов о пряще. В августе 42-го, событиями которого начинается наше повествование, пригодная для их изготовления, «тянучая» резина была на хуторе большой редкостью. Где и как раздобыли ее пацаны — в небольшом отступлении.
Восьмого числа хутор Дальний, прилегающий к упомянутой гравийке — дороге по тем временам краевого значения — был незадолго до рассвета буквально наводнен отступающей воинской частью. С несколькими пушками, походной кухней, санитарной повозкой и просто бричками, укрытыми брезентом. Все это красноармейцы — усталые, измученные, многие перебинтованы — сразу же принялись маскировать — делать невидимым с воздуха. А управившись, в изнеможении валились и мгновенно засыпали.
К обеду хуторянам стало известно, что воинская часть с наступлением темноты отойдет «на более удобный рубеж». Эта весть тяжким гнетом легла на сердца оставляемых на произвол судьбы хуторян…
Женщины, тем не менее делившиеся едва ли не последним из скромных запасов съестного, упрекали: доколе будете пятиться, на кого ж вы нас-то оставляете? В ответ на обещания вскоре вернуться лишь тяжко вздыхали.
Подростки, в отличие от матерей, пребывали, скорее, в приподнятом настроении. И тоже были заняты немалыми хлопотами.
Красноармейцы вместе с обслуживаемой техникой разместились кто под кронами фруктовых деревьев при подворьях, кто под вербами вдоль балки, а некоторым достались акациевые заросли. Последним отведать обильно уродившихся фруктов возможности были ограничены: отлучаться командиры не разрешали. Как раз их-то и выручали вездесущие пацаны, угощая кто чем располагал. В знак признательности угощаемые разрешали им поклацать затвором винтовки, подержать автомат или даже гранату.
Охотно отвечали на их многочисленные вопросы, вроде что означает метка на кончике пули? сколько патронов в диске ППШ? а в немецком рожке? как с этой лимонкой обращаться и прочее в таком же роде. Ведь все это ужасно как интересно! За такие сведения не лень притащить яблок, слив или даже молодых початков кукурузы.
За полдень над хутором появился странный, с просветом в фюзеляже, самолет. Плыл на небольшой высоте, неторопливо, словно стервятник, высматривающий добычу. Андрей — они с соседкой принесли бойцам яблок под вербы — с интересом рассматривал невиданное доселе чудо-юдо.
— Это еще что за уродина? Впервой такой вижу…
— Ихний воздушный разведчик. Рама называется, — пояснил молодой сержантик с одним треугольником в петлице. — Вынюхивает, ёк-карный бабай… засекёт — жди гостинцев. Хочешь рассмотреть получше? — Из потертого чехла, висевшего на суку развесистой вербы, достал бинокль. — Только не высовывайся.
— Ух ты! Совсем будто рядом. А че его не сбивают? В него же запросто попасть можно, дажеть из винтовки!
— У него, браток, брюхо бронированное. Сбить не собьешь, а себя обнаружишь.
Сержантик снова подсел к андреевой напарнице; та тоже приволокла ведро яблок, притом сладких.
— Так-таки и не скажешь, как звать? — откусив от яблока из ее ведерка и смачно жуя, вернулся к прерванным было расспросам.
— А зачем вам это знать?
— Ну, чтоб поблагодарить за вкусные яблочки, например…
— Не стоит благодарности. Кушайте на здоровьичко, — ушла она от ответа и на этот раз.
— Андрюшка тебе кем доводится? — С ним сержантик уже успел познакомиться.
— Мы с ним соседи. И старые друзья.
— А жених у тебя уже имеется? — не отставал тот.
— Это — военная тайна.
— Варь, хошь поглядеть? — предложил Андрей. — Дажеть фрицевские морды видать.
Рама, развернувшись, плыла в обратном направлении.
— Дай-ка я тебе диоптрии подрегулирую, — подхватился и сержант; он сблизил окуляры и, когда она приставила их к глазам, что-то еще заботливо вращал, интересуясь: «А так не лучше видно?»
Андрей не без гордости за «старую» подругу (она старше всего на год), наблюдал, с каким восхищением любуется ею «подрегулировщик» бинокля. Это и не удивительно: смазливенькая с лица, с длиннющей светлой косой, не по годам полногрудая — не девчушка, но вполне оформившаяся девушка — Варя и впрямь смотрелась эффектно.
— Так как же насчёт познакомиться ближе? — приняв от неё бинокль и снова присаживаясь рядом, высказался сержантик более определенно.
— А никак. У меня уже есть жених. Спасибо, — поблагодарила Варя то ли за бинокль, то ли в качестве отказа от более близкого знакомства.
— Обратно, ёкарный бабай, не повезло нашему взводному! — пошутил один из подчинённых, употребив его же, видно — любимое выражение; остальные, тоже с удовольствием хрустевшие яблоками, весело хохотнули.
Вражеский разведчик, похоже, ничего подозрительного (а может, опасного) не «засек», и с гостинцами обошлось. Если, конечно, не считать таковыми листовок, сброшенных вскоре прошмыгнувшим ястребком.
Одна из порций, трепыхаясь, словно стая бабочек-капустниц, стала опускаться на акации, где в это время находились и Андрей с Федей, тоже соседом: они принесли бойцам варёных кукурузных початков, приготовленных матерями. Присутствовавший тут лейтенант приказал «собрать эту вражескую пропаганду и сжечь не читая». Ребята вызвались было помогать, но командир категорически запретил.
Этот запрет лишь разжёг любопытство, но узнать, что же там за пропаганда такая, в этот день не довелось. Зато назавтра, после ухода наших, при прочёсывании зарослей в надежде найти если не автомат, то хотя бы винтовку или гранату они собрали листовок до полусотни штук.
На листке размером с тетрадный слева был крупно тиснут рисунок красноармейца, воткнувшего винтовку штыком в землю и задравшего руки вверх. Правее в тексте утверждалось, будто Москва уже сдана, Красная Армия вот-вот будет разгромлена. Русским солдатам предлагалось поступать так, как показано на рисунке; таким обещалась жизнь и свобода. Кубанскому казачеству — избавление «от большевистского ига»; представителей этого сословия просили оказывать «своим освободителям» помощь в выявлении и задержании укрывающихся комиссаров, коммунистов и евреев. Заканчивался текст листовки возмутившим всех (ребят было пятеро) пояснением, будто СССР означает «Смерть Сталина Спасёт Россию».
На кубанских хуторах ещё отсутствовало радио, давно не приходили сюда и газеты. Никто понятия не имел об истинном положении на фронтах. Но слухи о зверствах, чинимых фашистами на оккупированных территориях, просочились в самые глухие уголки и давно сделали пропаганду свою. И напрасно лейтенант опасался: ребята не поверили прочитанному. Потому что верить хотелось и надеяться на другое, сказанное товарищем Сталиным: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
Листовки решили не уничтожать, но припрятать, чтоб не попались на глаза матерям, не травили бы душу ещё больше.
Чего хотелось, ребята в акациях не нашли, но кой-какие ценные вещи обнаружены были. Это десятка три винтовочных патронов; большая, хоть и изрядно продырявленная, плащ-палатка; телефонная трубка с капсюлями и шнуром. Но самой, пожалуй, интересной находкой была, конечно, сумка с новеньким противогазом: лучшей резины для пряща и придумать трудно! Особенно радовался Миша, давно мечтавший о такой игрушке.
Маску в тот же день аккуратно разрезали на полоски, вышло три пары заготовок. Впрочем, одна из лучших, по жребию, досталась не Мише, а Андрею, и прящ у него получился наславу.
Для него и тащил он два кармана отборного боеприпасу.
Балка, по весне затопляемая на время талыми водами, делила хутор Дальний на две неравные части: южная, где жил Андрей, вдвое меньше — всего в два десятка подворий.
Напротив крайних огородов торная стёжка, протоптанная посередине, упёрлась в неглубокую яму от замеса (когда-то делали саман). Вернее, она её огибала, но Андрей обходить не стал, спрыгнул вниз. И тут же пожалел: отлетела пуговка, штаны соскользнули до щиколоток, а сам он едва успел выбросить вперёд руки, чтоб не запахать носом — Ёк-карный бабай! — сорвалось с языка услышанное недавно и чем-то понравившееся ругательство сержанта, — Ах ты ж подлая!
От «подлой» — верхней пуговицы на пояске осталась лишь сердцевина, крест-накрест прихваченная нитками… Положение, что и говорить, не из приятных: до хаты ещё далековато. Оглядевшись вокруг, нет ли кого поблизости (кроме штанов, на нём ничего больше не было), он вылез из злополучной одёжки, вытряхнул из правого кармана содержимое: на дне, под гравием, находился складной ножик. Надев снова и сложив боеприпас обратно, просунул левый край пояска в петлю правого, проткнул в нужном месте дырку и закрепил найденной поблизости палочкой. Пару раз подпрыгнул — штаны держались надёжно.
Отойдя от замеса, увидел вдруг козу, привязанную на длинной верёвке рядом с тропой. Удивился: несколько минут назад её тут не было. Как и на всём этом кутке. Чёрной масти, лохматая, рога загнуты назад и в стороны. «Чья ж это худобина?» — подумал он.
Худобина тоже его заприметила и, дожёвывая пучок зелени, сделала несколько шагов навстречу.
— Бяша, ты откуда свалилась? — заговорил он к ней приблизившись. — Чё зенки вылупила — не ведьма, случайно? — вспомнился ему «Бежин луг» из школьного учебника.
В ответ «бяша», тряхнув рогами, попятилась для разгону, задиристо бекнула и устремилась к нему. Не ожидавший такой её выходки, он, тем не менее, успел отскочить; при этом штаны, отягощённые содержимым карманов, опять соскочили вниз.
— Ах ты, чучела пузатая! — проворчал он, возвращая одёжку на место. С жиру бесишься? А я вот тебя проучу, чтоб наперёд неповадно было!
Снял с шеи рогатку, вложил в кожатку заряд. Собирался «вмазать между глаз», но, прицелившись, передумал: а ну как попадёт не в лоб, а в глаз? Перенацелился в заднюю ляжку, зайдя сбоку. Стал растягивать резинки — и как раз в этот момент слух резанул надсадный вой пропеллера. Глянул вверх — над хутором завязывался воздушный бой.
Впрочем, вряд ли это можно было назвать боем: два куцекрылых мессера поочерёдно атаковали самолёт с красными звёздочками, а он лишь увёртывался от их пулемётных очередей.
— Двое на одного, ах вы ж гады! — обругал их Андрей и, забыв про козу, стал из-под ладони наблюдать за происходящим в воздухе. — А наши дажеть не отстреливаются… Патроны, что ли, кончились?
Толчок под зад заставил оглянуться.
— Обратно ты? Ну и подлая ж животина!
На этот раз животина с разбегу даже оборвала верёвку, отчего толчок получился ослабленным. Это её, видимо, не удовлетворило, а только раззадорило. Видя, что готовится к очередному наскоку, он, сунув рогатку за пояс, приготовился к обороне.
— Давай-давай, посмотрим, кто кого…
Ловко увернувшись, успел схватить за рог и мигом оседлал драчунью. Хотел в наказание покататься, но не получилось: упав на коленки передних ног, промахнувшаяся жалобно заблеяла, словно прося пощады. Или зовя на помощь, которая и не замедлила подоспеть.
— Дурак ненормальный, не видишь разве, она же котная! — услышал он голос вероятной хозяйки, тоже непонятно откуда вдруг взявшейся.
— А хуть бы и котная! Нехай первая не нападает, — стал было обосновывать свои действия Андрей. Но заступница изо всех сил толканула так, что он очутился на земле. Схватившись за обрывок верёвки, заслонила животное собой.
Поднявшись и, для устрашения, грозно насупившись, неудавшийся джигит подступился к ней вплотную:
— Щас как вздую, не посмотрю, что девчонка! Повтори-ка, как ты меня обозвала…
В двух шагах скорее с вызовом, чем с испугом, перед ним стояла ровесница — кареглазая, лицо слегка в веснушках, с косичками вразлёт, одета в белое ситцевое платье с голубыми полосками по подолу и рукавам, незнакомая. «Не боится, подлая, — подумал он. — Дёрнуть, что ли, пару раз за косы?»
— Извини меня, пожалуйста… я погорячилась, — признала та поспешность рукоприкладства.
— Погорячилась она! Смотри мне, веснущатая… — не стал он её наказывать.
Веснущатая окинула его любопытно-презрительным взглядом: босой, штаны на палочке, голопузый, дочерна загорелый, нос облупленный — точь-в-точь беспризорник… Затем взгляд скользнул выше головы — и глаза её испуганно расширились.
— Глянь, загорелся… кажется, наш…
Андрей оглянулся и, посуровев лицом, процедил со злостью:
— Всё-таки подбили, гады…
Пока шла перебранка из-за козы, в небе над хутором случилось то, чего и можно было ожидать от самолёта, неспособного защищаться: оставляя за собой серый хвост дыма, всё ещё преследуемый вражескими истребителями, он резко терял высоту…
Притенив глаза ладонью, Андрей весь превратился в зрение. Вот от горящего самолёта отделился какой-то предмет. Несколько секунд — и над ним, словно огромный ярко-белый зонт, возник, сразу замедлив падение, купол. К нему тут же устремился мессер, стреляя и едва не задев крылом…
До боли закусив губу, Андрей молча переживал; девчонка, потрясённая жутким зрелищем, сдерживать эмоции не умела.
— Мама, это что ж это такое! — теребила она обрывок верёвки. — Это ж бесчеловечно — добивать под парашютом… Скорее спускайся же! — почти кричала она, словно это могло как-то помочь делу.
Между тем парашют скрылся из виду, стервятники растворились в белесой дымке. Андрей почувствовал резкую боль в плече и, прихлопнув, нащупал здоровенного овода.
— И как раз же над лиманом! — заметил вслух, досадливо взмахнув рукой; овод, выскользнув из пальцев, взмыл кверху. — А ведь там без лодки ему хана. Нужно поспешать на выручку!
Хозяйка козы, слышавшая эти его мысли вслух, шагнула к нему, но Андрей, даже не глянув в её сторону, подхватил карманы и заторопился прочь. Девчонка раскрыла было рот, чтобы окликнуть, но замешкалась. Затем, бросив козу, догнала его и схватила за руку:
— Можно и мне с тобой?
— Токо тебя мне и не хватало! Пусти, чё прицепилась? — дернул руку, но та не отпускала.
— Пожалуйста, очень тебя прошу!.. Может он ранен, понадобится перевязка, а я умею делать по-настоящему… Возьми, а?
— Отвали, ёкарный бабай! Сказал — нет. — Выдернув руку и не желая продолжать разговор, направился дальше, но не успел сделать и четырёх шагов, как та «прицепилась» снова. Правда, без рук: зашла спереди и, пятясь, продолжала клянчить:
— Ну пожалуйста!.. Пойми же: его могли ранить, и даже тяжело… Потом ведь и сам пожалеешь, что не взял. У меня и бинты имеются, и всё необходимое.
Настырность, эти её жалобные «ну пожалуйста», а также весьма убедительные доводы поколебали андрееву непреклонность. «Конешно, лучше бы прихватить Мишку или Бориса, они и живут-то через огород отсюда, — размышлял он. — Но вдруг пацаны уже умотнули на ерик купаться. А насчёт ранения она, конешно, права».
— А ты это самое… не брешешь? Ну, насчёт бинтов и вобще. — Андрей остановился и внимательно посмотрел ей в глаза.
— Ей богу не вру! — заверила она горячо.
— Ха, тоже мне, забожилась!.. Дай честное пионерское.
— Честное пионерское! — охотно перебожилась та. — Не раз приходилось перевязывать раненных красноармейцев.
— Это ж где?
— В Краснодаре, маме в госпитале помогала. Берёшь?
— Ла-адно, подумаю… может, и вправду пригодишься. Как звать?
— Меня — Марта. А тебя?
— Ну и имечко дали! — хмыкнул он. — Меня можешь звать Андроном. Козу тут привяжешь или отправишь домой?
— Она ещё дороги не найдёт, надо бы отвести.
— А это далеко?
— Нет! Вот наш огород, — показала на самый крайний.
Огород и его бывшие хозяева Андрею были знакомы: тут жил его приятель Рудик, и вот эту кукурузу, спускающуюся до самых верб, весной помогал садить. Правда, Рудик с матерью неожиданно съехали, неизвестно куда и почему… Оказывается, в их хате уже новые жильцы.
— А почему это он стал ваш — купили, что ли?
— Вообще-то он дедушкин. А мы с мамой живём у него, уже больше недели. Не знал?
— Слыхал… Веди свою дерезу, а я забегу на пару минут домой, тут недалеко.
— А ты меня не обманешь?
— Не по-онял…
— Не уйдёшь без меня, — поправилась Марта. — Может, не стоит терять времени, сам ведь сказал — надо поспешать.
— Не бежать же в таком виде, — щёлкнул он себя по загорелому до черноты животу. — Там знаешь, скоко комарья! Тебе тожеть без штанов и длинного рукава делать в лимане нечего — заедят. И поторопись: свистну, но ждать не стану!
Предупреждение показалось чересчур категоричным и Марта, убоявшись, что он может передумать и не зайти за нею вообще, решила предложить свой вариант, для чего пошла на небольшую хитрость:
— Андрон, пожалуйста, помоги мне дотащить Машку; она такая норовистая… я из-за неё не успею собраться. Очень тебя прошу!
— Начина-ается! — упрекнул недовольно. — Дорога каждая минута, а ты со своими машками…
— Если тебе домой только из-за рубашки, то можешь не заходить: я найду что-нибудь и для тебя, — предложила она.
Андрей глянул на солнце — оно уже близилось к полудню — и согласился: — Ну, ежли так, то — пожалуй. Вот что: я с Машкой управлюсь один, а ты — дуй и пошевеливайся!
Коза, словно понимая, что говорят о ней, подошла к хозяйке и жалобно проблеяла, облизываясь.
— Пить захотела? Потерпи немножко, моя красавица. — Подняв остаток верёвки и передав Андрею, новоявленная помощница убежала собираться.
Против ожидания, «норовистая» послушно следовала сзади. На подходе, завидев издали сарай, так дёрнула верёвку, что та выскользнула из руки, — бедолаге не терпелось, видимо, скорее укрыться и от назойливых насекомых.
Тропинка, по которой поднимался Андрей, пролегала по меже между огородом и полосой акациевой поросли, неширокой и негустой, с выкошенной между деревцами и сложенной в копёшки травой. Сразу за акациями — хуторской просёлок, за ним, до самой гравийки простиралось подсолнуховое поле.
У самого двора заросли акации словно бы расступились, дав место небольшому кудрявому терновничку. Сюда и завернул Андрей разгрузить карманы.
Нескольких кур, устроившихся здесь в холодке, появление постороннего нимало не потревожило: они продолжали шебуршиться в небольших углублениях, обдавая себя измельченным чернозёмом. Их предводитель и охранник — высокий, стройный петух с пышным малиновым гребнем и длинными серёжками, в ярчайшем оперении — встретил чужака настороженным «кок-коко!», похожим на «стой, кто идёт!». Затем смело подошёл ближе, посмотрел одним оком, другим и громко прокудахтал. Андрей понял это как приветствие.
— Здорово, Петя, здорово, — сказал, выстругивая более приличную чеку для закрепления штанов. — Ух, какой ты красавчик!
В ответ на похвалу красавчик приблизился на расстояние вытянутой руки и кудкудахнул ещё раз. В это время во дворе показалась Марта, и он, сняв с шеи прящ и повесив на сучок, выбрался наружу. Петух недовольно пробормотал что-то вслед.
Посреди двора, огороженного от улицы плетёным ивовым забором, завис на четырёх деревянных столбиках и печной трубе, увенчанной старым, без дна, ведром, покатый навес летней кухни. Под ним на столике Андрей увидел другое ведро — новое и ещё мокрое, и теперь только ощутил шершавую сухость во рту.
— Ты чё, так и пойдёшь? — удивился, найдя помощницу непереодетой; поискал глазами кружку, — А чем бы напиться?
— Напейся из ведра, Машка не брезгливая. Она уже в сарае?
— Ага, — переведя дух, подтвердил, напившись. — Вырвалась и галопом в холодок. А ты здря меня не послушалась!
— Правильно не «зд-ря», а «зря», — поправила она произношение. — Если ты насчёт длинного рукава, то не беспокойся: прихватила и себе, и для тебя. Держи, — передала хозяйственную сумку. — Напою дерезу — и бежим.
— Мама знает, куда ты и с кем?
— Её нет дома, а дедушка разрешил и даже похвалил.
— Я заскочу к нему на секунду, — предупредил Андрей, но в это время тот сам показался из сеней; подслеповато щурясь, приблизился.
— Здрасьте, деда! — первым поздоровался гость.
— Это ты, Андрюшка… А я сразу не понял, о каком Андроне речь. Тебя и не признать — так загорел да возмужал. Здравствуй, — подал он руку — Отчего не заходите?
Годы-невзгоды густо посеребрили голову, оставив нетронутыми лишь густые брови, из-под которых всё ещё молодо улыбались добрые голубые глаза. Под этим сызмалу знакомым взглядом Андрею стало неловко: вспомнил, что давно собирался, да так и не удосужился навестить уважаемого человека.
У старика было довольно необычное имя — Готлоб. Взрослые добавляли к нему слово «дед», а мальчишки звали просто Деда. От родителей Андрей знал, что Деда с дочерью, зятем и внуком Рудиком живёт на хуторе Дальнем со дня основания здесь лет двенадцать тому назад его южной окраины. Эта смешанная (отец у Рудика русский), но очень дружная семья в числе других переселенцев из Ставрополья прибыла на Кубань накануне коллективизации. Вместе с казачьей беднотой создавали колхоз, назвав его «Путь вперёд». Жизнь поначалу не заладилась: страшная голодовка 1933 года унесла многие жизни, особенно детские. Андрею, Рудику и ещё четверым их сверстникам суждено было выжить.
Перед войной Деда несколько лет сторожил колхозный сад, и ребятам дозволялось приходить сюда «помогать». Весёлое, счастливое было время! Фрукты, ягоды с весны и до поздней осени — ешь хоть лопни. А что за удовольствие носиться в догонялки, по-обезьяньи сигая со ствола на ствол, с ветки на ветку в высоких густых фундуках!
И после дружба его с ребятами не прекращалась: располагая свободным временем пенсионера, мастерил ребятам ивовые кубышки для рыбалки в лимане, раколовки (ерик кишел раками), научил многих вязать сетки. Если добавить к сказанному, что Деда любил ребят наравне с родным внуком, станет понятно, почему гость чувствовал себя смущённым.
— Собирались, Деда, да всё как-то… — произнёс он виновато.
— А я, признаться, по вас крепко соскучился…
— Дедушка, мы, может, задержимся, — вернулась с пустым ведром Марта, — так ты скажи маме, пусть не беспокоится, ладно?
— Скажу обязательно. Желаю успеха!
Последние слова сказаны были вдогонку, и ребята скрылись за калиткой. Сразу за нею — неширокая пыльная дорога вдоль всего хутора, за нею — доцветающее подсолнуховое поле, за которым в плавнях — в камыши или даже в воду плёса — опустился на парашюте лётчик. Жив ли ещё? ранен и куда именно? эти и другие вопросы волновали и тревожили обоих спасателей.
— Лиман — это далеко отсюда? — поинтересовалась Марта.
— С километр, не меньше. Токо вот где он приводнился…
— Хорошо, если б не приводнился, а приземлился бы на берегу.
— Рад бы ошибиться, да токо навряд: слишком хорошо знакомы эти места.
Сразу за двором, где дорога свернула в сторону балки, слева показался в подсолнухах проезд. Неширокий, но достаточно наторён: по весне возили сено. А прошлой ночью по нему протопало немало ботинок и конских копыт, которые основательно прибили сорную растительность. Свернув в него, Андрей предложил:
— Не возражаешь, если пробежимся? Хуть мы и сэкономили время, а чем скорее начнём искать, тем лучше.
Какое-то время она бежала с ним наравне, но недолго. Заметив, что отстаёт, притормозил и он.
— Ты чё, уже и выдохлась? Дай руку, — предложил помощь.
— Не могу больше, сердце выскакивает… немножко передохнём.
Видя, что она и впрямь еле переводит дух, недовольства высказывать не стал, только заметил:
— А мне хуть бы что.
Зашагал рядом, помахивая сумкой и поглядывая в её сторону. Марта, расстегнув спереди платья несколько пуговиц, подула в пазуху, достала оттуда носовой платок («карман там у неё, что ли? «— подумал он) и стала промокать обильно выступившие росинки на разгоряченном лице.
Идти молча было как-то неприлично, но Андрей решительно не знал, о чём можно говорить с незнакомой девчонкой; молчала и она, тоже, возможно, находясь в подобном затруднении. Наконец, ему пришла на память сценка в терновничке, и он сказал:
— Петух у деда красивый… Ты заметила?
— Конечно! Тебе он тоже нравится? — оживилась она.
— А то! Такого на всём хуторе поискать. А ещё он смелый и вежливый. — Видя, что она слушает заинтересованно и со вниманием, охотно продолжил найденную тему для разговора: — Я был зашёл в тёрен, что напротив груши, карманы освободить. Ну, и он тут с курами в холодке… Делаю своё дело, вдруг слышу: «Куд-кудах!». Глядь, а он совсем рядом. Важно так посмотрел на меня, неначи вспоминает: где это я тебя видел? Хвост дугой, перья так и переливаются, будто райдуга после дождя…
— Надо говорить «радуга», без «и» краткого… Это он у тебя угощения просил, — пояснила Марта, улыбаясь; она тоже всё дольше и смелее задерживала на собеседнике взгляд. — Его научил выпрашивать дедушка, но он и другим проходу не даёт. Стоит только мне во дворе присесть, тут как тут: «Куд-кудах, дай вкусненького!». И какой умница: возьмёт из рук угощение — и сразу зовёт подружек, сам никогда не съест. Настоящий рыцарь! Я его очень люблю.
— То-то он и обиделся, когда я уходил, не угостив: что-то бормотал мне в спину. Ну ты как, отдышалась?
— Ой, бежим, уже отдохнула, — спохватилась она. — Только не очень быстро, ладно?
Держась несколько впереди, Андрей стал оглядываться чаще — якобы для того, чтоб не отрываться, а на самом деле — из интереса, каковой начинала вызывать в нём новая знакомая. Оказывается, вовсе она не «подлая», как обозвал он её про себя там, в балке. Скорее, дажеть красивая. Токо больно уж нежная с виду. Сказано — городская: проходит лето, а она загореть не успела…
Марта, полагая, что привлекает внимание своим жалким видом, в ответ смущённо улыбалась, говоря про себя: не думай, я вынесу это испытание — и бег, и жару, и любые трудности!
— А ты чё, в марте, что ли, родилась? — пристроившись о бок и намеренно сбавив темп, спросил он.
— Почему так решил?
— Да у нас это самое… тёлочку корова в марте привела. Ну, мы её так и назвали — Марта. Я и подумал…
— Скажешь, тоже!.. — улыбнулась она. — Просто мне дали чисто немецкое имя.
— Поп, что ли?
— Почему? Мама с папой. А они по национальности немцы.
— Ка-ак — немцы?.. Ёк-карный бабай! — Андрей резко остановился. — Ну и лоп-пух же я!
Марта, проскочившая немного дальше, вернулась озабоченная:
— Что случилось? Что-нибудь забыл?
— Наоборот — вспомнил, — холодно произнёс он, поставив сумку к ее ногам. — Забери и возвращайся: тебе со мной нельзя.
— Нельзя? Но почему-у?
— Долго объяснять… Вобщем, я передумал.
Ошеломлённая неожиданным поворотом дела, Марта, казалось, лишилась дара речи. Недоуменно смотрела, как, набычившись, удаляется её ещё мнуту назад дружелюбно улыбавшийся единомышленник, к которому она успела проникнуться благодарностью и симпатией. Какая ж муха его укусила вдруг?..
Но вот он остановился, словно одумавшись. Помедлив, развернулся и, глядя под ноги, ускоряя шаг, затрусил в обратную сторону. Пробегая мимо, на неё даже не глянул. На этом её оцепенение кончилось, она кинулась следом, решительно остановила:
— Объясни же, что случилось… Не молчи! Отказался от поиска?
— Ничё не отказался! Вот токо сбегаю за рубахой.
— Но ведь я же взяла и для тебя! …
— Ну, это самое… Вобщем, я ещё сёдни не завтракамши.
— Я и поесть прихватила.
Запас причин был явно исчерпан, а истинную называть не хотелось. Выручили босые ноги — именно их разглядывал он всё это время:
— Кроме того, я забыл про обувку, а там знаешь, скоко разных колючек!
— Почему ж не сказал мне во дворе? — не сдавалась и она. — И я не сообразила, а дедушкины чувяки были бы тебе в самый раз. Хочешь — сбегаю? Сам ведь сказал: дорога каждая минута.
Не хотелось Андрею иметь дело с незнакомыми немцами, но все возможные отговорки были исчерпаны. Ничего не оставалось, как выложить правду в глаза.
— Ежли хочешь знать, то я немцам не доверяю.
— И мне тоже? Но почему? — искренно удивилась она.
— А ну как вы заявились к нам на хутор, чтоб шпионить на фрицев, когда придут.
Пальцы, крепко державшие его руку, враз разжались, лицо потускнело, на глазах сверкнули слёзы. Спросила голосом, дрожащим от обиды:
— Ты так решил потому, что мы одной с ними национальности? Раз серый, значит, волк — так по-твоему?
— Ну, не совсем так. Про тёть Эльзу, что жила до вас, я бы плохо не подумал, хуть она и немка. Их все у нас знают. Но они с Рудиком куда-то делись, а на их месте — вы. Почему?
— Тётя Эльза — мамина сестра, они даже двойняшки… — Слёзы капали с её ресниц, растекались по щекам, но Марта говорила без всхлипываний, лишь подрагивавшие губы выдавали глубину её обиды, — Они уехали потому, что на них могли донести фашистам. Или ты не знаешь, что дядя был у вас секретарём партячейки?.. А там, где они сейчас, их никто не знает.
Андрей вспомнил, что отец Рудика действительно был, как говорили, партейный; он в числе первых ушёл добровольцем на войну. Ежели всё так, как она говорит, то на этот раз погорячился он.
— А твой где отец? — поинтересовался, заметно подобрев.
— Мой папа тоже красный командир и воюет против фашистов!
— Ну, ежели так, — пошёл на попятную, — то извиняюсь. Беру свои слова назад.
Однако теперь Марта, отвернувшись, заходилась энергично всхлипывать, тереть глаза и шмыгать носом.
— Здрасьте, опомнилась!.. — Дотронулся до плеча, принялся успокаивать:
— Не плачь. И не обижайся: не за себя я испугался, за него. Больше не буду, слышишь? Идём, а то зря время теряем. Видишь, я уже выражовываюсь правильно.
— А как же с обувкой? — улыбнувшись сквозь слёзы и перестав всхлипывать, напомнила она.
— А, ерунда, не привыкать!
Обидное недоразумение было так же скоро забыто, как и возникло, а потерянное время решили наверстать бегом. Большая половина проезда оставалась уже за спиной, когда Марта начала-таки отставать; он подал руку:
— Потерпи, вон уже и край виден. Выскочим из этого пекла, а там должен быть свежий ветерок.
Но добежать до краю не получилось: в нескольких метрах от него Андрей сам, выронив её ладошку и несколько раз прыгнув на одной ноге, сел вдруг посреди дороги.
— Что с тобой, ногу подвернул? — испугалась Марта, видя, что держится за стопу.
— Да вот, ёкарный бабай!.. — показал осколок бутылочного стекла; из подушечки большого пальца сочилась кровь. — От же не везёт — обратно задержка!..
— Зажми ранку и подержи, я — сейчас, — посоветовала она, схватив сумку. Порывшись, достала из неё свёрток, быстро развернула — в нём оказались бинты, ватные тампоны, пузырёк с коричневым содержимым и небольшие блестящие ножницы.
— Ну ты, Марта, даёшь! — удивился пострадавший. — Откуда у тебя всё это?
— У меня мама доктор. Отпусти-ка палец. Ну вот, уже и не кровоточит. — Смочив ватку потом с его лица, протерла ею пораненый палец и смазала порез йодом; ловко забинтовав, стала укладывать принадлежности.
— Если почувствуешь, что повязка ослабла, сразу скажи: надо, чтоб не слетела, а то всё насмарку. Не забудешь? — предупредила, управившись.
— Постараюсь. Спасибо. Это самое… — окинул её взглядом. — У тебя что заместо платья?
— Шаровары до щиколоток и кофта с длинным рукавом.
— Не белая, случайно?
— Голубая, а что?
— Белое сильно заметно, а это в нашем деле нежелательно. Давай-ка заодно и переоденься.
— Ты прав. — Доставая свои вещи, сообщила: — А тебе с длинным рукавом ничего не нашлось, кроме вот из маминого гардероба. Пройдёт? — показала нечто цветастое и на пуговицах спереди.
— Впольне. Токо я надену потом, а то жарко.
— Слово «вполне» пишется и произносится без мягкого знака, — поправила она уже в который раз произношение и добавила: — А ещё я положила тебе трусы.
— Это, как его… Тожеть мамины?
— Такое скажешь! — глянула осуждающе. — Рудькины остались. Где-то и рубашка лежит, но я в спешке не нашла. — Натянув шаровары и задирая платье, попросила: — Отвернись на минутку, — и, не дожидаясь исполнения просьбы, стала стаскивать через голову.
Андрей отвёл глаза, но успел заметить «карман» для носового платка: уголок его торчал из промежутка между чашечками бюстгальтера. Похвальная, казалось бы, предусмотрительность помощницы, «положившей» трусы, поначалу оценена им не была: упоминание о них говорило за то, что его видели голозадым… Конешно, он сам виноват, что так оплошал, но всё-таки неприятно, подумалось ему. А просьба отвернуться вызвала даже чувство оскорбленного самолюбия: «Сама, небось, подглядывала, а тут в ливчике — и отвернись. Цаца какая! «Но это он подумал, а сразу ответил так:
— Пож-жалста! Не больно интересно. Не видел я, что ли, ваших сиськов, что ли!..
— Интересно, где ты насмотрелся «сиськов»? — сделала она ударение на последнем слове; однако объяснять правильность произношения в этот раз не стала.
— Мало ли где! Но я сподтишка не подглядывал, как некоторые…
— Ой, Андрошка, я сразу же и отвернулась — ей… честное пионерское! веришь?
— Ла-адно, поверил… Ты давай поторапливайся.
— Я уже готова, идём. — Заметив, что слегка прихрамывает, спросила участливо: — Болит?
— Нисколько. Это самое… Я имя своё сказал тогда неправильно: меня, вобще-то, звать Андреем. А Андрон — кличка.
— Правда? А почему именно такая?
— Да цыган был у нас в колхозе с таким именем, кузнец. Черноволосый да кучерявый, как я. Но ты не подумай, он появился, когда мне было уже лет десять. Просто батя у меня тожеть чернявый.
— Я, признаться, приняла тебя за цыганчонка… А это твоё «ёкарный бабай» считала за цыганское ругательство.
— Ничё не цыганское и не ругательство, просто приговорка такая.
— Между прочим, неприятная на слух: так и кажется, что ты хочешь заматериться.
— Ну, ежели так кажется, то я больше и не буду, — пообещал Андрей.
Эта ли его уступчивость, или тому появились уже и другие причины, но Марта, поймав его взгляд и улыбнувшись, сказала с задоринкой:
— Ты начинаешь мне нравиться… как любила говорить одна моя учительница. — Но уточнила: — За чуткость, справедливость и ещё — что слушаешься старших.
«Тожеть мне, старшая! — подумал он про себя. — Обещал заради уважения. Потому как и ты мне начинаешь».
Подсолнухи кончились, дышать и впрямь стало легче. Хотя солнце, подбиравшееся уже к зениту, калило на полную августовскую мощь, но долетавший со стороны плавней свежий ветерок, обдувая, приносил какую ни есть прохладу.
Торная дорога растворилась в спелой степной траве. От неё влево ответвилась тропинка, в конце которой виднелось кладбище с потемневшими от времени деревянными крестами, поросшее сиренью и небольшими фруктовыми деревцами. Обогнув его справа, со стороны гравийки, ребята вышли в открытую степь.
— А мы с тобой не первые, кто поспешил на выручку, — заметила Марта немного в стороне мужчину в тёмном картузе и белой рубашке; тот тоже их обнаружил и остановился, поджидая.
— Наверно с час потеряли с этими задержками… — Всмотревшись, Андрей нахмурился: — Интересно, что делает тут эта дылда. Не поверю, что он поспешил на выручку!
— Ты его знаешь?
— Знако-омы… Возьмём правее, не хотел бы и из-за него время терять.
— Идет нам наперерез. Мне боязно, — призналась она.
— Да ну, глупости! Не боись.
С ними сближался всего лишь рослый парень — узкоплечий, белобрысый, лет двадцати; из-под лакированного козырька казацкой фуражки времён гражданской войны выбивались вихры чуба; верхняя губа и подбородок поросли светлым пушком, ещё не ведавшим бритвы; левый глаз с прищуром, придававшим продолговатому лицу насмешливое выражение.
— Це ты, Андрон, — заговорил первым, встав спереди так, что пришлось остановиться, — А я дывлюсь: шо за парочка — Сэмэн та Одарочка? — Перевёл взгляд на Марту: — Чия така овэчка?
— Сам ты баран! — Андрею не нравилась бесцеремонноить, с какой тот разглядывал её сверху донизу; встал между ними. — Отвали, чё уставился, как кот на воробья…
— А шо, низ-зя? — Перевёл взгляд на чеку вместо пуговицы, скривил в ехидной ухмылке тонкие губы. — И куды ж це вы направляетэсь?
Хотел отпаять позаковыристей, вроде «на кудыкало, куда тебя дерьмо кликало», но сдержался: не след задираться; сказал:
— На лимане, слыхал, ожины навалом поспело. А ты чё тут шляешься?
— Хто, я? Парашуту шукаю.
— Какую ещё «парашуту»?
— Та хиба нэ бачилы, як нимци яроплана сбылы?
Передёрнув плечом, как если бы понятия не имел, о чём речь, заметил насмешливо:
— Тебе во сне, что ли, приснилось?
— Це вы, мабуть, проспалы! — Снова пройдясь по Марте, осклабился: — Вона ничогэнько — и на мордочку, и цыцькы, я б тэж прозивав.
— Ты, кугут, говори да не заговаривайся!
— А то — шо? — шагнул с кулаками, — ща як кугутну по зубах!
— Попробуй… — передав сумку Марте, Андрей воинственно сунул руку в карман. — Как бы твои не вылетели! Будешь иметь дело ещё и с Ваньком.
— Та плював я на твого Ванька! — огрызнулся долговязый, утратив, однако, грозный вид и зыркнув по сторонам; затем развернулся и побрёл прочь. Андрей взял сумку, глянул на солнце, проворчал сердито:
— Как не одно, ёк… так другое! Теперь этого Гапона поднесло…
— Странный тип! — осуждающе заметила она. — Не о человеке беспокоится, а о каком-то парашюте… Это у него имя такое — Гапон?
— Прозвище. Фамилия Гаповский — поэтому. А вобще звать Лёха. — Андрей оглянулся. — Зырит в нашу сторону, морда. Пробежаться бы, но ещё подумает, что удираем да увяжется следом, вражина…
— Ты, вижу, его крепко недолюбливаешь.
— Их все пацаны не любят. И на нашей, и на той стороне хутора.
— Их — это ещё кого-то?
— Два дружка у него закадышных. Тожеть кулацкие сынки.
— Кулацкие? — удивилась Марта. — Я слыхала, будто всех кулаков здешних выслали.
— Не всех. Эти, когда начиналось раскулачивание, прикинулись добренькими: сдали инвентарь и худобу первыми да ещё и других подбивали — чтоб выслужиться. Мама рассказывала. Такими, говорит, активистами стали, что куда там! А как пошёл слух, что фрицы скоро и сюда достанут, так они вдруг вспомнили, что родом из казаков да ещё и богатых. Надеются обратно стать господами.
— Так вслух и говорят?
— Старые пока помалкивают, но, видать, разговоры промеж себя ведут. Потому как их балбесы больно носа задрали: мы, мол, тут законные хозяева, а вы — так, безродные-иногородные.
— А как другие, тут ведь большинство — местные казаки?
— И большинство — бывшая голытьба. Эти жалеют: токо вроде жисть наладилась, а тут эти гитлеровские фашисты. А с пацанами здешними у нас никакой вражды.
— Из-за чего ж с этими враждуете?
— Мы, вобще-то, никого первыми не задирали. Но сдачи давать приходилось. За что? Ну, например, идёт кто-нибудь из наших один с ерика, тащит ведро раков. Балкой. А тут они втроём. Отнимут и улов, и раколовки, да ещё и отдубасят ни за что.
— У этого Лёхи, заметила, глаза какие-то разные.
— На правом бельмо. И левым вроде плохо видит, потому и на войну не забрали. А опередил нас ещё и знаешь, почему? На велике прикатил; на весь хутор токо у него и имеется.
— Я об этом догадывалась: видела прищепку на штанине. А почему так получилось, — после паузы продолжила она расспросы, — что у вас разные диалекты: ты говоришь хоть и не совсем грамотно, но по-русски, вернее — по-городскому, а он — по украински.
— Это не украинский язык, а хохляцкий. Тут все так балакают. Я тожеть до школы балакал, но потом не захотел. Да и учительша требовала, чтобы в школе говорили токо по-городскому. Дажеть отметки снижала по русскому. И правильно делала! Ежели ты русский, то и говорить надо, как наши великие предки — Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Ты с этим согласна?
— Конечно! Свой язык надо уважать и не коверкать.
— А вот ты на своём родном говоришь?
— У меня два родных: немецкий и русский. И обоими я владею в совершенстве.
— Насчёт русского — я заметил. Правильно делаешь! — одобрил он.
— А ожина, которую мы, якобы, идём собирать, — это что?
— Разве не знаешь? — удивился он. — Малину-то хуть видела? С виду такая же ягода, токо чёрная и покислей.
— Андрюша, — спохватилась она, — ты же говорил, что ещё «не завтракамши»! Я прихватила большущий пирог — хочешь?
— Вобще-то, — сглотнул слюну Андрей, — я точно не успел сёдни позавтракать… Верней, с утра есть не хотелось. Но ты ведь прихватила для лётчика.
— Хватит и ему. И потом… может, ещё и не понадобится, а ты впроголодь.
— Знаешь что, не накаркивай! Понадобится. Но ежли большой, то давай немного отрежем. И ты поешь, а то до вечера далеко и там будет некогда.
Пирог оказался удивительно вкусным. Да и мог ли он быть другим: из белой пшеничной муки, что на хуторе давно уже большая редкость; с яблочно-грушовой начинкой, в сладких янтарных подтёках. Пока половину уплетнули, не заметили, как и к лиману подошли.
По весне плавни переполняются вешними водами, затопляя прилегающие земли, и только к августу постепенно входят в берега. Поэтому несмотря на сушь и жару подступы к лиману обычно бывают зелёные, непролазно-буйные, цветущие. От обилия и разнообразия полевых цветов у Марты разбегались глаза — хотелось набрать букет; но было не ко времени, и она старалась не показывать, как вся эта красота её волнует.
Вот она, ожина, — показал Андрей на грозди крупных розовых ягод. — Видишь, скоко её тут! Но спелой пока мало.
Марта сорвала несколько штук, разжевала, скривилась:
— Кислые, аж Москву видать!.. А до лодки ещё далеко?
— Уже, считай, пришли. Видишь кусты белолиста? Напротив них спрятана в камыше. Токо вот бинт, кажись, еле держится.
— Покажи-ка! Вовремя предупредил. Присядем, — потребовала она.
— Осталось метров сто… может, на месте, в холодке?
Устроились в холодке. Сняв повязку и осмотрев порез, заметила:
— Ты знаешь, никаких осложнений. Я боялась худшего: всё-таки на раздражимом месте. Но на всякий случай ещё раз смажем йодиком и сменим повязку.
Она занялась пальцем, а ему представился случай хорошенько её разглядеть. В прошлый раз довольно неприятно щемило и дёргало в пальце, и он лишь смотрел на её работу. Да и сидела так, что виден был разве что затылок. Тогда он отметил, что волосы у неё скорее каштановые, чем рыжие (как показалось в балке); заплетены в две косички, сложенные пополам и связанные вплетёнными в них голубыми лентами. Они смешно торчали в стороны, напоминая уши её задиристой Машки.
Теперь палец уже не болел, Марта сидела напротив и почти не поднимала глаз — рассматривай, сколько хочешь. Вообще-то на девчоночьи лица он пока что не засматривался: и неприлично, и не очень-то интересно. Разве что Варька: с нею, бывало, заключали спор, кто кого пересмотрит, не мигая; но она — соседка, вместе росли, вместе ходили в школу, пасли напару череду. Сравнивая теперь её лицо с мартиным, нашёл большую разницу не в пользу соседки, хоть та и считается первой красавицей на хуторе. Варька выглядит семнадцатилетней старухой, а Марта — первоклашкой; та — мызастая, коренастая, загорелая, эта — стройная, личико свежее, с ярким румянцем. Веснушки? Так их и немного, и они не ржавые, как показалось там, а скорей золотистые. У Варьки брови светлые, невыразительные, у Марты — тонкие, изогнутые, чёрные., — Не туго стягиваю? — прервала она его мысли.
— Делай, чтоб держалось покрепче, а то мне добираться вброд по куширям, может соскочить. Ты пока посидишь здесь в холодке; я, когда вычерпаю воду и подгоню лодку к берегу, позову. Это самое… достань, что ты там для меня прихватила.
Когда Андрей ушёл, она сняла кофту, постелила и легла навзничъ, заложив под голову сцепленные в пальцах ладошки. Жарко и душно. Солнце в зените, и даже небо кажется раскалённым. Ни малейшего ветерка, но, странное дело! Некоторые листья непрерывно трепещут, словно жара донимает и их. По нраву она разве что невидимым кузнечикам — они звонко стрекочут совсем рядом. Этот стрекот вплетается в неумолчный гам, образуемый многоголосьем обитателей лимана.
Вот всю эту какофонию перекрыл отдалённый глухой гул, от которого, кажется, вздрогнула земля… Близко, совсем уже рядом линия фронта. Об этом с тревогой говорили утром мама с дедушкой. О предстоящей неминуемой оккупации, о трудностях и тяжёлых испытаниях, чреватых непредсказуемыми опасностями…
Но сейчас думать об этом не хотелось. Гораздо более важным казалось другое — удастся ли отыскать лётчика? Как он там? И жив ли вообще? Она не взяла бы на себя смелость утверждать это с уверенностью. А вот Андрей и мысли не допускает, что может быть иначе; хотелось бы, чтоб так и было!
Как неожиданно и смешно всё получилось! — вернулась она мысленно на час с небольшим назад. Пришла за Машкой, присела в кустах переждать, пока пройдёт этот, похожий на беспризорника, абориген (именно так обозвала она Андрея про себя). А когда случилась с ним эта неприятность, подумала: «Сказано — деревня: взрослый, а ходит без трусов!» Но он напрасно о ней плохо подумал: она не подглядывала исподтишка, а оба раза отводила от него, голого, взгляд. Ей его нагота и подавно «не больно интересна».
Ужасно испугалась за Машку, когда он вздумал на ней покататься. Мама говорила: коза котная, её нужно оберегать, иначе козлёнок может родиться мёртвым. Потому изо всей силы и толканула. Могла б и поцарапать, если б попытался оседлать ещё раз!..
Затем горящий самолёт и парашютист заставили всё забыть. А когда он сказал, что собирается поспешать на выручку, неприязнь уже прошла. Представилось, как этот несчастный, наверняка израненный, барахтается в болоте… и в это время истекает кровью, которую, может, даже нечем остановить, перевязать раны. Она знает по госпиталю, куда брала её с собой мама: кого вовремя перевязали санитары, те выздоравливают; кого не успели — газовая гангрена и… в лучшем случае ампутация. Решила что её помощь так же необходима, как и этого мальчишки. Надо будет ему об этом сказать, а то подумает, будто напросилась в помощницы ради амурных приключений. Но это — если не повезёт с розыс…
Рассуждения прервал громкий свист. Схватилась, осмотрелась — не чужой ли кто? С берега Андрей помахал ей рукой.
В свободной от камыша бухточке, прижатая бортом к берегу, ждала большущая, как показалось Марте, трёхскамеечная лодка. Смолёные бока её блестели и были густо оклеены зелёными бляшками ряски. Налипла она и на штаны Андрея, из которых он успел отжать воду. Приняв от неё сумку, другую руку подал ей.
— Не боись, она устойчивая! И захочешь, так не опрокинешь, — успокоил, когда, став на борт и слегка накренив посудину, Марта боязливо ойкнула, — Проходи на нос, садись вон на ту скамейку. И возьми весло, будешь им отпихиваться на поворотах, — объяснил обязанности. Выдернув шест, прижимавший лодку к берегу, оттолкнулся и повёл её узким проходом.
Водная дорожка плутала среди дремотно шелестящих высоких камышовых стенок, хранивших сумрак несмотря на полдень. На ребят тут же накинулась стая тощих, злых комаров.
— Это везде по лиману такие дорожки? — поинтересовалась пассажирка, истово отмахиваясь от нахальных насекомых.
— Нет, конешно. Этой мы специально не даём зарасти — ходим по ней на рыбалку. — Он на комаров почти не реагировал.
— А разве тут и рыба водится?
— Еще как водится! Кишмя кишит. Камыш — он ведь не сплошь. Да вон уже и плёс виднеется.
Выбрались на плёс, подняв на крыло стаи пернатых обитателей. Из оставшихся одни, по мере к ним приближения, исчезали под воду, другие, помогая крыльями, разбегались по ближайшим зарослям. Кроме прибрежных, широким сплошняком тянувшихся к югу на сколько видит глаз, камышовые заросли разбросаны в виде разновеликих островков по всей обширной, на сотни метров, водной глади столь часто, что сразу и не понять, чего тут больше — открытой воды или освоенной растительностью.
— Дай-ка теперь весло мне, — сев на заднюю лавочку и отложив шест, попросил Андрей.
Изготовленное из деревянной лопаты, какими ворошат на току зерно, весло заметно ускорило ход громоздкой посудины. Несмотря на солидную массу (чтоб не рассыхалась, держали в полузатопленном состоянии), она шла резво и уверенно, в чём чувствовалось мастерство кормчего; сзади тянулся расходящийся в стороны след. Но и давалось это кормчему непросто: пот с него катился градом. Ветерок, здесь более ощутимый, нежели на берегу, не был в состоянии обсушивать взмокшего на первой же сотне метров Андрея. И он уже несколько раз зачерпывал ковшиком воду и выплёскивал себе на голову.
Марта, впервые в жизни оказавшаяся в столь «опасной» ситуации, поначалу вздрагивала при каждом качке и судорожно хваталась за борта, а казавшаяся ей бездонной пучина страшила и держала в постояннм напряжении.
— Какая тёмная под нами вода! Аж смотреть страшно… — призналась она.
— Тут, наверное, очень глубоко?
— Нет. Редко где два метра. Знал бы, что ты такая трусишка, то и не взял бы, — пошутил он.
— Не такая уж я и трусишка, как ты думаешь!
Чтобы, видимо, доказать это, она встала в полный рост (держась, однако, за верёвку, привязанную к скобе в носу лодки), с минуту осматривала окрестности и, покачав головой, села.
— Ума не приложу, как можно отыскать здесь человека, — проговорила безнадёжно. — Легче найти иголку в стоге сена…
— У меня есть кой-какие мысли на этот счёт. Магнитики, ежли хошь. На месте решим, с какого начать.
— А куда мы плывём?
— Во-он к тому островку. Он не просто камышовый, как все другие, а самый настоящий.
Островок, к которому они вскоре причалили, был, видимо, когда-то кем-то насыпан, как и многочисленные на Кубани степные курганы. Имел немногим более двадцати метров в поперечнике и возвышался над водой почти вровень с камышовыми метёлками.
Взойдя на верх, Андрей сразу же занялся изучением округи — искал, не белеет ли где на ближних зарослях парашютный купол. Вниманием Марты завладели изобиловавшие и здесь всевозможные полевые цветы. Обходя их, она каждый нюхала и внимательно рассматривала. Заметив, что внимания её удостоены и колючие шарики лопуха, он усмехнулся:
— Нос наколешь!.. Выбери два листа покрупнее, сделаю тебе козырёк от солнца. А то лицо обгорит и нос облезет, как у меня.
— Ну и пусть! Я нарочно не надела панамку — хочу загореть, как ты. Ой, кто-то смотрит в нашу сторону с холма, — сообщила она тревожно. — Это не Гапон?
— С какого ещё холма?
— Да вон же, с деревом на вершине.
— Точно… Токо это не холм, а курган. Нет, это не Лёха: рубаха темная. Но на всякий случай спрячемся.
Спустились ниже, присели на кучу прошлогоднего камыша; высокая трава укрыла их с головой. Комары зудели и здесь, он сходил к лодке за сумкой.
— Достань платье и накинь, шея у тебя вся в волдырях, — посоветовал и добавил: — Комарьё у нас ядовитое. Прошлым летом мужик рыбалил с лодки да напился и уснул. Так они его чуть насмерть не заели, на харю страшно было смотреть. Ты это… мордочку, как выразился Лёха, поменьше подставляй под солнце, загорать нужно постепенно. Ежели и дальше хочешь быть красивая.
Низко, над самыми головами, просвистел косячок селезней. На островок наведалась было длинноногая цапля, но, заметив опасность, улетела, сложив зигзагом шею. Рядом в камыше стонущими голосами перекликаются пара лысух. На куширях у лодки пучеглазые лягухи затеяли громкую перебранку: «Ир-род, ир-род!» — надувая пузыри, ругают кого-то одни; «Ур-род, ур-род! «— вторят им сразу несколько других.
Все это Андрею давно знакомо, привычно и не мешает размышлять о том, как быть дальше, что предпринять в первую очередь. Для Марты — внове: ей казалось, будто попала она в некий сказочный мир — изумительно красивый, волшебный.
— Ты о чём-то размышляешь, — нарушила она молчание. — Рассуждай вслух, может, и я чем помогу. Одна голова хорошо, а две лучше.
— Можно и вслух… Я предполагал, что парашют — он ведь знаешь, какой громадный! — будет на зелёном заметен издалека. Но его пока что не видно.
— Ты считаешь, что он опустился неподалёку отсюда и притом обязательно в камыш? А вдруг в воду…
— Что где-то здесь недалеко — в этом уверен. А что опустился не в воду — парашютом можно ведь управлять с помощью строп. Но конешно: ежли он ранен, то мог угодить и в воду… А два метра, о которых я говорил, это редко где такая глубина, утонуть не должен. Верняк освободился от парашюта, выбрался на мелководье и находится в каком-то из ближних камышовых островков.
— Может, парашют видел тот, что смотрел с кургана в нашу сторону? С высоты ведь дальше видать, — предположила она.
— Стоп, ценная мысля! Зараз встанешь мне на плечи, кругозор увеличится — может, ты обнаружишь белое пятно.
Взошли на верх. Человека на кургане уже не было. Андрей присел на корточки:
— Залазь. Не боись, я буду держать тебя за ноги. Хотя — подожди: принесу шест для опоры.
Шест воткнули в землю, Марта разулась.
— Ой, придерживай, а то коленки трясутся… Да, ты прав: кругозор увеличился. Только вот ничего белого, кроме больших цветов да птиц, похожих на лебедей, пока не вижу.
— Зараз я повернусь лицом к хутору, а ты смотри, но не на воду, а на камыши. Ну, как, — парашюта не видно?
— Нет, Андрюша, нич-чего такого…
— Ну что ж… Жаль, конешно, что и этот магнитик не помог найти иголку.
— Это был уже последний? — спрыгнув, спросила она.
— Нет, и дажеть не главный. — Андрей срезал ещё два лопуховых листа и принялся мастерить защиту от солнечных лучей, сшивая края стеблем травы; Марта присела рядом. — Я нескоко раз замечал, — рассуждал он вслух: — когда долго сидишь в лодке — ну, например, с удочками — ути подплывают совсем близко. Не токо они — и лысухи, и нырки тожеть. Но стоит громко чихнуть, как они всей стаей взмывают и уносятся в другое место. Смекаешь? Наш лётчик таким вот образом должен обязательно себя обнаружить!
— Хорошо бы…
— Это наш главный магнитик. Ну, а не сработает и он, останется последнее средство: обойти вокруг зарослей, покричать, посвистеть; услышит — откликнется. Как думаешь?
— Не знаю… Как ты, так и я, — надо же что-то делать.
Она до крови расчесала ноги выше щиколоток, на что Андрей заметил: — Можно подумать, что тебя покусали осы. Натяни шаровары пониже, а то больно по вкусу пришлась нашим комарикам.
— Тобой они тоже, между прочим, не брезгуют. У тебя разве после них не чешется?
— Не так, чтоб очень. У нас, наверно, выработалось на них противоядие. Но у меня имеется и кой-что другое. — Поднялся, сдвинул охапку старого камыша и извлек кусок дернины. Из углубления достал крышку от выварки, затем резиновые сапоги. — Они хуть и дырявые, но ноги от комарья спасают.
Становилось невыносимо жарко, заливал пот. Вид у Марты стал довольно жалкий, и он спросил:
— Небось, и не рада уже, что напросилась в помощницы?
— Я, наверное, на мокрую курицу похожа? Нет, нисколечко не жалею.
— Ну и хорошо. Дальше сделаем так. Отсюда, с вершины курганчика, всё видно, как на ладони. Ты станешь вести наблюдение со стороны хутора, садись спиной к солнцу, чтоб не пекло в лицо. А я — от гор. Задача такая: быть всё время начеку и вовремя заметить, откудова взлетят хотя бы пятеро-шестеро утей. Тут они летают часто, но которые вспугнутые, те обычно ещё и крякают.
— И долго будем так вот ждать?
— Надо бы не меньше двух часов. До вечера ещё далеко, часов пять останется и на поиски, ежели что. За это время мы обследуем пол-лимана.
Между тем солнце перевалило за полдень и пекло так, словно вознамерилось поджарить не только ребят, но и всё живое на островке. Несмотря на близость воды листья лопухов начали обвисать, как ошпаренные кипятком. Барашковое облако порой набросит благодатную тень, при этом ветерок тоже вроде посвежеет, только всё это на короткое время. Слышно, как Марта (они сидят спиной друг к дружке) то и дело вытирается платьем; у Андрея цветастая блуза — хоть выжми.
К югу плавни тянутся на добрый десяток километров — до самой станицы Ивановской, заметной у горизонта темной полоской садов да рыжеватым куполом кирпичной церкви. Ещё дальше, за Кубанью, небо подпирают полуразмытые дрожащим маревом зубцы Кавказского хребта. Во весь окоём — полированная гладь с отражениями лениво плывущих в синеве ослепительно-белых, причудливых облаков. Возвышающиеся над водой заросли камыша кажутся опрокинутыми в бездонную глубь. В ушах — беспрерывный, не стихающий ни на секунду гул незримой, но кипучей жизни.
Какое-то время Андрей занят был мыслями о том, не лучше ли было сперва обойти ближние островки, позвать — глядишь, уже в начале поисков и добились бы успеха. Но откуда начать? И сколько уйдёт времени? У него, может, и силов-то на час-полтора… Нет, так будет правильней, — успокоил он сам себя.
Затем мысли перескочили на Марту. Это ж надо так случиться: ещё вчера и не подозревали о существовании друг друга — и вот на тебе: вдвоём, в таком месте, где и Макар телят не пас!.. Ладно, рассуждал он, хуть на нормального человека был бы похож, а то ведь — чучело гороховое: босой, голопузый, чумазый. И такую страхолюдину ещё и Андрюшей величает! Окромя мамы, никто так уже давно не называл. Ну, разве что Варька иногда, по-соседски. Интересно, о чём она сейчас думает? Наверно, токо про лётчика… А она, вообще, красивая. С такой приятно общаться: умная, образованная, скромная. И не подозревал, что такие существуют на свете. Узнать бы о ней побольше; заговорить, что ли?
— Андрюша, — словно угадав его мысли, начала она первой, — а разговаривать можно?
— Конешно. Токо про дело не забывай.
— Хочу спросить… Ванько, которым ты пригрозил Гапону, он твой брат?
— Нет у меня ни братьев, ни сестёр… Просто товарищ.
— Старше тебя? Я заметила, что Лёха сразу же сбавил спесь.
— Всего на год с небольшим. Но он — силач, каких поискать. И они боятся его, как огня.
— Они — это кто?
— Лёха и его дружки — Плешивый и Гундосый.
— У них такие дразнилки?
— Прозвища. У нас их все имеют, дажеть девчонки.
— Старайся говорить слова «даже» и «тоже» без «тэ» и мягкого знака, — посоветовала она. — А какие прозвища у ваших девчонок — тоже оскорбительные?
— Ну почему? — возразил было Андрей, но, подумав, согласился: — Может, конешно, немного обидные. — Чувствуя, что такой ответ недостаточен, добавил:
— Ежли интересно, могу уточнить.
— Очень интересно!
— Ну… которые девочки на нашем, значит, порядке: Нюську, к примеру, сразу прозвали Косая; у неё и вправду один глаз косит. Есть Вера-Мегера; прозвана так Борисом, он живёт недалеко от вас. У него, между прочим, тожеть… вернее — тоже… имеется кличка: Шенкобрысь. Почему такая? Ещё во втором, кажись, классе подписал как-то тетрадь вместо Шевченко Бориса — Шенко Бриса; ну и стал с тех пор Шенкобрысем.
— А Вера — она что, сердитая и злая?
— Да нет… просто Борис за нею ухаживает, иногда пытается заигрывать, а она ведёт себя с ним недотрогой. Хотя очень его уважает.
— И больше на вашем порядке девочек с прозвищами нет? — не дождавшись продолжения уточнений, спросила она.
— Ещё Варька. У неё оно, пожалуй, оскорбительное. Даже говорить неохота. Или сказать?
— Если неприличное… вобщем, смотри сам. А почему «Нюська», «Варька»? — нe понравилось ей. — Можно ведь Нюся, Варя. Вы что, женоненавистники?
— Почему?.. Просто Нюська ласкательного имени и не заслуживает, а у Сломовых так повелось сызмалу: Варька да Варька.
— И за что ж вы дали ей такую кличку, что и произносить неудобно? — полюбопытствовала-таки собеседница.
— Во-первых, не мы. И никто из наших, тем более я, так её не обзывали.
— Догадываюсь, что это лёхо-плешиво-гундосовская работа. Так?
— Ты угадала. А дразнят они её «цыцьката».
— Они что, полногрудых презирают?
— За тех не знаю, а Лёха — ты слышала, как он сказал и про тебя…
— Он, как я понимаю, отпетый пошляк. А как ты смотришь на таких.
— На сисястых, что ли? Для меня главное не это. И давай на эту тему не будем!
— Ты рассердился? Извини, пожалуйста…
Прошло с полчаса, но ничего из ожидавшегося пока не сбывалось. «Неужели зря теряем время?» — начал сомневаться Андрей. — «Может, не надо ждать у моря погоды»… — Его мысли снова прервала Марта:
— Андрюш, ты сказал «тем более я». Тебе, наверно, Варя очень нравится?
— Почему бы и нет? Мы с нею соседи.
— Я имела в виду другое… Впрочем, это неважно.
— Я тебя понял, — дошло до него. — Ты имела в виду любовь? — Марта промолчала, но он поспешил внести ясность: — Никакой особенной любви. Просто мы близкие соседи, вместе выросли, почти как брат и сестра. А у тебя уже была настоящая любовь? Токо честно.
— Была. Но давно, ещё в пятом классе.
— А потом встречалась уже без любви.
— Я вообще ни с одним мальчиком не встречалась!
— И даже с тем, первым?
— Я любила тайно от всех. Он и не знал об этом.
— Чё ж не объяснилась, ежели он стоящий парень?
— Так уж получилось…
— А у меня было совсем даже наоборот.
— Ой, Андрюша, смотри, смотри! Взлетели утки и притом — испуганные!
Оба вскочили, словно подброшенные пружиной. Утиная стайка, тревожно крякая, пронеслась над их головами.
— Усекла, откуда взлетели?
— Конечно! Вон от тех камышей.
— Я же говорил! Так и вышло! — радостно восклицал Андрей.
— Погоди ликовать, может, они просто так снялись с места…
Усомнилась она потому, что уж очень близко оказались «те камыши», всего в каких-то трёхстах метрах от них. С высоты андреевых плеч она их осматривала тщательно, и никакого белого предмета на этом полуостровке (камышовые заросли простирались до восточного берега плавней) замечено ею не было.
— Ну, нет! Когда просто так, они ведут себя по-другому, — тоном знатока возразил Андрей. — Верняк, кто-то вспугнул! Садись на свое место — едем.
Прихватив сумку, Марта заняла переднюю скамейку. Два поворота — и вырулили на простор; здесь Андрей поменял шест на весло, принялся неистово грести. Заметив, что лодка в ответ на энергичные гребки слегка виляет то вправо, то влево, пассажирка пересела не среднюю скамейку, взяла шест, спросив:
— Можнo, я буду тебе помогать?
Получив утвердительный кивок, принялась и себе чиркать по воде.
И похоже, не без пользы: посудина если и не пошла быстрее, то уж точно — ровнее. Вскоре с разгону вонзились в плотную зелень стеблей, верхушки которых шуршали метра на полтора выше их голов. Сложив ладони рупором, Андрей громко позвал:
— Дядя лётчик! Эге-гей! Где ты, отзовись!
Прислушались, затаив дыхание. Квохтавшие поблизости нырки, а также камышовка, выводившая своё звонкое «короп-короп, линь-линь!» на минуту умолкли, словно тоже вслушиваясь. Но… ни на эти, ни на последующие — уже из других мест — зовы никто, увы, не откликался.
— Может, слышит, да опасается, — предположил Андрей. — Позови-ка ты, у тебя голос совсем ещё детский. Он смекнёт: детей опасаться не след.
Но и на мартин «детский» ответа не дождались… Решили идти вдоль зарослей. Кромка зелени, издали кажущаяся ровной, на деле изобилует выступами и бухточками, обусловленными, видимо, глубиной воды, приходилось много петлять, что требовало немалых сил. В этих закоулках было так же невыносимо жарко, как недавно в подсолнухах, но сил требовалось втрое больше, чем на бег. Взмокнув до нитки, Андрей снял блузу, затем и штаны (в душе поблагодарив помощницу за предусмотрительность); но даже оставшись в одних трусах, блестел, словно только что вылез из воды.
Следов присутствия человека обнаружить не удавалось… Наконец он положил шест, сел, лодка остановилась. Молча окунул блузу, отжал воду, вытер обильный пот; натянул штаны.
— Приморился? — спросила она участливо и грустно; у Марты заметно поубавилось веры в то, что «ути» были вспугнуты человеком.
— Есть маленько, — признался он и предложил: — хочешь, освежись и ты: скинь кофточку, прополосни, оботрись; я отвернусь.
— Спасибо, я потерплю…
— Не чуди, тоже вся мокрая! Держи, — бросил ей свою блузу. — Оботрись, знаешь, как приятно прохладненьким!
Послушалась: вытерла лицо, шею, прошлась влажно-прохладным по животу, под мышками.
— И правда полегчало. Благодарю.
— Вижу, ты совсем духом упала, — повернулся к ней лицом. — А зд-ря. Или, ежли сказать правильно, зря, — поправил себя сам, улыбнувшись.
— Запомнил? — Лицо её тоже озарилось улыбкой.
— И здря, и впольне, и тожеть-дажеть. Так что говорить буду теперь токо правильно. Ты и дальше поправляй, я не обижаюсь. А память у меня — будь спок! — похвастался, но осёкся: Марта погасила улыбку и отвела взгляд. — Я знаю, что ты зараз подумала. Что я — мелкий хвастунишка. Так ведь?
— Я подумала, что в этот раз ты с утками промахнулся: никто их не пугал. Принял желаемое за действительное.
— Ну и напрасно. Я и теперь ещё вполне уверен. Просто нужно было начинать с той стороны мыска. Но ещё не вечер, немного отдохну и…
Резко выделившись из монотонного шума-гама, над лиманом разнесся звук, напоминающий выстрел. Не успев закончить мысль, Андрей устремил взгляд туда, где они с полчаса тому назад начали поиск.
— Ага! Я же говорил! — вскричал он. — Видишь, видишь! — показал на нескольких «утей"', вначале кинувшихся в разные стороны, затем развернувшихся в направлении на юг. — Обратно там же взлетели!
Работая теперь вдвоём — веслом и шестом — заспешили в обратном направлении. Обогнули выступ, пошли вдоль противоположной стороны. В этот раз не звали: с помощью двух пальцев Андрей издавал свист не хуже сказочного Соловья-разбойника. Прислушивались и снова продолжали, не заходя в бухточки, плыть вдоль зарослей, пока Марта не подала знак рукой, сообщив: — Останови: мне почудился голос!
Андрей положил весло, прислушались. Точно: обзывается, и где-то совсем близко! Несколько метров — и вот уже отчётливое: — Эй, люди, я здесь!
Теперь голос слышен и сквозь плеск воды. Вот он уже напротив. Разворот — и лодка на треть длины вонзается в камыш. Налёг на шест — подвинулась ещё немного; но он так глубоко вошёл в вязкое дно, что при попытке выдернуть лодка на столько же отошла назад. Стало очевидно: таким способом не продвинуться.
— Как же быть? — потерянно спросила Марта.
— Не расстраивайся. — Андрей зачерпнул воды, плеснул в лицо — пот заливал ему глаза. — Но без твоей помощи мне не управиться.
— Скажи, что делать, я постараюсь.
— Я спрыгну и стану толкать, а ты хватайся за стебли и тяни на себя — Ребята, вы хотите лодку ко мне подогнать? — совсем близко послышался голос лётчика, видимо, убедившегося, что имеет дело с двумя подростками. — В этом нет надобности.
— А разве… Мы подумали, что вы тяжело ранены, — сказал Андрей.
— Рана пустяковая, я смогу добраться до лодки своим ходом.
— Подождите, я вам помогу! — Андрей спрыгнул в воду и, раздвигая камыш, скрылся в его гуще.
Марта, с непривычки или от усердия, натёрла шестом водянку на ладошке; та лопнула, щемило; хотела перевязать хоть наскоро, как услышала шелест и хлюпанье — вернулся Андрей. Один. На её вопросительный взгляд пояснил:
— Решил всё же добраться лодкой. Из-за парашюта. Иначе комары его ночью заедят. Ранен не сильно, сможет нам пособить.
Привязал к скобе конец стропы, зашёл с кормы и, крикнув «я готов!», стал толкать. Дело пошло. Под возгласы «раз-два, взяли! «лодка рывками подавалась вперёд. Метр, ещё один, ещё… Вот уже виден парашют: края его, скомканные, лежат на камышовых стеблях, примятых, видимо, специально, с целью маскировки. А вот и он сам — в мокрой лётной форме, невысокий, нестарый; левая рука забинтована, в рыжих пятнах, согнута в локте, прижата к груди. Перехватываясь правой, тянет за стропу, наматывая её на себя, — помогает Андрею. Наконец, подтянулись вплотную.
— Как же вы здесь оказались? — вопрос улыбающейся Марте.
— Видели, как вы падали с парашютом… И решили найти и спасти. Мы вас давно уже ищем, зовём — неужели не слышали?
— Слыхать-то слыхал… И отзывался, да, видать, недостаточно громко. А потом вас не стало слышно, я не на шутку испугался и решил посигналить выстрелом.
Андрей тем временем залез в лодку, закрепил её, воткнув шест со стороны кормы, заметил:
— Надо было вам выстрелить сразу, как токо меня услышали.
Воздерживался из осторожности. Немцы уже здесь?
— Ещё нету. Держитесь и переходите, — протянул весло. — Не бойтесь, она устойчивая.
Лётчик без особого труда перебрался в лодку. Сблизка стало заметней, что он бледен, искусан, всё ещё мокр до плеч.
— Что с рукой, кость не задета? Крови много потеряли? — интересовалась Марта, расстёгивая сумку.
— Спасибо, с костью, кажется, обошлось. А кровь — перевязал вот, остановил вовремя.
— Надо немедленно сделать настоящую перевязку, а то как бы не схлопотать гангрену. Садитесь вот сюда, я — быстренько, — потребовала она.
— Мы прихватили бинты и йод, — вставил слово Андрей, тоже от имени обоих.
— Даже это предусмотрели! — удивился раненый. — Но, по-моему, рана не настолько опасная, чтобы…
— И правда: может, выберемся на плёс — потом? — предложил Андрей. — Там не так душно и комарья нет.
— По нашей вине и так много времени упущено! — решительно воспротивилась она. — Сломи метёлку, будешь отпугивать этих кровососов.
Говоря это, она достала свёрток с принадлежностями, вооружилась ножницами, срезала кое-как завязанный узел, стала осторожно сматывать повязку, тоже марлевую, но сделанную наспех, набухшую кровью. Андрей двумя пушистыми султанами принялся отгонять от них тощих, въедливых насекомых, радуясь в душе, что взял именно её, а не кого-либо из ребят.
Едва Марта отделила бинт, как рана сильно закровоточила снова. — Ой, мама! — вскрикнула санитарка, однако не растерялась: — Дядя, прижмите вену, вот здесь. Андрей, быстро, нужна верёвка для жгута!
Тот ножом отхватил кусок стропы.
— Здесь, перед локтем, Андрюша, — оттопырив руку, показал лётчик. — Еще виток… теперь стягивай — потуже, не бойся.
Жгут своё сделал. Ватным тампоном Марта убрала кровь. Рана оказалась сквозной, рваной. Тщательно обработав края её йодом, наложила марлевый тампон, примотала, израсходовав метровый бинт. Из жгута сделала перевязь.
— Спасибо, дочка! Тебя как звать? Очень грамотная работа, — похвалил раненый. — Где ж научилась такому мастерству?
— Помогала маме в госпитале. Мы готовы, — сообщила Андрею, пряча остаток принадлежностей в сумку. — А вас как зовут?
— Зовите меня Александром Сергеевичем. Или дядей Сашей — как вам удобней.
— Дять Саша, — тут же обратился Андрей, — перейдите теперь на заднюю лавочку, а мы втащим на лодку парашют. Иначе вам несдобровать.
— Что ты имеешь ввиду? — не понял тот.
— Эту ночь вы проведёте на островке посреди лимана. Пока мы с ребятами подготовим всё на хуторе. А парашют послужит вам пологом.
И впрямь громадное, наполовину мокрое полотнище с трудом втащили на лодку, насилу кое-как уместили. Затем, упираясь в нос, барахтаясь по пояс в воде, Андрей с помощью двух пассажиров стал выталкивать лодку обратно. Не без труда выбравшись наружу, отплыли на ветерок, занялись приведением себя в порядок: смыли кровь, грязь, умылись, освежились. Заметив под задней скамейкой ковшик, лётчик облизнул сухие губы, попросил: — Зачерпни-ка из глубины, где похолоднее, — страшно пить хочется! Всё нутро спеклось…
— Из болота, некипячёную? — ужаснулась Марта. — Ни в коем случае!
— Потерпите до островка, это близко, — поддержал её Андрей. — Там есть и спички, и котелок, и тренога. Мы иногда тут уху замастыриваем.
— И удочки имеются? — заинтересованно спросил лётчик.
— Конешно! И даже тазик с перегноем и червями.
Взяли курс на островок; пассажиры уселись на скомканный парашют, Андрей с веслом — на корме.
— Дядя Саша, — полюбопытствовала Марта, — почему вы не пытались выбраться сами, ведь прошло вон сколько времени. Не знали, в каком направлении двигаться?
— Нет, дочка, не поэтому. Я знал, с какой стороны берег доступнее — рассмотрел при спуске. Но не был уверен, что сюда не достали ещё гитлеровцы. Чтобы не попасться им тут же в лапы, решил дождаться вечера.
Такой ответ немного ее огорчил, так как умалялась заслуга напарника: лётчик смог бы выбраться и без их помощи. Да и ранение не такое уж страшное. Но ведь могло быть и по-другому!
— Хорошо, что вы приводнились удачно, — сказала она. — Но мы искали бы вас и тогда, если б вы угодили в камыши, окруженные водой. Искали б, пока не нашли, — до самого темна!
— Я не нахожу слов, способных выразить всю мою благодарность. Большое вам пребольшое спасибо, ребятки! — Он наклонился и поцеловал ее в щёку.
— Это Андрюше спасибо, — шепнула она. — Поиск организовал он.
— Андрейка, тебе наш разговор слышен? Огромное тебе спасибо, сынок!
— Пожалуста. Но мы не заради благодарности… просто нельзя же оставлять человека в беде!
— О благодарности мы и не думали! — подтвердила Марта.
В тайничке и в самом деле нашлось всё необходимое. Котелок, неполный, чтоб скорее вскипел, поместили под треногу, развели под ним огонь, благо сухого камыша запасено было в достатке; кипяток взяла на себя Марта. Андрей помог раздеться, разуться для просушки. Почистил под руководством «дять» Саши пистолет, вскрыл часы: они хоть и тикали, но стекло изнутри запотело, нужно было просушить механизм. Пистолет Андрей разобрал и собрал трижды, последний раз — самостоятельно. Очень он ему приглянулся: не то что прящ!..
— Дять Саша, что вы намерены делать дальше? — поинтересовался, освобождая высохшее шёлковое полотнище от строп.
— Трудный, сынок, вопрос… — не сразу отозвался лётчик. — Конечно же, нужно во что бы то ни стало пробраться к своим. Только где они сейчас, свои?.
— Наши ушли в ночь под девятое.
— Тех не догнать!.. А вот в тылу наверняка оставлены люди для организации партизанской борьбы; но этот вариант не менее трудный.
— А то! — согласился Андрей. — Попробуй с ними связаться. Небось, конспирация — железная…
— Александр Сергеевич, кипяток уже подостыл — я котелок в воду погружала. Ещё немножко — и можно будет пить.
Чтобы ускорить дело, она зачерпывала воду кружкой и с высоты выливала тонкой струйкой обратно в котелок.
— Спасибо, — потерплю. Конспирация — это одно. Другое — если не к вечеру, то завтра нагрянут гитлеровцы, а сам видишь, во что я одет. Нужна гражданская одежда, иначе меня тут же схватят.
— С одеждой — придумаем! С едой тоже затруднений не будет. Даже ежли нагрянут фрицы, всё равно с утра буду здесь.
— Не буду, а будем, — поправила Марта.
— Дять Саш, мы следили за воздушным боем… Правда, его и боем-то не назовешь. Почему вы не вмазали фрицам как следует, — ведь такие удобные случаи были!
— Тебе легко говорить! — вступилась, передавая котелок, помощница. — Уже пить можно. Это не на земле — кулаками драться…
— Да нет, Андрей, конечно же, прав, — залпом осушив котелок, сказал лётчик. — Они действительно вели себя неосторожно — поняли, что у нас нечем «вмазать, как следует». Дело в том, что у нас уже были стычки; одного мы завалили, другой струсил и предпочел не ввязываться. Дали бы сдачи и этим, да кончился боезапас.
— Выходит, вас было двое?
— К сожалению, стрелок оказался менее удачливым: его прошило очередью.
Александр Сергеевич уронил голову, и Андрей заметил, как у него повлажнели глаза. — Славный был паренёк… Жалко до слёз…
Андрей тоже потупился, и Марта, чтобы как-то разрядить обстановку, достала остаток пирога:
— Дядя Саша, вы, наверно, проголодались. Съешьте вот. А завтра мы принесём еды побольше.
— Спасибо. Очень вкусный, давно такого не пробовал. — Откусив пару раз, завернул лакомство и отложил в сторонку. — Я оставлю это на завтра. За ночь может всякое произойти, и вы не сможете меня навестить.
— Пригремим в любом случае! — твёрдо заверил Андрей.
— И всё-таки… Ты говорил про удочки; покажи, на всякий случай, где хранятся, — я — заядлый рыболов. Может, придется пожить на ухе. Рыбы здесь много?
— Навалом! Карп-болотнячок, мы его королевским называем. Вкуснятина и почти круглый год с икрой. А удилишки — вот они, из камыша торчат, видите. Черви — под этой кучей камыша. Остальное найдёте в тайнике. Соль — в бутылочке.
— Запасливый ты мужик! — похвалил Александр Сергеевич. — Молодец, честное слово!
— Я тут бываю не один, с ребятами. Хочете, поймаем десяток-другой прям сичас? — предложил молодец.
— Уже поздновато, ребятки… Вы, небось, тоже проголодались, и матери наверняка хватились. Возвращайтесь к себе, отдыхайте. Да и я, признаться, устал смертельно!..
Возвращаясь, Андрей остановил лодку посреди плёса, посмотрел на помощницу — она сидела к нему лицом — и сказал:
— Это самое… У тебя тоже соль выступила на кофте. Ежли хочешь, ополосни платье и переоденься. Да и я вот весь в ряске. А стесняешься, то я отвернусь.
— Ой, я и сама об этом думала, только не решилась сказать!.. — обрадовалась она. — И стесняться мне нечего, я же не ведьма с хвостиком Она тут же избавилась от кофты и шаровар, благо комаров над плёсом днём не бывает. Достала из сумки платье, принялась окунать его и теребить. После чего вдвоём, скрутив жгутом, отжали воду. Встряхнув, расстелила в носовой части лодки на положенные поперёк весло и шест.
— Теперь, пожалуйста, отвернись: я прополосну и лифчик, а то щипет — нет спасу.
— Об чём разговор! Можешь прополоснуть и трусы. Не боись, я тоже подглядывать не стану. Ежели, конешно, доверяешь.
— Спасибо. Тебе я вполне доверяю.
Он повернулся к корме лицом и, присев на корточки, уставился в тёмную, впрямь кажущуюся бездонной, воду. Неожиданно для самого себя увидел вдруг сбоку чёткое, как в зеркале, отражение её бюста, когда она склонилась над бортом прополоснуть снятый бюстгальтер. Марта об этом вряд ли догадывалась, но Андрей зажмурился и отвернулся — из желания честно исполнить обещание не подглядывать, даже если это всего лишь «сиськи». Так и просидел, не шевелясь, пока она, одевшись, не сказала:
— Всё, Андрюша, спасибо. И за лифчик, и за трусы — как на свет народилилась! Сними и своё — простирну.
— Это можно. А я тем временем искупаюсь. А то давай вдвоём — наперегонки сплаваем.
— Плавать я ещё не научилась, к сожалению.
— Как, даже по-собачьи? — удивился он. — Ну ты даёшь!..
Встал на корму, чуть присел и, слегка оттолкнувшись, скрылся под водой; лодка, качнувшись, отошла метра на три и остановилась. Поднырнув под неё, притаился у носовой части. Минуты через полторы Марта, смотревшая, где же он вынырнет, заподозрила неладное:
— Ой, мама! — обеспокоилась не на шутку. — Где же он? Ой, господи, никак утонул!.. Что же делать?.
— А я тута! — Андрей, рот до ушей, высунул голову из-за борта.
— Ненормальный! Разве ж так можно! … У меня сердце захолонуло, думала, утонул. — На глазах её блестели слёзы.
— Не боись, я на ерике вырос!
Довольный проделкой, откинулся на спину и, работая ногами так, что брызги летели, словно от винта, уплыл на спине метров на десять, прежде чем повернул обратно. Вода сверху тёплая, даже горячая, но на метр глубже — до неприятного холодная. Наплававшись и, уже у лодки, брызнув пару раз на всё ещё неодетую Марту (в ответ на что та пригрозила огреть шестом), вскарабкался обратно и сел на лавочку рядом.
— Ой, мама! — взвизгнула она. — Что это у тебя на ноге?
— Где? А, это… Пьявка прицепилась. И уже насосалась, подлая, — Ногтем сковырнул и выбросил за борт.
— Фу, какая мерзость! — Соседку передёрнуло. — Больно кусается?
— Не-е, они совсем не страшные. Токо кровь долго после них сочится.
— Надо бы говорить не «токо», а «только», понял?
— Понял. Спасибо, учту. Какая ты ещё беленькая-незагореленькая! — обхватил её за плечи и притянул к себе.
— Как сейчас смажу, так мало не будет! — отпихнув, замахнулась ладошкой — Холодный, как жаба… И много себе позволяешь!
Ни в голосе, ни во взгляде сердитости не усматривалось, но он поспешил заверить:
— Виноват, больше не буду, чес-слово!
— Смотри мне, а то схлопочешь!.. Не посмотрю ни на что…
Поднялась, бросила ему полусухие уже штаны, оделась сама; села рядом, улыбнулась, как ни в чём не бывало.
— Это самое… Ты чё, в бога веришь?
— С чего ты взял?
— Ну как же: в балке сказала «ей богу», а теперь вот — «ой господи». И небось была пионеркой.
— Я к религии равнодушна, просто — мама у меня верующая.
— Она что же, верит, что на небе есть рай, а под землёй черти в аду грешников на сковороде поджаривают?
— Ну, в это, может, и не верит.
— Какая ж тогда она верующая?
— Я у неё тоже спрашивала. Она объяснила так: верующий — это тот, кто не совершает богопротивных поступков, добрый и милосердный к людям и всему живому, не эгоист, не вор, не предатель… ну и всё такое.
— Тогда получается, что и я верующий. Толь-ко, — разбил он неправильно произносимое слово на слоги, — бог с попами тут ни при чём! И вобще религия — это…
— Давай поговорим лучше об Александре Сергеевиче — что мы можем для него сделать.
— А чё тут говорить? Я уже всё обмозговал. Ежли и вправду нагрянут фрицы, он переждет несколько дней здесь. Пока рука подживёт. Гражданскую одежду мы с ребятами раздобудем. Потом поживёт на хуторе, спрятать есть где. Правда, насчёт партизан… — Видя, что она вертит головой, спросил: — Ты чё, не согласна?
— Уже всё и обмозговал!.. Мог бы и со мной посоветоваться. Дядя Саша теперь не только твой, но и мой подопечный тоже!
— Пожалста! Не ндравится мой план — предложи свой. Одна голова хорошо, а полторы лучше.
— Не «ндравится», «полторы»… Хвастунишка несчастный! — обиделась за полголовы, не стала и поправлять произношение. — Совсем ни во что меня ставишь.
— Извини. Я…
— Не извиняю! Невежа…
— Больш не буду, чес-слово. Ну, брякнул шутя…
Игривое настроение всё ещё колобродило в нём, он взял её ладошку в свои, стал гладить, заискивающе глядя в глаза, — заглаживал вину.
— Ох и схлопочешь, лиса! — Марта, хоть и приятно ей было такое проявление доброго отношения, ладошку выдернула и даже погрозилась влепить затрещину.
— Ну у вас и привычки: как что, так и по мордасам, — упрекнул, отшатнувшись.
— А что, уже получал?
— Я пока что нет. А вот твой брательник двоюродный не так давно от Иринки схлопотал… Он тебе не рассказывал?
— Говорим о серьёзном деле, а ты — с какими то Иринками! — отвергла она постороннюю тему. — Я вот что хотела бы посоветовать: пацанам своим про лётчика ничего пока не говори. Одежду и поесть приготовим мы с мамой, она мне в этом не откажет. А на дальнейшее…
— Маме твоей говорить нежелательно! — возразил Андрей.
— Если опасаешься, что как немка она ненадёжная, то клянусь — это не так. Честное пионерское! Даже, если хочешь, — ленинское.
— Смотри, такими словами не бросаются!
— Я знаю, что говорю. Потом, мама ведь доктор, а вдруг случится осложнение — ты же видел, какая опасная рана.
— Оно, конешно, ты права, но… не говори пока хуть про островок. Он секретный, и мало ли для чего может пригодиться при немцах. Скажи, что дять Саша находится… ну, например…
— Нет, Андрюшка, — перебив, крутнула головой собеседница, — я маме ещё никогда не лгала и ничего сочинять не буду. Расскажу всё как есть, и будь, как ты выразился, спок — она не подведёт.
То ли с недоверия, то ли у него появились кой-какие догадки, но он пристально посмотрел ей в глаза.
— Что ты на меня так смотришь? — заметила она.
— Как говорила и моя учителька…
— Не попугайничай!
— Сперва дослушай: ты мне начинаешь не ндравиться, — переиначил её фразу. — За то, что не слушаешься старших.
— Во-первых, в слове «нравиться» — если выражаться по-русски — «д» не употребляется. А во-вторых, ты, конечно, старше, но я тебе не навязываю, а всего лишь прошу согласиться.
— Ох ты и хитрая! Ну, ладно: нехай один раз будет по-твоему.
С вечера долго не спалось. Перед мысленным взором один за другим возникали эпизоды закончившегося дня. При этом те из них, что касались непосредственно лётчика, почему-то не казались уже главными. Гораздо большее впечатление осталось от вторжения в его жизнь этой простой и в то же время необыкновенной девчонки.
Вначале, когда эта веснущатая так бесцеременно столкнула его со своей драчливой худобины да ещё и обозвала дураком ненормальным, она вызвала неприязнь и желание отодрать за косы… Вовремя извинилась, а то бы дошло и до этого. Затем неприязнь постепенно уступила место заинтересованности, перешедшей в уважение. Оказалось, что она — красивая девочка и притом «сурьёзная, строгая, неразболтанная, как некоторые, хуть та же Нюська Косая». Такие, примерно, мысли не давали Андрею уснуть.
Мать видела, как он вчера, уже под вечер, мастерил себе прящ, а утром умчался на гравийку за камушками. Чей-то рыжий котище, задирака и драчун, просто житья не стал давать Мурзику, и сын собирался проучить паршивца и отвадить. Правда, не вернулся вскоростях, как обещал, но это не впервой — днями пропадать на ерике. И она не особенно и беспокоилась, разве что из-за того, что весь день был, считай, впроголодь. Слыша, что тот ворочается дольше обычного, поинтересовалась: — Ты чиво, сынок, не спишь? Комаров я вроди усех передавила.
— Комары ни при чём… Видел сёдни воздушный бой, никак с головы нейдёт. Самолёт наш сбили фрицы…
— Я як раз доливку домазывала, слыхала, як гуркотели да стреляли, аж хотела выйтить поглядеть. Кажуть, лётчика, сердешного, прям под парашютом застреляли, ироды. Ходили шукать, да не нашли, где упал. Мабутъ, в лиман угодил.
— Вы тоже ходили?
— Собралась було и я, а тут прибегае кума Ивга. На бригаде, говорыть, анбары открыли, разбирають по домам зерно. Так мы с нею, забыла тебе и похвалиться, тожеть по чувальчику привезли.
— А на чём везли?
— Ванько возок предложил. Они как раз с Варей цельных два притарабанили. А посля и нам с Ивгой и погрузил, спасибо ему, и довезти помог.
— И много в них было пшеницы?
— Оба анбара пошти полные. Пшеничка в мешках — мабуть семенная. А може на госпоставку готовилось, да не успели вывезти. Хорошо, хуть хвашистам теперя не достанется.
— Мам, мы же с вами русские. Надо говорить не «хва», а фашистам, — поправил ее сын. И добавил: — Нужно выражовываться правильно!
— Какая, сынок, разница, — слабо возразила мать. — Ежли правильно, то имя им — изверги рода человеческого. Оно бы и понятней каждому. — Помолчав, вспомнила: — Хлопци спрашували куда это ты запропастился. Они усе были коло анбаров: Ванько навытаскивал в сторонку цельный штабиль мешков, Федя с Мышком присматривали, а они с Борькой помогали нашим развозить по дворам. Нам с кумой, Лизавете Шапорихе, Мачням завезли. Та, мабуть, усем, в ково ребятишек куча, успели.
«Ничего, — подумал Андрей, — мы с Мартой тоже не на прогулке были. Узнают — попрекать на станут».
Матъ ещё долго пересказывала новости дня, душа требовала выплеснуть наболевшее; но Андрей недослушал — сморил-таки сон.
Проснулся рано: поблизости ухали взрывы, стекла в окнах беспрерывно позвякивали; Не спала и мать.
— Мам, что это за грохот, как вы думаете? — спросил, видя, что и она готовится вставать: сидя на кровати, свивает волосы в узел на затылке.
— Хто ево знаить, сынок… Арудия бьють, а може, станцию бомблять. Хронт наближаетца… Ты сёдни на ерик не ходи, чуть што — зараз домой беги.
— На ерик не пойду, но мне, мам, нужно отлучиться в одно место, — предупредил на всякий случай.
— Што за место?
— Опосля скажу. Это не надолго.
— Ты и вчерась говорил ненадолго, а явился вечером. Неужто за цельный день не накупался?
— Да не купаться я ходил! Мы, мам, лётчика ходили искать. И нашли, так что он не погиб, хуть и упал в лиман.
— В лимане — и нашли? — удивилась и явно обрадовалась мать; перестала прибирать кровать, подсела к нему. — Как же вам это удалось?
— Благодаря лодки. А упал посреди, считай, лиману да ещё и раненный.
— И сильно ранитый?
— Он считает, что не очень. А вобще — руку пулей распанахало. Видать, разрывная: рана страшная, вот в этом месте, — показал.
— Пошто ж мне учерась ещё не сказал? Я бы хуть исть приготовила. Он зараз где?
— Спрятанный в надёжном месте. Токо вы, мам, никому, ладно? Надо, чтоб поменьше кто знал, — предупредил, зная что мать непременно захочет поделиться доброй вестью с соседями. — Потому-как не сёдни-завтра нагрянут гитлеровцы, как бы кто не проговорился. А насчёт поисть уже договорено.
— Я, сынок, ежели б кому и сказала, то их бояться не след: выслуживаться перед супостатами не станут. А с кем же ты был, что говоришь «мы»? Усех наших ребят я видела коло анбаров.
— Девчонка одна напросилась — возьми да возьми. Я возвращался балкой, а она пришла туда за козой и тоже видела, как лётчик выбросился с парашютом. Сказала, что санитарному делу обучена — сделает, ежли что, перевязку. И не возьми я её с собой, лётчик мог схлопотать гангрену, по-врачебному заражение, от которого умирают.
— Постой, это не та, конопатенькая, что поселились с матерью у деда Готлоба?
— Она самая. Токо… только она не конопатая, а немного веснущатая.
— Ох, здря ты, сынок, с ними связался! — Мать, снова занявшаяся было постелью, села на кровать обеспокоенная. — Они ить немчура, и мы не знаем, какого ляда пожаловали. Мало ли чево…
— Сперва и я так подумал. А потом рассудил: не все ж волки, кто серым родился! И потом, её мать и тёть Эльза — родные сестры.
— В народе говорят: и в семье не без урода. Знать бы, что у ей на уме…
— Нет, мам, они хуть и немцы, но — я так понял — наши, и вы о них плохо не думайте.
Было ещё рановато, когда Андрей в одних трусах выскочил во двор размяться физзарядкой. Подтянувшись несколько раз на турнике, поколотив самодельную «грушу», умылся по пояс, надел новые штаны и рубашку. Есть не хотелось. Сказал матери, уже хлопотавшей по хозяйству, чтобы не переживала, если задержится опять. Огородом спустился в балку и направился в конец хутора.
Вчера, возвращаясь с лимана, торопились: матери — и его, и ее — уже, поди, беспокоились. Пожав Марте у калитки руку и сказав «До утра!», он заспешил домой. Отойдя, вспомнил про прящ, но возвращаться не стал. Интерес к этой подростковой забаве сошёл на нет, уступив место более глубокому увлечению. Всю дорогу до хаты и весь остаток вчерашнего дня думалось только о Марте. Вот и сегодня: от предстоящей встречи было волнительно на душе… Не заметил, как оказался у крайнего огорода.
Межевой стёжкой поднялся по пологому склону до конца кукурузы и решил немного здесь переждать: показалось, что пришёл рановато. Сел под копешку, потянулся, сладко зевнул. Прошедшая ночь была душной, плёлся какой-то кошмарный сон, и он явно недоспал. Солнце протискивалось сквозь оранжевую муть у горизонта и обещало день не менее знойный, чем вчера. Но это — мелочь, подумал. Интересно будет, если он придет, а там ничего не готово. Несмотря на её заверения, что приготовят с матерью всё необходимое. Понадеялась, а мать решит, что ввязалась не в своё дело, отругает и больше вообще не пустит от хаты ни на шаг. Может, просто потому не пустит, что один на один с незнакомым и почти взрослым пацаном. А вобще, решил Андрей, этого опасаться не след: с Дедой-то они старые друзья, он верняк замолвит слово в его пользу!
Поровнявшись с терновничком, вспомнил о пряще; «Отдам его Мишке, он давно ими бредит», — подумал.
Шарик с будки зашёлся было звонким лаем, но тут же и умолк: узнал старого знакомого. Во дворе индюк важно расхаживал около двух индюшек, довольно невзрачных с виду. А вот убранство пернатого щеголя вызвало усмешку: растопыренные крылья, хвост веером, синяя пупырчатая шея с длинной зелёной сосулей над клювом придавали ему скорее потешный, нежели важный вид. Услышав свист, задавака тряхнул сосулей и выдал несколько утробных звуков — что-то вроде «куплю, плюх-плюх!» Через минуту скрипнула дверь, и из сеней показалась Марта. Пройдя к навесу летней кухни, приветливо улыбнулась:
— Здравствуй. Ты сегодня выглядишь по-другому.
— Зато ты такая же, как и вчера.
— Некрасивая?
— Скорей наоборот.
— Так я и поверила!
Одета в платье поверх шароваров — немаркое, с длинным рукавом, с двумя накладными карманами. Андрей понял: оделась специально для лимана. Но спросил:
— У тебя всё в поряде?
— Ты хотел сказать — в порядке? Конечно: приготовили всё необходимое. А у тебя? — кивнула на сандалет.
— Палец? Нормально! Бинт уже не нужен. Может, двинем, росы нет.
— Придётся чуток подождать: мама хлеб выбирает из печи.
— А я торопился!..
— Успеем, сегодня — не вчера. Он, наверно, ещё спит. Груш хочешь?
— Принеси, я в этом году их ещё не пробовал.
— Внизу не осталось — бойцы угощались. Идём влезем на дерево, наверху много. И дяде Саше нарвем.
Груша эта также знакома: её плодами друзья Рудика угощались не один год. Усевшись на ветках, переглядываясь и улыбаясь друг дружке, они хрустели ими с удовольствием.
— На вашем порядке что, только трое девочек? — нашла она тему для разговора.
— Не считая мелких, да.
— А ребят сколько?
— Сичас пятеро. Со мной. Два приходятся тебе соседями. Еще не познакомились?
— Виделись издали. И ещё я слышала, что одного зовут Патронка. Это, конечно, кличка. А почему его так прозвали?
— Мишку? Он как-то пальнул из отцовского ружья по воронам и хвалится: с первой патронки — пятерых укокошил. Отсюда и пошло: Патронка, — объяснил Андрей метод образования кличек.
— Странные у вас тут обычаи, — усмехнулась она. — У Рудика тоже кличка имелась?
— Обязательно: Рудой.
— Мар-та! — позвали от хаты.
— Бегу-у! Уже, наверно, всё готово, — сказала она, спрыгнула вниз и убежала, придерживая карманы с десятком груш.
Неспеша доев свою, Андрей тоже слез и направился к навесу. Но едва отошёл от дерева, как до слуха донёсся странный, быстро нарастающий со стороны балки, шум. Вдруг резко, заставив вздрогуть, протарахтела пулемётная очередь. Кинулся через акации к дороге — по ней, вздымая шлейф пыли, мчали мотоциклы. За рулём и в колясках, оборудованных пулемётами, сидели, низко нахлобучив каски, военные с серыми от пыли лицами. «Так ведь это ж фрицы!» — догадался он.
Мотоциклы сворачивали налево и катили вдоль хутора. Следом показались столь же быстроходные бронированные машины — танкетки. Две из них свернули в акации и заглохли в нескольких метрах от Андрея. Из люков вверху высунулись белобрысые, тоже с замызганными лицами, головы. Андрей присел за копешкой, затем, пятясь, отполз к терновничку — тому самому, где вчера приветствовал его красавец-петух.
С брони спрыгнуло трое оккупантов в комбинезонах и один, одетый иначе, — в кителе с погонами; последние, а также кобура на ремне, давали повод предположить, что он постарше званием. Захватчики, отряхивая пыль, громко переговаривались, бодро и беспечно, словно вернулись с приятной прогулки. Старшой прошёл к сеням, грохнул сапогом в дверь, требовательно прокричал: — Матка! Матка, виходить!
— Из сеней вышел Деда, заговорил с ним по-немецки. Подошли и остальные, обступили, загалдели. Получив пару вёдер, направились к колодцу.
Шарик, до хрипоты в горле натягивая цепь, с яростным лаем кидался на проходивших рядом с будкой чужаков. Один из солдат замахнулся сапогом, но поддеть не сумел — пёс увернулся. Шедший последним старшой достал пистолет и выстрелил дворняге в пасть. Собака свалилась, скребя лапами… Тем временем у колодца, раздевшись догола, по-жеребячьи ржали, обливаясь холодной водой, подчинённые. Убийца собаки неспеша сбросил китель, нательную, в серых от пота разводах, сорочку; тонкой струей ему стали сливать на спину, он отдувался, фыркал, блаженно кряхтел.
Встав на колени, невидимый сквозь густую листву, Андрей наблюдал за пришельцами. Так вот они какие, фашистские оккупанты… Эти два слова он слышал часто, и воображение рисовало их этакими пиратами-бармалеями — звериный оскал, небритые, увешаны кривыми ножами, пистолетами и гранатами, с чёрной повязкой на глазу. Оказалось, однако, что облик вполне человеческий. Это, впрочем, не уменьшило неприязни: сытые, самодовольные «хари» вызывали отвращение и ненависть. Возмущало и то, как себя ведут — самоуверенно, хозяйски, будто прикатили к себе домой. Подлые убийцы! Застрелить собачку только за то, что добросовестно исполняла свои обязанности… Ведь не укусила же! Вот так, наверно, и с людьми: чем-то не глянулся — и на мушку. Эх, был бы автомат, изрешетил бы, гадов, — и в подсолнухи, ищи-свищи!
Но ничего, кроме складника да ещё пряща с боеприпасом, у него при себе не было. Как, впрочем, не было и страха или растерянности. К злости примешивалось сожаление, что не успели выйти со двора: дять Саша вторые сутки не емши и неизвестно, когда теперь они к нему прорвутся.
Наобливавшись, солдаты отправились к машинам, а офицер с одним из подчинённых прошли к дереву. Запихиваясь, старшой тряс ветки, а солдат, одной рукой посылая в рот грушу за грушей, другой подбирал падающие в ведро; наполнив, ушёл к своим угощать.
Доев последнюю грушу, старшой достал из кобуры пистолет и начал к кому-то подкрадываться. Андрей придвинулся к краю укрытия и увидел: к курам. Не подозревая об опасности, они беспечно копошились под вишней, куда хозяева специально для них высыпали пепел.
Хрястнул выстрел. Всполошно кудахча, неструхи кинулись врассыпную, а одна — трепыхалась в судорогах, вскидываясь кверху, словно подранок. Не струсил лишь петух: озадаченно топтался вокруг неё, что-то недовольно бормоча; несколько раз клюнул подопечную, как бы призывая к порядку… Не оставил её и после того, как «охотник» выстрелил и по нем, лишь отскочил от взметнувшейся рядом земли.
Вероятно, обеспокоенная стрельбой, во двор вышла женщина средних лет и роста, даже издали удивительно похожая на хорошо знакомую Андрею «тёть» Эльзу; догадался: мама Марты. Охотник поднял убитую курицу за лапу и швырнул хозяйке, что-то приказав; та ответила по-немецки и прошла к летней кухне.
А петух всё ещё почему-то не убегал. Недовольно бормоча, издали с опаской поглядывал на незнакомца, забравшего его подругу. Не желая вспугнуть, последний стал целиться издали, но тщательно: опустившись на колено и положив пистолет на запястье левой руки. Переливавшаяся всеми цветами радуги цель не стояла на месте, и стрелок долго не мог поймать её на мушку. Наконец нажал на спуск, щёлкнуло, но выстрела не последовало. Петух, тем не менее, подпрыгнул, сердито кудкудахнул, но… опять-таки не убежал. Немец извлек пустую обойму, затолкнул запасную. И тут случилось совсем уж непонятное: не успел изготовиться снова, как жертва, безо всякого повода высоко подпрыгнув, с кудахтаньем скрылась в акациях… Озадаченный, тот пошёл следом и неожиданно заметил притаившегося в терновничке Андрея.
— О-о!.. — протянул удивлённо, изогнув белесые брови. — Ком гэр!
Он что-то ещё лопотал по-своему — Андрей, разумеется, не понял; зато жест пистолетом был красноречив и означал: подь-ка сюда! Такой поворот дела предусмотрен не был и застал явно врасплох. В растерянности малец даже забыл про прящ в руке. Лишь выбравшись на карачках наружу и поднимаясь с колен, спаситель петуха спешно отвёл руку назад и взмахом кисти отшвырнул улику к кусту.
Не испытывая особой тревоги, прикидывал, что же предпринять? Первая мысль была — метнуться в акации, проскочить в подсолнухи, попробуй догони! Но ведь у него наготове пистолет… Уж на этот раз он не промахнётся, пристрелит — и глазом не моргнёт. Прикинуться чокнутым, будь что будет? Сделал три нерешительных шага навстечу, настороженно глядя в водянисто-голубые вражьи глаза. Собирался уже изобразить придурковато-покорную мину на лице, как вдруг высокомерно-презрительная физиономия гитлеровца исказилась злобной гримасой: это фашист заметил повисшую на кустарнике рогатку с резинками и кожаткой и наверняка догадался о причине неудавшейся охоты на почти ручного петуха. Словно взбесившись, зверем сорвался с места, сгрёб всей пятернёй правое ухо подростка и с таким остервенением крутанул, что брызнула кровь.
Стиснув зубы от боли, Андрей обеими руками вцепился в кулак, нащупал мизинец, отогнул и с силой дёрнул вбок. Тот отпустил ухо, но замахнулся рукояткой пистолета. От удара спасла выработанная боксом реакция: вовремя отшатнулся, и удар пришелся вскользь. Чтобы избежать следующего, отпрыгнул в сторону, но, споткнувшись (схватка случилась на грядке с окученной картошкой), растянулся в полутора-двух метрах. У Андрея ёкнуло серце, когда фашист взвёл пистолет и нацелил дуло промеж глаз…
В этот критический момент на его руке, пронзительно взвизгнув, повисла Марта. Выстрел прогремел, но пуля ушла в землю рядом. Белая от ужаса, вся в слезах, девчонка лепетала что-то по-немецки, кошкой вцепившись в рукав кителя. В следующее мгновение подоспела мать, ухватилась за левую руку — и тоже стала умолять пощадить «киндер».
Нетрудно представить, чем всё бы кончилось, не подоспей солдат с каким-то срочным сообщением. О важности его свидетельствовали возбужденный вид последнего и то, что начальник, выслушивая (Андрей с Мартой, прикрываемые матерью, тем временем пятились к хате), сунул пистолет в кобуру и заспешил к танкеткам в акации.
Во дворе, приставив лестницу к лазу на чердак, мать приказала: — Быстро наверх! И сидеть тихо, пока не позову.
Когда за ребятами захлопнулась дверца, она унесла лестницу за сарай и сунула в густой малинник.
В прохладном сумраке (камышовая, под корешок, кровля не прогревалась даже в августе) спасённые, пригнувшись и держась за руку, пробрались к чердачному окошку в одно стекло и затаились прислушиваясь.
— У те… тебя шея в крови, — часто дыша, шёпотем сказала Марта. — И ру… рубашка… всё плечо. Ты ранен?
— Вроде нет… Из уха, наверно: чуть, гад, не открутил совсем.
— Повернись к свету. Красное, как помидор… Больно?
Носовым платком осторожно промокнула надорванную мочку, принялась удалять кляксы с шеи.
— Печёт немного… Ты не разобрала, о чём докладывал этот прибежавший фриц? Я уловил слово «комиссарен».
— Он сказал, что по шоссе скачет на лошади красный комиссар. И что он уже близко.
— И ты молчала! — Андрей встал на колени и, протерев стекло, припал к окошку.
— Я же ещё не кончила же!.. — упрекнула она, тоже подхватясь. — Надо убрать, пока не засохла. — Продолжила с помощью слюны и платка убирать с шеи кровь, — Говори, что видишь.
— По гравийке со стороны Ивановки на лошади действительно скачет какой-то военный. Уже приближается к мосту… это метров четыреста отсюда. Хорошо видны портупея поверх гимнастёрки… на ремне кобура, а на груди, кажись, футляр от бинокля. Фуражка, как и гимнастёрка, командирские. Похоже, и в самом деле комиссар или командир.
— Всё, Андрюша… весь платок в крови.
— Спасибо. — Он подвинулся, дав и ей место у окошка. — Галопом скачет… Неужли не знает, что тут уже кругом враг?
Словно в подтверждение сказанному, заработал мотор танкетки — она, видимо, развернулась на месте, и в следующий момент резко застучал пулемёт. Тотчас же, вскинувшись на задние ноги, рухнула лошадь; всадник, успев соскочить, кинулся в сторону подсолнухов. Тут последовала ещё очередь, продолжительнее первой, и комиссар (назовем и мы его так), словно споткнувшись, упал…
Фыркая, танкетка напрямик, подминая подсолнухи, устремилась к мосту — небольшому, деревянному, служившему для пропуска весенних вод. С броневика спрыгнул старшой, крадучись приблизился к раненому (тот оказался в стороне от места падения). Через некоторое время оттуда до окошка донёсся слабый хлопок выстрела. После чего танкетка тем же следом вернулась обратно.
— И чего его занесло сюда, этого комиссара?. — вздохнув, нарушила тягостное молчание Марта. — Чтобы так вот умереть…
— Кто-кто, а он-то должен бы знать, что враг уже здесь, — заметил Андрей.
Отошли и сели в метре от окна. Разыгравшаяся трагедия потеснила собственные тревоги, и даже частая стрельба, раздававшаяся по всему хутору, не вызывала особой озабоченности: тоже, видать, на «дичь» охотятся. Когда глаза снова привыкли к сумраку, заметили кучу старого барахла. Марта взяла из неё свёрнутую в рулон половую дорожку домотканной работы, раскатала, предложила садиться.
— Мне бы прилечь. Что-то плечо ноет, этот чёрт задел-таки рукояткой пистолета.
— Ложись. — Она раскатала рядом вторую, ещё одну положила заместо подушки под головы, примостилась рядом. Опершись на локоть, задумчиво смотрела на товарища. Андрей взял её ладошку, положил себе на грудь, крепко пожал.
— Я теперь по гроб жизни твой должник, — признался, глядя в глаза своей спасительницы. Не подоспей ты, мне бы точно хана… Расскажи, как это у тебя вышло.
Она высвободила руку, легла навзничь. — Когда послышалась стрельба, а потом затарахтели эти мотоциклы, мама сразу сунула в закуток под припечком приготовленное для дяди Саши, — начала она неторопливо. — А мне велела залезть под топчан. Хотела выйти на стук, но дедушка придержал, вышел сам. Потом он вернулся и сказал, что немцы ушли к колодцу умываться, а маме приказано приготовить им горячий завтрак. Подали мне старое ватное одеяло, велели не вылезать и вышли. Постелила, лежу. Слышу — выстрел, затем ещё. Почему-то стало страшно за тебя; я оставила убежище и подошла к окну на огород. Вижу, ты вылез из кустов, а он кинулся к тебе с наганом… Не помню, как я распахнула окно, как выпрыгнула, как вцепилась ему в руку… — закончила она свой рассказ.
— Да-а… Ещё секунда — и не успела бы. Никогда не подумал бы, что ты такая храбрая и отчаянная! Он ведь мог прикокнуть и тебя.
— Не знаю, как получилосъ, ведь я, вообще-то, трусиха. Но о себе даже не подумала. Конечно, если б не мама, он отшвырнул бы меня, как котёнка. И не случись этот несчастный комиссар.
— Да, конешно, — согласился спасённый. Помолчав, добавил, с оттенком неприязни: — Я знаешь, что сичас подумал? Вдруг он предатель и спешил сдаться им в плен. Ну не может быть, чтоб командир — и не знал обстановки!
— Даже если и так, — согласилась она. — Но ты обязан ему жизнью и не должен говорить о нём с презрением. Кто б он ни был, мне его жалко.
— Ну, нет… ежли он изменник Родины, то туда ему и дорога!
— Как ты можешь такое говорить! — искренне упрекнула она. — А ещё говоришь — тоже верующий…
— На изменников и предателей милосердие не распространяется, им не может быть прощения!
Последовала долгая пауза. Её прервала Марта вопросом: — Как получилось, что ты — никак не ожидала! — не сумел спрятаться понадёжней? И чем надосадил ему, что он так взбеленился?
— Случайно получилось… А взбеленился потому, что я помешал ему застрелить петуха.
— Помешал? Как это?
— Пужнул из пряща, он и удрал в акации.
— И ты рисковал из-за какого-то петуха? — не одобрила она поступка.
— Не какого-то. А красивого и умного. Навроде тебя.
— Нашел время для комплиментов! — не приняла она шутки.
— Ты же сама говорила, что очень его любишь. Да и мне он нравится. Я и решил спасти его от смерти. Как ты меня.
— Сравнил тоже!..
— Ну, а посля, когда фриц сцапал меня за ухо, я ему чуть ещё и палец не вывихнул, вот он и озверел. А, что было, то прошло…
— Хорошо, если прошло. Ш-ш-ш… — подняла она указательный палец, призывая помолчать: от летней кухни донёсся разговор немца с матерью; Марта прислушалась.
— Что-нибудь поняла из этой джеркотни? — спросил, когда там затихло.
— Почему бы и нет? Только не всё расслышала.
— И о чём они толковали?
— Да так, ничего особенного… Я имею в виду — не о нас с тобой.
— А всё ж? — настоял он.
— Ну… вначале интересовался, скоро ли будет готов завтрак, поторапливал. Мама сказала, что виновата индюшатина, она вкуснее курятины, но уваривается дольше. Спросил, нет ли шнапсу — водки, если по-нашему.
— И всё? А говорили долго.
— Спрашивал за папу — служит ли на стороне большевиков.
— А она что? — допытывался Андрей, видя, что та чего-то недоговариет. — Сказала, что он давно помер?
— Вроде того… Только не помер, а что его расстреляли как врага советской власти.
— Да? — всерьёз удивился он. — Что, так и было? Вчера ты говорила другое.
— Ты как маленький, ей богу!.. Конечно всё не так. Но если честно, я действительно была неточна… А сегодня могу сказать тебе правду. — Марта придвинулась вплотную и стала говорить шёпотом, словно их мог подслушать кто-то посторонний: — Мой папа воевал против фашистов ещё в Испании… Слышал про испанскую революцию?
— Немного знаю.
— Так вот, папа командовал там интернациональным батальоном. И хотя одолеть фашистов не удалось, когда он вернулся на Родину, его представили к ордену и присвоили воинское звание капитан. Потом, ещё перед войной, заслали в Германию разведчиком… Я от мамы только недавно об этом узнала. И орден Красной Звезды своими глазами видела. Не веришь?
— Ну почему ж… Верю. Токо это ведь строгая-престрогая военная тайна!
— Коне-ечно! Мама меня предупреждала. Но тебе я доверяю, ты не разболтаешь.
— Даже если кишки из меня будут тянуть — про это не пикну, — заверил Андрей на полном серьёзе. После паузы спросил о другом: —Ты сказала… она им что, индюшку зарезала?
— Это дедушка, вчера ещё, для дяди Саши. А сварила мама не всю. Может, решила поддобриться, чтоб этот змей про нас не вспомнил.
— Да одной курицы на всех и не хватило бы, — согласился он с таким ее предположением. — А что это за чемоданчик виднеется?
— Где? — не поняла она.
— Вон, из тряпья выглядывает, — показал на кучу хлама.
— Ой, это ж мамина пишущая машинка. Из города прихватили, жалко было оставлять — новенькая.
— Ни разу не приходилось видеть! Можно посмотреть?
— Конечно.
С чемоданчика-футляра сняли крышку. В нём, отливая чёрным лаком, находилось чудо намного сложнее швейной машины, каковую видеть ему уже приходилось.
— Ух, ты! Красивая. Это ж надо придумать! А написано не по-нашему.
— Немецкая, «Ундервуд» называетея. Андрей потрогал клавиши, пошатал рычаг проворота валика, заметил:
— Вот бы нам такую!..
— Зачем она тебе?
— Не мне, Феде, моему соседу. Он годнецкие стихи сочиняет, хочет стать поэтом, а им машинка — во как нужна.
— Иметь такие вещи кому попадя не разрешалось. А теперь, наверно, и тем более. Вот только плохо мама ее спрятала. Давай перепрячем в более укромное место.
Диковину задвинули в тёмный угол и прикрыли всевозможной рухлядью.
Ухо у Андрея вспухло, но жар спал; перестало ныть и плечо. То, что их не стали искать, успокоило окончательно. Только вот что происходит на хуторе? Отчего-то стало тревожно на душе, хотя выстрелов слышно уже не было.
Марта, заложив руки за голову, молча смотрит вверх, прислушиваясь к разговору, доносящемуся со двора, — там уже завтракают. — Ой, глянь!.. — показала на крышу. — Как они нас не покусали…
Андрей поднял глаза — прямо над их головами висело с блюдце величиной пепельно-серое осиное гнездо. По нему взад-вперёд сновали десятка два крупных, с черно-жёлтыми брюшками, ос.
— Не боись, это не фашисты, они первыми не нападают, — успокоил он. — Они, как мы, — нас не трогай и мы не тронем, а ежели разозлишь, тогда берегись:. — А сам подумал: «Хорошо, что невзначай не задели головой — ох и досталось бы на бедность!»
— Неужели тут и ночевать придется?. — понаблюдав за осиным семейством повернулась она к нему — Ежели торопили с завтраком, можно предположить, что скоро умотнут дальше.
— Или — что сильно проголодались… Давай хоть разговаривать, чтоб скорей время прошло.
— Давай. А о чём бы ты хотела?
— Хочу вернуться ко вчерашнему нашему разговору… Помнишь, ты, перед тем, как взлететь уткам, сказал: «А у меня было совсем даже наоборот». Это как понимать?
— Чтой-то не припомню, о чём мы тогда говорили…
— А ещё хвалился отменной памятью!
— Вобще, если честно, то, конешно, помню… Токо…
— Ну вот, опять «токо»; ты ведь уже перешёл было на «только».
— Да понимаешь, ты такой вопрос задала…
Андрей помедлил, обдумывая, как бы поделикатней ответить. Дело том, что «было» у него с той самой Нюськой, не заслуживающей, по его словам, имени поласковей. Это была не любовь и даже не дружба — так, недоразумение, о котором лишний раз и вспоминать не хотелось.
— Если это сердечная тайна, то можешь и не говорить, — пошла навстречу собеседница, видя, что он медлит.
— Да никакая не тайна. Ежли интересуешься, могу и рассказать… Возвращались мы однажды с ерика, ходили купаться. Мы — это трое ребят и две девчонки — Варька и новенькая, которая только недавно появилась на хуторе. Тоже, если не присматриваться, красивая, к тому же весёлая — хохочет по пустякам. Было уже поздно, живет она на самом краю, попросила меня проводить до хаты. Ну, провёл, стоим разговариваем о разной чепухе. Она рассказала о себе такое, что уши вянут. Я даже усомнился, все ли у неё дома. Стал прощаться, а она и говорит: ты не спеши, послушай, что я скажу. Я, говорит, как увидела тебя, так сразу и влюбилась. Стал было отнекиваться, а она за своё: хочу с тобой дружить и всё такое, чуть не со слезами…
Андрей умолк, не желая, видимо распространяться о дальнейшем. Однако Марта, похоже, не нашла в её поведении ничего предосудительного.
— Совсем, как у Татьяны Лариной! — Заметила мечтательно. — А вот у меня смелости не хватило. Я так страдала!
— Только Нюське до Татьяны — как Куцему до зайца. Любовь у ней оказалась вовсе не такая, какую описал Пушкин, — возразил он.
— А по-моему, любовь у всех одинаковая. Я имею в виду девочек.
— Ты слыхала пословицу: «Мать дитя любит и волк овцу любит»?
— Нет. А при чём тут…
— Вторая её половина — как раз про Нюську.
— Она что — хотела тебя съесть? — не взяла в толк собеседница.
— Придется объяснить, раз до тебя не доходит… Нюська в тот же вечер сама полезла целоваться и не только это. Стала мне противная, и больше я с нею не ходил, как ни навязывалась.
Помолчав, Марта заметила:
— В Краснодаре у меня осталась подружка Таня. Она немного старше меня, дружит с мальчиком. Так вот она говорила, что вашему брату от нас ничего другого и не надо.
— Тоже из непутёвых?
— Я бы не сказала. Просто любит его безумно и потакает всем его прихотям.
— Ну, то в городе. А наши девчонки такого с собой не позволяют. И пацаны — редко кто.
— Если ты не из тех «редко кто», то я тебя ещё больше зауважаю, — пообещала она, как если б между ними уже имелась договорённость о взаимном «уважении».
— В этом можешь не сомне…
Не успел договорить из-за треска, донёсшегося снаружи. Кинулись к окошку — по обочине дороги, снижая скорость перед поворотом, один за другим проскаивали не успевшие запылиться мотоциклы; следом прошумели танкетки. Стало тихо до звона в ушах.
— Мар-та! Слезайте! — послышалось через некоторое время со стороны лаза.
Андрей спустился по лестнице вторым. Старшая из спасительниц с любопытством рассматривала «крестника». — Ну, братец, и нагнал же ты нам страху! — были её первые слова. — Жить тебе после такой переделки сто лет. Доча, принеси-ка йод, нужно обработать парню ухо, а то отгниёт — кто за него и замуж пойдёт. И прихвати рудикову рубашку, она в сундучке снизу. Пойдём под навес, Андрюша. Тебя ведь так звать?
— Вобще — Андрей. А вас?
— Зови пока что Ольгой Готлобовной, — улыбнулась та.
— А почему «пока»?
— Будешь моим зятем — глядишь, как-то по-другому станешь звать. — Заметив его смущение, поправилась: — Я, конечно, пошутила, извини.
— Ольга Готлобовна, а почему фрицы драпанули? — оправившись от смущения, спросил он.
— Они, детка, не драпанули… Это был всего лишь передовой отряд.
— А когда нагрянут остальные?
— А может завтра, а может, аж послезавтра, — дала она понять, что он явно злоупотребляет буквой «а». — Я как-то забыла спросить, а они доложить мне об этом не додумались. Для тебя это важно?
— Подольше б их, гадов, не было!
Вышла Марта, неся клетчатую рубашку, пузырёк с йодом и клочок ваты.
— Ну-ка, покажи своё ухо, черномазый… Крепко он тебя оттрепал. Но ничего, до свадьбы заживёт!
— Будем надеяться, что намного раньше, — заметила дочь и перевела разговор на другое: — Мама, как тебе показались непрошенные гости — не страшно было?
— Как показались? — спокойно переспросила она, занявшись Андреем. — На мой взгляд, они излишне грубоваты, даже циничны, нагловаты, самоуверенны… Да это и понятно: не с визитом вежливости пожаловали. — Она вздохнула. — А что до страха, то разве что из-за вас, и то поначалу.
— Этот ихний старшой — он про меня спрашивал?
— Интересовался…. Ты ему палец, что ли, повредил; грозился пристрелить. Но я сказала, что вы убежали в подсолнухи, где вас разве что с собаками разыщешь.
— Я, конешно, придал вам хлопот… Извините. Не думал, что так обернется.
— Он, мама, нашего петушка от явной смерти спас, — похвалилась Марта.
— Да? Каким же образом?
— Этот чёрт хотел и его подстрелить, а Андрей запустил в него из рогатки — в петуха, конечно, — тот и убежал. Этим, кстати, себя и обнаружил — Скорее, некстати. Поступок, конечно, благородный, но не стоило так рисковать из-за птицы, — не одобрила и она.
— Мама, можно, мы сейчас же и отправимся к Александру Сергеевичу? А то он там волнуется! И голодный.
— Сперва покормлю вас — и бегите. Сними-ка свою окровавленную, надень рудикову, — предложила Андрею.
— Мне нужно домой наведаться, — сказал он, сняв рубашку. — Мама, небось, переживает за меня, а у неё больное сердце. Там и подкреплюсь, Солнце близилось к полудню, набирала силу жара. Череду пастухи — ими сегодня были женщины — обеспокоенные случившимся, тронули с пастбища раньше обычного, и она уже шла по хутору. Впереди всех трусцой бежала корова по кличке Свинья (прозванная так ребятами за исключительно «ехидный характер») она спешила укрыться — от мух и оводов в прохладном хлеву. Ей, однако, пришлось перейти на шаг почти у родного подворья: в идущем спереди мальчугане узнала одного из тех, кто частенько «угощал» по рогам. Это был Борис.
— Привет, Шенкобрысь, ты откуда чешешь? — остановил его Андрей.
— От Веры-Мегеры, а ты? — обменялись рукопожатием.
— Мать мою, случаем, не видел? — Он подумал, что если дома всё в порядке, то попросит приятеля вернуться и сообщить ей, мол, «с ним всё благополучно». А сам вернётся, давно ведь должны быть на островке.
— Токо сичас видел. Правда, издаля, — сообщил Борис. — А ты разве еще дома не был?
— Ты, как всегда, догадлив…
— И ничего не знаешь? — удивился тот.
— А что я должен, по-твоему, знать?
— Так ведь соседку ж твою эти гады убили!..
— Какую соседку, ты чё буровишь!..
— Да тёть Шуру Сломову! Своими глазами видел…
— Как, за что?
— За Варьку заступалась. Ну, и…
— За Варьку? Говори толком, что ты цедишь по слову! — волнуясь, потребовал сосед Сломовых.
— Да язык не поворачивается говорить такое… Придёшь — сам узнаешь. А я спешу — не знаю ещё, как там мои.
— Я проходил мимо, видел и мать, и Степашку: живы и здоровы. Давай расскажи, раз видел собственными глазами, — настоял Андрей.
— Ну… — начал тот неохотно, издалека. — Я как раз был у Веры, помогал резать яблоки на сушку, когда нагрянули эти выродки… — Они не спеша двинулись в сторону борисова подворья. — Как токо заслышали стрельбу, сразу за пацанов — и на огород в кукурузу. При-таились, слушаем, что происходит на хуторе. Сперва все было тихо потом пошла стрельба. Одиночная, но перед этим несколько раз вроде как из тяжёлого пулемёта. Причём, на моём краю. Неужли, думаем, расстреливают людей? Говорю Вере: сбегаю домой, узнаю, как там мои — может, уже и в живых нет. Она боится оставаться одна (тёть Лиза куда-то отлучилась), но отпустила. Ну, крадусь, значит, огородами, чтоб не попасться им на глаза. Токо из вашей кукурузы нырнул в сломовские подсолнухи, слышу, кто-то визжит. Варька, что ли, думаю… Завернул в ихний сад, добегаю до краю — так и есть: два здоровенных лба волокут её к ореху, что возле колодезя. У переднего в руке железный автомат, с длинным та-ким рожком. Я сперва подумал, что расстреливать, но потом дошло… Она, конешно, вырывается, визжит, как резаная, отбивается ногами, пытается укусить… А этот, ж-жупел, который второй-то, накрутил косу на руку, оттягивает ей голову назад, а у самого, козла, пасть нараспашку — ему, скоту, смешно… А у меня — ну ничего в руках. Что делать? Я — к вам во двор, думал, найду тебя, что-нибудь придумаем; а там тожеть фрицы и больше никого.
— Нужно было сразу же бежать за Ваньком, — вставил слово Андрей, тупо глядя перед собой.
— А ну как и его тожеть нет дома? Токо время потеряю. Нашёл кирпичину — и назад: будь что будет, думаю, а издеваться не позволю! Ещё издаля замечаю: автомат висит на суку, а они возятся с нею поодаль. Бросил кирпич, крадусь к автомату, ещё бы несколько секунд!.. а тут, откуда ни возьмись, — тёть Шура. Подбежала да как вцепится одному в патлы! Что ж ты, кричит, с дитём-то делаешь, морда бесстыжая! А другой — хвать автомат да по голове её хрясь… Она и повалилась.
Борис умолк, удрученно глядя себе под ноги.
— А что ж с Варей, её не отпустили? — с надеждой в голосе поднял Андрей на него глаза.
— Какой там!.. — Борис снова умолк, не в силах продолжать. — Ты бы слышал, как она кричала, звала на помощь… А потом замолкла, как если б ей рот зажали.
— И ты на всё это спокойно глядел? — с осуждением упрекнул Андрей товарища. — Надо ж было что-то делать!
— Что я мог сделать с пустыми руками? А у него автомат: взял наизготовку и зырит по сторонам, не бежит ли ещё кто на выручку. А насчёт «спокойно» — думаешь, мне не больно было всё это видеть… слушать, как она зовёт: спасите, где ж вы все подевались?.
Оправдания Андрей вряд ли слышал. Остекленелым взглядом, потрясённый услышанным, молча и тупо смотрел перед собой, ничего не видя сквозь навернувшиеся слёзы.
— Во двор не заходил? — спросил уже на подходе к борисову подворью.
— Там было полно соседей. Хотел узнать, что и как, но меня завернули, сказали — пока нельзя.
Убедившись, что с матерью всё в порядке, возвращаться Андрей передумал, и когда Борис прошёл в свою калитку, направился к Марте. Там его уже поджидали.
— Дома всё благополучно? — поинтересовалась Ольга Готлобовна.
— С мамой? Нормально…
— Ну и хорошо, что нормально. Хотя по твоему виду этого не скажешь, — От неё не ускользнуло угнетённое состояние паренька, но расспрашивать не стала. — Можете отправляться, — разрешила дочери.
Перемена не осталась незамеченной и для Марты. Передавая влажную ещё рубашку (успела «простирнуть»), она посмотрела оценивающим взглядом.
— Ты чё так смотришь? — заметил он.
— Какой-то ты не такой… — пожала плечом. — И могу поспорить, что ты не подкрепился.
Убежала в хату и спустя несколько минут выволокла объёмистый узел. Андрей подхватил его, и они побежали к проезду в подсолнухах.
Здесь было по-вчерашнему душно, и они вскоре перешли на шаг. Андрей снял рубашку.
— Давай сюда, — запихнула в узел и её. — Духотища такая, что и я не против наполовину раздеться… Но вчера я вроде и недолго побыла раздетой, а кожа порозовела — даже мама заметила.
— Не ругала, что при мне была раздетой?
— Она у меня понятливая.
— Мне твоя мама тоже очень понравилась… Ты шаровары скинь до лимана. И давай не сильно спешить, сёдни — не вчера.
— Ага, человек там ждет — не дождется… Ну-ка, два дня не евши! Да, я ж тебе пирожков прихватила. С картошкой. Будешь?
— Давай. Как ты догадалась, что я не поел дома?
— Что-то подсказало… И ещё мне показалось, что ты плакал. Вкусные? — не дождавшись ни подтверждения, ни отрицания, спросила видя, как он уписывает за обе щёки.
— Очень! У твоей мамы — золотые руки.
— Эти я делала сама, — похвалилась она.
— Сурьёзно? Тогда у вас у обоих золотые. И руки, и сердца.
— Спасибо. Только не у «обоих», а у «обеих». Запомни.
Оттого ли, что угодила с пирожками, или по душе пришелся комплимент, а скорее и то и другое стали причиной прекрасного настроения. У неё. Держась за узел с другой стороны, шла едва ли не вприпрыжку, ловила взгляд спутника, всякий раз улыбаясь, пыталась разговорить. Но тому было не до веселья. Гнетущая борисова весть не выходила из головы ни на минуту. Тёть Шуру он любил, как родную, и невозможно было смириться с мыслью, что её уже нет в живых… А Варя — сердце кровью обливается, как подумаешь, какие несчастья свалились на ее голову. Ох, Варя, Варя, за что же судьба обошлась с тобой так жестоко? А как смотреть теперь в глаза Ваньку, куда деться от позора, ведь она его так любит!..
— Андрюша, ты пришёл чем-то расстроенный, — заметила она ему наконец. — И сейчас, вижу, не в настроении…
— Откуда ему взяться после всего, что произошло, — ответил, не вдаваясь в суть, вздохнул и снова умолк надолго.
Он решил не говорить ей о случившемся — всё равно ведъ узнает, так пусть лучше от кого другого. Язык не поворачивался говорить с девчонкой о таком. Она, может, и слова-то такого ещё не слыхала — «насильничать»; спросит, что это такое, а как объяснишь?
Лишь у лимана разговор возобновился. Марта не сдержалась, чтоб не набрать букет цветов. Каждому новому радовалась, как дитя конфете.
— Скажи, чудная гроздь? — поделилась восхищением с ним. — Не знаешь, как называется?
— Заячий горошек, — ответил безразлично.
— Понюхай, какой изумительный запах! — предложила другой экземпляр.
— Запах, как запах, ничего особенного… И вобше, нюхай ты их сама, — отмахнулся от очередного «чуда».
Заметил: обиделась. Осудил себя за невоспитанность: всю дорогу молчал, как сыч, да ещё и нагрубил ни за что. Она-то ведь не знает, что у него тяжко на душе. Через силу улыбнулся:
— Нет, они, конешно, очень красивые и душистые. Особенно этот. Дай-ка нюхну. — Понюхал, покрутил в пальцах. — Пахнет, как мёд. А как будет по-немецкому цветы?
— По-немецки, — поправила она. — Один — ди блюме, а если много — «блюмен».
— А это самое… как сказать: я люблю цветы?
— Ихь либе блюмен.
— Их либэ блюмен, — дважды повторил он. — А как по-немецки местоимение «тебя»?
— Дихь… — она задержала на нём взгляд. — А зачем тебе знать?
— Так просто… Спросил из любопытства. Мы с пацанами тоже придумали что-то вроде немецкого, — поспешил он переменить тему разговора. — Когда в войну играли.
— Интересно! Скажи что-нибудь на своём немецком.
— Пожалста: спаты-спакра-спаси-спава-спая спаде-спаво-спачка, — протараторил «немец».
— Тарабарщина какая-то, а не немецкий, — пожала она плечами.
— Сперворазу никто не понимает, эт точно. Но потом быстро научается и понимать, и разговаривать.
— Как быстро — за неделю, за месяц?
— Ежли догадливый, то и за час можно.
Марта посмотрела на него с сомнением, как бы говоря: ну и мастер ты заливать!
— Всё очень даже просто, — стал ей объяснять. — Слово разбиваем на слоги, например: ха-та. Потом перед каждым слогом произносим какую-нибудь приставку, допустим — «спа». Получается: спаха-спата. Уловила?
— Ну-ка, повтори-ка ещё раз. Только помедленней.
— Слушай внимательно: спама-спарта, спаты, спакра-спаси-спава-спая, спаде-спаво-спачка.
На этот раз она разобрала: Марта, ты красивая девочка.
— Схватила только первое слово: Марта, — не созналась она из скромности. — Скажи ещё что-нибудь.
— Кау-каже, спака-спаже-спаца, накапри-накашли, — несколько усложнил он фразу, но она тут же воскликнула обрадованно:
— Хоть ты и хотел меня запутать, но я поняла всё! Ты сказал: «Уже, кажется, пришли».
— Ну вот, а ты говорила! Теперь уж точно начинаешь мне нравиться. За сообразительность, конешно.
— Спасибо и на том…
Расстояние до островка преодолели быстро: Марта всё больше осваивалась с ролью помощницы, работая шестом. Попробовала было и веслом, но тут не совсем получалось: лодка норовила повернуть обратно.
Судя по широкой улыбке, какой встретил их появление подопечный, здесь и впрямь заждались.
— Уже и не надеялся, что будете сегодня у меня. — Ухватил за скобу и вытащил лодку на треть длины. — Здравствуй, Андрюша, здравствуй, Марточка! — пожал он обоим руки в ответ на приветствие устное.
— Фрицы задержали…
— Я так и подумал: стрельба слышна была и сюда… И вы не убоялись — среди бела дня?
— А их уже на хуторе нет. Натворили делов и укатили, изверги рода человеческого.
— Дядя Саша, как ваша рука, без осложнений? Возьмите вот, — передала узел Марта.
— Спасибо, пока что не беспокоила. Тяж-жёлый! Небось, устали тащить.
— Не-е, мы ж несли вдвоём.
На верху островка появился довольно просторный шалаш из зелёного камыша. Покатые стенки защищали от палящих лучей, продувался ветерком, сегодня посвежевшим настолько, что не звенел ни один комар. Здесь, в холодке, хватило места всем.
— Ну-ка, показывай, что там такое тяжёлое, — видя, что Марта распаковывает узел, сказал лётчик, не скрывая нетерпения.
Сегодня он выглядел отдохнувшим, посвежевшим с лица, без волдырей от комариных ужаливаний. Успел соорудить жильё и вскипятить воды: под треногой висел накрытый тарелкой котелок.
— Мы положили тут всё, о чём вы вчера беспокоились, — стала объяснять хозяйка, доставая нечто большое, завёрнутое в полотенце. — Андрюш, расправь немного парашюта — будет заместо скатерти.
От полотенца исходил вкуснейший аромат свежеиспечённого хлеба, и глазам предстала круглая зарумянившаяся буханка, разрезанная начетверо.
— Ух-х! — потянув носом, воскликнул лётчик. — Ну и дух, просто голова кружится! — Отщипнул от горбушки. — Даже ещё тёплый!
За хлебом на импровизированной скатерти стала появляться и другая снедь; Марта поясняла:
— Это вот варёная индюшатина. Здесь соль… Помоги же больному разломить! — подсказала напарнику; тот достал ножик и помог отделить индюшиный окорок. — А здесь завёрнуто сало: оно солёное, долго не испортится; будет вам прозапас. Тут ещё кое-что из одежды — посмотрите сами, — отложила узел в сторону. — Куртка, рубашка, брюки; ношенные, но ещё крепкие; дедушкины, должны вам подойти.
— Огромное вам спасибо! — завтракая, поблагодарил изголодавшийся островитянин.
— Подкрепляйтесь да посмотрим рану. Мама велела обязательно сменить повязку на стерильную.
— Рана не беспокоит. — Он пошевелил пальцами больной руки. — Но раз мама велела, значит, сделаем. Сами-то вы не голодны?
— За нас не беспокойтесь, — заверил Андрей. — Марта, а где ж груши?
— Ой, я и забыла! Они в самом низу. А ещё вам записка! — спохватилась она. Вылезла из шалаша, достала из «кармана» на груди сложенный вчетверо и пришпиленный булавкой носовой платок — в нём лежал клочок бумаги. Вернувшись вручила его адресату.
— Ну-ка, что тут… — стал пробегать глазами, перестав при этом дожёвывать откушенное. Пройдясь несколько раз, сунул в карман, снова накинулся на еду. — Так что там за делов натворили изверги рода человеческого? — спросил после некоторой паузы, глядя на всё ещё коричневое от йода ухо Андрея.
— Немец чуть было не застрелил Андрюшку!..
— Даже так? — испуганно вскинул голову лётчик. — Ухо — это его работа?
— Ухо — ерунда… Соседку, тетъ Шуру, насмерть убили. Автоматом по голове.
Настала очередь удивиться Марте — почему ж ей не сказал?
— Да-а… Как говорит пословица, подержал недолго, а когти знать. С тобой-то как получилось?
— Глупая история, дять Саша… Не хочется и вспоминать.
— Ну, значит, этот вопрос замнём… Что прошло, то ушло навсегда. Только в дальнейшем старайся не рисковать жизнью без крайней необходимости.
— Больше на авось надеяться не стану, обещаю…
Между тем Марта убрала «со стола», приготовила медицинские принадлежности, уточнила:
— Вода в котелке кипячёная? — Осторожно, с примочкой, отделила тампон. Рана в этот раз не закровоточила. Отсутствовало и нагноение, но выглядела всё ещё устрашающе. — Начала заживать, — заявила, тем не менее, санитарка уверенно. Сделав, что нужно, и забинтовав стерильным, из индпакета, бинтом, предупредила: — Без меня не трогать, пожалуйста! А то как бы не занести инфекцию.
— Слушаюсь, товарищ сестричка! Тебе мама не говорила о содержании записки? — поинтересовался больной.
— Сказала только, что она поможет вам связаться с кем нужно. А что?
— Да вот… Я, пожалуй, к ночи оставлю ваш гостеприимный островок.
— Так скоро? Но обещайте хоть соблюдать осторожность, когда будете менять повязку.
— Обещаю. — улыбнулся выздоравливающий.
— Дять Саша, а чё вы так скоро? Нехай бы поджила рука, а потом уж и…
— Так надо, сынок. «Куй железо, пока горячо».
— Вобще, понял. Но ежли не получится, то возвращайтесь к нам, ладно? У нас с ребятами есть надёжное укрытие. А лодка будет ждать вас у берега.
— Спасибо, воспользуюсь твоим предложением обязательно. Наведаюсь дня через два-три.
Андрей догадался, что в записке указан адрес явки, где лётчику помогут связаться «с кем нужно», то есть со своими. И ещё — что Ольга Готлобовна как-то причастна к оставленному нашими подполью «для организации партизанской борьбы», как выразился дять Саша.
Предвидя скорое расставание, может быть — навсегда, он спросил:
— Дять Саша, может хуть вы знаете: наши скоро вернутся?
— Не стану, Андрюша, врать: я этого не знаю. Но в одно верю твердо — вернутся обязательно!
— И ещё хочу спросить… Он вам сильно нужен? — кивнул на кобуру.
— Ну как же, конечно нужен. Им много врагов не уничтожишь, но если случится безвыходное положение, жизнь подороже продать можно. А зачем тебе пистолет?
— Пока и сам не знаю. Просто у нас с ребятами нет никакого оружия, а оно…
— Вам и иметь его ещё рано. Не детское это дело — воевать. Вы должны выжить обязательно. Чтобы отстраивать страну и продолжить начатое нами.
— А разве не может и у нас случиться так… ну, чтоб подороже. Наши вернутся нескоро — может, через месяц, а то и полгода. Что ж нам, молча терпеть издевательства?
В словах Андрея столько было решимости и недетского гнева, что Александр Сергеевич, вздохнув, заметил:
— Я тебя понимаю… Но и ты должен меня понять. — Достал записку и ещё раз внимательно прошёлся по строчкам, как бы запоминая написанное наизусть.
— Станица Ивановская, знакомое название, — произнёс вслух. — Это где-то недалеко отсюда?
— А вон она виднеется, — показал Андрей на юг. — Видите купол церкви? Там не церква, а настоящий дворец. Километров десять отсюда.
— Понятно. Тут вот сказано, чтобы я эту записку уничтожил на ваших глазах. Спички нынче дефицит, но давай, Андрюша, одну испортим. Ты, похоже, не куришь? В тайнике курева не нашлось.
— Мне что, делать больше нечего, как мозги дурманом затуманивать? И ребята наши никто такой дурью не мается. — Он зажёг спичку, записка вспыхнула. — А вы курите?
— Курил… Но — брошу «такой дурью маяться». А теперь — он достал из кармана часы, — прими, Андрей, вот это в подарок и на память. Не отказывайся, ты их заслужил. Ну и что, если золотые. Бери, Андрюша, не обижай! А это, — снял кольцо с пальца, тоже золотое, — тебе, сестричка. Да, дочка, оно обручальное. Только все мои погибли — и жена, и двое ребятишек… Пусть останется тебе в знак моего глубокого уважения и благодарности.
Ребята ни в какую не соглашались принимать столь дорогие подарки, пока лётчик не привёл ещё один веский довод:
— Мне предстоит погулять по вражьим тылам, и с такими блестящими игрушками это небезопасно.
— Но часы-то, — упирался Андрей, — вам же без них никак нельзя!
— Давай считать дело решенным, — твёрдо настоял на своём даритель. — И будем, пожалуй, прощаться. Я доеду с вами до берега, покажете, где тут у вас пристань. Лодка останется в моём распоряжении, постараюсь управиться с нею одной рукой. Если дня через три-четыре найдете её у берега, значит, я свои дела устроил и сюда уже не вернусь. Ну, а если её не будет…
— Я доберусь до вас вплавь, не беспокойтесь, — заверил Андрей.
— Значит, договорились.
И вот лодка ткнулась в берег. Прощаясь с ребятами за руку, Александр Сергеевич сказал:
— Славные вы ребятки! И друг дружки стоите. Желаю вам долгой дружбы. Хотелось бы встретиться с вами ещё. После войны, если останусь жив, обязательно вас разыщу!
Возвращались налегке. Уже отдалясь, Марта вспомнила про букетик, пристроенный в воду накануне, чтоб не завял; но возвращаться не стали. Набирать новый она тоже сочла неуместным, понимая, что её напарнику не до цветов. Он снова стал угрюм и неразговорчив. Недоумевала: почему не поделился с нею горем и отмалчивается теперь? Но из тактичности вопросов не задавала: сочтёт нужным — скажет сам. Лишь на подходе к кладбищу Андрей нарушил молчанку, спросив:
— Тебе, Марта, сколько лет — уже есть тринадцать?
— Ты что, мне уже четырнадцать! Правда, исполнится в сентябре.
— А какого числа?
— Четырнадцатого.
— Интересное совпадение! Хорошо, что не тринадцать и не тринадцатого числа: говорят, несчастливое. А мне в октябре уже пятнадцать стукнет. И тоже пятнадцатого.
— Надо ж так случиться! — удивилась и она. — А ведь такое совпадение бывает только раз в жизни.
— Эт точно… — согласился он, думая, однако, о чём-то своем. Помолчав, подал голос снова: — Это самое… Извини, конешно, за такой вопрос… Ты слыхала такое слово — «снасильничать?»
Она посмотрела на него с удивлением.
— Допу-устим.
— И знаешь, что оно обозначает?
— Конечно. С десяти лет.
— Вот и хорошо, — сказал он с облегчением. — Хуть не нужно объяснять…
— А зачем тебе вдруг понадобилось?
— Понимаешь… Мы о ней говорили, о Варе.
— Ну и что с того? — всё ещё не могла взять в толк она. — Постой, постой… неужели её…
— Вот именно… А когда тёть Шура, её мама, хотела оборонить, фашист её и убил.
— Какой ужас… Вот уж, действительно, изверги! — известие потрясло и её до глубины души. — Варя-то хоть жива осталась?
— Точно не знаю… — судорожно вздохнул он. — Я вернулся с полдороги. А сообщил мне Борис. Он случайно был свидетелем этого кошмара. — Помолчав, добавил: — Я не хотел говорить тебе об этом. И сама бы после узнала от других. Ежели б не одна просьба. У вас на чердаке пишущая машинка, и ты, наверно, умеешь печатать?
— Плохо: одним пальцем. А что?
— Напечатать бы несколько штук этих, как их, прокламаций… Можно, конешно, и от руки написать, но ежли на машинке, то тогда им будет больше веры. И знаешь, на чём бы напечатать? На фрицевских листовках, которые они сбросили с самолёта, — может, видела?
— Видела, как кружились в воздухе, но не читала: их все тут же собрали.
— А мы опосля нашли штук пятьдесят. В них фрицы себя освободителями величают. Вот и напечатать бы с обратной стороны: теперь вы видите, товарищи, какие они «освободители»! Насильники и убийцы — вот они кто. Их, подлых выродков, изничтожать надо, а не помогать им. И Красная Армия скоро даст им всем по зубам! Люди знаешь, как бы обрадовались и приободрились. Что на это скажешь?
— Полностью с тобой согласна! Я спрошусь у мамы, может, она согласится помочь. Но обещать с уверенностью не могу.
— Я, на всякий случай, штук шесть листовок принесу вечером. Ну, а ежли не согласится, мы напишем от руки. Печатными буквами, чтоб по почерку не нашли.
На этом разговор о прокламациях закончился. Но Андрея удивила, если не сказать заинтриговала, осведомлённость спутницы в столь стыдном деле, как «снасильничанье», и он решил внести ясность.
— Это самое… — начал нерешительно. — Хочу спросить о неприличном. Ты не рассердишься? Но можешь и не отвечать.
— Спрашивай, не рассержусь.
— Откуда ты узнала про… ну, которое называется снасильничать?
— Про изнасилование? Сперва из книжки. Не совсем поняла, что к чему, и спросила у мамы. Она мне всё и объяснила.
— Ка-ак? Она? Тебе про такое? — изумился Андрей.
— А чему ты так удивился, разве твоя мама не объяснила бы?
— Да ты что! Ни в жисть.
— Может, мальчикам знать и необязательно. А вот девочкам такие подробности необходимы. Чтоб не наделали глупостей по незнанию. Так считает моя мама.
— Очень правильно считает, — одобрил Андрей. — Она у тебя грамотная, поэтому. А у моей три класса церковно-приходской. Она…
— Слушай! — прервала его рассуждения Марта. — А ведь мы совсем забыли про комиссара… Может, он тоже ранен и ждет помощи!..
— Навряд, чтоб тот гад оставил его в живых. Мы ведь слышали выстрел из пистолета.
— Всё-таки зайдём узнаем.
— Конешно! Хорошо, что ты вовремя вспомнила.
У подсолнухов свернули налево, добежали до гравийки; несколько минут — и они у моста. Вот она, мёртвая лошадь — изрешеченная пулями, облепленная множеством зелёных мух-падальщиц. Невдалеке от неё, за кюветом в траве, — человек. Лежит навзничь, гимнастёрка и армейские брюки в нескольких местах продырявлены, потемнели от крови; прострелен лоб. Здесь тоже целый рой мух. Успели обсыпать раны, кровоподтёки белым налётом из личинок. Марта присела на корточки, стала соскабливать их пучком травы. Андрей хотел забрать документы убитого, но все карманы оказались пусты и вывернуты наизнанку. Кобура тоже расстёгнута, пустая, хотя запасная обойма на месте. Нет и бинокля.
— Куда ж делись пистолет и бинокль? — рассуждал он вслух. — Ежли б фриц, то он забрал бы и запасную обойму.
— А может, это Лёха помародёрничал? — предположила Марта. — С велосипеда он не мог его не заметить.
— Не забывай, что он на один глаз кривой, а вторым плохо видит. А там чёрт его знает…
— Как же быть с комиссаром? Нельзя же оставлять так. — В голосе её сквозили жалость и сострадание.
— Скажу пацанам, придём, прикопаем.
— Надо бы от мух прикрыть — вон какой рой кружит…
— Зараз наломаю подсолнуховых листьев. — В нескольких метрах от убитого нагнулся. — Марта, глянь, — пистолет ТТ. Точь-в-точь, как у Александра Сергеевича!
— Видать, сам отбросил, — подойдя, предположила она. — На сколько хватило силы. А вон и бинокль, про который ты говорил на чердаке.
— Ты гля! — ещё больше удивился напарник; откинул крышку футляра, достал, приставил к глазам. — Ух ты, этот лучше, чем который я видел недавно у наших. Несмотря что одна половина повреждена пулей.
— Значит, Андрюша, комиссар не в плен сдаваться спешил. Иначе зачем бы он, тяжело раненный, стал бы всё это отбрасывать? Не хотел, чтоб досталось врагу.
— Похоже, ты права… Почему ж тогда он не кокнул этого фрицевского офицеришку, чтоб подороже продать жизнь? Погодь, я кажется, догадываюсь. Точно, — вернулся он к убитому: — Не смог поставить на боевой взвод. Видишь: у него кисть раздроблена.
— Выходит напрасно ты заподозрил его в измене, — заметила Марта.
— Пожалуй… Простите мне, товарищ комиссар, что плохо о вас думал, — присел он возле него на корточки. — А за то, что ценой своей жизни вы спасли наши, мы будем с благодарностью вспоминать вас до конца своих дней!
— Иди уже за листьями, — напомнила Марта, — И неси побольше.
Вечером, перед заходом солнца, они встретились снова.
— Немного припозднился, — сказал извинительно. — Ты не представляешь, сколько хлопот привалило…
— Я видела, как вы везли комиссара на тележке. Там не стали закапывать?
— Похоронить надо по-человечески, как положено, он ведь верняк не предатель. Правда, всех троих придется положить в одну братскую могилку.
— Троих? Варю тоже убили? — догадалась она.
— Задушили… хотя это одно и то же. Видать, потому, что кричала и звала на помощь. Да и как не кричать, когда мать на глазах погибла. Ну, ей и затолкали в рот подол платья. Так, с кляпом, и бросили, наиздевавшись. — Он умолк, чтобы справиться с переживаниями. — Только вот гробов сколотить не из чего… Утром повезут хоронить.
— А ты разве на похоронах не будешь?
— Хотелось бы проводить в последний путь, Варя была мне как сестра. Но завтра коров пасти, подошла наша очередь.
— А листовки принёс? Маму мне уговорить удалось. Насилу упросила.
— Передай ей большое спасибо, скажи, что никто не узнает, чья работа.
— Я ей за тебя поручилась.
На верхушках акаций догорали последние отблески уходящего на покой светила. Андрей достал из кармана часы посмотреть время.
— Спешишь? Сколько натикало?
— Уже девять с четвертью.
— А я кольцо отдала маме. Она сказала, после войны сделаем из него красивые серёжки.
— Мар-та! Ужинать, — позвали от сеней.
— Иду-у! До свидания, — убежала с листовками в руке.
… Примерно раз в месяц подходила очередь пасти череду. Повинность для ребят привычная, нетрудная и в хорошую погоду даже приятная. По крайней мере для Андрея. Её он отбывал охотно, припадёт ли пасти с соседом Федей или же соседкой, то есть Варькой. Последний раз пасли с нею в середине июля.
Матери, как всегда в таких случаях, подняли рано. Глаза слипались, первые шаги были сонными; но утренняя свежесть, зябкая роса с придорожных кустов вскоре взбодрили, сонливость — как корова языком слизнула.
Бурёнки норовили заскочить в подсолнухи, уже готовые зацвесть, чтобы урвать лакомую «шляпку». Варька всякий раз кидалась вовремя завернуть несознательную худобину, опередить в этом напарника.
— Чё ты за ими бегаешь, — зевая с недосыпу, сделал замечание тот. — Дай хуть одну угостить по рёбрам.
— Они же не понимают, что нельзя, — возразила она, косясь на «угощение».
— Всё они понимают!.. Куд-да морду задрала?! — погрозил он кийком очередной лакомке.
Этой палкой с утолщением на одном конце обзавелся он давно, изрядно потренировался попаданию в цель и теперь промахивался редко. Шкодливые особи (киёк предназначался только для них) знали об этом прекрасно. Даже самая хитромудрая из этой категории, Свинья, которая многим играет на нервах, не давая спокойно полежать в холодке в полуденную жарынь; которая только о том и помышляет, как бы улизнуть из стада в чью-нибудь молодую кукурузу, — так вот, даже она становится благоразумней, когда череду пасёт Андрей. Правда, попытки «чухнуть» она изредка предпринимает и в его дни, но стоит тому показать киек и прикрикнуть, как тут же разворачивается и спешит обратно.
… Солнце поднялось над степью, припекало. Нахватавшись по холодку, бурёнки улеглись отдыхать, отрыгивая и сосредоточенно перетирая жвачку, сонно мотая головами и хвостами, чтобы отпугивать навязчивых мух. Сели завтракать и пастухи.
— Ты запасся, будто на цельный день, — кивнула Варька на андрееву сумку; её запасы выглядели скромнее.
— Мамка перестаралась. — Он заглянул внутрь. — И правда: чуть не полбуханки, пять яиц, сало и целая головка чесноку, — стал перечислять содержимое. — А вот про молоко забыла…
— У меня глянь, какая бутыль! Хочешь?
— Оставишь немного. А чё ты всё глаз трёшь?
— Что-то попало и муляет, как зараза… Ты сперва отпей, сколько сможешь, а потом я.
— Ничё, я тожеть не брезгливый, ешь, — разрешил и занялся уничтожением своих запасов. Заметив, что у той только хлеб да молоко, предложил: — Угощайся: хошь — сало с чесноком, или вот яйца варёные. А то до обеда ещё далековато.
— Я, вобще-то, поесть люблю… Токо мне нельзя, и так чересчур толстая.
— Да ничё не толстая! Очень дажеть нормальная. Ешь, никого не слушай.
Сумки опустошили. Андрей поднялся осмотреть стадо. Свинья тоже лежала, хотя и в сторонке — ближе к хутору. Снова растянулся на траве, раскинув руки и глядя в небо. Хорошо! В бледно-голубой, без единого облачка выси парит степной орёл, лишь изредка шевеля крыльями. Пониже, заливаясь звонкой трелью, трепыхается жаворонок. Перелетают с цветка на цветок пчёлы, шмели, бабочки. Одни сборщики цветочных деликатесов садятся, другие, зависая неподвижно, извлекают нектар с помощью длинного жала. Запах стоит изумительный.
Рядом Варька кряхтит и сморкается. Приподнялся — оттягивает веко за ресницы.
— Варь, хочешь, гляну, что там у тебя застряло, — предложил помощь.
— Посмотри, пожалуста! — обрадовалась она. — Режет — нет спасу…
Подошёл, встал возле неё, откинувшейся навзничь, на колени. Осторожно оттянул, слегка вывернув, нижнее веко: глазное яблоко покраснело — натёрла; раздражителя не видно, как ни всматривался.
— Ничего, Варь, нету.
— Смотри лучше, должно быть! Я же чуйствую. Осмотри верхнее, может, там? — Осмотр верхнего тоже ничего не дал. — Подожди чуток, нехай глаз отдохнёт, — попросила передышки, вымученно зажмурилась.
Андрей сел сбоку. Её ситцевое платье в синюю редкую горошину, тесноватое вверху. оттопырилось, обнажив груди. «Не здря тебя и дразнят «сисястая», — отводя взгляд, подумал он.
— Ты, Варвара, со всеми так или токо по знакомству? — упрекнул недовольно.
— Ты о чём? — не поняла та.
— Сиськами своими светишь, вот о чём!
Приподняв голову, она зыркнула в пазуху, придавила выкат.
— Извини… Не до того мне. Да и не боюсь я тебя.
— Это как же понимать? — набычился он.
— А так, что чужого я и на десять метров к себе не подпустила бы, запорошись хоть оба глаза.
— Спасибо за доверие… Но всё одно совесть надо иметь!
— А иди ты, моралист несчастный!..
Андрей не стал отвечать на грубость, лег и занялся своими мыслями. Какое это чудо — летняя кубанская степь! Что за прелесть так вот лежать в высокой траве, среди цветов и яркой зелени, полной грудью вдыхать аромат, закрыв глаза, слушать его музыку! Ни забот тебе, ни хлопот, ни уроков — вольный, как птица. Вот ежли б ещё не война. По бате соскучился. Давно не было и писем. Где он зараз, что в эти минуты делает? А может, уже и в живых нет, как у Сломовых, недавно получивших похоронку. Проклятые фрицы! А поговаривают, что могут и сюда достать, — что тогда с нами будет?.
— Андрик, ты на меня обиделся? — подала голос Варька.
— Врач на больных не обижается.
— У меня раз такое уже было. Так мама языком. Сразу и нашла.
— Давай попробую и я… — Лег наискосок, опираясь на локти и стараясь не налегать на «сиськи». — Начнём с верхнего века, подержи-ка за ресничку… Локоть чуть в сторонку, мешает. — Поелозил кончиком языка, слеза оказалась солёноватой, сплюнул. — Кажись, что-то есть!
Со второго захода, не языком, а губой явственно ощутил нечто острое. Присмотрелся — крохотная светлая песчинка.
— Вот она, твоя мучительница, полюбуйся.
Но та и смотреть не стала, вытерла слёзы, поморгала, села.
— Вроде полегчало. Большое тебе спасибо, Андрик! Хочешь, поцелую за это.
— Чево-о? — отверг он предложение. — Иди вон с Лёхой целуйся!
— На гада он мне сдался! — с раздражением, какого он за нею и не подозревал, отмежевалась она. — Я его презираю и ненавижу!
— А он хвалился, что ты с ним свиданировала.
— Брешет, как собака, гад одноглазый.
— Что-то ж было, раз такая на него злая, — добивался он.
— Токо не то, о чём он трепится.
— Что же, ежли не секрет?
Она помедлила, затем решительно подняла глаза:
— А было то, что пристал он ко мне в балке, затащил в вербы, повалил… Думал, осилит, но я как сцапала за…. за одно больное место, он аж взвыл. Теперь и десятому закажет!
— Почему ж ты мне не сказала об этом сразу?
— Ничего б ты ему не сделал, он знаешь, какой сильный!..
— Зато Ванько за тебя голову б ему открутил!
— Ваня? — пристально посмотрела соседу в глаза. — Думаешь, стал бы из-за меня?.
— А то нет? Ты ж ему здорово нравишься!
— Так я тебе и поверила! Он и разговаривать-то со мной избегает.
— Заячьей крови много, токо и всего.
— Это у него-то? Брешешь ты всё!..
— Честное благородное, раз уж на то пошло. Я давно хотел сказать тебе об этом, но считал, что у вас с Лёхой и правда что-то есть. Да и он не разрешал: я, говорит, должен сам всё выяснить. И всё не решался, для него услышать «нет» — так и жить не стоит.
Андрей не ожидал, что его сообщение так преобразит соседку: щёки её стали вдруг пунцовыми, лицо расцвело в счастливой улыбке; желая скрыть охватившую её радость, она в смущении отвернулась, затем вскочила, чтобы убежать, но прежде призналась:
— Скажи ему, что он дурачок — я уже год, как его лю… как он мне нравится больше всех на свете! — И вдруг испуганно: — Ой, Андрик, Свинью прозевали!
Схватив киёк, вскочил и он. Свинья, нагнув голову, малой рысью бежала в сторону хутора.
— Ты куд-да, зараза?! — крикнул он и помахал «угощением»; беглянка остановилась, повернула морду, тряхнула рогами — с досады, а может, вспомнила, чем это кончается — и потрусила к стаду, всё ещё отдыхавшему…
Этот недавний эпизод был ещё так памятен! И Андрей не мог смириться с жестоким фактом, что сегодня соседки уже нет в живых…
Покойников, всех троих, положили рядом во дворе осиротевшего дома. Перед этим старухи совершили обряд, как того требует обычай: обмыли, одели в чистое, попричитали. Сейчас — а дело близилось уже к полуночи — они сидели на лавке рядом, о чём-то вполголоса переговариваясь; продежурят так всю ночь.
Женщины помоложе гурьбой стояли поодаль. Делились новостями, которых было немало. Менее четырёх часов пробыли на хуторе супостаты, а сколько всего натворили!.. Перестреляли половину кур, выпили «яйки» и «млеко», подгребли всё, что нашли из съестного, бесчинствовали.
Молодухи вздыхали, охали, горевали: что-то дальше будет!..
Андрей попросил разрешения взглянуть на подругу детства в последний раз. Поднёс керосиновую лампу, откинул покрывало — и отшатнулся: серый лоб, тёмные подглазья, расцарапанная щека, почерневшие, искусанные губы; полурасплетённая коса на груди, сложенные ладошка на ладошку руки… Как всё это непохоже на всегда улыбчивую, излучающую веселье Варьку! У него сжалось сердце от боли и жалости. Поспешно опустил покрывало, поставил на стульчик лампу, но не в силах был подняться с колен, потрясённый жуткой действительностью.
Была Варя — и вот, уже нет среди живых. Ещё вчера видел её вечером весёлой и жизнерадостной, не сводившей глаз с Ванечки, как, не стесняясь, называла она при нём своего ненаглядного. Узнав, что и она ему «здорово ндравится», попросила Андрея ничего не сообщать, а набралась храбрости — и сама, сгорая от волнения и страха, объяснилась в своих чувствах. Встретила, понятно, полную взаимность. Вот только счастье их первой любви длилось недолго…
А тёть Шура — была ведь замечательнейший человек! Добрая, незлобивая, с соседями уживчивая. Жили небогато, но ежли случалось разжиться пряников или конфет — угостит обязательно, специально позовет и угостит, один ли, с Федей или даже с кем втроём попались на глаза. Или вот комиссара — ни за что ведь убил. Ладно бы отстреливался, тогда понятно… Изверги, уроды фашистские, подлые людишки!
Подходили взглянуть и проститься Федя, Миша, Борис. Лишь Ванько почему-то посмотреть сблизка не решился — угрюмо, удрученно, молчаливо смотрел издали; это было, может, самое большое горе в его жизни…
Утром, едва проснувшись, Андрей глянул на часы: без двадцати семь. Вскочил с лежанки, потянулся; заметил на полу листок бумажки. Карандашом, корявым материным почерком было нацарапано: «сынок когда прыдёш згробков низабуть напоить марту ис дому ниотлучайса посли обеда смениш миня пасти коров». Вчера ложились уже после двенадцати, и мать — Андрей засыпал, но помнит — сказала:
— Завтра хоронить, хочется пойтить на гробки — и боюсь, сердце не выдержит. Сёдни так было схватило — думала уже конец мне. Мабуть, сынок, я сама погоню череду на пашу.
Пока управился по хозяйству, во дворе Сломовых уже никого не оказалось. Выскочил на улицу — процессия приближалась к крайнему подворью. Припустился и догнал, когда бричка, запряжённая Слепухой, поворачивала в проезд. Одна из женщин вела клячу под уздцы, остальные, около трёх десятков человек, плелись сзади нестройной колонной на сколько позволяла ширина дороги. Андрей — он из ребят оказался один — шёл сзади на почтительном расстоянии.
Когда телега свернула к кладбищу, женщины сгрудились в плотную толпу. Он обратил внимание, что гомон заметно оживился. Приблизившись, разглядел бумажку с изображением красноармейца, вонзившего винтовку штыком в землю; одна из женщин читала что-то вслух, другие с интересом прислушивались, то и дело подавая реплики. Бумажки были у двоих или троих, в том числе у крёстной. Она осмотрела её с обеих сторон (читать, Андрей знал, почти не умела), удивилась:
— Ты гля, дажеть напечатано! На какой даве с араплану кидали. На, почитай услух, — передала листовку соседке, — а то я погано бачу.
Андрей навострил было уши, но расслышать толком не удавалось из-за галдежа. Догадывался, в чём дело, но не верилось, что напечатали ночью да к тому же успели оставить на видном месте. Приурочить к похоронам — это надо додуматься! Хотелось и самому прочесть, но получил отказ:
— Тоби низзя, це для взрослых. И никому не болтай про тэ, шо чув та бачив, пойняв?
Между тем прибыли на место. Мужик на деревяшке вместо ноги да дед лет семидесяти подготовили не слишком глубокую, но широкую яму Потом выяснилось, что вырыть её помог Ванько, но самого его здесь не оказалось.
Покойников, завернутых кто во что, бережно опустили вниз, положили рядком, накрыли домотканной рядюжкой. Бросая горсть земли, многие прослезились:
— Хай земля вам будеть пухом!..
— Царство вам небесное, мученики!..
Бросил и Андрей три горсти. Глаза его затуманились, дрогнул подбородок; стиснув зубы, чтоб не разреветься, отошёл от могилы, смахнул слёзы, успокоился. Не дожидаясь окончания похорон, заспешил обратно.
В сторонке от тропы заметил бумажку, поднял. Да это ж прокламация! «Дорогие хуторяне! — прочел на обратной стороне листовки. — Не верьте вражьей пропаганде — тому, что утверждается на обратной стороне: всё это ложь! Столица нашей Родины Москва не сдана врагу, Красная Армия не разгромлена, она с каждым днём укрепляет свою мощь. Измотав врага, скоро перейдёт в наступление, и фашистским извергам недолго осталось бесчинствовать на кубанской земле. Не падайте духом, верьте в нашу победу!»
Кроме листовок, он передал и текст, но этот показался ему намного лучше — грамотней и в самую точку. Сунув листовку в карман, на радостях сорвался с места и бежал до конца плантации: хотелось поскорее увидеть Марту и поблагодарить. У калитки свистнул, подождал, но никто не вышел. «Может, не хочут, чтоб нас видели вместе посторонние» — решил он и ушёл.
После обеденной дойки коровы отдыхали в сумрачных, нежарких хлевах, пока спадёт полуденный зной, и только в третьем часу пополудни их снова выгоняли «на пашу». К этому времени один из пастухов-очередников (по договорённости или кто помоложе) по издавна заведённому правилу отправлялся в противоположный конец хутора собирать гурт. Так делалось потому, что хозяйки, лишь на короткое время прибегавшие с работы, подоив, снова спешили обратно, и пастух зачастую сам отпирал хлев и понуждал корову, а то ещё овечку или телка-бузевка, покидать убежище. Андрей, хоть в этот раз и не было такой необходимости — все хозяйки дома, вышел пораньше: хотелось встретиться и поговорить с Мартой. Чтобы не быть замеченным Борисом или Мишкой, прибежал балкой.
— А я тебя утром видела, — сообщила она. — Угадай, где?
— Когда пробегал мимо вашего двора?.
— Не угадал. У кладбища.
— Ну да! Тебя там не было.
— А вот и была! Разбросала прокламации и спряталась в подсолнухах. Видела как ты прочитал одну и потом припустился бегом.
— Надо было окликнуть: я так хотел тебя видеть! Чтоб поблагодарить.
— Опасалась, что нас увидят. Да ты и пролетел, как пуля. Я сперва, удивилась: говорил ведь, подошла очередь пасти стадо, но потом догадалась: маме нельзя волноваться, и она пасёт вместо тебя.
— Ну ты и сообразительная, чес-слово! — похвалил он. — И ещё молодчина и умница. И твоя мама — тоже. Сколько штук напечатали?
— Все шесть. Как к ним отнеслись женщины?
— Радовались — очень. Удивлялись, конешно: неужли подпольщики — у нас на хуторе, раз так быстро всё сделали. Прочитали и порвали на мелкие кусочки. Я просил — не дали да ещё и предупредили, чтоб не болтал об увиденном. Так что всё будет шито-крыто! Но мне уже пора, доскажу опосля.
— Вечером приходи, буду ждать.
У раздавленных танкеткой ворот повстречал Мишку и Бориса, только что выпроводивших своих бурёнок. Поздоровался.
— Привет. Ты чё это, все же дома, — заметил последний.
— Да так, по привычке…
При дележе разрезанного на полоски противогаза Мише по жребию достались неровные, хорошего пряща из них не получилось; к тому же одна резинка вскоре лопнула, что страшно его огорчило. И Андрей подарил ему свой, злополучный. Рогатка его выглядывала из накладного кармана куцих штанов, второй отдувался запасом «камушков». Заметив, что бывший хозяин остановил взгляд на карманах, Миша тут же спрятал рогатку глубже, предупредив:
— Чур, назад раки не лазят!
— Не боись, назад не потребую, — успокоил он меньшого товарища. — Только не забудь, что я просил.
— Завтра же сделаю на него засаду!
— На кого это? — спросил Борис.
— Какой-то приблудный кот Мурзика совсем забодал — житья не дает. Вы чем намерены заняться?
— Да вот, хочем к вам в помощники напроситься, — сообщил Борис.
До конца хутора к компании присоединился и Ванько. Все пятеро — друзья сызмалу: вместе росли, учились, шалили, а то и хулиганили: совершали вылазки на бахчи, виноградники, на орехи, и не только на колхозные. Случалосъ, ночью проверяли содержимое колодцев, куда в летнее время некоторые хозяйки опускают свежеприготовленный борщ с мясом, молоко либо узвар…
Этим проделкам вскоре пришёл конец: двадцать второе июня сорок первого года круто оборвало беспечное, бездумное детство; кончились и радости, и шалости. А последовавшие дни, и особенно вчерашний, сделали ребят взрослыми не по годам.
Как-то само собой получилось, что они, не сговариваясь, собрались сегодня все вместе без, казалось бы, видимой причины. Пасти впятером — такого ещё не было. Но и не с бухты-барахты…
Когда, прибыв на место, худоба дружно набросилась — на разнотравье, друзья поднялись на высокий курган. Здесь всегда свежий ветерок, отсюда не то что стадо — вся округа как на ладони. Вон, в стороне, пасется гурт северной половины хутора. Коров намного больше, но пастухов тоже двое, на этот раз женщины. И те, и эти пастухи следят, чтобы гурты не смешивались, иначе вечером получается неразбериха. На восточной окраине хутора сиротливо стоят бригадные постройки: конюшня, бычатня с базом — ещё недавно они не были пустыми. Посреди бригадного стана задрал шею колодезный журавель с деревянной бадьей на длинном шесте; вплотную к срубу примыкает дощатое корыто для водопоя — безлюдно и тут. Несколько в стороне — два деревянных амбара под черепичными крышами — это из них забрали зерно хуторяне. Поблизу от них — учётчицкая, она же бывшая контора бригады. К стану вплотную примыкает и сам хутор Дальний — два порядка хат с грунтовой дорогой посередине. Эти хаты-мазанки, саманные да турлучные, построены казачьей голытьбой ещё до советской власти; крыты камышом или кугой. И лишь несколько домов, кирпичных и под железо, скрашивали унылый вид довольно невзрачной улицы.
На вершине кургана ребята расположились в холодке под развесистым ясенем, именно для холодка посадили они это дерево прошлой осенью. До этого саженцы дважды усыхали. Тогда Ванько приволок на плечах вот этот ясень, которому, судя по толщине ствола, было уже не менее пяти-шести лет. Вырыли обширную яму, удобрили коровьими лепёхами, несколько раз по весне полили, и дерево оделось в богатую листву.
Кроме Андрея, никто ещё не знал в подробностях того, чему невольным свидетелем пришлось стать Борису. Разговор начался со вчерашних событий: по просьбе товарищей он ещё раз рассказал, как всё было. Во время его рассказа на Ванька смотреть избегали… Он, казалось, окаменел. Стиснутые челюсти с подрагивающими желваками, застывший взгляд, сжатые до белизны кулачищи делали его неузнаваемым…
— Не я на них наскочил!.. — выдавил он зловеще. — Я бы выдрал им… с корнями… чтоб и помочиться было нечем!..
И это не было сказано просто так, в бессильной злобе. С пятого класса Ванько жил у тёти, материной сестры, в нескольких километрах от хутора — по причине удалённости школы-десятилетки, находившейся в центре станицы. От тётиного дома, хоть он и стоял на самом краю, до школы было гораздо ближе, и родители вынуждены были мириться с разлукой.
Матрена Никитична — тётя Мотря, как с детства привык называть её племянник — жила одиноко, бездетно и довольно зажиточно: имела неплохой дом, корову, вела хозяйство, прилично заработывала. В племяннике — души не чаяла.
На хлебном элеваторе, где она трудилась уже много лет, в числе прочих служб имелась кузница, и Ваньку нравилось проводить там всё свободное от уроков время, помогая кузнецу Серафимычу. Уже в тринадцать лет он, плечистый, широкогрудый и коренастый крепыш, к немалому удивлению взрослых — не всякому это удавалось — мог запросто «поцеловать» из-за плеча увесистый кузнечный молот. В четырнадцать никто не мог победить его «на локотках». А помогать Серафимычу отковывать оси, валы и другие крупные поделки, требующие от молотобойца недюженных сил и сноровки, было для него, без преувеличения сказать, истинным удовольствием.
Год тому назад отца призвала война, и Агафья Никитична, мать, забрала сына к себе напостоянно.
До его возвращения сверстникам, собравшимся ныне на кургане, жилось ох как несладко. Упоминавшиеся уже Лёха с дружками — Плешивым (прозванным так из-за незарастающего волосами пятна на голове) и Гундосым — давно уже притесняли «иногородних», не давая ребятам спокойного житья. Андрею и его приятелям нужно было находиться в постоянной готовности к козням и враждебным вылазкам: на ерике — не оставлять без присмотра одежду, иначе не только рукава рубах, но и штанины придется долго особождать от «сухарей с примочкой»; ходить балкой можно было только гурьбой, в одиночку рискуешь быть встречен и поколочен. Ерик кишел раками, но часто улов, а то и раколовки бывали самым наглым образом отнимаемы «кулацкими выродками», как промеж себя называли их ребята. В столь незавидном положении находились они до тех пор, пока ихнего полку не прибыло — вернулся домой Ванько.
Случилось так, что на следующее утро Агафья Никитична обнаружила; кто-то ночью побывал в их огороде на бахче и порядком насвинячил: переколошмачено половина арбузов, исчезли начинавшие желтеть дыньки. Ванько поделился новостью с Федей и Андреем, и оказалось, что несколькими днями раньше с их бахчами сделали то же самое. При этом хулиганы утеряли фуражку со сломанным лаковым козырьком — её не раз видели на Лёхе. В тот же день как ещё одно доказательство в вербах напротив огорода Гаповских обнаружили кучу свежих арбузных и дынных корок; устроили засаду.
Ждать долго не пришлось. Лёха с Гундосым орешником, растущим по меже, спустились зачем-то в балку и повстречались с поджидавшими носом к носу.
— Здорово, Леша! — поприветствовал Ванько первым. — Давненько не виделись.
Тот неохотно, но всё же подал руку, переложив цип (кусок железного прута, согнутого с одного конца наподобие трости), с которым не расставался, в левую. И тут же, скривившись, как если бы пальцы прищемили дверью, присел, пытаясь выдернуть ладонь из сильной лапы противника. Цип выронил, его подхватил Андрей. Гундосый попытался удрать, но его перехватили.
— Ты шо, сказывся?! — потряс побелевшими пальцами Гапон.
Сграбастав обоих за участки одежды, называемые в обиходе шкирками, и встряхнув так, что дружки клацнули зубами, Ванько подвёл их к арбузным недоедкам.
— Это вы тут пировали?
— Так це ж наши кавуны, дэ хочемо, там и имо, — сипло промямлил Гундосый. При этом глаза у обоих воровато забегали.
— А почему эта фуражка оказалась на моём баштане? Или, может, это не твоя? — посмотрел Лёхе в глаза.
— Моя… Може, ии найшлы собакы та и занэслы на ваши городы, — сделал тот неуклюжую попытку отвести подозрения. — Бо я цю хуражку давно уже выкынув гэть.
— И заодно потоптали кавуны? Не темни, занесли её туда двухногие собаки, похожие на вас, — возразил Ванько. — Вот так: пока не слопаете эти три недозрелые арбуза, отсюда не уйдёте. Присаживайтесь и чтоб отчитались корками!
Силком усадил арбузятников на землю. Стальной пруток в мизинец толщиной согнул в виде буквы «С», в образовавшееся полукольцо просунул их ноги — одного правую, другого левую повыше щиколоток и свёл цип в кольцо.
— Освободим через час. И без фокусов! — предупредили огородных разбойников и оставили одних.
Едва ребята ушли, как те попытались сдвоенными усилиями цип разогнуть, но это оказалось не под силу. Освободиться не удалось, и пришлось «слопать» и отчитаться корками.
Так был положен конец верховенству и произволу этой троицы, самой распоясанной на хуторе.
Приведён этот почти годичной давности эпизод вовсе не для того, чтобы лишний раз показать: вот-де какой силач один из героев нашего повествования; просто автор считает, что случись на месте Бориса Ванько, он сумел бы осуществить высказанную в отношении насильников угрозу. Словно очнувшись от забытья, он судорожно вздохнул.
— Даже не верится, что это было всего лишь позавчера, а не во сне… — Спохватившись, что размышляет вслух, Ванько пояснил: — В понедельник везли с нею от амбаров зерно. Специально убежали от теть Шуры, чтоб поговорить о своём. В ушах звенит еще ее голос… В тот день была она такая веселая и красивая! Хотелось посадить её поверх мешков и прокатить, как ребёнка. А вечером — сидим под хатой, комары надоедают, где-то неподалёку гремит, аж стекла прыгают, а ей ничего. Хоть и война, говорит, и грешно в этом сознаваться, но всё равно я сейчас самая счастливая на свете. Всё просила посидеть ещё немного, будто чувствовала, что в последний раз…
По гравийке ползла колонна вражеской техники. Андрей, как и другие, молча смотрел на эту армаду, но думал о другом. Душевная боль, сквозившая в словах товарища, сжимала и его сердце, была ему очень понятна. Вот почему Ванько вчера так и не решился взглянуть на замученную подругу и не остался сегодня до похорон — он верняк не сдержал бы слёз… А может, хотел оставить её в памяти такой, какую любил, какую видел в последний раз живою.
Вспомнив, что прихватил с собой бинокль, достал его из сумки, к немалому удивлению остальных. Стали по очереди наблюдать за происходящим на гравийке. В него, хоть и неисправна одна половина, видно было так, словно эти машины, тягачи и танки ползут в какой-нибудь сотне метров отсюда.
— Ну ты, Андрон, и ж-жупел! — упрекнул его Борис, передавая бинокль Мише. — Я противогаз не стал припрятывать — сразу отдал на общий котёл. А ты, выходит, нашёл биноколь и решил помалкивать?
Значения слова «жупел» он (как, впрочем, и остальные) не знал и пользовался им в качестве бранного. В данном случае «жупел» мог означать что-то вроде жука или гуся.
Чтобы отвести от себя подозрения в нечестности (сокрытии находки в день обследования зарослей), Андрею пришлось рассказать, каким образом оказался у него этот бинокль; а поскольку все знали о пустой кобуре комиссара — то заодно сообщил и о найденном там же пистолете ТТ с двумя обоймами. Не желая пока упоминать о лётчике и Марте, представил события так: возвращался с гравийки, услышал стрельбу, влез на дерево и увидел, как фрицы расстреляли комиссара.
Услышав о пистолете, Миша уступил бинокль Феде.
— Пистолет ТТ, с двумя полными обоймами? — переспросил он, весь преобразившись. — Ну и ну, воще! Как же его фриц не забрал?
— Комиссар, чтоб он не достался врагу, отбросил и пистолет, и бинокль далеко в сторону. Достал из кобуры, хотел, видно, пристрелить фашиста, а потом себя, но из-за ранения руки не смог поставить на боевой взвод, — пояснил Андрей, сам в это поверивший.
— От бы стрельнуть, хоть разочек, из пистолета! — загорелся Миша. — Из ружья палил, наши за сливы разрешили один раз из винтовки; вчера даже из шмайссера попробовал. А из пистолета не приходилось.
— Да погоди ты, Патронка! — перебил его Борис. — Ты, наверно, и во сне стреляешь!.. Чтой-то я не пойму, — стал опять допытываться у Андрея. — Получается, когда мы в обед встретились, ты про комиссара уже знал — и тянул резину до самого вечера?
— Братцы, а кто это на нашем островке поселился? — воскликнул вдруг Федя. — Какой-то тип уже шалаш поставил и уху замастыривает: виден дымок над треногой с котелком. Как же он туда попал?
Невооружённым глазом этого видно не было, Миша попросил глянуть в бинокль. Таиться дальше не имело смысла, и Андрею пришлось рассказать всё — от воздушного боя до подаренных часов.
— Ишь ты, золотые! — удивлённо воскликнул Борис, — А не снял ли ты их с руки комиссара?
— Щас как в лоб закатаю! — вспылил Андрей. — За мародёра меня принимаешь?
— А чё ж тогда сразу не признался?
— Боря, перестань придираться. Значит, так надо было, — заступился Ванько. — Лично я Андрею верю. — Он тоже навёл бинокль на островок и долго рассматривал. — И куда ж он теперь?
— Собирался вроде в Ивановку. Там у него, говорил, есть знакомые, они сведут с партизанами.
— Думает, что там есть партизаны?
— Так прямо не говорил, — поправился Андрей. — Но считает, что наши верняк оставили людей для подпольной работы и организации партизанской борьбы. Не только в Ивановке — может даже и у нас на хуторе. Глянь вот, — достал из кармана сложенную вчетверо прокламацию, — что я нашёл сёдни возле кладбища.
— Вот это да! Быстро сработано, — прочитав, удивился Ванько. — Но… не верится, что и у нас на хуторе могут быть подпольщики!
— Ну, может, не на нашей стороне… Или даже в станице, — пожал плечами Андрей.
— Если так, то это ж, братцы, здорово! У меня аж на душе повеселело.
Прокламация пошла по рукам, её перечитывали, удивляясь и радуясь: в случае чего можно надеяться на защиту. Лишь Андрею становилось не по себе: он жалел, что заварил эту кашу. Выручила Свинья: намереваясь удрать на хутор, она отделилась от гурта, и он поднялся завернуть. В этот раз он был благодарен ей за возможность отлучиться: стало страшно неудобно за обман товарищей. «И зачем только дёрнуло меня с этой дурацкой прокламацией, — корил он себя. — Одно дело, когда нужно поддержать дух и настроение у женщин; но дурить друзей — непорядочно!» И теперь промах уже не поправить — поздно. Это значит рассекретить Ольгу Готлобовну. Вдруг она и вправду подпольщица? 3а это говорит многое. Взять, например, йод и бинты: не своровала ж она их в госпитале на случай, что дочь порежет палец при чистке картошки! Или хлеб: где по нынешним временам возьмёшь белой пшеничной муки, да ещё ежли ты приезжий? Ясно: её снабдили всем необходимым, оставляя для работы в тылу противника. А записка дять Саше? В ней верняк указан был пароль и адрес подпольной явки. Но почему тогда пошла она на такой риск? Из уважения за то, что спасли советского лётчика, который теперь уничтожит ещё не одного фашиста?
Когда вернулся на курган, здесь всё ещё говорили о подпольщиках.
— А давайте — слышь, Андрей? — заговорщически понизив голос, предложил Миша, — давайте знаете что, разузнаем, где у подпольщиков штаб или…
— Это ещё зачем? — насторожился Борис.
— Попросим, чтоб и нас приняли в партизаны. А чё? Выдадут по пистолету… или даже по шмайссеру. Да! я ж вам так и не рассказал, как мне удалось пострелять из фрицевского автомата. Рассказать?
— Давай, токо покороче и без брехни, — согласился выслушать Борис. — А то я тебя, жупела, знаю…
— Ну, значит, так. Сижу это я во дворе, квасолю из стручков лузаю. Вдруг слышу — ды-ды-ды, ды-ды! Из пулемёта шмаляют. Смотрю, а они — гур, гур на мотоциках вдоль хутора…
— Ты, Патронка, дело говори, — напомнил Борис.
— Так я дело и говорю. Два мотоцика с четырьмя фрицами завернули к нам во двор. У нас возле колодезя кадушка с водой, налили, чтоб не рассыхалась. Они — давай из неё обливаться. А потом один за автомат — и по курам бац, бац одиночными. Трёх укокошил, подзывает меня; булькочет, как индюк, и некоторые слова по-нашему. Вобщем, заставляет скубать перья. А я показал на шмайссер и на куру: дай, мол, и я одну кокну. Он дотямкал, ухмыляется, но протягивает: карашо, делай курка капут. Оттянул затвор, показывает, как нажимать на курок — за тумака меня принимает. Три выстрела сделал. Хотел очередью попробовать, снял с предохранителя, но он заметил и отбрал.
— Как же они у тебя не разбежались, пока стрелял? — засомневался Андрей.
— Так они ж у нас в загородке, чтоб не шкодили.
— Ну и как, попал в куру? — спросил Борис.
— Дурак я, что ли, в собственную худобу целиться! А автомат у них годнецкий, нам бы таких парочку!
— И что б ты с ними делал? — заметил Ванько, отложив бинокль. — Палил бы по воронам, как когда-то из ружья?
— Почему это по воронам, — обиделся пацан. — Пригодились бы для другого! Мало ли чего… Они будут с нами что хотеть, то и делать, а мы лапки кверху и хвостиком вилять?
— А чё, он дело говорит, — заступился Борис за соседа. — Ежли б я вчера успел схватить автомат, я б им показал! И вобще в другой раз в зубы смотреть не стану.
— А ещё, поговаривают, бывшее кулачьё станет теперь хвоста драть да фашистам прислуживать, — заметил Федя. — Оружие не помешало б.
— Теперь у нас есть пистолет на случай чего. А хвосты драть предателям долго не получится, — уверенно пообещал Андрей. — Я спросил у лётчика, так он что сказал: не знаю, говорит, когда война кончится, но что фрицы у нас надолго не задержутся, так это верняк. Красная Армия им ещё покажет, где раки зимуют.
— Вот и я ж про это самое! — подхватил Миша. — Как зачнут их наши дербанить да как попрут с Кубани, мы бы им и помогли.
— Нет, Мишок, хоть ты и складно говоришь, — охладил его пыл Ванько. — У меня на них руки больше твоего чешутся, но… Надо сурьёзно смотреть на дело. Не наше это занятие — воевать, даже если б действительно удалось раздобыть оружие. И особенно рано тебе: мало каши поел.
— Ты не смотри, что мне токо двенадцать! Я уже давно взрослый, — возразил Миша, задетый за живое «кашей». — У Феди в стихе как сказано? «Нас война повзрослила досрочно»! По-твоему, надо сидеть сложа руки и ждать у моря погоды?
— Сидеть сложа руки не придется, — спокойно объяснил старший товарищ. — И тебе тоже, раз уж и ты считаешь себя повзрослевшим досрочно. Конешно, война всех нас сделала старше… И потому мы просто обязаны, пока воюют отцы, не сидеть сложа руки, а действовать.
— Не знаю, что я тогда должен делать, — повёл плечом Миша.
— Вспомни, что говорил позавчера: нужно привезти пшеницы всем, у кого много ребятишек.
— Ну, говорил, так что?
— А может, им и ещё чего нужно, как ты думаешь?
— Воще — конешно: корму худобе на зиму помочь припасти, топлива, — сообразил он.
— А первым делом — помочь управится с огородами — картошку выкопать, кукурузу убрать, бодылку срубить, — добавил Борис. — Я тёть Лизе давно уже помогаю по хозяйству.
— Не тёть Лизе, а Верке, потому что в женихи набиваешься, — уточнил Миша.
— Подсолнухи вон доспевают колхозные — можно навыбивать семечек, — дополнил, в свою очередь, Федя.
— А за хутором до самой станции кукуруза, — напомнил Андрей. — Свою многие зеленцом поварили да и красноармейцы помогли. Можно будет, если не днём, то ночами не поспать.
— Вобщем, ребята, делов навалом, лишь бы не ленились, — подвёл итог Ванько. — Или ты только стрелять взрослый?
— Знаешь, что!.. не наедай, — обиделся любитель пострелять. — Что вы, то и я буду делать, от вас не отстану.
— Вот об этом давайте сёдни и договоримся: чем следует заняться уже с завтрашнего дня.
— Подождите, я только заверну Свинью, — попросил Андрей. — Обратно, зараза, удирать надумала!.. — Прихватив киёк, он вприпрыжку сбежал с кургана.
Вечером матери во дворе не оказалось, но на обычном месте у сарая стояло два ведра с водой. Корова их осушила и зашла в стойло. Андрей прошёл к колодцу, умылся по пояс; в комнате переоделся в новое, и прежде чем отправиться на свидание, зашёл узнать, напоена ли оставшаяся без хозяев сломовская Жданка. Оказалось, что мать уже напоила её и начала доить.
Во дворе бывших соседей к нему, помахивая хвостом, подошёл пёс — годовалый, каштанового окраса, уши торчком. Он поскуливал и так жалобно смотрел на соседа, словно хотел о чём-то спросить.
— Остался ты, Тобик, сироткой… — присев, почесал у него за ушами Андрей. — А пойдём-ка, братец, и ты со мной, попробую помочь твоему горю. Только надо поводок из чего-нибудь сообразить.
На месте, привязав, на всякий случай, кобелька к акации, Андрей негромко свистнул. Марта долго ждать не заставила. Тобик при её приближении зарычал.
— Не боись, он привязан. Тобик, перестань! — приказал собаке, и тот виновато лег.
— Это твой? Какой красивый пёсик! — похвалила она, присев на корточки в метре от животного.
— Понимаешь, он теперь как бы сирота… — стал объяснять Андрей цель привода собаки. — Чувствует, видать, что случилось несчастье: временами как заскулит-завоет, жалобно так, просто сердце разрывается. Жалко бедняжку, вот я и подумал: живёте вы на самом краю, собачку этот гад убил. А Тобик — пёс что надо. Может, думаю, понравится.
— Очень-очень нравится! И кличка красивая. — Обрадованная, Марта хотела приблизиться, но тот предупреждающе обнажил острые белые клыки, коротко рыкнул. — Хочется погладить, но он, наверное, злой и кусается…
— Вобще, чужим не даётся. Но давай я вас познакомлю. — Взяв за ошейник, сжал ему слегка пасть. — Дай понюхать свою руку, а потом погладь. Не боись, не укусит.
— То-обичек, хороший пё-осик, давай познакомимся… Теперь я буду твоей хозяйкой. — Дав обнюхать руки, несколько раз провела ладошкой по спине. Тот поворчал, но незлобиво и виляя мохнатым хвостом.
— Надо бы угостить его чем-нибудь. Он поймет, что к нему с добром, и не станет дичиться.
— Я сейчас! — Она убежала в хату и вскоре вернулась. — Мама пирожков с творогом напекла. Попробуй и ты, такие вкусные! — Угостила Андрея и три оставила собаке.
Учуяв запах, пёс заработал хвостом энергичнее, пристально смотрел на будущую хозяйку. Когда та поднесла пирожок, аккуратно взял и проглотил едва ли не целиком.
— Проголодался, бедняжечка. На вот ещё. Да не спеши, хоть вкус-то распробуй!.. — Скормив гостинец, погладила его снова, и на этот раз Тобик не возражал.
Пока Андрей привязывал его к будке, она спроворила полную кастрюльку похлёбки, сама же поднесла угощение, и знакомство состоялось.
Смеркалось. Слабый ветерок, напоённый терпким запахом доцветающих подсолнухов, был душноват и временами всё ещё горяч. Надоедали комары. Марта предложила — взобраться на навес летней кухни:
— Там их ветерком сдувает. Я раз всю ночь здесь спала, и ни один комарик не укусил. А свежо, особенно под утро, — не то что в комнате.
— А почему тогда только один раз?
— Мы с мамой разложили здесь сушиться резаные фрукты для компота на зиму.
Приставили лестницу, освободили небольшую площадку, уселись рядышком.
— А тут и правда хорошо! — понравилось Андрею. — Можно сидеть хоть всю ночь.
— Лично я не против.
— Потому что комары не кусают?
— И что рядом ты: мне с тобой интересно.
— А мама не заругает, ежли задержишься?
— Она же знает, что я с тобой. И потом, я ведь уже взрослая.
Ответ Андрею не понравился. Нюська, помнится, начинала так же: «Чиво ты стиснясся, мы ить уже зрослыи!» Неужли и эта будет такая же несурьёзная?. Пока он сомневался, опасаясь снова быть разочарованным, Марта спросила:
— А стадо пасти интересно?
— Мне нравится… Мы сёдни пасли впятером: все ребята собрались.
— Так веселее?
— Не поэтому. Наметили кой-какие дела на будующее.
— Правильно — «будущее», без «ю», — поправила она. — Какие именно?
— Да так… Взяли шефство над семьями, где много ребятишек. У некоторых их по трое, а то и четверо.
— Это вы хорошо придумали. А прокламацию показывал?
— Показал… Только потом пожалел. Почему? Они ведь поверили, что её подбросили подпольщики. А мне стало стыдно: какие ж мы с тобой подпольщики? Обманывать товарищей — это нечестно.
— Хотелось, как лучше, — посочувствовала она. — Но ты ведь не…
— Разве ж можно! И ты знаешь, почему.
— Мама строго-настрого предупредила: больше нам не следует заниматься не своим делом. Напомнила насчёт пистолета и парашюта — вы ведь его заберёте сюда? — с ними нужно быть очень осторожными!
— Будь спок, у нас есть где прятать опасные предметы — в пещере.
— Откуда тут пещеры? — удивилась она.
— Ну, не настоящая, конешно… Однажды мы с ребятами нашли лисью нору. За бригадой есть небольшой курганчик, весь заросший тёрном, и мы играли там в войну. Так вот, возле этой норы увидели кости и человеческий череп: лиса выгребла вместе с землёй. Решили, что она наткнулась на старинное захоронение. А там ведь могут быть меч или копье. Такой случай был: нашли не только меч, но и старинные золотые украшения. Ну, принесли лопату, стали втихаря расширять ту нору. Трудились, наверно, с неделю. Ничего такого не нашли, но зато какая получилась пещера — я те дам! Свободно впятером помещаемся. Поиграли, забросили, а недавно оборудовали как следует, сделали внутри ниши, пол застелили матами из куги, вход снаружи замаскировали — не заметишь. Это я её имел в виду, когда говорил, что есть где спрятать Александра Сергеевича. Может, тебе это не интересно? — спохватился он.
— Что ты! Очень интересно, — горячо заверила слушательница. — Познакомишь меня со своими друзьями?
— Конешно, ежели хочешь. Я им уже рассказал и о лётчике, и о тебе. Хотел повременить, но так получилось.
И Андрей поведал о том, как и почему пришлось раскрыть секрет раньше времени.
— Но ты не думай, — заверил, — у них мозги и языки на месте. Я в них уверен, как ты в своей маме. — Глянул на часы: — Ничего, что задерживаемся? Уже перевалило за полночь.
— Ну и что. Я же сказала, что хоть до утра. Знаешь, как скучно без друзей и знакомых! И девочек поблизости нет.
— С подружками тебе не повезло, эт точно. На нашем порядке всего две ровесницы осталось — Вера да Нюська, — посочувствовал он.
— А почему так мало взрослых девочек и ребят?
— Много поумирало в тридцать третьем году. Тут знаешь, какая голодуха была! Я — то не помню, мама рассказывала. Страшно, что было: ели собак, кошек, крыс — ежли, конешно, удавалось кому поймать. Люди пухли, мёрли с голоду сотнями. Даже людоедство было. По полстаниц вымерло!.. Ты разве не знала?
— Мама рассказывала, что был повсюду голод, но что такие ужасы… А почему так случилось — знаешь?
— Конешно: из-за вредительства. Буржуи, скрытые враги народа хотели бунт против советской власти вызвать. Блюхер, Тухачевский, ещё кто-то. Мы их портреты в учебнике все почеркали, учительша велела.
— А мне мама говорила — правда, по секрету, но тебе я могу сказать, особенно теперь… будто всё это устроили евреи, пробравшиеся в правительство.
— Евреи?. — усомнился собеседник. — Что-то не верится. Получается, что они помогали Гитлеру, а он их после этого приказал всех поголовно уничтожить. Даже в листовке сказано: доносите о коммунистах, комиссарах и евреях. Да и товарищ Сталин такого бы не допустил!
— Для меня это тоже тёмный лес. И неинтересно. Расскажи лучше о себе, я хочу знать про тебя всё-всё!
— Может, давай сёдни заканчивать — поздно уже.
— Ещё немножко посидим, а то когда теперь увидимся!..
— Ну почему? Ежли не против, я буду приходить часто: мне с тобой тоже интересно.
— Конечно, приходи! И не обязательно вечером.
— Днём как-то неудобно… Что подумают твои?
— Кто, мама? Да ничего плохого не подумает! — заверила Марта. — Я ее знаю: она о тебе очень хорошего мнения.
— Спасибо. А как ей нравится, что ты считаешь себя уже вполне взрослой?
Она помедлила с ответом.
— Намёк поняла. Но мама уверена в моём благоразумии. А я, конечно, в твоей порядочности: ты ведь не из тех, «редких».
— А вобще-то мы с твоим дедушкой старые друзья, так что запросто можно приходить и днём. А зараз всё-таки пора: поздновато и работы у меня на завтра — вернее, уже сегодня — уйма с самого утра.
После похорон ближайшие соседки поделили немудрящее имущество Александры — какая-никакая утварь, барахлишко, зерно, что привезли накануне, другие съестные припасы — между многодетными матерями; таких, с тремя-четырьмя ртами, было на их «порядке» несколько семей. Не сразу пришли к согласию разве что насчёт Жданки. Коровёнки у многодетных имелись, держать же две — у всех худо с кормами, дай бог с одной-то дотянуть до весны. Предложение забить на мясо отвергнуто было большинством: это дойную-то? у кого рука поднимется? И потом, на хуторе Кисляки живет сестра Александры с детьми — законная наследница; может, представится возможность как-то сообщить. Словом, пока в степи трава, пущай ходит в череде, а там видно будет — глядишь, через месяц-два наши вернутся…
Почти неделю жизнь текла без заметных перемен. По гравийке оживилось машинное движение — сновали и в ту, и в другую стороны, но на хуторе никто из оккупантов не появлялся. Впрочем, перемен не было лишь на андреевом «порядке»; по ту сторону балки они уже происходили. Объявился Гаповский — отец. В период коллективизации он «охотно» вступил в колхоз, сдав инвентарь и худобу, но вскоре бесследно исчез — после того, как пало от потравы несколько обобщённых лошадей; поговаривали, что это его рук дело. Неизвестно, где пропадал он все это время, но с приходом немцев объявился, и новые власти назначили его старостой хутора. Вернулись и ещё двое мужиков, считавшихся призванными на войну; эти дезертиры также, по слухам, заверили «господ немцев», что давно мечтали о свободе от совдепии, и стали полицаями.
Полицейский участок разместился в бывшей учётчицкой, которая стала называться теперь комендатурой. Над её крыльцом вывесили красный флаг, но с белым кругом посередине и жирной свастикой на его фоне. Сюда стали наезжать в легковушке высокопоставленные гитлеровцы. Велась перерегистрация жителей: на обложках паспортов и документов, их заменяющих, ставили в левом верхнем углу какие-то знаки и буквы; у одних они совпадали, у других — нет, что вызывало среди хуторян толки и тревожные предчувствия…
Под вечер третьего дня ребята наведались к лиману — не вернулся ли лётчик. Лодка стояла у берега. Сплавали на островок, забрали лётную одежду и парашют, тайком перенесли в пещеру.
Однажды поутру у двора Сломовых остановилась автомашина. Прибежавший полюбопытствовать Андрей определил: ЗИС-5. С кузова спрыгнул пожилой мужчина с массивной нижней челюстью, сросшимися на переносице бровями и узко посаженными глазами. Серый картуз с удлинённым козырьком сшит из того же материала, что френч и штаны, заправленные в яловые сапоги. Из кабины, где за рулём сидел в такой же униформе мужик помоложе, с трудом вывалилась квадратная краснолицая, с излишней упитанностью женщина в мешковатом платье. Переговариваясь вполголоса, приезжие осмотрели хату, зашли вовнутрь; затем таким же образом обследовали турлучный, крытый кугой, сарай, заглянули в колодец. После чего мужик подал знак шофёру.
Хлопнув дверцей, тот взобрался на верх ЗИСа и стал подавать узлы, оклунки, табуретки и прочий домашний скарб, который хозяева складывали под стенку у сеней.
Подошли мать с соседкой, поздоровались, предложили помощь. Мужик в ответ лишь косо глянул, жена на приветствие ответила, но от помощи отказалась — «сами управимся». Неназойливые попытки разговорить приезжих успехом не увенчались, и соседки ушли.
Андрея непредвиденное появление такого соседа очень обеспокоило. Хата — ладно, не жалко. Но ведь этот мурло со своей толстомясой кикиморой станут теперь хозяевами и сломовской Жданки! А она даёт чуть ли не по ведру молока за удой.
— Мам, а как же корова — неужели им достанется? — спросил он, когда возвращались к себе.
— Мне тожеть этого не хочется, да теперь уже поздно…
— Ничё не поздно! В обед перехватим и во двор больше не пустим — вот и всё. За какие заслуги делать им такой подарок?
— Бог с ними, сынок, не связывайтесь, — безнадёжно махнула рукой мать.
— Подальше от греха, видишь — на машине приехал: не иначе хвашисский прихвостень.
— Мам, да им и в нос не влетит! — не соглашался сын. — Ежли и знают про неё, так мало ли куда подевалась! А наши верняк не донесут.
— Кто-то ж сообщил, что хата пустуеть; може, сказали и про Жданку, — стояла на своём мать. — Раньше не додумались, а теперя опасно.
В другое время Андрей сделал бы, возможно, по-своему. Подростки в его возрасте считают, что они уже сами с усами, и зачастую поступают вопреки. Правильней было бы, считал он, не допустить несправедливости: чем дарить прихвостню, лучше уж забить на мясо, раздать соседям порадовать детвору. Сам он тоже не помнит, когда ел мясо в последний раз. Но он уже имел случай дать маху — и чуть было не поплатился жизнью. Помнил совет дять Саши и обещание впредь не рисковать без особой нужды. К тому же, на кургане условились ничего не предпринимать, не посоветовавшись. И он завернул к Феде.
Сосед на год моложе, хрупче сложением, светловолос. Как и все, имел кличку. Правда, несколько необычную: Хветь Подскажи. Утвердилась она за ним с четвёртого класса по причине того, что был он мастак решать задачки по арифметике, правильно расставлять знаки препинания на диктантах, писал без ошибок суффиксы и прочие падежные окончания. А самое главное — охотно делился знаниями, объяснял непонятное желающим и даже разрешал изредка списывать, если кто не успевал сделатъ уроки дома. Ко всему этому, Федя умел сочинять стихи — складные и лёгкие для запоминания, но это к кличке не относится. Со временем вторая её половина — Подскажи — отпала и осталось лишь «Хветь», производное от имени.
Ещё издали Андрей определил, что сосед занят выжиганием: лёжа на животе, с помощью линзы от бинокля (раскурочили испорченную пулей половинку) старательно выводил на дощечке какие-то письмена. Был так поглощён занятием, что не заметил приближения товарища, и Андрей успел прочесть известное уравнение: Федя + Клава =… Спохватившись, поспешно отложил работу надписью вниз, слегка при этом порозовев.
В отличие от Бориса, не делавшего тайны из своих симпатий в отношении Веры-Мегеры, Федя сердечной привязанности напоказ не выставлял и был у верен, что никто о его тайне не знает. Но шила в мешке, как известно, не утаишь, и приятели догадывались, что ему давненько нравится Клава по кличке Пушок. Жила она далековато — на другой половине хутора, недалеко от бригадного стана. Они ни разу не «встречались», и любовь его была чисто платонической.
— От меня, Хветь, можешь не прятать. — Андрей сел рядом, кивнув на дощечку. — Да и пацаны считают, что Клава — девчуха что надо.
— Тебе больше поговорить не о чём? — не желая рассуждать на столь интимную тему, сказал тот; при этом вид его напоминал выхваченного удочкой ерша с растопыренными колючками.
— Да ты не сердись… дело житейское. Мне, между прочим, тоже одна нравится. А пришёл я по очень сурьёзному делу: на сломовскую хату квартиранты объявились.
— Ну и пусть себе живут!
— Ты ещё не знаешь, кто они такие… Верняк фрицевский холуй.
— Да? — сбросил Федя маску обиженного. — Это уже интересно. Почему так решил?
— Так ведь курице понятно! Приехал на машине — раз; одет во все немецкое, разве что без погон, — два. По рылу видно, что непростых свиней. Но дело не в этом. Жданка-то теперь тоже им достанется — вот чего не хотелось бы!.. Она в обед опять придёт к родному сараю.
— А вот этого допустить никак нельзя! — горячо поддержал его сосед, решительно стукнув себя по коленке кулаком.
— Вот я и хотел: на налыгач — и к тёть Лизе или моей кресной. Но мама решительно против: говорит, это теперь опасно.
— А знаешь, она права, — подумав, согласился Федя. — Ведь если дознается да доложит своему начальству…
— Вобще-то конешно… — Андрей помолчал, размышляя, и предложил вариант: — Слышь, Хветь, этот мужик со своей бабищей, прежде чем сгружать вещи с машины, долго присматривались, словно решали, стоит ли сюда вселяться; даже в колодезь заглядывали. А что, если им туда дохлую кошку или собаку бросить? Без своей воды навряд, чтоб согласились жить.
Федя покрутил головой:
— Ничего из этого не выйдет! Немцы прислали сюда своего надсмотрщика. Есть свободный дом, и он его занял. А окажись неподходящим, захватил бы, какой понравится; с хозяевами церемониться не станут — под зад коленкой и катись, куда хочешь. Согласен?
— Ты меня убедил…
— Знаешь, что неплохо бы, — почесав за ухом, нашёл, кажись, выход рассудительный сосед. — Нужно как-то разнюхать, что он за гусь и чем дышит. Глядишь, предатель, но не конченный подлец. В этом случае неплохо бы втереться в доверие, авось пригодится. И подъехать для этого…
— На Жданке, — догадался Андрей. — Это я запросто. Правда, придется поунижаться…
— Ничего, это для пользы дела. Скоро придёт череда — действуй. А я пройду к Ваньку, поделюсь новостью.
В обед корова привычно свернула к себе во двор, у притворённой двери сарая нетерпеливо взмыкнула. Андрей помог ей зайти и направился к новоявленной хозяйке.
— Це шо ж за товаряка зайшла? — перестав возиться с барахлом, та подозрительно и недобро уставилась на мальца.
«Ну вот, они про неё и не знали», — с сожалением подумал он и, подстраиваясь под её диалект, стал с напускным удивлением объяснять: — Так це ж Жданка, хиба вам про неи не казалы?
Женщина молча сопела, соображая, видимо, что к чему. Растянув губы в некое подобие улыбки, принялся растолковывать:
— Товаряка паслась у череде; у нас череду в обед пригоняють на дойку. Подоить прыдётца вам, но вы не бойтесь: молоко останется вам. А опше, корова теперича будить ваша, черес потому как живьёте тута вы.
— А я й нэ злякалась. Наша, так наша. А ты хто ж такый?
— Я? Тэпэр — ваш сусид. Звать Андрий, а вас?
— Сусид, кажешь? Ну-ну… — начала она воспринимать происходящее; в голосе засквозили нотки заинтересованности.
— Не знаю, як вас по батюшке, а то б росказав про Жданку.
— Мархва Калистративна звать, — назвалась-таки полицайша.
— Так от, Мархва… калика с трактор… — умышленно запутался он в отчестве. — Опшим, тётъ Мархва, дило було так… Та вы прысядьтэ у холодок.
Мархва Калистративна поставила одну из табуреток в тень акации, села, фартуком вытерла вспотевшее лицо; Андрей присел на корточки сбоку. — Вы, може, чулы, а може й ни, — начал он издалека, — шо стало с хазяевамы циеи хаты… Россказать?
— Як знаешь, — без особого интереса согласилась та.
— Тут жилы удвох мать с дочкою… Так от: нимци, як тике принесли нам свободу от большовыков, то у той же самый день дочку знасыльничалы — а ей не було ще й шетнадцяты, — а матиру, шо хотила её оборонытъ, убылы автоматом по голови. — Андрей глянул на Калистративну — произвёл ли его рассказ впечатление; та осталась равнодушна. — И Жданка стала беспрызорной. А я чуйствовав, шо тут станэтэ жить вы, и узявся за нэю ухажуватъ. Ий бо, хрэст на пузо! — и он впервые за всю жизнь перекрестился одним пальцем. — Так шо готовьтэ глэчикы пид молоко, а я поможу напоить товаряку. У вас видро та бичова е?
— Видро — ось, а бичовка… куды ж я ии приткнула?
Верёвка нашлась, и Андрей сбегал к колодцу. Напоив «товаряку», принёс воды и для мытья «глэчиков», то есть кувшинов.
— Теть Мархва, а вы доить можетэ?
— А то ж як! — уверенно заявила та.
— А тёть Шура кем вам доводилась?
— Це яка ж Шура?
— Ну, яка тут жила до вас.
— А чому ты решив, шо мы родычи.
— Як же вы узналы про хату?
— Та вже ж узналы… — не стала она распространяться.
— А вашу, мабуть, разбомбыло?
— Не вгадав. — Ополаскивая посуду, она довольно благожелательно поглядывала в его сторону.
— А-а, дотямкав, — не отставал он. — Вашу нимци забралы, а вам пидсунулы паганэньку.
— Паганэнькый ты отгаднык. Нихто у нас дома не отнимав. Тилькэ вин далэченько, аж у станыци.
— За шо ж вас прогнали на цей хутир?
— Та не прыгналы, а прыслалы, хай тоби бис! — не выдержала дотошности сусида Калистративна. — Гэть уже, сорока любопытна, мини доить трэба.
«Кое-что выяснил, — рассуждал он, уходя. — Прислали командовать нами. Теперь прощупать бы самого».
Вечером снова зашёл во двор вместе с коровой. Хозяин был уже дома. Видимо, только что почистил карабин: поставленный под стену, он блестел смазкой. На гостя покосился неприязненно.
— Добрый вэчир! — поздоровался Андрей. — Тёть Мархва, получите вашу Жданку. Вам помогты напоить?
— Оцэ вин самый, — кивнула та мужу. — Иды, я сама напою.
— Ух ты-ы! — присел он на корточки возле карабина. — Можно подержать?
— Низ-зя! — не глянув на него, грубо буркнул полицай; он сидел на завалинке и посасывал самокрутку.
Андрей придвинулся к нему, пошмыгал носом, поковырял в нем мизинцем, сунул в рот воображаемую козулю — валял дурака.
— Дять, а як вас по батюшке? — перешёл к знакомству и с ним.
— Оно тоби нэ нужно.
— А правду кажуть, шо вси нимци — хвашисты и убывають людэй ни за што?
— Це хто ж так говорыть?
— Та якась бабка казала… Ще в прошлой годе.
— Нимци — люды культурни и заздря никого нэ вбываютъ.
— Оцэ и я ж так думав. А исчо воны прынеслы нам свободу от болшовыков. Я про це узнав из ихнёни лыстовкы. Хочете прочитать? — И он протянул полицаю специально прихваченный экземпляр.
— Дэ взяв? — стал её рассматривать.
— Из араплану кынулы, колы ще тут красни булы. Тэпэр и я знаю, шо означае сэ сэ сэр.
Дочитав, полицай вернул листовку со словами:
— Тут усе оченно правильно сказано. Дай почитать усим, нехай новым властям помогають.
— А то ж як! — пообещал он, шмыгнув для верности пару раз носом и чвиркнув сквозь верхние резцы.
— А зараз ступай, спать пора! — грубовато напомнил полицай.
«Нет, с этим каши не сваришь! «— уходя, сделал вывод Андрей.
Лето, всё ещё жаркое и душное, заметно катилось на убыль. Отзолотилось подсолнуховое поле, посерело; тяжёлые корзинки поникли долу, словно думают думу грустную — уберут ли их нынче вовремя. Пожелтели дыньки в огороде, поспели кавуны. Удались они и на колхозном баштане, но туда «наведываться» стало опасно: сторожит вооружённый полицай. Безвластие кончилось, и жизнь на хуторе переменилась резко, разумеется — к худшему. Объявлен «ноеорднунг» — новый немецкий порядок, обязавший жителей строго выполнять любые распоряжения властей. «За ослушание — расстрел».
На хуторе новой властью стал полицай, сосед Андрея. Он разъезжал теперь на лошади, вооружённый карабином и трёх-хвостой плёткой, которая предназначалась для устрашения не только её. Женщин стали гонять на работы — в сад на сбор фруктов, на копку картошки, на уборку овощей, на бахчу. Колхоз как был, так и остался, но требования ужесто-чились: заставляли гнуть спину от зари до зари, без выходных; отлучаться в обед домой не разрешалось. Собранный урожай отправлялся на станцию — там наладили железнодорожное движение; грузили в вагоны и увозили неизвестно куда.
Настало время ребятам на деле показать, чего стоят их намерения помогать многодетным матерям, «пока воюют отцы», о чём договаривались они на второй день оккупации, собравшись впятером на кургане.
Тогда Андрей взялся шефствовать над крёстной: у неё четверо пацанов и все мал мала меньше. Навестив её, он предупредил, чтобы со всеми своими домашними хлопотами обращалась к нему за помощью, какая только понадобится. Та поблагодарила: помощник ей ох как нужен. Обещала воспользоваться предложением, но время шло, а она так ни с чем пока и не обратилась. За хлопотами — ребята что ни день, то кому-нибудь да помогали управляться по хозяйству — он больше недели её не навещал, пока не хватился: «Может, крестной просто некогда, ведь цельными днями ишачит!» И, дождавшись с работы мать, вечером отправился навестить её и «поспрошатъ», не надо ли чего.
Застал с малышом на руках: кормила грудью полуторагодовалого Васятку. Только что, видимо, вернулась со степу, выглядела усталой и разбитой. Работа под палящим солнцем сделала её неузнаваемой — так осунулась, почернела, постарела.
Устало кивнув на приветствие, перевела взгляд на своё изголодавшееся маленькое чадо. Впрочем, не такое уж и маленькое: опорожнив одну грудь, Васятка самостоятельно отыскал вторую и, обхватив ручонками, усердно трудился, косясь на гостя.
— Ай-я-яй, такой большой — и титьку дудолит! — покачал головой, глядя на него, Андрей. Малыш оторвался от сосца, показал язык и снова принялся за работу; верхняя губа его распухла и посинела. — Чё это у него с губой?
— Бжолку хотел попробовать на язычок… Так, сынулечка? Прям бида с им! Даве чевой-то съел нехорошее — животиком маялся. Ноне прибегаю, а оно, бедненькое, лежить, плачеть и жар як от печки… Тем сорвиголовам токо бы бегать, за дитём присматривать некогда. Ух они какие, нехорошие! — повернулась к младшенькому: — Вот отхожу усех мокрой тряпкой, так будут знать!
Трое сорвиголов тем временем, сидя за столом, уплетали кавун, принесённый матерью с работы. Как ни в чём не бывало, хихикая, постреливали друг в дружку арбузными семечками.
— Ото не будеть усё у рот тащить, — назидательно заметил самый старший, семилетний Никита. — А то как чё — так и на язык.
— А я, крестная, к вам по делу, — напомнил Андрей.
— Ой, я и спросить-то забыла!.. Не с мамкой ли чего? А то мы с ей сёдни в разных местах работали.
— Не, с мамой нормально; я по своему. Вы мне крёсная или не крёсная?
— Вот те на! Чиво ето ты засумлевался? — удивилась крёстная.
— Это вы, видать, во мне засомневались. Мы же с вами договорились: надо чего — только намекните. Хочете, мы вам картошку выкопаем, переберём и в погреб занесём?
— Выкопайте… Но её ежли с мешок наберётся, то и хорошо.
— Как это? — в свою очередь удивился Андрей. — Мы ведь с вами весной вон какой клапоть засадили!
— Ой, сынок! Токо ить и еды, что картошка. С июня, почитай, начала подрывать. Кагала хуть и мала, а кажен день исть просють… И красноармейцы немного помогли: перед тем, как уйтить совсем, зербаржанцы у меня стояли. Голодные, худые, замученные, просють: курсак, мол, балной — кушать нечего. Ну, я и разрешила накопать немного на дорогу. Свои итъ, жалко.
— А мы своим молодой кукурузы наварили. Правда, с колхозного поля, — заметил Андрей. — Тогда, может, кукурузу выломать, она почти вся поспела.
— И выломать бы и кочаны на горище поднять, и бадылку срубить на корм коровке. Тожеть не знаю, чем зимой кормить стану…
— Завтра же с ребятами займемся вашей кукурузой!
— Но у миня, сынок, и заплатить-то вам нечем.
— А никакой платы и не надо. Батьки наши кровь проливают — о плате не думают. Это самое, — поспешил он переменить тему разговора, не желая выслушивать обычные в таких случаях «ну, дай вам бог» или что-нибудь вроде этого. — Вы и вправду меня крестили или понарошку крёсной доводитесь?
— Ну как же, конешно крестила!
— Прям у попа в церкве? — спросил с пренебрежением; как пионер он не признавал бога, с предубеждением относился к религии и попам.
— Не в церкве, но крестил батюшка настоящий. Та чи матъ тебе не рассказувала? Так неладно получилось, что не приведи господь…
— Не-е… А чё такое? Расскажите.
— Може, як-нибуть другим разом? А то я ище с коровкой не управилась — Я, мам, коловку напоил, — сообщил Никита, подсаживаясь и тоже приготовившись слушать. — Ажно два ведла выпила. Я маленьким ведёлком наносил.
— Ты у меня молодчина, — погладила его по вихрам мать. — А в обед подоил?
— Ага. Боле полведла начвилкал. Токо мы ево усе и выдули.
— Ну-ну, вы у меня умницы!
Васятка уже «надудолился» и теребил серебряную, полумесяцем, серёжку в ухе матери, то и дело поводя язычком по распухшей губе. Поцеловав его в лоб и обе щёки, крестная стала расскзывать:
— Было ето в двадцать сёмом году… Жили мы тогда на Ставропольщине, в селе Малая Джалга. Церкву уже были закрыли, но батюшку ещё не выслали. Ну, люди потихоньку и несли к нему крестить на дом. Бабушка твоя на-абожная была, царство ей небесное: с тем что крестить и усе тут. Ну, чи крестить, то и крестить — родителям перечить было не принято, хотя батя твой был уже партейный. Кумой быть попросили меня, а в кумовья взяли… да ты кресного помнишь. Царство и ему небесное, — вздохнула Ивга. — Призвали в один день с твоим батей, а через полгода уже и похоронку принесли… Так от, укутали мы тебя потеплей и вечерком — как зараз помню: снегу навалило, месячно, морозец за нос щипеть, было ето у середине ноября — понесли мы тебя у двоём с кумом к тому батюшке домой. Бабушка снабдила нас узелком — четвертинку сальца да с пяток яиц приберегла для такого случая; жили вы бедно. Приходим. Принял батюшка подношение, отнёс в другую горницу, вернулся и видим: хмурится; видать показалось маловато.
— Они, дармоеды, привыкли грабить простой народ! — заметил Андрей неприязненно.
— Здря ты, сынок, говоришь такое, — заступилась за попов крёстная. — Святые отцы жили тем, что прихожане пожертвують добровольно. А што нашим подношением недоволен стал, так ить и для нево трудные времена настали: отправлять службы запретили, доходу нет, а детишек — их у ево пятеро было — чем-нито кормить нада… Так от, покрестил он…
— Мам, а як крестють, расскажите, — попросил уточнить Никита.
— Як крестють? Када, бывало, в церкве — любо посмотреть: люди усе нарядно одеты, в церкве празнично, обряд правитца неспеша, торжествено. — Она вздохнула, помолчала. — А када Андрюшу крестили, управились враз: прочитал проповедь да наставление — вот и усе крещение. А вот с наречением вышло, как бы ето сказать… нехорошо получилось…
— А что случилось? — спросил бывший новорожденный.
— Что? Полистал батюшка книжку, где сказано, в какой день каким именем нарекать новорожденного, — полистал он её та и говорыть: нарекается, мол, новорожденный раб божий Пахнутием.
— Пафнутием? Это он, гад, назло! — возмутился крестник.
— Хто ево знаить… Може, хотел поторговаться: мол, прибавьте платы, тогда поищу имя покрасивше. А кум як рассвирепел, як хватаеть того батюшку за бороду — да головой об стену, об стену. Это, кричит, тебе пахнутий, а это — махнутий! Ищи подходящее имя, не то усе волосья повыдергаю. Ну, и нарек он тебя Андреем… От так, сынок, тебя и крестили. Лучше б уж никак, — закончила рассказ Ивга.
— Мам, а миня тожеть так крестили? — поинтересовался Никита.
— Нет, сыночек, тебя крестили не тайно и по усем правилам, как положено, — в святой церкве. Уже опосля дедушка Сталин обратно разрешил богослужение. А тех, которые до этого запрещали, усех потом засудили.
— А почему ж церквя не работали у нас? Вон в Ивановке — какая красивая, а забросили, — спросил Андрей.
— Это уже опосля… Объявили на собраниях, что религия — дюже вредный для народа опум.
— Не «опум», а «опиум», — уточнил он. — Отрава, значит, навроде пьянства или курения. Потому как никакого бога нет и никогда не было. Это доказано наукой, и нечего советским людям грамотные мозги затуманивать!
— Може, и нет… — не стала спорить крёстная. — А токо нихто ище на небе не бывал и не знаить, як оно и что… Заговорилась я с вами, ребятки, — спохватилась рассказчица, — а у миня работы набралось — за день не переделать.
— Никак разрешил остаться дома? — удивился Андрей.
— Об етом твой сусид и слухать не хочеть! Завтра чуть свет велел быть на картошке.
— Да-а, дожили, — посочувствовал шеф. — При наших хоть один выходной давали.
— Тут уж не до выходного! — кладя уснувшего сынишку в колыбель, посетовала мать. — Отпускали б в обед хуть на минутку — и на том бы спасиба. Цельный день душа болить: как там дети хазяинують, не случилось ли беды, особливо с маленьким. Сёдни бжола чи оса ужалила, а завтра, ни дай бог, гадюка укусить или ищё какая напасть…
— Насчёт Васятки что-нибудь придумаем, — пообещал он. — Борис своего Степашку носит к Вере Шапориной. Спрошу, может, и за нашим согласится присматривать.
— Попроси, Андрюша, попроси, детка! — обрадовалась Ивга. — У миня бы прям гора с плеч. Я уж её чем-нито отблагодарю.
— Да, вот ещё что, — пришла ему «ценная мысля» перед самым уходом. — Будете копать картошку — завтра или в другой раз — постарайтесь оставить нетронутыми несколько рядков. Так, чтоб меньше кто видел. Пометьте, а потом покажете нам: мы посля выкопаем для вас. Разве ж можно в зиму оставаться без картошки!
— Ой, спасибо, што надоумил! — обрадовалась крёстная. — Обизатильно зделаем. Мешочка хотя б с три-четыре — и то б хватило и исть, и на посад.
Веру упрашивать не понадобилось. — Нехай приводит, мне что пятеро, что шестеро — без разницы. И платы никакой не надо!
Выяснилось, однако, что в пригляде нуждаются ещё трое малышей такого же, ясельного возраста. Заявки поступили и от других шефов — Феди, Ванька и даже Мишки: у их подшефных тоже имелась мелкота, Вера не отказала и им; но ораву в девять огольцов — у неё самой пятеро братьев помладше — потянуть, ребята это понимали, одной ей невмоготу.
— А что, ежли пригласить в помощницы Марту? — предложил Андрей. Я уверен, она согласится.
В ответ на это предложение Борис нахмурился, Федя промолчал, а Миша возразил без всяких обиняков:
— От них нужно держаться подальше! — И добавил: — Обойдёмся без предателей.
Тут следует пояснить.
Некоторое время назад он, живучи по соседству, первым «засек», что за матерью Марты заезжала «фрицевская легковая». А по хутору расползся слух, что квартирантка деда Готлоба, как только в учётчицкой учредили комендатуру, поступила к немцам в услужение. И хоть работала всего лишь переводчицей, хуторская молва стала именовать её не иначе, как предательница и даже немецкая шлюха.
Что до предательства, то Андрей смекнул сразу: верняк поступила на работу к фрицам по заданию наших; насчёт же остального — Марта заверила: «Мама никогда не изменит Родине и тем более папе! «Оттого, что нельзя рассказать об этом товарищам, он мучительно переживал. Но продолжалось это недолго. Вскоре Марта сообщила: намечается изъятие какого-то зерна, которое хуторяне якобы похитили из колхозных амбаров. Более того, передала список, у кого намечается произвести обыски. В нём Андрей нашёл свою фамилию, четырёх своих друзей и всех тех, кому ребята в тот день помогли нагрузить возки и докатить до дому — всего более десятка фамилий только на их порядке.
Надо было срочно что-то предпринимать! В одиночку вряд ли справиться, и он рассказал обо всём Ваньку. Вдвоём, не посвящая в «военную тайну» остальных ребят, они сделали так, что когда на следующее утро нагрянули полицаи во главе с очкастым, круглым, как колобок немцем, они по указанным адресам ничего не нашли. Предупрежденные заблаговременно, хозяйки зерно спрятали кто в кукурузу посреди огорода, кто через дорогу в подсолнухах, кто прикопал оклунки землёй. Экспроприаторы укатили не солоно хлебавши — ко всеобщей радости, и никто не знал, кому обязаны такой удачей.
В том числе и трое из единомышленников. Потому и встретили предложение Андрея относительно Марты холодно, если не сказать неприязненно. Заступился за неё Ванько:
— Ты, Мишок, не прав. Во-первых, дети за родителей не в ответе. И потом, Марта нашему Деду внучкой доводится, — может, у тебя и к нему недоверие?
— Его я уважаю, — буркнул тот. — Он-то надёжный.
— Марта свою надёжность тоже доказала — на лётчике! — напомнил Андрей.
— Я, воще, не настаиваю, — пошел на уступки Мишок. — Ежли вы за, то и я не против.
— А как вы? — вопрос к Борису и Феде.
— А что если… Клавку Лисицкую? — робко предложил последний.
— О! Точно! — подхватил идею Миша. — Нехай лучше Клава Пушок. Они с Веркой и живут почти по соседству.
— А вдруг она не захочет? — возразил Андрей.
— В общем, сделаем так, — рассудил Ванько: — Поручим Андрею, раз он так уверен в Марте, попросить её — Вере помощница нужна уже завтра. А Федя пусть поговорит с Клавой, она тоже лишней не будет.
— Я не смогу… — отказался рекомендатель, смутившись. — Пусть лучше Мишка. Они за одной партой сидели, ему легче договоритъся… поэтому.
— Ну хорошо, поручим это дело тебе, Мишок. Можешь так, чтоб поделикатнее?
— Запросто. А откажется — я ей косы поотрезаю!
— Только попробуй! — пригрозил Федя, чем окончательно разоблачил себя перед всеми.
Был, надо сказать, ещё один вариант — Нюська Косая. Она и живёт-то в двух подворьях от Шапориных; но Борис заверил, что Вера в помощницы её не примет, поскольку глубоко презирает за непутёвое поведение.
— Сама так боится, чтоб я, не то что обнять, а и пальцем не дотронулся, а ревнивая — жутко, — привёл он ещё одну причину недолюбливания соседки.
Андрей знал, что говорил: Марта даже в ладоши захлопала от радости. Коротать дни в одиночестве — «такая скукотища!». Так что назавтра у Веры уже имелась компанейская и добросовестная помощница. Не понадобилось и Мишке грозить отрезанием кос: выслушав, Клава тоже загорелась желанием «не сидеть по домам, сложа руки, когда Родине так тяжело». Это он для верности процитировал ей строчки из последнего фединого стихотворения.
Теперь день у ребят начинался с доставки «своих» яслят к Вере домой. Здесь же намечали они, чем заняться днём. Работы хватало: приспела пора управляться с огородами, и в просьбах-заявках недостатка не было.
Копаясь в чьём-либо огороде, не забывали наведываться и к нянькам — не надо ли чего подсобить и им; делать это охотно вызывался Федя.
Матери возвращались с работы поздно, усталые донельзя, и малышей ребятам приходилось самим же и разносить вечером по домам. Андрею в этом охотно «составляла компанию» Марта. Узнав однажды, что его сосед неравнодушен к Клаве и при этом ужасно застенчив, она на следующий день, улучив минутку, спросила: — Ты, Клавочка, ничего не замечала? По-моему, один из наших мальчиков как-то по-особому на тебя поглядывает… Мне показалось, что ты ему жутко нравишься.
— Не-ет, — протянула та удивлённо. — А кто?
— Ну… может, мне только показалось, — ушла от ответа. — Ты присмотрись-ка сама.
«Наблюдение» подружки — а, надо сказать, девочки сошлись легко и сразу же подружились — Клаву немало заинтриговало… Ей шёл тринадцатый год, а это, как известно, тот возраст, когда подобная новость не может не взволновать.
С нетерпением дождавшись, когда ребята, лихо перемахнув через ивовый шапоринский плетень, отгораживавший подворье от улицы, с весёлым гомоном вновь появились в «садике», она старалась разгадать загадку по их глазам. И абсолютно ничего не заметила. Андрей, улыбаясь, тут же подошёл к Марте и стал что-то увлеченно рассказывать. Борису Вера сразу же вручила два порожних ведра, и он отправился к колодцу за водой. Про Ванька она знала, что тот долго ещё будет помнить Варю — ему не до неё. Мишка? Ну уж нет! Несурьёзный, баламут и девчонок за людей не считает; к тому же моложе её. Это он, Патронка несчастная, дал ей кличку «Пушок» — за то, что зимой ходила в школу в белой пуховой шапочке — мохнатой, из козьего пуха, которую бабушка связала ей ко дню рождения. Остаётся Федя… Он, конечно, мальчик что надо. Долго возился с нею, помогая разобраться с задачками про бассейн и трубы, когда через одну вода наливается, а через другую — наоборот. Долго потому, что умышленно делала вид, будто никак не «врубится «. Ещё тогда она влюбилась в него по уши, только он ничего не заметил…
На следующий день своими безрезультатными наблюдениями она поделилась с Мартой.
— Ну, значит, мне просто показалось, — не раскрыла подружка тайны и в тот раз. — А тебе, вообще, кто-нибудь из ребят нравится, если не секрет? — поинтересовалась на всякий случай.
— Признаюсь тебе по секрету: ещё с прошлой зимы мне нравится Федя. Но разве ж я ему пара?.
— Почему ты думаешь, что он тебе не пара?
— Да не он, а я ему не пара: он такой умный. И к тому ж ещё поэт.
— Ты, по-моему, тоже неглупая и к тому же очень красивая девочка.
Так ответила Марта и решила испробовать тот же приём по отношению к нерешительному влюблённому: «под большим секретом» поделилась и с ним своими якобы наблюдениями.
На следующий день уже он внимательно посмотрел в глаза Клаве и даже попросил помочь донести мачневскую малышку Олю. Та согласилась охотно. И с того вечера ей не страшно было возвращаться домой через балку: у неё появился постоянный, очень обходительный и надежный провожатый.
Андрей загодя предупредил Марту, что с утра придут выкопать дедушкину картошку. Она осталась дома и к приходу ребят напекла пшеничных оладьев, а Деда приготовил большую миску душистого майского мёду (он держал два улья пчёл).
Последнее время внуковы друзья нечасто баловали старика своим вниманием, и он был искренне растроган, когда те, прибыв, крепко жали ему руку, проявляя прежнее доброжелательное отношение. Не разлюбили, пострелята, старого наставника! А что может быть лестнее и дороже, чем добрая память тех, кому не скупился он в своё время на дружбу и внимание.
С восторгом встретил старых знакомых и Тобик: пёс помнил приятелей былой своей хозяйки…
Копкой картошки занимался обычно Ванько. И сегодня он прихватил свою, особую, лопату: по ширине — с совковую подборку, откованную из стального лемеха на заказ элеваторским кузнецом Серафимычем. Неподъемную для других, он легко вгонял её под куст без нажатия стопой, и уже через несколько минут, ковыряя, словно бульдозер, обеспечил всех работой; клубни дружно застучали о ведра.
Борис, из уважения к помощнице своей «мегеры», которая не могла ею нахвалиться, держался возле Марты и всячески старался услужить: относил высыпать наполняемые ею вёдра, развлекал байками, на которые был непревзойдённый мастак.
— Слышь, Марток, не утруждала бы ты свои нежные лапки, — предложил он ей. — Займись чем-нито, а мы и без тебя управимся.
— Посмотри, — обиделась она, показывая ладошки, — какие ж они нежные? Видишь мозоли — вот и вот. Я не белоручка!
— Это я уже давно заметил, — согласился доброхот. — Беру свои слова назад. А хочешь, поделюсь жизненным опытом, как нужно управляться с домашним хозяйством. С этим у меня — будь спок!
— Поделись, — не стала та чураться чужого опыта. — Позаимствую, если он стоящий.
— Оченно дажеть стоющий! Можешь не сумлеваться.
— А я и не сум-ле-ваюсь.
Ей знакома уже была его манера «украшать» речь простонародными словечками (в обычном разговоре он ими не щеголял), и она догадывалась, что Борис хочет её посмешить, воспользовавшись подходящим случаем.
— Токо я не у виде лекции. Расскажу один пизот, случившийся — Мишка не даст сбрехать — у самом деле. Вот токо опорожню вёдра.
— Ну щас накидает, хуть эскиватором отгребай! — усмехнулся Миша. — Не стоко правды, скоко присочинит.
— Дело, значитца, було так, — начал, вернувшись, Борис. — Собрались однажды мои папаня с маманей в станицу за покупками. Было это давно, еще до войны… в конце, кажись, июня и под воскресенье. Ну, даёт мне маманя с вечера наказ. Ты ж, говорит, сыночек, смотри тут: мы возвернёмся где-то аж после обеда, оставляем хозяйство на тебя — чтоб был полный порядок. Долго не спи, а как встанешь, первым делом выпусти квочку с цыплятами, посыпь им пшена и налей в сковородку воды. Да почаще потом поглядывай, не нашкодила бы шулика. Коршун, значит. Хрюшка заскургычет — наложи ей в корыто жратвы, ведро будет возле сажа. И ещё, сынок, вот что: в сенцах на скрыне макитра с тестом, придём — буду хлеб печъ. Так ты поглядывай и на неё: станет лезть наружу — потолкай качалкой, опара и осядет. И последнее: там же стоит махотка с топлёной сметаной — постарайся сколотить масло. Ну и, конешно, жди гостинцев — пряников и конфет.
Ванько, пропахав треть делянки, воткнул лопату и тоже хотел переключиться на выборку клубней.
— С этим мы и без тебя справимся, — заметил ему Борис. — Ослобони лучше мешки, а то ссыпать некуда.
— Ой, они же тяжёлые, надо бы вдвоём, — обеспокоилась Марта.
— Ко-во? Плохо ты нашего Кульку знаешь! На него, верблюда, хуть три навали — не крякнет.
И действительно: к её удивлению, тот, позавязывав, подхватил по мешку на каждое плечо и легко понёс во двор.
— Слухай, чё было дальше, — вернулся он к прерванному рассказу. — Проснулся я, аж когда солнце через окно стало так припекать, что мне приснилось, наче сам Змей Горыныч мне в глаза огонь из ноздрей пуляет. Свинья не то чтоб скургычет, а орёть так, как ежели б ей в пятачок второе кольцо замастыривали. Аж Тузик из конуры подвывает — то ли с перепугу, то ли из солидарности. Схватился, выбегаю узнать, чё излучилось. Оказалось, хавронья всего-навсего жрать требует. Перебьешься, говорю, не околеешь; сперва цыплаков выпущу. А она, каналья, увидела меня — и пуще прежнего завизжала. Ладно, сам себе думаю, ублаготворю, а то аж в ушах лящит. А у ней в сажу, как всегда, дерьма выше копыт. Хотел из корыта вычистить, открыл дверку, а она, вражина, ка-ак сиганёт через него наружу, чуть меня не повалила. Бодай ты, говорю, сдохла! 3нал бы, что такая наглая, не стал бы и гигиену наводить!.. Ну, вытащил корыто из сажа, почистил, вывалил в него всё, что было в ведре, — жри, тварюка, хуть тресни, чтоб ты подавилась! А она, подлая, почавкала-почавкала, поковыряла — да как подденет рылом, корыто ажно вверх торомашками очутилось… Ах, вот ты как, ж-жупела вонючая! Ну, трескай вместях с мусором. Плюнул и пошёл выпускать квочу. Отодвинул заслонку (они ночевали под грубой), а оттуда — десятка два жёлтых шариков: шустрые такие, пищат с голодухи, ищут, чего бы схавать. Поймал одного, самого сим-патичненького, разглядываю, а эта дурёха мамаша решила, видно, что я хочу слопать её выродка живьём, — ка-ак сиганёть, как меня долбанёть!.. Хорошо, хуть не в глаз. Хотел, придурастую, ногой завдать, да промахнулся. Ну, посыпал им пшена — налетели, как цыганчата на орехи. Вертаюсь в сени, припоминаю: чтой-то мне ещё наказывали? Ах, да: самое приятное из занятий — сбить масло. Взял махотку, сел на доливку, зажал промеж колен, шурую сбивалкой да время от времени на язык пробую. Тебе не приходилось масла сбивать? Э, жаль: вкуснотища! Через каких-нибудь минут пять слышу — кричит моя квоча да так усердно, будто из неё перья дёргают. Выскочил, смотрю, а шулика величиной с орла, держит в когтях цыплёнка и норовит ещё одного сцапать; я к ней, а она — дёру, токо ее и видел. «Эх ты, задрипанная, — говорю мамаше, — со мной так храбрая, чуть глаз не выдрала, а тут сдрейфовала? Ну, я те устрою!» Принёс суровую нитку, её накрыл ведром, а семейство поместил в тазик; связал всех за лапки, сантиметров по двадцать друг от дружки, и опосля прикрепил к ноге воспитательницы. Вот так, говорю, — не будете шастать, где неположено! И тебе, убогая, хлопот будет меньше, здря токо на меня выступала…
Ванько, сбросив рубашку, продолжал переворачивать, словно лемехом, землю, ориентируясь по бугоркам от окучивания да остаткам ботвы. Мешки по мере наполнения относил без напоминания. Федя с Андреем, знакомые с рассказываемой историей, говорили о чём-то своём; Миша, слушая, изредка почмыхивал. В то время как Марта смеялась до слёз. Вроде бы в рассказе и смешного-то ничего не было, но Борис умел так преподнести, что слушавший его, даже если и не обладал чувством юмора, не мог не рассмеяться. Марта в очередной раз тыльной стороной ладошки вытерла под глазами, а Борис между тем продолжал:
— Вернулся я в сенцы — ёлочки-моталочки! Опара вздулась и преть из макитры; я её качалкой, а она ещё и пшикает, начи на испуг берёт; но ничего, осела. Снял я и её, поставил, на всякий случай, рядом, чтоб зевака не поймать. Сел и обратно взялся за эту самую сметану. Уже стали образовываться масляные комочки, ещё чуток — и готово. И тут вдруг стрясается настоящее светоприставление, прям звериный концерт художественной самодеятельности: обратно не своим голосом орёть квоча и вроде как крыльями хлопает. Кочет объявил боевую тревогу: «Кр-р-р, кудак, кок-коко! «, Тузик рвется с привязи, ажно, слышу, будку опрокинул; хрюкала — и та вижжит как-то не по-свински. Рядом околачивался кот Барсик и тот задрал акацию — и на хвост… то исъ я хотел сказать наоборот. Ставлю махотку со сметаной к макитре, выбегаю — и что, ты думаешь, вижу? Эта контра, этот крылатый рецендивис сцапал курчонка да и вздёрнул в атмосферу весь садик вместях с заведующей. Прёть в метре от земли, небось, пуп трещит, а не бросает, жупелина этакая! Тебе смешно, но мне стало не до смеху!.. Вобщем, я за коршуном — он от меня, а подняться выше пороху не хватает. Квоча трепыхается, волочится по траве, пока, наконец, не зацепилась за куст; тут я их и догнал. Коршун видит, авантёра не прошла, отпустил добычу, еле сам ноги унёс. А бедную мою квочу чуть кондрашка не схватил: уже не кричит, а токо сипение испускает. Ну, а что до чад, так те уже и клювиками не зевают… Мамашу кое-как отвязал, а их, сердешных, так связанных, будто арестанты, и положил в ведро. Сам чуть не плачу, а их успокаиваю: вы, говорю, не горюйте, я похороню вас, как героев. Вот токо сбегаю опару осажу, а то влетит мне, как сидоровому козлу… Захожу в сени, а там — мама родная! Хрюкала, этот выродок тупорылый, слопала всю сметану, опрокинула и разгатила макитру, опара расползлась по доливке… А эта мерзавка разлеглась на ней, как в поганой луже, от удовольствия кряхтит и хвостом в два колечка — туда-сюда, туда-сюда — вроде как меня приветствует!.. Тут уж я озверел до такой степени…
— Марта, глянь, что Федя нашёл! — прервал Андрей разглагольствования.
Влажными от слёз глазами та не сразу разглядела какой-то мелкий предмет в его пальцах, подошла ближе.
— Никак это та пуля, что предназначалась тебе? — воскликнула она. — Как раз в этом месте ты и лежал, когда я вцепилась ему в рукав…
Оставив вёдра, подошли остальные, поочерёдно разглядывали чуть позеленевшую медную штуковину. Ванько, завершивший копку и тоже выбиравший клубни, достал из кармана пистолетную гильзу:
— И я вот нашёл — тоже, кажись тут. — Он втиснул в неё пулю, передал Андрею: — Возьми на память. И давайте поднажмём да сбегаем на ерик.
Марте не терпелось дослушать, чем же кончилось борисово хозяйничанье, но пришлось сперва ответить на вопросы о подробностях того злополучного случая.
— Ну и ну, воще! А я не совсем и поверил был, думал, что Андрей прибрехнул для интересности, — признался Миша.
— Посля такого её подвига ты, Андрюха, обязан её на руках носить! — заметил Борис. — А вечером, ежели посчастит насчёт свидания, следить, чтоб ни один комарик не укусил.
— Да ну тебя! — запустила в него картошиной Марта. — То смешил, а теперь насмехаешься… Скажи лучше, чем закончилось твоё хозяинование.
— А-а. Сплошными неприятностями. Хрюшке я с досады чуть хвост не откусил, а мне всыпали как следует по мягкому месту.
По окончании ударной работы всех порадовал приятный сюрприз: оладьи с мёдом. Надо ли описывать общий восторг?
Марта засобиралась было снова к девчонкам, но Борис рассоветовал:
— Они, особенно Вера, жилистые. Один раз обойдутся и вдвоём. А тебя мы берём с собой на ерик — небось, ещё у нас здесь не купалась? Это ж такое удовольствие! Почти как твои оладьи с мёдом.
— Ой, я же и плавать же не умею!..
Ерунда, научишься! — поддержал инициативу Миша. — У нас есть спасательный круг, так что не утонешь.
— Кроме того, я беру над тобой шефство, — добавил Андрей.
— А я подменю тебя у девочек, — вызвался Федя. — Мне купаться совсем не хочется.
— Ему Клавка лучше всякого купания, — поддел его Мишка.
— Тогда минутку подождите, — попросила Марта и убежала в хату.
— Смотрите мне, не утопите единственную внучку, — посварился пальцем Деда.
Марта переоделась в белое платье с голубыми полосками по подолу и рукавам. Андрей как-то заметил, что очень оно ей к лицу, и в память об известном событии, хозяйка перевела одёжку из будничных в разряд праздничных.
— Давайте возьмём и Тобика, ему же тоже интересно, — предложила она, и все дружно поддержали. Пёс, словно догадавшись, о чём речь, радостно прыгал, норовя лизнуть то одного, то другого в лицо.
Солнце успело раскалить просёлок настолько, что пыль — а она доходила порой до щиколоток — обжигала подошвы, особенно ей, решившей отправиться, как и все, босиком.
Было жарко по-августовски, и всем не терпелось поскорее добраться до благословенной воды; поэтому весь путь до ерика — а это пятнадцать минут ходьбы — преодолели вмиг. При этом Марта, подхваченная «под ручки» Борисом и Ваньком, больше летела по «атмосфере», чем бежала; было смешно и весело.
На ерике оказалось полно народу — разумеется, мелкого; над «лягушатником», где воды было немногим выше колен, висел визг и гам, как в добрые старые времена.
— Тут вам учиться плавать будет тесновато, — заметил Борис.
— А мы найдём другое место!
— Ну а мы для начала попрыгаем с вербы, чур не я воду греть, — сказал Миша, на ходу стаскивая рубаху; разделись и остальные, побросав одежду как попало.
Выше по течению, нависая кудрявыми ветвями над самой водой, тянулся ряд старых раскидистых верб. Росли у самого уреза, отчего жёлтые корни, подмытые водой, напоминали космы сказочного водяного. На одной из них облюбовали для себя вышку охотники до прыжков в воду: приличная высота, надёжная глубина, хочешь — ныряй головой вниз, хочешь — сигай бомбой, то есть ногами, согнутыми в коленках. Андрей с Мартой прошли метров на двадцать дальше. Здесь имелся промежуток между деревьями с несколько обрывистым бережком, но некруто уходящим под воду дном, песчаным и при небольшой глубине — идеальное место для начинающих учиться плавать. Марта с Тобиком спустились к воде, а он занялся подготовкой «спасательного круга». Его, точнее, автомобильное колесо в сборе, Мишка с Борисом ухитрились как-то спереть в МТС с целью обзавестись резиной для прящей; но та оказалась нетянучей. Камеру, уменьшив в размере, склеили снова и стали иногда брать с собой на ерик. Надув её, Андрей спрыгнул вниз и остолбенел от неожиданности: Марта предстала перед ним в ярком, фабричной работы, купальнике, плотно облегавшем и делавшем её удивительно изящной. Остолбенение несколько затянулось, и та, смутившись под его взглядом, спросила:
— Ты чего, впервые увидел меня без платья?
— Какая ты стала… красивая! — признался он.
— Благодаря купальнику?
— Ну почему ж? Хотя он, конешно, подчёркивает и делает ещё красивше.
— Спасибо за комплимент… — Лицо её вспыхнуло румянцем; прошла к воде, стала пробовать её ногой.
— Не боись, водичка — чудо! — Он взял её за руку и, пятясь, стал увлекать за собой.
— Ой, она же холодная же!.. — упираясь, закапризничала она, когда вода дошла до колен. — И тут всё глубже и глубже…
— Не трусь, рядом надёжный шеф! А ежли не доверяешь, то вот тебе спасательный круг. Вот, как раз по твоей фигуре. А теперь присядь и вода сразу станет тёплой, — наставлял он.
Водобоязнь прошла быстро. Поддерживаемая камерой, уже через несколько минут Марта бойко колотила ногами, держась у поверхности, отбрызгивалась от заигрывавшего шефа, оба звонко смеялись. А когда он, поднырнув незаметно, дотрагивался до неё под водой, визжала так, что слышно было и ему.
Тобик тоже оказался не трусливого десятка: смело вошёл в воду вслед за хозяйкой и, кряхтя, смешно загребая лапами, вертелся около. Однако вскоре понял, что тут не до него, выбрался на берег и оттуда с любопытством наблюдал за происходящим, изредка подавая голос.
Между тем Андрей принялся обучать плаванию без помощи камеры: объяснил и наглядно показал, как следует работать руками и ногами, чтобы тело держалось на плаву горизонтально. Но одно дело слова, другое на практике: ничего у неё не получалось! Стоило ему убрать руки, как ученица, лишившись поддержки, шла ко дну, хлебнув при этом почти всякий раз воды…
— Может, пройдём к малышатам, там воды по пояс, — предложил, когда она, в который раз уже захлебнувшись, выбралась на берег откашливаться.
— Я, кха-кха! уже думала, — села она на разогретый солнцем песок. — Но там, кха, Тобик может кого-нибудь укусить.
— И то правда: вздумают погладить, а он чужим не даётся. — Примостился рядом. — У тебя коса расплелась, можно поухаживать?
— Нельзя. Я на тебя в обиде… Тоже мне шеф! Человек тонет, захлёбывается, а тебе хоть бы что. Думаешь, так я быстрей научусь?
— Да нет, спешить некуда…
— Тогда почему не поддерживаешь, боишься, что ли?
— Ага. А то как смажешь, так мало не будет, — привел он её фразу, сказанную в лодке на лимане.
— Припомнил!.. То было давно и неправда.
— А ежли честно, то, конешно, по другой причине. Какой? Руки часто соскальзывали с талии, а мне не хотелось, чтоб ты подумала, будто я умышленно лапаю тебя за сиськи…
Она посмотрела на него с удивлением.
— Ты этого боялся? Ну и напрасно.
— Почему — «напрасно»?
— Во-первых, я этого твоего «лапанья» даже и не заметила. Во-вторых, чем глотать воду, то лучше уж это! Тем более…
— Что — «тем более»? Договаривай.
— Тем более, что мы же с тобой не чужие! Или ты так не считаешь?
— Почему? Считаю… Но думал, что это тебя оскорбляет.
— Меня больше оскорбила твоя медвежья услуга.
— Ну, извини, ежли так.
— Извиню, когда научишь держаться на плаву! — Она поднялась и решительно вошла в воду.
Отбросив предрассудки, шеф взялся за дело по-настоящему. Ученица больше ни разу не захлебнулась, всё увереннее колошматила ногами воду, более умело работала руками и через полчаса довольно сносно овладела новой для себя водной стихией.
— Давай-давай, молодец! Умница, — подбадривал учитель, уже и не поддерживая, а лишь находясь рядом. — Скоро будешь плавать лучше самого Тобика! А теперь попробуем на спинке.
Овладеть этим «стилем» оказалось и того проще: за пяток минут она не только без его помощи держалась на поверхности, но и не позволяла сносить себя довольно ощутимым течением.
— Андрюша, глянь сюда: что это за комок висит у самой воды, — показала, проплывая «на спинке» под ветвями.
— Это? Птичье гнездо. — Пристроился рядом, помог ей ухватиться за ветку, чтоб не сносило. — Не знаю, как правильно, а мы их ткачиками называем: ткут гнёзда на самом кончике ветки, чтоб никто не смог добраться до птенчиков.
— А они ещё там?
— Птенчики? Не-е, давно вылетели.
— Хочется посмотреть, я такого ещё не видела. Оно ведь им уже не нужно?
— Конешно! Они каждый год строют новые. Плыви к берегу, я тебе его достану.
Он слегка выпрыгнул из воды, схватил ветку, отгрыз ту часть, где прикреплено гнездо. На берегу улеглись рядышком на густой тёплый спорыш и принялись рассматривать чудо птичьего искусства. Тобик, как раз перед этим искупавшийся, энергично катался по траве — то ли из озорства, то ли желая скорей обсохнуть.
— Скажи, домик себе забацали! — похвалил Андрей добротность гнезда. — Никакой ливень не страшен.
— Очень искусная работа, — согласилась она.
— А как крепко присобачено к веточке! Ты бы видела этих пичуг: меньше воробья. И такие башковитые.
— Ну, они руководствуются инстинктом. Но равных им в мастерстве наверное никого в природе не существует. Я вспомнила: их, кажется, ремезами зовут.
Тобик, улёгшийся было под боком у хозяйки, неожиданно вскочил и сердито рыкнул. Она подняла голову и встревоженно тронула Андрея за плечо: — Глянь, — прошептала, — что нужно тем двоим возле нашей одежды?
Он посмотрел туда, где накануне побросали одежду ребята, и по тому, как воровато вели себя чужаки, всё понял.
— Диверсанты… Полежи здесь, пока не позову, и придержи Тобика. Скоро всё узнаешь.
Крадучись, сполз под обрывчик, нырнул в ерик, а спустя некоторое время оказался на берегу уже за чужаками. Те заметили, но слишком поздно; кинулись наутёк, однако тот, что повыше — им оказался Лёха Гапон — был им перехвачен, повален, и завязалась борьба. Будучи сильнее, Лёха вывернулся, сел на Андрея верхом; тот исхитрился схватить противника за мизинцы обеих рук, что не позволяло последнему ни ударить, ни удрать, пока не подоспели остальные (они загорали на противоположном берегу и были Андреем оповещены) Подоспевший первым, Ванько сгреб Гапона за брючной ремень, приподнял и поволок к одежде. Когда, по знаку Андрея, Марта отпустила Тобика и прибежала сама, то увидела такую картину: диверсант — она узнала его сразу — зубами разгрызал узел, завязанный на рукаве мишиной рубашки; Андрей держал за ошейник пса, ощетинившегося и злобно рычащего, словно тоже видел в Лёхе лютого врага. Как только «диверсант» пытался развязывать «сухарь» без помощи зубов, его одёргивали:
— Без рук! Иначе отпущу волкодава…
Тот брезгливо крутил носом, сплёвывал, но ослушаться боялся.
— Полегче клыком орудуй! — требовал Миша. — Продырявишь — свою отдашь, понял?
— А чё это ты раз-пораз сплёвываешь? — ехидно подкусывал Борис. — Примочка солёная или чересчур вонючая?
— Чё, обписал и сам не рад теперь?
— Это, наверно, Гундосый ему удружил: у него, говорят, моча дохлятиной воняет.
Не отвечая на издевки, Лёха наконец-таки с узлом справился.
— Миш, проверь: что-то рукав подозрительный, — посоветовал Борис. Тот встряхнул — из него вывалилась помятая, мёртвая уже лягушка.
— Ну и ну, воще! Хотели мне козу заделать, а вышло — себе же, — не без злорадства заметил хозяин рубашки. — Но покарать всё одно надо.
— Обизательно! Загнуть салазки и надавать по ушам, — предложил Борис, — Других предложений не будет? — спросил Ванько, прочтя что-то на лице Марты.
— Можно мне сказать? — попросила она слова. — Применять силу, когда нас много, а он один… по-моему, нечестно. Если уж и наказывать, то как-то по-другому.
— Тогда, — вышел с вариантом Борис, — ихним же салом да по его же мусалам.
— Точно! — подхватил идею Миша. — Завязать на его рубахе сухаря с той же начинкой.
— Тебе, Лёха, что больше по душе — салазки илу сухарь? — предложил на выбор Ванько.
— Хай будэ сухаря… Тилькэ биз жабы и прымочкы. Я и вам так хотив, та Гаврыло пидбыв, — попытался подсудимый переложить вину на дружка. — А може так отпустэтэ, га?
— Хитрый какой, воще!
— Может и правда простим на первый раз? — предложил Ванько, не жадный на расправу. — Они нам давно уже не вредят, целый год в мире живём.
— Ещё вобразит, что мы стали бояться, когда батько старостой заделался, — не соглашался Миша.
— И то верно, — подтвердил Борис. — Скидавай рубаху.
— Бильш нэ буду, ий бо! Отпустить… — запросился проштрафившийся — Мишок, простим? Он и так сам себя наказал уже.
— Первый и последний раз! — уступил-таки тот.
Диверсанта отпустили с миром. Однако, отойдя на безопасное расстояние, Леха обернулся, скрутил дулю и мстительно процедил:
— Ось вам, бачилы? Я вам еще покажу!.. — И задал стрекача.
— Видали ж-жупела? Вот и прощай таких!..
— Вот теперь ты слово «жупел» употребил к месту, — заметила Марта. — А к коршуну и хрюшке оно никак не подходило.
— Эт-то ещё почему? — возразил Борис.
— Насколько я знаю, жупел — это что-то такое, чего следует бояться. Ну, вроде страшилы или пугала.
— Эт точно? Тогда оно и к Лёхе не подходит: мы его нисколько не боимся.
— Кому как, а мне обратно жарко, — перевёл Миша разговор на другую тему. — Айда, ещё поныряем с вербы! И чтой-то слив хотца.
— Ты не желаешь сигануть разок-другой с вербы? — предложил Андрей ученице. — С камерой. Безопасно и знаешь, как интересно!
— Не-ет… я боюсь!
— Тогда забери одёжу и дуй на наше место, а я поныряю. Но без камеры в воду не лезь!
— А ты недолго, ладно? Миша, ты почему рубашку не оставил? Давай, я её постираю.
— Рукав? Я сам застираю. А потом принесём в ней слив для тебя. На той стороне сад и есть годнецкий сорт: белые, аж золотистые, и сладкие, как мёд. Ты таких ещё не пробовала!
— Спасибо, Миша! С удовольствием попробую. Идём, Тобик, сплаваем с тобой наперегонки, — сказала оставшемуся при ней верному другу.
Вскоре вернулся Андрей, и они долго ещё продолжали нырять, играть в догонялки, перекликаться под водой, отогреваться на солнышке и снова бултыхаться до посинения.
Возвращались домой, когда порядком утомлённое солнце готовилось утонуть в саду с медовыми сливами. Трое ребят, не заходя домой, отправились за малышнёй к Вере, а Андрей задержался «помочь отвести козу».
Она была привязана там же, где не так давно он заподозрил было в ней ведьму. При этом, как всегда, ухитрилась десятиметровую верёвку почти всю намотать на кол.
— А чё вы держите не корову, а козу, — хлопот меньше? — поинтересовался он, разматывая.
— Это ради меня: козье молоко не только вкусное и жирное, но ещё и лечебное. Особенно с майским мёдом. В детстве я была болезненной и хилой, а сейчас ты бы сказал обо мне такое?
— Конешно нет! Сичас ты выглядишь, как… бутончик расцветающей розы, — нашёл он нужное сравнение. — Козье молоко, наверно, ешё и красоты прибавляет.
— Спасибо за комплимент…
— Не комплимент, а точно: таких красивых, как ты, — поискать! — Марта зарделась счастливым румянцем, смутившись от такой оценки; присела перед Машкой на корточки и ласково поглаживала её морду.
— А ведь это она нас с тобой познакомила, помнишь?
— Ещё бы! Я ей за это благодарна, а ты?
— И я. По гроб жизни. — Они прошли под старую вербу, где не могли быть никому видны. Андрей приник к её плечу щекой. — Горячее. И покраснело. Завтра нельзя будет дотронуться. Хорошо, ежли не облезет кожа.
— Не облезет: я не первый раз принимаю солнечные ванны. Мы у Веры в ваше отсутствие загораем в одних трусах.
— Мне б не хотелось, чтоб и у тебя носик облез, как у нас с Мишкой. — Он нежно водил пальцем по её порядком уже загоревшим щекам, стоя напротив так близко, как это делают только влюблённые. Готовился её поцеловать, но она опередила, чмокнув в щеку. Тогда и он, обняв за талию, расцеловал в обе и даже коснулся губ. — Мы ж с тобой не чужие…
— Я сегодня такая счастливая! — призналась она. — И потому, что чудесно отдохнула, научилась плавать и что целый день рядом был ты.
— У меня тоже сёдни лучший день в жизни!
Столь содержательная беседа длилась бы, надо полагать, без конца, если б не дела. Она повела начавшую блеять козу, а он припустился за Васяткой.
Ванька разбудила скрипнувшая дверь. В комнате ещё не рассеялся утренний сумрак, а мать уже одета по рабочему.
— Мам, почему так рано? — удивился он.
— Далеко, сынок, идти. — Она присела рядом. — Аж под садбригаду. Надо успеть к восходу, за опоздание можно и плётки схлопотать.
— Пусть, гад, токо тронет! — погрозил сын. — На тебя и так уже жалко смотреть. Может, мне отработать какой раз?
— Боже упаси! — испугалась Агафья Никитична. — Мы радуемся, что хуть детей не трогает, а ты такое говоришь. Вы столько добрых дел переделали — женщины не нарадуются. Лучше уж помогайте по хозяйству. Сёдни что собираетесь делать?
— Нашу картошку выкопаем.
— Пора уже, сынок. Хватить ей в земле лежать, а то и куста не будет видно. Токо вы сразу и отсортировывайте: крупную отдельно, помельче — на семена, мелочь, если будет, тоже не оставляйте; зима будет трудная, всё подберет.
— Сделаем, мам, в лучшем виде, — заверил он.
Управившись с яслятами, ребята собрались у Ванька, и работа закипела. Уйдя в отрыв, хозяин освободил мешки и сам принялся за выборку.
— Вань, слышишь: Туман на кого-то злится, — заметил Андрей. — Вроде как на чужака.
— Кошка чья-нибудь… Он их терпеть не может.
— Да нет, это не кошка! Слышите?
Было похоже, что Туман с кем-то сцепился и эта схватка не в его пользу: он заскулил, после чего донёсся подозрительный хрип. В несколько прыжков Ванько очутился возле будки. Увидел: псина ростом с матёрого волка повалил Тумана и, вцепившись в горло, пытается задушить. В следующее мгновение шея волкодава глухо хрустнула, согнутая наизлом сильными ладонями. Но его челюсти, словно сведённые судорогой, продолжали душить жертву. Расцепить их удалось не без усилия. В гневе Ванько хотел разорвать пасть напрочь, однако в этот момент кто-то вскочил ему на спину и заверещал:
— Чичас же отпусты, хамло!
Отшвырнув ослабевшего и утратившего агрессивность волкодава, он стряхнул с себя и его хозяина — им оказался Лёха.
— Тебе что, делать больше нечего, что занялся стравливанием собак? — Гневно смотрел он на поднявшегося с колен и стряхивающего со штанов собачье дерьмо неожиданного гостя.
— Та мы не собак, мы ходэмо… — косноязыко начал объясняться тот, но вмешался полицай, с карандашом и блокнотом в руках появившийся из-за сарая:
— Проводим учёт скота и прочей живности.
— Это ещё зачем? — подоспел к месту схватки Андрей, но не был удостоен ответа.
— Как фамилие? — Полицай уселся на опрокинутое вверх дном деревянное корыто и приготовился писать.
— Моя? Доганяйло. А зачем вам?
— Та ни, це нэ вин тут живе, та ще и брэше про хвамылию. Мы у их уже булы, — уточнил Лёха. — А живэ тут Кулькына Гапка.
— Сам ты «гапка», — заметил Ванько. — Пишите: Кулькина Агафья Никитична.
— Отчество не нужно. Говори, какая худоба имеется.
— Корова да телок — вот и вся худоба.
— Брэше! Ще вивця та куры, — добавил Лёха.
— Скоко курей?
— Четверо. С петухом. Остальных учли в первый же день освободители.
— Но-но! Смотри мне!.. — недобро глянул на него полицай.
— А чё я такого сказал? Так оно и было. Да, запишите ещё три худобины: кошку и двух котят, — добавил, в свою очередь, и он.
— Цёго нам нэ трэба. Можешь из их сашлыкив нажарыть, — съехидничал помощник-консультант, помогая волкодаву встать на ноги; тот держался на них неуверенно, дёргал мордой, поскуливал. — Мабуть, вьязы звырнув? Нэхай, мы ёму прыпомнэм и це, — цедил сквозь зубы младший Гапон, оглаживая пса и косясь на Ванька.
— Худобу продавать, забивать и вобще расходовать с этого дня властями запрещено! — кончив писать, предупредил полицай и добавил: — За ослушание — расстрел!
Переписчики ушли. Лёха поддерживал волкодава за ошейник. Подошли остальные ребята.
— Дожили, ёк-карный бабай! Собственную худобу, даже кур, — не тронь, иначе расстрел, — сообщил им новость Андрей.
— Да пошли они вон, воще! Усех оставшихся пущу на жратву, а скажу, что хорёк утащил! — возмутился Миша. — А то сами уже давно мяса и во рту не держали, а эти асмадеи придут — и всё под метёлку… Так они и до картошки добирутся, и до всего остального.
— Эт точно, — согласился с ним Ванько. — Я видел, как он пялил глаза на мою. Всё надо будет надёжно прятать. Придется крепко поработать лопатой…
Туман пострадал несильно. Он поглядывал из будки и изредка покашливал. Вернулись к картошке.
— Эх, здря мы тогда не загнули салазки Гапону!.. — пожалел Миша. — Надо ж, какой мерзавец! Мало, что родитель фрицам зад лижет, так и он туда же.
Ему никто не ответил: каждый занят был своими мыслями.
— У полицая губа не дура, — сменил он тему. — Картоха у тебя в этом годе прям рекордная, воще. Такой я ещё не видел: десяток картошин — и ведро! Это что за сорт?
— Сорта не знаю, да и не в нём дело. — неохотно обозвался тот. — Вы навоз из-под коровы куда деваете? На кизяки. Такое добро сжигаете! А у меня он весь идёт на огород. Потому и рекордная. Земля она хоть и чернозём, а всю свою силу и щедрость выказывает, когда её умаслишь да уходишь.
— Тебе хорошо рассуждать при твоей бычачьей силе!..
— Братцы, а учётчики-то пошли в сторону Шапориных!! — забеспокоился Андрей. — Нужно немедленно предупредить девчат, а то зайдут, а они полуголые. Марта говорила, что иногда в одних трусах щеголяют.
— Я застал их раз в таком виде, — подтвердил Федя. — Простелили рядно и лежат загорают в одних трусиках, даже без лифчиков. И примерно в такое время: детвору уложили спать, а сами ультрафиолет принимают.
— Тебе, Хветь, везёт! — позавидовал Борис. — И что, так и продолжали лежать?
— Вмиг перевернулись на живот, устроили визг и потребовали, чтобы я в следующий раз оповещал свистом издалека.
— Дуй к ним, пока эти переписчики ещё на подходе, — сказал Ванько. — Нельзя, чтоб их застали врасплох!
Федя убежал, но вскоре вернулся: оказалось, что последние несколько дворов те обходить не стали. То ли полицай поверил Лёхе на слово, то ли из-за овчарки: пёс еле держался на ногах и дальше, видимо, идти был не в состоянии. Но нянек предупредил, чтоб были начеку, те ведь могут и вернуться. Для полной гарантии от неприятностей Федю вернули обратно, а уборкой и сортировкой урожая занялись вчетвером.
Август выдался на редкость не только жарким, но и сухим. Лишь однажды, и то в конце месяца, с юго-запада наползла на хутор тёмная, в полнеба, туча. Посверкало в ночи, погромыхало раскатисто, но хватило её лишь на то, чтобы смыть с листьев застарелую пыль да освежить немного утренний воздух. И напрасно радовались разбуженные грозой домохозяйки: надежда остаться дома не оправдалась. Утром по дворам проехал на лошади полицай и загадал всем явиться на работы…
Зато целый день потом посвежевший ветерок гнал по небу гурты облаков, и порядком обрыдшая жара сменилась на умеренную. Когда просохла роса, ребята ушли в глубь плантации на заготовку семечек: пока не объявлен запрет, надо запастись на зиму любимым лакомством. Срезали самые крупные корзинки и сносили их в одну кучу. Затем, расстелив найденную в акациях плащ-палатку, вооруженные палочками-выбивалочками, вчетвером занялись выколачиванием зёрен. Вчетвером потому, что Борис пас череду.
Возможно, за то, что хуторяне «любезно» подарили ему Жданку, полицай освобождал от работы в поле тех, кому припадала очередь пасти стадо. Сегодня она дошла до Шапориных, и Борис предложил свои услуги. Делал он это и раньше из уважения к Вере, но в этот раз услуга была особенно кстати, поскольку матери её, Елизавете, в кои веки удалось на целый день остаться дома, где накопилась уйма дел.
На брезенте быстро вырастали кучки семян, их ссыпали в мешки. За каких-то пару часов молотьбы Ванько на трёх из них затянул завязки и отнёс ближе к дороге.
— Шляпки тожеть нужно будет собрать все до единой, — сказал Миша, отшвырнув пустую. — Для бурёнок это лакомое блюдо.
— Особенно, когда нет ничего получше, — уточнил Ванько.
— А ещё знаете, чем нужно запастись? — не отвлекаясь от работы, спросил Федя и сам же ответил: — Ваткой.
— Какой ещё ваткой? — не понял Андрей.
— А вот такой. — Он разломил пополам сухую корзинку и из утолщения, каким заканчивается стебель, наскрёб белой, похожей на вату мякоти. — Зачем? А она знаешь, как горит! Вот смотрите. — Достал линзу, сфокусировал солнечный луч, пара секунд — и «ватка» затлелась; от неё остался лишь тонкий слой белого пепла.
— Ну и ну, воще! — крутнул головой Миша. — Гожо тлеет! А от кресала загорается?
— Конешно! С первого же удара, лучше всякого трута.
— И главное, не надо каждый раз прятать в трубочку.
А где ты увеличительное стекло раздобыл?
— Раздербанили негодную половину бинокля.
— Дай глянуть. Классная штучка! От бы и мне такую…
— Их было всего две, — сказал Андрей. — Одну я оставил себе, на память о комиссаре. А зачем тебе?
У меня появилась мысля: с помощью такой штуковины можно забацать хитрую мину-поджигалку.
— Кого ж можно ею поджечь? — с недоверием посмотрел на него Федя.
— А кого угодно! Хуть самого Гапона. Не дом, а хотя бы стог люцерны. Не косил, собака, не убирал, а хапнул от конюшни готовенького.
— Как, по-твоему, можно это сделать? — Заинтересовался и Ванько.
— Как? Закрепить увеличительное стекло над мешочком с порохом, для чего разрядить штуки два патрона. Рядом поместить тряпку, намоченную карасином, установить ночью на стог. А днём солнце сделает всё остальное!
— Ты, Миша, — голова! — похвалил Андрей. — Только с Гапоном не получится: видел, какой у них собацюра? А ночью он верняк отвязан. — Помолчав, добавил: — Я, когда пас за крёстную, видел с кургана, как из машины выгружали в амбары какие-то ящики, тюки. Вот тут может прорезать.
— Так у них же крыша черепичная.
— Снять пару кирпичин нетрудно, — заметил Ванько, явно заинтересовавшийся возможностью навредить оккупантам. — Но тут есть одно «но». Если окажется, что в амбаре склад боеприпасов, то может так рвануть…
— Что повылетают стекла в соседних хатах, — догадался Федя. — И получится вреда больше, чем пользы.
— А давайте слазим в анбар и узнаем, что там находится. Может, что-то такое, что нам пригодится: патроны, гранаты или даже автоматы, — предложил Миша.
Эта «мысля» тоже показалась ребятам ценной. На эту тему завязался оживлённый разговор. И пока наши герои фантазируют, сделаем небольшое отступление.
Побывать в одном из амбаров ребятам довелось года два тому назад. При очередном налёте на бахчу дотошному объездчику удалось поймать одного из посягателей на общественное добро. Был это, кстати, податель «ценной мысли». Впредь до прихода родителя воришку заперли в один из амбаров.
Амбары стояли на довольно высоких, кирпичной кладки, столбиках, и Ванько, подобравшись снизу, спиной выдавил одну из досок. Пленник оказался на свободе. Обломив гвозди, доску установили на место так, что следов взлома даже не заметили. Этот лаз и имел в виду Миша.
Куча невыколоченных корзинок заметно усохла, когда Андрей напомнил:
— Надо бы узнать, не нужна ли помощь девчатам.
— Нужна, конешно нужна, — тут же обозвался Федя. — Может, дровец нарубить или воды в бочку наносить…
— Беги, да токо недолго, а то будешь там вокруг Клавки увиваться! — не упустил Миша случая поддеть влюблённого товарища.
— Не вякай, Патронка, пока в лоб не получил! — огрызнулся тот незлобиво и убежал.
— Ты, Мишок, наверно, и сам к Клаве неравнодушен? Скажи уж честно, — Ванько подмигнул Андрею, глянувшему с удивлением: дескать, спросил в виде подначки.
— Триста лет! — возмутился заподозренный, попавшись на удочку.
— Ну как же! Сидели за одной партой, девочка она скромная и красивая… Не может быть, чтоб ты в неё не влюбился.
— Да? Скромная? Да ты б и месяца не высидел с нею рядом: вреднючая, как и вся их девчачья порода.
— Чем же она вредная? — допытывался Ванько.
— Да всем! Списать, бывало, не выпросишь; на диктанте — «не подглядывай! «; и воще, чуть что — сразу в ход когти.
— Ну, а другие из «девчачьей породы» чем тебе не угодили?
— А возьми эту, как её, Ирку: сперва почти ни за что съездила Рудика по мордасам — на ерике, когда я её платье нечаянно спёр, чтоб подшутить. Потом, когда он сдуру простил ей эту выходку и дажеть хотел извиниться — я лично носил ей письмо с извинением — не захотела и разговаривать… Это, по-твоему, не наглость? Или вот ещё ходячий пример: Нюська Косая. Эту есть за что уважать?
— А она чем тебе насолила?
— Ха, мне! Не хватало…
— Всё-таки внеси ясность.
— Будто сам не знаешь! Без году неделя, как на хуторе появилась, а посчитай: Андрона соблазнила…
— Ничё не соблазнила! — буркнул тот.
— … потом Рудик стал приходить от неё под утро.
— А ты, никак, следил?
— Больно нужно, воще. Случайно видел. А недавно с Гундосым снюхалась; он дажеть пообещал поделиться ею с дружками.
— Ну, Мишок, всё-то ты знаешь — удивился Ванько. — Прям, как разведчик. Откуда у тебя такие сведения?
— Случайно подслушал, когда Гундосый…
Договорить Мише не дал возвратившийся от нянек Федя.
— Тебя хочет видеть Марта по срочному делу, — сообщил он Андрею. — Она ждет у дороги.
— Не спросил, зачем он ей понадобился? — поинтересовался Миша, когда тот убежал.
— Не стал. Она какая-то сегодня неразговорчивая.
Отсутствовал Андрей недолго.
— Плохая новость, — сообщил он в ответ на вопросительные взгляды. — Не сёдни, так завтра у Ванька заберут барашка.
— Как это, воще, заберут? кто? — Миша перестал стучать по корзинке.
— Вобщем, я понял так: Гапон пригласил в гости немецкого представителя и хочет устроить пир с шашлыками. У фрица не то день рождения, не то ещё какой важный повод.
— И староста решил поддобриться за чужой счет. Тут не обошлось без лёхиной подсказки, — предположил Федя. — От же гад!
— Это он мстит за недавнего сухаря на ерике, — сказал Миша. — Или за волкодава. Я слыхал, как он грозился: «Мы ему прыпомнэм!»
— Лёха или не Лёха, это теперь неважно, — стал рассуждать Федя. — Раз нам дали знать, значит, думают, что сумеем что-то предпринять. Но что тут можно придумать?.
— А нечего долго и раздумывать! — воскликнул Миша. — Барашка спрятать и сказать, что он куда-то делся — может, волк утащил.
— Думаешь, они дураки? — возразил ему Федя. — Прижмут, кто пас, а те скажут: мы с паши пригоняли. Вот тебе и расстрел за ослушание.
— Не поверят, это точно, — согласился Ванько.
— А давайте, воще, сделаем так: кому завтра пасти — подменим. И в обед череду не пригоним. Ежли, конешно, не заберут сёдни вечером.
— Не пригоним домой — заберут оттуда. Лёха наверняка знает, что валашок пасётся со стадом. Да и как не пригнать, когда многие коровы дойные? — безнадёжно махнул рукой Ванько.
— Да-а, ёк-карный бабай!.. Не удастся, видно, воспользоваться мартиным сообщением.
— Я один выход вижу, — после недолгого раздумья, сообщил Федя. — Только он, пожалуй, не из лёгких.
— Выкладывай, — кивнул Ванько.
— Этого собакодава ты, видно, крепко пощекотал, раз он с трудом переставлял лапы. Что, если на шашлыки всучить им его?
— Как это? — У Миши выгоревшие до желтизны брови поползли вверх.
— А так. Выкрасть, освежевать — и сбредет за барашка.
— Ну и ну, воще! А ежли на нём за эти дни зажило, как на собаке?
— Навряд. Если он вобще не сдох. Надо уточнить на месте, — предложил свернувший «вьязы».
— Но при этом не попасться на глаза, особенно Лёхе, — высказал предостережение Федя. — Иначе он нас же и заподозрит в пропаже да еще, чего доброго, смекнёт, для чего это сделали.
— Не нагоняй, Хветь, страху! — упрекнул Андрей. — Разведку беру на себя. Не беда, ежли и попадусь на глаза: я придумал, как отбрехаться. Прихвачу с собой листовку, а иду якобы к самому старосте…
И не забудь прихватить хороший дрынок, — вставил слово Миша.
— Обизательно, укусить не дамся. А вот на лай кто-нибудь верняк выйдет, и ежли нельзя будет отвертеться по-другому, тогда скажу: случайно, мол, наскочил на следы какого-то диверсанта и посчитал долгом сообщить властям. Потому, добавлю, что вот в этой листовке наши доблестные освободители просят… ну и так далее. На всякий случай надо достать из пещеры что-нибудь от парашюта и подбросить на чердак конюшни на бригаде.
— Это — сделаем!
— Вот, если б удалось провернуть! — мечтательно воскликнул Миша. — И барашка спасли бы, и фрица-именинника собачатиной накормили.
— Всё это пока что только мечты, они могут и не сбыться, — заметил Ванько без мишиного энтузиазма. — Один шанс из тысячи.
— Ну, так уж и из тысячи! Не прорежет с волкодавом, надо найти ему замену, — не сдавался Федя. — У кого из наших есть большие собаки?
— О! Кабыздох! — предложил кандидатуру Миша. — Который у бабки Падалки. Она не знает, бедная, как от него отделаться: здоровый — с телёнка, а ленивый — гавкнуть не допросишься. Токо жрет да гадит, это я говорю её собственными словами. Вань, ты на это как?
— Не знаю… — поёжился тот. — У меня рука на Кабыздоха не поднимется: какой бы он не был, убивать жалко.
— Кончайте вы панихиды разводить! — вмешался Андрей. — Во-первых, ещё не сорвалось дело с волкодавом, точнее — с собакодавом. А во-вторых… вобщем, поговорим об этом, когда вернусь.
Под вечер, с палкой и листовкой, он отправился на разведку.
У Гаповских по меже рос невысокий, но уже плодоносящий фундук. На ветках навязалось множество орешков — по два, три и более вместе. Они начали коричневеть и были почти неразличимы среди листьев. Андрей раскусил несколько щтук для пробы — вполне спелые. «Надо будет не прозевать! «— подумал он.
Приблизившись к дому, услышал на огороде за орешником возню. Незаметно подкрался ближе и увидел Лёху: тот копал яму. Рядом лежал на боку волкодав; было видно, что с ним не всё ладно. Лёха, не подозревая, что за ним наблюдают, вырыл яму глубиной в колено, присел на корточки у занедужавшего любимца.
— Жалько мэни тебэ, бидолагу, та шо ж зробышь!.. — донеслось до Андрея.
— Хай тоби зэмля будэ пухом!
Сказав так, он поднялся, замахнулся лопатой, плашмя с силой огрел «бидолагу» по голове; тот судорожно повёл лапами… Затем спихнул в ямку, забросал землёй, потоптался и, вскинув черенок на плечо, поплёлся к дому. Андрей надломил пару веток для ориентира и тоже пошёл обратно, набив по дороге карманы и пазуху орешками.
Ни вечером, ни утром следующего дня за барашком не пришли. Полагая, что все же заявятся, его в череду не пустили, привязав в огороде. Замена же ему уже была готова. В ожидании дальнейших событий ребята занялись рытьём ямы для зимнего хранения картошки.
Надо ли говорить, как все они переживали! И было отчего. Во-первых, нарушен строгий приказ «худобу не расходовать», во-вторых, вдруг догадаются, что подсунули не баранину, а собачатину?.
Незадолго до прихода череды на обеденную дойку у двора Кулькиных остановилась бедарка-одноконка. Туман разразился лаем, и Ванько вышел встречать. Его поджидали полицай с Лёхой; последний в ехидной усмешке показывал редкие зубы.
— Добрый день, пан полицай, вы…
— Приехали за овцой. По распоряжению…
— За какой овцой? — сделав удивлённое лицо, Ванько, в свою очередь, не дал и ему договорить.
— За обнаковэнной, яка в череди пасэтьця, — с гонором пояснил Леха. — Ничого прыкыдуватьця прышелэпкуватым!
— За валашком, что ли? А я его ещё вчера прирезал…
— Як это «прирезал»? — повысил голос «пан». — Тебя предупреждали об ответственности?
— Да знаю… Но понимаете, в чём дело: его корова чья-то боднула. Он бы всё равно не выжил.
— Брешешь, поди, стервец! — усомнился полицай. — Мясо куда подевал?
— Да никуда. Присолил и лежит в лоханке. Принести показать?
— Показать бы тебе вот этой плёткой! — выругался тот; глянул на напарника: — Шо ж делать? Приказано доставить живого барашка… У кого тут ещё есть овцы?
— Та е ще у двох… — В голосе Лёхи слышалось разочарование: ему, видать, хотелось насолить именно Ваньку. — А чи вин нэ брэше? Давай подывымось.
— Тащи лоханку сюда!
Ванько обернулся мигом. Подходя, расслышал последние слова из разговора:
«… забэрэмо и ризаного, нажарым сашлыкив для сэбэ. «С удручённым видом поставил он лохань на передок бедарки, снял крышку. Разделанная на куски, собачья туша выглядела вполне правдоподобно.
— Что-то больно синее, — не понравилось полицаю. — Ты его зарезал или задушил?
— Он, пан полицай, уже был подыхал, когда я его прирезал… оставьте его нам, я уже не помню, когда баранины пробовал, — попросил Ванько. — Если, конешно, можно…
— Накрой и ставь в ящик сзади! — приказал полицай, а Лёха съехидничал:
— Голову та кышкы тоби оставляемо, ото и покуштуешь баранины!
Едва бедарка укатила, Ванька окружили ребята:
— Ну как, получилось?
— Прорезало?
Он пересказал весь разговор с приёмщиками. Все остались довольны, хотя получилось не совсем так, как хотелось бы: вместо этого барашка заберут у кого-то другого, собачатина пойдёт не на угощение коменданта и прочих высокопоставленных, а на «сашлык» Лёхе и его приятелям…
Под вечер, как это было уже не раз, Андрей с Мартой занесли Васятку, после чего балкой неспеша направились в конец хутора. Навестив мастерицу наматывать верёвку на кол, уселись под копешку, все ещё стоявшую с краю акациевой поросли.
Вчера по известной причине у Андрея не нашлось свободного времени, они не «встречались»; да и сегодня перебросились всего несколькими малозначащими фразами. Поэтому новостей накопилось множество.
По пути сюда он, похвалив и поблагодарив за помощь в спасении барашка, увлеченно рассказывал в подробностях об операции «Сашлык». Она слушала внимательно, иногда улыбалась, даже смеялась — в зависимости от излагаемых обстоятельств. Но при этом от Андрея не ускользнула перемена в её настроении — задумчивость, рассеянность, некая угнетённость. Заметив, что она и здесь уже в который раз украдкой вздохнула, он обеспокоился:
— Ты сёдни какая-то не такая… Не заболела, случайно? — Марта отрицательно крутнула головой. — Может, с девчонками не поладили?
— Ну что ты! нет…
— Но что-то же произошло? — Повернул её лицом к себе. — Посмотри мне в глаза. Теперь точно вижу: у тебя что-то на душе.
Высвободившись из ладоней, она склонилась к нему на грудь. — Боюсь даже говорить…
Не на шутку встревоженный, он замер в ожидании, что вот сейчас с её губ слетит некая ужасная новость. Но Марта, подняв на него глаза, спросила нерешительно: — Скажи, ты меня любишь?.
— Вот те на! Конешно! С самого первого дня.
— Почему ж до сих пор не сказал мне этого?
— Так ведь… ты ведь и так знаешь. И потом, я говорил…
— Это на ерике? Под водой: «Ихь либе дихь? «То не в счёт, я хочу услышать это по-русски.
— Пожалста: я тебя люблю. Очень! — Андрей обнял её, привлек и поцеловал в обе щёки.
— Не так… Поцелуй по-настоящему.
«По-настоящему» — значит, в губы. Такое «удовольствие» он уже однажды испытал. На свидании с Нюськой: она, помусолив, напустила ему в рот слюней, которые — не сплёвывать же у неё на глазах! — пришлось с отвращением проглотить… И он дал себе слово т а к вообще никогда не целоваться! Марта, конешно, не Нюська, но… мало ли чего взбрело ей в голову…
— Знаешь, что!.. Не дури, — отшатнулся от неё. — Что за блажь пришла тебе в голову!
— Значит, ты по-настоящему и не любишь… — На глаза её навернулись слёзы.
— Да люблю же! Очень люблю, чесно тебе говорю. Видя, что слова не помогают, Андрей прижал её к груди и принялся целовать в лоб, нос, бороду и обе щёки. Она не возражала, но и не отвечала взаимностью.
— Машка просится… — Освободилась от объятий. — Пойди отпусти, она уже знает дорогу домой.
Почувствовав свободу, коза, несмотря на брюхатость, вприпрыжку пустилась по стёжке наверх. Андрей сломил две веточки отгонять комаров (ещё не стемнело, как они припожаловали), сел рядом, прикрыл обоим ноги сеном.
— Так ты это боялась сказать? — вернулся к прерванному разговору, обняв и притянув её к себе.
— Я хотела сперва убедиться, что ты меня любишь. Потому что нашим встречам, Андрюшенька, приходит конец.
— Конец? Почему?. — В растерянности он повернул её к себе лицом: не шутит ли?
— Я вчера не успела… вернее, не решилась сказать, — вздохнула она. — Гулянку с шашлыками староста устроил по случаю награды здешнему представителю властей…
— А я сказал ребятам, что у него день рождения, — вставил Андрей.
— … за то, что он хорошо наладил работы по уборке урожая и поставкам с колхозных полей. Это мне мама сказала. Теперь его переводят в станицу с повышением то ли звания, то ли должности, и он забирает её с собой туда. Не подумай чего такого — просто как переводчицу.
— А вы с дедушкой?
— Мама сказала, что заберёт с собой и нас…
— А как же… как же теперь мы?
— Я, как узнала, весь вечер проплакала… Даже мама не смогла успокоить.
— Она знает, что ты меня любишь?
— У меня от неё секретов нет. Жалеет, что так получилось, но по-другому ей поступить нельзя.
— Да… Вот так новость… — Андрей помолчал в задумчивости, затем добавил: — Ну и что! Мне в центр ходить не привыкать. Разузнаю, где вы поселились, и буду приходить в гости. Не так часто, конешно…
— Пока не надоест… А потом отвыкнешь, найдёшь себе другую девочку — и всё…
— Напрасно ты так… — Он взял её ладошку и крепко сжал. — Кишки из меня вон, ежли я когда тебе изменю! Хочешь, поклянусь?
— Очень хочу!
— Слышишь, как стучит, — прижал он её ладошку к груди. — Этим вот любящим серцем клянусь, что ни через год, ни через сто лет ты мне не надоешь, не отвыкну и не полюблю другую! Поклянись и ты.
— И я клянусь… быть верной тебе и нашей любви до самой смерти! Она подставила лицо для поцелуя, но Андрей предупредил:
— Только не по-взрослому, ладно?
— Да ладно уж… — и взяла инициативу на себя.
Подтвердив словесные заверения такими вот действиями, посидели молча, слушая взволнованный стук сердец. Несмотря на предстоящую разлуку, оба чувствовали себя в эти минуты вполне счастливыми. И неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не всё то же комарьё, заставившее вспомнить о приготовленных веточках.
Вскоре услышали радостный визг, и Тобик ухитрился лизнуть сперва хозяйку, потом Андрея.
— Ты как нас нашёл? — удивился тот. — А ну брысь! Ляжь и не топчись по ногам.
— Пойдём уже отсюда, — предложила Марта. — Посидим на навесе, он уже свободен. Я вчера спала там напару с ним. Ветерок, ни одного комарика. Правда, долго не могла уснуть…
— А мы тебя вспоминали, не икалось? Наверно, когда добром поминают, тогда не икается. Хотел прийти, но пока откопали да дотащили зтого «барашка», пока сняли шкуру… Он, несмотря что больной, а жирный оказался и мясистый. И псиной почти не вонял. Идём, а то комарьё совсем обнаглело!
На навесе лежало старое ватное одеяло. При свете месяца было видно, что одна сторона его сшита из разноцветных лоскутков. Сложенного вдвое, его хватило для обоих впритирку, но в душе каждый находил, что это даже хорошо.
Едва они умостились, как скрипнула дверь.
— Тобик идём-ка со мной!
Мать отвела пса к будке, привязала, вернулась в сени и тут же вышла снова. Не одна.
— Сюда больше приходить не следует, — услышали они слегка приглушенный голос. — Где поселюсь, пока не знаю, но установить это вам трудностей не составит. Да, передайте…
Тут залаял Тобик, учуяв чужого, и ребята дальнейшего разговора не расслышали.
— Кто это? — спросил Андрей шёпотом.
— Наверное, связной партизанского подполья, — ответила она так же тихо.
Проводив гостя, Ольга Готлобовна отпустила пса снова и ушла в хату.
— Часто приходят? — теперь уже громче поинтересовался он.
— При мне второй случай.
— Знали б они, что мы с тобой здесь!
— Мама, возможно, догадывалась.
— Ещё мне знаешь, почему жаль, что вас не будет? Теперь, в случае чего, некому будет предупредить, как это было с зерном и барашком.
— Ничего не поделаешь… — вздохнула она. — Мама говорит, что теперь женщинам станет полегче — перестанут, что ни день, гонять на работы. Да и вам не надо будет возиться с малышами.
— У нас окромя них забот хватает. С огородами почти управились, теперь надо подумать о кормах для худобы, о топливе на зиму. Придется также всем подшефным выкопать ямы для картошки, упрятать её так, чтоб не нашли, если вздумают отобрать на прокорм «новых властей».
В отличие от Марты, всякий раз просившей «посидеть ещё немножко», Андрей свидания старался не затягивать дольше полуночи: «во всём надо знать меру». Но в этот раз они просидели, вернее — пролежали, почти до утра: ведь это последнее их ночное свидание здесь, на хуторе. Как будет дальше — неизвестно, но лучше — вряд ли…
По погоде непохоже, что наступил сентябрь. Жаркие дни упорно не признают календарной осени, хотя на глазах тают, укорачиваются.
Разве что ночи стали свежей, прохладнее, поубавилось комара. Да ещё природа дело своё знает четко: давно спровадила пернатую певчую братию; покинули лиман всевозможные перепончато-лапчатые; потянулись в дальние края журавли; поблекла, без мороза облетает листва акаций, пожухла трава, сады тронула проседь…
Всё чаще заставляет вздрогнуть пронзительно-хриплый вороний крик. Разжиревшая на брошенных хлебах, дремлет многочисленная их стая на проводах и крестовинах телеграфных столбов вдоль гравийки, чёрной тучею время от времени накрывая подсолнухи. Серо подсолнуховое поле, в недобрый час созрел здесь богатый урожай семечек… Впрочем, почему «в недобрый»? Что ни день хуторская пацанва, а также взрослые, забираются в глубь плантации и, пригибая корзинки к ведрам выколачивают семечки запасаются в зиму; полицай, зачастивший теперь в станицу, на «уборку» смотрел сквозь пальцы, видимо, запрещать указаний не поступало. Наши ребята для себя запасы уже сделали, не забыв и про подопечных ребятишек. А сегодня закончили изготовление специальной «мажары» — тележки с удлинённым и расширенным к верху кузовом для подвозки подсолнуховых шляпок и стеблей.
В прошлом году топливо приходилось таскать за километр-полтора из степи на горбу. Пока наберешь вязанку да донесёшь — на уроки времени не оставалось. А тут и уроков нет, и торчи — вот они, у самого двора: бери не хочу. Да токо чё их таскать на спине, решили ребята, и «забацали» мажару.
— Воще — годится! — похвалил Миша, попробовав возок на лёгкость качения. — Возить будет — одно удовольствие. С кого начнём?
— Я думаю, с тёть Лизы, — предложил Борис. — У неё топить совсем нечем.
— Говорил бы без фокусов: с Верки, а то замуж не пойдёт, — не удержался Миша, чтоб не поддеть.
— С Веры так с Веры, — согласился Ванько. — Она того заслуживает. И ты, Мишок, на неё не наедай.
— Я не на неё, а на Шенкобрыся. Не люблю двухличных: думает одно, а говорит другое.
— Посмотрим, как ты себя поведешь, когда какая-нибудь приглянется, — заметил Ванько.
— Мне не приглянется. Была охота, воще, — провожай домой, ходи вокруг на цыпочках, а уедут, так ещё и чахни из-за них! …
Это был камушек в огород Андрея.
Не прошло и двух недель, как Марта уехала с Дальнего, а ему кажется — не виделись сто лет. Днём ещё так-сяк, заботы и хлопоты отвлекают от мыслей о ней, а приходит вечер — тоска и скука зелёная. Тянет сходить в станицу, узнать, где поселил их фрицевский комендант, увидеться, поговорить… Но дел у ребят пока невпроворот, и он решил потерпеть. Четырнадцатого сентября у неё день рождения — заодно и поздравит, и повидаться повод подходящий. Своим намерением поделился с Ваньком и Федей.
— А как ты узнаешь, где они теперь живут? — поинтересовался сосед.
— Подежурю возле стансовета, там зараз комендатура: мать верняк ходит обедать домой.
— Я тоже давно собираюсь проведать тётю, до элеватора тебе попутчик. А хочешь — сходим на разведку вдвоём, — предложил Ванько.
— Да нет, справлюсь один, — отказался он от компаньона. — Меня заботит другое: что бы ей такое подарить в честь важной даты?
— У деда Мичурина розы в палисаде — залюбуешься. Можно преподнести букетик. Они уже редкость, а девчонки цветы любят, — подал мысль Федя.
— Не, это не то… До обеда завянут, станут некрасивыми.
— Если Марта тебя любит, то подарок не имет никакого значения, — заверил его Ванько.
— Неудобно заявиться с пустыми руками…
— Тогда подари ей свою линзу от бинокля, — предложил сосед ещё один вариант. — Она сама по себе красивая, а главное — как память о комиссаре, спасшем вам жизнь.
Утром четырнадцатого Андрей оделся во всё новое, пообещал матери к вечеру вернуться, и они с Ваньком отправились в гости.
На здании стансовета болтался флаг — красный, с белым кругом посередине и чёрной жирной свастикой. Над парадным входом укреплен в золочёной раме грозный орёл с хищным клювом и злобным взглядом; в когтистых лапах держал он всё ту же паукоподобную свастику. У ступеней припаркован лимузин который Андрею не раз приходилось видеть на хуторе. Из распахнутого окна доносилась гортанная нерусская речь. Отойдя на почтительное расстояние, он выбрал невдалеке место напротив и стал ждать.
Одако предположение, что она ходит обедать домой, не оправдывалось: ни одна женщина не появилась ни из парадных, ни из каких-либо других дверей до самого вечера. Подумал уже о возвращении домой, когда, примерно в начале восьмого (часы на всякий случай оставил Ваньку при расставании), Ольга Готлобовна сошла-таки со ступенек комендатуры. Отойдя, свернула на мощёную кирпичом аллею — как раз ту, где на скамье облюбовал наблюдательный пост Андрей. При её приближении он поднялся, смущенно улыбнулся и сказал:
— Здрасте, Ольга Готлобовна!
— Здравствуй… Ты что здесь делаешь? — узнав, удивилась она.
— Да вот….Захотелось вас проведать…
— Вон оно что! Ну, идём. Одна из нас как раз именинница.
— Я знаю: Марте исполнилось четырнадцать лет.
— Спасибо за внимательность. Она, полагаю, обрадуется. — Ольга Готлобовна оглядывала его с приветливо-ироничной улыбкой. — И ты не побоялся — в такую даль, один да ещё и на ночь глядя.
— Мы вышли из дому ещё утром.
— Это с кем же?
— А с Ваньком. У него тётя живёт на край станице, так он к ней — проведать.
— Ванько — это тот мальчишка, что один всю нашу картошку выкопал да ещё и вам помогал выбирать? Кулькин, кажется?
— Он самый. А силища у него бычачья, эт точно.
— Видела его несколько раз — по внешности не скажешь, что силач.
— А насчёт бояться, так я в станице не впервой, потому и ждал вас до последнего.
Тобик — его здесь не привязывали — встретил у калитки, прыгал, визжал от радости, ухитрился несколько раз лизнуть в лицо. У выбежавшей встретить Марты удивление сменилось едва сдерживаемой радостью.
В квартире Ольга Готлобовна сразу же прошла в комнату отца, а дочь не упустила возможности обнять гостя и приласкаться; затем, против желания хозяина, стащила с него куртку, кепку, снятые им самим сандалии и унесла куда-то.
— Вот уж не думала!.. — воскликнула вернувшись.
— Не ждала?
— Что ты, ждала! Жутко соскучилась!
— А говоришь — не думала.
— Так ведь уже смеркается. — Примостилась, обняв, к нему на колени. — Почему так поздно?
— Раньше не получилось. А ты ещё красивше стала. Поздравляю тебя с…
Тут вошла мать, Марта соскочила с колен, и слова поздравления остались недосказанными.
— Ты бы, доча, нас первым делом накормила. У Андрея с утра ни росинки во рту, да и я нынче без обеда.
— У меня, мамочка, давно уже всё готово!
Она упорхнула на кухню, а гость попытался отказаться:
— Я, тёть Ольга, всего на минутку… Только поздравить — и домой. Мама, небось, ждёт-не дождется…
— Ты знаешь, что сейчас сказал наш гость? Хочет сразу же уйти домой, — огорошила она дочь.
— Как?… — чуть не выронила посуду та.
— Уже ведь поздно… а я обещал вернуться сёдни.
— Вот потому, что уже поздно, никуда мы тебя сегодня не отпустим, — твёрдо заявила хозяйка квартиры. — Сейчас по ночам ходить опасно. Переночуешь у нас. Мама знает, куда ты ушёл?
— Знает, но…
— Никаких но. Загляни к дедушке, он занедужал, а хотел бы, говорит, с тобой повидаться тоже.
— Ой. я и забыл про него совсем!.. — спохватился гость.
Не успели старые приятели обменяться несколькими фразами, как заглянула внучка:
— Ты, дедуль, с нами поужинаешь или сюда принести?
— Спасибо, я ужинать не буду. Ты ведь недавно меня покормила. И с днём аньгела я тебя уже поздравлял.
Перед праздничной трапезой Ольга Готлобовна, поздравив дочь и пожелав всего, что в таких случаях полагается, заметила:
— По такому случаю не мешало бы и шампанским чокнуться… У нас есть что-нибудь соответствующее?
— А как же! Свежий грушовый компот.
— Лучшего и придумать трудно! — шутливо одобрила мать. — Неси-ка да прихвати серебряные бокалы.
Бокалов, разумеется, тоже не оказалось. Воспользовались кружкой, гранёным стаканом да фарфоровой чашкой без ручки (посуда получше всё ещё не была распакована после переезда) Ритуал, пусть и чисто символически, был соблюдён, и это прибавило событию торжественности, непринуждённости, придало веселья. Была подана чашка ещё тёплых вареников с творогом. Андрей назвал приготовленное именинницей блюдо вкуснятиной, и это было, судя по её благодарной улыбке, лучшим подарком (о них, чтоб не конфузить гостя, прибывшего с пустыми руками, разговора не велось).
— Ну, рассказывай, что нового на нашем хуторе, — поинтересовалась Ольга Готлобовна под конец ужина.
— Кой-какие перемены произошли. После вашего отъезда стало полегче домохозяйкам — их перестали гонять на работы. Да и у нас отпала надобность относить малышей к Вере в ясли, а вечером разносить обратно.
— Нам с Клавой это не было в тягость. — именинница со значением зыркнула на гостя.
— Потому что в награду предстояли свидания, — разгадала смысл её замечания мать.
— Но у нас дел не убавилось, — продолжил рассказ Андрей. — Некоторые женщины, которых гоняли на картошку, ухитрились оставить невыкопанные рядки, и мы помогли потом их выкопать. Моей крёстной, например, к мешку с её собственного огорода добавилось ещё пять.
— Какие вы, право, молодцы! — похвалила Ольга Готлобовна. — Везде бы так — и женщинам, оставшимся без кормильцев, было бы намного легче пережить это страшное время… Вы только своим подшефным помогали или.
— Не только. Но им в первую очередь, — пояснил он.
— А на том порядке ребята тоже шефствовали? — поинтересовалась Марта.
— Да, но не все и не всем. А когда поспела кукуруза колхозная, мы и тут не прозевали, трудились с утра до ночи, — добавил Андрей. — Так что запаслись в зиму и картошкой, и семечками, и кукурузой. А также топливом и кой-каким кормом для коровы.
— Просто невероятно! — не столько ему, сколько про себя заметила Ольга Готлобовна. — Пацаны, ещё совсем дети, а показали себя как взрослые, высокосознательные граждане!
— А чё тут невероятного? — возразил высокосознательный гражданин. — Мы ведь не маленькие, понимаем: батьки защищают Родину не щадя жизни, матерям тоже не легче, особливо многодетным. Кто им поможет? Вот и не сидим сложа руки.
Догадываясь, что молодёжи не терпится остаться наедине, после непродолжительной беседы мать предложила:
— Я уберу со стола сама, а вы можете идти. Только хочу предупредить: долго не засиживайтесь, разбужу рано. Тебе, Андрюша, необходимо покинуть станицу как можно раньше.
— Почему-у? — Марта, уже переступившая было порог своей комнаты, вернулась. Мать снова предложила им присесть.
— Так и быть, открою служебную тайну… Поступило распоряжение коменданту организовать облаву на подростков, и, по моим прикидкам, это произойдёт со дня на день.
— А зачем они им? — в один голос спросили оба.
— Формируется — а может, уже и сформирован — эшелон с продовольствием для отправки в Германию. Чтобы партизаны не пустили его под откос, к составу прицепят вагоны с детьми. Это у фашистов испытанный приём…
— А где намечается проводить облавы? — обеспокоился Андрей. — Не на хуторе, случайно?
— Ни где, ни когда именно будет это происходить, мне, к сожалению, не известно. Одно несомненно: раз приказ поступил в здешнюю комендатуру, значит, где-то поблизости. Возможно, что в самой станице. Поэтому я и…
— Так ведь надо же что-то делать! Как-то сообщить людям. Это же… я не знаю…
— Милый мой мальчик, я тоже не знаю. Не пойдём же мы с вами объявлять об этом по дворам. Даже если всего лишь развесить объявления, и то меня тут же схватит гестапо: документ совершенно секретный.
— Ну и ну! — произнесла Марта. — У меня аж сердце защемило…
— Вот так дела!.. — в растерянности воскликнул и Андрей. — И что, их увезут аж в Германию?
— Всяко может случиться. Но будем надеяться на лучшее. Эшелону предстоит неблизкий путь по российской земле, через зоны, контролируемые народными мстителями. Они наверняка найдут возможность и ребят спасти, и пустить под откос паровоз вместе с награбленным добром.
— А наши, кубанские партизаны узнают про этот поезд?
— Вполне возможно, — ответила Ольга Готлобовна неопределенно. — А теперь вот и ты знаешь. И чтоб не влипнуть в историю, тебе следует уйти завтра с восходом солнца.
В своей комнате Марта ощупью нашла спички, зажгла керосиновую лампу; не успела, вкрутив фитиль, ступить и шагу, как очутилась в объятиях. Притиснув к груди, он отыскал её губы и — впервые за всё время дружбы — поцеловал не «в щёчку». Затем усадил на оказавшуюся рядом кровать и сел сбоку.
— Ещё раз поздравляю тебя с днём рождения и желаю большого счастья. Не против, что поцеловал по-взрослому? — спросил, хотя и знал, что ей этого хотелось давно.
— Не ожидала такой щедрости даже сегодня. Спасибо и давай я тебя тоже расцелую.
— Это в честь того, что ты повзрослела на целый год. Заместо подарка. Думали-думали с ребятами, что бы такое преподнести… Советовали букет роз, но я не схотел: завянут, потеряют вид. Федя присоветовал подарить линзу от бинокля — помнишь, нашли возле убитого комиссара и одна половинка оказалась простреленной; мы её разобрали. — Он достал из кармана завёрнутое в бумажку стёклышко величиной с пятак.
— Какая прелесть! — добавив фитиля и повертев в пальцах, воскликнула она. — Теперь это стёклышко — память о нашем невольном спасителе — будет моим талисманом и самой дорогой для меня вещичкой. Спасибо и давай щёчку!
Снова уселись поглубже, и полилась задушевная беседа. О чём? Ну конечно же о том, какой скучной стала жизнь после разлуки; с каким нетерпением ждали 14 сентября; что за эти полмесяца оба ещё больше убедились, как дороги друг дружке… Тема, старая, как мир, и вечно новая, молодая и волнующая.
Влюблённые, как известно, часов не наблюдают. И лишь случайно глянув на ходики, показывавшие двенадцатый час, гость обеспокоился:
— Слушай, нам же велели не засиживаться! И ещё: где я буду спать — не у тебя же?
— Почему бы и нет. Пойду спрошусь у мамы, она всё ещё у дедушки.
Марта вышла, а он только теперь обратил внимание на обстановку в комнате. Оказалось, что сидит на небольшой деревянной кровати, застланной верблюжей шерсти одеялом. В головах поверх него — подушка, вышитая по углам какими-то цветочками. У окна — столик с книжками, точнее учебниками; один с нерусским названием. На стене — вешалка, задёрнутая занавеской, из-под которой виднеется низ знакомого ему платья: белого, с двумя синими полосками по подолу, ещё какие-то одёжки.
Вернулась Марта со знакомым уже лоскутным одеялом, простыней и подушкой.
— Мама разрешила постелить тебе в моей комнате. На полу. А чтоб не холодило снизу, сложим одеяло вдвое. Подержи-ка за углы.
— Ну, вы даёте, вобще! — хмыкнул он, подчиняясь.
— Теперь ложим вот сюда. Простыню тоже вдвое. Сейчас принесу что-нибудь укрыться.
— Не надо ни простыни, ни укрывачки: я пересплю одетый, — распорядился почему-то Андрей.
— Попрошу в моём доме не командовать! Ты же не цыган, чтоб спать не раздеваясь. Всё помнется, погладить не успею… Может, всё же разденешься?
— Сказал — не буду. Всё! — поставил на своём.
— Ну хорошо, — пошла на уступки хозяйка комнаты. — Сними только хоть рубашку.
— Ладно, рубашку сниму.
Оставшись в майке, Андрей сразу же и лег. Марта дунула сверху в слегка закоптевшее стекло — лампа, пыхнув, погасла; наступила кромешная тьма. Раздевшись, юркнула под одеяло и она. Но спать, увы, не хотелось, и минут через несколько послышался её шепоток:
— Андрюш, ты не спишь?
— Ещё нет. А чё? — обозвался он.
— Мне тоже ни капельки не хочется… И я забыла спросить об одном деле.
— Так спроси.
— Это не одно и не два слова. Можно на минутку к тебе?
— Н… ну, разве что на одну минутку. И чтоб без этих самых… без фокусов.
— Обещаю! — Она тут же вскочила и, в чём была, прихватив одеяло, очутилась у него под боком. Укрывшись сама, хотела прикутать и его, но Андрей вдруг резко отодвинулся.
— Я же просил: без фокусов! — упрекнул грубовато.
— Ты о чём? — не поняла она.
— Ты бы еще без трусов припёрлась! … Зараз же дуй отсюда!
— Ой, я совсем забыла, что без лифчика! — спохватилась она… — Извини. А можно, отгорожусь от тебя одеялом?
Получив молчаливое согласие и обособившись, поинтересовалась:
— Так пройдет?
— Теперь другое дело, — проведя рукой вдоль барьера-разградителя, придвинулся он ближе. — Так о чём ты не успела спросить?
— Ты так меня одёрнул… как неродной. Я даже забыла…
— Уж признайся честно: захотелось ещё полизаться.
— Если честно, то и это тоже. Но не только.
— А что же ещё?
— Вспомнила! Хочу попросить: не останешься на денёк у нас? Хоть не на весь. Козленочка увидишь, он такой потешный, любит поиграть. А в обед мы с мамой тебя проводим: с нею облава не страшна, как-никак, она секретарша самого коменданта. И потом: может её сегодня ещё и не будет, я имею в виду эту проклятую облаву.
— Можно бы, конешно, но мама — она такая мнительная… Небось, тоже зараз не спит, переживает — я ведь обещал сёдни и вернуться.
— Жаль… И дедушка как раз приболел, некому корму Машке принести.
— У вас что, кормить нечем?
— Никак сено не привезём. Мы её зелёными ивовыми ветками кормим; но я боюсь ходить к ерику одна.
— Ну, ежли надо помочь, тогда другое дело: до обеда задержусь, — согласился он.
— Вот и чудненько! — На радостях она подсунула руку ему под шею, притянула лицо и поцеловала. — А раз не надо вставать чуть свет, то давай поговорим ещё немножко.
— Да я тебе уже все новости пересказал.
— А я ещё не наслушалась твоего голоса, и когда ещё услышу — неизвестно. Расскажи какую-нибудь сказку. Страшную-престрашную! Знаешь такие?
— Кто ж их не знает? Хочешь, расскажу которую сочинил Федя? Только она длинная и написана стихами.
— Конечно, хочу! Мне Клава давала почитать его стихи — чудо как хороши!
— Ну, тогда слушай. — Он помолчал, вспоминая, и начал:
Давным-давно одно селенье Цыганский табор посетил…
Конешно, случай этот был Для всех — привычное явление, И как бывало всякий раз, О нём забыли бы тотчас, Как только табор удалится; Но тот такой оставил след, Что многими не мог забыться На протяженьи долгих лет…
Дошли и до меня те слухи.
Рассказ о мстительной старухе И молодых гробовщиках Невольно навевает страх…
Андрей сделал паузу, и Марта, воспользовавшись нею, отметила:
— Складно написано! И ты всю её выучил наизусть?
— За четыре или пять приёмов.
— Теперь вижу, что не зря хвалился отменной памятью, — вспомнила она. — А эта старуха, наверно, ведьма?
— Слушай дальше:
В тот раз вели себя цыгане Совсем иначе, чем всегда:
Веселья не было; рыданья Неслись из табора: беда И в их кибитки постучалась— У них старуха-мать скончалась.
Она жила сто с лишним лет, Но всё не вечно на земле.
И вот вдовец, седой и нищий, Пошёл искать гробовщика, Чтобы предать земле, пока Стоит их табор у кладбища.
Ему сказали: «Это — там».
И показали ворота.
На стук калитка отворилась, И с невысокого крыльца К нему зеваючи, спустились Два недовольных молодца.
Старик им в пояс поклонился, Смиренно с просьбой обратился:
Оборвалась, мол, жизни нить, Возьметесь ли похоронить?
Копач, которому Афоним Поп при крещеньи имя дал.
Цыгану нехотя сказал:
— Мы, так и быть уж, похороним.
Но и ему, за гроб, и мне Придется заплатить втройне.
Гробовщики назвали цену, Сразив беднягу наповал:
Не обопрись старик о стену, Он точно наземь бы упал…
Вчера детины перебрали, Сегодня малость недоспали, У них трещала голова; Опохмелиться бы сперва, А тут его нечиста сила Совсем некстати принесла!
И вот они ему со зла Такую цену заломили.
И сколько тот их не просил, Афоним гроша не скостил…
Людскою жадностью сраженный, Вдовец едва добраться смог В свой табор, в траур погруженный, Всё рассказал и с горя слёг.
Но делать нечего: цыгане, Перетряхнув узлы, карманы, Кой-как оплату наскребли И тем детинам принесли.
Гробовщики переглянулись, Смутившись… но, пожав плечьми, Не повинились пред людьми И за мошною потянулись…
Содрав три шкуры с голытьбы, Людей неласковой судьбы.
В шинок сходивши, заложили Гнедого с Чалым в драндулет, Инструментарий погрузили И в табор поторили след.
Цыгане слёзно затужили И в гроб старуху положили; Накрыли крышкой и по ней Забили с дюжину гвоздей.
Гробовщикам свой груз печальный Препоручили. А затем Старшой велел сниматься всем, И отбыл табор в путь свой дальний, Кляня гробовщиков скупых За жадность и бездушье их.
Детины тронули к погосту.
Приехавши, спустили гроб.
Горилки приняли грамм по сту, Работалось спорее чтоб.
Для ямы место подыскали, О том о сём порассуждали И, оголившись до пупа, Подналегли на заступа.
Но дело двигалось неспоро:
Коренья, камни, разный хлам Им попадались тут и там.
Земля противилась… И вскоре Афоним выбился из сил; Передохнуть он предложил.
— Ананий, мы сегодня ели? — Спросил, уставясь на мозоль.
— Пол-ямы вырыть не успели, А в теле слабость, дрожь и боль.
Не может быть, чтоб с перепою!
— Неладно что-то и со мною:
Корёжит самого, хоть хнычь…
Боюсь, что этот старый хрыч — Ведьмак; и мстит он нам от злости!
Коренья, камни да кирпич — Откуда? не могу постичь…
Ну ладно б попадались кости, Такое было; но чтоб так?
Ума не приложу никак!
— Послушай, Нань, — сказал Афоним, — А мы на этот раз схитрим:
Давай в пол-яме захороним Проклятый гроб — и леший с ним!
— Ништо! — Ананий согласился И тут же с места подхватился.
Подкантовали, напряглись И абы как столкнули вниз.
Потом в ладони поплевали, Перемигнулись весело, Подборки в руки — и пошло:
Забрасывать могилу стали.
В полнеба красное пятно — К закату близилось оно…
— Афонь, — заметил вдруг Ананий, Вспотевший вытирая лоб, — Не обратил ли ты вниманья:
Бросаем камни мы на гроб, А стуков никаких о крышу Я что-то вроде бы не слышу.
А ну-ка гляну, что там. Ой, Тут что-то не тово… Постой!
(Ананий со страху икает) Да не кидай — ик! — землю, стоп, Она уходит — ик! — под гроб.
А он как будто — ик! — всплывает.
Он… ик! — почти уж наверху…
Бежим отсюда! Карау…
И оба голоса лишились, Так и застыв с раскрытым ртом.
Затем колени подкосились, Ослабло тело; а потом, Когда сорвалась крышка с гроба, Похолодела вся утроба…
Цыганка… села, и тотчас Не отверзая мёртвых глаз, К детинам руки протянула И зашипела, как змея:
— Как жаль, што днём не вижу я!
Что не могу размежить веки И посмотреть в глаза того — Мерзавца, а не человека!
Кто так ограбил, и кого — Цыган, голодных, полунищих!..
Оставил без гроша и пищи, В нужде на несколько недель.
Что ж вы за нелюди? Ужель У вас ни совести, ни чести Не сохранилось и на грош?
Видать, всю пропили… Ну что ж, Не миновать моей вам мести!
Сегодня, лишь зайдёт луна, Вы мне заплатите сполна!
— Ой, Андрюша, — вздрогнула Марта. — У меня аж мороз по коже!
— Под одеялом и холодно?
— Не холодно, а страшно… Ты так образно рассказываешь, что эта ведьма стоит перед глазами…
— Может, на сегодня хватит? Рассказал только до половины.
— Так хочется дослушать! Я всё равно теперь не засну…
— Ладно, уговорила. Слушай:
Цыганка на спину упала, Шепча проклятья мёртвым ртом.
Опять на место крышка встала, И гроб исчез. На месте том Поднялся бугорок могильный.
И будто после дрёмы сильной Гробовщики ожили вновь:
В их жилах заиграла кровь, Угасший разум прояснился, Вернулась речь и бодрый дух.
Они переглянулись вдруг, Афоним к другу обратился:
— Ты не заметил, я не спал?
Ананий лишь плечьми пожал…
Затем вернулись к драндулету, Впрягли вздремнувших лошадей, Поехали. Боясь при этом в пути заговорить о ней.
Решив, что это — наважденье, Всего лишь сонное виденье, Приплёвшееся одному, И каждый думал — лишь ему.
Ведь что греха таить, такое Случалось с ними иногда:
Упьются на ночь и тогда Кошмары снятся с перепою…
Но вот они уж дома снова.
Стемнело. Время отдыхать.
Не говоря о н е й ни слова, Решили вместе ночевать.
Оно и раньше так случалось, Что утром вместе просыпались.
И так бывало потому, Что в двухсемейном их дому Других жильцов уж не осталось:
Забрав детей, супруги их Давно оставили одних — Терпеть пьянчуг они устали.
Но мысль о выпивке у ту ночь Детины оба гнали прочь.
Со стороны посмотришь — скажешь, Что каждый безмятежно спит.
Да и послушаешь, то даже Услышишь, как во сне храпит.
Но это — видимость. На деле Дружки не спали. И хотели Лишь показать, что, мол, его Не беспокоит ничего.
Как будто не было погоста, Не знал не ведал, что о н а Сегодня, лишь зайдёт луна, Пожаловать грозилась в гости И заварить крутой ухи…
Пропели полночь петухи — И тотчас стены задрожали Поднялся вой, галдёж, содом, И стекла в рамах дребезжали, И всё ходило ходуном.
Внезапно с треском дверь открылась, И на пороге появилась, Прошедши сквозь земную твердь, Седая, серая, как смерть, Цыганка… И злорадный хохот, исторгся из коварных уст; Зубовный скрежет, лязг и хруст, Невидимый зловещий топот Дружки услышали вокруг…
Они было вскочили вдруг, Но ноги тут же отказали; Хотели вскрикнуть, но слова Чуть слышно с языка слетали И были внятными едва…
Один дрожит, как в лихорадке, Другой в трясучке, как в припадке, И оба с ужасом глядят, Как будто перед ними ад.
А ведьма вот, совсем уж рядом Почти у самого виска Её костлявая рука, свирепый взгляд…
Могильным смрадом Шибает в ноздри; из очей Искрится жар, как из печей…
Детинам некуда деваться И жён на помощь не позвать…
А ведьма стала издеваться:
Кусать и дёргать, и щипать, Таскать за волосы; под ногти Занозы загонять и когти Совать то в ноздри, то под глаз, И каждому помногу раз…
Хрипел Афоним контроктавой, Чуть слышно стоны издавал; Ананий только ртом зевал В ответ на вывихи суставов…
Но кукарекнул лишь в селенье Вторично в эту ночь петух, Как издевательства, мученья И пытки прекратились вдруг:
Цыганка, вздрогнув, отступилась.
Лицо досадой исказилось:
Ей не хватило тех часов, Чтоб доконать гробовщиков.
Она зловеще прошипела:
— Благодарите петуха — Он сохранил вам потроха, Швырнуть шакалам не успела…
Но я вас завтра навещу И своего не упущу!
Наутро оба, еле-еле Поднявшись, вышли на крыльцо.
Тряслись поджилки и зудели Суставы, мышцы и лицо.
Тошнило, будто с перебору; Но ведь вчера и разговору, Насколько помнили они, О пиве-бражке — ни-ни-ни!
Пора задать лошадкам корму, Пернатых выпустить во двор, Прошло полдня, но до сих пор Они прийти не могут в норму…
И на прохожих, как назло, Пока что им не повезло…
Но вот в раскрытые ворота Неспешно к ним вошёл старик; Почудилось, окликнул кто-то, И он зашёл сюда на клик.
Седой, как лунь, согбен годами, Он поискал вокруг очами, Ладонью притенив лицо, И обнаружил молодцов.
Преодолел две-три ступени и, словно выбившись из сил, Остановился и спросил:
— Что это с вами, люди-тени?.
Какой такой коварный враг Вам лица изукрасил так?
Детины честно рассказали, Не умалив проступок свой, О том, как сдуру обобрали Цыганский табор кочевой И чем за это поплатились, Когда с погоста возвратились; О том, что ждет их в эту ночь — И некому в беде помочь…
И молвил старец им с упрёком:
— Давно известно на миру, Что жадность не ведёт к добру; Да будет это вам уроком!
Я вашу, так и быть, беду Для перворазу отведу, Но при условии едином:
С Зелёным Змием не дружить, Вернуть семью и ладно жить, Как подобает христианину!
И вот настала ночь вторая, Тревожный приближая час…
Наш старец Магию читает, Афоним пьёт, но — только квас; Топор, воткнутый в половицу, Виднеется среди светлицы; Ананий крестится, но всё ж Его одолевает дрожь…
А ровно в полночь повторились Вчерашний скрежет, вой и гром:
Качался пол и трясся дом.
И беспрепятственно явилась Цыганка грозная в дверях.
Увидела топор — и «Ах!.. «Воскликнула, как простонала; Хотела выскользнуть за дверь, Но та захлопнулась. Знать стала Ей неподвластна уж теперь.
— А, добрый вечер, дорогая! — Сказал ей старец и, вставая, Рукою поманил: — Иди Немного с нами посиди!
Хоть стол не сильно впечатляет, Зато отличный нынче квас У нас имеется. Сейчас Нальём, он жажду утоляет…
Ну, ну, ещё, ещё шажок!
Ты не стесняйся нас, дружок…
Цыганка раз, другой шагнула, Дрожа при виде топора.
Сегодня вид её сутулый Совсем не тот, что был вчера.
Смиренно на колени пала, Воздела руки, застонала, И с кровью пополам слеза Наполнила её глаза:
— О добрый маг, не будь суровым!..
Возможно, я и не права.
Моя седая голова С годами стала бестолкова — Ведь я покинула сей свет С рожденья в полтораста лет.
Проникнись, старче, состраданьем, Не будь жесток, как я. Прости!
Пожалуйста, на покаянье Мой прах и душу отпусти.
Будь милосердным человеком, Не дай мне до скончанья века В геенне огненной гореть!..
— Помилуй, ты ведь эту сеть Сама себе насторожила…
Сперва иди кваску испей, А там посмотрим. Ну, смелей, Ты угощенья заслужила!..
Цыганка сделала движенье, И лишь сравнялась с топором, Как тут же рухнула в пролом.
И провалилась в преисподню, Туда, где правит Вельзевул.
Молва идет — там посегодня Земля дрожит и слышен гул…
Гробовщики с тех пор не пили.
Вернули жён, детей. Сменили Профессию. И через год Построили квасной завод.
По слухам, их квасок целебный Охотно брало всё село.
Там вывелось хмельное зло, Поскольку, якобы, волшебный Напиток оказался сей.
А что? Всё может быть. Ей-ей!
— Ну как, понравилась сказка? — Спросил Андрей, закончив. Э, да ты, никак заснула? — не услышав ответа, толкнул её локтем.
— Что ты, конечно нет! Не могу справиться с впечатлениями… А сказка замечательная, красиво написана. Наш Федя — замечательний поэт.
— Ну, он немного другого мнения, — возразил рассказчик. — Говорит, что написано коряво и с какими-то погрешностями.
— Может быть. Но ему простительно: он ведь начинающий поэт. А поскольку видит погрешности, значит, способен к совершенствованию, я так считаю.
— А ты не считаешь, что пора уже спать? Ну-ка дуй к себе, — напомнил он — Дай щёчку, так уйду!
Лёгкий стук в дверь, а затем и ее слабый скрип разбудили Марту, когда сумрак не позволял еще разглядеть стрелки на циферблате. Увидев на пороге мать, пришедшую их будить, она приложила палец к губам, поманила к себе и спросила шёпотом:
— Мама, я попросила его задержаться до обеда — сходим с ним к ерику за ветками. Чтоб не беспокоить дедушку. Можно?
— Ну, если он согласился, то можно. Но будьте настороже. Впрочем, в случае опасности я дам знать.
— А ты меня не отпустишь с ним, хоть на денёк: я так соскучилась по моим новым друзьям!..
— На этой неделе мне обещали машину — перевезти сенцо. Тогда и…
Она не договорила: беспокойно заёрзал, простонав во сне, Андрей. Чтоб не разбудить и его, она чмокнула дочь и также тихо вышла.
Они ещё спали, когда, подоив козу и запустив к ней малыша, оравшего на весь базок, Ольга Готлобовна ушла из дому.
Проснувшись, Андрей глянул на ходики: было начало девятого. Марта сладко посапывала. Поднялся, осторожно надавил на дверь — скрип её не разбудил. Не проснулась она и тогда, когда он через некоторое время вернулся. И только стук костяшками пальцев о быльце кровати заставил её лупнуть глазами.
— Ты чего рано? — натянула она сползшее было одеяло до подбородка.
— Ничё не рано: девятый час. — Присел возле неё на корточки. — Я привык вставать вместе с солнцем.
— Вижу, успел уже и умыться. Не замёрз под утро?
— Наоборот: мне такой сон приплёлся, что проснулся весь в поту.
— Сон? Страшный? — удивилась она. — Расскажи.
— Приснилось, будто фрицы устроили облаву на наших ребят… Рудика — он почему-то тоже оказался на хуторе, Мишку, Бориса и Федю вроде связали по рукам и ногам и пошвыряли в мажару. Это такая тележка, мы сделали её после твоего отъезда. Потом набросились на Ванька. Человек пять. Он что ни посбивает их с ног, а они обратно поднимаются и к нему. Потом всё-таки связали и его и заставляют тащить возок на станцию. А тебя, Веру и ещё Нюську, почемуто раздетых чуть ли не догола, полицай, мой сосед, хлещет трёх-хвостой плёткой и приговаривает:
— Танцюй! Танцюй!
— Фу, какой ужас тебе приснился!.. — Марта даже зажмурилась и повертела головой. — Так вот почему ты перед утром ворочался и стонал…
— Поэтому план меняется: я решил немедля вернуться домой.
— Почему-у? — спросила она разочарованно.
— Мне думается, сон приснился не зря. Фрицы верняк решат нахапать детворы где-нибудь подальше. А вдруг на нашем хуторе! Нужно срочно предупредить, чтоб были начеку.
— Что ж, может, ты и прав… Отвернись, я оденусь. — Андрей взял стул, отошёл и сел к ней спиной. — Я сейчас быстренько соберу позавтракать, потом немного тебя провожу. А ты будь осторожен: в центре они, может, и не решатся, но могут сделать засады на окраине станицы.
Говоря это, она натянула лифчик, сняла с вешалки кофточку, но передумала и напялила платье с синими шёлковыми полосками по рукавам и подолу, уже довольно тесноватое вверху.
Торопливо позавтракав хлебом с козьим молоком, зашли к деду. После вчерашнего массажа, сделанного опытной рукой дочери, радикулит отпустил настолько, что он собрался сходить за кормом для козы.
— Дедушка, ты подожди и меня, я недолго: провожу немножко нашего гостя, и мы сходим вместе, — на прощанье попросила внучка.
Центральная улица станицы не многим отличалась от хуторской: без твёрдого покрытия, без кюветов, такая же пыльная. Те же саманные, в большинстве своём под камыш, хаты. Разве что заборы не плетённые, а дощатые либо штакетные — серые, давно, а то и вообще не крашенные, покосившиеся.
Вскоре слева и несколько на отшибе показались два длинных навеса, крытых черепицей. Под каждым — в два ряда дощатые, на вкопанных в землю стойках, торговые столы. Станичный базар, обнесённый штакетным забором. Свернули к нему, направляясь ко входу на территорию.
— Пойдёшь через рынок? — спросила она.
— Так ближе. Что-то сёдни, несмотря на будний день, народу здесь многовато… Всегда, что ли, так?
— Понятия не имею. Видела рынок всего один раз и то днём, когда проезжали с домашним скарбом мимо; тогда тут никого не было.
— Да и я вчерась никого не видел. Не хватало многих штакетин, а вот эти въездные ворота были вообще проломлены и настежь. В честь чего его так отремонтировали? — удивился Андрей.
— А видишь вон плакат — «Ярмарка», — показала Марта.
Перед входом на территорию рынка у большого щита толпилось несколько женщин и подростков. В написанном от руки крупными буквами приглашении посетить ярмарку говорилось, что по случаю очередных выдающихся успехов «непобедимой германской армии» населению на территории рынка будут продаваться дёшево, за советские рубли, такие товары, как керосин, спички, мыло и другой дефицит.
— Жаль, не за что, а то взять бы спичек, — пожалел Андрей. — С кресалами мороки много.
— Кресало — это огниво, что ли? — уточнила Марта. — В следующий раз, как придёшь — напомни: у нас ещё десятка два коробков, если не больше.
— Спасибо, напомню. Ты дальше не ходи, дедушка ждет, — подал он руку перед входом на территорию.
— Проведу до выхода, ладно? — попросила провожатая.
Прошли за ограду. Похоже, о предстоящей ярмарке станичники были извещены заранее: на столах лежало немало всякой сельской всячины — от овощей до мелкой живности. Продавцы и покупатели — старухи, молодайки, подростки. Много народу у ларей, кучкуются в ожидании обещанного дефицита.
Впрочем, наших героев всё это абсолютно не интересовало. Неспеша дошли они до противоположного края. У выхода Андрей снова напомнил:
— Всё. Возвращайся. Пока!
— Когда ждать ещё?
— Не раньше, как через неделю: делов пока — навалом.
— Привет от меня всем-всем!
До выхода оставалось каких-то два шага, когда у калиточного проёма возник мужик угрюмого вида, объявив:
— Тута ходу нэма!
— Это ещё почему? — возмутился Андрей.
— По качану. Кажу — выход с того боку. Провалюй! — грубо втолкнул обратно.
— Видала? — вернулся он к Марте. — Только что выпустил двух бабок, а меня — ни в какую. Говорит, выход с той стороны. Что бы это значило?
— Неужели готовится облава? … — упавшим голосом прошептала она, побледнев так, что обозначились веснушки.
— Да ты не боись! Не выпустят и там, перелезем через забор.
Поспешили на выход. Уже издали заметили: и тут дежурит полицай. Просто, заходя, в тот раз не обратили на него внимания. Стали наблюдать. Бритый, одет прилично, выглядит добряком. Вот только глаза — так по сторонам и стреляют. Женщина с хозяйственной кошёлкой вышла беспрепятственно. Без задержки вошло двое пацанов: один коренастый, лицо в крупных оспинах, второй помельче, в линялой рубахе, коротких штанах, с облупленным носом. А вот девчонку лет тринадцати, хотевшую выйти за калитку, остановил.
— Ты почему ж уходишь, не дождавшись, ай спички в доме не нужны? — спросил участливо, с улыбкой.
— Шпычкы-то нужни, та грош нэмае…
— У немцев большой праздник, поэтому детворе будут отпускать бесплатно, — понизив голос, пообещал бритый «по секрету».
— А чи вы нэ обманюетэ? — усомнилась было та.
— Конешно, кто без грошей, тем дадут меньше — по коробку спичек и брусочку мыла, но и за то спасибо. Иди вон к тому ларьку, займи очередь, а то может и не хватить!
Поверив лжи полицая, девчонка вернулась.
— У меня отпали всякие сомнения, — сказал Андрей. — Нужно драпать, пока не поздно!
Южная сторона забора примыкала к лужайке, по-местному именуемой подыной. Сквозь штакетины видны увядающие лопухи, будяки, невысокий пыльный кустарник. Оглядевшись, не следит ли кто внутри базара, приблизились к забору. Присев, Андрей скомандовал:
— Залазь мне на плечи; — когда она, держась за штакетины, взобралась, выпрямился. — Заводи ногу на ту сторону… цепляйся носком за рейку… теперь другую… прыгай!
Перемахнул сам — Марта сидела с болезненной гримасой, держась за щиколотку правой ноги.
— Никак вывихнула?.
— Похоже на то… больно — не могу…
— От же ёк-карный бабай! — «выругался» он впервые с тех пор, как пообещал «не буду». — Идти не сможешь? Давай попробуем. Хватайся мне за шею.
Он наклонился, помог ей подняться. Но даже незначительная нагрузка на больную ногу вызвала столь резкую боль, что пострадавшая громко застонала.
— Надо бы сперва вправить вывих… Тебе не приходилось?
— Было дело… Довольно неприятная штука. Но — потерпи, раз так.
Снял туфлю, взялся за ступню обеими руками, резко дёрнул. Марта вскрикнула, и через минуту из-за куста вынырнул полицай. В незаметно подкравшемся Андрей узнал… своего соседа.
— 3драсьте, дядя Пантелей! — впервые столь вежливо поздоровался он. — Как вы тут оказались?
В душе презирая его как предателя, он при встречах держался лояльно: здоровался и с ним, и с Мархвой Калистративной. Несколько обрадовался, что «попался» именно сосед: может, поспособствует уйти от облавщиков.
— Я-то тут по дилу, — холодно буркнул сосед, — а якого биса вы по заборах шастаетэ?
— Шли вот с нею на хутор, зашли на ярмарку, — пояснил он, забыв перестроиться на его диалект. — Стали выходить, а нас не пускают. Ну, мы и решили через забор. Да только она неудачно спрыгнула… кажись, сломала ногу. Это ж Марта, вы должны её знать: её мама работает секретаршей у самого коменданта, — добавил для верности.
— Шо, зовсим поламала, шой ходыть нэ може?
— Ну, может, и не «зовсим», но сильно подвернула.
— Ось тут нэдалэчко стоить якась машина, я попросю шохвёра, вин одвэзэ вас на хутир.
— Ей теперь не до хутора… Хай посидит с часик, пока боль утихнет, и я отведу её до дому, — предложил он свой выход из положения, но полицай повысил голос: — Шо сказано, тэ й робы! Поможи ий дойты до машины.
При их появлении с кузова крытого брезентом грузовика спрыгнул рыжий чубатый верзила.
— Ось, прыймы. Та нэ здумай отпустыть! — приказал Пантелей. — Може, це як раз ти, шо нашкодылы.
Верзила кивнул понимающе, легко пересадил обоих через задний борт в кузов, запрыгнул сам.
— Дять, за что нас схватили? — обратился к нему Андрей. — Мы никакого преступления не сделали! И вобще, что происходит?
— А то, шо якись пацаны — понял, нет? — напали ночью на стан… на комендатуру то ись. Охрана на минуту отлучилась, а они тем временем выпустили из каталажки — понял, нет? — аж двох арестованных бандитов. Вот их и хочут теперь заловить — понял, нет?
— Мы к этому никакого отношения не имеем. Я — вчера только с хутора, никого тут не знаю, кроме вот её. А она — дочь секретарши здешнего коменданта. Как его звать, не знаешь? — спросил у Марты.
— Господин Безе. Вы должны его знать, если бывали в комендатуре. Отпустите нас или сообщите ему или маме — он даст такое распоряжение. А мама еще и отблагодарит. Пожалуйста, прошу вас!
— Отпустить, сообщить. — вслух прикидывал рыжий. — Надо бы, конешно, но — слыхали приказ главного?
Послышался свисток вроде милицейского, затем громкая немецкая речь. Заработал мотор, грузовик тронулся с места. Марта — они сидели на откидной скамье рядом — шепнула на ухо:
— Приказано подать машину ко входу на рынок. Сейчас начнется…
— Вы шо там шепочетесь? А ну марш аж до кабинки — понял, нет?
Ничего, однако, не «началось «. Остановились у ворот. Тут уже поджидала большая толпа подростков, в основном мальчишек, и с ними тот, бритый и прилично одетый полицай.
— Откинь борт и помоги ребятишкам подняться наверх, — приказал он рыжему, но не строго — с улыбочкой на лице.
Ребята тянули руки, и тот втаскивал их под брезент. Никто не протестовал, напротив: слышался непринуждённый разноголосый гомон и даже смех.
— Чему это вы все радуетесь? — спросил Андрей у коренастого, с оспинами на лице пацана, виденного ими ранее и поднявшегося одним из первых в кузов.
— Ты чё, не понял? — удивился тот. — Съездим на склад, поможем нагрузить машину, а нам за это спички, карасин и мыло — бесплатно!
Вскоре вместительный кузов оказался набитым до отказа; было слышно, как закрепили задний борт, даже не вместив всех желающих получить дефицит бесплатно. Андрей смекнул, что можно, прорезав брезент, выпрыгнуть — и никто их обратно загонять не станет. Попросил Марту подняться — из-за нехватки места она сидела у него на коленях — чтобы достать из кармана складник. Но машина дёрнулась и стала быстро набирать скорость; вырулив на дорогу, шофёр дал газ…
Куда везут, в какую сторону? Из-за вздыбленной дорожной пыли определить было невозможно. Вскоре, впрочем, он сориентировался: слева показались развалины взорванного нашими при отходе хлебного элеватора. Значит, везут к железнодорожной станции.
Наконец грузовик остановился. Вместо рыжего сзади оказались два гитлеровца с автоматами. Они откинули борт, кузов стал пустеть. Андрей попросил рябого помочь ссадить сестру, сказав, что у Марты неладно с ногой. Тот, взяв её под мышки, поддержал, пока он снизу подхватил на руки. Щиколотка ещё болела, но «уже не так».
Из кабины вылез третий немец — щеголеватый, в чёрной форме, со знаками отличия, которых Андрей не знал, но догадывался: высокое начальство.
— Репьята! — обратился к детворе на ломаном русском. — Фсем паташоль плише. Слюшай меня корошо. Ме вас сапыль скасайт… как это? … што… склат, на котори… нушни нам товар… ехайт ната на поест. Ви тут потоштайт, никто ухотит нелсья!
Сделав такое объявление, офицер ушёл, наказав что-то автоматчикам.
Злополучные грузчики разделились на две группы (семеро девчонок несколько в сторонке), переговаривались, глазели по сторонам. Место, в общем-то, большинству хорошо знакомое: слева подъездные коммуникации к элеваторским зернохранилищам; спереди — метрах в сорока, — довольно высокая железнодорожная насыпь, откуда доносилось шипение невидимого из-за вагонов паровоза; справа — продолговатое кирпичное здание вокзала; рядом с ним — импровизированный пристанционный базарчик с двумя грубо сколоченными столами под развесистой гледичей (по-местному — дикой акацией). Оттуда глазело несколько женщин-торговок.
Андрей отозвал Марту в сторонку:
— Который ушёл, он не сказал, куда и зачем?
— Нет. Приказал этим глядеть в оба и всё.
— Ты это самое… Когда вернётся, поговори с ним по-вашему. Скажи, что вы с мамой тоже немцы, что она давно уже сотрудничает с новой властью. Напомни, что работает секретаршей у здешнего коменданта. — Марта отрицательно повертела головой, но он не дал ей возразить. — Прибреши, что вы с нетерпением ждали ихнего прихода и всё такое. Он тебя верняк отпустит.
— Нет, Андрюша, я этого делать не стану, — наотрез отказалась она. — Обоих нас он не отпустит, а без тебя мне ни свобода, ни даже жизнь не нужна. Вместе кашу заварили, вместе будем и расхлёбывать, чем бы это ни кончилось.
— Ну и напрасно! Нужно попытаться использовать этот единственный шанс: спасёшься сама, а может, с помощью мамы и меня выручишь.
— Пока доберусь до мамы — я ведь не только станицы не знаю, но даже, где она работает — тебя уже увезут.
— Спросишь, люди подскажут. Зато хоть ты не пострадаешь. Я не хочу, чтоб из-за меня…
— Нет! И слушать не желаю. Вовсе не из-за тебя. А шанс не единст венный: мама вот-вот придёт домой обедать…
— Вчера она не приходила, — перебил он.
— Впервые за всё время. Придёт, узнает, что я не вернулась, как пообещала дедушке, и сразу догадается. Не пройдёт и полчаса, как она появится здесь.
— Сегодня всё идёт нам назло. Поэтому я не советую, я приказываю: делай так, как я…
Разговору помешал подошедший к ним рябой.
— Вы не здешние… Держитесь отдельно да и своих я знаю почти всех. Чо такие невесёлые? — Лицо его светилось добродушной улыбкой, и несмотря на крупные оспины, казалось довольно красивым.
— Да, мы случайно попали в вашу компанию, — ответил Андрей, недовольный, что помешали разговору. — А ты напрасно радуешься! Не знаешь, в какой переплёт попал…
— Ты на что намекаешь?.
— Так вас же надули! Не за товаром повезут нас на поезде.
— Почему так думаешь?
— Не думаю, а знаю совершенно точно. Нас с сестрой схватили намного раньше, и тот чубатый, что помогал влезть на машину, он говорил совсем другое. Будто ваши пацаны выпустили из каталажки арестованных бандитов. Их, мол, решили «заловить» и узнать, кто именно это сделал.
— Брешет: ничего этого не было, — заверил рябой.
— Я тоже так подумал. А посля узнал — немного волоку по-фрицевски — что на самом-то деле нас хочут угнать в Германию.
— Как — в Германию? Ах, гады! Ну, козёл! — скрипнул зубами рябой, пригрозив кому-то, по всей вероятности, в станице, — я тебе устрою…
— Никому ты теперь ничего не устроишь, — заметил Андрей, кивнув в сторону охраны.
— Да? Ты не знаешь Степана Голопупенка! Гад я буду, если не убегу прям отсюда. Спасибо, что предупредили, — пожал он обоим руки. — Как зовут-то?
— Меня — Андрей, а сестру — Марта. Но учти: они гнаться не станут — пристрелят и всё.
— Нехай лучше убьют на родине!..
Степан вернулся к своим, стал что-то с ними обсуждать. Затем вчетвером перешли на край, от вокзала, озираясь на автоматчиков. А те поначалу стояли врозь, затем сошлись вместе: тот, что стоял от базарчика, не смог прикурить — отказала зажигалка. Пройдя к напарнику, он закинул автомат за спину, прикурил сигарету, и они, поглядывая в сторону девчонок, стоявших отдельно и ближе к ним, стали увлеченно что-то обсуждать.
Первым с места сорвался Степан. Следом — ещё трое. Стража среагировала с опозданием: схватились за оружие, кода те отдалились на добрых два десятка метров. Стрелять поверх ребячьей толпы было несподручно, нужно было её обогнуть, что один и сделал. К тому времени беглецы, пригнувшись и кидаясь из стороны в сторону, отбежали ещё дальше. Автоматная очередь настигла последнего: взмахнув руками, паренёк упал без крика…
Стрельба привлекла внимание людей на насыпи, но пожелавших перехватить беглецов не оказалось. Стрелявший прошёл к убитому, носком сапога перевернул лицом кверху. Оно было окровавлено, а малец мёртв.
После такого происшествия ребят пинками и окриками сгрудили в плотный табунок и в дальнейшем держали под дулами наизготовку.
Под гледичей начали появляться разбежавшиеся было торговки. Забрав свои ряженки да семечки, смывались. Лишь две из них несмело, с остановками, приблизились к убитому. Автоматчики не обращали внимания, и мальца унесли.
Ещё через четверть часа вернулся офицер. Спокойно выслушал доклад о случившемся, дал какие-то указания, и под строгим конвоем горе-грузчиков увели наверх, где на запасном пути их поджидал состав из десятка вагонов. В товарняк, что стоял впереди паровоза, по свежесколоченному трапу затолкали упиравшихся мальчишек и хнычущих девчонок и задвинули тяжёлую, на колесиках, дверь…
Яркий день остался по ту сторону, по эту — полумрак и духота. Два узких окошка вверху да голый, притрушенный застарелым мусором, пол — вот и все «удобства». Когда глаза приспособились к сумраку, на лицах большинства узников можно было прочесть растерянность, отчаянье и страх. Девочки, сбиваясь в отдельный угол, продолжали хныкать и растирать слёзы по лицу.
— Пройду к ним, — сказала Марта. — Объясню, что происходит и попробую успокоить. Заодно познакомлюсь, теперь у нас судьба общая.
— Говори, что мы с тобой брат и сестра, — посоветовал Андрей. — А я займусь ребятами.
Он протиснулся в самую гущу.
— Кончай, братва, шуметь и послушайте, что я вам скажу! — попросил внимания. Шум поутих. Девчонки, переставая хлюпать носами, тоже придвинулись вплотную. Стало слышно, как пшикает стоящий под парами локомотив. — Вы верняк не знаете, что с нами случилось. Я малость волоку по-фрицевски и из ихних разговоров кой-чего усек. Так вот, нас заманили под видом спичек и мыла, а теперь ещё и заперли в этой духотище не для того, чтоб везти на какой-то там склад! Мы им понадобились, чтоб спастись от партизан.
Это открытие вызвало глухой ропот.
— А хиба тут е партизаны? — усомнился шкет лет двенадцати.
— Не перебивай, дослушай до конца, — посоветовали ему, и Андрей продолжил:
— Вы думаете, что в тех вагонах, позади паровоза? Не знаете. А я разобрал из ихнего разговора: в них пшеница и картошка. А ещё разное награбленное добро. Теперь они хочут всё это сплавить в свою фрицевскую Германию. А чтоб партизаны не пустили под откос, прицепили спереди вагон с детворой. Теперь про партизан: и тут е, и повсюду на кубанской земле, особенно вдоль железной дороги, — явно закусил удила Андрей. — Фрицы токо про них и долдонят: партизаны мерещутся им под каждым мостом, под каждым кустом вдоль дороги и в каждом камыше, ежели я правильно понял. И спасти нас теперь смогут только партизаны.
Видя такую его осведомлённость, товарищи по несчастью стали задавать вопросы. Некоторые ставили его в тупик. Но он решил, что если где и подзагнёт, вреда не будет. Главное — успокоить и вселить хоть какую-то надежду на благополучный исход.
— А як партизаны узнають, шо в вагони мы? — спросил кто-то.
— Думаешь, они не догадливые? Зачем нужен вагон спереди паровоза? И потом, — пришла более убедительная догадка, — фрицы верняк прикрепят на вагон объявление. Большими, конешно, буквами, чтоб можно было прочитать издаля.
— А если не спасут партизаны, что будет с нами потом? — поинтересовалась девчушка с вьющимися кудряшками и миловидным личиком, на вид лет двенадцати.
— Об этом у них разговоров пока не было… Но я думаю так: отпустят на все четыре стороны, как только проедем партизанскую угрозу.
Его ответы вернули заложникам некоторое присутствие духа. Вернувшись в свой угол, девчонки окружили Марту. Мужская часть строила предположения, как же всё-таки пойдёт дело дальше: станут ли кормить, будут ли выводить до ветру или придется ходить в угол вагона. Выдастся ли случай задать лататы, как это сделал Степка Голопуп (его знали многие как отчаянного заводилу).
Спустя час, а может, и все два, паровоз вдруг ожил: задышал чаще, коротко свистнул, вагон дёрнулся, и под колёсами сперва нечасто, потом во всё возрастающем темпе застучали стыки. Вернулась Марта в расстроенных чувствах.
— У тебя ножик острый? — спросила, присев рядом.
— Конешно. А зачем он тебе?
— Надо спороть с платья синие ленточки. И немедленно.
— Зачем? — удивился он. — Пацаны, а ну отвали, дайте поговорить с сестрёнкой! — Те послушно отодвинулись.
— Ты, возможно, не обратил внимания… Когда мы были ещё внизу, эти два верзилы пялили глаза на девочек. И говорили такие гадости… У меня сердце кровью обливается, как подумаю!..
— Уж не снасильничать ли собираются?
— Именно так… Даже Лена с Нелей, вон те, что постарше, догадались, хоть и не понимают их языка. И особенно не избежать этого мне.
— Почему так решила? — обеспокоился не на шутку Андрей.
— «А вон та, в платье с синими полосками, — настоящая конфетка! «— Так, если слово в слово, сказал обо мне один из них. И добавил: жаль, мол, что старшой заберёт это лакомство себе…
— Что ты говоришь! — ужаснулся Андрей.
Вот я и подумала: нужно поскорее убрать с платья это украшение — буду не так приметна.
— Полоски убрать нетрудно. Но ты больше приметна другими своими украшениями. Как быть с ними?
— Ты о чём? — не поняла она.
— Будто не знаешь: привлекательная мордочка, стройная фигурка. А особую похоть вызвали у них, мне думается, твои выпуклости спереди. Их тоже надо бы убрать.
— Груди что ли? Но как же их уберешь…
— Придумать надо. Ленты в темноте спороть не получится, но мы отчекмарим их вместе с подолом. Платье длинное, и три сантиметра его почти не укоротят. Как и рукава.
— И зачем только я его напялила, такое приметное! — пожалела она.
— Лучше б ты родилась не такой красивой, — в свою очередь пожалел и он.
— Но я тебе помогу. Лицо мы обезобразим, с помощью слюны и пыли. Косы расплетём, волосы перепутаем. Будешь выглядеть, как полоумная идиотка, на которую и смотреть-то противно. Не возражаешь?
— Конечно, нет! Спасибо, что додумался.
— А вот сиськи… их надо примотать туго-туго, чтоб стали, как лепёшки Наверно, больно будет, они ведь у тебя ещё твёрдые.
— Потерплю. Только чем примотаем?
— На мне новая майка. Сделаем из неё широкий бинт, но чтоб хватило обмотать тебя раза два-три. А закрепим примотку лентами.
— Ты у меня такой сообразительный! — Исполненная благодарности, она обняла его и приникла щекой к лицу.
Через некоторое время состав сделал остановку на какой-то станции. Взобравшись на плечи высокорослого крепыша по имени Серёга, Андрей через зарешеченное окошко хотел сориентироваться, куда их завезли. Но не удалось: никаких построек видно не было; похоже, что стоят в тупике. Оставив вагон здесь, паровоз куда-то укатил.
Ещё засветло (если можно так сказать про полутёмный вагон) они с Мартой успели управиться со всем, что намечали. Переделывая «выпуклости» в «лепёшки», он поинтересовался:
— А что это твёрдое под левой сиськой?
— Твой вчерашний подарок, — пояснила бывшая именинница. — Я догадалась прихватить его утром с собой.
— Нашла место! Давай мне в карман. А то потеряешь.
— Не потеряю. Низ лифчика двойной, я, когда ты сидел отвернувшись, сделала прорезь в чашечке, и наш талисман там, как в кармашке.
— Ты сурьёзно веришь в талисманы? А по-моему, это такая же выдумка, как про бога или этих, как их, аллаха, будду и прочих.
— А я в талисман верю. И он отведёт от нас всякие беды.
— Пока что этого не вижу… Вот теперь ты похожа на пацана, — проведя ладонью по спине, а затем спереди, сказал Андрей, довольный своей работой.
В темноте и неизвестности время тянулось томительно медленно… Хотелось есть, а ещё больше — пить. Дневная духота стала несколько спадать, но воздух в вагоне становился всё более спёртым, поскольку кое-кто «сходил» в угол. Разговоры стихли, все стали укладываться на ночь. В отличие от ребят, улёгшихся покотом, девочки решили коротать ночь сидя, плотно прижавшись друг к дружке, чтоб не мёрзнуть: почти все они были одеты в лёгкие платьица или кофточки. Марта примостилась рядом с «братом». Андрей укрыл её пиджаком, а голову она пристроила ему на грудь.
Но уснуть не успели. Снаружи послышался весёлый, похоже — пьяный, смех, клацнул засов, и дверь со скрежетом отошла. В узком проёме блеснул свет, в вагон поднялись двое. Кое-кто вскочил.
— Лешаит! фсем лешайт! — приказал, задвинув дверь до упора, офицер.
Неожиданные посетители, раздвигая ногами лежащих, направились в угол к девчонкам. Те сидели, опустив книзу лица, так как свет от электрического фонарика слепил глаза. Один из охранявших, беря за волосы, поворачивал их к свету, разглядывал каждую, пока не осмотрел всех семерых. Кончился осмотр тем, что отобрали троих: Лену. Нелю и малявку с вьющимися кудряшками. Их подняли и стали подталкивадь к выходу:
— Пошоль, пошоль!
Чувствуя недоброе, старшие упирались, плача навзрыд. Меньшая визжала, как резаная, вырывалась из рук охранника, пока тот не передал её поджидавшему внизу напарнику.
Когда снова клацнул снаружи запор и стих плач уводимых, в притихшем вагоне послышались голоса:
— А нашо их забралы?
— Ты чо, идоси не знаешь?
— Невже ж совисти хватэ? Светки ж ще и трынадцяты нема.
— От же гады! Хрицы прокляти!
Андрей расслышал, что Марта всхлипывает. Обнял, принялся успокаивать:
— Не плачь, слышишь?. Что ж теперь… теперь уже ничем не поможешь. Ты из-за девочек?
— И за них, и за себя страшно. Они ведь долго искали меня. По полоскам на рукавах платья. Я чуть не умерла от ужаса: ну как найдут здесь… — И она опять залилась слезами.
— Не переживай так, — заходился он уговаривать. — Видишь, всё обошлось. Первый раз сработал талисман. Да ежли б и нашли… офицер увидел бы, какая ты страхолюдная и заехал бы в морду этому чёрту. За то, что хотел подшутить над своим начальством.
— Ты так думаешь? — перестала она всхлипывать.
— Уверен. Ты сейчас похожа не на конфетку, а на эту, как её, на кикимору болотную. Да и платье-то оказалось бы без приметных полосок.
— Ночью-то, может, и пронесёт, но днём…
— Да, надо что-то предпринимать… Поговорю с братвой, придумаем, как обезопаситься. Безвыходных положений не бывает.
Уговоры несколько успокоили её и приободрили. Вскоре она задремала, но и во сне изредка судорожно всхлипывала.
Андрей уснуть больше не смог. Размышлял, что бы такое придумать для спасения не только своей ненаглядной, но и оставшихся четырёх малолеток.
К утру все продрогли и потому проснулись раньше, чем в вагоне начало сереть. Послышались приглушенные разговоры. Находившиеся поблизости Сергей Попченко со станичниками о чем-то совещались. Андрей шепнул Марте, что хочет принять участие.
— Об чём разговор, пацаны? — подключился и он.
— Думаем как бы сбежать, — сказал Серёга. — Хочем надрезать доски в полу, чтобы в подходящий момент проломить дыру и смыться.
— Одни или с девчатами?
— Надо бы всем. Но — как получится.
— «Как получится» — не пойдёт, — возразил он. — Неужли душа не болит за землячек? Ведь эти гады тремя не ограничутся. А до Германии ещё далеко.
— А ты вроде обнадёживал, что нас освободят партизаны, — поймал его на слове пацан по кличке Сухарь.
— На партизан надейся, но и сам не плошай, — переделал он известную поговорку на свой лад. — Это когда ещё будет!
— В следующую ночь мы их просто не впустим. Застопорим двери с помощью, например, ремня.
— Не ночью, так днём зацапают, — возразил Андрей. — Нет, это не выход! Я предлагаю другое: как токо они задвинут дверь и направятся к девчонкам, давайте все, сколько нас есть — а нас на каждого из них по десятку — разом набросимся, свалим, кляп в пасть, коленкой на горло и… ну, там видно будет.
— А третий — вдруг он с автоматом? — Это опять подал реплику Сухарь.
— Навряд. А чтоб не догадался, что происходит внутри вагона, подговорим девчат, чтоб погромче кричали. Когда пистолет офицера окажется в наших руках, приоткроем дверь и кокнем его в упор. Машинисты навряд чтоб…
Совещание прервано было вознёй снаружи. Отъехала почти на всю длину вагонная дверь. Посветлело, внутрь хлынул свежий воздух. В вагон по приставленному трапу поднялся офицер. Потянув носом, брезгливо сморщился.
— Сейдшась ви путет тишайт свеши востух. Фсем вихотит нис — пистра! — распорядился он.
Андрей быстренько стёр с лица Марты излишний марафет («перебор тоже опасен»), перепутанные волосы уместились под кепкой, пиджак тоже отдал ей. Осмотрев, сказал с удовлетворением:
— Ты стала неузнаваема. Даже я сомневаюсь, что вижу тебя, а не какую-нибудь замухрышку.
Спустившихся вниз построили в колонну по два и куда-то повели под бдительным присмотром. Что за станция, узнать не удалось и сегодня, так как она оставалась в стороне. В промежутках между соседними колеями там и тут видны скелеты обгоревших вагонов, чёрные рваные цистерны, сваленные набок.
Привели в некое полупустое помещение, стоящее на отшибе. Здесь их ждала молочная фляга с водой и кружкой, и возле неё сразу образовалась очередь жаждущих напиться. Двое в гражданском приготовили завтрак — хлеб и какое-то варево. Оно оказалось с неприятным запахом, невкусным. Но голод не тётка — ели, хотя и с явным отвращением. Марта отказалась наотрез:
— Не могу эту гадость проглотить, с души воротит…
— Привыкай. Лучшего от них не дождешься.
Но уговорить не получилось, и Андрей съел обе порции, а хлеб, свой и её, сунул в карманы пиджака:
— Проголодаешься сильнее — съешь, он вроде ничего.
В этом помещении продержали почти до обеда. Затем строем погнали ли обратно. Уже издали они заметили надпись на «своём» вагоне: короткое слово «Д Е Т И», выведенное белой краской, занимало треть боковой площади. Впереди него стоял теперь пассажирский вагон, за ним — платформа с балластом, поверх которого лежали несколько рельс и с десяток шпал. Метрах в десяти от неё виднелась дрезина.
И ещё одно новшество: широкий вход в вагон забран решёткой из толстых реек, которая откидывалась книзу, служа в то же время и сходнями. Пол внутри посыпан ракушечником. У входа — фляга с водой и кружкой. В углу, служившему отхожим местом стояла алюминиевая кастрюля с крышкой. А в девчачьем… сидели уведённые ночью.
Вид у девочек был жалок, если не сказать ужасен. У Нелли лицо в синяках, опухшая нижняя губа искусана. У Лены надорвано, к тому же, платье спереди так, что видна грудь, тоже с кровоподтёком, но она наготы даже не замечает. Самая младшая, Света, прислонилась к ней мертвенно-бледным личиком и кажется спящей. От них всё ещё несло винным перегаром…
Решётку подняли, закрепили. Состав, громыхнув буферам, тронулся с места, набирая скорость. Снова из-под колёс понеслось надоедливое «тук-тук — тук-тук». 3а насыпью мелькали телеграфные столбы, проплывали поля, оставались позади речушки и перелески, небольшие населённые пункты. Один красивый пейзаж сменялся другим, вот только сквозь слёзы всё это было плохо различимо…
Часть вторая НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНЫХ КУБАНЦЕВ
Как помнит читатель, знакомый с первой частью нашего повествования, состав с награбленным на Кубани добром предназначался для отправки в Германию. Так полагала Ольга Готлобовна, так теперь считали и Андрей с Мартой. Правда, вагонов пока маловато, всего десяток, но их, видимо, добавится в пути. Поставленный впереди их товарного вагона пассажирский заселили двумя десятками вооружённых солдат. Причём, пожилого возраста; возможно, по приезду их тут же демобилизуют как выслуживших положенный срок. Платформа с рельсами и шпалами — на случай, если путя окажутся поврежденными. Дрезинщики будут ехать впереди состава и заблаговременно предупредят машинистов — так рассудили ребята. Теперь, предположили они, ехать будут не только днём, но и по ночам.
Но ошиблись: ещё не свечерело, как поезд снова остановился на каком-то глухом полустанке. Как оказалось, на ночёвку, и с наступлением сумерек у вагона впервые поставили часового.
Андрея, Серёгу и Сухаря это новшество огорчило, так как шанс «смыться», прорезав в решётке лаз, сошёл на нет. А у Марты появилась надежда, что девочек — а значит, и её — оставят в покое — неужели ж позволят себе бесчинства на глазах у старших, которые годятся им в отцы? Подумав, Андрей с нею согласился и разрешил умыться, привести в порядок волосы, а также убрать (теперь уже с помощью подруг по несчастью) «обмотку», не позволявшую вздохнуть полной грудью и до боли натрудившую «лепёшки».
Прикорнувшие с вечера, ребята постарше устроились возле решётки подышать свежим ночным воздухом родных мест; завтра, возможно, они будут уже далеко… Разговаривая вполголоса, наблюдали за прохаживавшимся взад-вперёд часовым.
— А что, ежли заговорить с этим асмадеем? Может, хуть что-нибудь удастся узнать, — предложил Андрей, когда тот присел на рельс и закурил, посветив спичкой у циферблата часов; похоже, скоро должен был смениться.
— Слышь, фриц, сколько там натикало? — обратился он к нему.
— Ихь бин хайсе Отто, — ответил тот, добавив что-то ещё, чего Андрей не понял, за исключением последней фразы: — Унд руссише нихт ферштейн.
— Он сказал, что зовут его не Фриц, а Отто и что по-русски не понимает ни слова, — перевела Марта. — Можно, я задам ему несколько вопросов по-немецки? Судя по выговору, это интеллигентный человек.
— Ты так думаешь? Поговори.
— Онкель Отто, заген зи, битте, ви шпэт эс? — обратилась она к часовому («Дядя Отто, скажите — который час?»)
— Двенадцатый, — ответил он миролюбиво. — А почему вас это интересует?
— Так просто… Спросила, чтоб узнать, удостоите ли нас ответом. Можно ещё спросить?
— Спроси. Ты где ж это так хорошо по-нашему говорить научилась?
— В школе. Я была отличница.
— Похвально. До войны я работал учителем, и у меня тоже были ученики-отличники. Вот только русский у нас не изучали. Так о чём же вы хотите ещё спросить?
— Заранее вам благодарны… Вы, видать, добрый человек и на фашиста не похожи. — Немец ничего не сказал на это, и она продолжила: — А вопросов много. Скажите, у вас дети есть?
— Есть и дети, уже взрослые, и внучок. Я понимаю, почему ты об этом спросила… Но, хоть я и не фашист, а помочь вашему горю не смогу.
Марта переводила жадно вслушивавшимся в их разговор ребятам свои вопросы и ответы на них «доброго нефашиста». Андрей вполголоса направлял ход их беседы.
— У нас давно кончилась в баке вода, и мы умираем от жажды, — снова заговорила она. — Не могли бы вы…
— Бедняжки! Вы, наверное, и голодны, — с полуслова понял её Отто. — Ах, я старый пень! Нет, чтобы самому поинтересоваться. Сейчас что-нибудь придумаю.
Не успела Марта перевести ребятам, как он подхватился, чтобы идти к своему вагону. Испугавшись, что вернётся со сменщиком и она не спросит о главном, окликнула:
— Если можно, воды потом… Скажите, нас везут аж в Германию?
— Думаю, намного ближе, — вернулся он к самой решётке.
— А куда — не скажете?
— Сказал бы, но и нам не объяснили.
— Как вы думаете, когда прибудем на место, нас отпустят?
— Затрудняюсь сказать… Возможно, так и будет.
— Спасибо, дядя Отто, это главное, что нам хотелось узнать! Не говорите никому, что я с вами по-немецки, ладно?
— Обещаю.
Вскоре он вернулся, как и предполагала Марта, со сменщиком. Они принесли ведро воды и три булки хлеба. Но, как поняла из их препирательства, тот не разделял доброты напарника.
С рассветом состав двинулся дальше. Ехали, правда, на небольшой скорости — возможно, из-за дрезины, державшейся на приличном расстоянии от платформы.
Равнинная местность вскоре перешла в холмистую, и железная дорога всё чаще рассекала косогоры, поросшие густым кустарником, уже раскрашенным в яркие цвета осени. Начало попадаться редколесье, впереди темнели лесистые горы.
Для детворы, выросшей в станице и дальше неё не бывавшей, успевшей повидать лишь хлебные поля, степи да лиманы, всё было внове и интересно настолько, что на какое-то время забылись тревоги и беспокойство о дальнейшей судьбе. Так, по крайней мере, можно сказать об Андрее и Марте, делившихся дорожными впечатлениями. Они сидели у самой решётки, свесив ноги наружу, поскольку в дверном проёме места маловато, а смотреть хотелось всем.
— Как красива кубанская земля! — сказала Марта скорей печально, чем восторженно. — Жаль, что повидать всё это довелось таким вот образом…
— Не говори, — в тон ей обозвался Андрей, задумчиво наблюдавший, как проплывают, оставаясь позади, лужайки, овражки, кустарники, купы деревьев — они стали попадаться всё чаще. — А скоро въедем в лес, там ещё красивше. Говорят, там навалом каштанов, фундуковых зарослей.
— Фундуки — это орешки, какие ты у Гапона нарвал? Вкусные! У меня аж слюнки потекли… Ты точно уверен, что в горах много партизан.
— Ежли по правде, то не совсем. Выдаю, как ты однажды сказала, желаемое за действительное.
— Я вижу, мои подсказки не остаются без внимания: твой выговор становится грамотней и чище. Но ещё много всяких «ежли», «хуть», вместо «если», хотя» или вместо «опять» — «обратно». Неужели не замечаешь?
— Привычка — дело труднопреодолимое. Но я стараюсь. А почему ты спросила про партизан?
— Помнишь, мама сказала, что они, возможно, знают про эшелон. Может, им как-то сообщили уже и про нас?
— Про нас — навряд, чтоб успели… Разве что по рации.
Между тем достигли предгорий, и железная дорога уже не рассекала препятствия, а обходила их стороной, часто изгибалась то в одну сторону, то в другую. Одинокие купы деревьев и небольшие заросли сменил густой и высокий, казавшийся непроходимым, лес.
На равнине дрезина придерживалась дистанции в сто, а то и двести метров; теперь расстояние сократилось метров до пятидесяти. Заметно снизил скорость и поезд.
— Боятся, — заметил Андрей. — Значит, есть причины.
— Что ты имеешь в виду — нападение партизан? — обеспокоилась Марта.
— Вce может быть, но скорей просто порча колеи. А это, если прозевать, дорога под обрыв.
— Ты меня пугаешь… Это ведь верная смерть и для нас.
— Чему быть, того не миновать — есть такая пословица. Ты, никак, разуверилась в талисмане? Не потеряла его случайно?
— Он всё время напоминал мне о себе, словно испытывал терпение.
— Как это? — не понял он.
— Пришелся не плашмя, а ребром и сильно беспокоил.
— Надо было сказать, я бы помог развернуть. А что это мы вроде как останавливаемся… Точно: слышишь, тормоза скрежещут?
Поезд резко сбавлял ход, а затем и встал вовсе. Все тут же отхлынули от решётки и стали укладываться ничком на пол. В пути Андрей, взявший на себя роль старшого, дважды напоминал, как следует себя вести, если вдруг нападут партизаны. С Сергеем Попченко, смышлённым и волевым пацаном, они поделили заложников на две группы с тем, что если придется убегать, то половина должна держаться Андрея, другая — его заместителя; а также выполнять все распоряжения беспрекословно.
Оставаясь у решётки, старшой просунул голову наружу и стал наблюдать за тем, что происходит впереди, поскольку и выстрелов не слышно, и не трогались с места. Благодаря изгибу полотна видна была дрезина, а сразу за нею — куча наваленных на рельсы деревьев. Несколько солдат растаскивали завал, остальных видно не было — похоже, залегли в ожидании нападения.
— Метрах в стах отсюда кто-то накидал на рельсы деревьев, — сообщил он обстановку товарищам. — Фрицы сбрасывают их под откос. Скоро, наверно, поедем дальше. Хотя… чтой-то не пойму… два, три, пятеро солдат и с ними начальник эшелона спешат сюда. Как бы не за нами…
Догадка подтвердилась: офицер распорядился откинуть решётку и, когда это было сделано, приказал:
— Стат! Фсем виходит нис, пистра, пистра!
Но «пистра» не получилось: Андрей распорядился «тянуть резину», и желающих добровольно оставить вагон не нашлось. Поднялся солдат, в ход пошли пинки и подзатыльники. На насыпи ребят хватали за шиворот и по двое уводили за платформу, где строили в колонну по два. Андрей вполголоса напоминал каждому становиться в свою команду и быть готовым ко всяким неожиданностям.
— Нами хочут прикрыться от партизан, — делился своими догадками. — Завал — это верняк ихняя работа… а за ним, может, еще и рельсы развинтили… ждут, пока станут ремонтировать.
Последними привели группу из четырёх человек, из них две девчонки. Ещё издали все заметили кровь на лице Лены. Андрей знал уже, что в ту злополучную ночь над нею измывался начальник эшелона. Как рассказали они Марте, в вагоне их сначала попытались «угостить» ужином. Все наотрез отказались. Тогда стали заставлять выпить шнапсу, а когда и из этого добром ничего не получилось, стали силком, каждой поотдельности, вливать из фляжки в рот, пока не напоили допьяна. Что было потом, помнили смутно, как дурной сон. Лена, по словам Марты, поклялась: если такое повторится — «выколоть гаду бельмы». Похоже, подумал Андрей, она не стала дожидаться повторения и набросилась на мучителя при первой возможности, за что и поплатилась расквашенным носом. Однако на лице офицера царапин видно не было.
Держа наготове пистолет, он скомандовал:
— Фсем шагайт перёт! Кто будет убегайт, ме будет стреляйт, как сапак!
Метрах в десяти за дрезиной один из стыков был разворочен взрывом, о мощности которого говорили растрощённая шпала, согнутый рельс и глубокая воронка. От дрезины принесли ящик с ключами и другой инструмент, и несколько солдат, прикрываемых ребячьми шеренгами, принялись развинчивать болтовые крепления. Тем временем с платформы сбросили запасные рельсы и шпалы.
Видимо, гитлеровцы и мысли не допускали, что среди ребят есть кто-либо, понимающий по-немецки, а потому говорили меж собой без опасения быть понятыми; не придавалось значения и шушуканью ребят.
Отто Марту не выдал, и она всё пыталась угадать его среди других пожилых немцев, оставленных ремонтировать железнодорожное полотно. Не этот ли, присматривающийся к девчонкам и прислушивающийся к их голосам? Пару раз он посмотрел и на нее, но недолго — видно, она не внушала доверия своей искуственной неопрятностью. А вот Андрея, пожалуй, вычислить сумел и даже догадался, что он здесь за вожака: всё время поглядывал в его сторону.
Фашисты ужасно нервничают, опасаясь, как бы не нагрянули партизаны, сообщала между тем Марта, переходя иногда на «немецкий», которому обучил её Андрей; торопятся, хотят успеть с ремонтом засветло. Начальник, поторапливая, ходил от одной группы ремонтников к другой, успокаивал: дескать, партизаны не откроют стрельбу из-за детей, а если всё-таки решатся сделать хоть один выстрел, он тут же пристрелит пару выродков и пригрозит так же поступить с остальными заложниками. Эти русские дикари ради своих зверёнышей пойдут на любые уступки — не раз, дескать, проверено на практике.
Эти его намерения заставили Андрея не на шутку встревожиться. Он напряженно искал выход из могущего создаться положения. Знать бы, что партизаны действительно где-то поблизости и ведут наблюдение, ожидая подходящего момента, можно бы и не ждать этого выстрела. Сговориться и всем разом — под обрыв и врассыпную; но могут быть убитые… А может, никаких партизан и нет: взорвали путя на всякий случай и ушли. Откуда им знать, что именно сёдни проследует товарняк да ещё и с детьми в переднем вагоне… Нет, в это тоже не верится: зачем тогда устраивать ещё и завал? Эх, стрельнули бы хоть раз, хоть в воздух — мы, мол, здесь, будьте готовы. Что ж придумать?.
— Слушай, Марта, — поделился он, не глядя, впрочем, в её сторону, предосторожностью, — нужно объявить всем, чтоб знали: как только я свистну, нехай сразу падают и скатываются с насыпи. Это будет после первого же выстрела из лесу.
— Думаешь, они где-то здесь поблизости?
— Вполне возможно. И хоть тянут резину, но какой-то план у них есть.
По цепочке в обе стороны был передан приказ: услышишь свист — падай и катись вниз.
Снятие гнутых рельсов и установка новых, закрепление их на шпалах заняло немало времени. Когда брали на болты последний стык, солнце уже висело над лесом низко. И всё это время — ни намёка на кaкoe-либо присутствие партизан. Может, ждут, пока отремонтируют?
Гитлеровцы заметно повеселели: они уверовали в отсутствие опасности. Офицер отдал команду группе прикрытия подняться наверх. Ремонтники уже складывали инструмент, когда он отправился к паровозу отдать распоряжение машинисту. Партизаны, видимо, только этого и ждали: в промежутке между дрезиной и платформой он был сражен короткой пулемётной очередью из леса.
Не мешкая Андрей сунул в рот два пальца и издал пронзительный свист. И если для гитлеровцев стрекот пулемёта стал полной неожиданностью и привёл в замешательство, то ребята сигнала для себя ждали давно — их как ветром сдуло всех до одного. Подрастерявшуюся охрану точас накрыл свинцовый ливень. Скатываясь с насыпи, ребята слышали лишь дикие крики раненых, не успевших, похоже, даже вскинуть оружие. Когда стихла стрельба, только несколько человек сидя подняли руки над головой.
Появились и сами нападавшие; детвора спешила им навстречу, многие на радостях кидались обнимать своих спасителей.
Марта, найдя среди других Андрея, поспешила к нему и тоже обвила его шею руками; следом подошла Лена.
— Мне показалось, что тот гад, которого подбили первым, — показала в сторону дрезины, — он вроде ещё живой: ворочается. Я хочу задушить его своими руками! — добавила она с недетской ненавистью в голосе.
— Вон, по-моему, идёт партизанский командир — бежим к нему, может, он разрешит, — сказал Андрей.
Заметив бегущих, мужчина остановился, поджидая. Пожилой, судя по бороде с проседью, буденновские усы; одет в гражданское, но подпоясан кожаным армейским ремнем с портупеей, на груди — бинокль. Это и позволило предположить в нём начальство.
— Товарищ командир, — обратился к нему Андрей, — вон тот фриц, которого подстрелили первым, он ещё живой.
— Офицер?
— Да, начальник эшелона. Он вооружён пистолетом, будьте осторожны. Если б вы знали, какой это гад! Лена хочет задушить его своими руками — Он ударил меня по лицу так, что я умылась кровью, — поспешила она объяснить причину ненависти, побоявшись, что Андрей проговорится о настоящей. — Я плюнула ему в харю, когда он хотел помочь мне сойти по трапу.
Командир приставил бинокль к глазам.
— Кузьма Петрович! — обратился к сопровождавшему его партизану. — Займись-ка вон тем субъектом: он еще живой. Будь осторожен, у него в левой руке пистолет. Если сможешь, пока не добивай.
— У нас к нему особый счёт, — пояснил Андрей. — Мы хочем собственноручно.
— Есть! Попробую разоружить.
Пока другие партизаны проверяли убитых и раненых, Кузьма Петрович подкрался к дрезине, понаблюдал и, с автоматом наизготовку, подошёл к раненому офицеру вплотную. Снизу было видно, как, ударом сапога выбив пистолет, он поднял его и подал знак подойти.
Ребята, первыми вскарабкавшиеся наверх, приблизились к Петровичу. В метре от них лежал скрюченный, окровавленный начальник эшелона. Ранен в обе ноги выше колен, прострелена кисть правой руки («вот почему не отстреливался, — подумал Андрей. — Как и когда-то комиссар, не смог взвести пистолет»). Жалкий, беспомощный вид фашиста не вызвал сочувствия, а глаза Лены горели ненавистью пополам со злорадством.
— Что, не нравится? — сквозь зубы процедил Андрей. — Собирался нас «стреляйт, как сапак», а вышло по-другому? Товарищ командир, так вы разрешаете Лене прикончить этого гада? Не только за то, что раскровянил ей нос, он…
— Он держал нас впроголодь и мучил жаждой, — перебила его Марта, не дав пояснить истинную причину мести.
— Да уж ладно… хотя мне и не следовало этого делать. Петрович, покажи, как обращаться с пистолетом.
— Я умею, — едва ли не выхватил Андрей пистолет; взвёл, протянул Лене:
— Держи двумя, вот так, а когда прицелишься, нажми на этот курок.
Та дрожащими руками обхватила рукоятку, направила дуло на недавнего мучителя, зажмурилась, но стрелять не решилась.
— Не могу, сделай это за меня ты…
— Что у вас тут происходит? — строго спросил подошедший со стороны дрезины безбородый, одетый по-военному партизан.
— Да вот, комиссар… Уступил просьбе ребят: уж очень им необходимо собственными руками. Видать, крепко насолил офицеришка.
— Не надо бы этого делать, командир! Это же дети…
— Нет, надо! Видели б вы, как они с нами обращались!. — Андрей выхватил у Лены пистолет и, боясь, что комиссар запретит, направил его в живот ещё более съёжившегося фашиста: — Это тебе за Лену! За Нэлю! 3а Свету!
— Третью пулю всадил промеж глаз, после чего тот перестал дёргаться.
— У них, похоже, веские причины для мести, — приняв пистолет, заметил командир явно не одобрявшему происшедшее комиссару. — Что там у вас? — кивнул в направлении дрезины, откуда донеслось несколько одиночных выстрелов.
— Приказал пристрелить раненых… А один оказался невредимым; уверяет, что немецкий коммунист.
— Говорит по-русски?
— Лепечет по-своему: Тельман, мол, гут, а Гитлер капут.
— Это, случайно, не Отто? — схватила Марта за руку Андрея. — Дядя комиссар, пожалуйста, не убивайте его! Мы его знаем, он не фашист. Он хороший, правда, Андрей?
— Если тот, то конешно. Товарищ командир, можно глянуть?
— Туда — нельзя! — завернул его комиссар. — Чем же он вам понравился?
— Этой вочью, когда мы стояли на каком-то полустанке, он дал нам напиться воды и ещё — три булки хлеба. И по разговору мы поняли, что он не как другие.
— Он говорил с вами по-русски?
— Нет… Но вот она хорошо говорит и понимает по-ихнему. У них в школе изучали немецкий.
Комиссар пообещал, что немца убивать не будут, и Петровичу приказано было собрать всех бывших заложников и увести в глубь леса.
Здесь, у небольшого ручья со вкусной водой, они впервые за несколько суток вволю напились, умылись, привели себя в порядок. Подошедшие вскоре несколько партизан принесли поужинать — хлеб, консервы, галеты. Подкрепившихся и повеселевших, их построили в колонну по одному и едва различимой тропой, а часто и без таковой, повели вниз по ручью. Переход был трудный, особенно для босоногих, но недолгий: через какие-нибудь час-полтора, когда ручей кончился, влившись в более широкую и шумную горную речку, добрались до небольшой деревянной избушки. Здесь и устроились на ночлег, постелив сена из кем-то заготовленной копны. В избушке, по всей видимости — охотничьей, нашёлся керосиновый фонарь, буржуйка, а поблизости — поленница сухих дров. События минувшего дня, ночной переход выбили из сил, порядком измотали детей, а мягкая постель — не то что на вагонном полу! — и распространившееся вскоре тепло от буржуйки были так приятны, что улёгшаяся покотом братва мигом погрузилась в глубокий сон.
Разбуженный скрипом двери — под утро, когда в окошко уже пробивался слабый свет — Андрей различил в вошедшем комиссара. Тот подсел к дежурившему здесь Петровичу (остальные трое, доставившие сюда продукты, коротали ночь во дворе) и спросил: — Ну, как они?
— Умаялись, бедняжки, спят мертвецким сном. Выйдем, пусть отсыпаются.
Поправляя куртку, которой с вечера прикрыл Марту, Андрей нечаянно разбудил и её.
— Ты уже не спишь? — потягиваясь, повернулась она к нему. — И я так славно выспалась! Как дома.
— Меня разбудил комиссар. Верней, скрип двери, когда он вошёл. Он, видать, эту ночь глаз не сомкнул: такой усталый…
— А зачем пришёл, не знаешь?
— Как бы не за тобой: знающих по-немецки мало, а пленных обычно допрашивают. Ты бы согласилась быть у партизан переводчицей?
— Домой хочу… Мама с дедушкой с горя места себе не находят. И за твою маму боюсь: как там она, при больном-то сердце?
— У меня тоже душа болит…. Но я бы охотно остался у партизан. Как ты думаешь, возьмут?
— Об этом я не думала. — В тоне, каким это было сказано, угадывался отрицательный ответ, и она, помолчав, добавила: — Помнишь, что сказал Александр Сергеевич: мы должны остаться в живых, чтоб продолжать начатое ими! И это касается тебя больше, чем меня.
Когда через полчаса комиссар с Петровичем вернулись в избушку, они нашли своих подопечных беседующими в полный голос. Правда, шум тут же утих.
— Как спалось? — поздоровавшись, спросил комиссар; услышав одобрительный гул, заметил: — Конечно, тесновато у вас тут, но зато тепло. Заболевших нет? Ну, и прекрасно! Сейчас Петрович сводит вас на речку и займемся приготовлением горячего завтрака.
— А шо будет на завтрак? — поинтересовался кто-то.
— К хлебу разогреем мясные консервы, к сладкому чаю — галеты. Если, конечно, они вам не надоели.
— Такие, как вчера? Не надоели! Вкусные, хочь и фрицевские, — послышались голоса. — А потом куда — останемся у партизан?
— Какое-то время побудете у нас — пока уляжется суматоха у немцев после вчерашнего. Кой-кого из вас надо обуть и приодеть — ночи, особенно в горах, холодноваты. А потом отправим вас по домам. Небольшими группками, чтобы не вызвать интереса у оккупантов. Об этом ещё будет разговор, а сейчас — подъём и все в распоряжение Петровича.
Предположение Андрея подтвердилось: комиссар предложил Марте пройти с ним «в расположение», чтобы с её помощью допросить пленного. Она согласилась, но при условии, что рядом будет и Андрей, который ей «как брат».
Путь туда оказался неблизким: добрых два часа плутали они по лесистым склонам, то карабкаясь вверх, то скользя на довольно крутых спусках. Комиссар ориентировался по едва заметным затёскам на деревьях, с помощью других, только ему понятных примет. Ребята старались не отставать и порядком притомились. Андрей помышлял уже попросить сделать привал, так как напарница стала прихрамывать, но опередил комиссар: — Отдохнём, ребятки, а то, вижу, устали с непривычки. Скоро уже будем на месте.
— Марта недавно была ногу подвернула, — как бы извиняясь за задержку, сказал Андрей. — Поэтому мы за вами не стали поспевать…
— Она уже совсем не болела, да я поскользнулась на спуске и снова, видно, растянула связки, — пояснила она.
— Так ты, говоришь, в школе научилась говорить по-немецки? — посмотрел ей в глаза проводник, когда уселись на поваленное дерево.
— Это сказал я, — уточнил Андрей. — Но она умела говорить и до школы: её родители — советские немцы. Отец её тоже воюет против Гитлера.
— Так… Вижу, ты знаешь о ней всё…
— Потому как мы дружим уже давно.
— А как попали в заложники и каким образом познакомились с этим вашим Отто? — поинтересовался комиссар.
И они поведали об уже известном читателю стечении обстоятельств.
Перед тем, как отправиться дальше, Андрей, в свою очередь, поинтересовался:
— Товарищ комиссар, вам, случайно, не знаком партизан по имени Александр Сергеевич? Он бывший лётчик, звание капитан, был ранен в руку, когда его самолёт подбили мессеры.
— Что-то вроде слыхал о таком. Ты с ним знаком?
— Мы видели, как он выпрыгнул из горящего самолёта с парашютом, но угодил в лиман. У меня там была лодка, и мы вот с нею нашли его и спасли.
— Приносили ему еду и ещё достали гражданскую одежду, — добавила Марта.
— А потом он ушёл искать партизан. Я и подумал, может, вы его случайно встречали.
— Может и встречал… Я наведу справки, — пообещал он.
— А что будет с Отто после допроса?
— Если пленный действительно коммунист, он может быть нам полезен. Плохо, что не знает ни слова по-русски… Видно, придется попридержать вас: надо хоть немного его подучить. Как бывший учитель он освоится быстро. Как, согласны потрудиться на пользу Родине? Вот и прекрасно! А теперь — пойдём, уже близко.
Через четверть часа услышали окрик:
— Стой, кто йдет! Пароль!
Окликнули сблизка, но как Андрей ни вглядывался, никого обнаружить не смог. Шагов через триста окликнули еще раз; но теперь, заметил, пароль назван был другой. «Предусмотрительные!» — подумал с одобрением. Спросил:
— Они вас разве в лицо не знают?
— Возможно, узнали, но такой у нас порядок, — пояснил комиссар. — Вот мы и дома.
Впрочем, никакого дома пока видно не было. С одной стороны высилась обрывистая скала, с другой — зияло глубокое ущелье, впереди видна узкая расщелина с нависающим каменным козырьком. Ни людей, ни даже признаков обжитости. Лишь когда коридор расширился, а на выходе показались деревья, комиссар свернул вбок, к едва заметной пещере. Здесь за грубо сколоченной дверью, в некоем подобии комнаты, освещенной керосиновой лампой, за столом сидел партизанский командир. Сложив лежавшую перед ним карту, помеченную цветным карандашом, он сунул ее в планшет, кивком ответил на приветствие ребят, протянул руку комиссару.
— Как там, всё ли в порядке?
— Дети накормлены, чувствуют себя хорошо, заболевших нет.
— У нас тоже без осложнений. Сделан солидный запас продовольствия и боеприпасов. Остальное пустили под откос километрах в пяти от места временного захоронения; уляжется суматоха — переправим в более надёжное. С пленным что будем делать?
— Допросим, вот переводчица. Выясним, что он за птица. Если тот, за кого себя выдаёт, то такие люди нужны.
— Плохо, что при нём надо держать переводчика, — заметил командир.
— Ребята утверждают, будто он — бывший преподаватель школы. Надо полагать, русский освоит быстро. В этом берётся помочь вот она.
— В самом деле? И сколько для этого понадобится времени?
— Недели за две, думаю, управимся, — пообещала Марта.
— Ты тоже говоришь по-немецки? — посмотрел командир на Андрея.
— Нет, в нашей школе не изучали. А с нею я потому, что мы с одного хутора, и я помогу ей добраться до дому, когда освободимся. А нельзя ли как-то сообщить нашим матерям, что мы живы-здоровы? Они там места себе не находят от горя — даже не знают, куда мы пропали…
— Я подумаю, что можно сделать, — взял эту заботу на себя комиссар. — Но вы понимаете, что сделать это быстро невозможно.
— Пленный в каптёрке. С ним Борисов, если не нужен, пришли ко мне, — распорядился партизанский командир.
Каптёрка находилась неподалёку и представляла собой землянку, оборудованную в выемке скальных пород. Крышей служил накат из брёвен, накрытый сверху дерниной с живой травой. Днём она освещалась с помощью окошка, оставленного в потолке. Здесь также имелась железная печка и «мебель», сколоченная наскоро из подручного материала; стульями служили чурбаки, на одном из которых сидел пожилой немец в форме рядового, со связанными назад руками.
Отослав сторожившего его пожилого же, бородатого партизана в распоряжение командира, комиссар развязал пленного.
— Узнай, тот ли это человек, что разговаривал с вами той ночью, — приказал он Марте.
Пленный не сразу сообразил, почему партизанский начальник пришёл с детьми. Но едва Марта произнесла «Добрый день, дядя Отто», как лицо его в миг преобразилось, он горячо и бурно залопотал, на глаза навернулись слёзы… Выслушав, она стала пересказывать только что услышаное:
— Он сказал, что узнал меня по голосу и чёткому выговору. Что это он говорил с нами той ночью. Благодарен судьбе — даже мечтать не мог о такой удаче.
— И что же он имеет в виду под удачей? — достав из командирской сумки блокнот и приготовившись записывать, спросил комиссар.
— Удачей, ниспосланной богом, он считает наш разговор в ту ночь у вагона, так как это спасло ему жизнь: из нашего поведения во время ремонта железнодорожного полотна он догадался, что мы ожидаем действий партизан. Не спускал глаз с Андрея, которого принял за старшого, и после его свистка поступил так, как все ребята, — упал наземь и скатился под обрыв. А когда подошли партизаны, он сделал хенде хох.
— Он так и сказал — «ниспосланной богом»? — поинтересовался Андрей, пока комиссар что-то записывал в блокнот.
— Конечно! Я ничего не добавляю от себя. А почему ты спросил?
— Да так… Учитель, грамотный человек, притом коммунист, а верит в бога.
— Может, у него приговорка такая, вроде твоего «бабая».
— Я от дурных привычек стараюсь избавляться… А ну спроси, как у него насчёт религиозного опиума?
— Этого спрашивать не надо, — кончил записывать комиссар. — Культовые догмы, вдалбливаемые из поколения в поколение уже много столетий, очень трудно изживаются. Даже если давно доказано, что они не имеют под собой научного обоснования, а то и противоречат здравому смыслу.
— А зачем их вдалбливают? — захотел Андрей уточнить сведения, полученные в школе.
— Антинародным режимам это выгодно: религия всегда помогала делать трудящихся послушными хозяевам и терпеливыми, поскольку, мол, всякая власть от бога. Следующий вопрос будет такой…
Не станем, впрочем, приводить в подробностях допрос, длившийся с небольшими перерывами до позднего вечера. Скажем лишь, что из ответов пленного следовало, будто до прихода к власти Адольфа Гитлера Отто состоял в рядах германской компартии, отстаивавшей интересы трудящихся. Они выступали против милитаризации, разъясняли массам опасность зарождавшегося фашизма. Потом начались гонения и репрессии, повальные аресты коммунистов. Чтобы избежать застенков гестапо, пришлось сменить местожительство и затаиться. Однако убеждений своих не поменял, ненавидит фашизм и фюрера, ему противна война, и он готов сделать всё, чтобы она поскорее кончилась. Разумеется, победой Красной Армии.
Отвечая на вопросы о семейном положении, пленный сообщил, что имеет взрослую дочь, которая замужем за земляком — сыном бывшего коммуниста, тоже вынужденно сменившего предместье Берлина на заштатный городишко на юге Германии. Не скрыл и опасную для себя деталь — Курт, так звать зятя, в настоящее время служит в гестапо; но делает это в силу необходимости. Так уж сложилось на его родине, что приходится, вопреки убеждениям и желанию, делать то, что диктуют сложившиеся обстоятельства. Впрочем, Отто полагает и даже уверен, — добавила Марта, — что зять не злоупотребляет возможностями, какие присущи нацистам-фанатикам.
— Не подобные ли обстоятельства вынуждают и его сотрудничать с нами? — задал вопрос комиссар.
— Господин комиссар вправе предположить подобный вариант, — перевела Марта ответ дословно. — Но это не так. Каждый трезвомыслящий немец уже понимает, что победить Советский Союз не только трудно, но и невозможно. Что эта военная авантюра фюрера закончится крахом, и чем дольше она продлится, тем многочисленней будут жертвы с обеих сторон. Я очень хочу, чтобы их избежало хотя бы мирное население, а по окончании войны в Германию пришла бы демократия по советскому образцу.
Комиссар слушал внимательно, что-то записывал себе в блокнот. Ответы казались заслуживающими доверия. На вопрос, беспокоивший пленного, пообещал, что расстрел ему не грозит, Сибирь — тоже, если согласится честно сотрудничать. Но для этого прежде необходимо научиться понимать и изъясняться по-русски. В этом ему помогут «ниспосланные богом». Это известие было воспринято им с радостью и благодарностью.
По окончании допроса, уходя, комиссар сказал Марте:
— Посоветуй своему ученику, но не от моего имени, впредь не распространяться по поводу зятя-гестаповца: его могут неправильно понять и знание русского не понадобится.
Все последующие дни и долгие вечера в этой же каптёрке шли уроки русского языка. Заучивались наиболее обиходные слова и их чёткое произношение, правильное написание и прочтение. Школьница в роли учительницы и учитель в качестве ученика показали себя исключительно способными: уже через неделю «дядя Отто» довольно сносно изъяснялся по-русски, всё реже, беседуя с Андреем, просил помощи у Марты — напомнить, как переводится то или иное слово.
Отсутствовавший всё это время комиссар был немало удивлён, когда, наведавшись в «школу», мог говорить с пленным почти без помощи переводчицы. Тщательно подбирая слова, слегка перевирая падежные или глагольные окончания, тот, изредка заглядывая в записи, умел довольно-таки полно формулировать свои мысли. Правда, отвечая или спрашивая сам, то и дело поглядывал на учительницу и в случае неодобрительного кивка тут же поправлялся, касалось ли это неправильного ударения или иного дефекта произношения.
— Какой новост для менья приносить от главный командований коспо-дин комиссар? — спросил он.
— Не надо называть меня господином, — поправил его тот. — Это у нас не принято. Правда, обращение «товарищ» тоже надо ещё заслужить, но будем на это надеяться. А пока я для вас гражданин или просто комиссар. Что же до командования, то оно проявило интерес к тому, что вы — немецкий коммунист. Ваше желание способствовать победе Красной Армии — одобрены, как и обещание освоить русский в столь короткий срок.
— Я уже имеет успех благодарья этот умний дети, — то ли похвалив сам себя, то ли пожелав выразить благодарность ребятам, ответил он.
— Успехами я доволен. Думаю, дело пойдёт ещё быстрее при помощи вот этого. — И комиссар достал из нагрудного кармана нетолстую, размером с записную, книжицу.
— О, русско-немецкий и немецко-русский словарь! — обрадовался Отто, прочитав название на коленкоровой обложке. — Это есть то, что мне ошшень необходим!
Не без удивления узнав, что все эти дни занятия здесь шли по шестнадцать часов в сутки, комиссар объявил ребятам благодарность и, расстегнув полевую сумку, добавил:
— Трудились вы по-стахановски и заслуживаете не только устной похвалы. Вот вам ещё и по шоколадке. Но это подарок… от кого бы вы думали? — От вашего Александра Сергеевича.
— Правда?! — радостно, в один голос воскликнули ребята. — Вы с ним виделись? Как он, рука уже зажила?
— Значит, нашёл партизан! А где он сичас?
— Рука зажила, партизан, как видите, нашёл и сейчас командует диверсионным подразделением, — сообщил он приятные новости. — Узнав, что вы здесь, обрадован был не меньше вашего. Ждет встречи с нетерпением. Кстати, он рассказал мне о своих августовских приключениях, и я полностью с ним согласен: вы — настоящие пионеры-ленинцы.
— Спасибо. А дять Саша сюда прийти не смог?
— Хотел сделать это незамедлительно — забрать вас к себе. Но я попросил недельку повременить. Знай, что вы тут так преуспели, то и не стал бы.
— А можно, мы с Отто там дозанимаемся? — предложила Марта; она, отломив от шоколадки четыре квадратика, угостила лакомством и его, но тот, отщипнув один, остальное вернул с благодарностью.
— Боюсь, что там вам не удастся заниматься столь же продуктивно… Давайте уж, как договорились! Впрочем, мы преподнесём ему приятный сюрприз: не через семь, а дней через пяток примем у вашего подопечного зачёт — и капитан сможет обнять вас раньше обещанного мною срока. Идёт? Ну и отлично!
Ровно через пять дней после этого разговора комиссар доставил всех троих в новый партизанский отряд. Но командира с его диверсионной группой «дома» не оказалось: ещё не вернулись с задания. В этот же день Отто отбывал в распоряжение более высокой инстанции. Ребята тепло и душевно простились с человеком, за две неполных недели ставшим для них почти как родным. Договорились, если всё будет благополучно, встретиться после войны, а до этого списаться, как только Кубань будет очищена от оккупантов: Андрей оставил ему свой хуторской адрес. А ещё накануне Отто подарил им на память фотографию, запаянную в прозрачный целлофан для защиты от сырости. Со снимка смотрела, улыбаясь, красивая молодая женщина — его дочь Ирма и малышок, обнявший деда, — внук Максик. Но герметичность пришлось нарушить: на обороте карточки была сделана дарственная надпись по-немецки, гласившая: «Моим спасителям Марте и Андрею от благодарного Отто. Кубань, 09.42 г.» И подпись неразборчиво. Отто просил также, чтобы после войны, если ему не суждено будет дожить до этого времени, кто-нибудь из них с помощью этой фотокарточки и сообщенных им адресов разыскали в Германии его родственников или знакомых и рассказали бы им об этих днях.
Вряд ли надо подробно описывать волнующую встречу наших героев с Александром Сергеевичем, вернувшимся из рейда в тыл к неприятелю. Всё это легко представить.
По должности капитан в отряде считался вторым лицом, но ни одна партизанская вылазка в окрестных местах не обходилась без его участия. Разведка на месте, подготовка операции и её дерзкое осуществление с причинением врагу ощутимого урона — всё это делалось под его непосредственным руководством. А умение скрыться с места диверсии, не понеся потерь, создало командиру заслуженный авторитет и уважение товарищей по оружию — это ребята заметили с первых же дней пребывания.
Располагался отряд в горах, поросших густым, труднопроходимым лесом, в котором в изобилии росли также каштаны, орешник, кислицы, груши. Раньше в эти места из окрестных станиц и даже Краснодара приезжало и приходило много любителей набрать грибов, кизила, каштанов. Этой осенью Андрей, ходивший с партизанами на заготовку лесных даров, гражданских лиц не встречал — война…
После того, как он собственноручно, на другой же день по прибытии сюда, написал записку-весточку родителям и она ушла неведомо каким образом по нужному адресу, ребята успокоились и уже не торопились попасть домой: у партизан им нравилось. Тем более, что они были тут полезными. Марта помогала женщинам (их было всего трое) готовить пищу, стирать и чинить одежду, сушить грибы и многое другое; Андрей, как уже упоминалось, ходил на заготовки со свободными от партизанских дел мужиками. Ему страсть как хотелось поучаствовать «в настоящем деле», просил взять на задание и его. Но Александр Сергеевич был непреклонен.
— Вы для меня — самые дорогие существа на свете! — сказал он после одной из таких просьб. — Подвергать тебя опасности я не могу и не хочу. У нас, сынок, всякое случается, и уже принято решение переправить вас в более безопасное место.
— Отправите и нас домой? А нам тут так нравится! На хуторе работа тоже найдётся… только вот по Марте буду скучать.
— И я по нём тоже, — добавила она.
— Этого можете не бояться, — улыбнулся капитан, давно догадавшийся, что они не просто друзья.
— Не по-онял…
— Дело в том, что ни тебе, ни тем более ей появляться дома нельзя. Твоя мама, — посмотрел на Марту, — пока у немцев вне подозрений. Но гестаповцам известно о «крушении» поезда, на котором — это им тоже известно — и вы оказались в качестве заложников. Признаков гибели детей немцы не обнаружат, и появление дочери…. сами понимаете, чем это грозит.
— А куда ж в таком случае отправите нас?
— До лучших времён вас решено пристроить в Краснодаре. Там у нас есть надёжные люди — поживете у них.
— И когда нас переправят в этот ваш Краснодар? — не скрывая огорчения от такого поворота дел, спросил Андрей.
— На этих днях. Как только будут готовы для вас одежда и обувь. Она у вас летняя, а дело идёт к зиме, и неизвестно, как она себя покажет. Кроме ботинок, я заказал для вас фуфайки и тёплые штаны. Тебе, Марта, тоже: отлучаясь из дому, будешь одеваться мальчиком, так безопаснее, — принялся наставлять Александр Сергеевич. — Но было бы лучше, если б вы вообще не отлучались.
— У меня в Краснодаре много знакомых — девочек и мальчиков. Можно будет общаться хоть изредка? — спросила Марта.
— Со многими — нельзя. Только с самыми близкими и надёжными. И не более чем с одним-двумя. Домой не приглашать ни в коем случае.
— А если кто узнает меня в пацанячьей одежде?
— Скажешь, что живёшь в сельской местности, где-то поблизости, а одета по-пацанячьи потому, что так велела мама. Ваш облик тоже изменим. Тебе, девочка, косы сменим на короткую мальчуковую причёску, Андрюше шевелюру укоротим тоже, — продолжал он. — Вид у тебя цыганчуковый, а немцы вылавливают не только евреев, но и цыган, и тебя могут принять за представителя этой народности, тоже чем-то неугодной бесноватому.
— Да стрегите хоть наголо, мне красота не нужна, — не стал возражать Андрей. — А Марту — жаль: у неё такие красивые волосы!.. Я даже там, в вагоне, пощадил её косы.
— Ой, Андрюша! Ещё вырастут, была бы голова цела.
— Правильно рассудила, дочка, — похвалил её лётчик. — Что я еще хотел вам сказать? Да: снабдим вас немецкими деньгами — мало ли на что могут пригодиться! Но будьте с ними аккуратны. Отлучаясь из дому, много с собой не берите и держите не в кармане, а где— нибудь в потайном месте — в рукаве или за подкладкой фуфайки.
— Что вы нас так подробно инструктируете, мы же не какие-то там несмышлёныши, — заверил его Андрей.
— В вашей сообразительности не сомневаюсь, но лишний раз предостеречь — не повредит.
Д о п о с е л к а Яблоновского, что разбросан по левому, адыгейскому берегу Кубани, Андрей с Мартой добрались засветло. На случай, если ими заинтересуется какой-нибудь блюститель «нового порядка», их снабдили сумками с набором лесных деликатесов — ходили, мол, на промысел. По пути они присоединились к возвращавшимся из лесу нескольким женщинам-адыгейкам с такими же пожитками, и всё прошло гладко.
В оговоренном месте ребят встретила средних лет молодуха, тоже адыгейка, препроводила в один из дворов. В доме их накормили и предложили отдохнуть. Притомленные дальней дорогой, гости тут же уснули не раздеваясь. Разбудили далеко за полночь. Мужчина, теперь уже русский, повёл в сторону Кубани. Реку, неширокую в это время года и небыструю, переплыли на плоскодонке и вскоре вошли в город. Под покровом безлунной ночи, но с предосторожностями двинулись вдоль сплошного дощатого забора; у одной из калиток остановились.
— Нежелательных гостей нема, — определил проводник, ощупав что-то на внутренней стороне забора; снял крючок с калитки, тоже изнутри, и они зашли во двор. Пёс, тявкнув несколько раз, умолк, подбежал к хозяину и стал ластиться. Тот отвёл его к будке и то ли запер, то ли привязал. После условного стука в ставню окна открылась входная дверь.
— Славик, это ты, сынок? — послышался голос.
— Я, мамо, я… Всего на минутку: привёл вот пацанов, — сказал проводник, обняв и поцеловав старушку; вошли внутрь помещения. — Утром отведёте их к Сидориным, там знают, ребята поживут у них.
Мать зажгла каганец.
— Эту вот котомку, — продолжал сын, — а также одну сумку тоже передадите. А в этой — гостинец для вас; кажись, грибочки.
— А под низом немного лесных груш и кислиц, — уточнил Андрей.
— Нехай, усё зделаю. Как ты там, сыночек, не болеешь? Не мёрзнешь? Я вот носки шерстяные связала, — суетилась мать, волнуясь от радости.
— Не, мамо, всё в порядке, не переживайте… Мне треба спешить, скоро будет развидняться. Я на днях ещё буду, тогда и поговорим, а зараз некада.
Не сказав и трёх десятков слов, Славик ушёл. Зато долго-долго расспрашивала мать неожиданных гостей о партизанском житье-бытье. Узнали и они немало городских новостей. Но их разговор мы опустим как не имеющий к нашему повествованию непосредственного отношения.
Утром бабка проводила ребят в другой частный дом на улице Красной. Затем девчонка лет двенадцати по имени Зоя, дочь этой хозяйки, отвела Андрея на другую квартиру неподалёку. Там тоже о прибытии квартиранта были предупреждены, и хозяйка встретила «племянника» доброжелательно, даже радушно.
Через день, освоившись на новом месте, Марта решила пройтись по городу, такому непохожему на тот, каким видела его в последний раз, а заодно навестить свою лучшую подружку. Перед тем, как выйти из дому, с помощью зеркала и сажи «подкрасила» лицо, оделась мальчишкой, прихватила хозяйственную сумку, немного немецких пфенингов и отправилась вдоль по Красной (разумеется, предупредив Андрея).
Главная улица города выглядела серо и сиро, неуютно и уныло. Тротуары, проезжая часть — трамваи не ходили из-за отсутствия электричества — давно не видели метлы, замусорены до дикости. Стекла окон там и сям всё ещё перечёркнуты крест-накрест бумажными полосками, кое-где вместо них вставлены фанерки. Немногочисленные прохожие, женщины пожилого возраста, идут хмурые, озабоченные — видимо, за покупками или не сделав таковых (пока что не изъяты из обращения советские рубли, ставшие в десять раз дешевле дойчмарок).
Внимание её привлекла витрина в одном из магазинов. Вместо образцов товара здесь размещен большой фотомотаж с надписями на русском языке: рассказывается о том, как распрекрасно живётся российским подросткам, согласившимся приехать жить, приобрести профессию и работать «в Великой Германии». Один из снимков сделан в столовой, где трапезничают жизнерадостно улыбающиеся пацаны; на другом снимке — спальня с чистыми, аккуратно заправленными постелями, и на этом фоне — опять же улыбчивые подростки; на третьей фотографии — цех с какими-то станками, обслуживаемыми ими же, и прочее в этом роде. Сверху надпись крупно: «Специальность, работа, высокая оплата, сытая жизнь!» В центре витрины — портрет Гитлера с добрым, улыбающимся лицом, держащего на руках девочку лет пяти-шести. Надпись: «Фюрер любит детишек».
В цетре города над зданием, в котором, видимо, размещено важное учреждение, колышется большое красное знамя с белым кругом посередине и свастикой. На фронтоне укреплен плакат, выполненный белой краской на кумаче, утверждающий, что «Непобедимые солдаты вермахта несут кубанцам свободу от большевиков».
Наконец — неказистый с виду домик подружки.
Лишь вглядевшись попристальней, узнала она Марту в её фуфаечно-брючно— капелюшном наряде.
— Что случилось? — обняв на радостях и пропустив в прихожку, в ожидании, пока та разуется, набросилась она с вопросами. — В штанах, неумытая, с сумкой… побираешься, что ли?
— Нет, Танечка, ничего страшного не произошло, — успокоила её старая приятельница, снимая фуфайку. — Захотелось тебя проведать, узнать, как вы тут поживаете. Транспорт, сама знаешь, не ходит, а топать от самой Елизаветинки… Мама и говорит: оденься, на всякий случай, мальчишкой. А лицо сажей специально подкрасила. Ты дома одна?
— Да, как видишь. Мама на работе. Немцы всех заставляют работать, даже мальчиков нашего возраста.
— А где тёть Нюра трудится?
— В прачечной. Немцев обстирывает… Работа изнурительная, а платят алюминиевые гроши. Так ты сегодня пришла?
— Вчера под вечер. Переночевала у знакомых мамы.
— А почему не сразу ко мне? Переходи к нам! Поживёшь с недельку. И мама, и особенно я — рада буду до смерти: так скучно одной — с ума можно сойти!..
— Видишь ли, я пришла не одна. Мне составил компанию знакомый мальчик. И притом, мы ненадолго.
— Мальчик? И он, конечно, в тебя влюблён.
— Ну… по крайней мере, я ему нравлюсъ…
— Не скромничай! Тебя нельзя не полюбить: даром что неумытая, а смотришься красавицей. А какой он, как звать, сколько лет? — дала волю женскому любопытству Таня.
— На год старше меня. Звать Андреем. Красивый, умный, неразболтанный.
— Тебе повезло… Главное — неразболтанный. Как я тебе завидую!..
— Ты, помнится, дружила с Леней. Он что, бросил тебя?
— Не бросил, но… — Она умолкла, и Марта заметила, как на глаза навернулись слёзы. — Представляешь, завербовался в Германию!.. — Помолчав, Таня смахнула слёзы и, по детски шмыгнув носом, продолжала, сумбурно и путано: — У него ведь никого больше нет, кроме тёти, а она спуталась со своим квартирантом-офицером, спит с ним; Леня стал лишней обузой, и они уговорили его завербоваться — там, дескать, наших ребят ждет рай и манна небесная; лично я в это не верю, а он поверил и согласился. Я не пускала, умоляла, а он говорит: не понравится — вернусь, они держать не станут, а если всё хорошо, то заберу туда и тебя.
Расстроенная, умолкла, чтоб не разреветься, а Марта, воспользовавшись паузой, поинтересовалась:
— И много их таких… поддавшихся на агитацию?
— Не знаю, сколько, но кроме Лёни из наших одноклассников ещё Борька, Степан и Гриша.
— И Гришка Матросов? — переспросила Марта. — Не подумала бы, что и он купится — считала, что умней.
— Ты, помнится, одно время была влюблена в него по уши.
— Давно, в пятом классе. Он об этом и не знал.
— Были недавно у меня все четверо. Сомневались, что там будет хорошо, но всё-таки решили попытать счастья, — вздохнула подружка.
— Видела и я на Красной ихнюю зазывалку. Стелют мягко, но всё это ложь, просто в Германии нужны бесплатные руки. Спохватятся мальчики, пожалеют, да будет поздно. И вернуться оттуда вряд ли кому удастся… Знаешь, ходят слухи, что под Сталинградом фашисты встретили решительный отпор Красной Армии. Если наша возьмёт, то их погонят до самого Берлина.
Похоже, такой прогноз не только не утешил, но ещё больше расстроил попавшую в сложное положение подругу — слёзы снова закапали с её ресниц.
— Не убивай хоть ты во мне надежду! Я не хочу потерять его навсегда, — припав к груди гостьи, зашлась в глухом рыдании Таня.
— Ты чего? — растерявшись, стала тормошить её та. — Ну зачем же так убиваться…
— Ты ведь ничего не знаешь!.. — всхлипывала подружка. — Я безумно его люблю… и у меня будет от него ребёнок…
— Что ты говоришь!.. Ты в этом уверена?
— В том-то и дело… Уже полтора месяца, как все признаки.
— И мама знает?
— Призналась недавно… Стыдила, ругалась, плакала. И ему досталось. А как узнала, что завербовался, стала жалеть. Пусть бы, говорит, лучше переходил жить к нам…
— Когда они уезжают — известно?
— Отъезд назначен на завтра. А зачем тебе, хочешь повидаться?
— Попробуем помочь нашему горю, — созрел у Марты какой-то план. — Где у них сбор, знаешь?
— Возле биржи труда. Это в школе, что на углу улиц Ленина и Красноармейской. — Посмотрела на неё с надеждой: — А что ты надумала?
— Я посоветуюсь с Андрюшкой, он мальчик башковитый и предприимчивый, может, что-нибудь придумаем. Надо отговорить хотя бы Леню. А если удастся, то и всех наших одноклассников.
— На это очень мало надежды… А за Леню — буду век вам благодарна.
— Но ты, если увидишься сегодня, ничего ему не говори. И меня ты не видела, поняла? Можно всё испортить. Кстати, он о ребёночке знает?
— Ещё нет: ему я побоялась признаться…
— И пока не говори, хорошо? Не знаешь, во сколько сбор? Так рано? Ну, ничего, постараемся не опоздать. Встретимся завтра у школы, а сейчас я убегаю, — начала собираться Марта. — Ой, у вас есть будильник? Одолжи до завтра!
— Забери, он нам не нужен, — разрешила Таня.
— Слушай, Танечка, вы, наверное, сильно нуждаетесь — возьми вот, — достала она из кармана горсть пфенингов. — А завтра я дам побольше, бумажных марок. Где взяла? Мама хорошо зарабатывает.
Прихватив будильник, по тем временам большую редкость, Марта поспешила обратно, чтобы рассказать всё Андрею.
Н о э т о т будильник её подкузьмил: зазвенел на полчаса позже, чем надо, и Марта с опозданием зашла за Андреем утром следующего дня. Когда они оказались у школы, там уже не было ни Тани, ни вообще никого из завербованных. По словам соседей, их построили и увели на вокзал…
По Пролетарской (ныне улица Мира) заспешили туда и они. Вскоре показалось обгоревшее здание краснодарского железнодорожного вокзала — без крыши, окна и двери заделаны фанерой, выкрашенной в зелёный цвет. На подходе увидели плакат через всю дорогу: «Сталин и жиды — одна шайка преступников!», а на фасаде — другой, но уже изготовленный к случаю: «Добро пожаловать в Великую Германию!» Из— за вокзала доносятся звуки духового оркестра; как ни странно, играют «Катюшу»…
На перроне — уйма народу, многоголосая толчея. Проводить чад пришли мамы и бабушки, а также, у кого есть, сестрёнки и братья; большинство — с заплаканными лицами. Не помогает развеять горестное настроение и видимость праздника — повсюду портреты Гитлера, флаги и флажки с фашистской симоликой, музыка; даже день выдался, как на заказ: ясный, не по-осеннему солнечный, хотя и слегка морозный.
Отыскать Таню удалось не сразу: пришлось несколько раз прочесать всю, в несколько сот человек, толпу, прежде чем обнаружили её сидящей рядом с Леонидом — на бордюре, неподалёку от очередей к походным кухням, где раздавали горячий завтрак. Тут только обратили внимание, что в Германию поедут и девчонки: их колонна, меньшая, правда, по численности, чем ребячьи, стояла к одной из кухонь. Здесь же расположили и небольшую группу духачей из гражданских лиц, а также киносъёмочный аппарат на треноге; ещё один, передвижной, видели на перроне.
Лёня, зажав между колен котелок немецкого образца, в левой руке держал большой ломоть хлеба, а правой черпал алюминиевой ложкой, спаренной с такой же вилкой, картофельный соус с мясом, уписывая за обе щёки. Узнав в подошедших Марту, передал еду Тане:
— Подержи— ка… Кого я вижу! — воскликнул, поднимаясь. — Тань, ты узнаёшь этого пацана?
— Привет, Леня! — подала руку «пацан», тоже улыбаясь. — Здравствуй, Танечка! — подмигнула подруге. — Знакомьтесь, это — мой двоюродный братец.
— Андрей, — представился «брат». — Насилу вас нашли. Сестрёнка узнала, что лучшие её друзья собираются в дальнюю дорогу… Но мы здесь не для того, чтоб пожелать счастливого пути… Вобщем, поговорить надо. Не возражаешь?
— Да нет… — пожал тот плечами. — Таня, доешь, если хочешь, соус и передашь посуду.
Марта присела к подруге, без ложной скромности принявшейся за лакомое блюдо, а те отошли в сторонку, так как поблизу устроились завтракать ещё несколько подростков.
— Мы в городе недавно, и Марта только вчера узнала от Тани, что ты и ещё несколько её школьных друзей намереваетесь уехать в Германию, — начал Андрей. — Она со слезами на глазах просила меня попытаться отговорить от этой опасной затеи хотя бы тебя. Ты знаешь, почему: Таня её лучшая подружка; но есть и другая причина… Я, как видишь, согласился, хоть и не был уверен, что это мне удастся.
— Не удастся, — крутнул головой Леонид. — Уже слишком поздно. Метрика, все мои документы у них. И потом, я подписал договор всего на полгода.
— Будет поздно, когда поезд уйдёт, — не согласился Андрей. — Не понимаю, что заставило тебя и всех вас решиться на такое! Поверили во всю эту брехню о сытой и безбедной жизни?
— Заставила нужда… А насчёт брехни — почём ты знаешь? Немцы могли просто нахватать пацанов, сколько им надо. А они — добровольно, по согласию, без насилия. Устроили вот торжественные проводы…
— Да пойми ты — всё это показуха!
— Кроме того, ничто меня тут не удерживает: без родителей, без своего угла, тётке я не нужен, жить не на что…
— Как это не удерживает, а Таня? Она же без тебя жить не может!
— Я ей говорил: давай махнём вместе, девчонок ведь тоже берут. И на бирже обещали, что разлучать нас не будут. Не захотела. Боится и мать не пускает, — с упрёком и нотками недовольства пояснил он. Но добавил помягче:
— Я тоже люблю её не меньше и ни на какую немку не поменяю. Если всё будет хорошо, напишу, вышлю денег, приедет туда, а плохо — вернусь; не станут пускать — убегу.
— Эх ты, наивная душа! — не отставал Андрей. — Ты знаешь, что Марта понимает по— немецки, так вот: она собственными ушами слышала — сёдни, здесъ, от самих же фрицев — что ничего хорошего вас в Германии не ждет. Будете там на положении рабов. Вас ждут скотские условия существования!
Не возражая, Лёнька мрачнел лицом, слушал с опущенными глазами. Между тем Андрей продолжал дожимать: — Все их заманчивые обещания, и эта музыка, и вкусное угощение — наглая показуха. Видел киносъёмочный аппарат? Снимают, чтоб показать своим, как ловко облапошили русских дураков! Мы немного постояли возле передвижки на перроне и слыхали разговор снимальщика со своим помощником. Вот что он про вас говорил: ишъ, мол, радуются, выродки большевицкие! И не подозревают, что этих унтермэшей — недочеловеков, значит — ждет двенадцатичасовй рабочий день за миску похлёбки.
— А ты не брешешь? — посерьёзнев, усомнился-таки «унтерменш».
— Спроси у Марты — это она переводила мне их разговор. Но и это не всё, что я имею тебе сообщить. Ты вот Таню любишь, а не знаешь, что она от тебя беременная. Не говорила? А Марте призналась. Может, потому и не согласилась составить тебе компанию.
Этот аргумент подействовал: Леонид явно опешил и подал знак Тане подойти.
— Это правда… ну, насчёт ребёнка? И ты молчала? — упрекнул кивнувшую, потупившуюся подругу.
— Я побоялась… думала, что ты вообще… — слёзы не давали ей говорить. — А почувствовала и узнала… когда ты уже записался на бирже.
Чтобы она не впала в истерику, Марта, успокаивая, увела её к переходному мосту через железнодорожные пути.
— От же дурёха! Чё ж она не сказала раньше… — возмущался будущий отец. — Как же теперь быть?..
— Очень просто: плюнь на документы и смывайся. Скоро вернутся наши, метрики и свидетельство об образовании получишь новые. А фрицев уже колошматят под Сталинградом, скоро конец войне, вот увидишь!
Завтрак кончился, ушли оркестранты. В рупор несколько раз объявляли: провожающим — освободить перрон; всем отъезжающим собраться у первого пути; девочки — отдельно, их вагон — второй от паровоза. Тем временем к перрону стали подавать состав из товарных вагонов, известных под названием пульмановских; через не до конца задвинутые двери виднелись двухярусные дощатые нары.
— Скоро объявят посадку, — поторопил Андрей. — Решайся, Лёха! Пожалеешь, но будет поздно.
— Да я-то уже решился, — ответил наконец тот. — А как же Гришка, Степка, Борис?.. Если уедут, а я останусь, как посмотрю в глаза матерям? Ведь это я их пригласил составить компанию…
— Знаешь, где их найти?
— Договорились собраться напротив последнего вагона. Да вон они, — узнал друзей «Лёха».
— Дуй к ним, скажи: здесь, мол, Марта. Хотела бы проститься и пожелать доброго пути. Подойдут, и мы гуртом уговорим остаться.
Кивнув в знак согласия, Лёха (он не возразил против и этого имени), сказав Тане «сейчас вернусь», убежал.
Тройка с котомками за плечами отделилась от остальных и вместе с ним направилась к переходному мосту. Но тут в рупор предупредили: — Никто не уходить! Начинался посадка на вагон. Эй, ребьята, назад!
Распорядитель, сопровождаемый вооружённым солдатом, заспешил к возможным беглецам. Тем пришлось спрыгнуть с перрона вниз и оттуда помахать Марте в знак приветствия и прощания.
— Ви, двое, пошьему не соединяться к товарищей низ?
Этот вопрос обращен был к приблизившимся было Андрею и Марте, которых он из-за одежды принял, видимо, за своих подопечных.
— Мы не уезжаем, мы провожающие, — пояснил Андрей. Тот поверил.
И тут до наших агитаторов дошло: не только всех четверых, но даже Лёньку вернуть не удастся…
— Всё насмарку!.. Поздно хватились, ёк-карный бабай! Но так этого оставлять нельзя. Ты, Марта, останься, а я — я проеду с ними. В вагоне объясним с Лёхой, что к чему, и как только паровоз где-нибудь сбавит скорость, спрыгнем на ходу. Ждите нас через…
— Я — с тобой! — решительно заявила Марта. — И не настаивай, не теряй зря времени!
Спорить было бесполезно и некогда — началась погрузка в первый вагон — и он уступил:
— Ладно, так и быть… Таня, если мы задержимся, то дня через два сходи на Красную (он назвал адрес Зои), скажи хозяйке или её дочери, почему мы не вернулись вовремя. Больше — никому! До встречи!
Марта последовала было за ним, но через несколько шагов вернулась к Тане:
— Это вам с мамой, — достала из рукава фуфайки пачку денег и сунула в сумочку растерянной подруге. — Здесь с полтыщи марок. Мы прихватили их на случай, если не удастся уговорить ребят словами. Теперь убедим и без денег. Пока, Танечка, скоро увидимся, — и, поцеловав вконец ошеломленную подружку, кинулась догонять Андрея, зачем-то направившегося к офицеру-распорядителю.
— Пан, мы пришли проводить друзей, но в последнюю минуту решили тоже поехать в Германию на заработки. Можно? — спросил он.
— Та, кане-ешно! Ви — молодец. Присоединяться!
— А ничего, что у нас нет при себе документов?
— Нишево, нишево! Токумент оформлять на месте. Тобро пожаловает феликую Германий!
Посадка шла организованно и быстро. Первыми по трапу поднялись в вагон девчонки, их было около двух десятков. Затем трап переставили ко входу следующего вагона, в который запустили до тридцати ребят — и так до оконечного. В каждый вагон последним поднимался вооруженный автоматом солдат. С перрона процедуру провожания и посадки снимала кинокамера.
Андреев вагон (назовем его так для краткости) загруженным оказался неполностью: сюда осталось всего пятнадцать отъезжающих, и половина «купе» пустовала. В нём не было ничего, кроме голых нар.
Когда состав наконец тронулся с места и, набрав скорость, оставил позади жилые застройки, пацаны, кто не успел на станции, по очереди мочились в приоткрытую дверь; приставленный для порядка солдат, не говоривший по-русски, милостиво разрешал это делать. Не обращал он внимания и на то, что шестеро недочеловеков скучковались в дальнем углу и о чем-то шушукались. О чём — читателю догадаться нетрудно: теперь уже трое агитаторов вели обработку остальных мартиных одношкольников.
Разагитировать их большого труда не составило. Главным в доводах было то, что Марта разоблачила «эту гнусную фрицевскую хитрость, подслушав их разговоры между собой». Решено было твёрдо: сбежать, чего бы это ни стоило! Если не удастся сделать этого на подходе к остановке, когда снизится скорость до безопасной для Марты, то дождаться, когда поведут в столовую — так было обещано начальством.
Однако, поразмыслив здраво, от первого — спрыгнуть на ходу — пришлось отказаться. Во-первых, солдат — как быть с ним? Можно, конешно, отняв автомат, и «треснув им по северному полюсу», фрица обезвредить. А что станется с остальными, если откажутся последовать их примеру? Кроме того, Андрей опасался за Марту — а ну как снова повредит ногу, как это случилось на базаре.
— Я не очень верю, что нас станут водить в столовую, как вам обещали на бирже, — подвёл он окончательный итог. — Скорей всего, будут кормить в вагонах. Но в туалет-то сводить обязаны. Здесь даже параши нет. И вот тут мы обязательно слиняем. Не на первой станции, так на следующих.
— А как станем домой добираться, чем питаться? — спросил Гриша.
— Главное — что мы останемся на Родине, а домой доберёмся! Но спешить с этим не надо: там нас, вернее — вас, найдут и в лучшем случае отдубасят так, что мало не покажется. А питаться — вот у меня пачка ихних денег, — достал он из рукава несколько бумажных купюр. — Тут хватит всем и не только на еду. Где взял? Это неважно. Добрые люди дали на случай, если бы вас не удалось отговорить от поездки в рабство.
Долго ещё совещались они, стараясь заранее предусмотреть возможные отклонения от намеченного плана. Одного только не смогли предусмотреть: на первой же станции — это была Усть-Лабинская — все вагоны, едва состав остановился и автоматчики спрыгнули вниз, были безо всяких объяснений закрыты наглухо и взяты на запор…
Спустя какое-то время дверь андреева вагона слегка отъехала, в проём швырнули с дюжину лёгких одеял, подали пару фляг. Одна оказалась с питьевой водой, другая — пустая, справлять нужду; затем дверь задвинули, снаружи клацнул запор.
Потолкавшись взад-вперёд — похоже, добавляли вагонов — поезд, теперь уже наверняка, взял маршрут на Германию. В отличие от того, с продовольствием, этот шёл с коротенькими остановками круглосуточно. Трижды по утрам на каких-то станциях меняли фляги да кидали, как собакам, по булке чёрного хлеба на брата. Под монотонный стук колёс на стыках минуло по меньшей мере трое суток…
Л и ш ь на территории Польши режим сменили на более щадящий. Здесь всех пересадили в другой поезд. Пассажирский. Им вагон попался с санузлом и умывальником, с удобными сидениями и спальными полками. Правда, набили, как в бочку селёдок, но зато, впервые за всё время, хорошо покормили.
Вскоре за окнами стали проплывать ухоженные, с аккуратными двориками, без следов войны, деревни. На полустанках — надписи по-немецки, обилие портретов Гитлера — ехали по германской земле. Приходили глазеть на диковинных пассажиров местная ребятня и взрослые, по большей части женщины. Из их разговоров Марта, а с нею и неудавшиеся возвращенцы, окончательно убедились: привезли их сюда в качестве рабочего скота, и жизнь их ожидает скотская…
Стоит, видимо, упомянуть: за время следования никто из посторонних не заподозрил в Марте представительницу другого пола. И ещё: пятеро её друзей спаялись в дружный коллектив, если не сказать — семью. А где дружба да сплоченноить, там, как известно, и сила. В андреевых вагонах — и когда ехали взаперти, и после — поддерживались дисциплина и порядок. Решительно пресекались нецензурщина, характерная для мужских обществ, чьи бы то ни было поползновения качать права и верховодить или делать что-либо такое, от чего Марте пришлось бы краснеть.
Однако близился конец пути и час, когда всех её защитников разберут бауэры и прочие хозяйчики, а то и рядовые обыватели себе в услужение. Мужчины здешние все на восточном фронте, вкалывать на земле, на фабриках-заводах некому — вот и везут молодёжь с оккупированных территорий. Триста человек, если не больше, из одного только Краснодара!
По мере продвижения в глубь страны вагоны освобождались от чужеземных пассажиров, и ребятам представлялась такая картина: их придирчиво осматривают, ощупывают, выбирают на свой вкус жёны воюющих, вдовы, инвалиды или престарелые… Как ещё недавно делали это в отношении негров на невольничьих рынках. Только тогда рабов покупали, а теперь — бери бесплатно. Противно и страшно!..
Подобная участь тревожила и пугала, особенно Андрея с Мартой: быть ли им вместе или хотя бы поблизости друг от дружки, чтобы видеться хоть изредка? Неужели пути разойдутся и они потеряются навсегда? Такое вполне возможно, и сердце не находило покоя…
Поможет ли и на этот раз заветный талисман — подарок Андрея в день её четырнадцатилетия? — думала она. Эта линзочка от бинокля комиссара хранится бережно у самого сердца — под левой грудью в специальном кармашке лифчика, куда зашила её будучи у партизан.
Последнюю полусотню пацанов — столько оказалось в их вагоне — ссадили с поезда на какой-то большой узловой станции; в двух автобусах привезли в город. Это давало слабую надежду на то, что работать предстоит на фабрике или заводе, а значит — не разберут поодиночке и друзья не потеряют связь между собой. Но и такая перспектива радовала мало: Марта будет разоблачена, и разлука неизбежна…
И вот, кажись, роковой час настал.
День, когда «покупатели» должны были разобрать по своим владениям бесплатных гастарбайтеров, совпал, похоже, с выходным: ребят разместили в одной из школ. В классе уже собралось несколько солидных мужчин — фабрикантов или их представителей. Так решил Андрей. Они с Мартой заняли переднюю парту в среднем ряду, поближе к столу, чтобы слышать, о чём там говорят.
Да, эти люди пришли сюда за рабсилой. Но, видно, не все ещё собрались; а может, не прибыло начальство. Добрых полчаса они обсуждали вопрос, как поделят «контингент» — разрешат выбирать или заявки удовлетворят согласно нумерации в списке, чтобы никому не было обидно — товар-то не весь высококачественный. Тут вспомнилось, что документы на них так оформлены и не были, а значит, нет их фамилий и в списках. Убеги они из этой школы, их и не кинулись бы. Но как и куда убежишь, где скроешься?..
— Будь у нас адреса, мы бы, может, разыскали фрау Ирму, дочь нашего Отто, — поделилась Марта пришедшей на ум идеей. — Но они остались дома. А она бы точно нам помогла.
— Кто ж знал, что так обернётся… — посочувствовал ей Андрей.
— А помнишь, в первый день оккупации, когда мы спрятались у нас на чердаке, я говорила про папу. Что его ещё до войны заслали в Германию разведчиком. Может, он где-то неподалёку отсюда… Уж он-то нас бы выручил из беды.
— «Нету чудес, и мечтать о них нечего», — вспомнил Андрей известную строчку из Маяковского. — Я с ним полностью согласен.
— А я в чудеса верю… Без этого не стоило бы и жить.
Их перешёптывания прерваны были появлением военных. Офицера в форме гестаповца сопровождали мужчина и женщина. Андрей в рангах не разбирался, но определил, что эти званием пониже. Ещё один «фриц», вооружённый автоматом, остался стоять у двери.
Гражданские, вскочив, дружно вскинули руки и приветствовали вошедших возгласом «хайль Гитлер»; военные ответили лишь взмахом руки.
— Господа, — обратился к ним офицер, — мне поручено извиниться перед вами за задержку мероприятия, по случаю которого вы здесь собрались: оно переносится на более поздний срок. А пока прошу оставить помещение.
Хайлькнув ещё и на прощание, те направились к выходу. Офицеры заняли место за столом, разложив перед собой какие-то бумаги. Тем временем женщина уже шла вдоль крайнего ряда парт, присматриваясь к сидящим за ними столь пристально, словно надеялась встретить знакомых или родственников. Впрочем, пристально — не то слово; скорее придирчиво, потому что некоторым из ребят жестом приказывала подняться, а то и выйти из-за парты. После такого изучения либо сажала на место, либо велела пройти к столу. Там один из офицеров, хорошо говоривший по-русски, спрашивал фамилию, находил её в списках, делал отметку; второй, выше званием, записывал что-то у себя, после чего опрошенный занимал место у классной доски.
Из первого ряда было отобрано трое пацанов, все — крепыши, здоровяки; среди них оказался и Гриша. А вот сидевший с ним за одной партой Степан фрау по вкусу почему-то не пришелся, хотя был отнюдь не хил.
У Андрея и Марты, с интересом следивших за отбором, повеселело на душе, когда ещё двое — Лёнька и Борис, сидевшие в их ряду, тоже были отправлены к столу: вкалывать будут вместе. Когда до конца ряда оставалось три парты (тут ещё один подросток привлек внимание разборчивой немки), Марта шепнула Андрею на ухо:
— Андрюша, эта фрау, как две капли воды, похожа на дочь нашего Отто…
— Она достала из потайного кармана фуфайки подаренное им фото. — Глянь: те же брови, нос, губы, родинка на левой щеке — всё, как у неё.
— Точно: похожа. Неужели?..
Тем временем похожая поровнялась с их партой. Посмотрела оценивающе на Андрея, сидевшего ближе к ней, движением кисти приказала подняться. Не ожидая приглашения, он вышел из-за парты. И тут же отослан был к столу, где создалась уже небольшая очередь.
Марта тоже привлекла её внимание, но выражение лица явно говорило: тут что-то не то! Приподняла треух, затем пристально посмотрела в глаза… И Марта решилась: поднялась и, наклонившись ближе, полушёпотом спросила на немецком языке:
— Скажите, вас зовут фрау Ирма?
— Я-а… — дас ист зо, — ответила та с некоторым удивлением, что в переводе на русский звучало бы как «Д— да… это так».
— А вашего мужа — Курт?
— Ты откуда знаешь? И почему так чисто говоришь по-немецки?
Удивившись ещё больше и слегка растерявшись, Ирма сформулировала вопросы не совсем так, как следовало бы в её положении; и уж явно опешила, едва не утратив над собой контроль, когда услышала:
— Мне надо бы с вами поговорить… у меня добрые вести от вашего папы Отто. — И она передала ей фотокарточку.
Не скрывая волнения, Ирма подошла к столу, кивком отозвала старшего офицера в сторонку, что-то тихо стала ему объяснять.
— Это ты и есть Марта? — вернувшись, уточнила дочь Отто. — Я выслушаю тебя обязательно, но чуть позже.
— Фрау Ирма, — задержала её Марта, — рядом со мной сидел мой брат Андрэ, упомянутый в дарственной надписи. В списках его нет, мы случайно оказались среди этих ребят.
— Вот как? Сейчас верну обратно.
Сказав так, она подошла к Андрею, жестом указала на парту и занялась третьим рядом.
— В чём дело, почему меня вернули? — спросил он, хотя и догадывался.
— Я сказала, что ты мой брат, что это ты упомянут в дарственной надписи и что нас в списках нет.
— Значит, она оказалась…
— Да, той самой Ирмой! Очень обрадовалась, узнав, что я имею сведения об отце. Она выслушает нас, как только освободится.
Отобрав ровно десять человек, самых здоровых и, по мнению Марты, самых красивых, фрау Ирма с нею и Андреем уединились в одной из комнат; судя по наличию глобуса, наглядных пособий и прочих школьных принадлежностей, это была учительская.
— Так что вам известно о моём отце? — усадив их на диван и сев напротив, спросила она первым делом. — Он жив?
— Конечно. Мы виделись с ним недели две назад.
— Где и при каких обстоятельствах?
— На Кубани под городом Краснодаром. Он попал в плен к партизанам.
— Майн гот! — ужаснулась Ирма.
— Да вы не переживайте, ему ничто не угрожает, уверяю вас! Я вам сейчас объясню, как это случилось…
— Ладно, не здесь. Твой брат тоже говорит по-нашему?
— Да, только похуже, чем ваш папа по-русски.
— Папа? По-русски? — переспросила дочь.
— Мы с ним, — кивнула на Андрея, — обучили его русскому всего за две недели.
— Дас ист зо? — перевела она взгляд на него («Это так?») Марта объяснила ему, в чём дело, так как беглую речь тот воспринимал слабо.
— Я, фрау Ирма, аллес, вас заген майн швестер, ист зо, — ответил он хоть и коряво, с запинками, но по-немецки (перевод: «Да, фрау Ирма: всё, что говорить мой сестра, верно») и добавил: — Абер онкель Отто шпрехен… забыл, как по ихнему «лучше», — глянул на Марту; та подсказала. — бестерн унд шнеллер. Я не думал, что нас занесёт в Германию, и не очень-то старался изучать ваш язык. К сожалению, — добавил уже на русском; Марта перевела ей концовку.
— Странные вещи вы говорите… — не зная, видимо, верить или нет, покачала та головой. — Впрочем, разберемся. Сейчас я отвезу вас к себе домой.
— Тётя Ирма, — видя, что обращаются с ними не по-казённому, обратилась Марта, — офицер, с которым вы совещались, он и есть ваш муж Курт?
— Ты угадала.
— Мне дядя Отто говорил, что он служит в гестапо… а теперь видим, он большой начальник.
— Вас это пусть не беспокоит.
— А нас тоже зачислят в отобранную вами группу?
— Об этом мы ещё поговорим.
— Я спросила потому, что нам бы очень хотелось быть всем вместе… В эту группу попало трое наших земляков, вернее — моих школьных товарищей. А один, к сожалению, остался… Извините за бестактность, но могу я вас попросить?..
— Я тебя поняла. Как его фамилия?
— Туманов. Он сидит в ряду, с которого вы начинали, на третьей парте, один.
— Сейчас сделаю замену. Но надо кого-то исключить…
— Чтоб не заменить на нашего же? — догадалась Марта. — Среди отобранных есть один приметный: на нём серое пальто с воротником из облезлого меха.
Немка вернулась в класс, когда оформление документов заканчивалось, но «воротник из облезлого меха» ещё был у стола.
— Необходимо произвести замену, — сказала она мужу, и Степан занял место у стола. Вернувшись в учительскую, сообщила о произведённой перестановке.
В порыве благодарности за всё, что она для них сделала, Марта хотела было обнять и, как то бывало в отношении матери, расцеловать ее в обе щёки; но сочла, что это будет слишком большая вольность. Решила ограничиться рукой, однако Ирма отдёрнула ладонь, воскликнув:
— Что ты, девочка! Это мне следует благодарить тебя за радостную весточку. Мы давно уже не получаем писем, и я не находила себе места.
— Вы не представляете, как много уже сделали для меня и моих друзей!
— Если всё, что ты сообщила, окажется правдой, я сделаю для вас гораздо больше.
— Вы ниспосланы нам самим господом богом! — с чувством высочайшей благодарности сказала Марта. — Это я говорю словами вашего папы, сказанными в наш с братом адрес. У нас на родине в бога не веруют, но я готова поверить, что он всё-таки есть…
— Вечером расскажете нам обо всём подробно. — Она снова усадила её на диван и присела рядом. — Вы, наверное, за всю дорогу ни разу не помылись в бане…
— Знаю, от нас несёт далеко не ароматом… Но это не наша вина.
— Понимаю. Тебе сколько лет?
— С четырнадцатого сентября пошёл пятнадцатый.
— Бедняжка! Очень тебе сочувствую. Через полчаса вы будете у меня дома и первым делом хорошенько помоетесь. Уже, — сообщила она, выглянув в окно, — ребята, которых я отобрала, садятся в автобус.
Через четверть часа чёрный, сверкающий лаком лимузин доставил их к особняку на какой-то штрассе в центре города.
Встретить маму выбежал крепыш лет семи, сопровождаемый прилично одетой девушкой не старше двадцати. В малыше Марта без труда узнала внука Отто с фотографии, а в няньке предположила близкую родственницу — Ирма назвала её Гретхен, что по-русски значило бы ласковое Греточка.
Сынишка Ирмы сразу же проявил живой интерес к гостям, уже в прихожей засыпал вопросами и не пожелал с ними расставаться. Мать, выходя с Гретхен в другую комнату, разрешила ему остаться.
Дав, видимо, необходимые инструкции, хозяйка укатила снова, а гостям тут же было предложено пройти в ванную. Грета крайне удивилась чистому выговору Марты и ещё больше — когда этот кнабе оказался медхен. Приготовила для неё ванну первой и сама же помогла соскоблить застарелую грязь.
После помывки гости были облачены в халаты. Для Марты, кроме того, нашлись кружевные рейтузы и бюстгальтер, по всей вероятности, из гардероба Греты, но пришедшийся ей впору. Надевая его, не забыла про талисман. Поцеловав его и произнеся шёпотом: «Милая моя линзочка, светлая память о комиссаре, спасшем нам жизнь, и дорогой андрюшин подарочек! Спасибо тебе — и в этот раз ты выручила нас от беды».
— Что мне делать с вашей одеждой? — спросила Грета. — Там, наверное, вшей полно… Может, всё это выбросим?
— Не знаю, как у Андрэ, но у меня их не должно быть. По крайней мере, я не чувствовала, чтоб беспокоили. А что с нею делать — спрошусь у брата.
— Не вздумайте! — запретил «брат». — Она может ещё нам пригодиться. Прокипятить, на всякий случай, не помешает. Не забудь только про марки. Слушай, отдай их ей, нехай купит нам что-нибудь заместо халатов.
Марта вспомнила, что сегодня у её возлюбленного день рождения и надо бы заодно купить ему какой-нибудь подарок. Сказала об этом Грете. Та, приодев «сестру», пригласила с собой и её. Оставив Максика с «дядей Андрэ», они отправились в находящийся поблизости магазин.
— Купили необходимое для нас обоих, Максику сладостей, а Грете золотые серёжки. И ещё — тебе подарок. Угадай, в честь чего?
— Сегодня что, уже пятнадцатое октября? Я и забыл совсем! И что же это такое?
— А вот, — вручила она складной ножик в перламутровой оправе. — Думаю, тебе понравится.
— Ух ты! — обрадовался он подарку. — Два лезвия, и острые, как бритва! И ещё ножнички и швайка. Ну, это тоже может понадобиться. Спасибо, очень классная вещичка! И на всё это хватило денег?
— Ещё и остались. Тут всё дёшево и чего только нет!
Тем временем Грета, приставив серьги к мочкам ушей, вертелась у зеркала, любуясь драгоценными безделушками.
— Нравятся? — видя, с каким восхищением рассматривает она приобретение, поинтересовался Андрей.
Вместо короткого «да» Грета выдала целую тираду, из которой он ничего не понял.
— Она сказала, — пояснила Марта, — что давно мечтала об этих серёжках, но они дорогие, поэтому стеснялась просить брата о таком подарке; что у неё ещё и уши не проколоты, но теперь она переборет боязнь и завтра же посетит салон красоты.
Благодаря компанейскому характеру Марта еще до похода в магазин успела завоевать симпатии Греты, а заветные серёжки сблизили их ещё больше: Андрей заметил, что вели они себя, как близкие подруги.
Накормив их, хозяйка попросила её помочь «состряпать что-нибудь на ужин», и они отбыли на кухню. Предоставив возможность Андрею совершенствовать свой немецкий выговор с помощью Максика. У малыша лексикон был богаче не на много, но зато пользовался он им гораздо увереннее. Произношение же «онкель Андрэ» вызывало у него заливистый смех.
К приезду взрослых хозяев, появившихся, по словам Греты, раньше обычного, ужин был готов, и разговор на интересовавшую всех тему начался прямо за столом.
— Ну, давай, расскажи нам пообстоятельней, где и как вы познакомились с нашим отцом, — начал Курт тоном, в котором отчётливо сквозили нотки недоверия, если не сказать больше. — Но учти: без лжи и фантазий! Это может обернуться для вас неприятностями…
— Курт, зачем ты так!.. — упрекнула супруга. — Уж не заподозрил ли ты в них большевистских шпионов?
— Извини, Ирма, но очень уж всё это выглядит подозрительно…
— Ты же ещё ничего…
— Как-то странно получается, — не дал он ей договорить: — ехали в Германию на заработки — так, по крайней мере, считали их родители — и при этом снабдили такой суммой в марках… Или сестра сказала мне неправду?
— Я объясню, откуда у нас эти деньги, — отвечала Марта без тени растерянности. — Позвольте рассказать всё по порядку.
Хозяин промолчал, и не только, видимо, потому, что как раз отправил в рот кусок бифштекса; а она продолжила:
— Начну с ответа на «где». Случилось это недалеко от города Краснодара. Слыхали о таком?
— Разумеется. Продолжай.
— К середине августа мы оказались в оккупации. А через месяц на железнодорожной станции, вблизи которой мы с ним, — кивнула в сторону Андрея, без стеснения уплетавшего всё, что подсовывала ему Грета, — тогда жили, ваши сформировали состав из десятка вагонов, груженных зерном, картофелем и ещё не знаю чем. Как узнали мы позже от вашего папы, продовольствие предназначалось для нужд армии в тех местах; мы же сперва думали, что для отправки в Германию.
— Вы — это кто: ты и твой брат? — потребовал уточнить Курт.
— Не только: в вагоне нас было около тридцати человек.
— Ты что-нибудь понимаешь? — бросив взгляд на жену, Курт нервно отложил вилку и нож, с помощью которых управлялся с бифштексом.
— Да, я, извините, немного забежала вперёд, — спокойно поправилась рассказчица. — Сейчас поясню. Но сперва хочу снять грех с души… Я вам, — посмотрела в глаза Ирме, — сказала, что мы с Андрэ брат и сестра, но это не так… Просто мы с ним были соседи и давно дружим. И так получилось, что последнее время он остался жить на хуторе — это небольшое, в несколько десятков дворов поселение — а мы с мамой и дедушкой переехали в большую деревню, километров за семь. Четырнадцатого сентября он пришёл к нам, чтобы поздравить меня с днём ангела. А на другой день, когда я пошла его проводить, мы попали в облаву, устроенную властями, чтобы набрать подростков. Нас и ещё около трёх десятков мальчиков и девочек взяли на рынке, отвезли на железнодорожную станцию и там заперли в пустом вагоне. Затем этот вагон поставили впереди паровоза, а с боков метровыми буквами написали слова «ДЕТИ». Теперь понятно?
— Продолжай, — кивнул Курт.
— Сделали это для того, чтобы обезопасить состав от партизан: командование было уверено, что из-за детей партизаны — я слышала это своими ушами — не пустят его под откос…
Словом, Марта подробно и правдиво, как того и требовал хозяин, рассказала то, что известно читателю по первой части романа. Опустила лишь случившееся с тремя девочками: язык не повернулся говорить о таких постыдных вещах.
Вслух не реагируя на услышанное, Курт больше «каверзных» вопросов не задавал, и у неё скаладывалось впечатление, что удастся развеять его сомнения и недоверие. Умела сдерживать эмоции и Ирма; не умела делать этого только Грета. По натуре впечатлительная и справедливая, она то гневно отзывалась о своих соотечественниках, то ругала партизан, то тут же их хвалила или оправдывала действия; брат к этому относился спокойно, по крайней мере, внешне.
Гуманный поступок деда, напоившего заложников водой и поделившегося хлебом, она горячо одобрила, добавив:
— Наш дедушка — добрейшей души человек! За это и бережёт его бог в этой вашей страшной России.
Услышав, что в свинцовом ливне за каких-нибудь пару минут от партизанских пуль полегло столько народу, большинство которых — ровесники деда, она, всхлипывая, пожалела:
— Бедные!.. За что, спрашивается?..
Убийство по приказу комиссара тяжелораненых вызвало гнев:
— Негодяй! Разве ж это по-человечески?..
Гнев вскоре уступил место уважению — после того, как он и его подчинённые обошлись с дедом более гуманно:
— Не такие уж они и звери, как нам тут внушают!
Подробно остановилась Марта и на допросе в каптёрке, где Отто рассказал о своём коммунистическом прошлом. Для неё важно было выяснить, действительно ли зять исполняет свои гестаповские обязанности только в силу необходимости подчиняться сложившимся обстоятельствам. Но Курт свои чувства не афишировал. Лишь однажды, услышав, что Отто сообщил о его принадлежности к гестапо, заметил:
— Этого можно было и не говорить.
— А вы знаете, так же сказал и комиссар мне. И даже велел предупредить — правда, не от своего имени — чтобы он таких подробностей избегал в дальнейшем. Иначе, сказал, знание русского может и не понадобиться. На что Грета, хорошо, видимо, зная родного брата, заметила:
— Мой братик поступил бы так же!
Старинные часы мелодичным звоном уже несколько раз напоминали, что время позднее, однако интерес к мартиному повествованию не иссякал. Разве что у Максика: он и в начале, поужинав, предпочел играть с «дядей» в прятки, но потом и это ему надоело. Начал капризничать, и Андрей, не участвовавший в беседе, видя что и мать, и нянька забыли про режим, предложил свои услуги и с разрешения родительницы увёл его в детскую.
К этому времени Марта успела рассказать всё наиболее важное, касающееся отца и деда хозяев, создав у них твёрдую уверенность, что опасность ему больше не грозит. Не забыла упомянуть и о деньгах, так настороживших Курта в самом начале.
— Мы видели у партизан во-от такой ящик с трофейными марками, — сказала она. — Им, мне кажется, эти бумажки не очень-то и нужны. Вот и отвалили нам с Андрэ целых две тысячи на мелкие расходы.
Закончить хотела объяснением того, каким образом оказались они в вагоне с завербованными краснодарцами, четверо из которых — её школьные товарищи. Очень хотелось выяснить, что ждет их с Андреем и тех ребят, что отобраны Ирмой для какой-то особой надобности. Но вынуждена была отвечать на их вопросы, теперь уже не связанные с Отто.
— Это правда, — спросила, в частности, Грета на полном серьёзе, — что у вас в России половина людей всё ещё ходит в звериных шкурах и едят сырое мясо?
— Ну, разве что в Заполярье, на самом севере страны, где морозы доходят до пятидесяти градусов, — пожала она плечами. — Там жители занимаются разведением оленей и в зимнюю стужу носят одежду из оленьих шкур; я об этом читала. Случается, что едят и сырое мясо; только оно мерзлое и называется строганиной. А чтоб у нас на Кубани — такого нет.
— А как отнеслись у вас на Кубани к немецкой оккупации? — спросила Ирма.
— Сказать, что плохо — всё равно, что не сказать ничего… Большинство тех, кого я знаю, с оккупацией не смирились и надеются, что это временно. Но есть и такие, кто ждал прихода ваших с нетерпением: это — бывшие богачи, которых советская власть раскулачила, то есть отобрала имущество как несправедливо нажитое. Эти охотно прислуживают новым властям и из желания угодить и выслужиться бывают более жестоки в обращении со своими же земляками, чем ваши… Кроме, конечно, гестапо.
— Откуда ты всё это знаешь? — удивилась хозяйка. — Вы ведь, в сущности, ещё дети. А рассуждаешь, как взрослая!
— Нас война повзрослила досрочно, — ответила она строчкой из стихотворения. — Ну а откуда — конечно, от взрослых, от мамы.
— А твой папа ещё жив? — поинтересовалась Грета.
— Этого я не знаю… Его задолго до войны наше правительство заслало к вам разведчиком. Так мне сказала мама — конечно, под большим секретом.
— А вот этого и тебе не следовало бы говорить, — заметил Курт.
— Я учту ваш совет, — пообещала допрашиваемая.
— Скажи, повзрослевшая досрочно… я вижу, ты довольно эрудированный ребёнок, — что говорят у вас об исходе этой войны?
— Я уже говорила, дядя Курт: большинство из тех, кого я знаю, надеются на победу Красной Армии. И когда мы были у партизан, то слышали, будто под Сталинградом ваши уже встретили решительное сопротивление. И что отсюда начнется перелом в ходе войны.
Часы давно уже отзвенели полночь, и хозяйки принялись убирать со стола; Марте так и не удалось прояснить что-либо на свой счет. Грета, в комнате которой постелили и ей и с которой побеседовала она перед сном, не смогла ничего сказать конкретного. По её словам, живут они в этом городе недавно; о том, что брату поручено формировать какие-то группы из русских ребят, слышит впервые. Обещала поинтересоваться специально и, если что-то узнает, то поделится и с ними.
Наутро, ещё к спящим, к ним зашла Ирма, одетая по-рабочему, то есть в военной форме; присела к изголовью Марты.
— Вчера мы задержались допоздна, — сказала она, — и я не успела поблагодарить тебя за всё, о чём ты нам поведала. Дорогая моя девочка, вы сделали так много для моего отца, что было бы верхом неблагодарности с нашей стороны не ответить вам тем же. Хочу тебя заверить: не тревожьтесь и не переживайте: всё будет хорошо. Твоего Андрэ мы пристроим к надёжным знакомым под видом работника; ему у них плохо не будет. Ты при желании можешь жить с нами. Вот пока и всё, что я хотела тебе сообщить. Мне пора на службу, остальное обсудим в другой раз.
Накинув халат, Марта поспешила поделиться услышанным с Андреем, спавшим в комнате Максика. С её приходом он проснулся и подвинулся к краю кровати. Она прилегла поверх одеяла, обхватила его лицо ладошками и поцеловала «по-взрослому».
— Ты чё это? — шёпотом, чтоб не разбудить малыша, удивился он.
— Сегодня такой день, что имею право поцеловать, как хочу. За вчера, — уточнила. — Я же тебя так люблю!
— Еще успеем нацеловаться. Сперва надо бы подрасти…
— Целоваться можно и в двенадцать лет, а мне уже пятнадцатый.
— Ты только за этим и пришла? — спросил он, позволив ещё раз доказать степень влюблённости.
— Нет, конечно. Пришла сообщить тебе нечто приятное. Только что ко мне подходила Ирма. Поблагодарила за отца и заверила, что сделает для нас всё, что в её возможностях.
— А если поточней?
— Мне предложила жить с ними, а тебя определят к надёжным людям. Под видом работника, но тебе там будет хорошо.
— А как насчёт твоих одноклассников, что будет с ними?
— Пока не знаю. Она спешила, сказала — об остальном поговорим другим разом.
— Договариваешься с ними ты, поэтому хочу посоветовать.
— Посоветуй. Я сделаю всё, как ты скажешь. Ты же мой хозяин, а я твоя раба.
— Ну-ну, хватит лизаться, — попытался он уклониться от дальнейшей ласки. — Скажешь так: мне не нужна хорошая житуха, если что-то нехорошее готовят нашим соотечественникам. Надо бы узнать, для чего их отобрали. Может, хочут… ну хорошо, хотят, — учел он её замечание, — хотят сделать из них карателей или шпионов. Ты этого хочешь? И я нет. Нехай лучше буду делить с ними лишения и всё что угодно, но зато мы останемся русскими — верными Родине и советской власти. Так и скажи, когда будет разговор обо мне, поняла?
— Конечно! Так и скажу. А как быть мне?
— Ты можешь жить у них. Видеться нам, может, и не придется часто, но переписываться разрешат. А может, вы с Гретой когда проведаете или…
Видимо, шёпот стал слишком громким, а может, время пришло, но Максик проснулся, вскочил со своей кроватки и тоже пожаловал к онкель Андрэ, помешав продолжить беседу.
— Ну и как, обрадовала своего любимого братика? — улыбнулась ей Грета, сделав паузу перед последним словом и пристально посмотрев на её губы, заметно порозовевшие; она успела уже заправить постели. — Максика не разбудили?
— Говорили шёпотом, но он всё-таки под конец проснулся; и сразу к нему. А что до обрадовала, то я бы не сказала… Нет, он, конечно, благодарен за обещание покровительства. Но, говорит, не для того мы рисковали потерять родину, чтоб теперь искать лёгкой жизни только для себя. Иначе говоря, Андрэ будет проситься к нашим ребятам, чтобы разделить их судьбу.
— Странный, однако, у тебя дружок… Я его не совсем понимаю. А ты уверена, что он тебя любит?
— Конечно! Мы друг без друга жизни себе не представляем — я говорю не только за себя.
— Но если его включат в эту команду и ушлют в какую-нибудь школу в другом городе — вы же не сможете видеться.
— Ну и что ж… Нас устроит и переписка.
— Удивительные вы люди, русские… — заключила для себя Грета. — Жертвовать своим счастьем ради других — это же глупо…
— Хочу тебя попросить: при случае скажи брату, что если он желает сделать для нас добро, то пусть лучше сделает немного, но и для моих земляков! Ирму я сама об этом попрошу, а его неудобно…
— Передам обязательно. И такую же просьбу выскажу от себя лично.
— Спасибо, Гретхен, ты так добра! — обняла её Марта. — Не знаю, как тебя и благодарить…
О решении Андрея отказаться от личного благополучия и его желании присоединиться к землякам Ирма узнала в тот же вечер.
— Даже так? — удивилась и она. — Зачем ему это? А что ты об этом думаешь?
— Вы уж извините, но его решение разделяю и я… Поясню. Вы отобрали самых крепких и здоровых ребят. Нам думается, это неспроста. Их хотят сделать предателями, шпионами или чем-то вроде этого?
— Не совсем так… Но участь им готовилась незавидная.
— Не знаю, что вы имеете в виду, лучше пусть бы они делали самую тяжёлую работу, но… В общем, если Андрэ будет с ними рядом, из них подонков не сотворят.
— Но ведь я пообещала всё уладить и не только в отношении вас двоих! — заверила её Ирма.
— Я вам верю. Но он твёрдо решил быть рядом с ними, — стояла на своём Марта.
— Ну, если твёрдо… — пошла та на уступки. — Подумаем и над этой проблемой. Хотя, признаюсь, это усложнит дело…
— Будем вам всю жизнь благодарны!
— Я посоветуюсь, с кем надо; завтра к вечеру, возможно, будет известен результат.
— Спасибо, тётя Ирма, вы к нам так добры! — с искренностью, на какую только была способна, поблагодарила её Марта.
На следующий день, возвратясь, как всегда, поздно вечером, она сообщила своим привередливым подопечным: просьба их учтена. Завтра утрясут кой-какие мелочи, а уже с раннего утра следующего дня они оба присоединятся к своим землякам, и всех их отправят на новое место. Куда именно, уточнено не было, но ребят заверили: там они будут в боль-шей безопасности.
Очень хотелось узнать побольше, но… Раз не сказала, значит, так надо; и без того много себе позволяли. Грета, искренне опечаленная отъездом полюбившейся гостьи, не скрывала огорчения.
— Я попробую подлизаться к братику, он мне не откажет: узнаю, далеко ли вас упрячут, — пообещала она. — Может, хоть весточкой иногда перебросимся.
Но Курт задержался дольше обычного. Марта уже приготовила постели, когда та пришла в спальню.
— Узнала ещё одну новость! — сообщила она. — Обещала не говорить, но тут, по-моему, большого секрета нет. Вас хотят вывезти аж за пределы Германии. Большего не сказал.
— Спасибо, Гретхен, и за это: новость очень важная! Пойду скажу Андрэ, он точно ещё не спит.
— Приходите сюда, — разрешила хозяйка спальни. — Тут и поговорите. Чтобы не разбудить Максика.
Андрей и в самом деле долго не мог уснуть: раздумывал. Он и рад был сегодняшнему известию, и в то же время брали сомнения… Чем объяснить, что Марту тоже решили вернуть к пацанам — в эту группу, непонятно для чего созданную, да которой, к тому же, готовили «незавидную участь»? Может, осерчали, что много от них потребовал, и решили избавиться от нас вообще? Ведь куда угодили — в логово гестаповцев!.. За такими невесёлыми мыслями и застала его Марта.
— Идём к нам, Андрюша, — присев у кровати на корточки, пригласила она.
— Грета сообщила важную новость.
— Я же плохо говорю по-ихнему.
— А я для чего? Надо кой-чего обсудить, посоветоваться, а здесь — ещё Максика разбудим.
Дополнение к тому, что сообщила Ирма, несколько успокоило: значит, о них заботятся и хотят увести от каких-то неминуемых неприятностей. Предстояла, видимо, неблизкая дорога в неизвестное пока, новое место пребывания. И речь зашла о том, что прихватить с собой из самого необходимого.
— Оденемся в нашу партизанскую одежду, она тёплая и долго будет носиться. Вы её не выбросили, случайно? — поинтересовался он.
— Ты что! Мы её прокипятили, выстирали, я проверила все пуговицы, а штаны и рубашки прогладила электрическим утюгом, — похвалилась Марта. — Запаслась иголками и нитками: у кого-то может прохудиться одёжка, а будет ли где и чем починить?
— Конешно! И ещё раздобудь зубные щётки, порошок, мыла — вдруг там негде будет взять.
— Всё это мы завтра купим, у нас же осталась ещё уйма денег.
— И ещё возьми знаешь, что — штук пять трусов. Я надену их на себя, а на месте раздадим хлопцам. Неизвестно, у всех ли они имеются. Ты чё усмехнулась?
— Да так… вспомнила тот случай в балке, когда коза тебя так испугала, что ты чуть штаны не потерял, — вспомнила она казус, произошедший с ним в день их знакомства. — Можно, я расскажу этот «пизот», как выразился однажды Борис, Грете?
— Расскажи… рассмеши и её. Купите ей на остальные деньги какой-нибудь подарок от меня; нам марки вряд ли теперь понадобятся.
Марта пересказала подружке свой разговор с Андреем, а также «пизот». Видимо, со всеми подробностями, так как обе весело смеялись.
Следующий день прошёл в приготовлениях: куплены были мелкие вещи и предметы, необходимые в быту. Всё это рассовали в специально сделанные кармашки в фуфайках, штанах и рубашках; запаслась Марта и всем необходимым лично для себя.
А наутро, ещё затемно, за ними прислали знакомый уже лимузин. Шофер вывез за город, где ждал военный, крытый брезентом, грузовик. Из его кабины вылез офицер, посадил их в кузов, сам вернулся к водителю, и грузовик сорвался с места.
Н а о т к и д н ы х скамьях вдоль кузова Андрей насчитал восемь человек, но мартины друзья были в полном составе. Одеты все одинаково, довольно легко, острижены наголо, как новобранцы или, точнее, как арестанты, только что не в полосатом. Пополнению и обрадовались, и удивились очень.
— Вы где были всё это время? — здороваясь, спросил Леонид.
— Длинная история… расскажу после, — пообещал Андрей.
— Куда нас везут — не знаешь?
— Потерпи, скоро узнаем. А что было с вами?
— В тот же день нас сводили в баню, выдали вот эту форму. Потом обчекмарили под нолёвку, взяли зачем-то кровь из вены. Это уже в гостинице, куда нас привезли из бани. Кормили вкусно и от пуза, как на убой.
— А куда делись ещё двое?
— Вчера немка забрала — та, что отбирала нас в классе. И что интересно: отозвала в сторонку Степана и дала прочитать записку, где по-русски было написано: забери своих друзей и выйди с ними в коридор. Затем двоих увела неизвестно куда и почему. Что бы это значило?
— Кажется, догадываюсь, — сказал Андрей. — Вам приказано было выйти, чтоб в число тех двух не попал кто-нибудь из вашей четвёрки. А увела двоих потому, мне думается, что для чего-то нужно ровно десять человек.
— Что-то тут нечисто… как думаешь?
— Думаю, что бояться не след, — не совсем уверенно обнадёжил Андрей. — А вобще, скоро увидим.
Четвёрка краснодарцев, незнакомых Марте и тем более Андрею, сидела особняком, ближе к заднему борту. Их явно насторожило появление непохоже одетых, нестриженых новичков, доставленных в шикарной легковухе; к тому же, один из них оказался девчонкой. Поначалу прислушивались к разговору соседей, но те говорили тихо, в узком кругу, как старые знакомые. Это могло показаться подозрительным: не продались ли немцам?
Марта — она сидела с краю и в разговоре почти не участвовала — расслышала, что один из незнакомых подговаривает другого «драпануть». Сказала об этом Андрею. «На ходу? Навряд, чтоб при такой скорости! «— не придал он значения.
Но через час или два грузовик, снизив скорость, остановился. Паровозный свисток подсказал, что впереди железнодорожный переезд. И как только там застучали вагонные колёса, двое из сидевших у заднего борта спрыгнули вниз. Ещё один хотел последовать их примеру, но Андрей успел схватить его за штаны:
— Куд-да, дурак! Жить надоело?
— Пусти, козёл, не твоё дело! — огрызнулся тот, вырываясь; но подоспела подмога, и «дурака», а заодно и его соседа, оттащили к кабине.
— Ну, гад, я тебе припомню! — пригрозил неудавшийся беглец, заматерившись.
— Ты полегче пасть разевай, а то кишки простудишь, шалопай! — пихнул его в бок Гриша.
— Да пош-шёл ты! — окрысился «шалопай». — Упустить такой случай!..
Грохот состава постепенно стих, и грузовик тронулся. Ни офицер, ни водитель ничего, видно, не заметили. Переезд оказался нерегулируемым, безлюдным; виднелся населённый пункт, но далеко в стороне. Соскочивших видно не было.
— И куда они теперь — без денег, без знания языка, в этой полуарестантской одяге… — Гриша посмотрел в глаза земляка, всё ещё злые и недовольные вмешательством.
— Зато на свободе! — буркнул он.
— Поздно ты о ней вспомнил, — заметил Андрей. — О свободе нужно было думать в Краснодаре.
— То-то ты и подумал!..
— Вот он как раз подумал, — вступился Ленька. — И нас надоумил, да жаль — не получилось.
— Больше, Игорь, не партизань, — предупредил Гриша. — Мы должны держаться все вместе и быть заодно. А ты, не зная броду, кидаешься в воду.
Длилась поездка в неизвестное довольно долго. Трудно сказать, сколько сот километров осталось позади, но если судить по высокой скорости и по тому, что трижды дозаправлялись горючим, — немало; пассажиров порядком растрясло и укачало. Наконец, остановились на каком-то аэродроме: казарменного вида строение, выкрашенные под серебро ёмкости, антенны, взлётно-посадочная полоса; несколько одно— и двухмоторных самолётов.
Не заглянув в кузов, сопровождающий прошёл в здание и вскоре появился в сопровождении двух лётчиков. Один из них нёс голубую пластмассовую канистру («Шнапс, наверно», — подумал Андрей); второй — объёмистую кожаную сумку. Оба при оружии, причём у одного на ремне, кроме пистолета, болтался ещё и кортик, какие носят морские офицеры. «Морская авиация, что ли? — удивился он. — Зачем в самолёте нож? Впрочем, может, это подарок друга— моряка».
Офицер дал знак шофёру следовать за ними, и машина подрулила к двухмоторному самолёту, скорее пассажирского, чем военного, типа. Вслед за взрослыми ребята поднялись в салон. Андрей с Мартой успели занять места вблизи кабины пилотов — на мягких сидениях; остальные шестеро разместились в полужёстких креслах у окошек-иллюминаторов.
Завертелись винты, то увеличивая, то сбавляя обороты; рокот перешёл в рёв, машина тронулась с места, вырулила на бетонную полосу. Пацаны, впервые в жизни оказавшиеся в самолёте, прилипли к иллюминаторам. После короткого разбега и отрыва от полосы Андрей — он тоже приник к стеклу — почувствовал тяжесть в теле и лёгкий звон в ушах; земля стала быстро удаляться, обзор — увеличиваться. Вскоре деревья стали напоминать кустарник, дома — спичечные коробки, люди и животные — букашек. Затем оказались над облаками, похожими теперь на яркие хлопья ваты.
Сопровождающий сел спереди, спиной к кабинной части самолёта. Какое-то время он разглядывал сидящих поблизости, потом устало смежил веки и, казалось, задремал. Теперь пристальней присмотрелись к нему и Андрей с Мартой. Высокий лоб, холёное лицо, довольно красивое, чисто выбритое. Безукоризненная, словно с иголочки, гестаповская форма; при оружии — пистолет в кобуре из коричневой кожи. Рядом — увеличенного размера кожаный чемоданчик на защёлках.
— Он тебе никого не напоминает? — наклонившись к самому уху, шёпотом спросила Марта.
— Н-нет… А что?
— Мне кажется, это тот, что сидел тогда за столом в классе.
— Я не старался их запоминать. Но если тот, то он должен говорить по-нашему. Надо это проверить…
Подошёл, тронул за колено:
— Пан офицер, не знаете, где тут можно отлить?
Тот кивнул, поднялся и знаком велел следовать за ним. В конце салона открыл дверь в каморку с унитазом, подождал.
— Тебя звать Андреем, не так ли? — спросил по-русски.
— Да, это так… А вы тот, кто был в школе в день нашего прибытия.
— Похвальная наблюдательность! Покажешь остальным, где находится туалет. И ещё: предупреди, чтобы вели себя тихо и спокойно, если кое-что произойдёт на борту; возможно, понадобится и твоя помощь.
— По-онял… А когда это произойдёт?
— Ещё нескоро. Сперва дозаправимся на африканской базе. Возможно, там переночуем. Словом, когда будем лететь над Атлантикой.
Вернулись на свои места, и Андрей, уже без предосторожностей, рассказал Марте о случившемся. Затем, пройдя к Леониду, предложил:
— Идём, покажу, где тут туалет.
— О, и мне невтерпёж, — схватился сидевший с ним Гриша.
— Братцы, у меня важные новости, — сообщил, когда те справили нужду. — Мне только что сказал офицер — он хоть и в гестаповской форме, но, видать, наш… разведчик или сторонник… говорил со мной по— русски… Так вот он сообщил, будто на борту что-то произойдёт.
— Когда? А что — не знаешь? Это опасно? — заволновались пацаны.
— Думаю, что не опасно, хотя и не знаю, что именно. Это произойдёт, когда будем лететь над Атлантическим океаном. А до этого самолёт сделает дозаправку на какой-то ихней базе аж на африканском побережье.
— Ог-го, куда нас несёт! Вот это да!..
— Остальным пока не говорите, чтоб не переживали. А про туалет объявите всем.
В салоне стало прохладно — видно, шли на приличной высоте. В редких просветах между облаками виднелись какие-то города, иногда — речки или озёра, на которые смотреть было неинтересно.
И вот самолёт пошёл на снижение. Земля стала стремительно приближаться — жёлтая, бедная растительностью. Опять бетонная полоса, торможение, остановка. Офицер с одним из лётчиков спустились по откидному трапу вниз. В распахнутую дверь ворвался горячий воздух, и в салоне стало так тепло, что пришлось снять фуфайки. Подъехала заправочная цистерна и довольно долго наполняла баки — видать, очень вместительные. Впрочем, и без того было ясно, что их самолёт — специальный и рассчитан на дальние рейсы.
Военный аэродром с несколькими бомбардировщиками отстоял от какого-то селения примерно в километре. За ним во все стороны простиралась песчаная пустыня с редкими растениями, лишёнными листвы. Солнце тонуло в тёмно-оранжевой дымке; близилась ночь. Сопровождающий сказал Андрею, что ночевать им придется в самолёте; спустился вниз и через непродолжительное время принёс поужинать — хлеб, мясные консервы и сладкий чай. Пилот со штурманом сошли раньше, сам он остался с ребятами.
За иллюминаторами темно хоть глаз выколи, но в салоне белели матово несколько плафонов. Поужинав, уставшие от тряски и длительного перелета юные пассажиры уснули кто где устроился; Андрею с Мартой партизанские фуфайки помогли скоротать ночь даже с некоторым комфортом.
И вот они снова в воздухе. Когда взошло солнце, внизу стали видны редкие оазисы с диковинными деревьями, хижинами, похожими на копны соломы; попался караван верблюдов, единственный на огромной безжизненной площади. Когда, через время, Андрей подошел к иллюминатору снова, под ними от горизонта до горизонта голубел океан. Атлантика? Значит, скоро должно что-то произойти…
Знали уже и ждали этого «чего-то» и другие ребята. Тоже волновались, однако внешне выглядели спокойными: они много уже успели повидать на своем веку и стали привыкать ко всякого рода приключениям.
Сопровождающий тоже вёл себя невозмутимо. Правда, несколько раз поглядывал на часы, а однажды, достав из чемоданчика карту, внимательно разглядывал западное побережье африканского континента и прилегающую акваторию; достал и положил в карман тонкую, типа бельевой, веревку Полет длился уже достаточно долго, когда открылась дверь пилотской кабины и один из летчиков, выйдя, направился в глубь салона. Офицер поднялся и, расстегнув кобуру, пошёл следом. Андрей, жестом призвав товарищей сидеть спокойно, последовал за ним. «Вот, кажись, и долгожданная неожиданность!» — подумал он. И оказался прав: только штурман показался из двери туалета, как получил удар рукояткой пистолета по темени, после чего рухнул без звука, как подкошенный. Затолкав в рот кляп, так как пострадавший продолжал дышать, офицер связал ему руки и ноги. Затем направился в пилотскую.
Андрей, помощь которого не понадобилась, подал знак Марте подойти к двери, чтобы слышать, о чём здесь будут говорить. Пилот, не поворачивая головы, поинтересовался:
— У тебя что, расстройство кишечника?
Не дождавшись ответа, оглянулся — и лицо его побелело: у самого виска торчало дуло пистолета. Неожиданный террорист сдёрнул с него шлем, с наушниками и микрофоном у рта, хладнокровно предупредив:
— Сидеть тихо и не дёргаться; руки — за голову, быстро!
Снял висевший сзади кресла ремень с пистолетом и кортиком, передал Андрею: «Это— тебе»; ремень штурмана лежал на парашютной сумке за пустым креслом — его Андрей передал Леониду.
— Что всё это значит? — выдавил наконец из себя всё ещё бледный, как мел, командир воздушного корабля.
— Это значит, что с этой минуты вы будете беспрекословно выполнять все мои приказания.
— А если откажусь?
— Я проломлю вам череп и буду иметь дело со штурманом.
— Готов повиноваться, приказывайте… — помедлив, согласился пилот.
— Канары — отменяются. Огибаем их с востока и идём в сторону экватора. Какое расстояние сможем покрыть? Но предупреждаю: если ваши данные разойдутся со штурманскими, я отправлю вас на корм акулам…
— А как далеко собираетесь улететь?
— Чем дальше на юг, тем лучше.
— Я, штурмбанфюрер, могу только предполагать… Учитывая незначительную загруженность борта, а также мощное в это время года попутное воздушное течение… думаю, дотянем до экватора. Но как вы мыслите себе приземление без аэродрома? И что с моим штурманом?
— Приземления не будет. Будет приводнение у подходящего для нас острова. Штурман жив, но он вам пока не нужен, поскольку летим строго на юг.
— Вы сказали «приводнение»… Чего ради, когда мы можем…
— Ради моих пассажиров, — не дал ему договорить штурмбанфюрер. — Покидая борт, нам с вами придется прихватить с собой и их.
— Если вам приходилось иметь дело с парашютом…
— В этом можете не сомневаться.
— … то должны знать, что в момент раскрытия они сорвутся и разобьются при падении, как бы низко ни шла машина.
— Это — не ваши заботы. Можете опустить руки и выполняйте свои обязанности!
Отключив автопилот, бывший хозяин борта положил руки на штурвал. Слегка накренившись, машина изменила направление полёта. На горизонте справа уже обозначились Канарские острова.
Марта всё это время пересказывала столпившимся у двери кабины пацанам услышанное. Андрей с Леонидом подгоняли по себе ремни пилота и штурмана, проткнув дополнительные дырки с помощью швайки новоприобретённого складника. Когда страсти поулеглись, всем было велено разойтись по местам и ждать дальнейших указаний.
В действиях сопровождающего было для Андрея много непонятного. Что одного пристукнул, это ещё можно объяснить: справиться с двумя, запугать и подчинить своей воле — трудней. Но зачем вообще вся эта затея, верняк запланированная и согласованная с Куртом? Почему везли на какие-то «канары», где им что-то угрожало? Ничего не понятно!..
— Скажите, как теперь вас называть: господин офицер, как у вас тут принято, или, может, товарищ штурмбанфюрер? — решил он выяснить немаловажный для себя вопрос.
— Зовите просто… ну, скажем, Кимом Борисовичем, — разрешил тот.
— Ким Борисович, вы говорили о каких-то канарах… Разве нам что-то там угрожало?
— Ты угадал. Из вас хотели сделать одноразовых доноров. Иначе говоря, взять всю кровь.
— Кро-овь?.. Зачем?
— Её много требуется при хирургических операциях. — Видя, что малец озадачен и не может взять в толк, Ким Борисович решил снять завесу секретности с происходящего. — Канары — это острова в Атлантическом океане с тёплым и очень здоровым климатом. Там сейчас находятся санатории для высокопоставленных особ рейха. Некоторые лечатся после тяжёлых ранений на фронте; часты сложные операции с большой потерей крови.
— Так вот для чего мы понадобились!..
От этой новости Андрею стало не по себе… Вот уж, действительно, изверги рода человеческого! Подмывало спросить, часто ли поставляют сюда такое «лекарство», но передумал. Спасибо, что хоть их избавят от этой «незавидной участи». Вместо этого поинтересовался:
— А нашим общим знакомым, Курту и Ирме, не попадет за то, что на Канарах нас не дождутся?
— Скорей всего, влетит командованию аэродрома, где мы произвели дозаправку, но это уже не наши проблемы. Нам бы выбраться благополучно из очень непростой ситуатции.
— Я понял так, что нам придется прыгать с парашютом в воду…
— К сожалению, иного выхода у нас нет.
Поговорив о чем-то с пилотом (Марта отсутствовала, и Андрей ничего не понял), Ким Борисович вернулся к теме приводнения:
— Ты плавать умеешь?
— У воды вырос.
— Отлично. Узнай, кто еще рос у воды. Не умеющих или плохо плавающих я возьму на себя.
— Он сказал, что при рывке в момент раскрытия парашюта…
— Это предусмотрено. Для страховки ребята будут с помощью прочного линя привязаны ко мне. Вы тоже подстрахуетесь подобным образом.
— Понял… Ким Борисович, все это было запланировано еще на земле?
— Ваши покровители сочли себя обязанными оставить вас и ваших друзей в живых. Но более подходящего способа мы придумать не смогли. Правда, и этот довольно рискован.
— В том числе и для вас лично… А зачем вы убрали штурмана — это тоже предусматривалось заранее?
— Нет. Я решил избавиться от него — или того, что в кабине — уже после, как недосчитался двоих из вас. Кстати, куда они подевались?
— Спрыгнули во время остановки у первого же переезда. Мы, к сожалению, не смогли их перехватить.
— Может, это и к лучшему, — заметил после паузы он.
— Для них или для нас? — не понял Андрей.
— Для них — вряд ли. Но раз уж так получилось, то в намечавшийся ранее план внесем изменения. В нашем распоряжении три парашюта. На одном десантируешься ты с двумя умеющими хорошо плавать ребятами. Четвертым будет пилот. Но имей в виду: в Германии очень мало летчиков, не отравленных нацистской пропагандой. Пистолет держи в пазухе и будь готов к любым неожиданностям.
— Понял. Буду начеку, — пообещал инструктируемый.
— Еще двое ребят воспользуются вторым парашютом. Даже если им никогда не доводилось прыгать с тренировочной вышки.
— А они сумеют сделать так, чтоб парашют раскрылся?
— Умения не потребуется. В хвостовой части самолета имеется специальный люк для десантирования. Они им и воспользуются, и парашют раскроется сам. Остальные трое сделают это со мной.
Вернувшись к пассажирам, Андрей объяснил им ситуатцию. Оказалось, что хорошо плавать умеют все, кроме, разумеется, Марты, которая едва владела стилем «по-собачьи». Прыгнуть с парашютом самостоятельно вызвались Гриша с Леонидом. Пилоту, кроме Андрея, достались Игорь и Стас.
Понимая опасность предстоящего испытания, каждый в душе переживал и побаивался, но виду никто не подавал. В то время, как Ким Борисович, уже прозванный Кимбором, занят был поиском подходящего острова, затерянного в безбрежном океанском просторе, и наверняка тоже обговаривал подробности десантирования с пилотом, их пассажиры договаривались о том, как вести себя в предполагаемых обстоятельствах. Андрей и в этот раз взял на себя роль старшого. Собрав всех в конце салона, где шум от винтов слышен меньше, он скрупулезно «проигрывал» все моменты, начиная с отделения от самолета и кончая поведением в воде.
— Самое главное — перебороть страх перед прыжком. Не смотреть вниз, аж пока не раскроется парашют. Держаться нужно крепко, но не хвататься, как попало, а просунуть руки под лямки парашюта и сцепить ладони пальцами, вот так, — показал он для наглядности, как следует переплести пальцы. — Кимбор считает, что такой замок при встряске не расцепится, а лететь до воды — считанные секунды. И еще надо успеть сделать глубокий вдох перед самым погружением. Провалимся глубоко, но в воде — не теряться! Старайтесь вынырнуть при помощи и рук, и ног; морская вода будет нам в этом помощница. Даже если кто глотнет воды или захлебнется, Кимбор все равно выловит, вытащит на берег и откачает, — втолковывал он, стараясь вселить уверенность в благополучном исходе. За время инструктажа несколько раз ходил в пилотскую проконсультироваться. Под конец спросил Марту о самочувствии — Боюсь ужасно… Хорошо бы находиться рядом с тобой, — сказала с печалью в голосе. — Ты бы мне утонуть не дал. А если и тонуть, то с тобой не так страшно…
— Никаких утонутий! И я бы рад быть возле тебя, но — так распорядился Кимбор, а дисциплина — прежде всего.
— Я не понимаю: почему мы ищем именно остров? Ведь рядом африканский берег, разве нельзя найти подходящее место вдоль побережья?
— Я тоже об этом спрашивал. Тут причин несколько. Одна из них та, что внизу дует восточный ветер, и нас снесет далеко в океан. Вторая — можем нарваться на местных дикарей, которые ненавидят белых. А самое главное — Кимбор считает, что с острова легче будет заметить проходящие поблизости морские суда — надо же думать, как вернуться обратно.
Сформировав и подготовив команды, Андрей вернулся в кабину ждать дальнейших распоряжений.
— Ну как, все предусмотрели? — Ким Борисович, сидя в кресле, повернулся к вошедшему.
— Да вроде всё до мелочей. А у вас — ничего нового?
— Пока ничего хорошего. Попадалось несколько атоллов кораллового происхождения, но без растительности и небольшие, а нам ведь надо чем-то питаться. Кстати, вот сумка с продуктами, отнеси ребятам, пусть подкрепятся.
Андрей унёс виденную на аэродроме кожаную сумку; в ней оказались консервы, шоколад, печенье и прочая закуска к тому, чем, видимо, была наполнена голубая канистра второго лётчика. Оставив ребятам складник и прихватив «закусону» для себя, вернулся в пилотскую.
— Летим уже долго, — пристроившись на парашют штурмана, заметил он. — Как там с бензином?
— Остается маловато, — сказал Ким Борисович. — Боюсь, придется рулить к африканскому побережью…
— Жаль… Я боюсь, что там нас слопают дикари.
— Ну, сейчас людоедов уже, пожалуй, не встретишь и в глухих местах. Как не осталось, видимо, и неоткрытых островов. Все открыто мопеплавателями, нанесено на карты, население охвачено религиозными миссионерами; так что людоедов можно не опасаться. Как-никак почти середина XX века!
— Я видел, вы рассматривали карту этих мест… Ничего из уже открытого на нашем пути не попадается?
— Так называемые «Острова Зелёного Мыса» где-то уже неподалёку; нас бы они, пожалуй, устроили. Но дотянем ли мы до них?.. На всякий случай, распоряжусь держаться ближе к побережью.
Он заговорил с командиром самолёта по-немецки. Видимо, распорядился насчёт Африки, так как тот отключил автопилот и взялся за штурвал управления. Андрей доел свою порцию «закусона» и поднялся, чтобы сообщить услышанное товарищам.
— А что это за тёмная полоска? Во-он, справа, выглядывает из-за горизонта, — показал он в сторону, противоположную Африке.
— Точно. У тебя превосходное зрение! Теперь и я вижу: это какая-то земля. Сейчас проверим, не отвечает ли она нашим требованиям.
Самолёт, одновременно снижаясь, сменил курс на девяносто градусов. Полоска стала прорисовываться чётче, разрастаться, приобретать зеленоватый оттенок. Вскоре сомнений не осталось: это остров. Довольно протяженный с севера на юг, но не широкий. И, похоже, не единственный: за ним, изумрудно-зелёным, в отдалении, чуть ли не у горизонта, темнело что-то ещё.
По мере снижения самолёта океан преображался — синел, искрился, словно усыпанный мелкими зеркалами. Стали различимы высокие волны с белыми пенистыми барашками, катящиеся в сторону островка. Видимо, ветер внизу разгулялся не на шутку. Отчётливо обозначился песчаный берег, за ним — сплошной то ли кустарник, то ли просто заросли с отдельными высокими деревьями, увенчанными шапками из колеблющихся широких листьев; ещё дальше — ковёр из переплетённых крон густого леса; посередине голубело озерцо с вытекающей из него узкой речушкой.
— Это — то, что нам нужно! — сказал с удовлетворением Ким Борисович. — Иди готовь команды. Бери вот этот парашют, а в моём чемоданчике найдёшь верёвку. Пусть обовьют себя под мышками, не завязывая узлов, и ждут нашего появления. Да, чемодан после этого засунь в мешок, он лежит сверху, и хорошо завяжи; прихвати эту флягу и всё поставишь возле люка в хвостовой части сагона. Особо не суетитесь, — остановил он кинувшегося к выходу помощника. — Мы сначала сделаем облёт, присмотрюсь, где тут наиболее подходящее место для высадки десанта.
Готовя команды, давая последние наставления, Андрей заметил, что самолет несколько раз менял направления полёта, затем удалился на большое расстояние, развернулся и стал приближаться к острову, идя с подветренной стороны.
Видимо, и на малой высоте машину доверили автопилоту: из кабины вышли Кимбор и пилот одновременно, уже с парашютами за спиной (точнее — ниже «попы»).
«Припарашютился», по его собственному выражению, и Гришка Матросов; в отличие от первых двух, его парашют не болтался ниже пояса, а находился за спиной. Кольцо, предназначенное для раскрытия парашютной сумки, также вывели за спину и прикрепили к крюку над люком, сделав таким образом парашют самораскрывающимся.
— Как, не боишься? — поинтересовался Кимбор, осматривая, всё ли сделано как надо. — Страшновато, согласен. Но всё обойдётся. Ветром вас снесёт почти к самому берегу, там и волна должна быть поменьше.
Не надеясь на надёжность «замка», напарник привязался к его лямке куском верёвки таким образом, что если дёрнуть за один из её концов, узел вмиг распустится. А вот компаньоны пилота сочли такую предосторожность Леонида излишней и привязывать себя к нему не стали: зачем, мол, терять драгоценные секунды в тёмной пучине, куда они непременно провалятся. Помня о ненадёжности старшого — а ну как он закоренелый фашист? — не стал настаивать на страховке и Андрей.
На подлёте к острову все были полностью готовы к десантированию, и как только слева показалась песчаная полоса, Кимбор скомандовал:
— Ну, с богом!
— Не забудьте набрать воздуха! — напомнил ещё раз Андрей, и все четверо нырнули вниз головами в проём.
Советовавший другим не смотреть вниз до раскрытия парашюта, сам Андрей зажмуриваться не стал. Видел, как стремительно приближались к ним волны и даже заметил, что пилот смотрел на циферблат наручных часов, словно отсчитывая секунды. Когда он наконец дёрнул за кольцо, до воды оставалось менее трёхсот метров. Рывок (или, как его ещё называют, динамический удар) при раскрытии парашюта, более сильный, чем предполагалось, пришелся на момент, когда они, перекувыркнувшись, летели головой вниз. При этом тряхнуло с такой силой, что «замок» выдержал нагрузку едва-едва, несмотря на то, что он постоянно тренировал кистевые мышцы и сжимая резиновый мячик, и колотя по утрам самодельную боксерскую «грушу». Что же до напарников, то для Стаса рывок оказался роковым: он сорвался и с душераздирающим криком «А-а-а!» полетел вниз… И наверняка разбился насмерть, так как у места всплеска воды на поверхности не появился.
Когда скорость падения замедлилась, Андрей услышал, что Игорь то-же то ли кряхтит, то ли стонет от боли.
— Игорёк, тебе нехорошо? — спросил он.
— Рука… в локте, . кажется, вывихнул, — услышал в ответ — Крепись, я помогу тебе доплыть. Набери побольше воздуха в лёгкие! — посоветовал он уже у самой воды и, отделившись, погрузился с головой.
Почувствовав дно, с силой оттолкнулся и в два-три взмаха руками очутился на гребне волны. Волею случая парашют не погасился, напротив: подхваченный ветром, надулся, словно парус, и его понесло над волнами к берегу. Волна сбросила Андрея как раз в тот момент, когда, выдернутые им, рядом оказались остальные; он успел ухватиться за ближайшую стропу и тоже оказался на буксире.
— Игорек, не отцепляйся, до берега не больше тридцати метров. Не боись, я с тобой! — кричал ему он, стараясь пересилить шум волн и ветра. Хотел было приблизиться к нему вплотную, но в это время пилот стал с силой тыкать большим пальцем в глаза и без того пострадавшему при рывке.
— Ты что, гад, делаешь? Ах ты ж собака! — вскричал он, но было поздно. Игорь, державшийся одной рукой, схватился за глаза, отцепился и ушёл под воду. А фашист стал, перехватываясь руками по стропе подтягиваться и к нему — явно не с добрыми намерениями. Держась левой рукой, Андрей правой достал из-за пазухи взведённый пистолет, сковырнул предохранитель и выстрелил в упор. Стропа выскользнула из расслабившихся кистей пилота, при этом спружинила так сильно, что не удержался за неё и он. Уже в погруженном состоянии сунул пистолет обратно в пазуху и попытался всплыть. Это удалось без труда, но случилась ещё одна неприятность: купол парашюта, словно попав в воздушное завихрение, взметнулся кверху, опускаясь, сплюснулся, погасился и накрыл его с головой.
Стремясь из-под него вынырнуть, Андрей запутался в стропах; освобождаясь, пробыл под водой дольше, чем оказался в силах сдерживать дыхание. Отработанный воздух лёгкие, вопреки его воле, через ноздри выдавили полностью и потребовали очередного вдоха. Уже теряя сознание от удушья, глотая отвратительную на вкус океанскую воду, он все-таки освободился от строп, коснулся ногами дна и несколько раз оттолкнулся куда-то вбок…
В о с к р е ш е н и е из мёртвых давалось мучительно трудно. Нутро канудило и тошнило, неудержимая рвота выворачивала наизнанку. В голове гудело, она раскалывалась, как после сильного угара. Сознание то возвращалось и прояснялось, то снова туманилось и пропадало. Но вот рвоты наконец прекратились; полегчало, окрепла память. Вспомнился сорвавшийся Стасик: вроде и крепкий малый, а вот на ж тебе… Этот гад, эта нацистская морда, специально тянул время с раскрытием парашюта, чтоб посильней тряхануло, — догадался он. Раскройся он раньше, когда скорость падения была поменьше, этого бы не случилось. Игорь запросто дотянул бы до берега с его помощью; но его этот подонок ослепил. А может, он всё-таки доплыл?
Андрей собрался с силами и отполз дальше, так как по пояс всё ещё находился в воде. Волны поутихли и едва докатывались, мельчая, до острова. А где же остальные? Попытался встать на ноги, но голова снова закружилась и он упал навзничь. Небо голубое, без единого облачка. Солнце, не по-осеннему жаркое, перевалило зенит и жгло немилосердно, как кубанское в августе. Снова сел и окинул взглядом океан водный: он, сине-зелёный, уже не бушевал — сколько ж времени пролежал я без памяти? — подумал он. Почему не видно пилота? — вспомнил и про старшого, оказавшегося таким негодяем. Да вон он, колышется волной. Видно, выбросить и его на песок мешает затонувший парашют.
Но почему не видно Кимбора и остальных? Должны бы спрыгнуть вслед за ними и приводниться поблизости. Не раскрылись парашюты и все утонули? Или, может, не рассчитали да выбросились дальше? Но дальше в океан вдаётся мыс, поросший лесом. Неужели приземлились и покалечились?
Поднялся, осмотрелся, нет ли поблизости каких следов. Их не оказалось. Решил раздеться, чтобы просохла одежда — на нём ведь всего по паре, а трусов вообще шестеро. Снял ремень, вынул кортик из оправленных серебром ножен, слил воду. Пистолет воронёный, покрупней ТТ; разложил всё это просыхать. Разрядил обойму, сосчитал патроны — семь штук. Восьмизарядный? значит, с запасными осталось пятнадцать. Надо, подумал, обыскать лётчика, может, что-то нужное найдётся и у него. Прошёл к нему. Мухи уже учуяли мертвечину: роятся, садятся на лицо, их смывает, а они облепляют снова и снова — крупные, такие же зелёные, как и там, на гравийке под хутором, где погиб спасший им жизнь комиссар. В одном из карманов нащупал что-то твёрдое, достал — зажигалка; надавил на рычажок — фитилёк вспыхнул. Понадобится! А вот что-то покрупнее. Фонарик? Да еще какой — круглый, с большущим рефлектором, с линзой заместо стекла! Нажал на кнопку — лампочка горит в полный накал. И герметичный — ни капли воды не просочилось внутрь отражателя. Снял с руки часы: браслет желтый, но всего лишь позолоченый, а вот корпус — верняк из чистого золота, как у тех, что остались у Ванька. Только, пожалуй, более дорогие: с календарём и секундной стрелкой. Влагонепропускаемые — столько времени пробыли в воде и даже стекло не запотело. Хотел приладить на руку, но браслет оказался великоват. Ничего, сделаю из них карманные, — подумал он. Отстегнув парашют, вытащил на берег, расстелил, чтобы просох. Пока возился, одежда высохла, оделся. Всё лишнее скатал и связал шнуром от вытяжного парашютика. Когда высох и большой — для этого хватило десяти минут — он сложил его, сунув одежду внутрь, и отволок на край песчаного пляжа: здесь начинались густые заросли, совершенно не похожие на те, что доводилось видеть на Кубани. Оставив всё это с краю и воткнув напротив бамбуковый стебель (удилишки бамбуковые видеть приходилось) для приметы, вернулся к оставленным вещам. Босые ноги нещадно жёг песок. Обулся. Подпоясался, сунул пистолет в кобуру, кортик — в ножны, ещё раз осмотрелся кругом: ни души. Берег пустынен… Куда ж теперь? Хочется пить, ссохлось не только во рту, но, кажется, и всё внутри. Но есть ли пресная вода поблизости? Или только в той речке, что видна была из самолёта. И следует ли углубляться в лес на ночь глядя? Пожалуй, лучше потерпеть и отправиться на поиски товарищей. Если же и они окажутся безуспешными, заночевать придется на берегу. Так безопасней, надо только запастись каким-нибудь хворостом для костра: гиены или волки, или кто тут водится ещё, они огня побоятся, рассуждал он.
А завтра он обшарит всё побережье. Не может быть, чтоб остался в одиночестве! Найдёт их, живых или мёртвых. Нет, только живых! Может, и они его ищут, приводнившись где-то за мысом. Или ждут помощи — разбившиеся, покалеченные, где-нибудь под деревьями, на которые угодили с парашютами… Может, это случилось неподалёку — надо начинать поиски немедленно, пока светло!
И Андрей направился в сторону мыска, держась вблизи воды: здесь, по влажному песку, идти легче, так как ботинки почти не грузнут, лишь оставляют чёткий след. Таких же следов высматривал и он, вглядываясь в каждый метр побережья. Мало ли, может, пока их с лётчиком качали волны, прибивая к берегу, они, благополучно выбравшись, решили, что мы остались на дне раков кормить. Или, наоборот, отправились искать пресной воды? Предположение малоправдоподобное, но проверить надо. Если не попадутся следы от обуви, то, может, хоть какой-нибудь предмет прибьет к берегу. Даже в случае, если оба парашюта отказали и все утонули, разбившись с более чем трехсотметровой высоты. В голову приходили всякие невероятные мысли…
А между тем солнце близилось к верхушке леса и вот-вот должно было скрыться за ним. Позади осталось едва ли не полкилометра, но никаких следов или признаков обнаружено не было… Надо, пока не стемнело совсем, насобирать топлива, — решил он и свернул к зарослям, где виднелись сухие, широкие и длинные листья каких-то пальм, застрявшие в поросли бамбука. Не понадобятся для костра — послужат подстилкой; может, и тут, как в лимане, комарья полно — будет чем прикрыться.
Однако набрать сушняка ему не пришлось. Случилось нечто невероятное: оставалось каких-нибудь два десятка шагов, когда из зарослей навстречу ему вышло… шестеро дикарей. Среднего роста, худощавые, чернокожие и совершенно голые, если не считать за одежду какую-то бахрому, свисающую с пояса вокруг талии и прикрывающую серединную часть туловища… Они медленно, словно крадучись, приближались, непонятно жестикулируя и издавая ещё менее понятные восклицания…
Андрей застыл, как вкопанный; рука потянулась к кобуре сама. Выхватив пистолет и поставив на боевой взвод, попятился, опасаясь повернуться спиной и быть пронзенным копьем или стрелой. Правда, в руках у дикарей никакого оружия не было, но в зарослях, возможно, притаились и вооружённые… Может, подумалось ему, эти страхолюдины хитрят: заметили нож и пистолет, поняли, что просто так не взять, и прикинулись смирными?
Не выйдет, не на такого нарвались!
А «страхолюдины», видя что жертва отходит к воде, перестали подкрадываться, сошлись и стали о чем-то совещаться. О чём?.. Удалившись на приличное расстояние (добросить копье сможет разве что чемпион острова) остановился и он, прикидывая, что же предпринять. «Ну и влип в историю, ёк-карный бабай!.. Чего боялся, на то и напоролся: а ну как людоеды?.. Расскажи на хуторе — не поверят, а они, самые настоящие дикари, — вот, перед глазами, — рассуждал он, готовый постоять за себя до конца. — Интересно, случалось ли им иметь дело с белыми? Почему безоружные? Давно ли выслеживают? Почему тянули до захода солнца?» Эти и подобные им вопросы роились в голове; на них не было ответа и поэтому — что делать, как поступить, как вести себя с этими подозрительными типами он совершенно не представлял.
И ладно бы случилось это раньше, посветлу, но ведь уже скоро ночь; и не скоро, а уже темнеет. Ночь тут, видно, наступает быстрее, чем на Кубани — без вечерних сумерек. Только ведь скрылось солнце — и уже хоть глаз выколи… Островитян — как вроде и не было, лишь шорох песка под ногами да тихие голоса говорят за то, что они близко и не стоят на месте.
Держа пистолет наготове, достал из кармана фонарь. Нащупал кнопку, нажал — и тьму прочертил тонкий и плотный, как у прожекторов, луч, сразу высветивший и впрямь приблизившихся хозяев острова. Однако эти хозяева тут же рухнули наземь.
Подождав с минуту, Андрей выключил свет, присел, вслушиваясь, не убегут ли к себе в заросли. Когда снова нажал кнопку, те находились в прежних позах, напоминающих молящихся мусульман. Только мусульмане — в кино видел — опираются на ладони, а эти на локти, спрятав в ладони лица.
«Да они, похоже, боятся меня больше, чем я их! — сообразилон и решил подойти ближе. — Света, что ли, испугались? Пожалуй, так оно и есть: для дикарей это — чудо невиданное. А меня, небось, приняли за самого господа бога. Они верняк видели, как мы падали с неба. Если так, то мне бояться не след».
Придя к такому выводу, Андрей приблизился вплотную и, светя фонариком, стал разглядывать каждого из поверженных, страхом или почтением — пока неизвестно; пистолет, на всякий случай, держал наготове. У всех ушные раковины и мочки в нескольких местах продырявлены. Для ношения украшений, догадался он: об этом читал как-то у Майн Рида. Волосы короткие, как у каракульских ягнят, чёрные и курчавые. Спины и ноги то ли в шрамах, то ли это следы от царапин. Подошвы ног светлые, шершавы и мозолисты, как коленки у верблюдов, которых пришлось увидеть перед оккупацией, когда их прогоняли мимо хутора.
— И долго вы собираетесь вот так задницами светить? — заговорил он к ним; никакой реакции в ответ. Похлопал по плечу самого рослого и здорового:
— И тебе не стыдно — такой амбал и испугался света от фонарика! Вставай, не чуди. Я умираю от жажды, покажете, где тут у вас можно напиться. Да подними ж ты голову, ёкарный бабай! — совсем расхрабрился Андрей и принялся вовсю тормошить туземца, пытаясь таким образом поднять его с локтей.
Наконец это ему удалось: сперва один, а за ним и остальные пятеро, разогнувшись, встали на колени, а освободившиеся руки скрестили на груди. Стараясь не слепить им глаза, рассмотрел лица: безусые и безбородые, толстогубые, с приплюснутыми носами, ноздри тоже продырявлены. Судя по отсутствию морщин, молодые, не старше двадцати лет.
— Руки можете опустить, — разрешил он, но поскольку слов его не понимали, разрешение подкрепил действием: взял за запястья и развёл «по швам». — А теперь поднимайтесь с колен, — сделал знак рукой вверх. — Вот так. Надо возвращаться домой, уже поздно. Где-то ж есть у вас эта, как её… яранга, юрта, вигвам или как это у вас называется. Ну и турки ж вы, чес— слово! — посетовал, что туземцы не могут взять в толк, чего он от них добивается. — Ну и стойте тут, а я пошёл один!..
И он зашагал к зарослям, отбросив всякие страхи. Не доходя, оглянулся: «турки», видимо, пришли в себя от потрясения, осмелели и решили следовать за ним, словно за новоявленным вождём.
— Вот так бы и сразу! — похвалил, когда приблизились; подошёл и каждому пожал руку в знак одобрения. — А теперь идите впереди, а я постараюсь не отставать. — И он взмахом руки указал на заросли.
Из-за океана выползала огромная бледная луна. Сразу же заметно посветлело, но в зарослях ещё царил густой сумрак. Туземцы разбрелись, словно что-то ища. Он посветил фонариком, это вызвало возглас одобрения и все шестеро уверенно направились в одно место. Тут были сложены их доспехи: три пики и столько же дубин, напоминающих его хуторской киёк, но поувесистей. Такое снаряжение, подумал он, годится разве что для охоты на мелких животных.
Ещё его внимание привлекла сплетённая из коры или волокна небольшая торба. «Никак жратва?» — предположил Андрей, и его организм — уж неизвестно, каким образом — нашёл возможность выделить немного слюны во рту. То, чем он подкрепился в самолёте, осталось на берегу, желудок был пуст, и покушать, даже если в торбе поджаренная змея, он бы не отказался… Хотя жажда мучила гораздо сильнее голода.
Пока хозяева разбирали каждый своё оружие, он сунул руку внутрь торбы. Нащупал что-то твёрдое и круглое, величиной с дыню. Вытаскивать не стал: всё-таки чужое да и неизвестно, съедобно ли. Один из аборигенов — Андрей с самого начала принял его за старшого и не ошибся — словно угадав его мысли, извлек плод — тёмный и не похожий на дыню. Предложив садиться, выудил некое подобие ножа, изготовленного из расколотого вдоль маслака и нанёс несколько колющих ударов по кожуре, пытаясь продырявить. Твёрдая корка не поддавалась, и Андрей вынул из ножен кортик; взял плод из рук старшого и легко продолбил небольшое отверстие. Туземцы удивлённо и вместе с тем одобрительно загалдели. Его действия и сам предмет вызвали острый интерес. Дал им посмотреть кортик, вызвавший ещё большее изумление: они вертели его, разглядывали в свете фонарика, пробовали пальцем остриё, цокали языками, что-то восклицали, переговариваясь.
Содержимое плода — после он узнал, что это был молодой кокос — оказалось приятной на вкус и даже прохладной жидкостью: её хватило, чтобы немного утолить мучившую его жажду. Другой плод, извлечённый из благословенной торбы, напоминал дыню: жёлтого цвета кожура, мякоть поплотней, по вкусу от кубанской «рэпанки» почти не отличалась. Осилив чуть больше половины, Андрей почувствовал себя сытым и отдал остальное чернокожим благодетелям. Те достали ещё одну, тоже около двух килограммов весом, и, орудуя его ножом, принялись ужинать. К этому времени луна поднялась выше, стало так светло, что отпала нужда в фонаре. Выключив его, он лег и не заметил, как заснул.
Когда проснулся и глянул на часы, был первый час ночи. Спутников рядом не оказалось. Хватился ножа и фонарика — лежат поблизости. Посветил — и те объявились: вооружённые копьями и дубинами, они всего лишь оберегали его сон… Когда подошли и присели рядом, Андрей внимательней присмотрелся к копьям: обычные двухметровые шесты, с одного конца «заточенные» обжиганием на огне. Значит, огонь добывать умеют — не совсем дикари. Вот только заточка давняя — поленились, что ли, подновить? — подумал он. — Кого ж можно проткнуть такой палкой? Ну и ну! Попросил копье у старшого, показывая на наконечник, упрекающе покачал головой.
— Что ж ты такой нерадивый? У тебя копье тупее сибирского валенка! У нас в колхозе тычки виноградные острее. А почему не догадались сделать наконечники хотя бы костяные?
Орудуя кортиком, зачинил ему острие:
— Возьми, — вернул хозяину. — Теперь нападай хоть на кабана, хоть тигра — не страшно. Давай и тебе забацаю, — предложил услугу еще одному копьеносцу; но тот пожелал сделать это самостоятельно. — Пожалста, только не поранься, лезвие как бритва, — передал нож ему.
Третий тоже очинил наконечник лично.
Пока он довольно ловко управлялся с новым для себя колюще-режущим предметом, названным ими «Кука Баку» — что, как оказалось, означает «длинный клык» — решил попытаться узнать их имена. Он уже заметил, что старшого окликали словом «танба»; верняк — имя. Ткнув его пальцем в грудь, Андрей сказал:
— Танба? А я — Андра (видоизменил своё имя, посчитав, что так им будет удобнее его произносить, как немцам проще было выговорить «андрэ'')Ты — Танба, я — Андра.
Тот понял, что от него хотят, закивал головой и повторил, указывая то на себя, то на него: Танба — Андра, Танба — Андра. Таким же образом перезнакомился и с остальными. Их имена нам не понадобятся, а с Танбой и 3амбой, что в переводе с туземного означало «неустрашимый» и «смелый», мы будем общаться ещё не раз.
После знакомства стал жестами объяснять, что пора возвращаться восвояси. Это понято было правильно, и, выстроившись в цепочку — при этом его поставили в середину — все отправились в путь.
Шли почему-то окраиной леса, обходя большие кусты и густые, труднопроходимые заросли по кем-то проторённым тропинкам, а то и продираясь сквозь буйные папоротники. Туземцы ступали бесшумно, вели себя тихо, чутко вслушиваясь в ночные звуки. «Боятся, что ли? Тогда почему бы не идти по песчаной косе, всё равно ведь движемся вдоль берега», — недоумевал Андрей.
Причина осмотрительности выяснилась немного позже, когда неожиданно набрели на каких-то шустрых зверьков, с шорохом и визгом пустившихся наутёк в сторону леса. Два передних копьеносца и столько же замыкавших цепочку киёшников тут же кинулись вдогонку. Однако через минуту их охотничьи выкрики сменились вдруг воплем тревоги, если не ужаса. Двое оставшихся при Андрее охотников, встревоженные, заслонили его собой, взяв наизготовку копье и киёк. Растолкав их, он выхватил пистолет из-за пояса и, включив фонарь, кинулся на выручку явно попавшим в беду беззащитным охотникам. И успел вовремя: некое животное из породы хищников, величиной с гигантского тигра, уже изготовилось к прыжку, и только яркий свет, ослепив, помешал ему наброситься на жертву. Выстрелив почти в упор, Андрей всадил две пули в оскаленную пасть какого-то зверя, названного им впоследствии «тигровой пантерой» (что это был за вид, он так и не узнал, поскольку не встретил подобного ни в спецлитературе, ни в художественной).
Следует сказать, что хотя он и был вооружен по-цивилизованному, внушительный вид хищника нагнал страху и ему, когда тот, хрипя, вздыбился было на задние лапы; но это был предсмертный хрип, и убедившись, что зверюга корчится в судорогах, поставил пистолет на предохранитель. Оглянулся на охотников и удивился, не увидев ни одного. Удрали? Подошёл ближе — ёкарный бабай! — опять лежат ничком, обхватив головы руками… Если в первый раз из-за невиданного, то теперь, похоже, из-за неслыханного чуда — ни с того, ни с сего вдруг грянул гром и сверкнула молния, словно духи дождя сошли с неба на землю!..
Опять несколько минут ушло на то, чтобы вывести их из шокового состояния, поднять на ноги. А придя в себя и осмелев, они некоторое время настороженно и с недоумением ходили около поверженного страшилища, тыкали пикой издали, опасаясь, не оживёт ли оно снова. И только после того, как Андрей посидел на звере верхом, заходились возбужденно прыгать вокруг, что-то выкрикивая и стуча копьем о копье, кийком о киёк. Словно именно этим примитивным дубьём ухайдакали такого матёрого хищника — хозяина джунглей.
Теперь стало понятно, почему решено было возвращаться не берегом. Не хотелось появляться дома без добычи, ради которой, видимо, и оказались в этих местах. Тем более, что пики стали острыми, как Кука Баку. Хотя и вряд ли ждали встречи со столь опасной добычей.
Закончив с изъявлением благодарности духам — покровителям охотников, туземцы ухватили зверя за лапы и за хвост и поволокли вон из зарослей. Затем оставили двух киёшников сторожить добычу и отправились, надо полагать, за подмогой — туша весила не менее центнера.
Метров с двадцати четвёрка охотников вернулась и Танба заходился что-то объяснять Андрею, как бы приглашая с собой и его; при этом несколько раз показал на луну, затем на электрический фонарик.
— Вам нужен мой свет? — догадался он, — Это можно. Смотри, как он работает: нажимаешь на кнопку — светит, отпускаешь — погас. Усёк? На-ка, попробуй сам.
Нажимать и отпускать Танба научился, и они ушли, очень довольные.
Оставшись с киёшниками, хотел с ними пообщаться, но с помощью одних жестов ничего из этого не вышло. Подумал: надо завтра же начать заучивать туземные слова! В этом сильно помогли бы карандаш и бумага. Облегчили бы и ускорили усвоение этой дикарской тарабарщины, без понимания которой далеко не уедешь…
Прошёл к воде. Волнение улеглось, океан сонно полизывал песчаный берег, мирно серебрился, облитый лунным молоком. Скажи, горькосолёная громадина, не проглотил ли ты и остальных моих товарищей? Не даёт ответа… Вернулся обратно, насобирал охапку сухих листьев, намостил под голову и лег навзничь на всё ещё теплый песок. Туземцы негромко переговаривались, а он смотрел в небо, усыпанное крупными звёздами, размышляя о превратностях судьбы, о новом её сюрпризе, пока не уснул.
Разбудил его оживившийся говорок тихо бдевших до этого ночных компаньонов. Сел, осмотрелся — океан сверкал в лучах восходящего солнца. По мокрому после отлива песку к ним приближалась толпа туземцев, человек около десяти. Первыми подошли Танба с фонариком, Замба и с ним девчонка лет тринадцати. О принадлежности её к прекрасной половине островитян свидетельствовали по-своему симпатичная мордашка, немного более светлая, чем у мужчин; своеобразно заплетённые в некое подобие косичек чёрные, тоже короткие, волосы; небольшие груди-луковицы и более искусно сработанная набедренная повязка.
Следовавшие несколько сзади сородичи, тоже из молодых, с нескрываемым интересом разглядывали бледнокожего «Посланца Неба». Именно так окрестили его пришедшие за подмогой сын вождя Танба и его спутники. Как оказалось потом, они видели, что какие-то люди, отделившись от «Рычащей Птицы», опустились на Большую Воду. Пришедшие за добытым зверем знали также, что он лишён жизни «Громом и Молнией» и что кроме них у Посланца Неба имеется диковинный «длинный клык» Кука Баку.
Всё это Андрею стало известно значительно позже, а сейчас он с интересом вглядывался в лица дикарей: зрелище при солнечном освещении более чем впечатляющее! Само собой напрашивалось убеждение: эти люди в силу каких-то непонятных обстоятельств до сих пор пребывают в первобытном состоянии. Для них ещё не кончился каменный век, они почему-то никем из мореплавателей не открыты, и он — первый бледнокожий, — которого случай забросил в их среду столь необычным образом. Эти дикари, похоже, не встречались с работорговцами и прочими любителями наживаться за счёт рабского труда. В отличие от американских индейцев, африканских негров, о которых он читал в книжках, эти — не воинственны, миролюбивы и на удивление доверчивы.
Чтобы показать и своё миролюбие, Андрей подходил к каждому из прибывших с приветливой улыбкой, пожимал руку, прикладывал ладонь к груди и представлялся: «Андра». Когда кто-то мешкал, не уразумев, что к чему, сопровождавший его Танба что-то объяснял, и тот называл своё имя.
Дошла очередь и до знакомства с девчонкой. В ответ на протянутую им руку, та шустро спряталась за Замбу, который что-то ласково стал говорить ей на ушко; выслушав его, она уже смелей подала ладошку и назвала себя: «Ама Сю».
Тем временем прибывшие окружили редкую добычу. Осматривая, пару раз перевернули с одного боку на другой — искали, видимо, отчего же умер такой сильный зверь.
Между тем солнце поднялось над океаном на добрую сажень, начало припекать и надо было возвращаться домой. Как и ночью, четверо парней ухватились за лапы и поволкли тушу вдоль зарослей. Видя, что такой способ доставки крайне непрактичен, Андрей остановил их, сделал надрезы в области сухожилий и отрезком шнура, прихваченного для связывания сушняка, привязал лапы к копьям. Получилось подобие носилок, и тушу подняли на плечи.
По его прикидке, в звере было не более ста килограммов, то есть на каждого носильщика приходилось менее тридцати — вес, вполне посильный для мужчин. Тем не менее, менялись они едва ли не через каждые сто метров. «То ли эти островитяне очень уж уважительны друг к другу, то ли для них в новинку предложенный мною способ переноски тяжестей и каждому охота попробовать его на себе? — недоумевал Андрей. — Неужели за столько тысячелетий не могли сами додуматься до такого пустяка? Наверно, и лука ещё не научились делать. Конешно, костяным ножом не смастеришь, но хотя бы простенький, как мы в детстве. Птиц и мелкого зверья тут верняк навалом — чем не мясо для детворы?»
Нести вдоль берега пришлось недолго: скоро свернули в заросли, а затем и углубились в лес. В настоящий, дикий и нетронутый, самый что ни на есть тропический, о каком знал он лишь из учебников да книг. Никакого сравнения с тем, что видел в горах Кавказа! В несколько обхватов деревья вознеслись верхушками высоко в поднебесье, сплелись там так густо, что солнечный свет почти не проникает вниз, и тут царит сумрак, влажный и душный. Замшелые стволы обвиты лианами, словно толстыми канатами. Некоторые из них, достигнув верха, развернулись макушками вниз и свисают, украшенные крупными цветками. На них иногда раскачиваются, спускаясь почти донизу, любопытные обезьянки с кошку, а то и с собаку величиной — длиннохвостые, длиннорукие, с человекообразными мордами. У иных под брюхом или на спине дитёныши, держатся за шерсть так цепко, что мамаши смело сигают с лианы на ветку или наоборот. Щёлканье, стрекот, пересвистывание яркоокрашенных птиц, тоже мелких и покрупнее, слились в невообразимую какофонию звуков, помощнее той, что доводилось слышать в весенних кубанских плавнях. «Вот она, первозданная, первобытная красотища дикой природы», — с восхищением думал Андрей. Он шёл, окруженный своими первооткрывателями, впереди процессии, растянувшейся вдоль торной, но узкой и извилистой тропы, и во все глаза, с ненасытным детским любопытством разглядывал эту диковинную, как в сказке, природу.
Но вот лес стал редеть, тропа пошла прямее и в гору, пока не вывела на солнцепёк. Тут в полную мощь показал себя тропический зной — без малейшего ветерка, неподвижный и плотный, какой на Кубани бывает только перед летней грозой, и это — несмотря на утренний час. Андрей почувствовал, как по спине побежали ручейки пота. «По такой жарище, — сетовал он про себя, — даже если б у дикарей и было во что одеваться, они предпочли бы ходить нагишом»…
На возвышенной местности, куда они вышли, кроме высокой и густой травы, буйно заполонившей всё вокруг, в обилии росли усыпанные цветом, ягодами, фруктами разных размеров и вида многочисленные кусты и деревья. Выше других поднимались пальмы, увенчанные шатрами из широченных листьев, ниже которых можно было видеть крупные плоды-орехи. С других свисали батареи огурцеподобных бананов; попадались деревья с плодами, похожими на те дыни, что насытили его в начале прошедшей ночи.
На подходе к селению с шалашеподобными строениями их поджидала немногочисленная толпа из туземцев помоложе. Худощавые, неказистые, нагишом, они казались Андрею все на одно лицо. Одни разглядывали его издали и боязливо, другие находились поближе. Таким он, улыбаясь, подмигивал и даже показывал язык, на что некоторые отвечали тем же.
Встречать добычу и диковинного гостя вышли не все взрослые: в тени одной из пальм, росших на околице, их поджидал туземец весьма пожилого возраста в соседстве с несколькими крепкими парнями — слугами или телохранителями. О возрасте свидетельствовала проседь в висках и бородке, особенно заметная на темнокожем лице. Нанесённые белой краской линии на лбу и щеках, диадема из разноцветных перьев, украшавшая голову, говорили о его знатности либо старшинстве. Воткнутые в ушные раковины и ноздри занозы подтверждали догадку, что перед Андреем вождь племени.
Поровнявшись с ним, шествие остановилось. Вождь подошёл, скрестил на груди руки и произнёс какую-то фразу, надо полагать — приветствие. Ответив таким же жестом и кивком головы, Андрей сказал:
— Я, конешно, ни бельмеса не понял, но вижу ваше дружелюбие. Как говорят немцы, данке щён.
Тем временем подошла ещё одна знатная особа — толстяк неопределённого возраста. И тоже в сопровождении двух дюжих молодцов. У этого украшения иного рода: десятка два, если не больше, побрякушек из черепов птиц, челюстей каких-то мелких животных, ожерелья из зубов и раковин — всё это навешено на шею, нанизано на предплечья и запястья рук, на щиколотки ног. В нём Андрей предположил шамана, прародителя попов, о которых ему успели внушить в школе, что все они дармоеды, паразитирующие на тёмном, малограмотном народе, и обслуживающие эксплуататоров. Впрочем, дружбы между ним и вождём племени что-то не заметно. Иначе встречали бы вместе. Кроме этого наблюдения, Андрею показалось также, что шаман и к нему относится без всякого почтения, если не сказать больше. Уж не заподозрил ли в нём соперника?
Посверлив колючими, заплывшими жиром глазками, возможного конкурента, шаман удалился, и шествие продолжилось.
Первое, что удивило в селении, — это его невзрачность, низкое качество жилых шалашей, сооруженных из бамбуковых жердей, с крышами из пальмовых листьев, а также их количество. По прикидке, семейных мужчин здесь было не менее двадцати человек, а значит, столько же должно бы быть и хижин (строения больше похожи на азиатские юрты, виденные Андреем в кино, но он склонен был называть их хижинами или вигвамами, как в книжках про американских индейцев); но насчитал всего двенадцать. При этом из дверных проёмов, занавешенных циновками, выглянуло всего несколько женщин, причём, ни одна из них не была молода — все похожи, скорее, на старух. Куда и почему попрятались матери мелкой детворы? Что-то тут не так, подумал он, женщин явно не хватает.
Может, именно потому, что мало женских рук, всё здесь выглядит неустроенно и примитивно. Такое впечатление, что селение возникло совсем недавно, и люди не успели как следует обжиться и благоустроиться.
При каждом жилом вигваме, обязательной принадлежностью которого была высокая пальма, торчащая из конической крыши, имеются шалаши поменьше размером, надо полагать — подсобки: в них видны хворост, сухие листья и трава, какие-то плоды и орехи. Небольшие лысые площадки со следами пепла давали повод предположить, что хворост и листья — топливо для костра, но огнем здесь, похоже, пользуются не часто.
Более благоустроенно выглядят лишь вигвамы вождя и шамана, сооруженные на приличном расстоянии один от другого и отдельно от расположенного полукругом основного селения. Они добротней сработаны, побольше размерами, с перегородками внутри. Рядом — аккуратные вигвамчики поменьше, жилые и подсобные.
В один из таких вигвамчиков, предназначенннх для жилья, и привёл Андрея Танба, оказавшийся, как уже упоминалось, сыном вождя. Жестами дал понять: располагайся, мол, и чувствуй себя здесь, как у себя дома. Сам тут же ушёл, а квартирант принялся осматривать это первобытное жилище эпохи каменного века. Круглое, наподобие юрты. Стены из сухих бамбучин толщиной в руку, врыты в землю и переплетены лианами. Поверх потолочных жердин — плотный слой аккуратно уложенных и скреплённых перевязью листьев каких-то пальм. Имеется и «мебель»: двое низких, но достаточно широких топчанов, застеленных травяными матами и циновками потоньше, сплетенными из растительного материала и украшенных неким подобием узора. Пол притрушен издающей приятный запах травой. На одной из «кроватей» лежит венок из ярких, но привядших цветов. На стенке висит набедренная повязка из волокон или коры какого-то дерева. Точно такую видел он на Ама Сю — Светлой Луне, как узнал он позже. Она, судя по всему, сестрёнка Танбы и в то же время — невеста его телохранителя Замбы: они все время держатся вместе. «Так это ж её светлица! — догадался гость. — Уж не хочут ли они подселить меня к ней? Только этого мне не хватало… «Но пока что он рад был холодку и возможности сбросить взмокшую от пота, и без того насквозь просоленную, одежду. Сняв, повесил на перекладину у потолка. Вынутое из карманов мелкое имущество — скаладник, часы, зажигалку, фонарик, пистолет и кортик — сунул под циновку и прилёг отдохнуть. Снова стала сказываться усталость, проголодался, захотелось спать. «Имеется ли тут поблизости пресная вода? — стал размышлять, заложив руки за голову и глядя в веероподобный потолок. — Прополоснуть бы одежду от морской соли, скупнуться самому… Наверно, всё-таки есть, не ходят же они всё время неумывакой. Речушка, которую видел из самолёта, вытекала из озера и петляла в южном направлении, — значит, должна быть поблизости. Сёдни потерплю, а завтра надо будет поспрошать. Хотя как у них спросишь? Нужно сперва заучить хоть сотню-другую ихних слов. Ничего, ежли по-немецки, без особого желания, за две недели научился понимать и кое-как объясняться, то справлюсь и с их тарабарщиной!»
Размышления прервались появлением хозяев. Увидев квартиранта раздетым до трусов, те в очередной раз пришли в изумление. Теперь из-за белизны его кожи, хотя и был он изрядно загоревшим. Но в этот раз остолбенение было кратковременным: стали уже привыкать к бесконечным сюрпризам. Первым пришёл в себя Танба и положил на его топчан пару молодых кокосов, затем Ама Сю — гроздь бананов, а Замба — два спелых плода папайи, знакомой уже ему древесной дыни. Заметив рукоятку кортика, попросил Кука Баку и заходился нарезать дыню на скибы.
Тем временем Андрей с помощью швайки проткнул два отверстия в кокосе, сверху и снизу, и первым делом утолил жажду. Пока он смаковал ароматное содержимое, его складник пошёл по рукам, вызвав очередное оживление, любопытство и восхищение. Пришлось ознакомить их и с этой разновидностью «клыков», объяснить назначение и дополнительных пред— петов. Миниатюрными ножничками состриг ногти на руке Светлой Луны, до этого разве что обкусываемые изредка зубами. Поняв, что к чему, она пожелала сделать то же самое и на левой руке, но — сама. А управившись, решила заодно навести маникюр и на ногах. Тут ногти не укорачивались вообще. При этом уселась на топчане напротив, что совершенно не понравилось Андрею. «Надо завтра же забрать парашют с запасными трусами и потребовать, чтобы надевала хоть она» — подумал он. Чтобы отвлечь парней от деликатного, на его взгляд, зрелища, предложил их вниманию ещё одну невидаль — часы немецкого пилота: дал послушать работу маятника, обратил внимание на шустро бегающую по циферблату секундную стрелку. Новая диковина произвела ошеломляющее впечатление! Как же: нет ни рта, ни хвоста, непонятно, чем и как питается, а поди ж ты — живое… Ама Сю, оставив педикюр, тоже изумлённо вертела, разглядывала со всех сторон, прикладывала к уху, нюхала и даже пробовала на зуб удивительную штуковину. Но особенно её восхитил сделанный в виде ажурной цепочки, блестящий позолотой, браслет. Андрею он был велик, укорочению не подлежал, и он, отсоединив от часов, связав его через проушины ниткой, приладил туземной моднице на предплечье руки. В порыве благодарности чернокожая красавица потёрлась щекой о его щеку — вместо поцелуя, до которых эти дикари ещё, видимо, не додумались. После чего продолжила, отказавшись от завтрака, заниматься ногтями, загнутыми книзу и больше похожими на когти.
Вегетарианская пища островитян, вкусная и сытная, и на этот раз быстро утолила голод, восстановила силы. После завтрака Танба знаками и жестами стал приглашать Андрея пройти с ним на территорию, где уже собрались люди. Как можно было догадаться, чтобы отведать мяса принесённой добычи. При этом показывал на кортик и складник — их, дескать, надо прихватить тоже.
— Кука Баку? Пожалста, — сказал он. — Но лично я бы охотнее пару часиков соснул. Не понимаешь? Ну, ладно, сходим… Только я эту собачатину исть не стану, говорю заранее!
И Андрей стал натягивать штаны и рубашку, чтобы не шокировать чернокожее общество. Да и опасно находиться раздетому на таком солнцепёке.
В надежде на угощение и просто поглазеть собралось всё население, кроме женщин с малышами. Детвора постарше устроились с родителями, точнее — папами, в холодке банановых деревьев, столь же широколиственных, как и пальмы кокосовые, но пониже и росших купами по нескольку штук и потому более тенистых. Все ждали, когда освежуют тушу и приступят к дележу деликатесной еды, перепадавшей, видимо, нечасто.
Шкуру отделяли, орудуя костяным и бамбуковым ножами, двое сноровистых малых, третий отгонял крупных изумрудных мух-падальщиц. С позволения Андрея Танба предложил им Кука Баку. О чудо-клыке те уже были наслышаны и воспользовались им охотно; дело пошло намного быстрей. Складник дать не захотел: понабьётся дряни, а чем отмоешь?
Зверь оказался упитанным, мускулистым. Вспоров ему брюхо, мясники вывалили требуху и положили поблизости. Её тотчас облепили мухи, почти перестав мешать разделывать остальное. Клыкастую голову, огромную, как у кабана, отпугиватель мух отнёс и положил на приготовленную для костра кучу сухой травы. Видимо, в качестве пожертвования духам (Андрей позже узнал, что в представлении этих дикарей всё, что их окружало, имело своего бога, или духа). Сердце, лёгкие и прочие внутренние органы вождь, видимо, по традиции, передал представителю шамана, который сразу же отнёс всё это в его вигвам. После чего жрец появился снаружи при всех своих регалиях — побрякушках-причиндалах — и заходился скакать на полусогнутых ногах вокруг своего жилища, стуча колотушкой по пустотелой колоде, обтянутой с одной стороны кожей.
Заинтересовавшись этим чудачеством, Андрей захотел подойти поближе и узнать, зачем он это делает, — уж не концерт ли закатил в знак благодарности за щедрое подношение? Предложил Танбе составить компанию, но тот завертел головой, замахал руками и отказался наотрез.
— Не хочешь — не надо. А мне интересно. — И он отправился один.
При его приближении шаман перестал дурачиться и, не скрывая недовольства, нырнул внутрь жилища. У входа возникли двое молодцов, уже попадавшихся на глаза ранее. По всей вероятности, им дано было указание задержать непрошенного гостя, однако сделать этого они не посмели стояли, как заворожённые. Дружески кивнув им, прошёл внутрь вигвама.
Душное помещение разделено на три отсека. Из левого, высунувшись наполовину из— за циновки-гардины, на него с любопытством взирала полногрудая молодуха не старше восемнадцати лет, скрывшаяся после его приветственного кивка. Средний оказался задраенным массивным матом, а в правом встретился со взглядами хозяина и мужика с жидкой бороденкой, но без усов. Последний стоял на коленях перед неким сооружением напоминающим букву «П».
— Ба, да тут идёт добывание огня! — догадался Андрей.
В пол вделаны два чурака, к которым сверху прилажен горизонтально третий, с канавкой посередине. Канавка заполнена волокном вроде конопляной пакли. Сидящий на пятках туземец ёрзал по ней взад-вперёд куском дерева, пытаясь за счёт трения заставить паклю возгореться.
С появлением нежелательного посетителя шаман, сняв с себя причиндалы, покинул помещение, а оставшийся, перестав трудиться, со страхом и любопытством разглядывал вошедшего. Андрей пощупал канавку — она была горячей, от неё исходил запах гари и в одном месте чернела обугленная выемка. «Похоже, недавно тлела, — подумал он. — Но либо потухла, либо была потушена умышленно. Не для того ли, чтобы свалить вину на меня? Мол, ходют тут усякие, гневают духов, а те не посылают огня… Чем не случай если не вызвать возмущение, то хотя бы урвать ещё мяса под видом задобрить духа огня? Он ведь тот же поп, а эти на выдумки горазды: то у них вдруг икона слезу пускает, то обновится всего за одну ночь…
Вышел из вигвама — точно: шаман что-то объясняет публике, а тем временем один из его подручных с изрядным куском мякоти отошёл от туши, почти полностью уже разделанной на мелкие порции.
— Вот, пожалста: ещё оттяпал! Но я эту твою хитрую лавочку поломаю! — вслух проворчал Андрей, возвращаясь.
У него сложилось подозрение, что этот толстомясый тип заимел неограниченную власть благодаря огню. Он или держит в секрете этот примитивный способ, или внушил своей необразованной пастве, что духи сделали его своим наместником на острове, и поэтому, мол, никто, кроме него, не имеет права владеть и распоряжаться этим даром небесным… Может, потому и копья у ребят были тупыми, что этот чёрт редко балует людей огнем, с помощью которого охотники до сих пор затачивали наконечники?
Рассуждая таким образом, обратил внимание, что почти у каждого вигвама хозяйки приготовили копешки из травы и хвороста. Осталось поджечь — и костёр для обжаривания лакомства готов.
В это время вождь племени уже вручал по одной-две порции мяса подходившим к нему с ребятнёй отцам семейств. Те передавали кто дочери, кто сыну, которые тут же мчались к матерям-бабушкам. А сами оставались дожидаться, когда зажгут главный костёр, чтобы взять огоньку для собственного.
Не дожидаясь, пока местный огнедобытчик соизволит поджечь, Андрей подвёл Танбу к главному костру, чтобы спросить, не пора ли разводить огонь. Не совсем поняв, что от него хотят, сын вождя показал в сторону вигвама, вокруг которого шаман возобновил свой неуклюжий-танец.
— Ха, опять он дурью мается! — усмехнулся презрительно. — Специально, чтоб думали, будто у духов выпрашивает…
Присев, чиркнул зажигалкой, и сухая, как порох, трава тут же взялась пламенем. По толпе прокатился возглас удивления, перешедшего затем в крики радости, особенно среди детворы. Шаман, заметив пылающий костёр, перестал прыгать, постоял в недоумении и скрылся в вигваме. А мужики, уже получившие свои порции, стали подходить с пучками пакли из волокон спелых кокосовых орехов, поджигали и спешили каждый к своему очагу. Андрей хотел было пройти и зажечь всем костры с помощью зажигалки, но передумал: надо бензин экономить, неизвестно, сколько его там осталось.
Вождь предложил кусок мяса и ему. Чтобы не обижать, Андрей принял «лакомство», нанизал на бамбуковую тросточку — эти «шампура» заготовлены были ранее, некоторыми уже пользовались — повертел в пламени костра, понюхал, но пробовать не стал. Отдал следившей за его действиями девочке лет десяти, дочери отгоняльщика мух. Глотавшая до этого слюнки, она с жадностью набросилась на угощениение.
Ближе к полудню жара стала невыносимой, особой надобности в его присутствии не было, и Андрей не стал больше подвергать себя набравшей силу солнечной радиации. Показав Танбе на мокрую от струящегося пота рубашку, ушёл к себе. Допил сок из початого кокоса, разделся и лег на топчан, где его тут же и сморил сон.
Проснувшись, глянул на часы: начало второго. На соседнем топчане почивали Замба с Ама Сю. Не желая их тревожить — может, только что уснули — занялся размышлениями. Сколько неприятностей выпало на их с Мартой долю за эти неполные четыре месяца! Сколько раз уже попадали они в положения, казавшиеся безвыходными! Книгу можно написать… Но судьба пока что была к ним милостива. Обойдётся ли и на этот раз? Сведёт ли она их вместе? Это ж надо, куда занесла — к чёрту на кулички! Так далеко, что дальше уже некуда…
Как там дома, как мама с её больным сердцем? Удастся ли вернуться из этого проклятого далека, придется ли увидеться с нею, с друзьями на хуторе или… Впрочем, никаких «или»! Островитяне хоть и не людоеды и даже добрые по натуре, но всё-таки дикари из каменного века. Как ни плохо в том, нашем, тоже ещё неустроенном мире, а менять его на островную жизнь нет ни малейшего желания. Тем более, если остался один.
Но думать не хочется, что в живых остался только он: Кимбор мужик бывалый, с ним не могло случиться непоправимое! Они живы, н мы — рано или поздно — встретимся. Потом дождемся проходящего поблизости корабля без свастики на флаге, доберёмся, пусть и не скоро, к своим, на Родину, на родную Кубань, к родителям и друзьям. А пока придется потерпеть, сжиться с местными порядками… Привыкну и не стану ничему удивляться. Помогу этим отставшим в своём развитаии перешагнуть хотя бы на пару столетий.
Перво-наперво надо приучить взрослых ходить в трусах. Материи — целый парашют, хватит прикрыть срамоту всем. Потом научить плести из каких-нибудь волокон, а то эта бахрома прикрывает только когда человек стоит на ногах. Потом научить их делать луки и стрелы, посуду, разводить домашнюю живность, хотя бы уток и гусей, их приручить нетрудно. Но это — туда дальше.
А за парашютом отправлюсь завтра с утра. Заодно пройдусь ещё раз вдоль берега: может, хоть что-то прояснится. Правда, и сегодня ещё не поздно, только два часа дня, — подумал Андрей, глянув на циферблат. Но надо бы сходить на разведку — ознакомиться с округой, поискать речку, смыть морскую соль.
Собирался уже разбудить беззаботно посапывающих соседей, как сюда зашёл Танба, сел на их топчан, и они проснулись. Андрей оделся, нацепил на ремень кобуру с пистолетом, сунул в карман складник и зажигалку. Присутствующие догадались, что предстоит куда— то отправиться. В знак готовности его сопровождать они вооружились копьями.
Чтобы узнать, как называется у них копье, испробовал такой способ: указывая пальцем на себя, а затем на каждого из них, произнёс:
— Андра, Танба, Замба, Ама Сю. — Затем дотронулся до кортика и сказал:
— Кука Баку. — После чего взял в руки копье.
— Тобука, тобука! — почти в один голос воскликнули те.
После этого дело пошло, как по маслу: стоило ему показать на какой-нибудь предмет, как тут же сообщалось его туземное название. Повторив его несколько раз вслух, Андрей запоминал прочно и надолго.
После обеда задул свежий северозападный ветерок, по небу заклубились крупные, но явно не дождевые облака, то и дело заслонявшие солнце. Стало не так жарко, как было в обед. Такой случай упускать не следовало. Растолковал Танбе, что можно прихватить пару человек ещё, и Замба привёл двух киёшников. Ама Сю тоже изъявила желание присоединиться к компании, но брат, похоже, не соглашался, что видно было по её обиженному лицу. Пришлось за неё заступиться, а увидев, как благодарно она ему улыбнулась, Андрей решил сделать и того больше: отлучившись в подсобку, снял с себя трусы и предложил ей. Светлая Луна охотно согласилась дополнить ими свой традиционный наряд, и в ознакомительную прогулку они отправились вшестером.
Идя рядом с нею и Танбой, интересовался всем, что попадалось вдоль нахоженной, не успевающей зарасти, тропы: названиями деревьев и кустарников, цветов, ягод, птиц, травяных козявок. Самые труднопроизносимые слова повторял по нескольку раз, а встретив уже знакомое, называл сам для закрепления в памяти. И всё реже Танба или она крутили головой, поправляли произношение.
Местность, облюбованная племенем для проживания, как уже упоминалось, возвышалась над основной территорией острова и отличалась иной, нежели в джунглях, растительностью. Из деревьев в обилии произрастали одиночные высокие, с шершавыми стволами, пальмы без ветвей. Лишь в самом верху ветер шелестел широкими и длинными, метра в три-четыре, листьями. На одних они были цельными, на других — словно изрезаны ножницами. Часты островки из высоких кустарников, тоже широколиственные и со множеством плодов. По сторонам от тропы трава стояла столь густая и буйная, что не продраться. Видимо, поэтому несмотря на жаркое солнце почва не иссушалась и растительность не скудела в перерывах между ливнями.
Обезьяны тут почему-то не водились, и большая часть обильного урожая всевозможных ягод и фруктов, плодов и орехов пропадала зря. «Есть же на земле райские уголки, где не надо ничего выращивать и выхаживать, всего навалом — ешь не хочу!» — не переставал удивляться Андрей.
Обилие и разнообразие цветов отдаленно напоминало берега кубанских плавней в середине лета, только заросли здесь повыше и погуще, а цветы крупней. Как и Марта в дни, когда они навещали лётчика на островке среди лимана, Ама Сю набрала их целую охапку, полагая, видимо, что скоро повернут назад и она украсит ими свою и отцовскую хижины.
Этого, однако, не случилось. Вскоре вышли на западную окраину плато и тут обнаружилось, что его омывает та самая речушка, что видна была из кабины самолёта. Она, похоже, часто бывает полноводной и широкой, но сейчас ширина едва ли превышала полста метров.
Спустившись с высокого левого берега, Андрей нашёл её неглубокой, со слабым течением. Пожалел, что уступил трусы девчонке: можно бы всласть поплавать и понырять; раздеваться догола постеснялся. Но и смыть с себя соль да просвежить одежду — тоже недурственно!
Выложив из карманов содержимое и разувшись, забрёл в воду. Тёплая, чистая, хотя и не прозрачная — рыжеватого оттенка. Дно твёрдое, песчано-галечное, слегка покатое. Метрах в пяти от берега глубина по пояс. Снял рубашку, поколотил, отжал воду и бросил — её на лету подхватил Танба. Спутники его, вначале почему-то наотрез отказавшиеся, при повторном приглашении с опаской, но вступили в воду — вошли в речку выше колен. Осмелев, заходились брызгаться, при этом Ама Сю озорно и пронзительно визжала — точь-в-точь, как Марта на ерике в тот памятный августовский день…
Купание, пусть и такое ненастоящее, — всех взбодрило. До вечера было ещё далеко, и Андрей решил продолжить путешествие — пройти вниз по течению, предположив, что отсюда недалеко и до океана. Зная уже, как по-туземному называется вода, без труда объяснил Танбе, что намерен дойти до «большой воды». Тот согласно закивал курчавой головой, изъ— являя готовность сопровождать.
Левый берег, в отличие от правого, поросшего дремучими тропическими зарослями, был от растительности свободен, довольно широк, песчан, местами обрывист и высок. Видимо, в ливни речка сильно переполняется, и течение всякий раз подтачивает плотно слежавшиеся гравийно-ракушечные напластования, когда-то, похоже, являвшиеся океанским дном. Верхний же слой обрыва, толщиной до метра и более, представлял собой чернозём лишь немногим светлей кубанского.
У основания обрыва, а то и у самой воды, попадалось множество отполированных голышей вроде тех, какими обсыпано полотно железной дороги или та же гравийка у родного хутора. Андрей подбирал плоские и швырял в речку, считая, сколько раз отскочит от воды и вспугнёт находящихся у поверхности рыб, иногда, судя по всплескам, довольно крупных. «Сюда бы волочок трёх-четырёхметровый! — думал он. — Рыбы тут кишмя кишит, лови — не хочу. Ничего, обживусь — забацаем кубышки из лозы или лиан, уха будет всегда. Вот только в чём сваришь? Да и соли — где ее взять?»…
Вскоре впереди сверкнула океанская зыбь-рябь. Но поскольку ветер дул с северозапада, вода у устья была спокойная. Как в зеркале, отражались в ней причудивые кучевые облака.
Где-то вывороченные с корнем и оказавшиеся на берегу деревья попадались и раньше. Здесь же их, больших и малых, с застрявшими в ветках хворостом и листьями, валялось особенно много. Это обилие топлива навело на мысль раздобыть какой-нибудь дичи, зажарить на костре и наесться мяса. Благо рядом морская вода: можно, макая, с аппетитом пообедать.
Но пернатая дичь, водившаяся в изобилии, держалась правого берега. Зверя же, даже небольшого, за всю дорогу не попадалось ни разу. Стоп, подумал Андрей, а может, удастся добыть крупную рыбину с помощью пики? Попытался узнать у спутников, знаком ли им такой способ. Нарисовал на мокром песке сома, проткнутого копьем.
— Водятся в вашей речке такие рыбы? — спросил у Танбы. — Не приходилось проткнуть тобукой? Не понимаешь? Я тебя тоже не понимаю…
Лишь после некоторых дополнительных уточнений сын вождя вроде бы догадался, о чём речь.
— Ку Аку — большая вода, — показал он рукой на океан.
Так толком ничего и не выяснив, Андрей взял у него острое, с зазубринами, копье и побрёл по воде к месту, где рыжая речная перемешивалась с прозрачной океанской. И вдруг заметил не одну, а целый косячок рыб, похожих на кубанских «краснюков», но гораздо крупней тех, что доводилось видеть у дядьки-браконьера с хутора Прикубанского. Эти «кабаны» были больше метра в длину! Размахнувшись со всего плеча, вонзил «гарпун» в ближайшего. Но не успел приблизиться и схватить, как тот трепыхнулся с такой силой, что едва не сбил с ног, и пошёл выписывать зигзаги, волоча за собой и копье. Гоняясь, услышал тревожные вопли на берегу. Оглянулся — Танба, выхватив копье у Замбы, бросился к нему, словно бы на помощь. Двое киёшников, тоже с отчаянными криками, бежали следом. Андрей невольно выхватил пистолет, снял с предохранителя — и успел вовремя: в метре от себя увидел спинной плавник огромной, не менее двух метров, акулы. Но грозную хищницу интересовал, видимо, не он: с разинутой пастью, снабженной двумя рядами острых конических зубов, она набросилась на обессилевшего «краснюка». В ту же секунду Андрей дважды в упор выстрелил ей в голову. Хищница вскинулась кверху, потом, завалившись на бок, торпедой устремилась в сторону берега и сгоряча выскочила на песок вместе с добычей. Находившиеся поблизости помощники в ужасе задали стрекача, убежав без оглядки за добрую сотню метров.
У Андрея тоже дрожали коленки, но скорей от возбуждения, чем от страха. Он выдернул копье и показал его незадачливым выручателям, приглашая вернуться обратно. А сам подумал: «Вот почему они боялись заходить в воду! Видать, кто-то из ихних побывал в зубах такого страшилища. А может, в речке, к тому же, и крокодилы водятся? Надо выяснить, а то как бы и самому не попасть впростак».
Беглецы, вернувшись, со страхом и любопытством рассматривали океанское чудовище. Оказалось, что на туземном языке оно называется почти как и по-русски: Ку Аку, что, как выяснилось позже, означает «зубастая смерть».
Андрей заходился объяснять, что Ку Аку съедобна, и они отнесут её в селение, а рыбину поменьше надо зажарить здесь и хорошенько подкрепиться. Поняли они или нет, но когда он стал складывать из веток и листьев костёр, тут же принесли топлива вдосталь. «Краснюка» порезали на куски, костёр запылал, и балыки зашкварчали в пламени, нанизанные на прутья. Еда былы жирная и вкусная необыкновенно! Следуя его примеру, остальные тоже стали макать шашлыки в солоноватую океанскую воду, принесённую Андреем в большой улитковидной раковине, и находили их после этого ещё более аппетитными.
Домой возвратились засветло, и отведать акулятины островитяне успели к приходу ночи, которая на этой широте по продолжительности равна дню и считается у аборигенов лучшим временем суток.
В этот раз, наевшись акульего мяса, они долго ещё скакали вокруг костров, что-то выкрикивали и бухали в примитивные барабаны. Отметив таким образом праздник (а может, исполнив охотничий ритуал), мужчины разошлись заниматься хозяйственными делами при ярком свете луны. На этом возвышающемся над болотистыми джунглями плато, в ночное время обдуваемом свежим ветерком с океана, засилья комаров или иных надоедливых кровососов пока не наблюдалось.
Шаман своих людей за угощением почему-то не прислал, и Андрей сам отнёс несколько порций к нему в вигвам. Пожалел не столько его, сколько проживающих с ним под одной крышей. Но застал там лишь молодуху да добывателя огня. Те угощение приняли, однако что-либо узнать об остальных ему, разумеется, не удалось (забегая немного вперёд, следует упомянуть, что шаман с телохранителями так больше и не объявились). Поднаторев в разговоре, Андрей поинтересовался у Танбы, что же случилось. Тот на полном серьёзе пояснил, что «повелитель духов» и его люди обратились в птиц и куда-то улетели. Но у него на сей счёт возникла другая догадка: просто попик понял, что больше не светит дурачить народ и с досады решил пожить где-нибудь отшельником. Тут ведь с голоду и захочешь, так не помрешь…
Так думал он неделю спустя, а сегодня, раньше других покинув торжествующих и лёжа в своём вигваме на топчане, мысленно перебирал в памяти события минувшего дня. В течение которого он так много увидел и услышал, и узнал интересного и полезного. Только во второй его половине, за время путешествия по округе, услышал и запомнил уйму здешних слов. Правда, это были всего лишь названия того, что попадалось на глаза, из них фразы не составишь; но не всё сразу! Был уверен, что уже через неделю-две сможет изъясняться не хуже Отто, у которого было то преимущество, что имел возможность завести словарик. Да и Марта находилась под рукой. «Марта. Марта, — вздохнул он с грустью. — Жива ли ты, где зараз находишься, о чём думаешь в эту минуту? Помог ли талисман ещё раз остаться в живых, всё ли у вас нормально? Надо не откладывая, завтра же, ещё раз пройти вдоль берега как можно дальше. Возможно, команда Кимбора вынуждена была спрыгнуть на деревья, тогда не обойтись без больших неприятностей… Но кто-то останется и в живых, откликнегся на пистолетные выстрелы. В общем, завтра многое выяснится… А сколько тут на моих светящихся? Ого, уже поздно, пора засыпать, а то через пять часов отправляться на поиски!»
Проснувшись поутру, нашёл Замбу спящим рядом с невестой. Волокнистые одёжки были сняты, но с трусами Ама Сю расставаться не стала. «Надо ж, — подумал Андрей, — ещё только жених и невеста, а спят вместе. И поди ж ты, никаких безобразий себе не позволяют. Дикари, а сознательные!» (Позже он узнал, что таков здесь строгий обычай, который непререкаемо выполняется женихом, если тот не хочет потерять возлюбленную, которых всегда не хватало).
Разбудив, послал Замбу за сыном вождя и стал собираться сам. Найдя Андру обутым, при Кука Баку и Бах-бах (так с его подачи стал называться пистолет), Танба догадался, что предстоит очередное путешествие, и стал ждать распоряжений.
— Пойдем на берег океана, — пояснил Андрей. — Большая вода — понимаешь? Да, где водятся Ку Аку. Пойдёте ты, 3амба и ешё двое, — показал на пальцах, назвав имена вчерашних киёшников. Ама Сю? Берём и её.
Сборы были недолгими, и через несколько минут, сбивая росу с притропиночных зарослей, команда держала путь к океану. По пути же запаслись и провиантом: в торбу бросили несколько плодов дынного дерева, а с пальмы Замба сбросил с десяток молодых кокосов. Андрей был немало удивлён обезьяньей ловкостью, с какой тот взобрался по вертикальному стволу вверх без всяких приспособлений и так же легко спустился вниз.
Налегке расстояние от селения до побережья одолели быстро. Уже выходя из джунглевого участка пути, он вдруг подумал, что будет не в его интересах, если туземцы увидят мёртвого пилота, Стаса или Игоря, оставленных отливом на песке. В чём тут дело, спутникам не объяснишь, и они могут подумать всякое. Его авторитет и значимость пошатнутся, а это нежелательно… «Оставлю их возле парашюта в зарослях, а берег обследую один», — решил Андрей.
Вот и оставленная напротив парашюта примета. Но пилота отсюда почему-то не видно. Унесло в океан? Оставив их сторожить находку, сам отправился к урезу. Подойдя к самой воде, заметил в отдалении тёмный предмет на дне. Расстояние и глубина не позволяли определить, что ж это такое, пришлось раздеться и забрести поближе. Рассмотрел — и ужаснулся: на дне был лётчик, но от его рук остались голые кости, от головы — череп. Одежда шевелилась от множества набившихся под неё… раков. Их было много и вокруг, различных видов и размера. Схватив самого большого, присмотрелся: зеленоватый панцирь, шейка пошире двух его пальцев, четыре пары членистых ног. Клешни неболъшие, но усы сантиметров под сорок! «Сколько их тут! — воскликнул, поражённый обилием и разнообразием любителей падали. — И даже не удирают. Вот бы угостить ими островитян!» Андрей подумал было сходить за вытяжным парашютиком, чтобы набрать в него с сотню деликатесных обитателей океана, но делать этого не стал: и некогда, и они ведь нажрались человечьего мяса…
Возвращаясь, заметил в стороне некий коричневого цвета предмет, лежащий на песке, а немного поодаль — другой, голубоватого цвета. «Так это ж сброшенные с самолёта чемоданчик Кимбора и канистра!» — мелькнула догадка. Подбежал — так и есть: канистра, которую он заметил ещё на первом аэродроме в руках одного из лётчиков. Отвинтил пробку, настолько большую, что внутрь можно залезть рукой, понюхал — разит спиртным, но содержимое отнюдь не жидкое. Похоже, пилот вместо шнапсу запихнул в неё кое-что из личных вещей, которые, считал, будут необходимы в случае благополучной высадки на остров…
Найденное весило не более тридцати килограммов, и Андрей унёс всё это к ожидавшим его спутникам. Те, разумеется, были удивлены появлением ещё каких-то, непонятных, невесть откуда взявшихся диковин.
— Посмотрим, что тут свалилось нам с неба!
Говоря это, он вынул чемоданчик из мешка, отщёлкнул замки, откинул крышку. Сверху лежали личные вещи Кимбора: бритва и прочие туалетные принадлежности, ниже — много других предметов обихода, специально прихваченных с материка накануне отъезда. Рыться дальше не стал:
— Ладно, разберемся дома. А вот зеркалом можно прям сичас порадовать нашу барышню. На вот, посмотри, какая ты страшненькая, хоть и считаешься, небось, красавицей, — передал его Ама Сю.
Нетрудно себе представить глубину удивления «красавицы», а потом и остальных её сородичей, впервые увидевших себя такими, какие они есть, в мельчайших подробностях. Утратив интерес к остальному содержимому чемоданчика, они по очереди внимательно разглядывали этот небольшой кусок стекла со всех сторон, рассматривали собственные продырявленные носы и уши, глаза, зубы, строили гримасы, что-то возбужденно обсуждая.
А что больше всего обрадовало Андрея, так это пара блокнотов и карандаши: с их помощью он намного быстрей освоит туземную речь! Кроме них, в чемоданчике нашлось место увесистому ножу, топорику, котелку с набором рыболовных крючков, лесок, иголкам, ниткам и прочему мелкому добру. Забегая вперёд, скажем, что и в канистре было немало очень нужных здесь вещей, среди которых камни и бензин к зажигалке, запасной комплект питания к фонарику, словно и пилот догадывался, какая участь уготована ему судьбой.
Наскоро ознакомившись с приобретённым, сложил всё обратно, кроме зеркала: Ама Сю всё ещё любовалась им и жаль было её огорчать. Не стал убирать и ножа, изготовленного не иначе как для поварских нужд: таким можно разрубать даже кости. Его он вручил Танбе на случай, если в его отсутствие на них вздумает напасть ещё какая-нибудь «тигровая пантера», поскольку на розыски решил отправиться один. Опорожнив один из кокосов, дал понять, чтоб ждали его здесъ, и ушёл.
До мыса расстояние приличное. Одолевая его, Андрей пытался мысленно представить действия Кимбора после их с лётчиком отделения от самолёта. Ясно, что на какие-то секунды их задержала выброска чемодана и канистры. Ешё какое-то время ушло на закрепление парашютного кольца. И хотя счёт шёл всего лишь на секунды, при скорости самолёта даже в двести километров в час они проскочили воду и оказались над мысом, поросшим лесом. Такое очень даже могло случиться, а дальше произошло одно из двух: либо участок суши, вдающейся в океан, неширок и имелась возможность приводниться, либо всё не так и пришлось выброситься на деревья. В этом случае не обошлось без увечий…
Обогнув мыс, вдававшийся в океан не менее чем на две сотни метров, Андрей посмотрел в северном направлении. До самого горизонта слева зеленели заросли, посередине слепила глаза белая песчаная полоса, справа — поблёскивала лёгкая зыбь океана…
Засек время и отправился вдоль кромки берега в надежде обнаружить заливчик, достаточный, чтобы на нём можно было приводниться. Но минуло больше часа, позади осталось не менее пяти километров, а ни бухточки не попалось, ни конца острову видно не было. Значит, пошли на риск, и их парашюты опустились на джунгли. И произошло это в самом начале. Надо вернуться, произвести несколько выстрелов: остался кто в живых — откликнутся. У них два пистолета, а стрельнуть даже Марта сумеет.
Но на выстрелы, увы, никто не обозвался…
Расстроенный и порядком уставший, вернулся к ожидавшим его в холодке помощникам. Те смотрели вопросительно, но спросить, где и почему он так долго отсутствовал, ещё не умели. А ему стоило больших усилий не показать, что крайне расстроен. Утолил первым делом жажду, разделся, чтобы просохла мокрая, как после дождя, одежда. Надев сухие, из парашюта, трусы, решил заодно приодеть хотя бы этих ребят. Запасные были все одного размера и фасона, но вместо резинок имели сбоку глубокий разрез, застёгивавшийся на пуговицы. Показал, как надо сделать, чтобы обновка держалась и не спадала. Одёжка всем пришлась по вкусу, но воспринята была не более чем украшение, к тому же хорошо защищавшее чувствительные места от колючих растений. При этом бахромчатые юбки бы— ли нацеплены поверх.
Подкрепились дынями, имеющими похвальное свойство утолять голод и создавать ощущение сытости. Ама Сю успела наиграться с зеркалом, и Андрей вернул его в чемодан. Парни в его отсутствие не сидели сложа руки, а с помощью ножа-мачете срубили десятка полтора бамбучин, годных для изготовления копий. Из них соорудили носилки, куда помес— тили парашют, чемодан и канистру.
В селении Андрею уже начали готовить сюрприз: рядом с вигвамом Светлой Луны мужчины несмотря на жару сооружали ещё более просторное жилище. Вокруг стройной пальмы устанавливался частокол из врытых в землю бамбуковых жердей, заготовленных ранее. Траншейку для него глубиной в колено отрывали с помощью костяных лопаток, а сами жердины обрабатывались острыми гранями камней.
Встретив вернувшихся, вождь дал понять, что вигвам возводится для гостя. Скрещенными на груди руками Андрей поблагодарил за честь, а вернувшись на временную квартиру и достав секач и топорик, показал, как ими пользоваться: несколькими ударами перерубив жердь толщиной в руку. Новый тип инструмента сперва обошёл строителей в качестве чуда— юда, вызвав всеобщее восхищение, затем уже был опробован в деле, которое пошло гораздо спорей.
Новый вигвам готов был через трое суток и получился по-своему красивый: густо оплетён свежими лианами, под зонтиком из пальмовых листьев, а снаружи выглядел не хуже, чем у шамана и вождя. Внутри, правда, перегородок не было, но зато имелись два широких топчана со столом между ними, а также полки на уровне головы, куда уместилось всё андреево имущество. К убранству топчанов — их застелили свежеизготовленными мягкими матами — он добавил подушку и натянул полог: днём надоедали мухи, а ночами, при тихой погоде, доставали комары.
Уже за первую неделю он во многом преуспел и, самое главное, научился кое-как изъясняться на здешнем языке. Один из блокнотов почти весь был исписан их словами и фразами в переводе на русский. Одновременно с освоением здешнего тарабарского ему открывались многие стороны быта островитян. Узнал, что причина неустроенности, сразу же бросившаяся в глаза, была не в лености или неумении ничего делать. Племя лишь недавно осело в этих местах, а до этого многие годы обитало на берегу «круглой воды», то есть озера, находящегося далеко отсюда. «Может, потому их и не «открыли» до сих пор исследователи, не пожелав углубляться в дикие джунгли?»— подумалось ему. Он узнал также, что покинули они обжитые края, опасаясь набегов неких «одноухих», время от времени переплывавших озеро на брёвнах с балансиром (о пирогах здесь ещё понятия не имели). Мало того, что эти разбойники совершали убийства, учиняли грабёж и погромы, — в последний раз они ещё и увели молодых женщин и девочек на выданье, от четырнадцати лет и старше. Чтобы избавиться раз и навсегда от подобных несчастий, вождь решил увести людей от тех мест подальше и поискать для становища новое. Посчитав количество лун, отмеченных вождём в виде насечек, и разделив их на двенадцать, Андрей определил, что случилось это года два назад.
С появлением ещё одного ножа и топорика, благодаря достижениям ушедшей далеко вперёд цивилизации белых, носителем которой стал «посланец неба», по мере освоения им местного языка, в жизни здешних обитателей появилось немало перемен. Костяные ножи, бамбуковые кинжалы и копья с костяными наконечниками теперь у охотников всегда были острыми. Охотничий арсенал пополнился луками и стрелами, быстро освоенными и полюбившимися. Пользовались этим видом оружия для добывания мяса: охотились на обезьян, птиц и крупных рыб. Кроме того, рыбу научились ловить удочками, а затем и кубышками. Мясо стали употреблять подсоленным в океанской воде, которую приносили в канистре. Словом, жизнь потекла веселей, радуя и хозяев, и «небесного» умельца, то и дело удивлявшего своей изобретательностью. Каких-либо неприятных приключений или событий не случалось: за две с небольшим недели лишь однажды пришлось пережить несколько тревожных минут, когда ни с того ни с сего налетел вдруг тропический ливень с грозой. А было это так.
Около полудня на остров с запада стали наползать массивные, со свинцово-фиолетовым оттенком, зловещие тучи. Оттуда слышались глухие раскаты, в воздухе запахло грозой. Разбредшиеся было по разным делам мужчины собрались у хижин и с тревогой поглядывали на приближающуюся серую дождевую стену, заполнившую пространство от туч до земли. Малышня в страхе попряталась, подростки жались к ногам старших, пока враз налетевший шквалистый ветер не загнал всех под крыши. Крепчая, порывы разметали мусор, пепел и пыль, гнули траву и кустарники, лохматили листья пальм. Селение стремительно погрузилось во тьму, и разразился ливень: хлестнули, как из ведра, тугие струи воды…
Казалось, вверху с треском сшибались не насыщенные влагой и электричеством дождевые массы, а гигантские каменные глыбы. Всполохи молний беспрерывно вспарывали черноту неба. Представлялось, что там рвались тяжелые бомбы, грохот которых Андрею доводилось слышать на Родине. Эта гроза не шла ни в какое сравнение с кубанскими!
Треск от электрических разрядов стоял настолько оглушительный, что укрывшиеся в андреевом вигваме постоянные его спутники сидели с зажатыми ушами. Промежутки между вспышкой и треском не превышали порой двух-трёх секунд, и Андрею пришло в голову, что всех их запросто может поразить молния. Ведь известно: в грозу нельзя находиться под высоким деревом, а тут мало того, что вигвам находится выше уровня океана, так из него ещё торчит эта едва ли не двадцатиметровая пальма. Она, конешно, прибавляет устой-чивости — к ней крепится крыша, но сейчас является и громоотводом, притягивающим молнии. Вспомнились попадавшиеся не раз усохшие до срока деревья, растрощённые сверху донизу, — верняк ставшие жертвой гроз. Надо немедленно покинуть вигвам!
— Ама Сю, — оторвав её ладошку от уха, приказал он девчонке, — скорее беги к отцу! Скажи от моего имени, пусть он и все, кто с ним, срочно покинут вигвам и переждут ливень в постройке, где сложены копья и дубины. Иначе может случиться беда: духи нашлют огонь и всех лишат жизни. Ты поняла?
Замба хотел её проводить, но Андрей придержал:
— А ты пробеги по всем вигвамам и передай: пусть тоже укроются от небесной воды в подсобках без деревьев в крыше. А то злые духи спустятся с неба и сделают большой костёр. Так, скажи, велел Посланец неба, то есть я, а нас найдёшь вон в том шалаше.
Замба выскочил выполнять задание, а они с Танбой укрылись в подсобном шалаше неподалёку. «Не напрасно ли я взбаламутил народ? — засомневался он, сидя на куче сухих листьев и наблюдая за творящимся снаружи. — Скорей всего, ничего страшного не случится — не впервой же здесь такой разгул непогоды!.. Но как бы там ни было, лучше не рисковать: с грозой шутки плохи. А пальмы нужно срубить по самые крыши», решил он.
— Слышь, Танба… — пользуясь промежутками между раскатами грома, обратился к соседу. — Небесный огонь не причинял вам… — переждав очередной грохот, пояснил: — Я хотел сказать — не лишал ли он кого-нибудь жизни?
— С тех пор, как мы на новом месте, такое было всего один раз.
— А часто здесь льётся с неба вода и вот так сверкает и гремит?
— Часто. Духи любят стучать в барабаны и разбрасывать искры от своих костров. Но шаман всегда просил их делать это над Большой Водой, — пояснил он.
«Легко же дурачить людей, когда они неграмотны! — подумал Андрей. — Верят всяким выдумкам. А придумал шаман эту чушь, чтобы сородичи сытно кормили да потакали всем его прихотям».
Он знал, что и на новом месте, после того, как «одноухие» увели всех молодых женщин, шаман потребовал у вождя племени его чудом уцелевшую старшую дочь для своего младшего брата, который считался хранителем огня. Грозился послать ураган, если вождь откажется, сулил ублажать духов, чтобы берегли селение от небесного огня, если согласится. В результате девушка в шестнадцать лет была отдана в жёны старику. При этом оказалось, что «мужьями» её стали ещё и его сыновья-телохранители. Жизнь бедняги стала невыносимой настолько, что она не раз убегала куда глаза глядят. Но её находили и возвращали обратно…
Вера в могущество и боязнь коварства этого жреца от религии была столь велика, что вождь племени не решался забрать дочь к себе даже после исчезновения «повелителя духов».
Вернулся Замба и доложил, что все жители, кроме хранителя огня, выполнили распоряжение — перебрались с детворой в подсобные постройки.
— А как моя сестрёнка? — с тревогой спросил Танба.
— Она дрожала от страха, я отвёл её в другой вигвам, как было сказано. У неё там сухо и тепло.
Андрей хотел похвалить его за исполнительность, но не успел: одновременно с ослепительной вспышкой грянул удар грома настолько мощный, что потемнело в глазах. Когда через несколько секунд он их размежил, то заметил, что у пальмы над шаманским вигвамом пропала верхушка, а крыша окутана облаком пара.
— Танба, Замба! Да очнитесь же вы, — стал он тормошить оглушенных соседей. — В вигвам шамана ударил небесный огонь. Это же рядом с твоей сестрой — бежим, может ей плохо!..
Сестру Танбы, вусмерть напуганную, нашли живой и невредимой, брат принялся её успокаивать, а Андрей проскочил к «хранителю огня». Обнаружил его в среднем отсеке вблизи ещё горячего ствола пальмы, без признаков жизни. Молния поразила его наповал…
Но вот гроза переместилась к востоку, ливень пошёл на убыль и вскоре прекратился вовсе. Снова ослепительно засверкало солнце, население высыпало наружу, детвора принялась бегать и купаться в лужах — жизнь забила ключом.
Смерть шаманова родственника никого не огорчила. И тем более — его молодую вдову: кончились её страдания, и теперь она может жить при родителе. Андрей тоже был в душе доволен: не зря будоражил людей в самый разгар ливня! Ведь не утащи Замба девушку за десять метров от злополучного вигвама, ей бы тоже несдобровать. А само это событие лишь прибавило ему уважения, и без того всеобщего и глубокого.
Когда, согласно обычаю, труп хотели зажарить и съесть, ему без труда удалось отговорить вождя от такого дикого ритуала. Помощника шамана отнесли к океану и оставили на съедение лангустам, крабам и прочим омарам. Так закончилось это незначительное приключение.
А настоящее случилось полторы недели спустя.
Двое лучников, охотившихся в окрестностях джунглей на обезьян, прибежали запыхавшиеся донельзя и взволнованно доложили вождю, что ими замечена банда «одноухих». Андрею уже было известно об этих дикарях многое, в том числе и о странном их обычае — отрезать левое ухо юношам, достигшим определённого возраста. Делалось это во время ритуала посвящения в воины. Впрочем, странного в этом мало: дикари — они и есть дикари, считал он. А чем лучше — протыкать в ушах, а тем более в носах дырки для вдевания заноз? Но это хоть делалось, можно предположить, ради того, чтоб выглядеть мужественней в глазах девушек и тем завоевать согласие стать женой. Но оттяпать ухо — до такого мог додуматься разве что какой-нибудь самодур из шаманов или вождей, считающих, что им всё позволено…
Известие встревожило не на шутку и вождя. Он распорядился оповестить всех мужчин, приказал вооружиться и собраться у его вигвама. Андрей вмешиваться не стал: пусть будут готовы принять бой, если что-то не получится у него. Тем более, что у них теперь появились и луки со стрелами.
Приготовления заняли считанные минуты, и когда шайка из двух десятков бандитов показалась вблизи селения, охотники, преобразившиеся в заправских воинов, уже выстроились в боевой порядок перед вигвамами. Способ построения подсказал вождю Андрей: в переднем ряду стояли лучники, ощетинившиеся бамбуковыми стрелами, другой ряд держал наготове острые пики; третий состоял из киёшников.
Поняв, что нападение в этот раз не станет внезапным и будет оказано сопротивление, вооружённое и решительное, любители пограбить поначалу замешкались. Затем перестроились в шеренгу, изготовились, но с атакой медлили. Возможно, их насторожил новый вид оружия у лучников.
Внешне они мало чем отличались от здешних дикарей, разве что выглядели повнушительней — видно, вождь отобрал самых крепких физически. Да размалёваны так, словно одним своим видом надеялись обратить противника в бегство.
Но Андрей особо не переживал: верняк и эти вояки понятия не имеют об огнестрельном оружии. Если выстрела вверх не испугаются, придется кокнуть главаря, а то и пару наиболее заядлых. Остальные после этого точно разбегутся! — рассуждал он.
Противостояние затягивалось, и вождь сказал Андрею, что надо бы попытаться уладить дело без драки.
— Это было бы хорошо, — согласился он. — Давайте попробуем. А если не получится, у меня с собой Бах-бах: никто не успеет и замахнуться!
Подошли и остановились метрах в десяти. Вождь одноухих тоже сделал несколько шагов навстречу и тоже не один: его сопровождал… здешний шаман, так таинственно исчезнувший! Андрей только теперь разглядел его как следует, поскольку был он без побрякушек и слегка размалеван белой и желтой красками. «Значит, это он сообщил местонахождение поселения и подбил одноухих напасть снова, — мелькнула у него догадка. — Захотелось чужими руками вернуть утерянное верховенство. Ах ты ж продажная шкура!»
— Я знаю: тебе указал сюда дорогу, — первым заговорил он, глядя в глаза вожаку и кивнув на шамана, — эта жирная обезьяна… Но чего вы хотите в этот раз? Девчонки до невест ещё не доросли.
— Что это за молокосос требует у меня отчета? — презрительно осклабился главарь шайки, переведя взгляд на вождя. — Откуда у тебя этот бледнокожий заморыш?
«Да он, похоже, не знает, с кем имеет дело, — догадался «заморыш». — Этот боров ничего ему обо мне не рассказал?»
— Этот юноша — Посланец неба, — ответил вождь. — Ты разве этого не знал? Его могущество не имеет границ. Он в одно мгновение может лишить жизни и тебя, и всех твоих воинов! — предупредил он.
— Но сперва я лишу жизни изменника и предателя вашего народа!
Выхватив из-за пояса пистолет, Андрей дважды выстрелил шаману в грудь; вскрикнув, тот рухнул наземь.
Как и ожидалось, эффект от выстрелов получился ошеломляющий. Почти одновременно с шаманом на земле плашмя оказались и все явившиеся пограбить соратники вождя одноухих. Сам он продолжал держаться на ногах, но в ужасе зажмурился, и было видно, как дрожат у него коленки. Остроносый костяной нож, который он держал в правой руке, вывалился из расслабленной кисти. Добрых полминуты он не мог прийти в себя. Наконец размежил веки, смиренно скрестил на груди руки и, запинаясь, выговорил:
— Я не… не знал, что ты — Посланец неба… Про… прошу извинить за нанесённое оскорбление…
— Это — другой разговор! — Андрей поставил пистолет на предохранитель и сунул за пояс. — Разве вождь одноухих не видел громадную рычащую птицу, пролетавшую на виду у всех? И разве эта жирная обезьяна не сказал тебе, что это я прилетел на ней, чтобы защитить мирных охотников от тебя и твоих головорезов? И что мне теперь с вами делать — не подскажешь? — задал он сразу несколько вопросов, чтобы дать время тому прийти в себя.
— Рычащую птицу мы видели… Но шаман, рассказавший, где находится это селение, ни слова не сказал о Посланце неба. И теперь мы полностью в твоей власти: как скажешь, пусть так и будет, — ответил смиренно недавний грозный предводитель.
— Скажи своим людям, что им пока ничто не грозит. Пусть они поднимутся, сложат в кучу пики и дубины, а сами отойдут вон под те деревья. А с тобой будет большой разговор! Я так говорю, вождь мирных охотников? — повернулся он к «своему» вождю.
— Ты говоришь моим языком, — подтвердил тот. — Соберу Большой Совет, у нас есть что сказать этому человеку!
Увидев, что противник сложил доспехи и удаляется в сторону от вигвамов, защитники оживились, напряжение спало. Лучники стали убирать стрелы в перекинутые через плечо колчаны, копья заняли вертикальное положение. Подошёл Тамба и объявил, что теперь можно разойтись по холодкам. Старейшинам племени — таких, доживших лет до сорока, было всего пятеро — предложил собраться в вигваме Андрея.
Большой Совет длился более двух часов. Старейшины чинно расселись на топчане справа и слева от вождя и Андрея. По другую сторону стоял, заложив руки за спину, предводитель одноухих. Адресуясь не к нему, а скорее к «посланцу неба», старейшины говорили о прегрешениях, совершенных одноухими за много-много лун. Это — грабежи, погромы, избиения оказавших сопротивление, увод женщин и девушек в неволю. Слушая всё это, Андрей и сам проникся их гневом, в нём копилось желание хоть как-то наказать вождя и его подручных. Врезать, например, каждому по мягкому месту лозиной!
Но, странное дело, никто из обвинителей не требовал возмездия, крови за кровь. Может, потому, что решать судьбу сдавшихся без боя предоставлялось исключительно вождю; а может, надеялись, что в присутствии Посланца неба вождь одноухих прочувствует и осознает всю неправоту своего поведения в прошлом, раскается в содеянном навсегда.
А тот и впрямь имел жалкий вид. Стоял понурый, опустив глаза, как нашкодивший школьник. Пот с него, в отличие от других, катился градом, часто капая с бровей, носа и подбородка. Боевая раскраска раскисла и поехала, обезобразив и без того далёкое от привлекательности лицо. Тем не менее, Андрей сжалился: намочил полотенце, дал ему вытереть лицо и разрешил сесть. Тот полотенцем воспользовался, но продолжил стоять.
Вождь взял слово последним, как бы подведя итог:
— Много горя принесли моему народу неуживчивые соседи… И виновен в этом в первую очередь стоящий перед нами человек. Но мы не станем на прошлое зло отвечать злом сегодня. Постараемся забыть всё, что было между нами плохого, и, пересилив гнев, простить. Тебе и твоим людям мы говорим: в этот раз уходите с миром. И не появляйтесь больше с копьём и дубиной, лучше — с добром и приветом. Что скажет на это вождь одноухих воинов?
— Я признаю, — поднял тот глаза, — вина наша велика. Раскаиваюсь и сожалею, что так вышло… — Помолчав, добавил: — Меня спрашивал уважаемый старейшина, зачем мы несколько раз уводили ваших жён, разве мало у нас своих женщин? Скажу. Но не в порядке оправдания… Старый шаман нашего племени, которому я верил и которого побаивался, постоянно твердил: только храброму племени одноухих должна принадлежать эта земля и всё, что растет на ней. Уверял, что вы прогневили духов земли и неба, воды и деревьев и что они требуют вас извести. Я этому долго противился, и тогда шаман насоветовал забирать у вас женщин. До тех пор, пока ваше племя не переведётся само собой. На это я согласился, но теперь сожалею, что последовал его совету. Раскаиваюсь и обещаю: такому больше не бывать! Пусть знает Посланец неба: это сказал я.
— Мы верим в искренность твоих заверений, — сказал Андрей, поскольку последняя фраза адресовалась именно ему. — Говорю это не только от своего имени и от имени присутствующих здесь, но и Вождя Светлокожих, который послал меня на вашу землю, чтобы помирить два родственных племени. А шаманов ты больше не слушай, живи своим умом. У нас тоже были шаманы, но наш вождь запретил им совать нос в его дела. Заткни и ты своему рот, если станет советовать плохое! — закончил свою речь «посланец».
— Ещё одно должен обещать вождь одноухих, — добавил глава здешнего племени. — Вернуть наших жен и матерей, удеживаемых против их воли. Конечно, прошло много лун с тех пор, как их оторвали от семей. Некоторые смирились с новыми мужьями, имеют от них детей и, возможно, не пожелают вернуться к прежним. Мы не станем требовать. Но взамен таких вождь отдаст в невесты девушек своего племени. Что скажешь на это?
— Считаю такое требование справедливым. Пусть ваши мужчины и юноши придут и сами выберут себе жён и невест по взаимному согласию.
Под конец большого разговора, когда стороны договорились обо всём и обсудили подробности дальнейших отношений, слово взял Андрей:
— Вождь Племени Бледнокожих, — сказал он в заключение, — которому подвластны земля и всё, что растет и живёт на ней; вода и всё, что плавает в ней; которому подвластны также духи, луна и солнце… вобщем, мой вождь слышал всё, что здесь сегодня говорилось. Слышал и остался доволен: ведь нет ничего лучше мира и согласия между людьми!.. Но вы должны знать и помнить: тот, кто нарушит своё обещание, будет лишён возможности жить и радоваться всему, что нас окружает. Он уйдёт в мир теней, как ушёл сегодня здешний шаман, предавший свой народ ради какой-то собственной выгоды.
На этом Большой Совет закончился и глава племени распорядился собрать людей, чтобы объявить им о достигнутых договорённостях.
Известие о том, что предстоит встреча мужей с жёнами, родителей с дочерьми, молодёжи с девушками-невестами, вызвало бурю одобрительных возгласов. Оживление переросло во всеобщее ликование, так что вождю пришлось некоторое время переждать, пока снова воцарилась тишина и он смог говорить. И когда он сказал, что его люди в ответ должны простить противнику все его прегрешения, то услышал гул одобрения. Более того, и вождь одноухих, и его соратники получили приглашение участвовать в празднестве в честь такого исключительного события.
Сразу после этого своеобразного митинга начались приготовления ко всенародному гулянию. Одна группа отправилась заготовлять провизию — орехи, фрукты и ягоды. Другая — готовить топливо для костров. Несколько лучников — охотиться на обезьян и рыб — какой же праздник без мясного блюда? Одноухие заикнулись было насчёт трупа шамана — пустить его на жаркое. Обычай этого не запрещал. Но Андрей решительно воспротивился, заявив, что это очень нехороший обычай. Что в поедающих себе подобных вселяется злой дух и их ждут мучения в царстве теней, куда попадут после смерти. Ему, конечно, поверили. А труп отнесли к океану и утопили невдалеке от берега, оставив на съедение ракам, крабам и прочим морским падальщикам.
Как выяснилось, непрошенные гости оставили свои традиционные плавсредства на берегу озера, а вниз по речке спустились на бревнах, вывороченых ливнями. Возвращаться предполагалось маршрутом, каким шаман добирался к ним. Теперь их, уже как гостей, оставили ночевать у себя.
Торжества начались с восходом луны, которая показалась над лесом почти одновременно с заходом солнца. Андрею здешние гулянья уже не были вновинку, и он, сославшись на необходимость посовещаться с вождём племени бледнокожих, ушёл к себе в вигвам и вскоре заснул под стук барабанов и пение, похожее на вскрикивания, под топот босых ног и хлопанье ладонями.
Когда поутру вышел умыться росой и размяться физзарядкой, на площади перед вигвамами уже никого не было, лишь утрамбованная трава вокруг кострищ да кучи объедков говорили за то, что танцы длились долго.
Раньше банановые корки, дынные огрызки и прочие недоедки валялись повсюду, плодя мух. Чтобы покончить с подобной антисанитарией, Андрей воспользовался дремучей безграмотностью дикарей на пользу делу: посоветовал вождю собирать весь мусор, сушить и бросать в костёр. Духи воспримут это как пожертвование и станут более добры к тем, кто это делает. С тех пор территория селения стала намного чище.
Подошёл Танба и рассказал, что его сородичи не только помирились с одноухими, но и крепко подружились. Их оставили ещё на сутки, и домой они отправятся завтра поутру. А два вождя тоже мирно беседуют в вигваме, договариваются, когда и каким образом осуществить то, о чём было договорено на Большом Совете.
— Каким путём добирался к одноухим ваш предатель-шаман? — поинтересовался Андрей.
— Сначала они долго шли по берегу Большой Воды, — показал он рукой на север. — Потом лесом добрались до нашего прежнего селения. Потом переплыли на беку раку Круглую Воду и нашли одноухих.
— Да, этот путь не самый короткий… Мы сделаем по-другому и дней через вот столько, — показал Андрей растопыренную ладонь, — наведаемся к ним в гости.
— Зачем ждать так долго? Мы хотели отправиться завтра вместе с ними, — возразил было сын вождя.
— И потеряете намного больше времени, не говоря уже о больших трудностях. Почему? Потому, что одноухие живут на противоположном берегу Круглой Воды, а как вы туда переберётесь?
— И туда, и оттуда они перевезут нас на своих беку раку.
— Знаю я ваши «быстрые поплавки»!.. Потому и говорю: потеряем много времени зря.
— А что предлагаешь ты?
— Мы с вами с помощью огня и топорика смастерим беку раку, или поплавок, который называется Пирога, — стал объяснять «изобретатель». — На это уйдёт не больше одного дня. Зато эта Пирога, лёгкая и вместительная, удержит на воде сразу вот сколько человек, — он снова показал пятерню. — То есть меня, тебя, 3амбу и ещё двух. Идём, покажу, как она будет выглядеть.
Они прошли в вигвам Андрея, где у него в блокноте уже нарисовано было несколько долблёнок.
— Вот так будет выглядеть наша Пирога. На ней мы переплывём на другой берег речки, там, где она впадает в Большую Воду. Затем берегом, но уже с той стороны острова, дойдём до озера, и одноухие встретят нас у своего селения. Что скажешь на это?
— Скажу, что ты хорошо придумал! — одобрил Танба. — Я сообщу об этом нашим новым друзьям. Они будут нас ждать у Большой Воды и встретят как дорогих гостей!
Наутро гости засобирались восвояси.
На случай, если в пути придется защищаться от какого-нибудь хищника, им разрешили прихватить пики, подарили несколько луков с колчанами, полными стрел. Новый вид оружия всем очень понравился, поскольку с ним удобно охотиться на разную мелкую дичь. Вождю Андрей подарил свой Кука Баку — «длинный клык». Расставаться с кортиком было, конечно, жаль, но надо же и им иметь инструмент, чтобы готовить стрелы, они ведь быстро расходуются. Не забыл показать, как затачивать лезвие когда затупится.
Проводить гостей (некоторые оказались к тому же и родственниками, так как женаты на здешних девушках, пусть и уведённых насильно) вызвалось немало желающих, но Андрей отговорил, сказав, что одноухие должны ещё заслужить такую честь. Истинная же причина состояла в том, что он собирался угостить одноухих дарами океана, и потому для проводов достаточно будет и Танбы с Замбой.
На побережье распорядился насобирать побольше сушняка, а тем временем сам, раздевшись, забрёл в воду у того места, где накануне утопили труп шамана. Как и ожидалось, вокруг него все еще кишели членистоногие. Большинство уже наелись до отвала, но не торопились покидать злачное место. Большой сноровки не требовалось, чтобы хватать самых крупных, и они один за другим полетели на берег. Там их подхватывали помощники, обездвиживали и бросали на расстеленный купол вытяжного парашютика.
Развели костёр и стали бросать в огонь этих гигантских раков. Обжаренные, шейки легко отделялись от хитиновой оболочки, содержимое которой было, видимо, очень вкусным — гости уплетали деликатесное мясо за обе щёки, не гнушаясь и содержимым спинного панциря, где человечина ещё не успела перевариться. «Если вы до сих пор жрали себе подобных, то не будет преступлением с моей стороны накормить вас на дорожку подобным блюдом», — рассуждал про себя Андрей. У его помощников текли слюнки, и он смилостивился: разрешил отведать раковых шеек и им.
Океанских падальщиков хватило, чтобы не только насытить всех здесь, но и несколько десятков прихватить с собой. Как пользоваться спичками, чтобы развести костёр, вождь одноухих уже знал. Передав ему полкоробка, Андрей сказал:
— Эти палочки с волшебными головками — подарок духов огня. Их хватит на столько дней, сколько пальцев у тебя на руках и ногах. Пока ты их израсходуешь, мы постараемся прийти к вам в гости, и тогда я подарю тебе ещё. А вы к тому времени подберите женщин и девушек, согласных перейти к нам на постоянное местожительство. Танба рассказал тебе, где нас поджидать?
Вождь поблагодарил и обещал всё сделать так, как договорились. На этом и расстались, уже как старые добрые друзья.
Вернувшись с побережья к себе в вигвам, Андрей разделся, повесил просыхать одежду и с удовольствием растянулся на топчане. Собирался уже вздремнуть, но помешала Ама Сю.
— Тебя хочет видеть папа, — сообщила она, загадочно при этом улыбаясь.
Отказавшись от набедренной повязки вообще, она щеголяла теперь исключительно в трусах. К подаренным ранее их прибавилось ещё несколько, которые они с Андреем скроили из парашютного шёлка и даже покрасили соком каких-то ягод.
— Ты чё это такая весёлая? — одеваясь, поинтересовался он.
— Я подслушала разговор, который мне очень понравился, — не стала она делать секрета из столь оригинального способа добывать новости.
— Подслушивать, вообще-то, нехорошо… И что это был за разговор?
— Скоро мы с Замбой будем муж и жена! Папа и тебе сообщит что-то очень приятное.
Хотел заметить, что о замужестве ей думать еще рановато, но та смылась. Похоже, продолжать подслушивание…
В вигваме вождя, в том его отсеке, где он проводит совещания со старейшинами по «государственным» делам, было прибрано и уютно, стены украшены букетами свежих цветов. Но из посетителей застал здесь только Танбу с Замбой. Пригласив сесть и его, хозяин сказал:
— С тех пор, как у нас появился ты, мои люди стали жить намного лучше. У нас появилось то, чего нет у соседей. Ты знаешь, что я имею в виду ещё. Все мы благодарны тебе за это много-много. Но мы не имели ничего, чем тебя отблагодарить, кроме уважения. Теперь такая возможность появилась: мы предлагаем тебе девушку в невесты. Если моя старшая дочь тебе нравится, бери в жены её. Но она для тебя стара, ты вправе отказаться. Тогда мы предлагаем тебе младшую дочь вождя одноухих. Как и моей Ама Сю, через вот сколько лун (показал три пальца) ей разрешено будет стать женой и завести ребёнка. Свою старшую дочь вождь отдаёт в жёны Танбе, чтобы закрепить наш договор о дружбе и согласии, и старейшины уже одобрили такой союз. Что касается моего сына, то я знаю: ему это в радость. А что скажет наш уважаемый гость из племени бледнокожих?
— Я, конешно, благодарен за большую честь, которую вожди уважаемых племён решили мне оказать, — выслушав длинную речь, ответил Андрей дипломатично. — Но должен вас огорчить. Обычай моего племени запрещает мужчинам такого возраста, как я, иметь жену. К тому же, невеста у меня уже имеется, а иметь две у нас не принято.
— Я вижу, прежде чем обещать — а вождь одноухих очень хотел с тобой породниться — нам надо было посоветоваться с тобой… Но ты однажды сказал, что пришёл к нам надолго, а о невесте мне известно не было. Кто она, как её зовут и почему не рядом с тобой?
— Зовут её Мар-Та, что на вашем языке означает Самая Красивая. Она, конешно же, из племени бледнокожих. А почему не со мной… у нас нет обычая, вроде вашего, беречь и охранять свою невесту от других парней. У нас невест всегда было больше, чем женихов. Но она тоже скоро будет рядом со мной. Возможно, ещё до того, как новая луна сменит старую.
На этом беседа закончилась, и Андрей ушёл к себе. Лег, и ему стало грустно: сказал вот, что Марта скоро будет здесь, а сбудется ли эта мечта?.. Не придется ли стать зятем одноухих? Но об этом даже думать не хотелось!
А сюрпризы и в самом деле зачастили в это, пока ещё никем из мореплавателей не открытое селение затерянного в безбрежном океане островка!
В тот же день он с группой парней возился у берега речки. Одни мастерили из лозы и лиан новые кубышки взамен унесённых ливнем, а он заходился обтёсывать пригнанное одноухими толстое бревно, собираясь сделать из него настоящую пирогу. Такую, как видел в школьном учебнике: там было стихотворение «Пирога Гайваты» с ее рисунком, и эта экзотическая посудина запечатлелась в памяти. Хотелось «забацать» похожую — лёгкую, и в то же время вместителъную. Танба с Замбой помогали ему в этом непростом деле.
Но их занятия прервала сбивчивым от волнения сообщением Ама Сю, удившая рыбу выше по течению:
— Там вода… несёт в нашу сторону… бледнокожих людей! Они в таких же шкурах, как у тебя. Их много…
Бросив работу, он поспешил на обрыв, где уже толпились остальные. Взоры всех устремлены были на показавшийся из-за изгиба речки плот из нескольких необработанных брёвен.
— Так это ж люди моего племени! — срывающимся от радостного волнения голосом известил он окружающих. — Вон тот бородатый — наш вождь, ребята — мои друзья, а девочка — она и есть моя невеста. Бегите в селение, сообщите всем, пусть придут встречать, — решил он освободить побережье от аборигенов, оставив только детей вождя и Замбу.
Да, это была команда Кимбора в полном составе.
На плоту тоже заметили толпящихся на обрыве людей и среди чернокожих в бахромчатых нарядах узнали Андрея. Ему уже издали махали руками, что-то кричали.
А тем временем плот с середины речки уже смещался к левому берегу. Встречающие спустились к воде принимать это неуклюжее, громоздкое сооружение. Его с трудом удалось подрулить и кое-как вытащить настолько, чтобы не сносило течением. Затем пошли приветствия, рукопожатия, объятия, бурный обмен новостями, нескоро вошедшие в спокойное русло…
Как выяснилось, они уже знали, что остров обитаем, но жителей ещё не встречали. Андрей познакомил, представив, со своими новыми приятелями, сказал, кто они такие. Прибывшие были весьма удивлены тем, как быстро научился он понимать и объясняться по-здешнему, и немало шокированы появлением вскоре местных жителей, всем селением прибежавших поглазеть на бледнокожих родственников своего «небесного». Крайне поразились, видя почти обнажённых представителей обоих полов… Но — ко всему привыкаешь, особенно, когда некуда деваться.
Как же получилось, что кимборовцы, притом живые и невредимые, объявились спустя столько времени да ещё и с неожиданной стороны — приплыли по речке?
При облёте острова с целью найти удобное место для высадки Ким Борисович решил, что протяжённости юго-восточной его оконечности будет вполне достаточно, чтобы успеть всем оставить самолёт. Так оно бы и произошло, не случись непредвиденной задержки из— за того, что Марта, глянувшая вниз перед выброской, со страху впала в обморок. Державшаяся крепко, она неожиданно обмякла, «замок» ослаб, и хотя была опоясана страховочным линём, в таком её состоянии покидать самолёт стало рискованно. После нескольких пощёчин она очнулась, но… самолёт шёл уже над изумрудным ковром из переплёвшихся вершинами деревьев. Выброситься же над лесом значило, в лучшем случае, покалечиться. И старшой выбрал единственно возможный вариант выхода из создавшегося положения — дотянуть до конца острова и уже там приводниться. Что и было проделано весьма удачно.
Но остров, небольшой по ширине, вытянулся в длину едва ли не на десяток километров. Одолеть такое расстояние в непривычных условиях и экстремальных обстоятельствах — дело непростое. Полагая, что и пилот со своими компаньонами идут им навстречу, тоже с трудом добывая пропитание, особо и не торопились.
При облёте Ким Борисович не заметил внизу ни людей, ни их примитивных жилищ и посчитал, что остров необитаем. Пока они не наткнулись на следы, оставленные шаманом и его спутниками. Обследовав местность более тщательно, нашли остатки еды — банановые корки, дынные огрызки, выпитые кокосы, проткнутые тупыми ножами.
Всё это не только насторожило, но и встревожило: что за люди? Сколько их здесь? Что у них на уме? 3ачем выходили на побережье и почему снова ушли в глубь джунглей, оставив едва различимые, но свежие отметины на своём пути. Решили проверить, не у них ли те, кого они ищут. Ким Борисович вспомнил про озеро — оно должно быть где-то неподалёку.
Вскоре вышли и к нему, но кроме полуразрушенных примитивных построек ничего не обнаружили. И снова вопросы: куда подевались обитатели первобытного селения? Почему сменили стоянку, когда и здесь обилие орехов, плодов и ягод, всевозможной живности? Ведь от добра добра не ищут!.. Тут и застал их тропический ливень, который вреда не причинил, но задержал на несколько дней. Обследуя побережье озера, добрались до вытекающей из него речки. Соорудили какой-никакой плот и… Дальнейшее известно.
Вигвам Андрея служил теперь общежитием для шестерых человек, но в тесноте, как известно, не в обиде. Марта прописалась у Ама Сю (её жениху пришлось переселиться к тестю) и сразу же загорелась желанием изучить местный язык. Быстро подружившаяся с нею хозяйка, уже имеющая некоторый опыт в деле репетиторства, охотно взялась ей в этом помогать. Хотя никак не могла взять в толк, как это можно, глядя на колечки и крючочки, нацарапанные Андреем в блокноте; сразу четко произносить слова и целые фразы на здешнем наречии…
С появлением новых бледнокожих жизнь в селении пошла меняться к лучшему ещё более быстрыми темпами. Примитивизм уступал место усовершенствованным видам деятельности — в добывании мясной пищи, в изготовлении удобных предметов обихода. Помогать осваивать азы цивилизации подключились Леонид, Гриша, Степан и Борис, которым всё здесь нравилось необыкновенно. Они словно попали в сказку, где им пришлось выпол— нять роль добрых волшебников.
Вскоре, впрочем, ребятам нашлось дело несколько скучноватое, но зато крайне необходимое: решено было построить вышку для наблюдения за акваторией. Место для неё выбрали рядом с устьем речки, на ее левом берегу. Оно хорошо тем, что возвышается над уровнем океана и не подвержено ни приливам, ни разливам. Кроме того, здесь много принесённых водой вывороченных с корнем деревьев — есть из чего выбрать нужный стройматериал. Без труда подобрали четыре длинных и ровных хлыста, сухих и прочных. Вырыли шурфы, установили в них столбы с небольшим уклоном внутрь и вверху, на двадцатиметровой высоте, приладили вместительную корзину, сплетённую из лиан. Внизу под нею соорудили клетушку размером 2 х 2 метра — комнату отдыха.
Вахту стали нести по двое все светлое время суток, здесь же и ночуя. Из корзины просматривалась акватория на многие километры. На случай появления судна всегда под рукой имелся большой белый флаг, а внизу — готовая к поджёгу куча хвороста для дымовой сигнализации.
Чтобы «вперёдсмотрящему» не скучалось, каждый из ребят занимался тем, на что горазд. Один мастерил луки и стрелы к ним, другой из строп готовил нитки и вязал из них сеть для волочка или хватки-паука. Марта занималась пошивом «предметов первой необходимости» для своих новых приятельниц. В это время второй напарник либо рыбачил поблизости, либо готовил уху, либо просто отдыхал в тени, предаваясь мечтам о доме, о далёкой Родине. Ночами, если ветер подувал со стороны мангров и надоедали комары, можно было спать наверху.
Чтобы использовать световой день полностью, дежурили посуточно, но это не было в тягость: работали на себя. Вопрос — сколько придется так вот выглядывать судьбу, не возникал. Сколько надо, столько и будут ждать у моря погоды, хоть всю жизнь! Но, конечно, надеялись на скорую удачу: как-никак, двадцатый век, век техники и не только парусной. Люди торгуют, путешествуют, места от войны далёкие, пароходы наверняка бороздят океан и на этих широтах. Какой-то рано или поздно объявится, заметит, подберёт. Больше других верила в скорую удачу Марта: талисман её не раз уже выручал из беды, выручит и на этот раз!
Но даже она не надеялась, что это случится так скоро. Талисман тому причиной или он вовсе ни при чём, но не прошло и двух недель с начала дежурств, как одно из них принесло свои плоды. В то утро она, уже сменившись, задержалась, чтобы приготовить сменщикам свежей ухи. Андрей отошёл набрать сушняка для костерка, когда услышал крик с вышки:
— Гриша! Андрей! Скорее сюда: вижу какую-то тёмную точку на горизонте! — орал Леонид не своим голосом.
Через несколько минут ребята были наверху. «Точка» едва заметно увеличивалась в размерах и явно держала курс на остров.
— Похоже на капитанскую рубку подводной лодки, — определил Андрей. — Но откуда ей тут взяться? И притом — с югозапада.
— Неужели фрицы и сюда достали? — озабоченно скрёб затылок Леонид.
— Надо немедленно сообщить Кимбору! Вы понаблюдайте, но флагом пока не сигнальте… Если мы немного задержимся, а они подойдут близко, на глаза не показывайтесь. Схоронитесь в кустах и ждите, — распорядился Андрей.
Марта осталась доваривать завтрак, а он заспешил в селение. Ким Борисович сообщению удивился не меньше ребят: чья подлодка могла оказаться в этих широтах? Что ей тут делать? Но внешне остался спокоен:
— Лодка так лодка. Лучше подводная, чем вообще никакая.
— А если она немецкая? Ни им с нами, ни нам с ними не по пути…
— Чья б она ни была, на борт они нас не возьмут, это точно, — согласился с ним Ким Борисович, облачаясь в свою офицерскую форму. — Но если окажется немецкой, это даже лучше: попробуем извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу для себя. Как? Способ один: шантаж. Выманим на сушу, разоружим, сделаем заложниками и потребуем выкуп. На берег сойдут два, от силы три человека — с ними мы управимся наверняка.
— А потребуем посуды, инструментов, патронов, одежды… ну, и ещё чего-нибудь, чего у нас не хватает, — догадался Андрей.
Прихватив с собой Бориса и Степку, наставляя на ходу, что и как нужно будет делать каждому, Кимбор уже через несколько минут был с ними в пути. Когда подошли к вышке, рубка угадывалась и с берега, а наблюдатели ожидали в кустах. В их присутствии ещё раз обсудили план действий, каждый получил чёткие инструкции. После чего Ким Борисович поднялся в корзину и принялся размахивать флагом. Сигнал тут же был замечен: изменив направление, лодка стала приближаться к вышке. Теперь сомнений не осталось — на борту чернел характерный крест с белыми обводами. Пора спускаться вниз и встречать гостей. Прошёл ближе к воде. Вот спущена надувная лодка, в неё садятся трое — два матроса и офицер. «Это хорошо, что только трое, — подумал встречающий.
— Легче будет справиться». Один матрос остался на вёслах, капитан с автоматчиком спрыгнули на песок. При их приближении Ким Борисович вскинул руку в нацистском приветствии.
— Хайль, — небрежно махнул рукой капитан. — Каким течением занесло вас в такую даль? — вглядываясь в соотечественника, спросил, не подавая руки, командир подлодки.
— Воздушным, капитан, и весьма мощным… И не будь оно попутным, кормить бы нам акул. Но если вы посланы за нами, то, видимо, в курсе…
— Совершенно не в курсе! — не дал ему договорить капитан. — Оказался здесь случайно, к вам завернул из любопытства и вряд ли смогу быть в чём-то полезным… Кстати, вас тут сколько?
— Трое: пилот, штурман и я. Доставляли важный груз на Канары, но из-за отказа навигационного оборудования…
— Подробности потом. Почему остальные не с вами?
— Неудачно приземлился штурман — угодил с парашютом на дерево и повредил ногу; пилот сейчас при нём. Если вы верный сын Германии и преданный солдат фюрера, вы не оставите нас подыхать на этом необитаемом островке, — нажал на патриотизм Ким Борисович.
— Вы уверены в том, что остров необитаем? — более заинтересованно переспросил капитан.
— Прозябаем здесь больше месяца, так что имели возможность убедиться! Будь здесь люди….
— Это меняет дело! Я могу поговорить с остальными?
— Разумеется. Это в нескольких минутах ходьбы.
Узкая тропка, совсем недавно прорубленная напрямик, чтобы укоротить расстояние, пролегала среди густых, порой выше человеческого роста, зарослей. Троица следовала по ней с небольшим интервалом. В условленном месте Ким Борисович нагнулся поправить «развязавшийся» шнурок. Это был сигнал к началу действий. Андрей с Леонидом — один спереди, другой сзади автоматчика — внезапно выскочили с пистолетами наизготовку.
— Хенде хох! — вскричал Андрей раньше, чем матрос успел схватиться за автомат. Увидев, что и его шеф уже под прицелом, тот вынужден был руки задрать. — Марта, скажи этому верзиле: если он вздумает дёргаться, я вышибу ему мозги! Гриша, забери у него автомат, — распорядился он.
Обезоруженный, телохранитель пребывал в глубокой растерянности, тогда как его командир, находясь под дулами уже двух пистолетов, тем не менее не утратил самообладания. Пристально глядя в глаза девчонке, он вдруг сказал — на чистейшем русском:
— Моё лицо тебе никого не напоминает? — Та, пораженная, таращила глазёнки, не находясь, что сказать. — А я тебя узнал: ты — Марта Цегеле, родилась в Москве, четырнадцатого сентября тебе исполнилось четырнадцать лет… Разве не так?
— Так это ж мой папа! — воскликнула она наконец. — Ким Борисович, ребятки, это же не фашист! Он — советский разведчик, о котором я вам рассказывала!.. Здравствуй, папочка! — И она кинулась капитану на шею. — Как же ты меня узнал, мы ведь так давно не виделись!..
— Ну, во-первых, тебя назвали по имени. Кроме того, ты как две капли воды похожа на девочку, фотографию которой я всегда храню у сердца. — И он достал из нагрудного кармана запаянную в пластик фотографию.
Дав обцеловать свое лицо и смахнув с её щёк слезики радости, капитан опустил дочь на землю. Обстановка, естественно, вмиг разрядилась. Ребята, не дожидаясь указаний, вернули автомат матросу, который и теперь растерян и удивлён был не меньше, но, как говорят математики, с обратным знаком. Ким Борисович, переходя с русского на немецкий, объяснил ситуацию, и всё стало на свои места. Несмотря на невероятность, даже фантастичность происшедшего.
Для дальнейшего разговора вернулись к вышке. Капитан ввёл в курс дела второго матроса и откомандировал обоих сообщить о случившемся экипажу. Велев на обратном пути прихватить плащ-палатку для навеса (солнце оттого, что произошло столь радостное событие, меньше припекать не стало); распорядился и насчёт гостинцев детворе.
Прежде всего, всем хотелось выяснить, какими ветрами и течениями занесло и тех, и других в столь отдалённые края. Что касается Кимбора и его команды, мы с читателем уже, говоря казённым языком, информированы. Остановимся только на одиссее капитана Цегеле (он, правда, работал под другим именем, рассекречивать которое не станем, как и Кима Борисовича) и его подводной лодки. И предоставим слово ему самому.
— Начну с того, каким образом я, советский, точнее — российский немец, стал разведчиком, — начал он свой рассказ, сидя в окружении ребят в тени растянутой на шестах плащ— палатки; слушая, они угощались привезенными с лодки гостинцами. — Раз уж меня разоблачила моя же дочурка. — И он ласково погладил счастливо улыбающуюся дочь по ее маль— чуковым волосам. — Несколько лет тому назад, когда вы еще под стол пешком ходили, мне довелось поучаствовать в борьбе испанского народа против фашизма Гитлера, как раз захватившего власть в Германии, и их доморощенного его последователя Франко…
— Папа командовал там интернациональным батальоном и за умелые действия был награжден на Родине орденом Красной Звезды! — с гордостью вставила Марта. — Я лично видела этот орден, мама мне показывала. Такой красивый!
— Да, было и такое… Пощеголять мне с ним не пришлось, но вот детям и, надеюсь, внучатам — память оставил, — с некоторой грустью заметил участник испанского сопротивления. — А не пришлось потому, что вскоре снова оказался за пределами Родины. Я, надо полагать, зарекомендовал себя надёжным антифашистом, проявил при этом, возможно, ещё какие-то качества, плюс отличное владение немецким — и в Москве было решено направить меня в Германию с заданием внедриться в интересующие советскую разведку структуры. Война с Гитлером была неизбежна, правительство это понимало, и меры предпринимались заблаговременно…
— Вам было приказано внедриться к подводникам? — высказал догадку Леонид.
— Нет, с подводным флотом я ничего общего поначалу не имел. И чтоб вам было понятней, почему Центру понадобилась моя переквалификация, коротенько скажу о сложившейся к концу первого года войны обстановке в Германии и за её пределами. Развязав войну против нашей Родины, Гитлер стал опасаться, что на сторону русских встанут Англия и Соединённые штаты Америки. И для борьбы с этими морскими державами решил создать мощный подводный флот. Дело приняло широчайший размах, и к началу этого года подводные лодки буквально штамповались посекционно в городах Киле, Готенхафене, Кельне. Из них еженедельно на верфях собирались по пять-шесть новых боевых единиц. «Волчьими стаями» подлодок немецкое командование стремилось заселить всю атлантическую акваторию от Англии до Американского континента. Ким Борисович в курсе этих событий, а остановился я на них, чтобы дать представление вам.
— Капитан обвёл взглядом ребят, жадно ловивших каждое его слово, и продолжал: — Знали об этом и в Москве. Из Центра мне сообщили, что я перевожусь в этот род войск.
— Можно вас перебить? — по школьной привычке поднял руку Гриша. — Мне не понятно: разве из Москвы могли…
— … переставить разведчика из одного ведомства в другое, словно шахматную фигуру? — помог ему сформулировать вопрос рассказчик. — Согласен, выглядит это странно. Но вот из вас же не позволили сделать одноразовых доноров? Это я к тому, что люди, сочувствующие Стране Советов, есть даже на самом верху вплоть до команды фюрера. Так что не удивляйтесь, если скажу: распоряжение о моём переводе на должность командира подводной лодки исходило, как это ни странно выглядит, из его окружения. Более того, высокопоставленный чин мне же поручил и подобрать себе команду на моё усмотрение.
— Вам разрешили подбирать матросов-антифашистов? — удивился Андрей — Можно сказать и так. И помогли мне в этом антифашисты из числа гражданских, с которыми я поддерживал постоянную связь. Задача у меня как командира подводной лодки — не давать шакалам «папы Деница» (так подводники величали своего шефа) возможности топить у побережья Соединённых Штатов американские суда. Тут надо вам пояснить. Акватория американского побережья была нашпигована десятками подлодок, буквально терроризировавших район на тысячу миль! Миля? это почти полтора километра. Немцы безжалостно отправляли на дно танкеры с нефтью, военные, торговые и даже просто пассажирские транспорты. Сами понимаете, я со своей командой не мог быть нейтральным наблюдателем. Мы, напротив, сопровождая американские суда, в особенности пассажирские, охраняли их от поражения немецкими торпедами. От соседей-помощников отделывались под предлогом того, что вполне управимся одни, а лишний Железный Крест на мундир не замешает и нам. Особо рьяных да ретивых, случалось, награждали торпедой в бок. И вот вскоре узнаю, что среди экипажа объявились недовольные такими моими действиями… Всего двое, и один из них — мой старпом. Мне доложили, что они подговаривают матросов арестовать капитана, грозя в противном случае поставить в известность гестапо. Мне ничего не оставалось, как их упредить.
— И вы их расстреляли?
— Нет. На допросе выяснилось, что моему помощнику всего лишь захотелось самому стать капитаном. При этом он обещал своему стороннику, оказавшемуся родственником, повышение в звании и в придачу Железный Крест. Так это или нет, но команда попросила меня оставить их в живых, предложив высадить на каком-нибудь глухом островке.
— И вы привезли их аж сюда, — предположил Степан.
— Ты опять не угадал, — улыбнулся капитан. — Везти их в такую даль я бы не стал, нашёл бы островок и поближе. Но тут как раз поступила шифрограмма с приказом потопить некие грузовые подлодки, следующие в район Панамы. Это…
… небольшое государство Южной Америки, — воспользовался паузой Андрей. Он неплохо изучил карту, найденную в чемоданчике Кима Борисовича. — Оно находится почти на широте Островов Зелёного Мыса. Теперь понятно, как вы оказались в этих краях! А шифрограмма поступила из Москвы?
— Мы находились слишком далеко, чтобы московский радиосигнал, даже очень мощный, был принят нашей антенной. Приказ пришёл опять же из Берлина.
— Насколько мне известно, мощную и притом неконтролируемую радиостанцию имеет только Толстый Мартин, правая рука фюрера, — заметил по-немецки Ким Борисович, для которого эти сведения также, видимо, показались неожиданными.
— О сотрудничестве Бормана с Москвой я предполагал, хотя в это плохо верилось, — ответил ему капитан и перешёл снова на русский. — Так вот, догнав подлодки — они из соображений сверхсекретности вышли без сопровождения — я связался с командованием, доложив, что прислан для страховки от всяких неожиданностей. Выяснилось, что везут они всего лишь пару самолётов — разумеется, в разобранном виде — на один из островов вблизи Панамы. После сборки на месте эти самолёты должны были сбросить груз взрывчатки на шлюзы Панамского канала. То есть практически разрушить чудо начала века, сработанное киркой и лопатой сотен тысяч рабочих. Этот канал очень мешал Гитлеру в осуществлении планов стать хозяином всего земного шара… Выполнив задание — а это случилось, ты, Андрюша, прав, даже южнее вашего островка, я заодно решил поискать в этих краях, куда бы пристроить своих ослушников, тем более что после всего должен был вернуться к берегам Германии. И, как видите, оказался у вас в гостях, — подошёл к завершению своего рассказа советский разведчик. — Мне нужен был островок необитаемый, чтобы они поробинзонили вдвоём. И не упомяни Ким Борисович, что ваш именно такой, я бы с вами сейчас не сидел…
— Это благодаря моему талисману! — достала Марта завёрнутый в шёлковую тряпочку подарок Андрея и дала посмотреть отцу. — Его мне подарил Андрюшка в день моего четырнадцатилетия. Но я расскажу тебе об этом после, а сейчас… очень хочется знать: как ты думаешь, папа, когда закончится эта ужасная война?
— И вообще, что вам известно о положении на фронтах? — добавил и свой вопрос Андрей. — Чем кончилась битва за Сталинград?
— Битва под Сталинградом ещё не закончилась. Там идут кровопролитные бои и трудно предсказать, чем всё это кончится… Но если верить американскому радиовещанию, Красная Армия стоит насмерть. И о сроках окончания войны говорить ещё рано.
— Пап, а что будет с нами? Ты ведь нас здесь не оставишь?
— Конечно, не оставлю! — улыбнулся он ей, поцеловав в щеку. — Не для того твой талисман указал мне дорогу сюда. Как я уже упоминал, мне приказано прибыть к берегам Германии, подремонтироваться и ждать нового задания. Но прежде я доставлю вас поближе к дому.
Озабоченный долгим отсутствием бледнокожих, Танба во второй половине дня с Замбой и двумя сопровождающими отправились на берег океана к вышке, куда те, с утра чем-то встревоженные, заспешили во главе со своим вождём. Заподозрив неладное, подкрались незамеченными, понаблюдали из укрытия и пришли к выводу, что ничего плохого не случилось: все живы, сидят в холодке под большой зелёной шкурой и спокойно разговаривают. Правда, откуда-то взялись ещё трое бледнокожих, но с одним из них Мар-Та сидит в обнимку, а двое других вообще устроились поодаль. Заметили они и Большую Пирогу невдалеке от берега, но и она беспокойства не вызвала. Решив вернуться обратно, вышли из укрытия, уже не хоронясь, и были замечены матросами, а затем и Андреем. Окликнув, он пошёл узнать, в чём дело да заодно и пригласить до компании. Узнав, что их сюда привело, пояснил:
— Это к Мар-та наведался её папа. Соскучился и приплыл вон на той пироге — видите, какая она большая! Не только поверху плавает, но и под водой, как Ку Аку. Эта Пирога — Большого Вождя, и он приглашает вас быть его гостями.
Гости поприветствовали Большого Вождя, после чего их усадили к «столу» и угостили привезёнными с лодки яствами — печеньем и конфетами.
Дело шло к вечеру, почти всё было переговорено и выяснено, а потому разговор зашёл об острове и его коренных обитателях. Капитан немало удивился, узнав, что здешнее племя всё ещё прозябает в каменном веке.
— До встречи со мной, — поведал ему Андрей, — они огонь добывали трением, а в обиходе имели только костяные ножи, плохо заострённые пики да увесистые дубины. А как обрадовались настоящему кухонному ножу и топорику, если б вы видели!
— Я припас для своих будущих робинзонов необходимый для выживания инвентарь — заметил капитан. — Придётся уделить часть и для ваших дикарей.
— А что это за инвентарь?
— Ну, предметы первой необходимости: топоры, ножи, посуда и прочее.
— Так это ж как раз то, чего не хватает нашим островитянам, чтобы перешагнуть в XX век! — воскликнула Марта. — Они, папа, хорошие, хоть и дикари: за скальпами не охотятся, не людоеды и вообще мирные люди. Они очень обходительные и понятливые, я их сразу полюбила. И уже немного понимаю по-ихнему!
— Ты у нас растешь умницей, доченька! — похвалил её отец. — Я сделаю для них всё, что вы попросите.
— Товарищ капитан! — пришла вдруг идея Андрею. — А нельзя ли сплавать к их соседям? Они живут где-то недалеко, на берегу озера, из которого вытекает вот эта речка. На надувной лодке. Можно?
— Вы считаете, что это необходимо?
— Да, очень! Племена, наше и это, долгое время враждовали. Мне с трудом удалось их помирить. А это посещение укрепило бы дружбу ещё больше.
— А то мы уедем, а они опять за старое, — поддержала Марта.
И Андрей коротко рассказал о племени одноухих — то, что уже известно читателю.
— Хорошо, мои юные миротворцы, — согласился капитан. — Лодка с навесньм мотором завтра будет в вашем распоряжении. Отвезёте им подарков, пусть и они перешагнут в XX век, — улыбнулся он дочери.
— Это самое… А мотор потянет две? Если, конешно, у вас найдётся ещё одна, — поинтересовался главный миротворец.
— Найдётся. Но зачем вам две?
— Тут такое дело… У нас с вождём одноухих есть договорённость, что он вернёт здешних девушек и женщин, захваченных ими два года назад. Или отдаст взамен своих.
— А то здешние парни остались совсем без невест, — добавила Марта.
— Вон оно что! — засмеялся отец. — Ну что ж, идея неплохая. Поможем парням обзавестись невестами!
— Знаете, сколько радости будет, когда они об этом узнают! — воскликнул Андрей, довольный придумкой. — А на сколько человек рассчитана надувная лодка?
— Ну, с десяток невест вполне выдержит.
Новость действительно вызвала бурное оживление у гостей и столько вопросов, что пришлось поднапрячь фантазию, чтобы как-то ответить на все. Под конец он сказал:
— Мы с Мар-та заночуем на Большой Пироге у её папы, поэтому слушайте внимательно, как будет завтра: Танба с отцом и ты, 3амба, с Ама Сю утром ждите нас на берегу речки. Мы с вами на таких пирогах, как вон та, — кивнул в сторону надувной лодки, — поплывём в гости к одноухим. Повезём подарки от Большого Вождя, а оттуда прихватим невест для ваших ребят. Их будет столько, сколько пальцев на двух руках. И, конешно, заберём старшую дочь вождя одноухих, которую он обещал тебе в жёны. А теперь отправляйтесь домой и передайте всё, что услышали от меня. Это, 3амба, передашь своей невесте, — вручил он ему узелок с гостинцами.
Едва солнце показалось над поверхностью океана, две вместительные надувные лодки отчалили от капитанской рубки и направились к устью речки. В передней на носу удобно расположились Андрей с Мартой; моторист — светловолосый, крепко сбитый матрос лет двадцати с небольшим — сидел на руле. Посередине стояли канистра с бензином и большая алюминиевая кастрюля с подарками для вождя одноухих, в которой виделись два топора, столько же ножей-мачете, пара котелков и даже небольшая пила-поперечка. Поверх всего — прихваченный зачем-то автомат.
Речка, сбросившая избыток воды, была ещё довольно полной, с заметным, но не слишком быстрым течением. Движок тянул шустро, пронзительно тарахтел, вспарывая сонную гладь. Вспугнутые неслыханным в этих краях треском выхлопа, птицы стаями взлетали и уносились прочь, другие убегали в заросли правого берега.
— А скорость приличная! — наклонясь к уху Марты, сказал Андрей. — Зараз полседьмого — кстати, сегодня уже 7 декабря! — а часа через полтора-два будем у одноухих, — предположил, посмотрев на циферблат.
— А ты не забыл, что месяц назад наша Родина отмечала двадцатипятилетие Советской власти? — спросила она. — Мы в честь этой даты не пожалели двух патронов для салюта.
— Конешно, нет! Только мне было очень грустно.
— Порожнем-то мотору легко, — после паузы вернулась она к прежнему разговору. — А вот на обратном пути будет потяжелей: нас семеро да десять пассажирок — груз немалый.
— Зато оттуда ему не надо будет бороться с течением. Я что сичас подумал, — наклонился он снова к самому её уху. — Хорошо бы загрузить вторую лодку теми из мужчин, у кого были увезены жёны. Матери охотно вернутся к своим ребятишкам-сиротам. Мужиков оставить там, а вернуться с невестами для молодых.
— А как те доберутся обратно?
— На плотах! Мы ведь везём аж два топора и пилу. Забацают пару плотов, и течение само доставит их до места.
— Я двумя руками «за»! — одобрила она. — Но надо спросить у моториста.
Тот ничего против не имел:
— Я полностью в вашем распоряжении. Как прикажете, так и будет.
— А сколько можно взять мужиков?
— Да сколько поместится! Думаю, человек пятнадцать.
— Ну вот, видишь! — вернувшись на место, сказал Андрей, — А их столько и не наберётся. О, вон и встречающие!
Проводить вождя и поглазеть на невиданные пироги к берегу пришло всё население. Взрослые стояли, детвора сидела на краю обрыва, свесив ноги. Вождь с сыном, Замба с невестой и Ким Борисович стояли внизу особняком; у самого берега — Леонид, Гриша, Борис и Степан. Они и вытащили приставшую к берегу переднюю лодку.
Андрей поделился только что осенившей его идеей с вождём племени. Тот предложение одобрил и стал поимённо называть кандидатуры, 3амба выкликал их из толпы, Андрей объяснял суть и каждого инструктировал, после чего усаживал на задней лодке. Рассаживались боязливо, но никто не струсил и не отказался от рискованного путешествия — желание вернуть жёнушку оказалось сильнее страха.
Через полчаса ребята оттолкнули обе «надувняшки», движок затарахтел снова и вскоре набрал прежнюю скорость. Минут через десяток кончилась возвышенная часть острова, и вдоль обоих берегов сплошной стеной поплыли дремучие заросли, отражавшиеся в воде, словно в огромном по протяжённости зеркале.
Но вот берега как-то сразу раздвинулись, впереди простёрлась водная гладь столь широкая, что по бокам виднелись лишь верхушки окаймлявшего озеро леса. Вождь велел принять левее — значит, скоро покажется и искомое селение.
Врезались в громадное, не меньше полутысячи, стадо гусей, которые в панике стали разбегаться в стороны.
— Почему они не взлетают? — удивилась Марта — Наверно, у них линька. Старые перья выпали, а новые ещё не выросли как надо, — высказал предположение Андрей. — Мне приходилось видеть таких в плавнях.
А вот уже и обжитое побережье. Постройки похожие, разве что без пальм, торчащих из крыш (видимо, здесь сильные ветры редки); обилие кокосовых, банановых и прочих деревьев, растущих в беспорядке. Схож и рельеф: суша поднимается над уровнем воды на значительную высоту. Берег пологий. Видимо, озеро возникло в котловине, непонятно как образовавшейся посреди острова.
Там тоже заметили невиданное доселе плавсредство: на берег высыпало немало народу. Однако по мере приближения тарахтящего страховища толпа стала редеть, и под конец остались только мужчины, вооружённые пиками, дубинами и… несколькими луками.
Метрах в двухстах моторист выключил движок, лодки продолжали двигаться по инерции и остановились в броске копья от берега. С этого расстояния вожди узнали друг друга и обменялись приветствиями: скрестили руки над грудью. Причаливали к пологому песчаному берегу на вёслах.
С задней лодки стали раздаваться приветственные возгласы: кто-то из прибывших узнал в толпе — а сюда снова устремились осмелевшие жители — своих угнанных жён. Те тоже разглядели мужей, протискивались вперёд, что-то кричали, протягивая руки навстречу. У некоторых они заняты малышом, иные женщины — это бросалось в глаза — с округлыми животами, что, впрочем, нисколько не умаляло радости с обеих сторон. Самые нетерпеливые встречали своих бывших благоверных, забредая по самые набедренные повязки (если можно так сказать о бахроме) в воду, тёрлись щеками, обнимались, орошая друг дружку слезами радости…
Как выяснилось позже, захваченные в качестве добычи незамужние девчонки стали жёнами молодых воинов, ещё, как правило, неженатых. Они смирились с судьбой и были, пожалуй, даже счастливы. Молодухам же постарше пришлось довольствоваться ролью второй, а то и третьей по счёту жены; тут не до радостей. По прибытии домой из неудавшегося похода вождь, держа данное слово, объявил: те из пленниц, кто хочет вернуться к прежним мужьям и детям, в скором времени смогут это сделать. Владельцам мини-гаремов это, возможно, не нравилось, но слово вождя здесь — закон непререкаемый. Поэтому большинство женщин с радостью отказались от постылых. Даже те, кто обзавелся тут дитём или готовился стать матерью.
Сразу после церемонии встречи — вожди тоже потёрлись щеками, обнялись, похлопывая друг друга по спине — хозяин повёл почётных гостей к себе в вигвам — просторный, с несколькими закутками, украшенный плетёными узорами. Сюда доставили и кастрюлю с подарками, и по окончании переговоров Андрей приступил к вручению.
Само собой, все подарки были в диковинку. Поэтому сперва нужно было объяснить назначение каждого предмета и показать практически, как им пользоваться. Особое удивление вызвала лупа, мгновенно превращавшая солнечные лучи в источник огня. Шаман (он тоже присутствовал, но с кляпом во рту: вождь понял совет Андрея «заткнуть рот» слишком буквально) долго и пристально разглядывал странную вещицу, вертел и так и этак, пока нечаянно не сфокусировал луч на собственном теле. От неожиданной боли вскрикнул, выронив лупу, кляп из кокосового волокна вывалился изо рта. Он попытался затолкать его обратного, но Андрей вмешался:
— Не надо больше затыкать рот, — сказал он и обратился к вождю: — Я отменяю наказание. Вижу, что теперь твой шаман стал благоразумным. Пусть отныне добывает огонь с помощью этой Твёрдой Воды. Но добывает бесплатно и по первому требованию людей!
Двое жён и трое дочерей вождя были без ума от зеркал и мелких блестящих безделушек. Словом, подарками все остались довольны в высшей степени.
С вручением диковин и разъяснениями, как ими пользоваться, андреевы обязанности кончились. Остальные дела — отбор невест и прочее его участия не требовали. Найдя Марту в обществе Ама Сю и её сверстниц, он предложил пройти к мотористу и пообедать прихваченными с подлодки консервами с хлебом. Скучавший без дела матрос обрадовался возможности узнать подробней о происходящем. Подкрепляясь, они познакомились ближе. Выяснилось, что зовут его Фрицем, родом из Кельна, неженат, но дома его ждет невеста «такая же хорошенькая, как Марта»; только вот давно не получал от неё весточки.
— Слышь, Фриц, а зачем ты прихватил автомат? — поинтересовался Андрей, держа в руках новенький «шмайссер».
— Капитан приказал, на всякий случай. Я за вас головой отвечаю.
— Ну, отвечать не понадобится! Очень удобный, Миша не зря хвалил, — признался он Марте, но добавил: — Этого не переводи. И вообще, наши пэпэша мне нравятся больше. По крайней мере, патронов в диске втрое больше, чем в рожке.
— Ему хочется из него пострелять? — возникла догадка у Фрица. — Разрешаю.
— Тут нельзя — знаешь, какой переполох будет!
— Они что, ещё выстрела не слыхали?
— Большиство — понятия не имеют. Слушай, у тебя как с бензином? Не смотаться ли нам поохотиться на гусей — видел, сколько их тут! И как раз линяют.
— Не возражаю! — охотно согласился моторист.
— Мужики, которых мы привезли, поживут тут несколько суток, и гусятина будет им очень кстати!
Отцепили вторую лодку, на вёслах отошли подальше и только потом запустили мотор, чтоб не напугать детвору, глазевшую поблизости. На подходе к гусиному стаду движок снова заглушили, накрылись брезентовкой, что позволило приблизиться вплотную, не учинив паники. Одиночными выстрелами с близкого расстояния Андрей успел подстрелить с полдюжины прежде, чем остальные разбежались. Решили подобрать добычу, а потом отбить ещё косячок и добавить, сколько удастся.
Но тут случилось неожиданное. Одного из гусей, оказавшегося подранком, никак не удавалось схватить — от удара веслом увёртывался. Фриц решил было добить его выстрелом, взял на мушку, но в этот момент из воды показалась громадная голова с глазищами величиной с гусиное яйцо и с метровыми усами. Чудище разверзло пасть, и гусь исчез в зеве…
— Это сом! Полосни в него очередью! — вскричал Андрей. — А то как бы он и нас не слопал!..
Этого можно было на немецкий не переводить: матрос среагировал мгновенно, и вода окрасилась в розовый цвет. Убитый наповал, сом вгорячах исчез в глубине, но не надолго. Тут же и всплыл кверху брюхом.
Вот это — рыбина! — воскликнул Андрей восхищённо, — Больше двух метров и весом, наверно, пудов десять. Отожрался на гусях.
«Улов» без труда подцепили к лодке и отбуксировали в селение. Вождю объяснили, что гусей и рыбину тоже отдают в качестве подарка на общий котёл.
В тот же день к вечеру делегация возвратилась домой. Невест — для Танбы и ещё десяти местных холостяков — здесь встретили торжественными выкриками и плясками. Все были в принаряженном виде: разрисованы узорами, носы и уши утыканы разноцветными занозами. Невесты тоже прихватили приданое — цветные бахромчатые юбочки короче обычного, украшения из ракушек, костяшек и деревянных поделок. Здесь же, у речки, устроили и смотрины. Десяток парней образовали кольцо вокруг прибывших девушек, и каждый пытался привлечь к себе внимание, демонстрируя украшения, мускулы, зубы, тараща глаза, корча рожи и что-то восклицая. Но право выбрать себе жениха предоставлялось прекрасной половине.
Бледнокожие гости наблюдали происходящее со стороны. Зрелище было необычным и интересным, но Андрей с Мартой отбыли вскорости на лодку к отцу.
Трое суток понадобилось для того, чтобы обучить островитян пользоваться оставляемым им инвентарём и прочим имуществом. А диковинок оказалось немало: с подлодки было удалено всё, что не представляло крайней необходимости. В разряд лишнего груза попали: кое-какая посуда и инструментарий, верёвки, брезенты и даже боеприпасы. Всё, что могло пригодиться, отдали людям, а излишки боеприпасов — мин и взрывчатых веществ — выбросили в океан. Была отстрелена и оставшаяся неиспользованной торпеда. Ведь время нахождения в пути зависело от скорости движения, а она — от массы самой лодки.
Пару складных шлюпок и некоторые рыболовные снасти, предназначавшиеся поначалу робинзонам, тоже, по просьбе Андрея и Марты, оставлены были островитянам.
— Чем отдавать этим мерзавцам, лучше подарить чернокожим друзьям! Те и так сумеют выжить, — рассуждал Андрей. — А не выживут — туда им и дорога.
— Лодки нужнее здесь, — считала и Марта. — Когда это они сделают себе пироги, а в гости съездить, родственников повидать и дикарям хочется!
И вот этот час настал — час прощания. Проводить бледнокожих друзей все пришли на берег к вышке. По такому случаю мужчины разукрасили себя специальными, праздничными узорами, в ноздри и уши воткнули лучшие из заноз. Девушки нацепили красивейшие ожерелья из раковин. Волосы, короткие и курчавые, заплели в замысловатые косички. Ама Сю трусы спереди украсила браслетом от часов, отчего выглядела самой красивой. Было устроено шумное, красочное представление, прыгали и скакали до упаду под выкрики и беспорядочную барабанную дробь. В качестве барабанов были использованы тазик и кастрюля, хотя Андрей о таком способе их применения ничего не говорил.
Они с Мартой со всеми простились за руку (новшество запомнилось и прижилось), кое с кем потёрлись щекой. Ама Сю плакала навзрыд; не могла, прощаясь с нею, сдержать слёз и Марта…
Наконец, бледнокожие в лодках отбыли на Большую Пирогу и, помахав на прощанье, скрылись в рубке. Капитан удовлетворил просьбу ребят показать на деле, что эта «пирога» может не только плавать поверху, но и под водой, «как Ку Аку»: отойдя от берега на необходимую глубину, подводная лодка исчезла с поверхности, словно её и не было.
Для неудавшихся карьеристов вскоре нашёлся атолльчик вдали от архипелага. Здесь имелось всё, чтобы не умереть с голоду. Робинзонам оставили необходимые для выживания вещи, пообещав сообщить координаты на родине.
Теперь — курс на север.
Потянулись однообразные, монотонные дни и ночи. На сколько видит око — безбрежная океанская даль. Вверху — палящее солнце, редкие, не дающие тени, облака. Лишь раз, и то недолго, шли под покровом грозовых туч, попали в полосу ливня; а однажды штормило так сильно, что пришлось опускаться на небольшую глубину во избежание укачивания юных пассажиров.
При штилевой погоде, случалось, наперегонки с лодкой мчались проворные дельфины, увязывались акулы, выпрыгивали из воды летучие рыбки. Ночами океан светился мириадами огоньков.
Надо отдать должное мореходным качествам судна: неслось оно, словно торпеда, оставляя позади сотни миль и с каждыми сутками приближая пассажиров к заветной цели.
Наконец радист смог связаться с передвижным топливозаправщиком, тот вышел навстречу. Дозаправившись, дотянули до ближайшей базы на африканском побережье. Здесь пополнили запасы пресной воды и продовольствия, загрузили пустые торпедные люки — и снова вперёд.
Из бесед капитана с Кимом Борисовичем — они говорили по-русски — Андрей знал, что теперь они держат курс на Германию. В очередном сеансе связи с Берлином капитан доложил о выполнении задания и получил новое: после ремонта на одной из верфей он с тем же заданием, что и раньше, направляется патрулировать северный морской путь, по которому англичане доставляют в мурманский порт в России боевую технику, вооружение, продукты питания для Красной Армии. Не позволить «шакалам папы Деница» топить хотя бы те из транспортов, которым удаётся прорваться как можно ближе к месту разгрузки.
— Ты, возможно, не слыхал, — пояснил капитан Андрею, — что американцы с англичанами пообещали товарищу Сталину открыть второй фронт, чтобы отвлечь часть армий Гитлера на запад. Но делать это не спешат…
— Жалко посылать на смерть своих?
— Да нет, причина, скорей, в другом. Они, похоже, ждут, чья возьмёт. Чтоб тебе было понятней, поясню, в чём тут дело. Если СССР считается родиной социализма, то Америка с Англией — бастионы капитализма. Надеюсь, разница между этими понятиями тебе известна.
— Конешно! У них Мистеры Твистеры-миллионеры наживаются на труде рабочих, а у нас все равны и всё делается в интересах простых людей, — подтвердил свою осведомлённость подросток.
— Верно. И эти Мистеры-Твистеры рады бы помочь Гитлеру стереть с карты нашу страну. Но боятся, что после этого он возьмётся и за них. Вот и вынуждены помогать Красной Армии.
— Почему тогда тянут с обещанным вторым фронтом?
— Советы для них — злейший враг, и чем больший урон нашему народному хозяйству причинит затянувшаяся война, тем они окажутся в большей выгоде после нашей победы.
Я понял: они помогают нам потому, чтобы сказать после войны: «Мы тоже пахали!» Как мухи в басне Крылова: бык пахал, а они сидели на рогах да ещё и мешали…
— Ты, Андрюша, рассудил правильно. Но военная помощь армии нужна, и я сделаю всё возможное, чтобы морские транспорты из Англии добирались до места назначения. Однако, — добавил капитан подводной лодки, — после того, как доставлю на Родину груз, для меня более дорогой и важный, — вас.
У матросов, членов экипажа, Марта раздобыла несколько книжек приключенческого характера. Читая, пересказывала содержание товарищам, которым изрядно надоело глазеть на воду или спать. Это помогло скоротать время.
Во второй половине декабря обогнули африканское побережье, прошли вдоль Португалии, Испании, Франции, достигли пролива Ламанш — самого опасного участка пути. Проныривая его, едва избежали английских глубинных бомб. На германском побережье Северного моря высадили Кима Борисовича. Капитан снабдил его пакетом с сургучной печатью, где объяснялось, при каких обстоятельствах подобрал он и доставил на родину высокопоставленного чиновника рейха. На этот счёт ими была сочинена безупречная легенда.
Путь к Ленинграду, к счастью, оказался открытым: мощный антициклон, обрушивший на балтийские льды тёплые массы воздуха из Атлантики, резко смягчил погоду, взломал их на всей акватории вплоть до Риги и Финского залива. Субмарина без труда лавировала между разрозненными ледяными полями.
По широким разводьям курсировали большие и малые немецкие суда. С востока везли продовольствие, изъятое у бедствующих Украины, Белоруссии и России. С запада спешили транспорты с боеприпасами и снаряжением для вермахта. Один из таких транспортов вскоре попался на пути подводной лодки. Андрей, все последние дни проводивший в капитанской рубке, узнал, что его решено пустить на дно. Прибежав в каюту с ребятами, подозвал Марту и спросил на ушко:
— Хочешь посмотреть, как отправится кормить раков фашистский пароход с боеприпасами?
— Ой, я на такое смотреть не хочу…
— А мне интересно. Идём, перескажешь, о чём они будут говорить. А потом, если не хочешь, уйдёшь, — попросил он.
— Ладно, только ради тебя.
Поднялись в рубку, когда до транспорта оставалось около ста метров. Огромного, судя по габаритам кормы, водоизмещения грузовик бороздил широкую прогалину, усеянную ледяным крошевом, напоминавшим кусковой сахар. Поровнявшись с ним, сбавили ходу и пошли бок о бок. Заметив это, капитан грузовика прошёл к борту с рупором в руке.
— Почему идёте без охраны? — спросил через громкоговоритель подводник.
— Поблизости шастает англичанин — рискуете напороться на торпеду.
— Моё дело — выполнять приказы… — прокричал тот. — Надеюсь, вы не англичанин?
— Шутить изволите! Ни пуха вам и семь футов под килем. Я буду неподалёку.
Вернувшись к себе, дал команду «полный вперёд», затем — приказ на погружение. Заняли позицию для атаки. Как только объект оказался в секторе поражения, ударили торпедой. Раздался взрыв такой мощности, что заскрипела обшивка. Когда всплыли снова, там, где был транспорт, еще кипел бурун, а в воздухе рассеивалось облако дыма…
— Как я понимаю, сёдни мы будем уже на месте, а Ленинград всё ещё в блокаде, — сказал Андрей. — Хотелось бы Новый год встретить на Родине, но как же мы туда попадём?
Передав вахту помощнику, отец сел между Мартой и ним, обнял их за плечи.
— От одной только мысли, что придется с вами расстаться, сердце разрывается на части, — сказал задумчиво и грустно. — Как быстро пролетели эти счастливые для меня деньки!.. Ты спросил, как туда попадём. Признаться, пока и сам не представляю. Ким Борисович должен был связаться с Москвой, его там знают и ценят. Он передаст и мою просьбу относительно вас. Конечно, хлопот ленинградскому командованию хватает и без нас. Но, может, всё-таки подготовят нам встречу.
— А как это будет происходить? — не понял Андрей.
— В Ленинграде будут знать наши позывные, пароль и другие подробности. Мы свяжемся с ними по рации, сообщим координаты, и за вами должны прислать людей.
— А если Кимбору не удалось этого сделать?
— Тогда я отвезу вас в другое безопасное место, где…
— Шеф, навстречу идёт какое-то судно, — сообщил помощник, и капитан, недоговорив, поднялся. Вскочили и ребята, Андрей поднёс к глазам бинокль — Тоже грузовик, но поменьше, — сообщил он Марте. — На палубе не то мешки, не то тюки какие-то. А загружен до отказа — сидит по самую ватерлинию.
— Пап, ты и этот пустишь ко дну?
— Посмотрим, дочка, что они везут…
Сближаясь, подали сигнал остановиться.
— С чем следуете? — спросил у вышедшего на переговоры хозяина судна, одетого в гражданское.
— С грузом муки и сала. А что такое?
— Кроме команды, есть кто на борту?
— Есть, капитан, есть: — полдюжины красоток — пальчики оближешь! Твои, небось, оголодали?.. Могу парочку уступить!
Хозяин говорил с веселой фамильярностью — был, похоже, навеселе.
— Буду весьма признателен. Где грузились, что вам на днище присобачили магнитную мину?
— Не может быть!..
— Мой акустик слышит, как её часы отстукивают ваши, может статься, последние минуты, — припугнул его капитан. — Немедленно перебирайтесь ко мне на борт, пока водолазы не сбросят эту адскую машину вниз!
— Спасибо, коллега! — уже более трезвым голосом заговорил тот. — Мы сейчас же покинем судно!
Команда муковоза спешно спустила шлюпку, шустро подгребла к отошедшей на приличное расстояние «спасительнице», перебралась за обрешётку. В их шлюпку пересели двое матросов и направились к муковозу. Тем временем капитан задраил рубку и дал погружение. Когда, отойдя, всплыли снова, за обрешёткой не оказалось ни одного человека. «Водолазы» вернулись.
— Садись, Андрюша, в шлюпку и поднимешься с ними на палубу, — распорядился командир. — Найдите и переправьте сюда девушек.
Отыскать «красоток» труда не составило: все шестеро сидели в одной из незапертых кают. Это были и впрямь красивые, словно на подбор, девчонки лет 16 — 17-ти. Они со страхом поглядывали то на парня в военном, то на Андрея.
— Здрасьте, девочки! — улыбнулся им он.
— Здоровэньки булы, панове… — обозвалась одна из них.
Какой я тебе «панове»? Видишь — я русский!
— А хиба?.. Видкиль же вы узялысь?
— Вобщем, так: вопросы потом, а зараз быстренько одевайтесь и потеплей. Надевайте эти фрицевские бушлаты, не бойтесь. И поедем домой, ясно?
Девчонки мигом оделись и с опаской двинулись вслед за неожиданными спасителями. Матросы помогли спуститься в шлюпку, а на лодке их встретила Марта, провела в каюту к ребятам. Судно с грузом муки и сала взяли на буксир, чтобы попытаться доставить к голодающему Ленинграду.
На месте всё обошлось, как нельзя лучше: Москва сообщила руководству города радиочастоту и пароль, необходимые для налаживания контакта с «Капитаном Икс». Такой контакт состоялся, и в указанное место под покровом ночи прибыла группа вооружённых людей. Здесь они узнали, что кроме ребят их ждет и приятный сюрприз — груз муки и сала, доставленные кем-то. Подводной лодки — и след простыл.
А незадолго перед тем в каюте капитана состоялся такой разговор:
— Папа, когда мы теперь увидимся снова? — Слёзы одна за другой скатывались с ресниц, Марта смахивала их указательным пальчиком, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разреветься.
— Не раньше, доченька, чем кончится эта проклятая война…
— Ты, папочка, береги себя, ладно?
— Обещаю. Мне очень хочется увидеть вас с мамой. Ты с нею ветретишься раньше — поцелуй её и за меня. Крепко-крепко! А тебе, Андрюша, я завещаю беречь их и помогать, если я задержусь с возвращением.
— На меня можете положиться! — твёрдо пообещал Андрей.
Часть третья НА ХУТОРЕ ПОСЛЕ 14-го
Комендант появился «у себя» позже обычного и в сопровождении офицера — молодого, щеголеватого, с холёным лицом — которого Ольга Готлобовна видела впервые. Кивнув на её приветствие, хозяин кабинета жестом предложил гостю кресло с почтительностью, какая могла быть оказываема более высокому по должности.
— Вы, фрау Ольга, мне сегодня не понадобитесь, — вместо приглашения садиться сообщило начальство. — Отпускаю вас управляться по хозяйству.
— Спасибо, господин Бёзе, — поблагодарила она. — Дел накопилось, как говорят в таких случаях русские, непочатый край!
С тех пор, как перебрались из хутора в станицу, ей выпало всего два выходных, и возможность управиться по хозяйству была весьма кстати. И в то самое время, когда Марта с Андреем попались в ловушку на станичном рынке, её мать как раз спускалась по ступенькам бывшего стансовета…
Не застав дома никого, кроме Тобика, она подумала, что дети составили компанию отцу — втроём отправились за веточным кормом. В станице с кормёжкой возникли трудности, козу перевели на стойловое содержание, и в качестве корма пока что служили ветки кустарников. Животное поедало их охотно, но приносить приходилось несколько раз на дню. Впрочем, старик считал это занятие своего рода моционом, и оно не было ему в тягость.
Удивилась, когда отец вернулся один:
— А где же… разве ребята не с тобой?
— Нет, как видишь. Тебе что, дали наконец отгул?
— Комендант отпустил на целый день. А куда отлучились дети?
— Андрюшка ушёл к себе на хутор, а внучка — немножко проводить. Я думал, она уже вернулась.
— И как давно они ушли? — спросила мать обеспокоенно.
— Часа два тому назад. А что такое?
— Да нет, ничего… Странно, однако, что провожание затягивается…
— Молодёжь, куда им торопиться? Заговорились да и задержались.
О том, что Андрею необходимо было уйти как можно раньше и что Марта уговорила его остаться «ещё на денёк», он не знал и потому в затянувшемся провожании ничего странного не усматривал.
Вытряхнув из мешка принесённый корм, он ушёл снова, пояснив:
— Вчерашним массажем ты изгнала всю хворь. Схожу ещё разок, покуда не жарко.
Прошло ещё около часа, дочь не возвращалась, и у Ольги Готлобовны появилась серьёзная обеспокоенность… Но, как ни странно, не в связи с возможной облавой: о подготовке к ней она бы наверняка узнала, так думалось ей. Просто пришёл на память утренний разговор, когда Марта высказала горячее желание повидаться с хуторскими друзьями и подружками. Не находя иного объяснения случившемуся, невольно предположила, что та либо не поняла её запрета, либо… позволила себе ослушаться.
Такого за дочерью пока не водилось, но — успокаивала она себя — всё течёт, всё меняется: девочка подрастает, становится всё более самостоятельной, обретает и право на независимость. Возможно, не обошлось тут и без стороннего влияния…
Поставив греться воду, готовя генеральную стирку, Ольга Готлобовна занята была мыслями о дочери: не допускала ли излишней слабинки в воспитании? Не рано ли положилась на её самостоятельность и благоразумие? И не случилось ли так, что Андрей стал для неё большим авторитетом, чем сама мать? Ежеминутно вслушивалась, не поскуливает ли То-бик, встречая хозяйку; но, увы, напрасно.
Ждала возвращения отца с явным нетерпением, и когда тот снова показался в калитке, с тревогой поспешила навстречу:
— Её до сих пор нет… Папа, она точно сказала, что только проводит?
— Именно так и сказала: «Провожу немножко нашего гостя».
— Я уж думаю, не ушла ли она с ним на хутор?
— Они бы так и сказали…
— Может, побоялись, что не разрешишь?
— На неё непохоже… Да и Андрей не способен на обман — знаю его сызмалу. А там кто их знает, — под давлением факта, который был, как говорится, налицо, усомнился и он, — может, и ушли. Переходный возраст, что с них возьмёшь!..
И оба сошлись на том, что девочка к вечеру непременно объявится. Когда же и эта надежда не сбылась, не знали, что и подумать. Вернее, чего только не передумали! И лишь с большим опозданием стукнуло: а может, сегодня фашисты осуществили «набор детей для страховки от действий партизан» (так значилось в предписании)… «Именно за этим явился тот молодой офицер! Вот почему меня отпустили управляться по хозяйству… Ах, какая ж я дура, что не кинулась вовремя! «— казнилась Ольга Готлобовна. Остаток ночи провела она в слезах.
С тяжёлым сердцем спешила утром на свою ненавистную, проклятую работу. Теплилась надежда: авось состав ещё не ушёл; может, не всё ещё потеряно!..
Комендант пристально посмотрел на вошедшую в кабинет секретарь-переводчицу, заметил её припухшие, покрасневшие от слёз глаза, поинтересовался:
— Вы сегодня неважно выглядите, фрау Ольга… Вам нездоровится?
— У меня громадное горе, господин Бёзе… Вчера днём исчезла куда-то моя четырнадцатилетняя дочь. Вышла из дому… проводить приятеля и не вернулась… — Слёзы судорогой сводили горло, мешая говорить нормально, она еле сдерживалась, чтобы не разреветься.
— Что вы говорите!.. Это ужасно. Примите мои искренние сожаления по поводу случившегося…
— Скажите, господин Безе — только правду, прошу вас! — вчера… не была ли осуществлена акция по набору детей? — с трудом овладев собой, она буквально впилась в него взглядом.
Бёзе достал сигарету, неспешно прикурил от зажигалки.
— Да, это так, фрау Ольга… Но я не допускаю, что и ваша дочь могла клюнуть на этот мой мыльно-спичечный крючок. Дело в том…
— О господи! — не стала она дослушивать рассуждения коменданта. — Эшелон уже ушёл?
— Насколько мне известно, да.
— Ради всего святого, сделайте что-нибудь! — взмолилась она. — У вас ведь тоже есть дети, поставьте себя на моё место…
— Сожалею, что так вышло, весьма сожалею, — не дал он ей договорить. — Постараюсь вам помочь, фрау Ольга… Не медля свяжусь по телефону, прикажу снять ваших ребят и доставить обратно. Думаю, они не успели отъехать слишком далеко.
— Пожалуйста, господин Бёзе! Буду век за вас бога молить!
Комендант достал записную книжку:
— Назовите их данные.
— Марта Цегеле. А имя мальчика — Андрей. Андрей Гончаров, — вспомнила она и фамилию.
— Займетесь текущими делами с господином Пфердом. — Положив записную в карман, Бёзе поднялся из-за стола. — Дам ему распоряжения и сразу же еду хлопотать по вашему делу. Можете на меня положиться. Но: если ваши ребята действительно окажутся в числе набранных нами.
За, в общем-то, непродолжительное время работы под началом этого гестаповца Ольга Готлобовна достаточно хорошо узнала натуру Бёзе: безжалостен, лицемерен. Ей страстно хотелось надеяться на благополучный исход (отпали всякие сомнения, что дети стали жертвой облавы), однако, услышав это его «но», поняла: палец об палец не ударит, чтобы помочь её материнскому горю, отделается лживыми заверениями…
Ах, если б знать, если б предвидеть!.. Зачем, господи, согласилась на эту, такую опасную, такую рискованную работу!.. — уже в который раз корила себя, горько сетовала. Но ведь и не неволили, — оправдывалась сама перед собой. Предупреждали: случиться может всякое, даже самое худшее. После долгих и глубоких раздумий дала согласие. Сообразуясь с долгом перед Родиной и необходимостью борьбы с чумой века — фашизмом. Значит, нужно крепиться, взять себя в кулак. И всё стерпеть ради миллионов людей — не только советских, но и обманутого, оболваненного народа самой Германии, с которым она как-никак одной крови.
А может — теплилась и такая, пусть — маленькая, надежда — даст бог, партизаны проявят оперативность, сумеют спасти детей от неминуемой гибели. Ведь сведения об эшелоне уже ушли по цепочке…
В кабинет, где всё ещё подавленная, разбитая горем, сидела Ольга Готлобовна, вошёл помощник коменданта, офицер баскетбольного роста, тощий, словно жердь, с повязкой на левом глазу и вытянутым, как лошадиная морда, лицом.
— Мне поручено допросить с вами двух недочеловеков, — сообщил он, не взглянув на неё и даже не поздоровавшись; кроме арийского гонора, в голосе сквозила ещё и явная досада. — Необходимо установить, не связаны ли они с каким-нибудь бандформированием.
Вести допрос с этим садистом уже доводилось, и она знала: издевательства над арестованными, их муки доставляют ему пьянящее наслаждение. Возможно, ещё и оттого, что один из истязуемых им лично ухитрился лишить его левого глаза. Поэтому попросила:
— Только, ради бога, без жестокостей!..
— Пора бы уже и привыкнуть! — упрекнул Пферд.
— Боюсь, я никогда не смогу привыкнуть к людским страданиям. А сегодня у меня и самой горе, нервы на пределе — не выдержу…
— Да, я в курсе дела. Весьма вам сочувствую. Хорошо, обойдёмся без крайних мер. Пройдёмте в мой кабинет.
Явившемуся на вызов дюжему адъютанту — он же подручный, специалист по истязаниям — Пферд приказал доставить арестованного за убийство полицая. Им оказался тщедушный мужичонка лет за сорок. Короткие пепельные волосы в нескольких местах склеены кровоподтёками, лицо в синяках, руки связаны назад. Обречённо-равнодушным взглядом окинул он обстановку, скользнул по стоящей у стола женщине, задержался на чёрной повязке гитлеровца, на его набрякшей гармошке под льдинкой правого глаза. Тот с минуту его разглядывал, словно хотел запомнить надолго, затем стал говорить, не глядя на переводчицу.
— Вы обвиняетесь в убийстве полицейского, — перевела Ольга Готлобовна.
— Тем не менее, вам обещают сохранить жизнь, если сознаетесь, по чьему заданию совершено это преступление.
— Нихто мени не давав ниякого задания, — спокойно ответил арестованный.
— А убыв я ёго згарячу, бо полицай чуть не покалечив мою дочку, — сказал с ударением на «у». — Знаю, шо вынуватый, и готовый ответить за ето спольна… Токо… — тут его голос дрогнул, стал просящим, — пожалуста, хай отпустять дивчину — она ни в чому не повынна!
Ольга Готлобовна, глядя то на него, то на Пферда, переводила; последний делал какие-то пометки в деле.
— Вас спросили, — перевела она следующий вопрос, — почему до сих пор не была сдана винтовка? Вас вооружили ею партизаны?
— Та яки, в биса, партизаны!.. Вынтовка — мое личнэ оружие. Батальён отступав блызько от станыци, — стал объяснять заподозренный в связях с партизанами, — а у меня тута двое диток та хвора жинка… У нэи беркулёз. Отпросывся на мынутку — глянуть, як воны тута, та дома й остався. А не здав — так усе було николы…
Задав ещё пару вопросов, Пферд поставил резолюцию: «В расход всю семью».
Следущим для допроса был доставлен подросток лет шестнадцати — невысокий, коренастый, лицо в оспинах. Тоже со следами побоев и со связанными назад руками. Поставив его среди кабинета, подручный встал в дверях — ноги шире плеч, руки за спиной.
— Назови фамилию и имя, — перевела Ольга Готлобовна требование помощника коменданта.
— Спешу, аж падаю! — скривившись в презрительной усмешке, дерзко отпаял тот, с ненавистью глядя ей в глаза.
— Это нужно не мне, а господину помощнику коменданта, — вынуждена была пояснить переводчица.
— Сморкаться я хотел на твоего господина! И на тебя тоже. Вот это видели? — Он скрутил две дули и, поскольку руки связаны назад, повернулся к столу спиной.
Подручный без перевода понял смысл сказанного, подскочил, врезал мальцу по шее. Тот качнулся, но на ногах устоял. Ольга Готлобовна, смягчив, перевела в том смысле, что арестованный, похоже, не совсем нормален. А ему заметила:
— Напрасно ты петушишься. Здесь не то место, где можно хорохориться и дерзить безнаказанно…
— Плевал я на ваши наказания! Так и переведи этому одноглазому козлу. И больше я не скажу вам ни слова. — Подросток демонстративно отвернул в сторону рябое, с фонарём под глазом, лицо.
— Отвечать на вопросы отказался… — пожала плечами переводчица.
— Вижу. Ничего, он у меня заговорит! Сегодня пощажу ваши нервы. К тому же, у меня срочное дело. Увести! — приказал подручному.
— Тут задержали ещё одного ублюдка. Тащить? — спросил тот.
— За что?
— Отирался у входа, сбил с ног одного из здешних болванов… я имею в виду полицая.
Пферд глянул на часы, поморщился, досадливо крутнул головой — видно, времени и впрямь было у него в обрез. Заметив недовольство шефа, адъютант, уже схвативший рябого за шиворот, спросил:
— Оставим на завтра?
— Я, возможно, займусь ими ещё сегодня. — К переводчице: — Я отлучусь, допросите без меня, заведите дело — и под замок.
Задержанным оказался юноша на вид лет семнадцати, крепко сбитый, развалистый в плечах, аккуратно одет. Держась несколько виновато, но уверенно, он пристально смотрел на переводчицу; та, похоже, тоже его узнала.
— Назови имя и фамилию. — Ольга Готлобовна положила чистый лист бумаги, приготовившись записывать показания.
— Кулькин Иван… Да вы меня должны знать: я с хутора.
Несколько смущённый таким приёмом, Ванько хотел приблизиться к столу. Немец сорвался с места, схватил за шиворот и снова оттащил на середину кабинета. Хотел связать руки, но переводчица остановила:
— Ганс, оставь его, он не опасен. Если хочешь, можешь пойти покурить, твоя помощь не понадобится, — предложила помощнику; но тот не вышел, встав на своё место у двери.
— Этот молодчик по-русски не знает ни слова, — притворно-назидательным тоном сообщила она Ваньку. — Делай вид, что отвечаешь на вопросы и держись скромно. Что ты делал возле комендатуры и почему напал на полицая?
— Я его, вобще-то, не трогал… Подошёл, смотрю себе на орла, что при входе — уж очень он у них грозный. Жду, у кого бы спросить, как найти вас. А он привязался: пошёл вон да пошёл вон. Отпихнул его чуть, а он возьми да упади. — Ольга Готлобовна делала вид, что записывает показания, а Ванько тем временем продолжал: — Пришёл узнать про Андрея. Он у вас был?
— Он, кстати, вёл себя осмотрительней — дожидался меня в стороне. Я вышла поздно, и ему пришлось заночевать у нас. Утром дочь пошла его проводить и домой не вернулась. Мы было решили, что Марта ушла с ним к вам погостить… Выходит, они исчезли оба. Куда — пока и сама не знаю.
«Помощник» проявлял излишний интерес к их беседе, и она не стала сообщать большего.
— Странно… — Ванько готов был усомниться, но сухой блеск глаз, тревога в словах убеждали. — Если что выяснится, обязательно дайте нам знать. Хотя… мне и самому ещё нужно как-то выпутаться…
— Тебе-то я помогу. Ганс, — обратилась к торчавшему в дверях истукану, — за этим подростком я не установила никакого криминала. Кроме пустяковой ссоры с этим, как вы выразились, болваном-полицейским, который упал, оступившись на ступеньках. Будь здесь господин Пферд, он бы его отпустил: парень отирался просто из любопытства!
— Шеф разберется! — отрезал тот. — Он приказал запереть и этого!
— Тебя ненадолго поместят в камеру, — пришлось объяснить Ваньку. — Я хотела отпустить прямо сейчас, но этот служака упёрся. Как только появится комендант — а он отлучился на час-полтора, — ты будешь освобожден, это я обещаю твёрдо. Не переживай, всё обойдётся!
Ганс втолкнул не сопротивлявшегося Ванька в небольшое полутёмное помещение, служившее каталажкой, — с одним окошком у потолка и довольно прочной дверью. Не успел он освоиться с сумраком, как кто-то схватил его за руку, спросил с хрипотцой:
— С допроса? Не били? За что сцапали?
— С допроса. Не били. А сцапали так, из-за пустяка.
— Они, сволочи, и за пустяк так отметелят!..
— Всяко может статься… — Ванько рассмотрел следы побоев на лице сокамерника. — А тебя за что так разукрасили?
— Давай сперва познакомимся. — Он стиснул Ваньку ладонь. — Меня звать Степан. Голопупенко, может, слыхал?
Ванько охотно ответил на рукопожатие.
— Ты чо это? Как клещами, — выдернул пальцы Голопупенко.
— Извини, Степа, не рассчитал… Меня зовут Иваном. А фамилии твоей не слыхал, я не станишный.
— Не наш, значит… А откуда?
— Считай меня своим, а откуда — долго рассказывать, — уклонился от полного ответа хуторянин.
Глаза приспособились к сумраку, и он видел теперь и синяки, и ссадины, и даже оспины на лице товарища по несчастью.
— Ну, тебе, браток, и досталось, — заметил он сочувственно.
— Мы ему, козлу смердячему тоже вломили — запомнит надолго!
— Кому это — «ему»?
— Старосте, кому же ещё! Который заманивал нас ехать за товаром… хотя ты, наверно, ничего об этом не знаешь. Вобщем, мы с ребятами отомстили за наглый обман. Отдубасили, как хотели! Вот токо на другом погорели. Я погорел, — поправился Степан. — Братва успела смыться.
— Что ж это у вас за братва, что сами удрали, а тебя бросили?
— Этот выскочил с винтовкой, стал стрелять… И оказался, гад, боксёром — как зведанул меня в висок, ажно памороки вышиб. Не помню, как всё и кончилось.
Слушая, Ванько изучал кутузку. Грязный цементный пол, штукатурка снизу исцарапана какими-то письменами. Застарелый мусор сгорнут в один из углов, оттуда воняло. В противоположном, прямо на цементе, сидело ещё двое обитателей — мужик со связанными назад руками и девчонка в светлом платье, надорванном спереди, босая. Правый её кулак, сжимавший разорванное место между бугорками грудей, пересекла наискосок тёмная полоска. Безучастная к происходящему, она по-родственному склонилась к мужчине лицом.
— У тебя и твоих дружков что, не все дома? — упрекнул Ванько. — Зачем лезть на рожон, если не уверены в благополучном исходе?
— Ну, ты, полегче! — ершисто огрызнулся Степа. — Лишь бы у тебя были дома!
— Извини, если обидел… И не сердись — не место и не время. Эти двое — кто они и за что, не знаешь?
— Батька с дочирой, мог бы и сам догадаться. А за что, не говорят. Чудик какой-то: руки связаны, а развязывать не даёт.
Девчонка, услышав, что говорят о них, кивком отбросила короткую стрижку, прикрывавшую лицо, подняла на них глаза. Судя по синяку на правой руке, ей тоже досталось, но по лицу не били, — подумал Ванько. — Полное, загорелое, красивое. Чем-то похожа на Варю, только у той была коса и волосы светлые. Не случилась ли и с нею такая ж беда!.. Кто-то приставал, это точно: разорвана пазуха, бил. А отец заступился — вишь, как отметелили да ещё и заперли в этом гадюшнике. — Сердце его переполнилось острой жалостью к обоим. Стало даже неловко за себя: его через час-другой выпустят, а что ждет их? Особенно её… Подошёл, присел на корточки.
— Тебя как звать?
— Тамара…
— Это твой отец? — Подтверждающий кивок. — Батя, ты чё не хочешь развязываться?
Мужик промолчал, тяжко вздохнул. Ванько ощупал руки — они стянуты шпагатом настолько туго, что не развязать.
— Не трожь, сынок… Нехай будеть усё, как есть.
— Не дело говоришь, батя! Так можно и без рук остаться.
— Они мне уже не понадобятся, всё одно расстреляють…
— Это когда ещё будет! А вдруг да пронесёт.
Отодвинув Тамару, Ванько просунул палец под верхний виток, оборвал шпагат, размотал. Кисти онемели вконец, и мужик долго тряс ими, разминал пальцы. Видя, что девчонка — по комплекции ей можно было дать лет пятнадцать — всё ещё стягивает на груди разодранное сантиметров на двадцать платье, предложил:
— Вот тебе шпагат и ножик, проткни с боков дырочки и зашнуруй пазуху. Может, помочь?
— Спасибо, я сама. — Отвернувшись к стене, она тут же принялась за работу.
Поступок новенького Степан в душе одобрил, но всё же не мог простить оскорбления и держался отчуждённо. Сам, видать, рубаха-парень, он и в других уважал открытость и простоту. Этот Иван таковым не показался, и он счёл ниже своего достоинства навязываться с разговорами.
Своими мыслями был занят и Ванько. Это будет несправедливо, рассуждал он, если меня освободят, а она, с отцом и Степой, останутся на растерзание этим шакалам… Что ж придумать? Пришибить этого Ганса, когда придёт выпускать, и дать им возможность смыться?
Попытался было уточнить, за что же станичные ребята, рискуя, «отдубасили» старосту, но Степан, буркнув, «значит, заработал!», от пояснений уклонился. Откликнется ли на предложение рискнуть ещё раз? Ладно, время ещё есть, присмотрюсь, что он из себя представляет…
Тамара довольно аккуратно починила платье, вернула ножик, поблагодарила и даже улыбнулась. Потом снова прильнула к отцу, изредка о чём-то с ним перешёптывалась.
Между тем время шло. Солнце наверняка клонилось уже к закату, а Ольга Готлобовна слова своего не сдержала. Ванько, конечно, не мог знать, что ни комендант, ни его заместитель до позднего вечера так и не появились. Он начинал злиться — и на неё, и на здешние порядки. Что за свинство за такое?! Держат взаперти, пелый день без воды, даже в туалет не сводили. Нацепили замок — и забыли. Ну и сволочи!
Когда, с наступлением темноты, появилась охрана, Ванько несколько раз грохнул кулаком в дверь.
— Чого тарабаныш? — послышался недовольный хохляцкий голос.
— Как это — «чого»? Заперли и забыли! Ты сегодня сколько раз в сортире побывал?
— Не твое свыняче дило! Попавсь, так сыды.
— Но ты ж войди в положение, — настаивал Ванько, — я-то тут не один! С нами девчонка — может ей неудобно? Или ты забыл, что такое стыд и совесть? — И он стал с таким остервенением колотить каблуком в дверь, что часовой испугался, не разнёс бы в щепки.
— Стой, не грымы, — подошёл к двери, — щас сходю до начальства. — Полицай ушёл.
— Слышь, Степа, и вы, отец, — обратился Ванько к арестантам. — На дворе уже темно. Я постараюсь обезвредить стражу — будьте наготове: есть шанс сбежать. Как, согласны рискнуть?
— Ты ещё спрашиваешь! — горячо откликнулся Степа. — Ты это здорово придумал. Я тебе помогу.
— Справлюсь один, — отверг стёпину помощь. — Я попрошусь в туалет первым, выйду за дверь и тут же обоих — вряд ли их будет больше — уложу на месте. А вы будьте начеку: дам знать — сразу выбегайте. Батя, ты слышишь?
— Я останусь тута. Може, простять хуть её, а так — порешать усех…
— Это вы зря! Пощады от них не дождетесь. А ты, Тамара?
— Я?.. Тоже с папой останусь.
Тем временем подошли полицаи, по разговору — двое. Клацнул замок, дверь приоткрылась, в кутузку проник свет от «летучей мыши».
— Кому тут приспичило? Тебе? Выходи. Один! — Ванько вышел. — Смотри: шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх — считаю как побег, — сострил старшой. — Пристрелю, как собаку!
Запереть дверь он не успел. Вышибив винтовку из рук хохла-часового, Ванько в мгновение ока схватил обоих за затылки и с такой силой хрястнул их лбами, что те обмякли и рухнули, как подкошенные, не издав ни звука. Фонарь выпал из рук, но не погас.
— Выходите, — дал знать Ванько в приоткрытую дверь. — Быстро в разные стороны!
Степан, видевший эту короткую схватку, ждать себя не заставил. Выскочив, схватил винтовку, саданул прикладом старшого по голове и только после этого растворился в густой темени. Но остальные не шевельнулись.
— Батя, не дури, бежим! — вернулся Ванько с фонарём в угол, попытался поднять мужика, всё ещё сидевшего там. — Другого такого случая не будет!
— Куда ж мы побижемо? А жинка, а сыночок як? Ни, я нэ хочу… Гэть!
— Напрасно!.. Но — шума не поднимай, пока полицаи сами не оклемаются! Фрицам тверди, что отпустили нас они. Сами, понял? А ты, Тамара, пойдёшь со мной! — Потянул за руку, но и дочь заупиралась. — Не вздумай верещать! — приказал он ей и, подхватив на плечо, словно куль с картошкой, выскользнул за дверь.
Девчонка пришла в себя, когда были уже на достаточном удалении и Ванько перешёл на шаг:
— Да отпусти же ты меня, что я — калека какая! — дёрнулась она довольно требовательно, и он поставил её на ноги.
Вытер рукавом вспотевшее лицо, оглянулся по сторонам, прислушался: темно, тихо, спокойно, если не считать сердце, колотившееся учащённо.
— Место знакомое? — поинтересовался, видя, что и она осматривается. — Дорогу домой найдёшь?
— Найду, мне тут каждая улочка знакомая.
— У тебя дома кто остался?
— Мама с братиком.
— Я тоже иду с тобой. Прихватим их и нужно не медля уходить. — Заметил, что она мешкает, спросил: — Ты чё мнешься?
— Постой тут трошки, я за угол… Можно?
— Конешно, — догадался он. — Я и сам креплюсь из последних сил.
— Брательнику сколько лет? — продолжил расспросы, уже на ходу.
— Два годика всего… Теперь направо. — Чтобы не отставать, ей приходилось бежать за ним трусцой. — Только как же с мамой, она же не сможет идти.
— Больная, что ли? — сбавил Ванько шагу.
— Почти не встаёт с постели…
— Что с нею? Туберкулёз лёгких? Это усложняет дело… Придется нам уходить без неё.
— Никуда я от мамы не уйду!
— Ты понимаешь, что говоришь? — он остановился и взял её за руку. — Полицаи наверняка очухаются. Обнаружат отца и он приведет их ещё ночью — заставят. А если не ночью, то утром всё равно тебя схватят. Расстреляют или того хуже — повесят. — Ванько говорил спокойно, убеждающе, но закончил твёрдо: — Нет, теперь решаю я! Не захочешь добром — унесу обоих силком.
— А как же мама?
— Её, может, не тронут — такую больную. Ты о братике подумай!
Торопливо, под собачий брёх, но не встретив ни души, прошли едва ли не полстаницы, пока Тамара, наконец, не остановила:
— Вот наша хата. Подожди трошки тут, я предупрежу.
— Нет уж, зайдём вместе! Спички в доме есть?
— Давно уже ни спичек, ни карасину.
— Малышок где спит?
— В маминой комнате, в люльке.
Мать, услышав, что кто-то вошёл, слабо обозвалась:
— Это ты, Леночка?
— Мамочка, это я, — кинулась дочь к кровати. — И ещё со мной мальчик. Он помог убежать из тюрьмы. Папа? Он уходить отказался, чтобы не трогали хотя бы вас с Валерой. Только мы его заберём и сразу уходим — сюда вот-вот могут прибежать полицаи… Мне так не хочется оставлять тебя одну!.. я тебя так люблю… может, больше и не увижу… Но мой освободитель такой не сговорчивый, всё равно, говорит, уведу — силком. Мамочка, родненькая, а как же ты? Они ж и тебя теперь не пощадят!.. — Она залила лицо матери горючими слезами, плача навзрыд.
— Не плачь, доченька… он прав. Мне всё одно жить осталось недолго. Поблагодари и от меня вашего спасителя, — слабым голосом успокаивала её больная.
Тем временем Ванько ощупью нашёл люльку, она оказалась подвешенной на крюк в потолке. Взяв мальчика, осторожно, чтоб не разбудить, завернул в одеяльце, подошёл к кровати:
— Извините, мать… Может, и нехорошо поступаю, но иначе нельзя.
— Сыночек у тебя? Дай, я поцелую его напоследок…
Ванько приблизил к больной свёрток с мирно сопящим малышом, дал проститься, затем, поймав за руку сестру, направился к выходу.
— Прощай, мамочка и прости!.. — уже с порога простонала Тамара.
За двором, отпустив её руку, он спросил:
— С какой стороны восток? Иди следом и не отставай ни на шаг!
— Не отстану, не бойся, — всё ещё сквозь слёзы, пообещала она.
Ванько ступал крупным, размашистым шагом, в то же время стараясь не трясти свёрток с крепко спящим малышом, чтоб подольше не разбудить. Тамаре приходилось всё время его догонять. Когда позади осталась едва ли не вся станица, на одной из улиц от лая увязавшейся собаки ребёнок всё-таки проснулся и захныкал. Сестра тут же взяла его к себе.
— Валерочка, не плачь, маленький, я с тобой, — принялась успокаивать.
— Хочу к маме…
— Погуляем трошки на свежем воздухе и пойдём к маме. Слышишь, собака гавкает? Это она хочет укусить того, кто не хочет спать. Быстренько закрой глазки и усни!
Ванько выдернул из плетня кол и запустил в настырного пса; заскулив, тот отвязался. Мальчик затих — видно, уснул опять. Снова взял его к себе на руки.
— А куда мы идём? — спохватилась наконец Тамара. — А то я боюсь… Тут живёт одна моя знакомая, может…
— Знакомая не подойдёт… А меня не бойся, малышей не ем, девочками не закусываю. А если сурьёзно, то идём мы ко мне домой. Хутор Дальний, слыхала про такой? Там у тебя школьных знакомых или родственников не имеется, случайно?
— Про хутор слыхала, только никого из знакомых там нет.
— Это даже к лучшему. Потому — искать вас с Валерой никто не станет. Ты не представляешь, как они там все всполошатся, когда полицаи оклемаются! Однако помолчим: кто-то идёт навстречу…
Посреди улицы грузно ступал некий мужчина с какой-то поклажей на плече. Отошли к забору — подождать, пока минет. Но неизвестный, поровнявшись, опустил мешок и направился к ним, бормоча: «Кого це тут носыть по ночах?».
— Хто таки, га?! — грозно повысил голос, приблизившись.
— Дядя, топал бы ты своей дорогой, — миролюбиво предложил Ванько, передавая мальчика спутнице. — Тебя это колышет?
— Ты гля! — завёлся тот, снимая с плеча винтовку. — Ще й одгавкуеться… А аусвайс е? — Клацнул затвором, ткнул стволом. — А ну-ка уперёд!
— Документы, что ли? Щас покажу.
Схватив ниже мушки, отвёл ствол кверху и с силой рванул на себя. Винтовка выскользнула из рук полицая, сам он сделал несколько неуклюжих шагов, будто его сильно толкнули сзади, и растянулся во всю длину. Но ещё раньше тишину ночи вспорол резкий хлопок выстрела. Разом в нескольких местах всплошно залились собаки, заплакал испуганно Валерка.
Опрокинув пытавшегося подняться, матерящегося мужчину на спину, Ванько тюкнул его затылком об дорогу; тот затих. Скомкал упавшую с головы мягкую фуражку и на всякий случай затолкал ему в рот. Его же брючным ремнем туго стянул ноги. С мешка (в нём оказался ещё тёплый подсвинок) сдёрнул завязку и скрутил ею руки незадачливому блюстителю «нового порядка». В кармане пиджака случайно нащупал две обоймы патронов, сунул в свой. Поднялся, огляделся — ничего подозрительного. Ударом о дорогу отшиб приклад и швырнул винтовку в огород. На всё ушло не более пяти минут. Затем пересадил вусмерть перепуганную Тамару со всё ещё плачущим Валеркой через забор, перемахнул сам.
Огород оказался запущенным, поросшим бурьяном и мелкой акацией. Помня, что она забыла либо просто не успела обуться, предложил, забрав малыша:
— Цепляйся на меня сзади, перенесу, а то назагоняешь в ноги колючек. Хватайся за шею.
То ли не придя ещё в себя после испуга, то ли не решаясь «хвататься», но та медлила. Чтоб не терять времени на уговоры, он подцепил и её под мышку и отпустил только у прорехи в противоположной стороне забора. Очутившись на параллельной улице, долго бежали, пока не наткнулись на лавочку. Присели — перевести дух, успокоить малыша, сориентироваться.
Обласканный сестрой, тот вскоре затих. Ущербная луна, выглянув ненадолго из облака, вылоснила стекла хаты, стал различим пустырь в конце улицы. Свисток паровоза помог определиться: они были на выходе из станицы.
Злоключения дня — а для Тамары они начались на полсуток раньше и были неизмеримо более мучительными — под конец измотали даже Ванька. Что же до девчонки, то у неё недоставало уже никаких сил нести снова раскапризничавшегося братца, который ни в какую не желал ни засыпать, ни находиться на руках у незнакомого дяди.
— Слышь, Тамара, давай оставим его у моей тёти, — предложил он, уже в который раз передавая ношу сестре для успокоения. — А то как бы он не подвёл нас при переходе на ту сторону станции. Тётя живёт недалеко отсюда.
— Боюсь, он устроит такое ревище, что она с ним намучается. Разве что и мне с ним остаться.
— Оно бы можно. Но я опасаюсь, и за вас, и за тётю: полицай уже, небось, очухался, утром его развяжут, он поднимет хай — и весь этот куток наверняка тщательно обыщут. И искать будут не его, а тебя да меня. А насчёт рёву… ты не знаешь мою тётю Мотрю: она детей больше самой себя любит и найдёт подход к любому малышу. Давай-ка его обратно мне — уже вроде успокоился.
Тёткин пёс (его года три назад сосунком подбросили на территорию элеватора, Ванько выпоил его из бутылочки с соской) встретил их у двора, напугав спутницу.
— Не бойся, не бойся! — успокоил её Ванько. — Он не укусит. Жучок, эта девочка со мной!
Последнего можно было и не говорить, так как пёс давно усвоил: если с его хозяином пожаловал кто-то ещё, значит, он тоже свой, и не то что кусать — тявкать не положено. Свою радость он выражал солидным потягиванием и пофыркиванием, словно как раз перед этим в ноздрю ему забралась некая букашка. На стук в ставню послышалось:
— Кого там носит в такую пору! Чего надо?
— Тёть, это я, Ванько.
Знакомо скрежетнул засов, скрипнула дверь.
— Батюшки! Пошто так поздно — что-нить случилось? Ой, да ты не один!..
В комнате, засветив семилинейку, взволнованная тётя первым делом подошла к гостье с малышом. Тот настороженно переводил глазки с незнакомых людей на непривычную обстановку. Поняв, что произошло что-то ужасное, она без лишних расспросов тут же взяла его, положила на диван, распеленала. Ребята с жадностью набросились на воду, а она хлопотала:
— Моя ж ты красотулечка! Не хнычь, мой маленький… э, да мы мокренькие!.. Чьи ж мы, такие хорошенькие!..
Утолив жажду, племянник вкратце рассказал о случившемся.
— Звать его Валера. Мог расплакаться и выдать нас при переходе через путя, — этими словами закончил.
— И правильно сделали, что занесли ко мне! Переночевали б и сами, а завтра посветлу оно и безопаснее.
— Можно бы, но я ведь утром как из дому. Мама, небось, переживает.
— С утра?! — ужаснулась тётя, занимаясь малышом. — Да она там, бедная, с ума сходит!.. Томочка, моя ж ты детка! — досмотрелась она, управившись с дитём. — Платьице-то на тебе — совсем порватое. Куда ж в таком-то? Осталась бы у меня.
— Ей, тёть, нельзя, — возразил Ванько твёрдо. — Завтра с утра нас станут искать. — И он рассказал в нескольких словах о стычке с полицаем, оставленным лежать связанным на улице неподалёку.
— За малютку не беспокойтесь, а Тамаре и впрямь лучше пойти с тобой, — согласилась тётя. — Но я тебя так не отпущу. Подержи-ка братика, — и она вышла в соседнюю комнату.
Мальчик, оказавшись в домашней обстановке, обихоженный и обласканный пусть и незнакомой тётей, успокоился и повеселел. Заметил на этажерке слоников, показал пальчиком и потребовал:
— Дай цацу!
— Нельзя, братик, это чужие слоники, — начала было отговаривать сестра, но тут как раз вернулась хозяйка с вязанной кофтой и новенькими ботинками в руках.
— А что тут чужое? Слоники? Это — не чужие, это влерочкины игрушки!
Поманив малыша, который, как ни странно, охотно потянулся к ней, приняла на руки и прошла к этажерке, говоря:
— Забирай, мой маленький, всё это твое… Поиграй, — посадила его на диван. — Вы ж голодные, как волчата, — повернулась к ребятам. — Может, яишницу сладить?
— Это, тёть, будет долгая песня… Собери что-нибудь на скорую руку, мы подкрепимся дорогой. На ходу, чтоб не терять времени.
Хозяйка настаивать не стала. Пока Тамара зашнуровывала ботинки, она собрала свёрток. Ванько сунул его за пазуху, и они ушли.
Станция, несмотря на поздний час, не спала: почихивал паровоз, временами мелькал переносной свет, доносился говор. Взяли правей от неё. Полоса отчуждения, поросшая кустарником, служила надёжным прикрытием. Вскоре Ванько облюбовал место для перехода на ту сторону. Посидели, прислушиваясь, изучая обстановку.
— Вроде всё тихо, но всё-таки сперва разведаю, — решил он и, крадучись, удалился в сторону насыпи. Из-за плотной темени в нескольких метрах стал неразличим.
Пока он отсутствовал, тучка, закрывавшая луну, уползла дальше. Вообще, если судить по обилию звёзд, запас облаков на небосклоне истощался. Возвращавшегося с разведки Тамара различила теперь с большего расстояния.
— Сильно было слышно, когда сползал с насыпи? — поинтересовался он, пристроившись рядом.
— Шелестело, но не очень. Если не прислушиваться, то и не расслышишь. Как там, никого не видно?
— Кто-то вроде маячил, но далековато. Подождем вон той тучки и переберёмся по затмению. За путями, метрах в сорока, начинается кукурузное поле, нырнём в него — и все наши опаски позади.
Дождавшись очередного «затмения», благополучно пересекли несколько пар рельсов. Шурша гравием, съехали с насыпи вниз. Вот и кукуруза, густая и высокая, изрядно поросшая мышеём. Сквозь неё пришлось прямо-таки продираться: рядки поперёк, стебли выше голов. Их нужно было раз-пораз раздвигать в стороны. Тамаре — она шла след в след — доставалось ещё и от увесистых початков, торчавших на раздвигаемых им стеблях.
Удалившись в глубь плантации на приличное расстояние, Ванько остановился, поджидая отставшую спутницу.
— Ты, я вижу, совсем притомилась… Вроде и не быстро шёл, глянул, а ты отстала.
— Я ботинком ногу растёрла… Да и силов совсем нет…
— Давай немного отдохнём. Заодно и подкрепимся. — Он навыдёргивал десятка два стеблей, предложил: — Садись. И сними-ка ботинки.
Достал свёрток, развернул. Духмянный запах нарезанного ломтями хлеба, щедро намазанными коровьим маслом, сладко щекотнули ноздри. Когда разулась, положил ей на колени.
— Поешь, сразу и силы появятся.
— А ты?
— Ешь, ешь! Я догоню.
Порядком изголодавшаяся, девчонка без лишних церемоний с жадностью набросилась на еду.
Небо к этому времени очистилось окончательно, вызвездило, и луна, хоть и ущербная, светила достаточно ярко. Было видно, как под слабым ветерком, доносившим со станции тяжёлый мазутный дух, колеблются увядшие уже кукурузные листья. Ванько присел на корточки, взял снятый с ноги ботинок.
— Они на тебя что, маловаты?
— Наоборот, хлябают. А натёрла ногу потому, что расшнуровался.
— Надо было сказать сразу, как почувствовала! А что хлябают, так это мы щас поправим. — Наотдирал от початков мягких, успевших уже повлажнеть, рубашек. — С устилкой будут в самый раз… Эти ботинки тётя купила мне в Краснодаре. Красивые, добротные, очень они ей глянулись, и она взяла аж две пары. А я пока одну износил, успел из них вырасти. Было это, между прочим, три года назад. — Намостив листьев, хотел заодно и примерить.
— Спасибо, Ваня, я сама, — поджала она ноги. — Садись уже поешь, а то всё слопаю, тогда не догонишь!
— Да тут, — принял от неё остатки, — ещё на одного хватит!
Отделив горбушку, с хрустом откусил, принялся смачно прожёвывать. Теперь только почувствовал, какой зверский нагулял аппетит.
Тамара, успев «заморить червяка», ела неспеша, наблюдая за нежданно-негаданным своим избавителем. Никогда не предполагала, — думала она про себя, — что бывают такие вот смелые, находчивые и ужасно сильные мальчики… Ведь не лёгкая же, а он подхватил, как куклу, бежал более двух кварталов и даже не заморился! И старше-то на каких-нибудь год-полтора, а такой… — она поискала подходящее слово, — такой самостоятельный. И тётя у него такая же — добрая, заботливая и красивая.
Заметив, что она листком от кукурузного початка вытерла щёки и потянулась за ботинком, Ванько упрекнул:
— Ты чё? Слопай ещё хоть этот, небольшой, а то для меня много. Возьми, возьми!
— Ты ведь и силов больше потратил, — заметила она, приняв ломтик потоньше, но с толстым слоем масла.
— А ты дольше голодала. Вас когда схватили?
— Вчера ещё. Вечером.
— Я так и предполагал. А за что? Впрочем, какая разница! — добавил поспешно, предположив, что ей неприятно будет отвечать на этот вопрос.
Напоминание о каталажке вернуло в жестокую действительность, в миг оборвало установившееся было хрупкое душевное равновесие девчонки. С трудом проглотив откушенное, она отложила кусок. Ванько заметил перемену в настроении и, чтоб как-то сгладить, замять неприятный для неё вопрос, упрекнул шутливо:
— Неважнецкий из тебя едок!.. А у меня закон: чем добру пропадать, лучше нехай пузо лопнет.
Он опять принялся за еду. Тамара, справившись с нахлынувшими тревожными мыслями, пояснила:
— Нас посадили в тюрьму за то, что папа застрелил полицая.
— Что ты говоришь! — удивился Ванько. — Приставал к тебе?
— Пришёл забрать у нас Зорьку. А нам без молока никак нельзя: мама больная и Валерка маленький. Я и хотела помешать ему увести. Он тащит её из сарая, а я ухватила за шею — и не даю.
— Я знаешь, почему подумал, что к тебе приставал? — воспользовавшись паузой, пояснил Ванько. — Из-за платья.
— Да, это он порвал… Только не поэтому.
— Ну-ну, извини… что перебил. — Он чуть не сказал — «что решил, будто он хотел снасильничать». Почувствовал, как отлегло от души. — Он, значит, тянет из сарая за налыгач, а ты обхватила Зорьку за шею и не пускаешь?
— Так и было. Он видит, что не справиться — шибздик, ты б его одним щелчком убил — и решил устранить меня от коровы. Схватил за волосы, а я всё равно не бросаю. Тут он и дёрнул за платье… Я испугалась, что совсем распанахает, и разжала пальцы. Папа после говорил, что надо было мне плюнуть на всё, пусть бы, гад, забирал… А я набросилась на него, вцепилась зубами в руку… — На этих словах Тамара, расстроившись, начала всхлипывать. — Полицай заматюкался, схватил чурбак, на котором рубили дрова, и хотел меня пришибить. Тут папа в него и стрельнул… Дура ж я дура, что ж я натворила!.. Это ж я и накликала такое ужасное несчастье!..
Она уткнулась лицом в колени, затряслась в рыданиях. Взрыв отчаянья был так велик, что Ванько не на шутку испугался, и, не зная, что делать, гладил её по плечу, уговаривая:
— Теперь уже поздно… теперь плачь не плачь — назад не воротишь. Перестань, успокойся, слышишь? — Выпрямил её, легонько встряхнул; та продолжала страдальчески, взахлёб плакать. Притянул к себе, заговорил в самое ухо: — Знать бы, что твоя мама больная, я бы утащил и отца… Но, может, всё ещё обойдётся. Может, он одумался и тоже смылся вслед за нами. И давно уже спрятали твою маму где-нибудь подальше, у добрых дюдей. А если нет, мы с ребятами завтра наведаемся к вам. Она наверняка ещё дома — неужели фрицы станут забирать такую больную! И мы перенесём её к соседям. У вас есть там хорошие, надёжные соседи?
— Есть, конешно… — Уговоры подействовали-таки успокаивающе. — Тётя Лена… Можно к ней, она не откажет. — Отстранилась, вытерла слёзы. — Я тоже пойду с вами, ладно? Спрячем её в погребе, у тёти Лены он прямо в комнате. Там её ни за что не найдут!
— Об этом мы поговорим после, посоветуемся. Мне не совсем понятно, — переменил он тему: — где ж был твой папа до этого, почему не вмешался раньше?
— Был тут же, в сарае. Увидел, что идёт к нам полицай, и спрятался — подумал, что за ним. Потому как не явился на регистрацию.
— Застрелил из ружья?
— Из винтовки. Которую принёс, но немцам не сдал, а прятал в сарае.
— Откуда принёс? — не понял Ванько.
— Когда отступали наши, он отпросился на минутку домой — проведать. А потом не догнал своих и вернулся. Думал, винтовка ему ещё пригодится, когда немца станут прогонять.
— Да… Жалко, что я не знал этого! Твой батя — хороший человек, надо было мне и его силком утащить из кутузки… А откуда у тебя эта смуга на руке, тоже полицай ударил?
— Только уже другой. В стансовете. Узнал, что ихний убит из-за меня, да как хлестанёт плёткой, трёх-хвостой. Смуги не только на руке… Хорошо хоть по лицу не досталось.
— Знаю я этого гада, он — с нашего хутора. Я ему за тебя как-нибудь ребра посчитаю! — погрозился Ванько, поднимаясь. — Пойдём, уже недалеко.
Теперь шли вдоль рядков, в направлении гравийки.
— Как ботинки, лучше стало?
— Спасибо: и не хлябают, и не жмут. А мы не заблудимся?
— Здесь я и с завязанными глазами не заблужусь. Скоро выйдем к гравийке, там идти будет легше.
Н а к и н у в на плечи сложенную треугольником тёплую шерстяную шаль — сентябрьские ночи становились всё свежей, — Агафья Никитична дожидалась сына на табуретке посреди двора. Место выбрала с таким расчётом, чтобы видны были и калитка на улицу, и стёжка вдоль межи, на которой, если идти со стороны балки, мог появиться Ванько. Она изболелась душой, и было отчего: обещал вернуться засветло, уже глубокая ночь, а его всё нет и нет… У ног примостился Туман, повиливал при каждом её движении мохнатым рыжим хвостом, как бы давая понять, что он тоже не дремлет, отнюдь — весь превратился в слух и внимание.
Вот он оторвал морду от лап, посмотрел в сторону огорода и коротко брехнул. Ещё никого не видя, Никитична вздохнула с облегчением: слава те господи — вернулся! Подхватилась и вслед за псом поспешила навстречу.
— Где ж вас нечистая носит, непутёвых! Я уже все очи проглядела дожидаючись, — напустилась было журить, но, разглядев рядом с сыном девушку, осеклась. — А разве?.. Я думала, ты с Андрюшкой…
— Тамара, познакомься: это и есть моя ворчливая мамаша, — сказал Ванько. — Туман, нельзя! — цыкнул на пса, обнюхивающего незнакомку.
— Здрасьте… — неуверенно произнесла последняя.
— Здравствуй… — Никитична казалась растерянной. — Невесту, что ли, привёл в дом?
— Мам! Ну какие щас могут быть невесты!.. Просто люди попали в беду, мне удалось вызволить, а деться им некуда. У неё ещё и малышок-братик, оставили пока у тёти.
— То-то я гляжу, вроде как Мотина кофта… А что с Андрюшкой?
— С ним, мам, дела плохи: они с Мартой куда-то делись.
— Как — «делись»? — испугалась мать.
— Не удалось узнать ни как, ни куда, ни вобще… Даже её мать — и та ничего не знает.
— Да что ж случилось-то? Вера уже трижды за вечер наведывалась, места себе не находит… Вскоростях обратно будет…
— Я щас сам к ней пройду. А вы идите в хату, не ждите.
Возвратился Ванько через час-полтора. В передней, служившей одновременно и прихожей, и кухней, и столовой неярко светила керосиновая лампа, укрепленная на стене.
— Я уж заждалась… — Мать отложила стирку, затеянную наскоро, в тазике. — Думаю, не случилось ли чего.
— С тёть Верой? Да нет, обошлось малыми слезами. Сперва задержался с нею, пока малость успокоил, потом ещё с Федей постояли, — объяснил Ванько долгое отсутствие. — А Тамара, уже уснула?
— Я с вечера нагрела воды в двухведёрной кастрюле, думала, ты помоешься, как придёшь, да предложила ей. Моется зараз в моей комнате. — Села рядом на лавку. — Ещё токо жить начала, а уже такое несчастье свалилось!.. За что, господи!..
— Плакала?
— Мы обе наплакались… Насилу успокоила. А как же ты с Верой-то, что ей сказал?
— Ой, — тяжело вздохнул сын. — Не в моих правилах, но пришлось немного приврать…
— Тёть Гаша! — позвали из-за двери.
— Подожди, сынок, — подхватилась мать. — Уже, видать, помылась. Сходи-ка пока за водой, а то вёдра порожние.
Вернувшись через некоторое время с полными ведрами и не застав купальщицы, кивнул в сторону двери:
— Всё ещё моется?
— Спать уложила. Еле на ногах держится, сердешная. Идём, вынесешь ванну.
В материной стальне запах хозяйственного мыла сдабривался тонким ароматом мёда от самодельной восковой свечки (Деда наделил ими навестивших его перед отъездом ребят). Колеблющегося язычка её с трудом хватало, чтобы выделить из темени старинную икону в углу (на которую Ванько не помнил, чтобы мать когда-либо крестилась), большую деревянную рамку с карточками родственников на стене да озеро с лебедями, грубо намалёванными на коврике вдоль кровати. Здесь, прибившись к стенке, размеренно посапывала Тамара. Когда звякнула поднятая Ваньком вместительная жестяная ванна, она на секунду испуганно размежила веки, придавила выкат просторной ночной сорочки и тут же снова впала в забытье.
— Так как же ты объяснил Вере? — вернулась к прерванному разговору Никитична, когда сын зашёл в комнату.
— Иду по улице, а тут и они с Федей навстречу, — начал тот с самого начала. — Ну, сразу, конечно, в слёзы…
— Я забыла тебя предупредить, у неё ведь сердце никудышное, надо бы как-то…
— Так разве ж я не знаю!.. Потому и пришлось поискать подходящее объяснение. — Он стащил рубашку, сел, стал разуваться. — Нет, я честно признался, что с Андрюшкой не виделся, тут никуда не денешься. Что и он, и Марта куда-то пропали. Но это не значит, говорю, что с ними случилось несчастье. Мать, мол, считает, что их похитили партизанские подпольщики. Вернее, им нужна была только Марта, но так как они оказались вместе — она вышла из дому проводить гостя — то прихватили заодно и Андрея. Зачем? Чтоб обменять на какие-нибудь важные сведения. Её мать работает ведь в комендатуре и знает многие немецкие секреты. Мам, слей мне над тазиком…
— Коли так, то Андрюшку отпустят. — Мать приняла версию за чистую монету. Набрала в ковшик воды из кастрюли и помогла сыну ополоснуться по пояс. — А дочку она и сама выкупит.
— Конешно, куда ж она денется! Только, мам, всё это — не для чужих ушей! — предупредил Ванько.
Об остальных злоключениях порассказала Тамара, и мать, видя, что его одолевает зевота, вопросов больше не задавала.
Засыпая, Ванько слышал, как она продолжила хлюпаться в тазу. Проснулся чуть свет оттого, что мать, уже тепло одетая, присела на край кровати.
— Решила сбегать к Моте, — пояснила. — Заберу мальчишку, а то, не дай бог, станут искать, ходить по хатам… Соседи знают, что она бездетная, а тут вдруг дитё.
— Мы тоже договорились утречком смотаться в станицу — узнать, как там и что.
— Она мне говорила. Будьте осторожны, не попадитесь сами!
— Всё будет нормально.
— Напомнишь ей подоить корову. А на завтрак разогреете борщ, он в сенцах. Я побежала!
Лежать расхотелось. Светало, и Ванько встал. Выходя во двор, глянул в неприкрытую дверь: Тамара ещё спала. На белизне сорочки явственно темнел рубец от плётки — через всю тыльную сторону ладошки. Такая же отметина осталась и на одной из грудей, видневшейся из-под выката…
Туман, привязанный, лежал рядом с будкой, преданно глядя на хозяина, виляя хвостом. Почесав ему за ухом, прошёл за сарай, где находились турник, гири, «пара» от узкоколейки, служившая штангой. Делая утреннюю разминку, услышал, как пёс раза два брехнул, тут же приветливо скульнул и громыхнул цепью: сюда пожаловал кто-то из знакомых.
Пожаловаших было трое.
— Мы все так переживали! — словно извиняясь за ранний визит, а также подавая указательный палец для приветствия, сказал Миша. — Думали, с тобой что приключилось.
— Вчера перед вечером, — уточнил Борис и прибавил: — Хотели отправляться на розыски.
— А я, вообще-то, был уверен, что с тобой ничего случиться не могло! — здороваясь за руку, высказал свою точку зрения Федя.
— В этот раз обошлось. Но могло быть всяко…
Присели на лавочку под алычой, росшей в двух саженях от порога. Листва её, раскрашенная в яркие цвета, за ночь устлала землю вокруг пёстрым покрывалом.
Федя, в общих чертах рассказавший уже товарищам о вчерашних приключениях Ванька, только разжёг интерес, и тому пришлось начать всё с начала. Увлекшись, не заметили, как и рассвело. Уже под конец рассказа приоткрылась дверь, в сенях показалась и сама героиня, если можно так сказать о Тамаре. В тапках, материной кофте поверх своего, высохшего за остаток ночи, платья. Она, видно, не ожидала встретить так рано посторонних, смешалась под изучающе-любопытными взглядами и, кивнув «здрасьте», поспешно скрылась за дверью.
Ванько прошёл к ней, а ребята сменили место — уселись в отдалении на снопы из кукурузной бодылки.
— А она симпатичненькая, — поделился впечатлением Федя.
— Очень даже красивая! — уточнил Борис.
Мишка никак не высказался, поэтому ему был задан вопрос:
— А ты, Патронка, как её находишь?
— Я? — Пожал он плечами. — Не так, чтоб очень… но не очень, чтоб и так. А вобще, по сравнению с некоторыми, ничего.
Подошедший к ним Ванько достал из кармана обойму с пятью патронами, протянул ему:
— Тебе не терпелось глянуть — пожалуйста.
— Ух ты! Ну и ну! — загоревшимися глазами жадно впился в диковину он. — Патроны-то особенные!
— Чем же это они особенные? — Федя отделил один, повертел и отдал Борису. — Наши ничуть не хуже.
— Хуже, лучше — не в том дело! Видишь, пуля с цветной меткой? А это значит: трассирующая или разрывная, — пояснил Миша, большой дока по части оружия и боеприпасов.
— Ну и что с того?
— Тебе «что», а мне интересно узнать, как устроена. Вань, можно один разрядить?
— По мне хоть все разряди. Только не здесь и смотри, чтоб в руках не разорвалась. А щас давайте обсудим, как быть вон с ней. — Ванько кивнул на сарай, куда только что зашла с подойником Тамара. — Она просится с нами в станицу, но…
— Не хватало нам ещё и девков, воще!
— Ты, Мишок, не торопись. Это ведь её мама. И потом, я уже почти пообещал. А щас вот подумал: вдруг эти сволочи — а от них, гадов, всего можно ожидать — вдруг окажется, что её забрали тоже. Или того хуже — застрелили в постели. Представляете, что тут будет!..
— Эт точно: ей с нами никак нельзя, — согласился Федя.
— А второе «но» в том, что её не на кого оставить. Мама ушла к тёте забрать брательника сюда. А она может ссамовольничать и примчаться туда.
— Связать её и запереть в сарае! — предложил скорый на решения Миша.
— Дурной поп — дурная у него и молитва, — покутил пальцем у виска Федя.
— Лучше приставить к ней Веру.
— Веру с тёть Лизой, они точно никуда её от себя не отпустят. Я зараз сбегаю, обскажу это дело и договорюсь.
К этому времени Тамара вышла от коровы. Словно чувствуя, что разговор шёл о ней, пристально посмотрела на компанию.
— Подойдёшь к нам, — пригласил её Ванько.
Кивнув, она отнесла подойник в хату и вскоре вернулась.
— Познакомься: мои друзья. Этого звать Миша, это — Федя, а вот он — Борис.
— Мин-нуточку! — подхватился с места последний. — Во-первых, не Борис, а Боря. А во-вторых — знакомиться, так по-настоящему, — подал он руку для пожатия.
— Тамара… Очень приятно.
— Вот это — имечко и я понимаю: редкое и красивое почти как моё! И даже душистое, ежли произнести наоборот: а-ра-мат. — Он поднос её ладошку к губам, но чмокнул свою, что вкупе с комплиментом, скорее похожим на кривлянье, вызвало у всех весёлый смешок. — А ну, Патронка, подвинься, мы с Тамарой сядем парой, — и, видимо, для пущей рифмы, добавил: — Мы с Тамарой ветинары!
— Шенкобрысь ты и девчачий ополонок, а не ветинар! — буркнул Миша, отсовываясь и дав ей место рядом с собою.
Когда накануне Ванько упомянул, что винтовку её отец принёс домой, у Миши тут же возник вопрос: а не прихватил ли он и какие-нибудь боеприпасы? Оказавшись рядом с нею, не преминул узнать это из первых уст:
— Слышь, Томка, — спросил, едва та уселась на сноп, натянув на коленки платье и обхватив их руками, — твой батя ничего больше не принёс с фронта… ну, окромя винтовки?
— А зачем тебе? — насторожилась та.
— Да ты, Араматик, не бойся: оружие и всякие там боеприпасы — это любимый Мишкин конёк. Его мёдом не корми, только дай из чего-нибудь пальнуть.
Видя, что и остальные заинтересовались, она стала вспоминать:
— Кроме винтовки?.. Ещё была сумка, зелёная, с противогазом. А на ремне, поверх шинели, четыре такие кожаные, не знаю, как называются… которые для запасных патронов.
— Ясно: подсумки с патронами. И всё? — допытывался Миша.
— Нет, ещё были две опасных штуковины.
— Штуковины, говоришь? Большие? — заглядывал он в рот говорившей, всё более оживляясь.
— Примерно вот такие, — наложила она указательные и большие пальцы так, что получилось подобие буквы «О».
— Их тоже полицаи забрали?
— Всё это мы с папой сразу же зарыли в сарае под насестом и притрусили курячим помётом.
— Правильно сделали! — похвалил Миша. — А это, как его… штуковины — они как выглядят?
— Ну как… Круглые, зелёные… и по ним вроде как кубики.
Миша возбужденно потёр ладони, готовый захлопать.
— А почему ты решила, воще, — положил он горячую ладонь на её колено, но она тут же руку оттолкнула. — Извини… Почему ты решила, что они опасные?
— Я было подумала, что это такой флакон с одеколоном. Хотела отвинтить пробочку и понюхать. А папа испугался, отобрал и говорит: нельзя, а то бабахнет!
— Пон-нятно… — растянул Миша слово на два слога и хотел что-то спросить ещё, но она пересела от него к Ваньку.
— Когда мы пойдём? Надо бы пораньше…
— А вот выпустим корову в череду, позавтракаем — тогда. Пойди-ка разогрей борщ, он в сенцах на сундуке. Спички возле…
— Я уже знаю, где у вас что, — и она поднялась.
— Ну и мак-куха, воще! — дав ей удалиться, воскликнул Миша. — Фрицевскую лимонку приняла за флакон с дикалоном!.. Ну и ну, воще…
— С чего ты взял, что она фрицевская? — возразил Борис.
— Так я ж точь-в-точь такую в собственных руках держал! Не веришь? Цельную за это кошёлку груш приволок бойцам в балку! — Он вскочил, развернул сноп вместе с Борисом, сел так, чтоб видели все, и продолжал: — Трофейная фрицевская осколочная лимонка. Она, значит, как устроена: свинчиваешь колпачок — Томка его «пробочкой» назвала, — а там в углублении на нитке кольцо. Дёрнул за него — и кидай: через пять или семь секунд — взрыв.
С улицы донеслось мычание. Ванько поднялся выпустить в череду Ночку. Борис, недослушав, подался к Шапориным договариваться насчёт Тамары. А Миша оседлал любимого конька — продолжил просвещать последнего из слушателей:
— У них и другие гранаты на такой же манер. Может, видел — которые с деревянной ручкой? Длинные такие, сантиметров под тридцать. Я у наших видел, тоже трофейную. И скажу так: дерь-мо! Пока свинтишь пробку, пока дёрнешь за кольцо!.. То ли дело наши РГД: оттянул чуть ручку, повернул вбок — и швыряй. Ударилась обземь — и рванула!
— Всё это, конешно, интересно… — Федя поднялся, подал руку ему. — Идём ко мне позавтракаем, а то скоро в станицу.
Вернулся Борис, когда Ванько ставил на табуретку под алычой глиняную чашку с борщом. Тамара, положив рядом горку серых пшеничных лепёшек и две деревянные ложки, присела на лавочку.
— Ты, конешно, ещё не завтракал? Возьми вон тот чурбак и присаживайся к нашему столу, — пригласил хозяин. — Принеси ещё одну ложку, — попросил Тамару.
— Договорился: Вера непротив, — сообщил Борис, когда она ушла. — Токо она тоже осталась одна: тёть Лиза ушла в Майкоп. Сёдни утром.
— Решилась-таки сходить?..
— Ой, не говори! Если б хоть вдвоём, а то одна и в такую даль!.. Не знаешь, сколько до него, примерно, километров?
Тут появилась Тамара, и разговор замяли. Пока ребята, втроём из одной чашки, сёрбают фасолевый борщ, мы немного отвлечёмся. В связи с Майкопом.
Дмитрий Шапорин, муж «тёть Лизы», дольше других мужиков оставался вне призыва из-за слабого зрения: без очков видел не далее пяти метров и то, если днём. Лишь месяца за три до оккупации его мобилизовали в так называемый истребительный батальон. Не только его — подмели всех нестроевиков от кривых до горбатых. Их, правда, от дома не отрывали, даже не переобмундировывали. Выдали винтовки, патроны и вменили в обязанность охрану наиболее значимых объектов от всевозможных диверсантов, задержание подозрительных лиц — словом, следить за порядком в округе.
Дня за два до оккупации истреббатовцам также приказано было отступать. Но в те суматошные дни командованию было, видимо, не до ополчений — гитлеровцы продвигались стремительно. Отставшее разношёрстное формирование попало в окружение и рассыпалось. Небольшими группами земляки-соседи стали пробираться домой — ночами, глухими балками да задами-окраинами. Группа, в которой был Дмитрий, всё-таки напоролась на немцев, их приняли за партизан, некоторых расстреляли на месте, других поместили за колючую проволоку в городе Майкопе. Об этом рассказал Елизавете вернувшийся оттуда хуторянин по фамилии Мельник, которому удалось совершить побег из того майкопского лагеря. «Если б Митька не утерял очки, мы бы, конешно, убежали вместе», — так сказал он.
Дома остались запасные очки, и Елизавета потеряла покой и сон. Металась между двух огней: с одной стороны, страшно оставлять детвору — мало ли что может случиться в дальней дороге!.. С другой — так хочется отнести мужу очки: авось посчастит вырваться из этого ада!
И вот, как видим, решилась.
Ребята наелись немясного, но очень вкусного и питательного борща, запили парным молоком, и Тамара унесла мыть посуду в хату.
— Ты ей уже сказал? — Борис кивнул вслед ушедшей.
— Ещё нет. Не знаю, как и начать. Рёву будет!..
— Давай я, если боишься.
— Дело не в «боишься». Я ведь почти пообещал взять и её с нами. А теперь выходит — не сдержал слова.
— Она должна понять, не маленькая!..
— Что должна я понять? — с порога спросила Тамара, услышавшая последние слова.
— А подслушивать, Араматик, нехорошо…
— Присядь, Тома, поговорить надо, — показал Ванько на место рядом. — Понимаешь, какое дело… Мы не можем взять тебя в станицу.
— Но ты ведь обещал! — глаза её вмиг наполнились слезами.
— Вспомни-ка лучше: я и не обещал, чтоб твёрдо…
— Он, точно, хотел взять и тебя, но мы несогласны, — заметил Борис. — Делать тебе там действительно нечего — вполне справимся сами.
— Как это нечего! — решительно возразила она; слёзы при этом хлынули в два ручья. — Я и слушать не хочу! Не возьмёте, так и сама, первей вас там буду!..
Подошедшие Федя с Мишей сразу смекнули, в чём тут дело.
— Ты, Томка, не чуди, воще! А ну как там засада?
— Ну и пусть!
— Ты чё, чёкнутая, воще? Как это «ну и пусть»? Дурёха, — не сдержался он.
Федя двинул его кулаком в бок, присел возле неё на корточки:
— Хочешь братика круглой сиротой сделать? Что мы ему скажем, если тебя там схватят и расстреляют?
— Нечего с нею чикаться! Связать и всё, раз такая бестолковая, — повторился Миша, но на этот раз чтобы припугнуть, нежели настаивая на своём варианте.
— А что? И свяжем. Из двух бед выберем меньшую, — поднялся Федя с корточек. — Неси верёвку!
— Не надо связывать, — испугалась Тамара и стала спешно отирать слёзы.
— Я останусь тут. Только не теряйте время…
— Ты останешься не тут: Борька отведёт тебя к одной нашей подружке, — уточнил Ванько. — Её мама ушла аж в город Майкоп, и Вера осталась с пацанятами одна. Поможешь ей управляться с хозяйством. Согласна?
— Да…
— Лично я, воще, ни грамма ей не верю: удерёт!..
— С вами, на всякий случай, останется Борька. Не кривись, Боря, надо! — Ванько взглянул на товарища и, показав глазами на соседку, крутнул головой, что означало: на слово ей доверяться опасно; но вслух объяснил иначе: — Полицаи могут достать и сюда, так что ты смотри тут!
— И не хотелось… но придется, — не смог скрыть недовольства Борис. — Поднимайся, Араматик, отведу…
— Расскажи и ей, как ты умеешь хозяиновать, — посоветовал Миша.
— Да, вот ещё что, — спохватился Ванько, когда те уже уходили. — Твоя как фамилия, на какой улице хата и под каким номером?
— Фамилия наша Спиваковы. А улица — Чапаева, дом номер двадцать.
П е р е й д я поодиночке через железную дорогу, ребята сошлись ненадолго вместе. Решено было пробираться околицей, рассредоточившись, из предосторожности. Так, возможно, дальше, но не дольше, поскольку можно будет и пробежаться, не привлекая особо к себе внимания.
Если ближе к центру станица имела довольно упорядоченный вид — жилой массив разбит на улицы и кварталы — то на окраине казаки селились, как бог на душу положит, и сообразуясь с условиями местности. Поэтому ребятам пришлось попетлять — то вдоль солончаковой подыны, глубоко врезавшейся в застройку, то огибая выпиравшие далеко за черту несколько подворий — с саманными либо турлучными хатками под нахлобученными по самые окна камышовыми крышами.
Когда более чем полстаницы осталось позади, Ванько сбавил шагу и дал знать остальным приблизиться.
— Где-то, по-моему, здесь, не проскочить бы дальше, — поделился предположением с догнавшими его товарищами. — Вон бабка козу стережёт — сходи, Мишок, поспрошай: где, мол, тут улица Чапаева находится?
Миша вскоре вернулся и доложил, что нужная им улица — третья отсюда, что пролегает она с запада на восток, а номера начинаются наоборот.
— Те два тополя — это уже на следующей, — сообщил он и такую подробность. И добавил: — Потешная, воще, бабушенция: с виду — вылитая баба-яга, нос крючком да ещё и с бородавкой на кончике. Думал, и разговаривать не станет, а она всё охотно выложила, аж хотел спросить, не знает ли, где хата Спиваков.
— Это мы и без подсказки найдём, — сказал Федя. — Я уже прикинул: если ширину огородов взять за тридцать метров, то ихний находится метрах в трёхстах от краю. Вот только какая сторона чётная и есть ли вообще таблички с номерами? У Томки забыли спросить.
— И я, воще, из виду выпустил! Вы подождите, я сбегаю ещё, уточню.
Пока шли в сторону тополей, обсудили возможные варианты, с которыми могут столкнуться на месте. Один из них — что тамариной матери не окажется дома вообще. Другой — дома, но неживая. Наконец, последний из худших — плюс ко всему оставлена ещё и засада. В то, что отец удрал из казаматки, Ваньку не верилось. Как и в то, что у Спиваковых не перевернули всё вверх дном ещё ночью…
— Разведку я беру на себя, — распорядился он. — Вы держитесь от меня метров за пятьдесят-семьдесят, идёте по разные стороны улицы. Если понадобитесь, я вас позову. Без этого ко мне не приближаться и во двор не заходить.
— А если там засада и тебя схватят, воще?
— Стрелять не станут, захотят взять живым — ну и пусть! С двумя или даже с тремя управлюсь, думаю, один. Ну, а если больше… тогда понадобится и ваша помощь. Вот тебе пистолет и запасная обойма, стрелок ты бывалый. Но постарайся подкрасться как можно ближе и палить наверняка. Это — когда меня уже поведут. После — разбегаемся в разные стороны, сбор у тёти. Но может случиться и так, что там вообще не окажется никого, даже больной хозяйки.
— Прежде чем уходить, прихвати лимонки, — напомнил Миша. — Обязательно!
— Может, скажешь, ещё и противогаз на прящи? — не поддержал его Федя. — Когда понадобятся, тогда и заберём, они спрятаны надёжно.
— Прящ мне не нужен, я уже не маленький. А вот лимонки и патроны… Вань, не забудь, ладно?
— Хорошо, Мишок, не забуду, — пообещал тот, и ребята тронулись, рассредотачиваясь, вперёд.
За несколько дворов до цели Ванька заинтересовала довольно странная игра двух мальцов: щуплый белобрысый паренёк лет десяти-двенадцати тащил на себе другого. Наездник был и постарше, и раза в два тяжелей самого скакуна. Держась за уши, как за поводья, толстяк лихо чмокал губами, понукая и требуя прибавить скорости… Сблизка выяснилось, что игра — не к обоюдному удовольствию: у везущего глаза на мокром месте да и уши алеют больше, чем следовало бы. Когда «играющие» поровнялись с ним, он просунул ладонь под широкий ремень наездника, снял с «лошади».
— Ты что это моего племянника объезжаешь? — спросил у набычившегося джигита; тот смотрел исподлобья, молча сопел. — В честь чего ты его катаешь? — обратился ко второму.
«Племянник» вытер рукавом глаза, виновато посмотрел на неожиданного родственника-заступника и пожаловался:
— Он отнял у меня цветные карандаши и не отдаёт, пока не покатаю…
Толстяк попытался было улизнуть, но Ванько ухватил его за рубашку:
— Нехорошо обижать соседей, не по-товарищески!..
— Вовсе он мне не сосед и не товарищ… И не с нашей улицы даже, — пояснил пострадавший.
— Ах, даже так! Тогда, брат, тебе придется не только карандаши вернуть, но и должок — покатать ихнего хозяина. Так, что ли, Сеня?
— Меня звать Серёга.
— То есть Сережа, — поправился Ванько. — Ну-ка, садись теперь ты на него. Да держись покрепче за уши, чтоб не сбросил!
Серёга артачиться не стал. Не без злорадства оседлав мучителя, обхватил ногами объёмистый его живот, уцепился за уши и стал погонять тем же манером:
— Н-но-о, кляча пузатая! Давай, давай, с припрыжкой!
Проехав до угла, соскочил, довольный. Вспотевший, сердитый, толстяк попытался удрать и тут, но снова не успел.
— Тебя как звать? — снял с него ремень Ванько.
— Никак! Я вот скажу братану, он тебе как надает, так ты ещё пожалеешь!
— Вот что, Никак: жалуйся, сколько влезет, а карандаши Сереже верни. Иначе своего красивого ремня ты больше не получишь. Они где?
— Спрятал!
Ванько сложил кожаный, с якорем на бляхе, ремень пополам и, хлопнув им себя по ладони, скомандовал:
— Бегом за карандашами!
Тот припустился со всех ног.
— Ты и вправду наш родич? — спросил Серёга.
— Нет, конешно. Это я так, чтоб заступиться за тебя. Небось, некому заступаться?
— Не-е… — покрутил головой малец.
— Нет ни брата, ни сестры?
— Только мама да бабушка… И друзей тоже нет… которые чтоб настоящие. А ты, наверно, далеко живёшь?
По глазам, мимике, по самой интонации заданного вопроса нетрудно было угадать, почему это его интересует.
— Ты хотел бы со мной дружить?
— А то нет!
— Держи лапу, и будем считать, что мы подружились: ты мне тоже нравишься. Меня зовут Иван.
Сережа охотно, но с достоинством шлёпнул ладошкой по увесистой «лапе» неожиданно приобретённого друга.
— Можно, я буду звать тебя дядя Ваня, ты ведь старше, — предложил он. — Ой, бежим, а то нас отдубасят!
Из проулка вынырнул Никак и с ним двое постарше, скорым шагом направились в их сторону.
— Кто, вон те? — кивнул Ванько, усмехнувшись.
— Ага, он знаешь, какой задира! Его тут все боятся…
Речь, видимо, шла о «братане». Ровесник Ваньку, тот, как и братец, выглядел излишне упитанным, широколиц, рыж и веснущат. Уже на подходе поднял с земли голыш, что не оставляло сомнений в агрессивных намерениях обоих. Второй, тоже сверстник, шёл несколько сзади. Сережа попятился, готовый задать стрекача. Ванько его придержал:
— Ты чё, испугался? Не боись: мы с тобой им запросто надаем по ушам.
— Ты, х-аря! По-ошто мово брательника о-обидел? — заикаясь, с вызовом выдохнул братан; шагах в трёх остановился, поджидая дружка.
— Карандаши принёс? — не обращая на него внимания, шагнул к Никаку Ванько.
— А вот мы те по-окажем карандаши! — Оба изготовились к нападению.
— Сережа, подержи-ка ремень…
И братан, и его дружок замахнулись одновременно, но промазали, так как противник успел присесть. Более того, помощник нечаянно заехал в скулу своему же приятелю, а тот чуть не звезданул его булыжником. Ванько, изловчившись, схватил обоих за руки пониже кистей и сделал несколько раз «ладушки», пока булыжник не вывалился. Попытки вырваться ни к чему не привели, и братан сдался:
— Ла-адно, — выдохнул он, — твоя взяла… Га-аврюха, отдай ка-аранда-ши.
Гаврюха достал из-за пазухи коробку, взамен получил ремень.
— Посоветуй своему Гаврику, пусть больше моего племянника не забижает.
— Ванько отпустил запястья неудавшихся драчунов. — И до свидания.
Посрамленная троица не замедлила удалиться.
— Ну вот и обошлось. А ты боялся.
Мальчуган был настолько удивлён и вместе с тем восхищён происшедшим, что не находил слов.
— Ну-ка, покажь, — взял у него коробок, открыл. Набор карандашей был большой, цветов на двенадцать. — Ты что ж, и рисовать умеешь?
— Ещё только учусь.
— Занимаешься всурьёз или так, от нечего делать? — Он обратил внимание, что карандаши разной длины — значит, пользуются ими часто.
— Всерьёз.
— И как, получается?
Говорили на ходу, при этом Ванько вёл счёт подворьям, оставшимся за спиной; по расчётам, спиваковское должно было находиться где-то рядом.
— Так себе, — скромно пожал плечами Сережа. — Но некоторые мои рисунки хвалят.
— «Некоторые» — ты имеешь в виду людей?
— Рисунки. Идём, покажу, если хочешь.
Экскурсии в план не входили; и так, кажись, задержался, подумал он.
— Я, Сережа, очень спешу. Может, как-нибудь в другой раз. Ты далеко живёшь отсюда?
— Близко! Вон наша хата, — показал в направлении, где, предположительно, должен находиться и нужный ему двор.
— Постой… ты, случайно, Тамару Спивакову не знаешь?
— Так мы ж соседи! И я с нею дружу, — сообщил он с подъёмом, но добавил с сожалением: — Токо её ведь нет…
— Как это?
— Их с дядей Гришей ещё позавчера полицаи забрали.
— Что ты говоришь!.. А я ведь иду к ним…
— А тётю Клаву и Валерку — сёдни ночью… Мама утром пошла проведать, а их уже нет. И ночью возле них машина гуркотела.
«Ну вот, как в воду смотрел!.. «— подумал Ванько.
Хоть и был готов ко всему, но всё ж до последнего момента теплилась надежда, что, оставшись один в незапертой камере, отец одумается, сбежит, поспешит домой обезопасить ребёнка и больную жену. Этого, видать, не случилось… Но, возможно, он всё-таки решился? И «тётя Лена», о которой упоминала Тамара, помогла ему спрятать жену у себя в подвале?
— А твоя мама щас дома? Её как звать? — спросил в надежде, что зовут её не Елена.
— Маму звать Елена Сергеевна, они с бабушкой дома. — Сережа, всё ещё не сводивший глаз с друга, заметив на его лице тень разочарования, истолковал это по-своему и поспешно добавил: — Да ты их не бойся! Ругаться не будут, они у меня хорошие!
Наличие двух тёть Лен-соседок маловероятно, и теплившаяся надежда угасла окончательно… Как скажет он об этом Тамаре, с замиранием сердца дожидающейся их возвращения? Какой страшный удар судьбы предстоит ей вынести!..
Меж тем Сережа, решив, что друг почему-то либо боится, либо стесняется его родителей, тянул за руку:
— Идём! Всё равно тебе теперь спешить некуда… Мы в комнату заходить не будем, если хочешь! — Ему, похоже, очень хотелось показать свои работы и, возможно, услышать похвалу от человека, чьё мнение для него дорого.
— Постой минутку здесь, я — щас приду. — Ванько прошёл за угол — на улицу, где остались его телохранители. Те оказались на месте: Федя вышагнул из куста сирени, Миша — спрыгнул с ореха у забора на противоположной стороне улицы. Для них его появление означало: пока всё нормально. А знак рукой — что он зайдёт во двор Спиваковых. — У тебя много рисунков? — поинтересовался, вернувшись к Сереже.
— Два альбома акварелью и ещё половина карандашом.
— У, да ты и вправду художник! — потрепал он его по шелковистым, с завитушками, вихрам. — Очень бы интересно посмотреть! Но у меня времени — в образ. Ты вот что: принеси что-нибудь сам, на твоё усмотрение. А я всё-таки зайду к Спиваковым, посмотрю: может, тётю Клаву вовсе и не забрали, и она спрятамшись с Валерой где-нибудь на чердаке или в сарае.
— Навряд, чтоб… Она ж совсем-совсем больная!..
— А вдруг? Договорились? Туда и принесёшь.
— Ладно. А хочешь, я подарю тебе на память Тамару? — предложил художник и пояснил: — Акварельную.
— Конешно, хочу! Она ведь моя школьная подруга.
Юный художник вприпрыжку помчался домой, а Ванько через прореху в заборе нырнул в спиваковский огород.
Вчера в темноте и спешке он не разглядел внутреннего обустройства и сейчас поражен был запущенностью хозяйства. Вдоль забора лопухи да чертополох — выше головы. Садик, довольно большой, запущен донельзя; огород наполовину под бурьяном. Сарай — с прохудившейся крышей. Держали корову, а корму с гулькин нос — только то, что успел насбивать отец по двору. Он мало что успел сделать (возможно, из-за боязни днём попадаться людям на глаза): свалил несколько старых акаций, подкатил их поближе к сараю (на дрова порубил только ветки). Часть территории перед сараем занята квадратиками подсыхающего кизяка — тоже топливо на зиму.
Впрочем, глазеть по сторонам было недосуг, он зашёл сюда ради мишиной просьбы — забрать лимонки. Они оказались там, где и говорила Тамара, — в сарае, в углу под куриным насестом. Сунул их в карманы, остальное аккуратно замаскировал.
Из сарая направился было заглянуть в хату. Побеленная извёсткой, с цветничком под окнами на улицу, она имела опрятный вид. Прилегающий дворик с летней печкой и качелями для малыша — подметён и ухожен. Хотел зайти в брошенные настежь двери, но тут на тропинке, проложенной напрямик по огороду, показался Сережа, и Ванько повернул к нему.
— Вот, принёс… — протянул он листок чуть меньше тетрадного разворота.
— Посмотри, похожа?
На Ванька с лёгкой беззаботной улыбкой смотрела девчонка, определенно напоминающая Тамару: крупные голубые глаза, короткая причёска, нос, губы — всё схвачено довольно похоже.
— Ух ты, как живая! — несколько завысил он оценку. — У тебя, старина, неплохо получается… Молоток! Изобразишь как-нибудь и меня?
— Я бы хоть сейчас, но краски кончились. А карандаш — не то…
— Да мне щас и некогда. Спасибо тебе за подарочек! — Он свернул листок в трубочку и сунул за пазуху. — Мне надо уходить. Провожать не надо. Держи питушка, — подал на прощанье руку. — Мы с тобой ещё обязательно встренемся!
Приветливая улыбка на его лице сменилась далеко не весёлым, если не сказать мрачным, выражением. Выходя через распахнутые дощатые ворота, заметил следы протектора автомобильных колёс. «Ночью, а машину нашли, гады!» — подумал про себя.
На улице достал из-за пазухи портрет, сложил вчетверо и перепрятал в нагрудный карман.
Друзья поджидали его с тревожным нетерпением. Догадывались: удача на этот раз была не с ними… Прикончили на месте? Забрали, несмотря что больная? Федя пытался прочесть ответ на непроницаемом лице уж очень медленно приближающегося товарища. Миша держал глаз на оттопыренных карманах, но без видимой радости.
— Зря, братцы, спешили… Её забрали. Ночью. Приезжали на машине…
Троица молча направилась в конец улицы. За пару дворов до околицы свернули в нечто вроде проезда, заросшее высокой бузиной. В холодке присели.
— Не хочется и домой возвращаться… — вздохнул Ванько устало.
— Да-а, — согласился Федя, — положение — не позавидуешь…
Разговор долго не возобновлялся. Миша меж тем извлек выглядывавшую из кармана соседа зелёную ребристую «штуковину». Подбросил на ладони. Ни Ванько, ни Федя даже не взглянули. Отвинтил коричневую эбонитовую «пробочку», опрокинул лимонку, встряхнул — выпало и повисло на короткой белой нитке кольцо.
— Точь-в-точь как та, которую я видел, — попытался привлечь внимание товарищей. — Вот за это кольцо: дерганул — и кидай. — Те посмотрели без особого интереса. Уложил всё обратно, завинтил колпачок, опять сунул Ваньку в карман. — Пистолет пусть будет у меня?
— Пусть у тебя, — отозвался тот.
— Вань, а что это за пацан был с тобой?
— Какой пац… А-а… Соседский. Это от него я узнал, что забрали ещё ночью…
— Он не видел, где ты брал лимонки?
— Не видел. — Ванько думал о чём-то своём, отвечая машинально.
— А ты хорошо замаскировал место?
— Да вроде… А чё?
— Не уволок бы он патроны…
— Ну, Мишка! — упрекнул его Федя. — Как ты можешь думать об этом сейчас?! Вот уж действительно: кому что, а курице просо…
— Думаешь, я не переживаю? — обиделся тот. — Что ж теперь, ни о чём другом и думать нельзя? Ведь если подсумки полные, то это, самое мало, полтора десятка обойм. Это ж сколько патронов!
— Да на кой они тебе, столько, без винтовки?
— Ты, Хветь, даёшь, воще! Во-первых — порох: сыпнул щепотку — сразу тебе и пламя, не нужно полчаса дуть-раздувать. А потом, мы не знаем, какая винтовка была у томкиного бати: может, иранская. Я, к примеру, слыхал, что иранцы помогают нам винтовками. А патроны к ним такие же, как к немецким.
— У тебя что, уже имеется немецкая винтовка?
— Нет, так будет! Вань, давай на обратном пути зайдём — ты найдёшь то место, где поцапался вчера ночью с полицаем?
— Она же, Мишок, без приклада.
— Ну и что? Сделаем обрез. Очень удобная штука! Фрицы — они, может, ещё долго продержатся. Вот и будет, чем отклацываться, если что.
Ванько посмотрел на него долгим взглядом, усмехнулся:
— Ты и вправду рассуждаешь, как взрослый… Ладно уж, зайдём. Всё одно спешить домой не с чем. Да и ближе, если напрямик.
— В этот раз, может, и не унесём, но хоть перепрячем понадёжней! — обрадовался «взрослый».
Солнце подбиралось к полудню, когда, решив возвращаться станицей, наши герои отправились в обратный путь.
Живший продолжительное время у тёти и неплохо знающий серединную часть станицы, Ванько мысленно восстанавливал в памяти, начиная с конца, свой вчерашний маршрут по её ночным закоулкам. Правда, дальше «стадиона» — неогороженного пустыря, что в нескольких кварталах от стансовета — куда частенько бегал после школы погонять в футбол, ему бывать не доводилось, не было такой надобности. Поэтому, ведомый вчера Тамарой, он смутно представлял, куда они идут. От её хаты они тогда направились к югу, несколько раз забирая вправо, то есть ближе к центру. Этим же примерно путём шли они и сегодня.
Припекало вовсю (сентябрь на Кубани — месяц жаркий), и кроме мелкой детворы, иногда — козы на верёвке да изредка нескольких кур в холодке под забором, на полупустынных улицах им почти никто не попадался. Лишь на подступах к центру замечено было людское оживление: толпа из женщин с детьми, старух и, реже, стариков беспорядочно двигалась в одном направлении. Заинтересовавшись, ребята свернули в проулок, приблизились. Выяснилось: по дворам шастали вооружённые «фрицевские прихвостни» (их научились распознавать по специальной униформе) и выгоняли жителей из домов.
Хотели вернуться, да поздно кинулись: конный полицай, едва не смяв лошадью, преградил дорогу:
— Куд-дой драпаш, а ну назад! — замахнулся плёткой на Мишу, оказавшегося ближе других.
— Чё — назад? — увернувшись, огрызнулся тот. — Мы там и не были!
— Усех касается! Быстро назад!
Поскольку не успели отойти на достаточное расстояние и противиться стало небезопасно, пришлось вернуться и смешаться с толпой. Здесь узнали: всех гонят на стадион. Там-де состоится сход граждан, организуемый германскими властями.
Цель «схода» прояснилась на месте: с верхней штанги футбольных ворот свисало четыре коротких верёвочных петли. Под ними уже стояла наготове длинная скамья, какими обычно оборудовали клубные помещения.
Согнанных с окрестных улиц станичников, числом не менее трёхсот, двое конных и с десяток пеших полицаев, покрикивая, выстраивали полукругом метрах в двадцати от импровизированной виселицы. Поняв, что отсюда удрать и вовсе невозможно, ребята пробрались ближе к переднему краю.
— Догадываешься, для кого всё это приготовлено? — Федя кивнул в сторону футбольных ворот; они с Михаилом стояли впереди Ванька. — Надо ж было нам сюда вляпаться!..
— Я уже и сам не рад, что подбил зайти за этой винтовкой, воще!.. Две петли — для спиваков, а для кого ж остальные? — Миша глянул на Ванька, неопределенно пожавшего плечом.
— Может, которых я вчера оглушил, решили повесить? Да вон уже, кажись, везут.
Со стороны комендатуры на небольшой скорости к стадиону подкатили легковая и следом крытая брезентом грузовая автомашины. Лимузин с четырьмя военными, недоезжая, отвалил в сторону, грузовик подвернул к воротам. Со ступенек кабины спрыгнуло двое гитлеровцев с автоматами, а ещё двое, но уже полицаев, — с кузова. Откинув задний борт, с помощью ещё одного ссадили на землю приговорённых — двух мужчин и женщину. Последняя была низенького роста, худа, в тёмной юбке поверх ночной сорочки, с распущенными серыми волосами; у неё руки связаны не были.
— Который из них томкин батя? — обернулся Миша к Ваньку.
— Разговаривай потише, — предупредил тот, покосившись на стоявшего поблизости полицая. — Который справа. А другой смахивает на одного из вчерашних, дежуривших ночью у кутузки. Перед уходом я советовал отцу врать, будто они сами отпустили нас на все четыре стороны. Он, видать, так и поступил. Но почему тогда сошло с рук старшому — непонятно…
— Хоть одного повесят — и то гадом меньше станет! — заметил Федя.
Из легковой вылезло трое офицеров — в фуражках с высокой тульей, в щеголеватой форме с нашивками, начищенных до блеска хромовых сапогах, словно готовились на парад. У самого длинного на глазу чёрная повязка. Он и ещё один, пониже, остались стоять, переговариваясь. Третий, едва автоматчики заняли места перед притихшим «сходом», пружинистой походкой направился в середину полукруга. Окинув холодным взглядом разновозрастную, застывшую в напряжённом молчании аудиторию, начал речь на высокой визгливой ноте:
— Феликий Германий… тавайт вам свапот! — с паузами, трудно подбирая русские слова и уродуя их до неузнаваемости, выкрикивал он. — Шеланни свапот от польшевицки тираний! Абер… атнака ми есть песпощатни к люпой, кто не виполняйт унзере ноеоднунг, то ес нови немецки поряток! Ме прика-саль вас… сопирай на каснь партисански пантит, котори…
Что-то ещё в этом роде «тявкал» он (по мишиному выражению) некоторое время, но наши ребята не слушали. Обмениваясь короткими замечаниями, наблюдали за тем, что происходило у виселицы.
А там начиналось такое, от чего у многих забегали по спине мурашки, сжималось сердце и глаза отказывались смотреть. Матери пятились с малышами в глубь толпы, щадя их неискушённые души да и сами избегая поднимать глаза. Те же, у кого хватало нервов смотреть, наверняка запомнили тот кошмар на всю оставшуюся жизнь…
Подошёл одноглазый и, похоже, распорядился начинать. Сейчас же один из полицаев ухватился за край скамейки — держать, чтобы не опрокинулась раньше времени. Ещё двое прислужников подвели и подняли на неё сперва полицая, затем тамариного отца. Первый, пока его вели, дёргался, норовил пасть на колени и что-то канючил; второй — не противился, последние шаги навстречу смерти сделал самостоятельно, словно всё, что с ним происходит, его нисколько не волнует. И только скорбный взгляд в сторону жены говорил об обратном.
Женщина тоже не просилась, не противилась; возможно, у больной для этого уже не было сил. Спустив с кузова, её прислонили было к боковой штанге ворот, но она тут же осела и повалилась набок. Когда подошла очередь, к скамье тащили, ухватя под локти. Поставив, пытались набросить петлю, но та оказалась коротка. Тогда один из полицаев расширил отверстие (отчего верёвка ещё более укоротилась), а другой — в нём ребята давно узнали Пантелея — попытался сунуть головой. Сделать этого ему не удалось: женщина мучительно раскашлялась, ртом хлынула кровь, обагрив рубашку спереди…
Сход отреагировал возмущённым гулом, а муж, забыв, где находится, рванулся к умирающей. От рывка скамья опрокинулась, и оба повисших задёргались в предсмертных конвульсиях. Горе-вешатели неуклюже растянулись, придавив безжизненное тело несчастной… Толпа, застонав, колыхнулась, послышались негодующие возгласы. Стоявшая поблизости от ребят пожилая женщина, отирая слёзы, ворчала гневно:
— Ублюдки! Повесить по-человечески не могут, каты проклятые… Чтоб вас самих так!..
— Идёмте отсюда, — не выдержал Федя, потрясённый зрелищем. — Чокнуться можно…
— Шандарахни одну лимонку в эту шакалью шайку! — прошипел Миша.
— Нельзя. — Ванько тоже стоял бледный, но не терял самообладания. — Могут пострадать невиновные. Да и она ещё, может, живая.
— Её ведь всё одно повесят. Видишь, скоко спешат на помощь!
К виселице устремилось несколько полицаев из числа следивших за порядком. Даже автоматчики повернулись к толпе спиной и сделали по нескольку шагов вперёд.
— Смываемся, — показал Ванько на конных, тоже подъехавших сюда. — Может, оцепления уже нет.
Протискиваясь, услышали сзади возню и истеричные выкрики: «Убивцы! Душегубы прокляти! Пустить!»
— Вы идите, — сказал Ванько, — а я щас… гляну, что там произошло.
А произошло то, что одна из присутствующих, крупного телосложения тётка, у которой наверняка сдали нервы, вырвалась вперёд и, потрясая кулаками, выкрикивая ругательства, тащила в сторону виселицы двух других, помоложе и послабей, пытавшихся удержать её от необдуманных действий. К «дебоширке» уже спешили полицаи.
Смекнув, что и ей не миновать петли, оставшейся незадействованной, Ванько кинулся к ним и едва успел втолкнуть бунтовщицу в расступившуюся и тут же сомкнувшуюся толчею. Но и сам схлопотал прикладом между лопаток.
Тем временем общими усилиями карателям удалось-таки сунуть Клавдию, уже, пожалуй, мёртвую, головой в петлю. Шайка, как выразился о них Миша, отошла в сторону — возможно, чтобы согнанным на «сход» лучше было видно казнённых; одноглазый, руководивший казнью, всё ещё находился с ними.
Обычно не терявший самоконтроля, Ванько в этот раз не сдержался (чему, возможно, поспособствовала и боль от удара прикладом): не думая о последствиях, он свинтил с лимонки колпачок, выдернул кольцо и с силой швырнул гранату в сторону шайки. Проталкиваясь на выход, услышал взрыв и одновременно вопли раненых там, у виселицы. Толпа после этого шарахнулась врассыпную. Оцепление, если оно ещё и оставалось, было наверняка смято. По крайней мере, никто не пытался его задерживать. Федя с Мишей уже поджидали в проулке. Заметив, что он возвращается, скрылись за углом, где и дождались товарища.
— Всё-таки дал им по мозгам! — одобрением встретил его Миша.
— И станичаны, кажись, отделались только лёгким испугом, — заметил Федя. — Осколки навряд, чтоб достали, а автомата слышно не было.
— Глянуть бы хоть одним глазком, скольких укокошил.
— Попал, вроде, в самую гущу, — пояснил Ванько. — Слыхал, как взвыли. Если и не укокошил никого, то раненые есть точно.
К великому мишиному огорчению, винтовки на месте не оказалось…
Т у м а н возвращение хозяина приветствовал радостным повизгиванием и вставанием на задние лапы. Днём он бывал на привязи, и Ванько, проходя мимо, никогда не упускал случая приласкать верного, преданного друга. Вот и в этот раз: присев на корточки, первым делом почесал у него за ушами, огладил и отвязал — пусть сбегает до ветру. Но если даже и подпирала нужда, пёс терпел: кто ж не любит ласки?
— Псина ты моя красивая… соскучился? — выдирая застрявший в шерсти «репьях», ласково беседовал с ним хозяин. — Дай-ка лапу. Хорошо, молодец. Теперь другую. Умница! Голос! Дай голос. — Пёс трижды громко тявкнул.
— Не шумите, малыш уснул! — Мать вышла с глиняным горшком в руке, послужившим, видимо, Валерику в качестве ночного.
— Мам, Тамара уже пришла? — с тревогой спросил Ванько.
— А она разве не с вами?
— Мы её оставляли у Веры. Тёть Лиза ушла в Майкоп, так она согласилась помогать ей по хозяйству.
— Ушла, значит?.. Дорога ой, какая долгая да опасная!..
Больше всего хотелось ей поскорей узнать, что с матерью Тамары, но спрашивать об этом не решалась; оттягивал с вестями и сын. Она прошла до сортира, а он снова привязал собаку. Вернувшись, мать подсела к нему на скамейку под алычой, посмотрела вопросительно в глаза.
— Полицаи опередили… Забрали ещё ночью.
— Где ж вы пропадали до самого вечера?
— Случайно оказались ещё и свидетелями казни. Повесили, гады, обоих — и отца, и больную мать.
— Ой, господи! — всплеснула руками, ужаснулась Никитична. — И её не пощадили!.. А вы-то как там оказались?
— Возвращались домой, смотрим — люди на улицах. Полстаницы прошли — ни души не встретилось, а тут вдруг толпа: и взрослые, и дети. Зашли узнать, в чём дело, видим — полицаи из хат выгоняют всех на улицу. Ну, и сами тоже влипли… А это их сгоняли на стадион, что неподалёку от стансовета. Подходим, смотрим, а там приготовлено четыре виселицы…
— Ради бога, сынок! — остановила рассказ мать. — Мне и так кошмары всякие снятся… — Помолчав, вздохнула. — А мы с Мотей так надеялись: может, хоть больную-то не тронут, пощадят. Ведь ни в чём же не виноватая! Бедные сиротки!.. Жить ещё не жили — и такое горе. Как же теперь-то?
— Мы тоже об этом думали… Поживёт у Веры, пока тёть Лиза вернётся, а к тому времени что-то придумаем.
— Я, сынок, не о том. Как ей-то сказать об этом?
— Вот этого и я боюсь. Слёз будет!.. А я их не переношу.
— Может, не след сказывать всю правду? Дома, мол, не оказалось, а куда подевалась — неизвестно. Не у соседей ли, мол…
— Нет… лучше сразу сказать правду. И ребята за это: так честней.
— Ну, смотрите сами… А насчёт остального, так тут и думать нечего: приютим, прокормим, с голоду не помрём. Жалко, барахлишка вы вчерась не прихватили. У обоих-то только то, что на них. Да и платьице на ней сам видел, какое. Нынче ведь ни купить, ни пошить.
— Тут я, мам, сглупил дважды, — запоздало пожалел Ванько. — Надо было зайти в хату хотя бы сёдни, что-нибудь из барахла наверняка ведь осталось! А я совсем выпустил из виду.
— Ничего, сынок, как-нито выкрутимся.
— Мам, я вам не говорил? Мы ведь парашют нашли. Лётчик, видать, бросил — помните, случай был в начале августа. Громадный такой лоскутище настоящего белого шёлка. Он сгодится на платье?
— Посмотреть нужно, может, и пройдёт. А он где?
— Спрятан в надёжном месте. Только его нужно бы обязательно перекрасить. Для безопасности.
— Можно и покрасить, дело нехитрое.
— А где щас краски найдёшь?
— Краски, сынок, сколь угодно. Из ореховой кожуры — это тебе коричневая. Прокипятить в луковой шелухе — цвет будет золотистый. А можно и в тёмный, ягод глухой бузины до зимы полно.
— Так это ж замечательно! Завтра же мы вам его доставим.
— У Лизы и машинка швейная есть. Зингеровская.
— Значит, с платьями из затруднения выйдем. Там хватит не только Тамаре, но и Вере со всеми её брательниками и ещё останется.
— Ты бы поел, цельный день ведь голодный, — спохватилась мать. — Я каши молошной сварила — принести?
— Меня ведь ждут — не дождутся… Ладно, неси, я по-быстрому.
Ванько ещё подкреплялся, когда пришёл Борис. Поздоровался с матерью.
— Ты, Боря, уже третий раз здороваешься. Садись с нами ужинать, — пригласила она.
— Спасибо, я не голодный, токо из дому, — отказался.
— А как там, всё нормально?
— В общем, да. Хотя, конешно…
— Рассказывай при маме, — разрешил Ванько.
— Порывалась несколько раз туда. Пригрозил было связать.
— Ты результат уже знаешь?
— Виделся с Мишкой.
— Не представляю, как я ей скажу… Может, ты? Не в службу, а в дружбу.
— Я целый день убеждал, что всё будет нормально, а теперь — с какими глазами?.. — заупирался Борис.
— А я бы севодни всё-таки не стала бы говорить правду, — вмешалась в разговор мать.
— Оттяжка, мам, — не выход из положения.
Помолчали. Ванько перестал есть, задумчиво, невидяще уставясь в какую-то точку в стене хаты.
— Ну, раз такое дело, ничего ей сами не говорите. У меня это мягче получится, — предложила Агафья Никитична.
— Вот спасибо! Вы нас просто спасаете! — поблагодарил Борис.
У Шапориных в хате уже горела керосиновая лампа, также укрепленная на стене. Трое мальцов сидело на стульчиках-чурках вокруг лохани с водой — Вера мыла им ноги перед сном. Старший, Володька, готовил постель.
— Колек, не хлюпай воду, а то будет лужа и заведётся гадюка, — сделала она замечание самому меньшему из братьев.
— Какая, балсая? — поинтересовался тот.
— Вот укусит, тогда узнаешь!
— А я её лозиной ка-ак тлесну!
— Это кто тут старших не слушается? — с порога спросил Борис. — Сичас посажу в мешок и отнесу цыганам!
Тамара кинулась к Ваньку, с тревогой и надеждой глядя ему в глаза: — Как там? Почему так поздно? Я с ума схожу!..
— Валерку мама принесла сюда. Он как раз уснул, когда я пришёл…
— Я не про него. У нас были?
— А куда ж мы, по-твоему, ходили? Правда, задержались… Идём, проведу, мама тебе всё и расскажет. А то у нас с Борькой очень срочное дело.
— Ты, Вань, проводи, да недолго! — поддакнул Борис. — А то не успеем.
Никогда ничего не боявшийся, он сейчас трусил разговора с Тамарой. На её попытки узнать хоть что-нибудь отвечал уклончиво: дескать, не волнуйся раньше времени, скоро всё узнаешь. И облегчённо вздохнул, когда та бегом — оставалось два подворья — заспешила по укутываемой вечерними сумерками улице. Подождав, пока свернула в калитку, вернулся в хату, где Вера всё ещё воевала с детворой: уложила всех на просторном топчане, где они продолжали вертухаться, хихикать и пищать.
— Сичас буду гасить лампу, — предупредила, набрасывая поверх них накидку, — Колек, хватит баловаться, а то украдет хока!
Боязнь быть украденным «хокой» у малыша появилась лишь после того, как сестра, постучав в дверь, спросила: «Это кто там стучится с мешком? Уходи, хока, мы уже позакрывали глазки и спим».
— А куда это Борис задевался? — поинтересовался Ванько.
— Послала наносить в кадушку воды. — Управившись, подошла к нему: — 3начит, тамарины дела плохи?
— Хуже некуда!..
— Она, бедная, как сердцем чуяла. Места себе не находила…
— Верчик-Мегерчик, ваше приказание выполнено! — по-военному доложил Борис, войдя и ставя ведро с водой на специальный табурет.
— Потише: дети токо-токо угомонились! — цыкнула на него хозяйка. — Вынеси заодно и из лоханки.
— У нас к тебе дело, — сказал Ванько, когда она, прикрыв дверь, вернулась. — Скоро освободишься?
— Да уже, считай, и управилась. — Вкручиванием фитиля загасила лампу и предложила пройти во двор.
Тускнел закат, и первые звёзды зажглись над рано отходящим ко сну хутором. Свежий ветерок со стороны утратившего былую шумливость лимана делал погоду нелётной для всё ещё многочисленных комаров.
— Говоришь, дело ко мне? — напомнила Вера, сев на завалинку между ребятами.
— Если точней, то просьба. Ты не будешь против, чтоб Тамара с брательником пожили пока у тебя? Покуда всё утихомирится, и мы…
— Можешь причину не объяснять: я с удовольствием! — охотно согласилась она, недослушав. — И веселей будет, и помощь мне, и ночью не боязно.
— А хочешь, сёдни переночую я? — предложил Борис. — Чтоб не так боязно.
— Один раз как-нито обойдусь!
— А если б не Тамара, как бы обходилась? — полюбопытствовал он.
— Если б да кабы… там бы видно было! Клаву бы попросила, — нашлась она.
— И ещё, — продолжил Ванько. — У вас, кажись, есть швейная машинка?
— Есть. Мама хотела променять её на что-нибудь дорогое, чтоб попытаться выкупить папу из концлагеря. Да токо ничего не вышло…
— А ты умеешь на ней шить?
— Так там и уметь нечего. Меня мама и кроить научила, да вот не из чего. А тебе что-то пошить надо?
Борис смекнул, куда клонится разговор: ребята об этом уже как-то толковали.
— А ты хотела б иметь шёлковое платье? — задал он вопрос, показавшийся ей неуместным.
— Охота тебе языком ляскать! — отмахнулась она.
— Я сурьёзно спрашиваю.
— Поиздеваться захотелось!..
— Ты ведь знаешь, как я тебя уважаю! И издеваться никогда не позволю, — не отставал Борис.
— Вот и подари, если уважаешь. У меня шёлкового сроду не было.
— Готового платья, конешно, нет. Но ты сама сошьешь не хуже, чем…
— Отстань! Нашёл, морда, чем шутить!.. — явно обиделась Вера.
— Да нет, он говорит правду, — вступился Ванько. — Я почему и начал об этом разговор. У нас действительно имеется большой кусок шёлка. Целый парашют. Хватит обшить и пацанов, и тебе на платье, и ещё останется.
— Ой, так это Борька не трепится?! — переспросила она обрадованно. — Вот бы мама удивилась и обрадовалась! Наши голопузики совсем обносились.
— И у Тамары платье — сама видела…
— У неё же в этом месяце день рождения! Пятнадцать стукнет. Мы ей первой и сошьем — вот будет подарочек! — словно дитя малое радовалась Вера.
— Ну, значит, договорились, — подвёл итог Ванько. — Иди отдыхай. Ты и вправду не боишься одна?
— А кого? Вора — так у нас красть нечего. Кроме того, на дверях крючки, а ставни на прогонычах.
— Тогда — счастливо оставаться!
Д в е р ь заперта не была, и Ванько зашёл в хату с уверенностью, что здесь уже легли. Но ошибся: из спальни матери через щёлку неплотно прикрытой двери пробивался слабый свет и слышался говор. Проходя к себе, несколько задержался, увидев обеих сидящими на неразобранной кровати. Тамара судорожно, по-детски всхлипывала, а мать, обняв её за плечи и пригорнув, говорила, задумчиво и проникновенно:
— На веку, дочка, всего доводится хлебнуть. А в жизни, к сожалению, больше горя, чем радости. И всё нужно перебороть, пересилить… Тебя вот рано постигло несчастье, но разве тебя одну? Скольким людям принёс горя проклятый германец!.. Слава богу, хоть вы с братиком в живых остались.
— Богу? — гневно вскинула она глаза. — Мама тоже всё ему молилась, а он… Нет никакого бога! Ваш Ваня — вот кому за это спасибо.
— Ну хорошо, пусть будет Ваня… не плачь. Его-то бог вам и послал.
— Нет! — решительно отвергла Тамара вмешательство бога.
— Нет так нет… Успокойся, детка…
Не дослушав, прошёл к себе, разделся и лег.
Последнее время перед сном думалось о Варе. Скоро сорок дней, как её не стало, — вспомнилось и в этот раз. Старые люди, которые верят ещё и в бога, и в загробную жизнь, в этот день поминают покойников. Считается, будто их души прилетают, чтобы проститься с теми, кого любили и с кем расстались. Чушь, конешно. Суеверие. А вот хотелось бы, чтоб её душа прилетела… Повидаться бы, поговорить ещё хотя бы разок, пусть и во сне.
От Вари мысли перекинулись на Тамару. Представил, что творилось в её душе, когда узнала страшную весть… Верно подметил Федя: не позавидуешь. Хотя он, возможно, имел в виду не столько её, сколько того, кто должен будет сказать ей об этом. Но куда ж денешься!.. И у неё боль постепенно утихнет. После самой ненастной ночи обязательно ведь приходит день.
На таких вот мыслях и поборол его сон.
Утром проснулся от прикосновения к лицу и расслышал шёпот:
— Потрепай дядю за ушко, ему пора вставать.
Заметив, что он проснулся, Тамара выпрямилась — на руках у неё был Валера —, говоря извинительно:
— Там тебя Федя спрашивает. У него какое-то важное дело. Хочет, чтоб ты вышел во двор.
— Да? Ну, я щас. Токо оденусь.
Со словами «идём ещё посмотрим, какие у кошечки красивые котятки» они удалились. Вчерашней угнетённости видно не было; в обращении к брату Ванько отметил нежность и спокойную ласковость.
Федя поджидал на лавочке.
— Привет. Что случилось? — обеспокоенно спросил Ванько.
— Важная новость! Только что полицайша жутко голосила, дёргала на себе волосы. И с какой-то тёткой подалась в станицу. О причине догадываешься?
— Тут и гадать нечего! — не удивился приятель. — Насмерть или только ранен?
— Если б был ещё живой, она бы так не убивалась. Аж до нас было слышно. Но я о другом: теперь она вернётся к себе в станицу и может прихватить с собой и Жданку!..
— Ну уж это — дудки!
— Вот и я про то же! — Федя заметно горячился. Они прошли и сели перед скирдёшкой, где и вчера, на куль кукурузной бодылки. — Её нужно вернуть обратно. Если не в обед, то обязательно вечером перехватить по дороге домой и спрятать.
— Ты — как Миша: с ходу, — охладил его пыл Ванько. — Так нельзя.
— Почему?
— А если Пантелей всего лишь ранен? Подлечится, вернётся и начнёт докапываться: куда, мол, делась? С ним шутки плохи.
— Об этом я как-то не подумал, — согласился Федя.
— Поэтому подождем точных известий. А перехватить — пара пустяков. Хотя и тут надо обойтись без свидетелей…
— Борис заикался, что будет пасти за Веру, — вспомнил Федя и стал прикидывать, когда очередь дойдёт до Шапориных. — Точно: послезавтра припадает им.
— Тем лучше, обойдёмся без лишних глаз.
— Только вот что с нею станем делать? Не резать же её на мясо!
— Тут ты прав. Надо что-то придумать… А что, если… — Он умолк, в то время как собеседник смотрел ему в рот. — Сделаем вот что: отведём бурёнку к тёте и обменяем на хлеб.
— Не понял: у неё что, много хлеба? Да и корова вроде есть.
— Тут такое дело. Когда, перед отступлением, наши взорвали элеватор, многие живущие поблизости от него крепко поднажились. Натаскали домой и кукурузы, и пшеницы — вобщем, всякого зерна. Думаю, тётя поможет найти на Жданку выгодного покупателя. Точнее — менялу, и мы возьмём за неё натуроплатой.
— Не мешало бы! Тем более, что полтора едока у нас добавилось.
П р о ш л о й осенью Мише — как, впрочем, и остальным ребятам — едва ли не ежедневно приходилось ходить в степь за топливом. И уже в сентябре им стали попадаться на глаза странные стёжки-дорожки. Их становилось всё больше, они в разных направлениях пересекали степные заросли. При внимательном разглядывании выходило, что это — работа зай-цев: стебли бурьяна срезаны у самой земли, словно ножницами. А расплодилось зайца, надо сказать, немало: выскакивали из лёжек едва ли не через каждые сто-двести метров.
Ещё тогда пришла Мише догадка, что на этих стёжках можно добывать дармовое мясо. Достаточно лишь изготовить из проволоки петли и установить их при помощи деревянных колышков на пути косого. Они наверняка шастают ночами по этим своим магистралям!
Следует сказать, что натолкнул Мишу на эту мысль поэт Некрасов.
Когда в классе проходили «Деда Мазая», он спросил у учительницы, как следует понимать: «Если б силками его не давили»? Та объяснила: силки — это петли. Волосяные, если для ловли птиц, а на зверя, в том числе и на зайца, — проволочные.
Тогда он ходил в школу, притом — в четвёртый класс, а это, как известно, безбожно большие домашние задания. Пока их приготовишь, пока сходишь за солодарём для топки — не до зайцев. Да и проволока — где её взять?
И вот недавно, когда он случайно увидел сгоревшую автопокрышку, его осенило: в ободах проволока — как раз то, что надо, отличная миллиметровка! К сожалению, та оказалась пережжённой и ржавой. А вот если самому обжечь, аккуратно, — будет годняк!
Этим делом он сегодня и занялся.
Разложив в огороде небольшой костерок, обжигал на нём обод, с немалым трудом вырезанный из покрышки, некогда стибренной в МТС. Уже во многих местах по окружности обода виднелась свёрнутая в кольцо проволочная лента, когда кто-то, незаметно подкравшись, закрыл ему ладонями глаза. Обычная, в общем-то, ребячья шутка, и когда стоишь, то достаточно попытаться расстегнуть неизвестному штаны, как тот оставляет затею. Но Миша сидел на пятках да к тому же руки — по локоть в саже.
— Борис, ты? — попробовал он угадать шутника. — Хветь, не мешай, видишь, я занят. — В ответ — молчок. — Убери лапы, не то изгваздаю — не отмоешься!
После столь категоричного предупреждения неизвестный убрал наконец руки, и взору предстал… дружески улыбающийся Рудик. Недавний сосед и старый приятель.
— А, это ты, — с подчёркнутой прохладцей сказал Миша. — Каким ветром?
— Ну, во-первых, здравствуй, — пришлось тому пригасить улыбку.
— Привет. Ежли не шутишь.
— А ветром — с твоего подворья, — стал пояснять Рудик. — Иду по-над двором, вижу дым чёрный и палёным сластит, вроде как резиной. Чем это, думаю, Патронка занимается?
— Между прочим, клички у нас уже из моды выходят… Так что и ты эти детские штучки бросай, понял? — назидательно и всё так же холодно заметил Миша — Какой ты стал сурьёзный — прям не узнать! — попытался разрядить обстановку Рудик.
— А я, воще, такой и был, воще. К твоему сведению.
— Слушай, ты чё? — не вытерпел отчуждённости старый приятель. — Никак дуешься на меня?
— Разве заметно?.. Но и ты тоже гусь: смылся вдруг, не сказав ни слова даже ближайшему соседу.
— Просто не было возможности. Потому как увезли ночью и неожиданно.
— Кто, куда и почему, если не секрет?
— Вобще-то секрет. — Рудик тоже перешёл на прохладный тон.
— Я-асненько… А теперь, значит, привезли?
— Тебе, надеюсь, известно, что Марта куда-то делась? — вопросом на вопрос ответил Рудик.
— Ещё бы… И не токо она.
— Так вот. Дедушка и до этого прибаливал, а после и совсем был слёг. Присматривать за ним стало некому, целыми днями один. Тётя и предложила нам вернуться домой.
— Тётя, говоришь? 3начит, это она вас увезла, а потом захотела и привезла. С помощью фрицев. Пон-нятно…
— Я тебе как другу объяснил, а ты всё с подковырками! — всерьёз обидевшись, выговорил Рудик. — Если что против меня имеешь — скажи начистоту, а нечего…
— Что за спор, а драки нет? — Это незамеченным подошёл Борис. Положив охапку колышков, подал руку: — Привет, Рудя! Так ты, значитца, насовсем?
— Да вроде. А ты откуда знаешь?
— Шёл сичас мимо и видел тёть Эльзу. Я в вашей акации кольев вот нарубил, — пояснил он, присаживаясь.
— А я зашёл к Патрон… к Мишке, а он чёй-то, как неродной.
— Значит, имеются причины, — взял Мишину сторону Борис.
— Можно узнать, какие?
— А они, вобще, разные… У меня, например, претензий больше к твоей тётке, чем к тебе, — довольно неопределенно объяснил он. — Хотя и ты поступил по-свински.
— Мне Мишка уже выговаривал… А что плохого сделала вам тётя?
— Ну, если не считать того, что работает на фрицев… — Борис выдержал паузу и продолжил: — Так она ещё и трепло. Чуть Ванька не подкузьмила — пообещала освободить да и забыла. Хотя ты этого, конешно, можешь и не знать.
— Я знаю больше, чем ты думаешь. Просто у неё в тот день не получилось. Не забывай, что она там на птичьих правах. Но утром разбилась бы в доску, а Ванька выручила бы. Это она велела вам передать.
Миша, заинтересованный, перестал возиться с ободом.
— А про Андрея с Мартой — никаких вестей дополнительных не принёс?
— Я ж не знаю, что вам известно, а чего нет.
— Известно токо то, что они пропали. А как, куда и почему?
— Они попали в облаву, и их заграбастали вместе с другими пацанами из станицы. Зачем? Чтобы обезопасить от партизан эшелон с награбленным добром.
— И что, увезли аж в Германию?
— Очень даже может быть.
— Ну и ну, воще! Вот так новость, воще…
— Да, такие вот дела… Вам привет от дедушки, — перешёл он на другую тему. — Приглашал зайти в гости.
— Обязательно! Вот управимся — и проведаем, — пообещал Борис. — Он как — жив-здоров?
— Был совсем плохой, но теперь уже ходит. А зачем вам эти колья?
— Хочем петли на зайцев поставить. Помнишь, в прошлом годе дорожки в степи были? Так вот, в этом уже новых наделали! Миш, два десятка хватит?
— Для пробы хватит. — И он снова принялся энергично соскабливать ножом обуглившуюся, чадящую резину с проволочного вкладыша.
— Ну, вы мудрите, а я пройду к Феде. Он дома, не знаешь?
— А где ему быть? — Борис снял рубашку, готовясь заняться вторым ободом. — Не дома — так у Ванька.
Е щ ё в сенях Федя учуял запах размолотой кукурузы и по шуму за дверью догадался, что Ванько вращает жёрнов своей незаурядной мельницы. Сработал её, эту мельницу-крупорушку, с год тому назад по его заказу Серафимыч, элеваторский кузнец, мастер золотые руки. Представляла она собой две увесистые дубовые колоды, поставленные одна на другую. В соприкасающиеся плоскости впрессованы были стальные, лучеобразно расходящиеся от середины пластинки для размалывания зерна. Федя с Борисом сдвоенными усилиями могли провернуть верхний жёрнов не более нескольких раз кряду, зато Ванько пуд кукурузы превращал в крупу и муку за каких-то полчаса. К приходу товарища дело уже близилось к концу.
— Тебе помочь? — спросил на всякий случай Федя.
— Бери ведро и будешь подсыпать в воронку. — Ванько стряхнул с рукава мучную пыль и вытер взмокший лоб. — И пришёл бы чуть раньше!
— Я ж не знал, что у тебя работа. А кукуруза вроде как не нашенская.
— Ага. Жёлтая какая-то. Элеваторская: вчера от тёти принёс. У Веры не стало из чего каши сварить пацанам, а которая на чердаке, та ещё в кочанах.
— Пройдёт и жёлтая! Только носить далековато, привезти бы как-нибудь сюда.
— У тёти надёжней, — возразил Ванько. — А принести — было бы чего!
— Чудненько мы всё-таки обтяпали это дело со Жданкой, скажи? — Федя имел в виду обмен её на зерно.
— Что за мы, спасибо нам! — согласился мельник шутя.
Со двора донёсся лай, хриплый и сердитый. Ребята насторожились. Но Туман тут же и успокоился.
— Не пойму: начал вроде как на чужого… Выглянь, кого там принесло.
Федя вышел в сенцы и лоб в лоб столкнулся с Рудиком.
— Угадай, кто к нам припожаловал! — воскликнул он обрадованно.
— О, Рудяшка! Привет, дружище, — обрадовался и Ванько.
Подавая руку, тот предупредил:
— Только ты не очень жми, а то я тебя знаю!.. А Туман — не забыл, псина! Сразу был обурился, но тут же и хвостом завилял, не успел я и обозваться к нему.
— Пройдёмте на свежий воздух, — предложил хозяин. Уселись на лавочку под алычой. — Ты где ж это столько времени пропадал?
— Где был, там уже нет. Теперь обратно в своей хате, с мамой и дедушкой. Вам от него привет и приглашение в гости.
— Спасибо. Про Андрея с Мартой новостей не привёз?
И Рудик рассказал то, что ему было известно на этот счёт. При этом оказалось, что знает он и о побеге из кутузки.
— Для тёти так и осталось неясно, как же тебе и ещё какой-то девчонке и пацану удалось оттуда улизнуть? — спросил в свою очередь Рудик. — В то, что вас выпустила охрана, она не верит.
— И правильно делает, — заметил Ванько, пояснив, как было на самом деле.
— Тётя не говорила, почему фрицы повесили только одного? — поинтересовался Федя.
— Упоминала и про второго полицая. Он оказался с проломленным черепом и в бессознательном состоянии. Его пристрелили.
— Теперь всё прояснилось. — Они переглянулись с Ваньком. — А про взрыв у виселицы разговора не было?
— Вы и про это знаете? Как же! Кто-то бросил гранату прямо из гущи станичан. Взрывом убило двух полицаев и нескольких ранило. Досталось и одному из фашистов: он и до этого был одноглазый, а тут и последнего лишился! Ну, а у вас тут как, а то всё я да я. Много новостей?
— У нас тоже много чего произошло, — вздохнул Федя. — И всё больше плохого…
— Тётя интересовалась, как тут андрюшкина мама. Я хотел зайти, но не осмелился: порадовать-то нечем, токо расстрою ещё больше.
— Теперь уже не расстроишь: недавно похоронили, — сообщил Федя печальную весть. — Про Варьку и тёть Шуру тоже знаешь?
— Обскажи пока наши новости, а я отнесу девочкам дерть. — Ванько поднялся уходить. — Да, Рудик: у нас завтра намечается что-то вроде небольшого торжества. Приглашаем и тебя.
— Иди, я объясню, — сказал Федя. К Рудику: — Хотим отметить День рождения одной девочки. Между прочим, которая убежала тогда с ним из казаматки. Это её родителей казнили на стадионе.
— Что ты говоришь?!
— Ну… И мы решили сделать для неё маленькую радость. Чтоб видела, что не одинока и её окружают настоящие друзья. Всё легче будет перенести горе.
— У кого собираетесь?
— У Веры. Она осталась с пацанами одна. Мать ушла аж в Майкоп, там в концлагере дядя Митя. А Тамара — так звать именинницу — живёт с брательником пока у неё. Так что приходи и ты.
— Обязательно!
— И ещё. Просьба. Собирались завтра с утра выкопать погреб у Шапориных. Не погреб, а наподобие блиндажа, где-нибудь в сторонке от хаты. Зачем? Чтоб было куда спрятать запасы — картошку и всё такое. Да и детвору, если вдруг что-нибудь непредвиденное. Многие так делают. Будешь незанят — приходи помогать.
— Конешно, о чём речь!
— А то Мишка с Борисом собирались сегодня ставить петли на зайцев, а утром пойдут проверять. Поймается что или нет, а до обеда прошляются, это точно.
— Слышь, Хветь… — Рудик помедлил в нерешительности. — А Нюська будет? Она ведь там рядом живёт.
— Пока не знаю… А что?
— Можно, я и её приглашу?
— Ох, Рудой!.. — поморщился Федя. — Опять хочешь с нею спутаться? Или, может, ты её всё-таки любишь?
— Да ну! Не хватало. У неё же не все дома!
— Тогда зачем она тебе?
— Будто не знаешь!
Федя, конечно, знал.
Первым — это было в начале лета — с Нюськой «задружил» Андрей. Об этом в нашем повествовании вкратце уже упоминалось. Как и о том, что дружба не состоялась. Из-за её легкомысленности и несерьёзности. С нею было «не о чём говорить». Притом она в первый же вечер «полезла целоваться». Не понравилось Андрею и то, что у неё на уме «токо это самое» (что именно — пусть читатель догадается).
У Рудика это обстоятельство отвращения не вызвало. Он как раз пребывал в расстроенных чувствах (о причинах, возможно, будет сказано несколько позже), и первой мишенью для отмщения стала Нюська, позже прозванная «косой». «Путался» он с нею около месяца — до самого отъезда из хутора.
— Не знаю, как посмотрят на это остальные, — покрутил головой Федя.
— А кому какое дело? У нас давние отношения, — пытался обосновать свои намерения бывший ухажор.
— Вот именно: давние. Сейчас многое изменилось.
— Не пойму: ты против её присутствия на именинах или — чтоб я с нею попутался ещё какое-то время? — не мог взять в толк охотник поразвлекаться с похотливой особой.
— Да нет, места хватит и для неё… А насчёт «попутаться» против буду, пожалуй, не только я.
М е с т о для погреба-укрытия выбрали в саду под невысокой, но старой, развесистой грушей, ветви которой шатром свисали почти до земли. Поскольку имелось в виду использовать его и как убежище, а семья у Шапориных дай бог, то яму решено было отрыть достаточно большую. Крышу предполагалось замаскировать дёрном, что сделает её незаметной со стороны даже зимой, когда дерево оголится.
А пока что листва, уже тронутая осенней проседью, была густа и столь надёжно укрывала работающих, что резвившаяся неподалёку малышня смогла обнаружить их, когда с трёх сторон ямы высились уже внушительных размеров кучи чернозёма, а глубина доходила землекопам до пояса.
С появлением малышей работа замедлилась: кидать землю пришлось на одну сторону, поскольку те заходились строить хатки. Тут же оказалась и курица, норовившая выискивать добычу именно в свежевыброшенных комьях, и надо было следить, чтоб не задеть и её. Пеструха была совершенно ручной и смело брала дождевиков из рук детей.
— Валела, не малай станиски, — сделал замечание Колек, когда сверстник, угостив курицу обрубком червя, вытер пальцы об одёжку. — Они зе класивые!
Штанишки у него и впрямь были красивы: из чёрного блестящего шёлка, с накладным кармашком, с помочами крест-накрест и прорезью сзади (дабы садиться на горшок не снимая). В таких же, только коричневого цвета, щеголял и другой; рубашки, тоже шёлковые, у обоих были одинаковые — светложёлтые.
— Может, сделаем перекур? — предложил Федя. — Часа два уже трудимся без передыху.
— Давайте, если заморились, — откликнулся Ванько. — Лично я токо разохотился.
— А у меня уже две водянки на ладонях, — сообщил Рудик, втыкая штыковку.
— Ну-ка, покажь, — засомневался Федя. — Э, да ты белоручка! У наших девчонок и то руки помозолистей.
— У каких это ваших?
— Ну, у Веры, у Клавы Лисицкой. Да и у твоей сестры Марты, когда была здесь с нами.
Уселись, свесив ноги, на ветку — толстую, шероховатую, отходившую от ствола почти под прямым углом. Малыши тут же по ступенькам спустились в яму, взялись за лопаты, подражая взрослым. Обследовав комья наверху, к ним спрыгнула и курица.
— Скоро дойдём до глины, — сказал Федя, с метровой высоты оглядывая сделанное.
— Землю придется вывезти, чтоб не было бугром, — поделился соображениями Ванько. — А на вскрышу, под дёрн, пойдёт глина — не так будет промокать.
— Пол и бока надо бы чем-то утеплить.
— Свяжем маты из камыша или куги. Будет годнецкий блиндажик!
Рудик участия в обсуждении предстоящего обустройства не принимал.
— А ты чё, никак нас стесняешься? — посмотрел ему в глаза Федя, ухмыльнувшись.
— Не по-онял…
— А чё тут понимать? Закуривай. Пока ухи не попухли.
— С чего ты взял, что я курю? — попытался было отвести подозрения тот, но при этом «ухи» предательски порозовели, как у нашкодившего шалуна.
Чтобы не конфузить ещё больше, Федя отвёл взгляд, пояснив: — Вчера в сенях от тебя несло никотином, как от козла.
Рудик не нашёлся, что сказать. Ванько делал вид, словно ничего особенного не произошло.
— Кури, — сказал, — если хочешь.
— А что, и закурю! — с вызовом воскликнул разоблаченный.
Достал из кармана штанов небольшой, ручной работы, алюминиевый портсигар, нажатием кнопки откинул крышку. Здесь приготовлено было на несколько закруток аккуратно нарезанного листового табаку, несколько бумажек и дощечка-спичечница в виде гребёнки. Свернув цигарку, прикурил от отломленной красноголовой спички, чиркнув ею о тёрку, нанесённую с двух сторон внизу.
— Дай-ка глянуть, — взял у него диковинку Федя. — Первый раз такие вижу. Где взял?
— У тёти. Фрицевские. Стырила несколько штук, а я у неё.
— И давно куришь?
— С неделю.
— Что за нужда заставила?
— Да никакой нужды… Просто ребята курили, ну, и я. Надоело выглядеть умником.
— Да, не зря говорится: с кем поведешься, от того и наберёшься… — В замечании угадывалось сожаление пополам с осуждением.
— А что в этом такого? Многие пацаны курят.
— Это ж где? Про хуторских, не говоря уже про нас, я бы этого не сказал.
— В Ивановке, например… Ничего страшного не вижу!
— Ну и дурак. Вань, а ты чего молчишь? — не стерпел Федя. — Одобряешь, что ли?
— Он, Хветь, теперь всё равно не бросит, одобряй не одобряй. Даже если б снова захотел выглядеть умником.
— Ты так думаешь? Захочу — и брошу! — заявил бывший «умник».
— Зарекалась свинья дерьмо жрать, да никто не верил… А вообще — твоё личное дело! — Ванько спрыгнул. — Схожу за возком, а то земля уже обратно в яму скатывается. Эй, клопики, кто со мной на тележке покататься? — Забрав малышат, ушёл.
— А я б советовал бросить, — опять взялся за Рудика Федя. — Хотя бы из-за спичек: такое добро переводишь зря! У людей по утрам нечем печку разжечь.
Рудик затянулся дважды кряду, закашлялся, на глазах выступили слёзы. Развернул цигарку и высыпал содержимое.
— Сильно крепкий, гад… — сказал с придыханием. — Самардак называется. Один курит — кхе, кхе! — двое в обморок падают.
— Смотри сам не свались, куряка!.. — Помолчав осуждающе, поинтересовался: — Чем в Ивановке прикуривал, тоже спички переводил?
— Откуда? Тоже кресалом огонь добывал.
Кресала прочно вошли в быт на хуторе. Ребята научились делать их сами. Надломленный в тисах сегмент от сенокосилки в домашних условиях нагревался докрасна, окунался в холодную воду — и вся недолга. Закалённая, пластинка высекала искры из особого вида кремня (находили в гравии железнодорожного полотна), называемого «мыльным» — по цветовому сходству с хозяйственным мылом. От искр легко затлевалась ватка, заготовленная из подсолнуховых корзинок.
— Ты что на кремень ложил? — поинтересовался Федя.
— Одно время пользовался ватой, смоченной в крутом растворе марганцовки. Но марганец большая редкость. Кто-то додумался прокипятить вату в подсолнуховой золе — это более доступно.
— И что, вата хорошо загорается? — Это для него была новость.
— А то! Как кресь, так и есть!
— Проверю, такой золы у нас навалом. А ты кончай вредительством заниматься — не трать больше спичек на курево. Если, конешно, есть.
— Несколько коробков есть. Тоже у тёти разжились. Могу пару штук уделить.
— Мы-то обходимся и без спичек. А вот у Веры, говорила, кончаются. Из экономии к соседям за угольком бегает.
— Отдай ей пока эти, — вернул он красноголовую гребёнку. — Потом ещё принесу. А я постараюсь завязать.
— Правильно! Пока не втянулся. Иначе поздно будет.
— А вы чем огня добываете?
— Есть и кресала, но пока — при помощи зажигательной пули. Как? Ванько как-то раздобыл две обоймы немецких винтовочных патронов, а Мишка обратил внимание на цветные метки. Предположил, что пули либо разрывные, либо трассирующие. А когда надпилил у одной кончик, оказалось — зажигательная. Оболочка начинена каким-то веществом, которое на воздухе слабо горит. Окисляется. Ну, мы это дело…
Досказать мысль помешало появление Володьки.
— Идите на зайцев смотреть! — крикнул он возбужденно и тут же убежал.
Ребята спрыгнули наземь и тоже заспешили во двор. Здесь, окруженные зрителями, горделиво позировали охотники. У Бориса через плечо, схваченные за лапы брючным ремнем, висело два здоровенных русака. У ног лежала рыжая, с длинным пушистым хвостом, лисица. Не спешил освобождаться от ноши и Михаил: его, усталого и взмокшего, отягощали три таких же зайца.
Затем добыча была представлена на разглядывание и ощупывание детворе, а сами добытчики стали отвечать на многочисленные вопросы. По их рассказам выходило, что из двадцати петель, установленных вчера между кладбищем и лиманом, только шесть оказались «нестронутыми». В такое же количество попались куцехвостые, причём, один был ещё живой. Он, или только-только попался, или оказался поумней других: не стал толочь бурьян вокруг колышка, как это сделали другие, и рваться из петли. Когда к нему подошли, сидел, прижав уши. Немного покричал, пока его освобождали, будто просил помиловать; пожалев, его отпустили на волю: живи! В одну из петель угодила лиса и хоть считается зверем хитрым, задушилась. Хотели не брать, но Борис передумал: если вычинить шкуру, то будет классный воротник для «пальта» — разумеется, Вере-Мегере. От одной петли осталось «токо кружало» — унесена вместе с колышком. Остальные просто сбиты в сторону.
Такой удачи не ожидали даже сами добытчики: в пяти «зайчуганах»-матёрых, тяжеленных — было около пуда, если не больше (взвесить возможности не имелось). А поскольку привалила она именно сегодня, в день томкиных именин, то и решили всё принести сюда.
Исчерпав богатый запас впечатлений, охотники принялись за обработку улова. Борис, которому приходилось иметь дело с кроликами, взял на себя свежевание. Миша готовил для шкурок рогатки-пяльцы. Вера, Клава и Тамара потрошили, мыли, смалили и резали на части тушки.
Тем временем землекопы вывезли из-под груши чернозём. Только за полдень, управившись, разошлись ребята до вечера по домам, обещав не опаздывать к торжеству. И ещё — не наедаться, потому как, обещали девчата, «предстоит чудненькое жаркое».
Забежав на несколько минут домой — показаться матери на глаза, Борис снова явился к Мише готовить снасти на завтра.
Первый успех — да ещё какой! — зайчатников, что называется, окрылил. Слыханное ли дело, радовались они: без ружья, без особых трудов, можно сказать — играючи раздобыть столько классного мяса! Какового они уже и не помнят, когда едали вволю. А ведь их, зайцев, ловить не переловить, только не ленись!
Правда, с проволокой небогато: десятка на три-четыре ещё, может, хватит, а там… Покрышки — они ведь штука редкая. Удастся ли найти ещё хотя бы одну? Петли, в которых побывал косой, становятся ненадёжными: гнутые, с заворотами. Удержит такая ещё хотя бы одного? И с каждым днём запас их будет убывать.
— Не рано ли ты заунывал? — заметил Борис. — Обшарим территорию МТС, поищем на станции, на элеваторе — неужели ни одной покрышки не найдём!
— Что-то они мне на глаза не попадались.
— Найдем, быть того не может! И давай уже заканчивать, скоро начнёт смеркаться.
— И правда. А то нагорит от твоей Мегеры.
Вера и в самом деле уже вышла было их выглядывать. Встретила у плетня выговором:
— Попозже явиться не могли? Я ведь просила не опаздывать!
— А вы, гражданочка, хто такие будете? Мы вас чтой-то не припоминаем, — смерил Борис её пристальным взглядом. Одетая в коричневое, с иголочки, ладно сидящее платье, надетое впервые, она и впрямь была неузнаваема. — Миш, неужели это наш Верчик-Мегерчик? Ты токо глянь, какая она красивая в этом платье!
Подбоченясь, красавица обернулась вокруг, хвастаясь обновкой и довольная похвалой.
— А без него, выходит, была уродина? — На радостях допустила она некоторую оплошность.
— Почему ж? Без платья выглядишь ещё красивше! — не замедлил воспользоваться ею острый на язычок ухажер. — Случалось видеть на ерике.
— Бол-тун ты, Борька!.. А где ж Рудик?
— Разве его ещё нет? Он ушёл из дому раньше нас.
— Ну, морда, воще! — Не иначе махнул к своей бывшей полюбовнице, — догадался Миша.
В хате, на ребячьей половине, удивительно пахло вкусным. Аромат источала большая глиняная миска, доверху наполненная обглоданными заячьими костомашками, — детвора уже поужинала. Приученная, вообще-то, ложиться одновременно с курами, она в этот раз ещё бодрствовала: пищала, визжала и кувыркалась на просторном матрасе под присмотром Володьки; для них горела лампа без стекла.
В соседней комнате, освещенной поярче, стоял продолговатый, застланный подержанной клеёнкой стол, посередине которого, в двухлитровом графине вместо вазы, красовалось с пяток по-весеннему свежих, нежных роз, явно от деда Мичурина. Подстать им выглядели и Тамара с Клавой, сидевшие напротив более дисциплинированных Феди и Ванька. Особенно бросалась в глаза виновница торжества: в шёлковой, золотистого цвета кофточке (сшитой искусно и со знанием дела, отчего не просто смотрелась, но поистине украшала владелицу), она являла собой — ни дать ни взять — сказочную королеву. Так, по крайней мере, показалось Борису.
— Ну-ка, ну-ка… поднимись-ка, позволь наглядеться, радость, на тебя! — сказал он едва ли с поддельным восхищением. Та, смущаясь, поднялась, поправляя коричневую и тоже шёлковую юбку-клёш. — Не Араматик, а прям принцессочка!
— Ну тебя, скажешь тоже… — совсем застеснялась именинница.
— Нет, я сурьёзно… Скажи, Миш? И мы поздравляем тебя с днём рождения и пятнадцатилетием. Дай-ка сюда щёчку! А теперь другую, я поцелую за Мишку, чтоб ему не обходить стол.
— Вы бы лучше не опаздывали! — упрекнула Клава. — Проштрафились, а теперь подлизываешься.
— А куда спешить? Впереди цельная длинная ночь.
— Так ведь всё остывает! Мы старались, старались — и всё насмарку.
— Готов нести самое суровое наказание!
— Вот и принеси кастрюлю с узваром, — сказала Вера. — Она в кадушке возле колодезя. И будем начинать.
— Надо бы подождать немножко новенького, — предложила Тамара, когда все трое вышли на кухню подготовить всё необходимое.
— Рудика? Он такой же новенький, как я старенькая, — ворчливо возразила Вера. — Нехай не прогневается!.. Семеро одного не ждут.
— Ты так говоришь, будто очень на него сердитая.
— Сердитая не сердитая, токо он мне противный.
— Ой, я его тоже презираю, как не знаю кого! — поддержала её Клава. — Посуды у нас не хватит… Говорила ж, давай сбегаю принесу из дому.
Она накладывала в блюдца, тарелки и миски наготовленные угощения — «чудное жаркое», душистые картофельные оладьи, румяные кукурузные лепёшки.
— Мальчикам хватит, а мы как-нито перебьёмся.
— Мы с Ваней уже из одной посуды ели, так что…
— А я с Федей ещё нет, но он меня гербовать не станет, — предположила и Клава.
— Не хвастайтесь, мой Борька тоже посчитает за честь! — не отстала и Вера.
— Вы с ним уже давно встречаетесь? — поинтересовалась Тамара.
— Ничё не встречаемся. Просто он ухаживает за мной и всё.
— Но он же тебе нравится?
— Конешно! Я его очень люблю. Токо это — между нами. Ему я и виду не показываю, скорее наоборот.
— А чем вам Рудик не нравится? — вернулась Тамара к началу разговора. — Мальчик как мальчик, красивый.
— Он, Томочка, бессовестный, нахальный и хитрый! — пояснила свою неприязнь Клава. — Летом на ерике ужасно нахамил Иринке — это мы с Федей у неё разжились для тебя роз; у неё, бедненькой, тоже несчастье: умер недавно дедушка… Так вот: нахамил, а после совести хватило написать любовное письмо и даже предлагать дружбу!..
— Она правильно сделала, что не согласилась с ним дружить, — одобрила Вера. — Рудик, может, и красивый, но это токо наружно. А вобще — очень нехороший!
— Чем же именно?
— Вот ты, — повернулась к ней Вера и посмотрела в глаза, — как бы относилась, когда б знала, что с девчонкой встречается он не по любви, а только чтобы… ну, вобщем, ради пошлого интереса.
— Неужели ж такое может быть?! — догадавшись, что та имеет в виду, удивилась Тамара.
— Представь себе — может! Ты думаешь, его почему до сих пор нет? У неё находится.
— Хороша же после этого и она, если позволяет такое!..
— Я с нею поэтому и не дружу, хоть мы и соседи. Из-за таких вот…
Распахнулась дверь, и Борис внёс со двора ведёрную кастрюлю с взваром, выставленную для охлаждения.
— Ставь вот сюда, — пододвинула Вера небольшую деревянную колоду. — Вы с Мишкой не забудьте помыть руки, а то вилок не имеется. Даём вам на это три минуты!
Праздество началось без обычных в таких случаях тостов. Вина при желании достать было можно (виноградные беседки имелись у многих), но мысли о выпивке никому и в голову не пришло. Да и задумывалось всё не как веселье — до того ли, когда кругом горе, смертя и неизвестность! — а всего лишь — чтобы, как объяснил Рудику Федя, «легче перенеслось горе».
Обилие мяса (часть даже присолили на завтра) избавило стряпух от необходимости разнообразить блюда: что может быть вкуснее жаркого! Зато приготовили его так, по оценке того же Бориса, что можно подумать, будто все трое — «жутко талантливые кулинарши».
Условие «не наедаться» блюли и сами «кулинарши», поэтому на угощение все набросились дружно и с аппетитом, прекратив всякие разговоры.
В самый неподходящий момент снаружи послышался стук в ставню: три частых удара и два пореже.
— Заявился!.. — узнал Миша почерк соседа и добавил презрительно: — М-морда непутёвая…
Вера, накинувшая двери на крючок, поднялась из-за стола — впустить задержавшегося. Рудик, однако, «заявился» не один. Следом порог переступила толстушка — пониже ростом, светловолосая, на вид лет семнадцати (хотя в действительности Нюське было неполных пятнадцать: видели её переводной табель за третий класс, и там указан был год рождения). Взрослили её, если позволительно так выразиться, весьма развитые формы. Лицо, довольно привлекательное, но излишне загорелое, свежестью не отличалось. При взгляде на широко поставленные зеленоватые глаза нельзя было не заметить, что один, левый, косит вниз, как бы любуясь на курносый кончик носа.
Непредвиденную гостью встретили без особой радости, а Миша громко проворчал: «Явление коровы в балахоне!..» Возможно, потому, что одета в платье, тесное в грудях и рясное ниже талии, которое, на его взгляд, «никак ей не личит».
— Самолёт взлетал, колёса тёрлися, вы не ждали нас, а мы припёрлися! — пропел Рудик частушку, будучи уже слегка навеселе, и, подойдя к столу, театральным жестом поставил пузатый, ёмкостью не менее литра, бутылек, заткнутый кукурузной кочерыжкой. — И мы пришли поздравить именинницу, выпить за её… с нею домашнего винца. Верок, тащи бокалы!
— Откуда? У нас их и не было никогда.
— Тогда — стаканы.
— Имеется всего три и те вон заняты с узваром.
— Ну, не из горлышка ж…
Заикнись он о своём намерении привести бойкотируемую соседку, Вера вряд ли согласилась бы на её присутствие. Да и нашла бы поддержку у остальных — по крайней мере, девчонок. Но раз уж так вышло, делать нечего. С видимой неохотой забрала она со стола стаканы с узваром и вышла освободить.
— Да! Познакомьтесь же сперва! — Рудик подвёл гостью к виновнице торжества.
— Нюся, — первой назвалась та, подавая руку.
— Тамара. Очень рада…
— Поздравляю тя с днём ангела! И вот те от миня на память. — Она приколола на кофточку безделушку вроде майского жука. — Настоящая сиребряная!
— Ой, спасибо, Нюся! — искренне поблагодарила Тамара. — Красивенькая букашечка!
— Не-е, так не поздравляют!.. Надо чокнуться и выпить. — Рудик взял бутылек, зубами извлек обломок кочерыжки, а Вера как раз подоспела со стаканами.
— Ты и так чокнутый! — заметила холодно, подошла к Клаве, и они удалились на кухню.
Набулькав по неполному стакану, самозванный тамада протянул один имениннице, которая, прежде чем принять, посмотрела на ребят; поощренная кивком Бориса, взяла. За вторым охотно потянулась гостья.
— За тебя! Всего самого-самого! И — до дна, — чокнувшись, пожелал Рудик.
— Красивого ухажера! — добавила от себя Нюся.
Тамара медленно, без желания, выцедила содержимое стакана, передёрнувшись.
— Так, молодец! Кто следующий?
Поддержать компанию согласились Борис с Ваньком.
Вернулась из кухни обслуга: Вера с миской жаркого, Клава — с тазиком и ковшом с водой.
— Ополосните руки, а то у нас без вилок, — предложила новичкам.
Те без возражений подставили ладони, вымыли и вытерли полотенцем.
— Закусывайте из одной, — пододвинула к ним ещё горячую зайчатину Вера. И все снова принялись за прерванный ужин.
— Как вкусно! — похвалила Нюся. — Это у вас что за мясо?
— Не чуйствуешь, разве? — деланно удивился Борис. — Настоящая кошатина! Переловили всех хуторских кошек и поджарили. Правда, одна была дохловатая, но… — умолк, получив от Веры подзатыльник.
Гостья положила обратно культышку, которую начала было обгладывать — Нюся, не слушай ты его, балаболку! Это зайчатина, честное слово, — вынуждена была объясняться Вера.
— Точно, точно! — подтвердил Рудик. — Лично видел. Да вон на окне и хвостик в доказательство!
Шутка всех развеселила, разрядила несколько натянутую вначале атмосферу. Пирушка продолжалась в непринуждённой обстановке, с разговорами, шутками и прибаутками. Сказалось и воздействие «винца»: у Тамары заблестели глаза, загорелись щёки, с лица не сходила блаженная улыбка. Тем паче что Борис то и дело подбрасывал комичные байки, запас которых, на все случаи жизни, был у него неистощим. Впервые в жизни выпив да ещё так много (около ста пятидесяти граммов), она захмелела. А это, как известно, к добру не ведёт… Дошло до того, что поднялась из-за стола, вынула из графина самую красивую розу и приладила к волосам Нюськи; заметив неодобрительные взгляды тверёзых подружек, подошла и обеих расцеловала.
Подкрепившись, Рудик снова взял бутылек; в нем оставалось ещё граммов около трёхсот.
— Надо опорожнить посуд… Не нести ж добро обратно! Кто хочет? — разлил поровну в два стакана; охочих не нашлось. — Нет желающих? Нюся, держи ты!
«Полюбовница», принявшаяся было за оладьи, отрицательно тряхнула богатой причёской, но, передумав, протянула руку.
— Мы, мы желаем! — заявил вдруг Миша, сидевший бок о бок с Федей и перед тем о чём-то с ним перешепнувшийся. Перехватив стаканы, добавил: — Токо мы, воще, тут пить стесняемся, скажи, Хветь? Хочем выпить на кухне. — Оба вышли; притворив дверь, процедил осуждающе: — Сам, воще, меры не знает и её, дурёху, спаивает!
— Не говори, — согласился Федя. — Ты вовремя смикитил. Его будто подменили ивановцы — стал ещё и курить да пить…
— И Ванько, морда, потакает, воще. Я вот ему сёдни выскажу!
Выплеснув содержимое в помойку, наполнили стаканы узваром и вернулись обратно.
Накануне, готовя угощения аж на двух плитах, кухарки опасались, не останется ли половина невостребованной, не прокиснет ли добро. Но напрасно: аппетит собравшиеся демонстрировали настолько отменный, что Вера с Клавой едва поспевали подносить добавки. Начали побаиваться другого — что до утра всё будет съедено и ещё не хватит.
Но этого не случилось. Правда, по другой причине: сразу после полуночи пирушка была неожиданно прервана… донёсшимся снаружи непонятным стуком, опять же в ставню. Все настороженно притихли.
— Вера, это я… открой, доченька, — расслышали голос за окном.
— Мамочка вернулась! — радостно вскричала Вера и кинулась отпирать двери. Ванько поспешил следом — и кстати: поддерживая, они ввели в комнату измученную дальней дорогой Елизавету. Она не села, а буквально рухнула на кровать.
— Мама, что с тобой? Ты заболела? — захлопотала около неё дочь.
— Ничего страшного… немного нездоровится… да устала досмерти. Дайте мне попить… здравствуйте, ребятки… что у вас тут за праздник такой? — тяжело дыша, через силу улыбнулась она столпившимся возле кровати подросткам.
Праздник закончился несколько раньше, чем предполагалось. Но никто не сказал бы, что не удался: прощались и расходились восвояси довольные, от души благодарили главных устроителей и друг дружку.
Клава оставалась помочь убирать со стола, перемыть посуду; Федя — чтобы проводить её после всего домой. Рудик, понятно, ушёл с Нюськой; они затянули было какую-то песню. Это побудило Мишу не откладывать намеченный выговор Ваньку за его нейтральное отношение к вопиющим безобразиям.
— Слышь, Ванько, — сказал он на подходе к подворью Кулькиных, — ты чё, воще… Одобряешь, что ли, эти рудиковы фокусы?
— Какие фокусы? — не понял тот.
— Ну как же! Он курит, пьянствует, с Нюськой обратно путается. А мы ни гу-гу, вроде так и надо…
— Ты, Мишок, преувеличиваешь. И как вседа — торопишься, — возразил старший товарищ. — Курить он обещал бросить и без нашего нажима. Думаю, так и будет. А насчёт пьянства — тут ты не прав: всё-таки сёдни повод был.
— Я тоже не считаю это за пьянство, — поддакнул Борис.
— А насчёт Нюськи… конешно, это непорядок. Мы с ним об этом потолкуем.
Туман встретил у калитки. Как обычно, лизнул на радостях руку хозяину, попрыгал. Но затем повёл себя странным образом: стал, повизгивая, увиваться вокруг Тамары.
— Чё это с ним? — удивился Ванько. — Никак соскучился по тебе?
— Так я ж ему гостинчик несу, вот он и учуял, — показала она на свёрток под мышкой. — Забрала домой косточки.
— Вон оно что! Ты умница, что додумалась. Пусть и он полакомится.
— Ничего, что я так сказала — «домой»? — спросила она, как бы извиняясь.
— Всё правильно! Тёть Лиза вернулась, теперь станешь жить с нами. Я тебе не говорил, но мы с мамой в первый же день так и решили.
— Лучше б ты сказал… А то я всё это время переживала: как жить дальше?
— Будешь мне сестричкой. Двоюродной. Мама уже слух пустила, что ты… что вы с Валерой её племянники. Как, согласна?
— С большим моим удовольствием!
— Погодка сёдни на ять: месячно, тихо и не холодно, — сказал Ванько, когда подошли к алыче. — Не хочется и в хату идти.
— И я спать ни граммочки не хочу!
— Ты глянь, как влюбленно он на тебя смотрит, — обратил он её внимание на пса. — Вон, возле будки, чугунок. Высыпь, а я щас вынесу что-нибудь накинуть тебе на плечи.
Дверь заперта не была. Зашёл тихо, но мать услышала, обозвалась:
— Ты, сынок? Что-то ищешь?
— Мам, тут где-то была шаль.
— Помацай в шкапу, справа. Зачем она тебе?
— Немного посидим с Тамарой под лычой. Вернулась тёть Лиза, и она попросилась домой.
— Ну и слава богу! А то я уж начала тревожиться. Как там Дмитрий, не говорила?
— Нет: добралась домой уставшая и больная. Ну, я пошёл.
Тамара, угощавшая пса с руки, наполнила чугунок, оставив немного и на завтрак.
— Он теперь полюбит тебя больше, чем меня. Ишь, с каким удовольствием набросился — аж треск стоит! — Ванько, сложив шаль по диагонали, набросил ей на плечи. — Вот так. Чтоб не простыла. — Сели на лавочку.
— А ты — не замёрзнешь?
— За меня не беспокойся, я закалённый.
— А как ты закаляешься? И я хочу.
— Пожалуйста: будем закаляться напару! Дело нехитрое: надо всего лишь по утрам обливаться водой из колодезя.
— Ой! — зябко передёрнулась она. — И зимой тоже?
— Зимой можно просто обтираться. Или растираться снежком — знаешь, как здорово!
— Я так не смогу-у… — призналась собеседница. — А железяки ты часто поднимаешь? Ну, которые я за сараем видела, — гири, потом эти, колёса от вагонеток. Я попробовала, так даже с места стронуть не смогла. В них сколько весу?
— В гирях? Двухпудовые.
— Ого! А сколько раз можешь поднять одну?
— Выжать, что ли? Я, вобще-то, не считаю… Примерно, сто раз. Можно завтра уточнить, если тебе интересно.
Говорить о своих физических возможностях Ванько, как правило, избегал. Так же как и заноситься либо злоупотреблять. Но сейчас был случай, когда не отвечать на вопросы считалось бы неприличным. Что же до Тамары, то задавала она их не лишь бы о чём-то говорить — ей хотелось узнать о нём побольше. Скромные, без рисовки, ответы можно было бы принять за похвальбу, если б она не имела случай кое в чём убедиться лично. Она так и сказала:
— В жисть бы не поверила, что могут быть такие сильные мальчики! Это у тебя природное?
— Думаю, что нет. По-моему, все рождаются одинаковыми. У нормальных, конешно, родителей.
— Которые… А как это понимать?
— Нормальные — это которые совсем не пьют и даже не курят.
— Таких мало, особенно мужчин…
— Да. К сожалению. — Помолчав, вернулся к вопросу «одинаковости» новорожденных. — И уже по мере взросления каждый человек, если захочет, может сделать себя кем угодно — футболистом, кузнецом или, например, силачом, как мой тёзка Поддубный. Слыхала о нём?
— Не-е. Расскажи.
— Мне тоже довелось не много о нём прочитать… Знаю только, что Иван Максимович Поддубный — знаменитый русский силач и борец — объездил весь мир и нигде не был побежден, положен на лопатки. Его называют королём чемпионов. У него даже трость весит двадцать килограммов. И силачом его сделали постоянные тренировки.
— А мне думается, что всякие таланты и способности задаются человеку ешё до рождения, — не согласилась с его доводами Тамара. — Вот у Сережи, моего соседа… бывшего, — поправилась она, вздохнув, — у него способности к рисованию с раннего детства. А Клава хвалилась, что у её Феди — к стихам. У тебя вот — природная способность к силе.
Не надеясь, видно, на его закалённость (возможно, впрочем, что и по иной причине), она поделилась шалью, прикрыв и его; при этом придвинулась вплотную. Ванько не возразил против такой о себе заботы, напротив: положил, видимо — для удобства, свою руку к ней на плечо.
— От природы у меня разве что любовь к спорту. Мне доставляет удовольствие возиться с тяжестями, тренироваться, иметь крепкие мышцы. Какая-то внутренняя потребность быть при силе.
— Мне бы такую потребность! Но я ужасно ленивая, особенно на физзарядки.
— Тебе это и ни к чему. Хватит и того, что красивая.
— И вовсе я не красивая!
— Не скажи. И красивая, и симпатичная. Особенно была сегодня — Борька не зря назвал тебя принцессочкой. С ним согласны Федя и даже Миша. Я сказал «даже», потому что для него все девчонки на один манер: «вреднюги, уродины и воще».
— Просто он сжалился надо мной. Или — в угоду старшим.
— Ничуть, — заверил Ванько. — Он хоть и малолетка, а вполне независимый. И не подхалим.
— Ну, спасибо им, — поблагодарила она. И Мише, и остальным. Обо мне таких слов мальчики ещё не говорили.
— А мне, значит, как дальнему родственнику в спасибе отказано? — шутя упрекнул «двоюродный брат».
— Так это ж я для них красивая! — нашлась Тамара. — От тебя я такого не слыхала.
— Если на то пошло, то мне ты показалась красивой ещё там, в каталажке, — признался он. И пожалел: упоминать о том кошмарном дне сегодня бы не следовало.
— Тогда спасибо и тебе. И ещё за то, что спас нас с братиком. Мама наказывала, — воспользовалась она случаем, — поблагодарить тебя и от её имени… — Умолкла, расстроенная нахлынувшими отнюдь не радостными чувствами.
— Не будем сёдни об этом вспоминать, хорошо? — догадался о её состоянии Ванько. — А то я уже и не рад, что напомнил про каталажку. Испортил настроение в такой вечер. Вернее, ночь. Правда чудная? Как будто и нет никакой войны… Или, может, пойдём уже отдыхать?
— Нет-нет! — обозвалась она живо, незаметно смахнув не вовремя набежавшие слёзы. — Посидим ещё трошки, это я так…
— Хорошо, продолжим нашу беседу. На чём мы остановились?
— Ты сказал про Мишу, что мы для него такие-сякие. А за что он нас презирает?
— Он не то чтобы презирает, просто пока ещё равнодушен к прекрасной половине человечества… Ещё не дорос: ему, по-моему, нет и двенадцати. Годика через два-три и он досмотрится, что некоторые из вас… я не так сказал — большинство из вас очень даже не уродины.
— Спасибо за комплимент… А сколько лет Рудику?
— Этот уже старик: под шестнадцать. Чё это ты вспомнила о нём?
— Я слыхала о нём нехорошее… Это правда?
— Что именно? — спросил Ванько. хотя и догадывался. о чём и от кого наслышана.
— Ну… что в девочках он ценит не любовь и верность, а… — поискала подходящие слова, — легкомысленность и поддатливость.
— Любовь и верность!.. — вздохнул на этот раз уже он. — Красивые слова, святое чувство… — После паузы — вспомнилась Варя — добавил: —Токо не все на них способны.
Последние слова касались Нюськи. Помедлил, размышляя, следует ли заводить разговор на столь неприятную тему. Но на вопрос отвечать надо, и он сказал:
— Одна из таких как раз и попалась Рудику — легкомысленная и, как ты выразилась, поддатливая. А он оказался не из привередливых; не берусь судить, хорошо это или плохо…
— Из мужской солидарности?
— Н… не совсем. Ты слыхала такую поговорку: виноват медведь, что корову задрал, но и корова тоже — что в лес пошла.
— Только не пойму, к чему ты это говоришь.
— Можно и пояснить. Ты под нехорошим имеешь в виду их с Нюськой отношения?
— Не Нюськой, а Нюсей, — поправила она. — Если девчонка родилась с косоглазием, так что ж теперь — она и не человек? И её ничего не стоит обмануть!..
— Ты под «обмануть» имеешь в виду замуж?
— Ну, в шестнадцать лет жениться, конешно, рано, — согласилась она. — Но зачем он уверял, что она ему нравится и что он её любит? А, небось, добился своего и теперь бросит. Это я и называю обмануть.
— Ни в чём таком он ей не клялся и не обманывал!
— Выходит, на него зря наговаривают?
— Футы-нуты! Не перевернуть ли нам пластинку!..
Ваньку претило говорить о пошлых вещах, да ещё и называя всё своими именами.
— Я считала тебя справедливым, — заметила она обиженно. — А теперь и не знаю, кому больше верить — тебе или девочкам.
В знак недовольства (сочтя, видимо, что тот просто-напросто выгораживает беспутного дружка, поступаясь истиной) она попыталась спихнуть его руку.
— Ну-ну, не обижайся, — мягко сказал он, поймав и слегка сжав её ладошку. — Я вовсе не собираюсь его оправдывать! Но справедливости ради — раз уж ты настаиваешь — не могу не сказать: эта самая Нюся уже бывала не раз обманывата задолго до Рудика и никаких заверений в любви не требовала. Понимаешь, о чём я говорю?
— Догадываюсь. Только мне не верится. Это он так говорит?
— Ему можно б и не поверить. Но я имел случай убедиться в этом лично — Так ты с нею тоже путался?! — с тревогой, если не сказать ревниво, перебила его Тамара, безуспешно пытаясь при этом выдернуть ладошку и отделаться от его полуобнимающей руки.
— Да нет, не путался, — поспешил успокоить её Ванько. — Просто однажды оборонил её от хулиганов, которые хотели, извини за нехорошее слово, снасильничать её втроём. Их я нажучил, а её — был поздний час — проводил до двора. Ну и часа два поговорили. Только и всего.
— Извини, — отмякла «сестричка». — Я сдуру подумала, что и ты на такое способен…
— Извинение принято. Так вот, она мне рассказала про свою жизнь… Росла без отца, его убили незадолго до её рождения. В пьяной драке. Он и сам был, как я понял, спившийся мерзавец. Потому как под пьяную руку избивал жену, то есть её маму. Это она Нюсе рассказала спустя много лет, когда та поинтересовалась, кто её отец и где он пропадает.
— Какие ж есть, всё-таки, подлые людишки!.. — заметила Тамара.
— Не зря же поговорка: дураков и подлецов в России на сто лет припасено. Может, поэтому — я так думаю — и родилась она не совсем того — косоглазенькой и не очень способной: два года сидела во втором классе и столько же в третьем — все её «университеты». После и мать пристрастилась к вину, стала принимать у себя таких же выпивох. Безобразничали, и всё это на глазах у подрастающей дочери… Откуда в таких условиях взяться у неё порядочности!.. А кончилось всё это тем, что один из её хахалей — это Нюся сама же по простоте своей и выложила, так что извини — когда мать надралась до беспамятства и дрыхнула без задних ног, он снасильничал и её, а Нюсе не было ещё и тринадцати.
— Лучше умереть, чем пережить такое! — ужаснулась слушательница, вся передёрнувшись.
— Кто ж заранее знает, что с ним случится завтра!..
— Я имела в виду, что после такого лучше не жить, — уточнила она.
— Ты и теперь сказала не подумавши. Умереть никогда не лучше, что б там ни случилось!
На память снова пришла Варя, и Ванько помолчал в задумчивости.
— Не знаю, — заговорил наконец, — был ли у вас с девочками разговор о Варе. Она была моей невестой. Так случилось, что в первый же день оккупации фашисты надругались над ней, а потом и убили… Но если б осталась она в живых, любовь моя к ней меньше из-за этого не стала бы. И я никогда, ни одним словом не напомнил бы ей о случившемся. Но это я так, к слову.
— Ты её до сих пор любишь?
— Теперь уж люби не люби… Вспоминаю часто. И помнить буду всю жизнь. Но мы, кажись, опять отклонились. Спать ещё не захотела?
— Нисколечки. А что было потом? Это я про Нюсю, — вернулась она к рассказу о её судьбе.
— Потом был суд, конешно. Скрыть преступление было невозможно, так как тот подонок вдобавок вывихнул ей руку, и Нюся попала в больницу. Негодяя присудили к расстрелу, а мать лишили материнства; правда, дали испытательную отсрочку. После этого она пьянствовать перестала. По крайней мере, пока они живут на хуторе, а это с июня месяца, за нею ничего такого не усматривалось. А вот Нюська… Но про неё, если интересно, можешь узнать и от Веры. Теперь сама и рассуди, такой ли уж Рудик распоследний сукин сын.
— Всё равно он нехороший!
— Я его и не хвалю. Правда, до оккупации мы не видели в этом большого преступления, хотя и не одобряли. Теперь — другое дело. Поэтому Миша — он малолетка, а всё понимает верно — на меня и недоволен.
— Ты его приструнишь?
— Рудика? Приструнишь — не то слово. И притом не я, а мы. Постараемся внушить словесно… Может, пойдем уже бай-бай? 3автра, вернее сёдни с утра нам предстоит работа.
— Ты вот сказал: умереть — не лучший выход, — словно не расслышав его предложения, сказала Тамара. — А если б тогда сорвалось и тебя стали бить, как папу или Степку… ты бы что?
— Не будем гадать о том, чего не было и быть не могло!
— А всё-таки? Интересно знать, как бы ты поступил, если б их, полицаев, оказалось больше и они тебя скрутили.
— Ну, смотря по обстоятельствам… Мне трудно это представить; прикончил бы сперва как можно больше гадов… пока не застрелили бы. Но больше — никаких вопросов! Идём, впереди у нас много времени, успеешь наговориться, ещё и надоем.
— Скорее я тебе, чем ты мне!
С этими словами они, наконец, и покинули скамейку под алычой.
Результатом затянувшейся беседы был у неё крепкий сон и позднее пробуждение. Этому способствовала ещё и полнейшая тишина в хате, какой Тамара не знавала за все дни проживания в шумном верином семействе. Новоприобретённая тётя старалась не грюкнуть и не звякнуть — «пущай девочка выспится вдоволь!»
За завтраком Агафья Никитична подтвердила намерение принять ребят в свою семью под видом племянников. Поделилась и могущими возникнуть опасностями: надо бы зарегистритроваться, а документов-то никаких, даже метрик нет. Ну как заподозрят в принадлежности к евреям, большевикам или партизанам. Не за себя боязно — за них… Один выход, правда, имеется. Сестра, у которой они с Ваней оставляли Валеру, тоже с радостью дала бы им приют. Да что там приют — хоть завтра бы удочерила её и усыновила братика. Ей, бедняжке, в жизни не повезло. Вышла замуж, но не успели и ребёночком обзавестись, как мужа ни за что ни про што арестовали, обвинили бог знает в чём и сослали неведомо куда. Она его ждала-ждала, да так и осталась одна-одинёшенька, безмужняя и бездетная. Давно ей хотелось ребёночка, и она счастлива будет стать им обоим мамой. А живёт на отлёте — не надо будет и отмечаться в полиции. Тамара может жить то там, то здесь — никому и в нос не влетит интересоваться, кто такая. А там, глядишь, и наши возвернутся. Не может же быть, чтоб германцу не своротили шею!
Оба варианта для Тамары были приемлемы и желанны. Как старшие решат, так пусть и будет, согласилась она. 3а всё останется им благодарна и никогда не забудет этой их доброты.
После завтрака пришла к Шапориным забрать брата — теперь уж точно домой. Но не тут-то было! Валерке настолько пришлась ко двору развесёлая компания, что он не на шутку разревелся, и пришлось отложить это дело до вечера. Осталась и сама — работы у Веры пока что не убавилось. Мать чувствовала себя лучше против вчерашнего, но всё ещё была крайне слаба, и Вера не разрешала ей подниматься с постели.
Землекопы во вчерашнем составе явились пораньше, и ко времени, когда Тамара пришла звать обедать, управились с ямой. Сидели, отдыхая, на той же ветке, где застал вчера Володька.
— Посиди с нами, — предложил Ванько, когда она, пригласив, хотела уходить. — Мы недолго.
От неё не ускользнуло, как он едва заметно подмигнул Феде.
— Слышь, Рудой… — начал тот. — Ты что, с Нюськой не поладил?
— Почему ты решил, — шевельнул тот плечом.
— Видел, что ты возвращался рановато.
— А почему ты от Клавки рано вернулся? — вопросом же ответил бывший тамада, зная, что тот пойдёт провожать её домой.
— Ты нас к себе не ровняй! Наши отношения не выходят за рамки приличия.
— Может, и у нас будет так же!
— А не ты ли мне позавчера говорил другое? — не отставал следователь. — Или считаешь меня глупей себя?
— Какое вам, вобще-то, до нас дело? — с вызовом огрызнулся допрашиваемый.
— Раз сердишься, значит, правда: отшила, — съязвил Федя.
— Да ничего подобного! — Задетый, Рудик изобразил на лице презрительную гримасу. — Просто ушёл сам.
— Ох, ах! Он ещё и врать научился у своих ивановцев!..
— Ничё не вру. — Наклонился к нему и тихо, чтоб не расслышала Тамара, добавил: — Она как раз в эти дни больная.
— Чё буровишь! — не дошло до Феди. — Вы же ушли с песней.
— Ты, наверно, ещё не в курсе… Уйдёт Тамара — объясню, что к чему.
Тамара посмотрела на Ванька, готовая подняться, но тот знаком разрешил присутствовать. Ей и самой было интересно, чем же кончится эта словесная обработка.
— Ничего не надо объяснять, — сказал молчавший до сих пор старшой. — Это к делу не относится. Мы неспроста завели этот разговор — он для нас очень важный.
— Не по-онял…
— Важный потому, что стоит вопрос: быть тебе нашим другом или нет.
— А при чём тут э т о?
— А при том, — снова подключился Федя, — что с мерзавцем мы дружить не собираемся!
— Значит, до этого я мерзавцем не был, а теперь стал? — всё ешё не уступал своего Рудик.
— Если говорить начистоту, ты им был и тогда… А теперь и тем более. Не кривись. Хоть у неё, как ты считаешь, и не все дома, всё одно ты поступаешь подло.
— В чём же ты видишь подлость?
— А если у неё будет от тебя ребёнок — ты что, возьмёшь её в жёны? Станешь помогать, чтоб не сдохли с голоду? Нет. А теперь ведь не советская власть! — высказал Федя не только свои аргументы.
— Вот вы о чём!.. А если она обратно снюхается с каким-нибудь Гундосым, вы ей запретите? Или и его заставите жениться?
— Это, Рудик, называется уже демагогией, — вмешался Ванько. — Во-первых, в этом случае наша совесть не была бы запятнана — Гундосый или там Плешивый — нам не друг. А во-вторых, пока фрицы здесь, мы последим, чтобы она ни с кем не «нюхалась». Так что выбирай: или Нюська, или мы.
— Вот так! — поставил точку Федя.
— Ну… если вы так, то я, конешно, с нею порву, — сдался наконец он.
— Это мы и хотели от тебя услышать. Вот тебе пять, — подобрев, подал руку Ванько.
— Токо ты не тово… а то я твои клешни знаю, — предупредил донжуан.
Обменявшись рукопожатиями, пошли обедать.
Подошёл Борис и сообщил, что сегодня им попалось ещё четыре зайца. Что он уже их обработал, то бишь снял шкурки. По одному занёс Феде и Ваньку, двоих оставили в этот раз себе. Был и пятый, но перекрутил петлю и убег — петля была неновая. Добавили новых, и завтра достанется и Рудику. А сегодня он составит им с Мишей компанию — пойдут поискать покрышку, может, попадётся.
Феде поручено было заготовить десятка с два пялец — впрок, потому что все шкурки желательно сберечь. Из них можно нашить шапок, а будет много, то и «забацать» тёплые одеяла на случай, если придется отсиживаться в погребе. Захватили фрицы хутор без боя, даже стекла в окнах остались целы; но их наверняка погонят обратно, могут разразиться сражения, и придется всем спасаться в погребах — так говорят старшие.
Забегая вперёд, скажем: хутору повезло, и в феврале 43-го — гитлеровцы «драпанули» так же поспешно, без боев, как и пришли.
Оставшийся без поручений, Ванько обмылся дома у колодезя и собирался отдохнуть в своей комнате. Поздно лег, рано встал — следовало наверстать. Но уснуть не успел: к матери пришла Елизавета, и поговорить устроились на кухне по соседству. Он оказался невольным свидетелем.
— Господи, как же ты, кума, исхудала! — посочувствовала мать. — Давно захворала?
— На обратной путе простыла: в горах уже холодно.
— И по горам довелось полазить?!
— А то как же, там всё больше горы… Идёшь-идёшь по каменистой дороге, с одной стороны скалы, с другой — пропасть, а она то вниз, то в гору. То легко иттить, то зовсим чижало.
— Так-таки всю дорогу пеши и топала?
— Что ты, в такую-то даленю! Месяца б не хватило да и ног тожеть. И поездом довелось, и лошадьми подбирали, и на ослике случалось.
— Не приведи господь! И подумать страшно — в такое-то время…
— Натерпелась… И врагу б не пожелала такого путешествия. Но дошла-таки до этого проклятого Маёкопу!..
— С Митей виделась? Как он там?
— Ой, кума!.. Токо сердцем изболелась… Виделись. Подержались за руки через колючую проволоку… Худющий, как шкилет. Заросший — не узнать. Лагерь этот — хуже всякой каторги! Представь: держут впроголодь, мыться негде — завшивели жутко. В бараке, говорит, голые нары, холод собачий. Болеют, мрут, как мухи. А уж обращаются с ними — издеваются, как токо хотят. На работы — кажен день, чуть што не так — прикладом, а то и застреливают.
— Что ж они там делают, на работах?
— Говорил, арадром. А ещё какие-то доты чи зоты. Вот так… Наревелась, душу растравила и всё… Очкам обрадовался, как не знаю чему. Говорил, при первой же возможности убегу. Токо куда там ему, от ветра шатается!
— Попросила бы: какой, мол, из него работник? А дома семеро по лавкам, может бы сжалились.
— Кума! И просила, и молила, и на колени падала, да куда там!.. И слухать не хочет. Вот ежли б было чем лапу позолотить! На это клюют. Кой-кому, говорил Митя, посчастило.
— Сторожат немцы?
— Не-е, те боятся и близко подходить — как бы не схватить хворобы. Наши, русские… Откуда токо набралось такой нечисти, вроде до войны усе были патриоты, усе — «слава Сталину!» А вон скоко переметнулось.
— Есть, кума, люди, а есть людишки… Были и, наверно, всегда будут. А ты ещё и скоро управилась!
— Спасибо добрым людям. Их, добрых-то, слава богу, больше.
— Там же эти, как их, черкезы… Они, говорят, русских не жалуют.
— Кто так говорит, тот, по-моему, брешет. Черкезы — не знаю, не видела. А адыгейцы — такие ж люди, как и мы, токо ещё боле бедные. К горю людскому отзывчивые. Догонит, бывало, на двуколке, запряженной осликом, посмотрит и остановится. Объясню, где была и зачем, что видела (это когда уже назад шла) — послушает и говорит: садись, дочка или там мамаша, подвезу малость. И подвезёт до аула, и едой поделится, и платы за ночлег не спросит. Но вругорядь в такую даленю — ни в жисть не решусь отправиться!..
Ванько достал из-под матраса андреевы часы и прошёл на кухню.
— Уж извините, тёть Лиза, я случайно слышал ваш рассказ, — обратился к соседке. — Вы сказали, что если позолотить этим гадам лапу, то дядю Митю могут отпустить. Это, как я понял, — предложить охране что-нибудь дорогостоящее?
— Да, детка, что-нибудь очень ценное. Да где ж его возьмёшь!..
— У меня вот часы золотые. Они, правда, андрюшкины, но его и тёть Веры нет… да если б и были, они бы не пожалели для такого дела. Возьмите. Если он такой слабый, то навряд ли ему удастся убежать… Выздоровеете — может, рискнёте сходить к нему ещё раз.
Елизавета дрожащими руками (судя по навернувшимся слезам — не только от слабости) приняла часы, смотрела на них, словно это было некое чудо невиданное. Может, для неё и действительно невиданное: секундная стрелка, золоченный циферблат с выпуклыми голубыми цифрами, массивный золотой корпус, заморская работа. Только нижняя крышка из белого металла и по ней гравировка: «Саше — от друзей».
Взволнованная неожиданным предложением, женщина не находила слов. Подняв на него влажные глаза, она наконец бессвязно запричитала:
— Отчего ж господь не послал мне тебя раньше!.. Да ежли б знать, что у Вани, — взглянула на куму, — что он даст мне такое сокровище!.. Был бы мой Митя теперь уже дома!.. Но я пойду обязательно, доползу до этого лагеря смерти, живая или мёртвая… Вот токо денёк-другой передохну и отправлюсь. Спасибо тебе, сынок, за всё: и за часы, и за помощь в хозяйстве, и за заботу о детях…
— Ну что вы, тёть Лиза! — перебил её Ванько. — Не стоит благодарности. Успокойтесь! — И он ушёл к себе в комнату.
Ч е г о не упомянула Агафья Никитична в своём недавнем разговоре с Тамарой, так это — что её сестра Матрена уже дважды наведывалась на хутор, и всё из-за Валеры. Не упомянула, чтобы девочка не подумала, будто от них здесь попросту хотят отделаться. А между тем это далеко не так. Малыш разбередил в сердце сестры нерастраченные любовь и нежность, невостребованное материнское чувство — она спала и видела сиротку своим сыночком; ей не терпелось наглядеться на него, снова подержать на руках…
И вот решено было сходить к ней в гости всей семьей.
Из осторожности пошли раздельно: мать с Тамарой кружной дорогой, Ванько с братом — напрямик через станцию.
В этот раз дядя уже не был чужим. Путешествие у него на руках доставляло ему истинное удовольствие, и мальчуган за всю дорогу о сестре и не вспомнил. Поначалу испуганно таращил глазёнки, когда «дада Ванко» подбрасывал его, словно мячик, выше себя, но вскоре понял, что это нисколько не страшно и не опасно; звонко визжал, заливался смехом и требовал повторить «исё».
Тётя, увидев дорогих гостей, расцвела в улыбке, кинулась навстречу.
— Валерочка, моя ж ты рыбка золотая! Ты меня не забыл? — протянула к нему руки. — Ну, иди же ко мне…
Рыбка смотрела настороженно, воздерживалась: мне, дескать, и тут неплохо.
— Не помнишь меня? Ну, скажи, кто я?
— Я тебя помню: ты тётя.
— На маму разве не похожа?
— Мама халосая. У мамы вава…
Ванько заметил, как у тёти сверкнули на глазах слёзы, но она старалась не подавать виду. Говорила всё так же весело-ласково:
— Я тоже буду тебе хорошей мамой. Ну, давай мне ручки!
— Ты халосая, токо длугая, — стоял мальчик на своём, но руки протянул. И тут же был притиснут к груди и обцелован.
От жалости ли к сиротской судьбе ребёнка, от счастья ли держать его на руках, только тётя не в силах была сдерживать слёзы, и Ванько, чтобы отвлечь её, спросил:
— Не ждали нас сегодня?
— Ой, я вас кажен день ждала! — Прошли в дом. — А севодни смотрю, а Мурка так же умывается! И лапой-то всё вроде как с вашей стороны. Ну, думаю, быть нынче гостям. Ты один?
— Мама с Тамарой должны вскорости подойти. Мы с Валерой оказались пошустрей, правда, Валера?
— Плавда, — согласился тот.
— А вон и они, лёгкие на помине!
Тётя передала мальчика и выскочила встречать. В окно было видно, как, по обыкновению, чмокнулись они с матерью, затем она привлекла к себе Тамару и тоже поцеловала и пригласила в дом.
Когда показалась в дверях сестра, Валера, притаившийся у косяка, набросился на неё, надув щёки и вытаращив глазёнки:
— У-у! Я волк, залас тебя съем! — И рассмеялся, довольный произведённым эффектом: Тамара сделала вид, что страшно испугалась.
Все тоже засмеялись, а тётя опять взяла его на руки.
— Ой, какой страшный волчище! — заговорила к нему. — А ты маму не съешь?
— Не-е, тебя не съем. И Тамалу не съем, это я налосно.
— Ах ты ж моя умница! — Она принялась его тормошить, но он заметил «своих» слоников и, как тогда, потребовал: «Дай цацу!»
Усадив гостей, Матрена подала на стол, и пошла беседа…
Она сообщила, что за всё время к ней на отшиб «ни одна зараза не заглядывала» — детям будет здесь совершенно неопасно. Ей хотелось с «сёднишнего» дня оставить у себя и «дочку», но Ванько возразил (и Тамара его поддержала) по той причине, что тёть Лиза опять ушла в Майкоп и Вере нужно помочь по хозяйству. Но заверил, что они часто будут приходить в гости, а в дальнейшем Тамара будет жить «то у вас, то у нас».
П о з д н я я осень всё заметней преображала землю. С каждым днём редело карнавальное убранство деревьев. Жухла, осыпалась листва, не дожидаясь сильного заморозка. Стремительно укорачивались дни, всё ниже опускалось подслеповатое солнце. Всё чаще небо заволакивали угрюмые тучи, на всё более грустной ноте скулил, завывал ночами ветер.
Жизнь на хуторе неуклонно ухудшалась, к одной беде добавлялась другая. Давно кончился у людей керосин, у самых экономных его хватало разве что на каганец; кончались спички, мыло, соль. Полицаи уводили с подворий коров независимо от того, дойная или нет, лишая детвору, подчас многочисленную, единственной кормилицы.
Прошёл слух, что в прилегающих к Краснодару станицах Елизаветинской, Марьянской, Новомышастовской и даже в соседней Ивановке карательные отряды проводят «чистку» — уничтожают поголовно евреев, семьи партейцев, активистов, просто в чём-то заподозренных станичников… Всё это тревожило, вселяло в души страх и неуверенность в завтрашнем дне. По-прежнему никто не знал, что творится на белом свете — как там на фронтах, что с Москвой, как дела у Красной Армии…
Что до подростков, наших героев, то страхи, о которых говорили между собой взрослые, их волновали меньше. Хватало дел и забот, отвлекавших от суровой действительности, привносивших в быт даже некоторую долю романтики. Общение и тёплая дружба, шефство над семьями крёстных и многодетных соседей, та же «охота» на зайцев приносили пусть небольшое, но приятное разнообразие, удовлетворение от своей значимости.
Но, как и предполагал в самом начале Миша, с охотой дела пришли в упадок. Ни одной автопокрышки найти не удалось (за ними охотились ещё и старики-сапожники, использовавшие прорезиненную часть для ремонта обуви). Зайца было в степи много, но петли кончились, а с ними и мясо, все эти дни, почитай, не выводившееся. Без него стало голодно. Довольствовались постной мамалыгой, кукурузной кашей с узваром, кукурузными же лепёшками, подчас недосоленными. Благо кукурузы, как и подсолнуховых семечек, удалось натаскать с бывших колхозных плантаций. Запасец пшенички — она, также как и кукуруза, имелась не у всех — расфасовали по узелкам да махоткам, рассовали по припечкам и прочим закуткам — берегли до весны на семена.
В один из скучных, пасмурных дней Ванько наведался к Феде домой и застал его за тетрадкой, с карандашом в руках. Тот спешно прекратил занятие и хотел спрятать письменные принадлежности в стол, где в секретном закоулке хранил свои литературные опыты.
— Вижу, что-то сочинял, — поинтересовался товарищ.
— Вообще — да. В этом году знаменательный юбилей — двадцать пять лет Советской власти. Четверть века! Напросились стихи, вот и решил записать…
— Может, прочитаешь? — Ванько знал, что неготовых вещей он обычно не показывал.
— Да понимаешь… — замялся тот, — ещё не готово. Коряво пока.
— Ничего, я критиковать не стану.
Федя раскрыл тетрадь (тут и вправду было много перечеркиваний, исправлений, дописок сверху и сбоку) и, почти не заглядывая в написанное, стал декламировать — размеренно, то с подъёмом, то как бы с угрозой. Приведём это стихотворение полностью:
Едва, после залпа Авроры, в России, Впервые в истории, русский народ Стряхнул с своих плеч кандалы вековые — Помещичий, царский и прочая гнёт; Едва эту весть изумлённому миру Повсюду людская молва разнесла.
Как дрогнула жадная свора вампиров, Что потом и кровью народов жила.
В панический ужас поверг мироедов Рабочий России великой победой!
И понял заводчик, кулак и купец, Плантатор-расист, бизнесмен-воротила, Что рано иль поздно наступит конец — Сметёт и его пролетарская сила!
В Европе, Америке, в мире везде, Где люд обездоленный стонет в нужде.
Тогда толстосумы мешки развязали И, с миру по доллару, вал золотой Штыком, пулемётом, махиной из стали Попёр на Советы зловещей стеной…
Деникин, Юденич, Колчак и другие, Антантой закупленные на корню, Пытались, в крови утопив, вновь Россию Царю да себе, да Европе вернуть.
Но Ленин великий, сплотивший народы На бой беспощадный за дело Свободы, Усилием гения, волею масс Страну молодую — дитя в колыбели — От алчных шакалов, от гибели спас.
И вышло не так, как того бы хотели Кровавые хищники разных мастей!
Сбывались мечты угнетённых людей.
Но поступь Истории денежный Боров Законной считать ни за что не желал; Он выход искал, и нашёл его вскоре В Фашисте Адольфе, что Фюрером стал…
На этом Федя декламировать закончил и хотел снова спрятать тетрадку в стол, но Ванько протянул руку:
— На этом всё? Можно глянуть?
— Пока всё. А вообще — примерно, половина. Закончить хочу нашей полной победой над фашистами. Как, по-твоему, ничего?
— По-моему, очень даже неплохо. Но есть замечание. Можно?
— Буду очень даже признателен! — его же усиливающими смысл словами разрешил начинающий поэт.
— Ну, первое — это насчёт кандалов: их, как известно, надевали каторжанам не на плечи, а на ноги.
— Согласен. Пусть будет «стряхнул с своих ног кандалы вековые». Хотя имелось в виду не кандалы конкретно, а царский гнёт вообще. Что ещё, на твой взгляд, надо бы изменить?
— Да вот четвёртая строчка: «Помещичий, царский и прочая гнёт»… Последние слова звучат как-то не по-современному.
— Можно подумать… А если так: Помещичий, царский, буржуевский гнёт?
— Это уже лучше.
— Дальше у меня складывается такой вариант:
Да только подвёл их стратег бесноватый, И Доллар, и Фунт просчитались, увы:
Вскормили мерзавца, а он, как когда-то, Не смог на колени поставить Москвы.
— Имеешь в виду Наполеона?
— Да, конешно. Доллар — Америка, Фунт — Англия; главные акулы капитализма. Ведь все они на нас чёртом смотрят и с Гитлером заодно.
— Это точно… Вобщем, будет отличное стихотворение! Но я не думал, что твои складные стихи даются тебе так непросто: вон сколько строчек с исправлениями, — покрутил головой Ванько.
— Это не только у меня так, — сказал Федя. — Даже у Александра Сергеевича в оригиналах не всё гладко. Маяковский не зря говорит: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». А эти исправления оттого, что русский язык, как, наверно, никакой другой, очень богат. У каждого слова много синонимов, один лучше другого. Перебираешь их мысленно, кажется — вот оно, самое подходящее слово. Напишешь, подумаешь, а тут явилось ещё более удачное. Затем — единственно верное, как ход в шахматах. Только там надо мозги напрягать, а когда сочиняешь стихи — одно удовольствие.
— Я как-то тоже попытался сочинить. Но дальше двух строчек дело не пошло. Другое дело — тяжести: тут всё легко и просто. И удовольствие, и польза, — вернул Ванько тетрадку. — И что думаешь с ним делать.
— Хотел от руки, печатными буквами, размножить и разбросать в людных местах. Подальше, конечно, от хутора. На станции, в станице на базаре. Ты как на это смотришь?
— С неодобрением. Знаешь, почему? Пользы мало, а случиться могут большие неприятности! Многие знают, что ты сочинял стишки. Лёха, например. Поэтому лучше не рисковать.
— Хотелось отметить славную дату, — явно огорчился юный поэт. — И хоть по-комариному, но куснуть или хотя бы припугнуть… если не самих оккупантов, то хотя бы их приспешников.
— Куснуть бы надо, это точно, — согласился приятель. — Того же Гапона. Но не словами, а как-то почувствительнее. К старосте у меня личные счёты: приказал забрать у моей крёстной корову. Она проследила, куда отвели — и что ты думаешь? Поставили у него в базу. На откорм.
— Выслуживается, прихвостень фрицевский! Сперва откормит и только после этого им на стол. Заделать бы ему красного петуха, чтоб нечем было и свою худобу кормить.
— Как раз с этим я к тебе и шёл. Посоветоваться, как это лучше сделать, чтоб не влипнуть.
— У него во дворе аж две скирдяки люцерны, и есть хар-роший способ их уничтожить. При этом без всякого риска быть заподозренным.
— Что за способ? Выкладывай, — оживился Ванько.
— Я недавно прокипятил в подсолнуховой золе клочок ваты от старой фуфайки, — начал Федя издалека. — Рудик подсказал. И знаешь, какой она стала горючей! Не хуже той, что имеется в подсолнуховых шляпках.
— Ну и что? Огонь добывать у нас пока есть чем.
— Слушай дальше. Если из такой ваты изготовить жгутик длиной… ну, скажем, в полметра (это можно определить опытным путём), чтобы тлел минут десять. Один конец вставить в бумажную трубочку, насыпать в неё немного винтовочного пороху и рядом положить тряпку, смоченную в керосине… Смекаешь? Поджечь жгутик с другого конца…
— Он дотлеет до пороха, от вспышки загорается тряпка, — закончил его мысль Ванько, — и…
— Красный петух готов!
— А за это время запросто можно слинять, и гадай, кто это сделал. Что ж, это получше, чем мина с линзой!
— Хотя бы потому, что устроить всё это можно глубокой ночью и в любую погоду.
Их рассуждения прерваны были ворвавшейся в хату возбуждённой троицей. Лица ребят светились радостью. Не успел Ванько спросить о причине, как Борис вручил ему листок бумаги. Тот, пробежав глазами, воскликнул:
— Так это ж весточка от Андрюшки!
Федя выхватил и впился глазами.
— Точно… Уж я-то его каракули знаю! — Волнуясь, начал, читать: «Сообщаем, что мы живы, здоровы и в безопасности. Вы всё поймёте, узнав, что с нами тот, кого мы видели на островке в бинокль с кургана. Он тоже шлёт вам горячий привет. Мама пусть не переживает: у нас тут всё нормально. М. всех вас целует, а я крепко жму руки. Андрон». Да, это писал он. Жаль, что не сможем уже порадовать тёть Веру, — добавил Федя, возвращая весточку.
— Вы где это раздобыли? — всё ещё не мог поверить глазам Ванько.
— Вот он, — кивнул Борис на Рудика. — Токо что принёс от тёти.
— Он принёс ещё одну радостную новость, — добавил Миша.
Все взоры обратились на обладателя новостей.
— Ещё мне стало известно, будто под Сталинградом фашисты встретили решительный отпор, и Красная Армия больше не отступает. Тётя узнала это то ли от самих немцев, то ли ещё откуда и надеется, что успехи гитлеровцев на этом кончутся.
— Это — долгожданная новость! Спасибо, Рудик. — Ванько на радостях хотел тиснуть ему ладонь, но тот предусмотрительно спрятал руку за спину.
— У него ещё одна… ну, не новость, воще, а так, ценную мыслю подал. Расскажи, Рудя, сам (с тех пор, как сосед «исправился», между ними установились прежние отношения).
— Про телефонный провод? Ну, дело было так. Тётя строго наказала быть поосторожней из-за записки, и я пошёл не через станцию, а решил прошмыгнуть через путя правее. Неподалёку от насыпи увидел провода. Их трудно не заметить: один красный, другой зелёный и проложены по земле. Поблизости никого, дай, думаю, посмотрю, что там под изоляцией. Срезал немного, а под нею стальной провод. Правда, многожильный, но вполне пригодный для петель.
— Нужно откусить метров хотя бы по десять! — воскликнул Борис.
— Это обтяпать труда не составит, — буднично сказал Ванько. — Пока Фрицы где-то там спохватятся, мы будем уже на хуторе.
Вечером того же дня дело было успешно «обтяпано».
У т р о выдалось пасмурное, но без тумана. Небо набухло тяжёлыми, низкими тучами. Глянешь вверх — и не понять, стоит ли вся эта свинцовая масса на месте, или всё же куда-то ползет. Кажется, вот-вот закружат в безветрии первые снежинки-мотыльки. Или, как это бывает на Кубани чаще, зарядит противная, бесконечная морось.
Ставить петли из нового провода отправились вчетвером, прихватив — уж очень он скулил-просился! — и Тумана. В прошлом году удовольствие сопровождать их выпадало ему часто. И заключалось оно в том, что имелись возможности поразмяться — погонять зайцев. Первое время, вспугнув с лёжки, он гонялся за ними до изнеможения, потом пришёл к выводу, что догнать — это, вообще-то, и необязательно. Достаточно делать вид, что имеешь такое намерение да при помощи громкого лая поддать жару, чтоб у косого душа забилась в самые что ни на есть пятки.
В этом году такое счастье улыбнулось впервые, и собачьей радости не было границ. Он то убегал вперёд, то, наоборот, отставал, внюхиваясь во что-то, одному ему ведомое; то озорной его лай слышался справа или слева, то он вдруг гнал косого прямо на ребят.
Нынче они попадались ещё чаще. Наплодились ли за лето чересчур, война ли согнала в эти края, но будь Туман понеопытней, укатали бы они его, как известную Сивку крутые горки.
За кладбищем, на подходе к лиману, заметили трёх подозрительных типов, которые на небольшом удалении друг от друга шли степью, то и дело нагибаясь, словно что-то ища.
— Интересно, кто это шляется по бывшей нашей территории? — недовольно проворчал Борис, передавая мешок со снастями напарнику.
— Лично меня, воще, это теперь не волнует, — обозвался тот. — Я снял тут последние две петли. А с этими пройдём на ту сторону гравийки. Во-он к тому кургану, под самой Ивановкой. Они там ещё непуганные и подальше от хутора.
— Да, так будет безопаснее, — одобрил Ванько. — Дома тоже чтоб никаких следов!
— Я всю изоляцию сжёг до капельки! — заверил Миша.
— Мне кажется, вон тот длинный смахивает на Лёху гапона, — досмотрелся Борис.
— И с ним Плешивый и Гундосый. По-моему, они ищут петли… Надо б их хорошенько предупредить, воще.
— А знаете, это хорошо, что они нам встрелись, — сказал Ванько. — Вы им не грубите. Станем вести себя вежливо: надо выведать, не обзавелся ли Лёха новым волкодавом.
Туман, поначалу знавший о близком присутствии чужаков лишь по запаху следов, метров со ста обнаружил их и визуально. Сердито облаял, но предпочел вернуться поближе к своим. Сблизились.
— Ба, знакомые лица! — наигранно-удивлённо воскликнул Борис. — А я голову ломаю: кто бы это мог быть? Привет, Лёха, как житуха?
— Та здоров, якшо нэ шуткуеш…
— Здравствуй, Лёша! — подойдя, любезно поприветствовал его и Ванько.
— Ты не держишь зла за тот случай у ерика, когда вы завязали нам сухаря? — подал руку для приветствия.
— Здоров був, — с неохотой протянул тот свою. — Тилькэ нэ давы, бо я нечайно пальця вывыхнув.
— Да? Как же ты так… Ну, я тремя пальцами. Чё это вы тут делаете?
— Чулы, шо якось пэтлямы зайцив ловлять. Хочемо найты, шоб глянуть, як их роблять.
— Ну и как, нашли?
— Та пока ни. Пакилэць якыйсь бачив, круг вытоптанный, заячий шерсть. Цэ, мать, вы тут ловытэ?
— Можем оставить это место вам. А сами хотим поставить где-нибудь в другом.
— Так вы йдэтэ ставыть пэтли? Покажить хочь одну, як вы их робытэ!
— Можем не только показать, но и подарить. Миша, выбери-ка самую лучшую, надо поделиться с товарищами опытом.
Мишка развязал мешок, долго копался в нём, ища образец, изготовленный из старой проволоки.
— Если самую лучшую, то вот она, — сказал, передавая Лёхе; тот долго вертел её, одноглазо рассматривая диковину.
— А дэ ж вы дроту бэрэтэ?
— С дротом трудновато, — сказал Борис. — Из обода автомобильной покрышки. Нашли аж чуть не под Ивановкой. Пока с Мышком допёрли, сто потов сошло, — соврал он.
— А там бильш нэ було?
— Одна оставалась… Если никто не подобрал, воще. За ними сапожники гоняются. На подошвы.
— А дэ це само, дэ? — попросил уточнить Лёха.
— Во-он, за той будкой, метров пятьдесят. В кювете.
Дорожная будка — небольшой жилой домик с садом и огородом — виднелась километрах в трёх.
— Я там нэдавно був и, каатца, тэж бачив покрышку, — соврал в свою очередь он.
Туман, несмотря на запрет, продолжал лаять, и Лёха поинтересовался:
— А цэ, мать, той пэсык, шо мий вовкодав чуть був нэ загрыз?
— Да… Чуть ему тогда крышка не вышла, — подтвердил хозяин.
— А мий же ж здох… Мать, ты его чимсь ударыв.
— Может быть, не помню, — согласился Ванько. — Но откуда ж я знал, что это пёс да ещё и твой? Думал, во двор заскочил бешеный волк. Ты б на моём месте поступил бы так же. Вас с паном полицаем я сразу был не заметил.
— Такэ-такэ… На вовка вин був дуже похожий.
— Не горюй, дело это наживное. Небось взамен уже двух овчарок заимел?
— Та дэ там!.. Достав цуценя, а колы це воно выростэ, — ще й гавкать не вмие.
— А что это твои друзья не подходят, загордились, что ли?
— Чим там им гордыцця! Заскиснялысь, мабуть.
— Ну, ладно! Доставайте дроту, делайте петли по этому образцу и желаем вам удачи. А мы пойдём, а то уже и моросить начинает.
Ребята пошли своей дорогой, а те сошлись вместе, рассматривая образец. Затем, как и можно было ожидать, несмотря на морось — мелкую, словно пропущенную через сито — заспешили в сторону дорожной будки. Эта морось, оседая на бурьян, стала превращаться в гололёд.
— Я, братцы, начинаю предполагать, что бог на небеси всё-таки есть, — сказал Борис, когда они, перейдя через гравийку, направились в сторону кургана. — Хоть мы и нехристи, но это он приподнёс нам подарочек.
— Ты имеешь в виду «цуценя»? — догадался Ванько.
— Ну! «Гавкать нэ вмие» — это ж как раз то, что нам на руку.
— А вот заправляющий хлябями небесными — Илья Пророк, кажется, его кликуха — или дрыхнет, или делает нам назло, — посмотрев вверх, недовольно посетовал Федя. — Погодка начинает мне не нравиться… Эй, а за кем это Туман погнался? Вроде как за индюком!
Действительно: пёс настиг какую-то длинноногую птицу, повалил её у них на глазах и тут же, повизгивая от азарта, устремился за другой, такой же. Подбежав ближе, увидели серую птицу с прокушенной головой.
— Братцы, это ж дрофа! — воскликнул Ванько. — А вон и ещё… раз, два, три… пять штук! Осторожно окружаем, чтоб не разбежались, щас он всех их передушит. Запоминайте, где, чтоб найти.
По ходу, метрах в пятнадцати, четко выделяясь на фоне жухлой и словно бы остеклованной травы, задрав головы, их настороженно разглядывала стайка крупных рябо-коричневых птиц.
Управившись с ещё одной жертвой, четвероногий помощник примчался на зов хозяина.
— Туман, взять! — показал он ему направление; в несколько мгновений была повергнута ещё одна. — Мишка, не прозевай, вон та хочет улизнуть. Туман, куси её! Молодец! Ко мне! Теперь эту — взять!
Да, фортуна явно ребятам благоволила: удача свалилась буквально с неба. Это был тот редкий даже по тем временам случай, когда припозднившихся почему-либо перелётных птиц застигает в пути непогода. Видимо, гололёд утяжелил крылья и вынудил сделать посадку; возможно, выводок просто сел передохнуть, а тут случилась изморось, приведшая к обледенелости. И взлететь не смогли, и спастись бегством — у Тумана ноги оказались порезвей. Как бы там ни было, а перед ребятами вскоре лежала горка дичи, где каждая особь наверняка тянула за десяток килограммов!
По такому случаю петли устанавливать не стали. Спрятали, прикрыв травой, обозначили место ориентирами — отложили это дело на завтра. Четыре дрофы поместились в мешке, его нёс Ванько; остальные — по штуке каждый. Настроение у всех было приподнятое, если не сказать радостное. На подходе к гравийке Миша поинтересовался:
— А как мы ими, воще, распорядимся? Вон их скоко!
— Сёдни нехай командует Ванько, — предложил Борис. — Это благодаря его нам такое счастье привалило. Будто специально к празнику Октября!
— А при чём тут я? Не мне, а вон кому благодаря, — кивнул в сторону Тумана.
Пёс, словно сознавая, что сделал большое и важное дело, больше по бурьянам не носился. Чинно бежал спереди, то и дело останавливаясь и поджидая, пока плетущиеся медленно сократят дистанцию.
— У тебя, Мишок, есть, я вижу, предложение?
— Я почему и спросил, воще… К празднику у нас будет теперь зайчатина. А этой лёгкой добычей можно поделиться с соседями. Лично мне хватит и полдрохвы.
— А лично я полностью тебя поддерживаю, — одобрил предложение Ванько. — Вы как? — повернулся к Борису.
— Насчёт мяса у меня возражений не имеется. А вот перья — их надо бы собрать все.
— И приподнести Мегере на перину, — съязвил Миша.
— Дурак ты, Патронка, хоть и неглупый малый!.. Не Вере, а пацанам: у них не токо матрас, но, наверно, и подушки набиты соломой.
— Насчёт перьев договоримся, — сказал Ванько. — А мясом распорядимся, я думаю, так: Миша — Рудик, Борис и Федя — это две штуки. Одной мама поделится с крёстной. По полптахи андрюшкиной и фединой крёстным, то есть тёть Ивге и Мачневым. Шапориным выделим целую дрофу… это пять? Остаётся две. — Он сделал паузу, предоставляя возможность сказать слово и другим.
— Тёть Лизе надо бы уделить две, — предложил Борис, покосившись на Михаила. — Их шестеро душ — это раз. Потом — я вчера заходил проведать — она всё ещё хворая. Еле-еле душа в теле…
— В такую даль пешедралом — тут, воще, не всякий и мужик выдержал бы, — вместо поддевки посочувствовал Миша. — Жаль, что сходила напрасно. Лично я, воще, за.
— Я бы не сказал, что напрасно, — заметил Ванько. — Когда унала, что её муж погиб, она часы отдала какой-то тётке из Ивановки. И тем самым помогла вызволить нашего же земляка, такого ж бедолагу.
— Я сказал «напрасно» — лично для неё, — поправился Миша. — А кому ж отдадим последнюю дрохву?
— Может, Клаве? Напополам с этой, как её, с Иринкой, — поспешил добавить Федя. — Которая нам розы удружила для Тамары, помните?
На том и порешили.
Проснулся наконец либо смилостивился и «заправляющий хлябями небесными»: гололёд прекратился. Тот, что осел на траве, осыпался, поднялись выше и словно бы повеселели тучи. В их разрывы начало проглядывать ущербное светило. Приближаясь к хутору, заметили Рудика: он спешил им навстречу.
— Интересно, удалось ли ему договориться? — сказал Федя.
— Щас узнаем. Это было бы очень кстати!
Объясним, что имелось в виду. Федя дописал стихотворение, посвященное двадцатипятилетию Советской власти. В последней строфе выражалась твёрдая уверенность в победе Красной Армии над Германией. И речь снова зашла о том, что неплохо бы его размножить и распространить, дополнив сведениями о том, что под Сталинградом гитлеровцы уже встретили решительный отпор. О том, что Ольга Готлобовна свой человек, ребята уже не сомневались, а Ванько знал об имеющейся у неё пишущей машинке. Рудика командировали в станицу узнать, не согласится ли она сделать доброе дело. Такая листовка нужна была ещё и для того, чтобы отвести подозрения от хуторян в совершении поджога, решение о котором было уже принято.
— Ну, вы даёте! — удивился Рудик, приблизившись. — Где вы их столько набрали?
— На ловца и зверь бежит, и птица летит! — Борис дал подержать свою ношу. — Так что будешь сёдни трескать кашу с дрохвятиной. Если, конешно, заслужил.
— Тяжеленная! Килограмм десять, если не больше. А насчёт «заслужил»… сделал токо полдела. И то насилу упросил. Напечатала. Но не стихотворение: она его похвалила, конешно, и одобрила, токо распространять ни в станице, ни тем более вблизи хутора запретила. Зато про Сталинград — аж десять штук! И предупредила: в первый и последний раз.
— Ну, и за то спасибо! — поблагодарил Федя.
— А ты за полдела получишь полдрохвы, — сказал Миша, но уточнил: — Не в наказание, а так мы договорились.
В н а м е ч е н н ы й день, под вечер, все собрались у Ванька, чтобы обговорить подробности намеченной диверсии — поджечь гапоновскую люцерну. Нужно было предусмотреть возможные последствия: не пострадают ли от пожара соседи; не падёт ли на них подозрение. Словом, учесть все мелочи. Сошлись на том, что соседские постройки далеко, крыши мокрые, а погода будет безветреная. Пару листовок закрепить в таких местах, где бы их обязательно увидели и прочли — это должно снять подозрения с соседей и вообще с хуторян. А самого Гапона припугнуть. Глядишь, после такого щелчка по носу он поумерит своё холуйское рвение, Себе в помощники Ванько взял Бориса. Его задача — смотреть в оба, пока напарник будет занят приготовлениями, и в случае какой-либо неожиданности вовремя предупредить.
Ждать кануна праздника, как предполагалось ранее, не стали, потому что после нескольких моросистых дней установилась вдруг чудная погодка; она могла так же вдруг и испортиться.
Вечер, близившийся к полуночи, задался тихий и звёздный. Полная луна едва ли не с высоты зенита заливала округу молочным светом настолько ярким, что гапоновский орешник, всё ещё довольно густолиственный, надёжно прикрывал юных диверсантов тенью.
В конце фундуков задержались — метрах в двадцати от цели. Отсюда подворье — как на ладони: кирпичный дом, с верандой, под черепицу, окна без ставен; света в них не видать. Неподалёку летняя кухня с навесом, столом и приставной скамьей. Два высоких стога, ещё непочатые, вынесены в глубь двора. В двух метрах от них — внушительных размеров поленница, несколько брёвен, одно из которых лежит недорезанным на козлах — всё это тоже наверняка сгорит, подумали мстители. В нескольких метрах от стогов — кукуруза: урожай хозяева, возможно, убрали, а вот бодылкой, похоже, пренебрегли.
— Будто специально для меня оставили! — сказал Борис. — Я залягу вон там, напротив, и в случае чего швырну в тебя комком земли.
— Навряд ли придется это делать: все уже давно дрыхнут. Пошли!
Стога сложены столь близко, что не понадобилось дёргать сена для соединительного мостика, и «мина» была установлена у основания одного из них. Она представляла собой бумажную воронку со вставленным с узкой стороны конуса самодельным «бикфордовым шнуром». Нехитрое устройство подготовлено было в считанные минуты.
Оставалось поджечь свитый из ваты, толщиной с карандаш и полуметровой длины жгутик, когда рядом шлёпнулся кукурузный початок. Сигнал? Ванько затаился, прислушиваясь. Расслышал неразборчивый говор и шаги: со стороны дома к навесу приближались двое. По голосам тут же узнал Лёху и Гундосого. «Чёрт, думал, одни мы не спим, — ругнулся Ванько. — Придется подождать»…
Приятели уселись на скамью. Ванько распрямился на полный рост, дал понять Борису, что сигнал принят. Присел и стал ждать. Из разговора, доносившегося теперь отчётливо, заключил, что дружки встретились недавно.
— Так ты кажешь, свиданирував? — с нетерпеливым интересом переспросил Лёха. — С ким же цэ само?
— А вгадай!
— Та бис тэбэ зна… Хиба обратно с тиею шалапутною?
— Тилькэ сичас од нэи.
— Ну и як — хочь полапать дала? Писля того, як ты хотив угостить нэю и нас з Грыцьком. а Кулька обороныв.
— Та я сёдни ще нэ лиз.
— И нэ лаялась?.
— Ни словэчком нэ уприкнула, шоб мини луснуть!
— Так шо, може, ще попробуем? Зробышь?
— Та мини нэ жалько, бо вона до цёго жаднюча. А карасину дасышь?
— Я ж тоби позавчора давав цилу литру!
— То я просыв соби. А тэпэр трохы ий, бо каже: не прынэсэшь, то й нэ прыходь — нэ пустю й блызько.
— Такэ, такэ… Нэ боисься, шо оти черты рыла начистють? — поинтересовался Лёха.
— Сам же казав, шо воны сталы бояться нас, як огня…
— Так то мэнэ! Ладно, трохе дам… А то ще будэ, як зи мной: ничого нэ пообищав, понадиявся був на сылу. Полиз, а вона як вчипылась за я… за якэсь мисто — цилый тыждэнь потом роскарякою ходыв…
— Це, мать, Варька Сломивська? — догадался Гундосый.
— Вона, шоб ий на тим свити кыслыло!.. Посуд прыхватыв? Ходим до хлягы.
Было слышно, как совсем рядом клацнула и откинулась крышка фляги, как, утопив бутылку, набулькали в неё керосину. «Придется с поджогом погодить: керосин и нам нужен позарез!»— подумал Ванько.
Подождав, пока дружки ушли и всё стихло, поднялся. Фляга стояла возле большой собачьей будки, из которой вылез, волоча цепь, симпатичный кутёнок, не научившийся ещё не то что «гавкать», но и разбираться, где свои, а где чужие. Несмотря на поздний час, он, похоже, не прочь был поиграть. Погладив его, Ванько попробовал флягу на вес — полная. Отнёс в орешник.
— Представляешь, полна керосину! — с радостью объяснил Борису.
— Да ну! — удивился тот. — А фитиль ещё не поджигал?
— Надо сперва опорожнить, а уж потом всё остальное. Флягу-то нужно вернуть, пусть думают, что сено сперва облили керосином, потом подожгли. Иначе ним и пользоваться будет опасно.
— И то… Я об этом не подумал, — согласился помощник.
Вернулись через полчаса. Смочив ещё одну тряпку остатком керосина, Ванько оставил флягу между стогов. Зарозовел кончик жгута, в носу щекотнуло запахом палёной ваты. Прошёл к кутёнку, освободил от ошейника: будка стояла близко к стогам. Одну листовку оставил на столе, придавив кирпичом, другую ниткой привязал к столбику навеса. «Цуценя» игриво ворча, теребило его за штанину, некоторое расстояние бежало следом, потом вернулось во двор.
П е р е с к а з невольно подслушанного разговора у Рудика ревности не вызвал.
— Это на неё похоже! — только и заметил презрительно. Миша отреагировал более эмоционально:
— Ну и ну, воще!.. Обратно снюхаться с Гундосым! Поз-зор, воще…
Речь шла, как можно догадаться, о Нюське Косой. Никого не задела и хвастливая лёхина уверенность, будто они стали его бояться. Это он возомнил о себе после той встречи в степи, когда ему подарили «самую лучшую» петлю. Пускай его, не стоит обращать внимания! А вот Гундосого надо от Нюськи отвадить и припугнуть, решили ребята.
Вспомнили про череп, некогда найденный близ лисьей норы в терновнике за бригадой. Был он жёлт, тронут временем, но цел и крепок. Все тридцать два зуба сохранились в целости (их потом посадили ещё и на клей). Нижнюю челюсть закрепили так, что «рот» мог открываться и закрываться, не отваливаясь. Служил этот череп атрибутом власти при игре «в судью, разбойника и палача».
На его основе назавтра после пожара «забацали» чучело Безносой. Оставалось выследить, когда хахаль заявится к Нюське на свидание и хорошенько обоих припугнуть.
В ближайший вечер Гундосый не появился. Возникло даже опасение, не забрал ли Лёха свой керосин обратно. Однако на следущий день, едва стемнело, Миша примчался из разведки — остальные участники находились у Шапориных — возбуждённый:
— Заявился! В хате горит лампа, матери не видно, а они сидят на топчане, воще, и обнимаются, — доложил он.
Всем было ужасно любопытно поглядеть, удастся ли «номер»; но к нюськиной хате отправились без девчат (Тамара как раз пришла на хутор погостить). Осторожно прокрались к хате и сгрудились за глухой стеной. Луна ещё только поднималась, все было погружено в сумрак, но это не мешало из заготовок быстро соорудить чучело костлявой: на палке с крестовиной закрепили череп, на «плечи» набросили простыню. Укрепленный внутри, в затылочной части, каганец из винтовочного патрона, в который вставили смоченный керосином фитиль, четко высветил пустые глазницы, носовую дыру и зубы. Сам балахон подсвечивался изнутри фонарём.
— Ну как, впечатляет? — спросил Ванько.
— Как живая. Не хватает токо косы через плечо, — отступив на пару шагов, оценил Борис.
— Начнём!
Стоя сбоку, Борис постучал в стекло. Устроившиеся напротив окна поодаль Федя с Мышком видели, как Гундосый выскользнул из объятий и тревожно уставился в темень. Нюська дунула на стоявшую неподалёку лампу без стекла, та погасла. Борис затопал ногами, замяукал, протяжно завыл. Одновременно Ванько стал надвигать на окно чучело и с помощью подпорки опускать-поднимать нижнюю челюсть освещенного черепа.
Несколько секунд в комнате длилось шоковое безмолвие. Затем тишину взрезал истеричный визг и крики:
— Мама! Спасите! Нечиста сыла прыйшла!
Спустя ещё несколько мгновений что-то загремело в сенях, и из дверей пулей вылетел вусмерть перепуганный гость, в одних штанах да рубашке, босой и без фуражки; гнусавя, вопил:
— Каравул! Рятуйтэ!
Как наскипидаренный, припустился по огороду в сторону балки и исчез в темноте. Давясь смехом, ребята, разобрав сооружение, быстренько направились к Шапориным.
— Теперь Гундосый и за одеждой побоится прийти вечером, — сказал Федя с усмешкой.
— А уж на свидание — и арканом не затянешь! — в тон ему заметил Рудик.
— Да и у Нюськи пропадёт желание к подвигам, — добавил Борис.
— А она, воще, не спятит окончательно?
— Ежли не возражаете, я могу к ней наведаться, — предложил Рудик. — Дня через два. Узнаю, как она себя чувствует.
— Сходи, — согласился Ванько. — Станет рассказывать про «нечистую силу», так ты страшно удивись и посоветуй: надо, мол, остепениться, иначе дело может закончиться адом.
— Точно! — поддержал идею и Миша. — Она дура, воще, и во всю эту бузу верит.
Т е л е ф о н н ы й провод оказался намного устойчивей на изгиб, чем прежний: за время пользования им ни одному косому не удалось перекрутить петлю и убежать, что иногда случалось раньше. Но были у него и недостатки. Петли часто приходилось выбраковывать из-за того, что не удавалось должным образом выровнять и настроить заново, если в ней побывал заяц. Даже новые были неустойчивы — отгибались книзу, сбивались ветром; их приходилось закреплять растяжками. Запас их быстро уменьшался, и ребятам пришлось «выкусить» ещё метров тридцать.
В один из ноябрьских дней — он выдался не по-осеннему тёплым и солнечным — все собрались у Миши во дворе готовить новые снасти. Борис срезал ножом изоляцию и откусывал нужной длины отрезки, а также удалял из них медные жилы. Миша, сидя у огня, прокаливал концы заготовок, чтобы легче было делать ушки с одного конца и прикручивать к колышку с противоположного. В руках у Ванька снасть обретала законченный вид. Говорили о том, о сём.
— Ты медные проводки не выбрасывай, — предупредил Миша. — Из них классные растяжки получаются.
— А я с ними аккуратно! Глянь, — показал Борис пучок ровных золотистых проволочек. Встретившись взглядом с Ваньком, добавил: — Ох, наверно, и психуют фрицы! Второй раз заделали им козла.
— Небось, думают, что это дело рук подпольщиков, — усмехнулся тот. — Пусть привыкают… Это только начало.
— Слышь, Рудик… — Федя помедлил и продолжал: — Ты с матерью и дедом свободно говоришь по-немецки. А вот фрицевский диалект смог бы разобрать?
— Конешно. А чё?
— Мы, после отступления наших, в акациях нашли исправную телефонную трубку. Что если подсоединиться к проводам и послушать, о чём сейчас фрицы базарят?
— Можно… Токо зачем?
— Была охота здря рисковать! — заметил и Борис.
— Я говорю не о телефонных проводах, — уточнил Федя. — Видел, как ихние связисты лазали по столбам напротив хутора…
— Это я из пряща чашечки поразбивал, — вставил слово Миша. — Правда, и до меня кто-то десятка два расколошматил.
— Дай закончить! — упрекнул его не успевший досказать мысль Федя. — Так вот: линию уже, видимо, восстановили. Её не охраняют, поэтому никакого риска не будет. А хотелось бы узнать…
Закончить мысль не успел он и в этот раз: помешало неожиданное появление Тамары. Это было неожиданно потому, что Ваньку она сказала, будто собирались с Верой сбегать к тёте за мукой и солью. И вот на тебе: бежит огородом, со стороны балки, одна… Почуяв неладное, он кинулся навстречу. Задыхающуюся, выбившуюся из сил — едва успел её подхватить:
— Что случилось!?..
— Ой, Ванечка, беда… Веру схватили… — сбивчиво сообщила она.
— Как — схватили? Кто схватил? Где? — посыпались вопросы подоспевших.
С трудом переводя дыхание, сбивчиво поведала она следующее: шли с Верой через станцию, перешли пути, спустились вниз к базарчику, и тут немец схватил её и потащил за собой.
Словно только теперь представив весь ужас случившегося, Тамара в отчаяньи залилась слезами; сквозь судорожные всхлипы ничего нельзя было разобрать толком.
— Успокойся и расскажи всё по порядку, — уже во дворе, усадив её на табуретку, попросил Ванько. — Как всё это началось?
— С самого начала я не видела, — глотнув воды, принесённой мишиной матерью, начала она говорить более спокойно. — Мы договорились переходить порозно, и она шла сзади… ну, метров на десять от меня. Когда я оглянулась, немец держал её за косу и смотрел в лицо, будто хотел опознать в ней не знаю, кого…
— А откуда он, воще, взялся — не заметила?
— На базарчике бабка торговала семечками, а он стоял возле неё и набирал в карман прямо из ведёрка.
— Когда проходила, на тебя не пялился? — спросил Рудик.
— Глянул мельком и всё. Я обошла его подальше — боюсь их до смерти.
— Он как выглядел… я имею в виду — молодой или старый? — поинтересовался Борис.
— Старый хрыч. Лет сорок, если не старше.
— Странно, — терялся в догадках Ванько. — Чем она могла его заинтересовать!..
— Чем! Она ведь на мордочку симпатяшка. — Рудик наклонился к нему, понизив голос до шёпота: — Может, захотелось развлечься с молоденькой.
— Если б для этого, он бы выбрал Тамару, а не малолетку. Тут что-то другое… У неё было что-нибудь в руках?
— Кроме как жакетки — ничего. Мы спешили, и ей стало жарко. Она потом её выронила, я хотела подобрать, но не смогла: следила, куда он её поведёт, издаля. А потом стало не до жакеток, сразу кинулось домой к вам.
— Надо что-то делать, — первым напомнил Борис удрученно.
— Действовать надо — и немедля! — словно очнулся от потрясения Ванько; голос стал решительным и твёрдым. — Ты, Миша, остаёшься — убери и спрячь всё это подальше, чтоб никаких следов, — распорядился, кивнув на снасти и цветные обрезки изоляции. — Остальные — со мной. Прихватываем пистолет, лимонку — и нужно вызволить Веру любой ценой! Чего бы это ни стоило! — Посмотрел Рудику в глаза: — Идёшь с нами? Дело опасное…
— Обижаешь!
— Извини. — К Тамаре: — Он куда её затащил, в помещение вокзала?
— Я не успела сказать… За вокзалом есть небольшой такой кирпичный домик — туда.
— Это упрощает дело! Ты тоже идёшь с нами, будете с Федей на подхвате.
— Надо прихватить и бинокль, он у меня дома, — напомнил тот. — Может пригодиться.
— Беги, токо быстро!
Рельсы переходили в разных местах, поодиночке, затем сошлись вместе уже за вокзальным зданием. Кирпичное, продолговатое, одноэтажное, это здание, судя по некоторым освещенным окнам, было обитаемо, но ни во дворе, ни поблизости в этот предвечерний час уже никого не наблюдалось. Прилегающая территория обсажена пришедшим в запустение декоративным кустарником — вечнозелёным, густым, вымахавшим в рост человека, особенно на задворках. Здесь и нашли надёжное укрытие от посторонних взглядов.
Федя с Тамарой устроились в кустах дожидаться результатов — в условленном месте неподалёку. В случае перестрелки им сказано было немедленно уходить к тёте.
Втроём подкрались ближе к домику, залегли под кустом. Домик оказался всего лишь будкой непонятного назначения, размером примерно 4х4 с двумя забранными решёткой окнами, за которыми угадывался свет. С расстояния в двадцать метров в бинокль четко видны пропущенные через оконные рамы цветные телефонные провода. Всё говорило за то, что в будке кто-то есть.
Прошло около двух часов — здесь ли ещё Вера? Если здесь, то как она, что с нею сделали — неужели надругались? И тут, похоже, не один… Интересно, заперта ли дверь? Если заперта изнутри — ждать ли, пока кто-нибудь выйдет? Или постучать, а когда откроют, ворваться силой? Эти вопросы беспокоили всё время, пока Борис размалёвывал лица вонючей масляной паклей.
— Сделаем так, — распорядился Ванько, когда было покончено с гримом.
— Ты, Боря, останешься снаружи, будь начеку и действуй, как договорились. Рудик, вот тебе лимонка, — он отвинтил колпачок, вытряхнул кольцо. — Как токо ворвемся внутрь, изготовься и пригрози подорвать, если вздумают кочевряжиться. На какое-то мгновение, сколько б их там не было, они остолбенеют. Остальное сделаю я, сообразуясь с обстановкой. Пошли!
Короткая перебежка — и вот она, дверь. Из-за неё доносится нечёткий мужской голос. Осторожное нажатие — подаётся! В следующее мгновение, как гром среди ясного неба, требование на немецком:
— Встать! Руки за голову! Ну, собаки!
В левой руке кольцо от взрывателя, в правой — граната. Поднята выше головы, чтоб лучше было видно. Без кровинки в лице двое гитлеровцев в форме рядовых, сидевшие за столом с полевыми телефонами, вмиг выполнили требование; с ужасом переводили взгляды с лимонки одного налетчика на пистолет другого. Стоявший возле Веры гестаповец тоже на несколько секунд оторопел, но тут же схватился за кобуру. Схлопотав рукояткой по темени, рухнул на пол.
Придя в себя (надо сказать, обоих в первую минуту бил-таки колотун), Рудик приказал своим подопечным встать лицом к стене, сунул гранату в карман, вооружившись вместо неё пистолетом напарника. Тем временем Ванько, отложив пистолет гестаповца, занялся Верой. Она была жива и невредима, если не считать кровь из носу и красных от побоев щёк. Появление друзей стало и для неё полной неожиданностью, а радость была столь велика, что она не могла вымолвить ни слова.
— Они тебя не покалечили, идти сможешь? — Ванько торопливо разматывал провод, которым по рукам и ногам туго прикрутили её к стулу.
— Смогу… Как же вы меня нашли?
— Скажешь спасибо Тамаре. Что им от тебя нужно? За что сцапали?
— Из-за мониста… которое мне Борька…
Договорить она не успела, так как гестаповец, очнувшись, сделал попытку подняться. Получив тумака по голове, снова обмяк.
— Ладно, расскажешь опосля. Щас Борька отведёт тебя к нашим. — Он снял последние витки провода.
Дверь оставалась распахнутой, и Борис видел всё, что происходило внутри. Едва в дверях показалась Вера, кинулся навстречу.
Резко задребезжал телефон, один из связистов инстинктивно оторвал руки от стены.
— Стоять! — приказал Рудик. — Айн момент! — крикнул в трубку и положил обратно.
— Переведи: если они, раньше чем через полчаса, вздумают выбираться наружу — пристрелим на пороге!
Говоря это, Ванько выдёргивал из трубок и аппаратов шнуры. Поискал глазами оружия — такового не оказалось. Извлек из кобуры запасную обойму, разломил табуретку и, прихватив ножку, кивнул: «смываемся».
Ножку просунули в дверную ручку снаружи, и дверь, открывавшуюся внутрь, открыть стало очень непросто. К этому времени, передав Веру из рук в руки поджидавшим в кустах, вернулся Борис.
— Вытрите лица и возвращайтесь в хутор, — распорядился старшой. — Через путя переходите порознь. А я с полчаса подожду для страховки.
Смеркалось. Через насыпь проскочили благополучно. Кукуруза у станции всё ещё была густой, под её прикрытием без осложнений возвратились домой.
Выяснилось: Борис смастерил из кусочков цветной изоляции «красивое монисто» и преподнёс своей зазнобе. Бдительный связист — это ему, видать, дважды пришлось восстанавливать поврежденную линию — увидев это украшение на шее Веры, сообразил, что к чему. Дорого могла стоить легкомысленность этого поступка… «Ювелиру» пришлось выслушать неприятные, но справедливые слова упрёков.
Вчера на закате многочисленное вороньё, держа путь на ночёвку, устроило в небе неистовую свистопляску. Неудержимая ли радость или, наоборот, чувство обеспокоенности обуяли этих, в общем-то, спокойных и солидных кубанских аборигенов, только они словно взбесились: кувыркались, взмывали вверх-вниз, метались, будто играли в перегонки в малиновых лучах предзакатья, оглашая округу криками. В этот вечер нашим пацанам было не до ворон, а то бы и они поняли: быть назавтра перемене погоды! Выскочив поутру на физзарядку, Ванько был немало удивлён: за ночь ветер сменил направление на обратное. Вчерашние, такие весенне-лёгкие, пушистые облака, развернувшись, сгрудились, помрачнели, набухли свинцовой тяжестью, замедлили ход. Словно стыдились в столь неприглядном виде возвращаться туда, где ими любовались ещё вчера. То и дело срывалась колючая снежная заметь, пронизывающий ветер швырял ею в лицо, шелестел о стены хаты, наметал Туману в будку.
— Что, не хочется покидать нагретого места? — навешивая мешковинный фартук на лаз, заговорил с ним Ванько, отзанимавшись. — Пришла, брат ты мой псина, зимушка-зима!
«Надо сходить к тёть Лизе, взять для Веры тёплую одежду, — размышлял он. — Да заодно и успокоить — небось, переживает, почему не вернулись вчера. Скажу: у Валеры, мол, день рождения, и тётя оставила её в гостях на целый день, а то и два».
К обеду ветер стих, крупяные заряды перешли в хлопья, а те — в настоящий снеговал. Просёлок и гравийка, которыми Ванько с Борисом держали путь на станицу, повлажнев, ещё чернели, а вот жухлая трава по сторонам на глазах исчезала под пуховым покрывалом. Снег был мягок, липуч, и хуторская детвора наверняка высыпала из хат — посражаться в снежки, слепить первых баб-снеговиков.
Снежки, снеговики — об этом подумалось Ваньку. Бориса же беспокоила предстоящая встреча с Верой. Она, наверно, ругает его почём зря… И навряд ли простит страшную глупость — подсунуться с этим дурацким монистом. Из-за которого была, считай, на волосок от смерти. И не только она! Могла бы не выдержать издевательств, и тогда схватили бы всех. Страшно подумать, чем всё это могло кончиться!.. И хотя, как говорится, пронесло, хорошего отношения от неё теперь не жди… Да и было ли оно вообще? Вот уже с год, как он к ней всей душой, а она к нему? Всей спиной. Как, действительно, мегера: не дотронься, не обними, делай так, а не этак. Может, лучше вообще не появляться ей на глаза!..
— Слышь, Вань, — сбавил он шагу, — я, пожалуй, вернусь. Делать мне там особо нечего…
— Ну, знаешь! — догадался тот о причине. — Будь мущиной. Заварил — так расхлёбывай. Я вот пробую поставить себя на её место. И вижу два варианта её отношения к тебе после всего случившегося. Один — это если ты для неё так себе, серединка наполовинку; она ведь ещё пацанка, ей простительно. Так вот, в этом случае она может (и имеет на то полное право) отчитать тебя или даже презирать за дурость. Другой вариант — когда она и упрекать-то не станет. Если ты ей нравишься, то нет такого греха или проступка, которого не простишь любимому человеку! И потом, ты ведь хотел сделать ей приятное, и она, небось, обрадовалась подарку; они до всяких безделушек охочи. Так что ты раньше времени не казнись.
Доводы товарища до некоторой степени развеяли сомнения, и Борис зашагал веселее.
— Не боишься, что после вчерашнего фрицы понаставят везде наблюдателей и станут хватать всех подозрительных? — высказал он опасение на подходе к железнодорожному переезду.
— Лицо ты мне изгваздал вчера — насилу отмыл. А одеты мы по-другому — попробуй теперь узнай в нас налётчиков! Которому я дал по черепку, он, конешно, очухался; но не думаю, что устроит большой тарарам. Это ведь позор: какие-то пацаны — и едва не угрохали матёрого гестаповца!
— Я тож так думаю, — согласился с ним Борис. — Единственная для них зацепка — это выйти на Рудика, говорившего с ними по-немецки. Но, по-моему, тут тоже дохлое дело.
Переезд был безлюден, если не считать часового у моста через ерик. Он на них даже не посмотрел. Ещё через четверть часа их, чихая и потягиваясь, приветствовал Жучок, а спустя минуту выскочила сияющая Тамара.
— Мы тут за вас переживаем да волнуемся! — сообщила она.
— А мы за вас. Как тут, куток не прочёсывали?
— Пока нет, но держим погреб наготове и выглядываем поминутно.
Зашли в комнату. Федя с Валерой, листая книжку, рассматривали картинки; Вера встретила гостей у порога. С виноватым видом Борис зашёл последним, боясь встретиться взглядом с пострадавшей. Но, оказалось, напрасно опасался он её неприязни: Вера кинулась к нему первому и, обняв (чего за нею пока не водилось), прильнула к его стылой щеке; он почувтвовал, как что-то горячее обожгло кожу лица… В следующую минуту, вся в слезах, потянулась она к Ваньку. Тот поднял её, как ребёнка, мизинцем смахнул слезинки.
— Ты чё плачешь? А ну перестань! — Посадил её на диван, сел рядом; Борис пристроился с другой стороны.
— Это я от радости… Когда сидела, привязанная к табуретке, думала — никогда больше вас не увижу. А ночью сон нехороший приснился. Будто вас поймали и хочут казнить…
— Успокойся и расскажи нам, как всё это случилось, — попросил Ванько. Тётя взяла на руки «сынулечку» и Федя тоже приготовился слушать.
— Да как… Шли через станцию, Тома впереди, а я немного сзади. Напротив базарчика немец: подозрительно так уставился на меня, а потом — хвать за косу! Рассматривает монисто и что-то белькочет. Сердито, аж в лице меняется… Притащил меня в тот домик, а там ещё один. Снял монисто, показывает ему, а тот и себе — как психанул, думала сожрет живьём. Потом прикрутили меня к стулу, один куда-то ушёл и через некоторое время вернулся с начальником.
— Привёл, видать, незадолго до нашего появления?
— Да, их не было долго… Сижу ни живая, ни мёртвая. Проволка повпивалась, сперва было больно, а потом тело как занемело, перестала чуйствовать. Не знаю, что им от меня нужно, в голове всякие страшные мысли. Что вы меня выручите, я ведь уже и не мечтала… Этот, третий, сразу начал выспрашивать, он немного понимает по-нашему, где, мол ты взяла это? Монисто, значит. Кто, говорит, тебе его дал. А я видела, как они сравнивали цвет с теми проводами, что у них. Догадалась, что Борьке и всем вам грозит опасность и решила правды не говорить. Нашла, говорю, на станции. Когда? спрашивает. Кто ещё был при этом? Где живу, добивался. Сперва по-хорошему, уговаривал, а когда увидел, что я забрехалась, стал кричать, бить по лицу… Грозил сделать из меня какой-то биштек.
Вера снова заходилась хныкать и тереть глаза.
— Не плачь, — сказал Ванько в утешение, — я за тебя отомстил: наварил ему на голове такую шишку, что нескоро забудет.
За ночь следы от побоев не сошли, напротив: чётче обозначились синяки; нос и губы всё ещё были припухшими. В таком виде, как Ванько и предполагал, ей попадаться на глаза посторонним было нельзя.
Под вечер Федя с Борисом засобирались домой, а Ванько — на тамарин край: проведать Серёжку и заодно забрать из сарая винтовочные патроны, так как порох, столь необходимый при добывании огня, давно закончился.
— Заночевали б вы у меня, — предложила тётя. — А то мы всё одни да одни, сыночку моему скушно. А завтра все вместе и пойдёте.
Её горячо поддержала Тамара, и ребята остались.
С н е г шёл недолго и к вечеру наполовину стаял. Снова стало серо, неуютно и сыро. На макушках деревьев покачивались на ветру голодные вороны и мрачно, пронзительно каркали. На унылых улицах не попадалось ни взрослых, ни детворы.
В соседнем со спиваковским дворе Ванько увидел женщину и подростка, пиливших на козлах какую-то ветку от фруктового дерева. Заметив приближающегося к ним человека, женщина перестала дёргать поперечку, малец тоже обернулся в его сторону. Вдруг он сорвался с места и с криком «ура! Ко мне друг пришёл! «бросился к Ваньку. С ходу растопырив ноги, чтоб не вымазать обувью, сиганул ему на грудь. Гость подхватил его, подбросил выше себя, поймал и поставил на ноги.
— Ну, здорово, дружище! — осторожно пожал ему ладошку. — Вот, выполнил обещание — пришёл к тебе в гости. Не ожидал?
— Не-е… Я думал, что ты обманул.
— Ну, брат! Друзья не обманывают.
Подошли к улыбающейся матери. Это была моложавая, приятной наружности женщина лет тридцати.
— Здравствуйте, Елена Сергеевна! — Ванько высвободил руку — мальчуган тёрся о неё лицом, словно игривый котёнок — и протянул матери. — Меня зовут Иваном.
— Вы, видимо, тот самый молодой человек, что помог Сереже вернуть карандаши?
— Был такой случай… Вы, тёть Лена, обращайтесь ко мне на «ты», а то неудобно: я всего на пяток лет старше вашего сына.
— В самом деле? А по виду не скажешь. Ну, пройдёмте в хату…
— Давайте сначала допилим, а то получается, что я вам помешал.
— Можно и так. У нас совсем нечем стало протопить. Сережа все сухие ветки в саду поспилил, теперь вот старую яблоню решили пустить на дрова. Да только она нам не очень поддаётся, — посетовала она на житейские трудности.
Ванько осмотрел поперечку: развод имеется, а вот зубья давно забыли, что такое напильник.
— Да, с нею сильно не разгонишься… У вас напильника треугольного, случайно, не найдётся?
— Найдётся! Наш папа столяром был, у него всяких напильников навалом, — доложил Сережа. — Мам, можно, я поищу? — И он убежал.
— А колун у вас имеется? — Ванько заметил кучу потемневших от времени чурбаков, сложенных в сторонке. Они со всех сторон общипаны были топором; поколоть — у хозяев, похоже, не хватило силёнок.
— Есть и колун… — Елена Сергеевна покосилась на кучу. — Но они такие суковатые, что им и ума не дашь…
— Ну, это мы ещё посмотрим, скажи, Серёга? Притащи-ка колун!
— Ты, мама, даже не представляешь, какой он сильный! — отдавая напильник, воскликнул малец. — Он их в щепки раздербанит.
Действительно, не прошло и двадцати минут, как чурки «раздербанены» были на мелкие полешки. Дрова снесли в сарай и сложили в штабель.
— Это ж надо! — радовалась хозяйка. — Даже не верится: не было ни дровинки и вдруг — целый кубометр! Спасибо тебе, сынок, преогромное!..
— Ерунда, тёть Лена, не стоит благодарности.
Наточив пилу, которая пока не понадобилась, прошли в хату. Здесь в углу над столом с точёными ножками мерцала слабая лампадка, освещая икону с наброшенным вышитым рушничком. Её света было достаточно, чтобы заметить образцовый порядок в обстановке комнаты. Оставив обувь у порога, присели на лавку с ажурными спинками, свидетельствовавшими, что её создатель — это, видимо, был отец — любил и знал своё дело.
Мать заходилась мыть под рукомойником ботинки, а у ребят завязался оживлённый разговор.
— Мама, он останется у нас и ночевать! — с радостью сообщил Серёжа, когда она, закончив, вытирала руки.
— Вот и хорошо: на дворе уже стемнело. Сейчас приготовлю вам поужинать.
— А чё это у вас такой свет, тоже керосин кончился? — поинтересовался гость.
— Уже забыли, как он и пахнет… Спасибо бабушке: она у нас верующая, припасла масла лампадного. Но тоже уже мало осталось.
— Мы его экономим, — добавил Сережа. — Токо с вечера светим, и то недолго.
— А как с огнем, у тебя есть кресало?
— Не-е… Бегаю к соседям за жаром. Знаешь, как надоело!.. Принесу в чугунке, а после с мамой дуем-дуем, пока пламя загорится. У меня так аж голова кружится и в глазах темнеет.
— И с огнем беда, и куда ни кинь — всюду одни беды… Позови, сынок, бабушку, будем ужинать.
Сережа вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся, таща за руку старуху (та, видимо, шла без особого желания). Ванько поднялся, поздоровался лёгким поклоном.
— Здравствуй… Ты, детка, чей же будешь? — Она подошла ближе, подслеповато щурясь.
— Он, бабуля, живёт далеко, ты его не знаешь! — объяснил внук громко, поскольку бабка была, похоже, глуховата. — Помнишь, я о нём рассказывал? Он пришёл в гости специально ко мне!
Сославшись на отсутствие аппетита, бабуля вернулась обратно. Проводив ее, Елена Сергеевна присоединилась к ужинающим и сама. Поглядывая на ребят, улыбалась довольно: приятно было видеть горячую привязанность сынишки и то, что гость ведёт себя с ним на равных, слушает его с неподдельным вниманием. Ужиная, они в то же время рассматривали рисунки, поворачивая их к тощему свету лампадки.
— Мам, сделай нам свет поближе, а то плохо видать! — попросил художник, довольный похвалами друга.
— Вы бы, сынок, отложили это дело до утра, — посоветовала она. — Не дай бог, погаснет — останемся и без такого. А мне ещё и со стола убирать, и постели стелить.
— И правда, Серёга, — завтра и досмотрим, — поддержал её Ванько. — Но скажу тебе честно, я уже убедился: получается у тебя классно! Мне в жисть так не нарисовать. Молодец, из тебя получится настоящий художник. — Отложив альбом, обратился к матери: — Тёть Лена, в прошлый раз из слов Сережи я понял, что вы со Спиваками были добрыми соседями…
— Они были милые и скромные люди. Причин для ссоры не возникало, — сказала она, вздохнув. — А вы с Тамарой, выходит, были школьными друзьями?
— Учились в одной школе. Вам о ней что-нибудь известно?
— Их с отцом забрали в полицию. Не знаю, как уж получилось, но отец застрелил полицейского. Мы надеялись, что там разберутся и девчонку отпустят, но вместо этого следующей ночью увезли и мать с малышом. Потом слух прошёл, что родителей казнили… А что сталось с Тамарой и братиком — никто не знает.
— Так я рад вам сообщить: они с Валерой живы и здоровы.
— Что ты говоришь! — встрепенулась Елена Сергеевна. — Ты их видел?
— Перед тем, как идти к вам. От Тамары вам большой привет.
— Спасибо… А я все эти дни сама не своя: что с ними, бедняжками, сталось? Их что, отпустили?
— Как же! От фашистов дождешься… — И Ванько рассказал то, что уже известно читателю.
— Я слов не нахожу, чтобы выразить, как ты меня обрадовал! — заметила она под конец. — Прямо камень с души… Спасибо тебе и от меня.
— И от меня тоже! — вставил Сережа.
— Ещё я беспокоилась, что не смогу передать кое-что из их барахлишка да вещичек. Клава — это их маму так звали — как чувствовала, что придут и за нею. Попросила сложить всё это в узел и сохранить. Надеялась, сердешная, что деток не тронут.
— Мы с ребятами тоже надеялись, что её, такую больную, оставят в покое, — сказал Ванько. — На другой день утром пришли узнать, но…
— Сережа говорил, что ты и во двор заходил.
— От него я узнал, что ночью приезжали на машине, можно было и не ходить. Но Тамара сказала, что в сарае спрятано кое-что, представляющее для нас интерес.
— А что это такое? — тут же заинтересовался пацан.
— Кой-какие боеприпасы.
— А почему мне не показал?
— Времени было в обрез. Кроме того, на соседней улице ждали товарищи и переживали, не попал ли я в засаду. Тёть Лена, тогда у них возле сарая лежало несколько срубленных акаций. Они ещё там, не знаете?
— Брёвна лежат, я видел вчера, — сообщил Сережа. — А кизяки уже кто-то забрал. И стекла из окон вытащили.
— Я встану пораньше, так вы не обращайте внимания. Схожу в сарай, заберу остальное.
— Тоже боеприпасы? — поинтересовался сосед.
— Не только. Там есть кое-что и для тебя. Пока не скажу, что; пусть это будет сюрпризом.
— А что такое «сюрприз»?
— Ну, вроде подарка. Этот, как его, Гаврюха, кажется, — он тебя больше не задирал?
— Не-е! Он теперь меня боится трогать.
— Давайте, ребятки, заканчивать разговоры, пора ложиться спать, — напомнила мать. — А то скоро и с вечера нечем будет посветить.
— Да и я собирался встать ещё до рассвета. Надо с этим узлом выйти затемно, а то примут за вора, — поддержал её Ванько видя, что малец с доводами матери не согласен.
— Тогда, чур, с тобой буду спать я! А ты, мама, иди к бабушке на печь.
— Хорошо, сынок, так и сделаем, — улыбнулась та.
Незадолго до рассвета Ванько проснулся (умел делать это без помощи будильника), оделся и бесшумно вышел во двор. В сарае без труда нашёл место, где зарыт противогаз и подсумки с патронами. Отвинтив маску, её и обоймы сложил в сумку, остальное зарыл обратно. Выйдя, приподнял акациевый хлыст — тот оказался ему под силу. Все пять брёвен перетаскал во двор — классные будут дрова! Управился затемно. Вернувшись в хату, в потёмках натолкнулся на Елену Сергеевну: одетая, она сидела возле посапывающего Сережи.
— Тёть Лен, вы чё не спите?
— Услыхала во дворе возню, — сообщила она полушёпотом. — Испугалась, пришла к вам и обнаружила, что тебя уже нет. С чем ты там возился?
— Перетаскал те брёвна к вашему сараю. Как-нибудь придём, распилим на дрова.
— Да как же ты их осилил, такие тяжеленные?! Мог ведь надорваться…
— Они оказались не такими уж и тяжёлыми.
— По земле волочил?
— Да нет, на плечах. Следов видно не будет.
— Да я не к тому… Их как-то дедок какой-то хотел утащить, да не подюжил. Вот я и побоялась…
— Не бойтесь, я к тяжестям привыкши. Мне ложиться уже не стоит, — поспешил он переменить тему, — ещё немного — и отправлюсь к своим. Коптилку зажечь нечем?
— Нет, сынок, теперь только утром.
— Я почему и спросил. Могу вам в этом помочь. Клочок бумажки найдёте?
— Поищу. Большой?
— С рублёвку или чуть больше.
Он достал из специального кармашка «зажигалку» — пулю с надпиленным носиком, для безопасности втыкаемую в гильзу острым концом внутрь. Разрядил один из принесённых патронов, отсыпал щепотку пороху на ладонь и стряхнул на светящуюся голубым чёрточку на бумажке, оставленную зажигательной пулей. Порох вспыхнул, бумажка взялась пламенем.
— Прямо чудеса какие-то! — воскликнула удивлённая хозяйка, зажигая лападку.
— Эти чудеса, если хотите, могу оставить вам. Чтоб Сереже не бегать каждый день за угольком. Не побоитесь?
— А это опасно?
— Не очень. Если быть аккуратным. Надо, чтоб содержимое этой вот пули не попало на кожу, иначе будет ожёг. Ну а если всё-таки случится промашка, тоже не страшно: сразу опустить руку в воду и стереть тряпкой. Так как?
— Заманчиво, конечно… Покажи ещё раз, как это делается.
— И покажу, и вы при мне повторите. Поверьте, ничего сложного нет!
Продемонстрировав наглядно и предложив то же самое проделать ей, он оставил хитрую зажигалку, а также насыпал в стакан пороху, разрядив для этого несколько патронов.
— Эту сумку спрячьте в надёжном месте, — попросил под конец. — Я за нею приду позже. Сереже, когда проснется, привет. И большое вам спасибо за сохранённые вещи, они будут очень кстати.
— Спасибо, сынок, и тебе. Привет от нас Тамарочке и Валере. Будь осторожен: на нашем краю ходить небезопасно, — напутствовала она, проводив за порог. — Немцы или полицаи по ночам, иногда под самое утро, кого-то расстраливают в карьере неподалёку отсюда. Не приведи господь нарваться!
— Буду очень осторожен. До свиданья!
На этот раз Жучок то ли проспал, то ли поленился встретить на подходе, как делал это зачастую. Лишь когда скрипнула калитка, он вылез из будки, заходился потягиваться и фыркать носом. Ванько почесал у него за ушами, погладил; поднимаясь с корточек, увидел тётю: она поджидала его в дверях.
— Ты почему ж не предупредил, что там и заночуешь? — упрекнула она вместо приветствия. — А я тут сама не своя — не случилось ли чего… Что это у тебя за узел такой?
— Сюрприз для Тамары. Соседка сохранила кое-что из ихних вещей.
— Мне бы только их метрики нашлись! — воскликнула тётка. — Заходи, а я ставни пооткрываю, рассвело совсем.
Оставив сюрприз в сенях и разувшись, Ванько осторожно, чтоб никого не разбудить, отворил дверь в комнату. Но, похоже, «сама не своя» была не только хозяйка: на краю печи, свесив ноги, в исподнем сидела Тамара. Сняв фуфайку, подошёл к ней.
— Почему не спишь, ещё ж рано!
— Не хочется, — пояснила она одними губами. — Ссади.
Протянув к нему руки, спрыгнула и, подхваченная, обвила его шею.
— Какая ты тёпленькая! — Он медлил отпускать, желая, видимо, напитаться её теплом. — Наверно, рано легли?
— Нет, заснули поздно. Но мне такой сон приснился, что проснулась и больше не могла уснуть… Уже, наверно, с час.
— Хороший или плохой?
— Страшный. Будто тебя схватили немцы… Ой, тётя идёт, пусти!
— Она, между прочим, не против, чтоб я был ещё и её зятем. — Посадил на диван. — Ты её тоже тётей зовешь?
— Ага. Валера — тот сразу стал звать мамой. А мне как-то непривычно.
Пооткрывав ставни, вернулась тётя, приветливо кивнула на тамарино «доброе утро» и прошла к себе — возможно, чтоб не разбудить остальных.
— А тётю Гашу один раз нечаянно назвала мамой, — вернулась к прерванному разговору.
— Нечаянно, говоришь?
— Честное слово, не умышленно.
— Да я разве упрекаю!.. А она что?
— Ничего, обозвалась и всё. Я аж хотела извиниться…
— По-моему, не за что. Она тебя давно дочкой кличет. Так что схватившие меня немцы, — напомнил о недорассказанном сне, — хотели меня расстрелять?
— Ой, даже не это… готовились повесить, и знаешь, где?
Однако досказать сон снова не пришлось: проснулись и остальные обитатели печи. Оказывается, с вечера была жарко натоплена русская чечь и все пятеро изъявили желание спать именно на ней. Правда, Валера, наигравшись со взрослыми, запросился потом к маме.
Девчонки юркнули одеваться в тёткину комнату, Федя с Борисом подсели на диван.
— Ну как, всё нормально? Наверно, помогал по хозяйству? — спросил Борис.
— Да. Десятка полтора суковатых чурбаков поколол… пока занесли, сложили — темнеть начало. И уж больно пацан не хотел отпускать.
— Патроны принёс?
— Из сарая забрал, но прихватил не все, придется сходить ещё. Случилась ноша более срочная…
Он не успел пояснить, какая именно, так как вернулись девчата. У Веры опухоль с губ сошла да и на лице следов от побоев почти не стало заметно. Однако припухлость появилась у Бориса. Она явно бросалась в глаза, Вера то и дело косилась в его сторону.
— Борь, а что это у тебя с нижней губой? — поинтересовался и Ванько.
— А вон, — кивнул он на свою ненаглядную. — Локтем двинула, чумичка.
— Не будешь распускать! — заметила та назидательно — Думаешь, я с тобой целоваться собирался? Больно нужно… Хотел сказать что-то на ушко, так ты сразу…
— Ничего, до свадьбы заживёт! А после она и дичиться не станет.
— Если я ещё захочу на ней, дурёхе, жениться!..
— Ну, а с Тамары причитается: у меня для неё сюрпризик! — Ванько вышел в сени и вернулся с объёмистым узлом.
Она сразу же узнала свою скатерть, и ей стало не до вознаграждений. Молча развязала, стала разбирать содержимое. Это были какие-то документы, письма, фотографии, одежда. К каждой вещи она припадала лицом, словно желая насладиться запахом родного дома. Не всхлипывала, не причитала, только слёзы лились в два ручья… У Веры и тётки глаза тоже были полны слёз. Девчонку на время оставили одну, чтобы не мешать горестным воспоминаниям.
В и н т о в о ч н ы й порох из патронов, найденных в зарослях после ухода наших, а также конфискованных у полицая и даже тех, что прихватил с собой недавно ночью, расходовали бережно, он тянулся долго, но вскоре снова кончился. Как и запас серы, которой навыколупывали было из ребристых катков, каковыми молотили на току хлеб (ею были закреплены железные штыри-полуоси с боков). Из этой серы приловчились делать «спички», окуная в расплав нарезанные кусочками стебли куги. Она легко загорается от тлеющей ваты либо уголька и воспламеняет спичку. Но всё это кончилось и приходилось до головокружения и слёз дуть-раздувать, пока добьёшься пламени, чтобы зажечь лампу или в печи.
И Ванько с Рудиком отправились на Чапаева забрать остальные патроны да заодно и распилить акациевые брёвна.
Зима стояла сиротская, с неустойчивой погодой. С утра было вроде по-божески, осадков не ожидалось. Но на подступах к станице неожиданно потемнело, завьюжило, повалил густой снег; округа, посветлев, на глазах преобразилась. Станичная детвора высыпала на улицы играть в снежки. На место прибыли задолго до обеда.
На этот раз Елена Сергеевна обрадовалась не меньше Сережи, когда Ванько вручил ей двухлитровый бидончик с керосином.
— Ой, какое ж вам спасибо, ребятки! — воскликнула она, подняв крышку и понюхав с таким удовольствием, словно это был мед. — Без света — хоть плачь. Было немного оливкового масла, но и оно кончилось. А этого богатства хватит теперь до лучших времён!
— Верите, что они скоро придут?
— Без такой веры жить бы стало совсем невмоготу. Верим и надеемся. А вы разве нет?
— Мы, тёть Лена, тоже. И даже знаем, что ждать осталось недолго.
— Твои слова да богу бы в уши, как говорит наша бабушка! А это с тобой…
— Мой товарищ, Рудик. Пришли распилить акации. Тащи, Серёга, пилу!
— У нас и те дровишки ещё тянутся, — сказала Елена. — Как топим, так и поминаем тебя добрым словом.
— Зима только началась. А с Сережей вы с такими брёвнами не справитесь.
Вскоре брёвна одно за другим стали превращаться в кучу чурок. Когда она выросла до внушительных размеров, Ванько уступил место у козел хозяйке и взял в руки колун. Сережа принялся таскать поленья в сарай и делал это столь шустро, что друг едва успевал обеспечивать его работой.
— Ну ты и моторный! — похвалил он его, когда дело шло к завершению.
— Закончим — сделаю тебе подарок.
— Который сюрприз? — вспомнил тот прежнее обещание.
— Сюрприз да ещё какой! Хочешь иметь настоящий прящ?
— А то нет? А где ты его возьмёшь?
— Сами сделаем. Имеется отличная резина! Кончай трудиться, найди старый ботинок для кожатки да срежь покрасивше рогатку. Вот тебе ножик. Но смотри не порежься, он острый.
— Ура! У меня будет настоящий прящ! — Взбрыкивая от радости, он убежал выполнять задание. И вскоре вернулся. — Вот, нашёл аж три штуки. Такие? — показал срезанные заготовки.
— Вот эта — годится. Но давай сперва договоримся, что ты не будешь стрелять по птичкам, даже по воробьям. Идёт?
Управившись с дровами, Рудик ушёл навестить тётку, Елена Сергеевна — готовить обед, а Ванько с Серёгой занялись прящом. Резинки вырезали из противогазной маски, и он получился на загляденье. Для мишени нашлась дырявая сковородка, на боеприпас ушла пара кирпичей. Меткости стрельбы стали учиться метров с десяти.
Стрелял, разумеется, Сережа. Он, пожалуй, впервые держал в руках эту заветную мечту всех подростков, и на первых порах не всё получалось — мазал.
— Ты, старик, не спеши отпускать кожатку, — наставлял его Ванько. — И когда целишься, представляй, будто перед тобой не сковорода, а полицайская морда. И ты хочешь вмазать ему в лоб. Отомстить за тётю Клаву.
Дело вскоре пошло на лад. После нескольких удачных попаданий стрелок счёл необходимым уточнить, в кого ж можно стрелять.
— А ворон и кряков можно убивать?
— Ворон — пожалуй. Они птичьи гнёзда зорят. Но, опять же, старайся, чтоб и на расплод немного осталось.
Во время обеда он решил выяснить-таки и насчёт лягушек, или «кряков», которых летом в зароях «не меньше миллиона».
— От них больше вреда, чем от ворон. Потому что писаются, а потом на на руках бородавки, — пояснил он.
— Сережа, ты же за столом находишься! — укоризненно заметила мать. — А ну прекрати!
Пришлось разговор этот отложить и главное внимание уделить обеду. На стол были поданы суп гороховый с мясом и кукурузные лепёшки. А кто ж не любит гороховый суп, даже если он и без мяса! Елена Сергеевна всё же заметила извинительно:
— Вы, конечно, заслужили лучшего угощения, но…
— Отличный супец! — не согласился Ванько. — Да ещё и со с мясом. У вас вроде и худобы никакой не видно.
— Была и худоба, да кончилась. Бычка променяла на кукурузу, коровку-кормилицу забрали немцы. Пришлось, хоть и жалко было до слёз, извести и овечку. Её да с пяток кур засолила в кадке, упрятала в погреб. Вот и тянутся понемножку — и мясцо, и соль.
— Тёть Лена, — управившись с добавкой, поинтересовался, на всякий случай, Ванько, — вам, случайно, не знакома такая фамилия: Голопупенко?
Сережа прыснул, а мать сказала:
— Что-то вроде знакомое… Нет, не припомню. Тебе зачем?
— Я как-то познакомился с ихним пацаном. Я с Тамарой и он убежали тогда из казаматки. А вот адрес, где живёт, спросить не додумался.
— Может, наша бабушка знает, пойду спрошу.
Едва мать вышла, как Сережа вернулся к несостоявшемуся разговору:
— А по крякам из пряща можно стрелять? Их за станицей больше миллиона. Квакают — аж сюда слыхать. Мы летом ходили на них с лозинами.
— Всех перелупили?
— Не-е! Может, штук сто. Мама перестала пускать: там полицаи стали людей убивать. Я не видел, но слышал, как они из пулемёта: ды-ды-ды, ды-ды!
— Ты чего это раздыдыкался, вояка? — вернулась мать. — Бабушка вспомнила: году в двадцать шестом или седьмом дочка её подруги выходила замуж за казака с такой фамилией. Тогда они жили на улице, которая сейчас называется Заройной. Это недалеко отсюда.
— Бабушка и фамилию своей подруги назвала?
— А как же: Сергиенковы. Матрена Кирилловна.
— Так я, пожалуй, щас к ним наведаюсь. Спасибо за вкусный обед! — поднялся он из-за стола.
Ветер утих, и валил густой снег. Снежинки величиной с бабочку-капустницу, снижаясь, делали замысловатые пируэты и тихо ложились на землю, заборы, налипали на ветви деревьев. Хаты в нескольких метрах теряли очертания, различались лишь их силуэты, сливавшиеся с небом, которое, казалось, опустилось донизу. Пройдя метров двести в указанном направлении, Ванько услышал ребячий гомон, а потом увидел и их самих, лепивших на пустыре снежных баб. Делали это так увлеченно, что ему и самому захотелось тряхнуть стариной. Свернул к ним и занялся делом. Снег мягок и липуч. Словно к магниту, клеится к заготовке, навёртывается, как бумага на рулон, обнажая землю. Едва он поставил на-попа громадное тело будущего снеговика, как ребятня, бросив свои занятия, окружила его со всех сторон.
— Оце будэ баба так баба! — раздались восхищённые голоса.
— Баба-великан!
— От бы нам таку сробыть!
— Поможете делать — считайте, что она ваша, — пообещал Ванько.
— Поможем! А шо нада делать? — хором согласились дети.
— Тебя как звать? — посмотрел он на озорного, всё ещё веснущатого, в облезлом треухе, мокрого с ног до головы сорванца.
— Митя, — представился тот.
— А меня Гриша! А меня Витя! А меня Шурик! — наперебой сообщили свои имена желающие помогать.
— Прекрасно! Витя и Митя — вы скатаете правую руку. Гриша и Шурик — вы займитесь левой. Чтоб были вот такой толщины и одинаковые. Ты — тоже Витя? Сбегай к плетню и принеси два прута: воткнём, чтоб руки не отваливались. За дело!
Через короткое время на пустыре возвышался почти двухметровый толстяк-снеговик. с глазами, носом, ртом и даже с пальцами на растопыренных руках. К восторгу всех создателей.
— Братва, а кто из вас знает, где живут Сергиенковы? — поинтересовался на всякий случай главный скульптор.
— Я! — вызвался один из Вить. — Вин живэ коло нас.
— Кто — вин? — не понял Ванько.
— Дедушка Михей.
— А разве баба Мотя… она уже там не живёт?
— Так вона ж вмэрла, ты шо, нэ знаешь?
— И он теперь живёт один, дедушка Михей? — допытывался Ванько.
— Чичас з ным отой, як его… О-он ихняя хата, — показал малец и с полдороги припустился назад, к снеговику.
Двор Сергиенковых выглядел запущенно и неуютно, даже прихорошенный снежным покрывалом. Стены хатёнки облуплены, ставни некрашены, окна наполовину «застеклены» фанерками. Если б не дымок из трубы да не свежий след от порога до сарая, можно бы подумать, что подворье давным-давно нежилое.
На зов и стук откликнулись не сразу. Лишь после настойчивого — в фанерку окна — за дверью послышалась возня, звякнуло по меньшей мере два крючка и в притворе показалось тронутое оспой лицо, которое хмуро осведомилось:
— Чиво надо?
— Надо Степу Голопупенка. — Ванько узнал товарища по несчастью и ждал, улыбаясь, приглашения войти.
— Ваня, ты?! Заходи! Как же ты меня нашёл?
— Было б желание! — Гость несильно пожал протянутую руку. — Язык ведь до Киева доводит.
Прошли в хату. Сквозь окошко в два стекла (фанерки не в счёт) в комнату проникал сумеречный свет, позволявший, впрочем, разглядеть отсутствие должного порядка и здесь. Но было тепло: в печи весело потрескивали дрова. Отблески пламени падали на дощатый стол с немудрящей утварью — ведром с водой, ковшиком и другой мелкой посудой.
— Один хозяинуешь? — спросил Ванько, не найдя взглядом деда.
— С дедушкой. Но он почти не слазит с печи. Садись вот сюда, к огню, — указал Степан на примитивный табурет о трёх ножках врастопырку и вогнутым сидением из войлока; сам устроился на чурке рядом.
— У тебя что, родных больше никого нет?
— Почему? Мама и сестрёнка. Я, вобще-то, живу не здесь.
— Отчего ж не заберёте к себе деда?
— Пока переходить не соглашается. Мы бабушку недавно похоронили, ещё и сорока дней не прошло. Помянем — тогда. Но ты не думай, я всё время при нём!
— Ты с кем там, внучок, разговариваешь? — донёсся с печи скрипучий старческий голос.
— Это, деда, ко мне товарищ пришёл в гости. — Внук поднялся и подошёл ближе. — Вам ничего не нужно?
— Нет, не нужно… Слышу — незнакомый голос, вот и спросил.
— Я думал, больше не придется с тобой свидеться, — вернулся на свой чурбак Степа. — Жалел, что не удастся поблагодарить за находчивость и смелость. Если б не ты — не знаю, чем бы всё кончилось… Ты-то какими судьбами попал к нам тогда в компанию?
— Понимаешь, днём раньше что-то приключилось с нашим товарищем. Он ушёл в станицу к знакомой девочке поздравить с днём рождения. Обещал к вечеру вернуться. Не пришёл. А парень он не из таких, что пообещает и не сделает. Особенно мать переживала. Чует, говорила, моё сердце: что-то с ним случилось… С сердцем у ней неважно, волноваться нельзя. Я собрался — и в станицу, — неспеша, обстоятельно стал рассказывать Ванько. — Адреса именинницы ещё не знал. Решил пройти к комендатуре, где работает её мать…
— Да ты что! — перебил Степан, нахмурившись. — Он что, дружил с дочкой фрицевской прислужницы?
— Видишь ли, они подружились, когда мать ещё не работала у немцев, — пояснил Ванько. — И тогда они жили у нас на хуторе. Вобщем, я держался около входа, хотел дождаться, пока Ольга Готлобовна зачем-либо выйдет. Поскубался с одним придурком-полицаем. За это и задержали.
— Понятно… Наверно, в тот же день и я чуть не влип в одну историю, — вспомнил собеседник. — Твоего товарища звали, случаем, не Андрей?
— Точно. А ты откуда знаешь? — удивился на этот раз гость.
И тот рассказал ему, при каких обстоятельствах произошло знакомство с Андреем и Мартой.
— Нам стало известно, — под конец его рассказа сообщил Ванько, — что они — и ваши ребята тоже — живы и в безопасности: их каким-то образом вызволили партизаны. Ты никого из тех своих одностанишников не встречал?
— Как же, видел. Но никто из них подробностей не рассказывал. А от кого стало известно вам, если не секрет?
— Вообще-то, конешно, секрет… Но ты, вижу, парень надёжный, поэтому скажу: от переводчицы.
— Странно… А она откуда узнала?
— Неважно. Главное — она передала нам записку, написанную андреевой рукой.
— Вот это да!.. Выходит, её мать — наш человек. А я ей в тот день, во время допроса, нахамил, как последний сукин сын.
— Да ты не переживай. Ей и не такое приходится выслушивать…
— Ну а вы как, я имею в виду тогда, в каталажке?
— Мы с девчонкой убежали вслед за тобой, а её отец так и остался. Она тоже было заупиралась, но я унёс её силком. Зашли за малышом, и теперь они живут у моей тёти. Вот токо мать… она оказалась тяжелобольной.
— Слыхал, их повесили на воротах стадиона… Но, говорят, и карателям непоздоровилось: кто-то швырнул в них гранату, прям из толпы.
— Раз уж я тут разоткровенничался, то так и быть, признаюсь: наша это работа. Случайно попали на стадион, стали свидетелями казни, ну и не сдержались. К слову сказать, кроме родителей Тамары, тогда повесили и одного из полицаев, что приходил сводить нас в туалет. А второго ты так звезданул прикладом, что проломил череп, и его пристрелили.
— Ну, ты меня сёдни порадовал! — воскликнул Степан. — Где ж вы гранату взяли? — Ванько рассказал и это. — А у нас, гадство, ничего такого нет, — с сожалением вздохнул он. — В магазине винтовки, что я тогда прихватил, было всего четыре патрона. Мы их уже израсходовали. Такой обрезик из неё получился! Но он оказался почему-то наш, советский. А патронов к нему нет — вот в чём беда.
— Этой вашей беде я, пожалуй, помогу, — пообещал Ванько, тронутый жалобными нотками в голосе собеседника. — Правда, боюсь, не наломали б вы дров. Уж больно ты, извини, рисковый малый…
— Да всё будет нормально! — схватил его руку Степа. — Слово даю! Я за время оккупации лет на десять повзрослел и поумнел. А у тебя их много, патронов?
— Много дать не смогу. Обоймы две-три, не больше.
— А когда? — Парень снова, теперь уже в благодарность за услугу, потряс его руку.
— Можно прям сейчас. Одевайся и сходим, тут недалеко.
У ч а с т о к степи, на котором Борис с Мишей установили петли из телефонного провода, получился исключительно «урожайным»: за весь ноябрь не было, пожалуй, случая, когда бы они возвратились из обхода порожнём. Но в декабре зачастили дожди, порой со снегом и ветром. В ненастье заяц, видимо, предпочитал отлёживаться в сухом кубле: уловы резко упали либо отсутствовали вовсе. По этим причинам пропадало желание тёмными утрами «мокнуть заздря». Но, случалось, к обеду становилось на погоде, и нужно было наведаться, чтобы хоть поправить сбитые непогодой петли. И как было обидно и досадно, когда один, а то и два «дурошлёпа» всё-таки попадались, но к этому времени оказывались расклёванными вороньём!
А однажды зайчатников ждал пренеприятнейший сюрприз: на застолблённом ими участке кто-то насторожил свои петли. Да ещё какие — из сталистой оцинкованной проволоки. Причём, петли эти порой установлены были в нескольких метрах от ихних.
Чья-то откровенная наглость возмутила ребят и обозлила. Решено было на следующее утро прийти сюда пораньше, чтобы узнать, кто же решился на такое. Может быть, даже отдубасить. Однако наглецами оказались двое ивановцев, постарше и посильней физически. Поговорить с ними по-хорошему не пришлось — не захотели.
— Мало того, эти лбы, — жаловался Миша Ваньку, — ещё и отняли у нас двух зайчуганов. И пригрозили, воще, посчитать ребра, ежли застанут ещё хоть раз.
Ванько пообещал разобраться с ними, как только станет на погоде.
Благодаря нежданно-негаданно раздобытому керосину долгие декабрьские ночи, столь тягостные для детворы (выдержи-ка семнадцать часов на боковой!), нашим ребятам страшны не были. Скорее, являлись весёлым и интересным периодом отдыха от многодневных забот. Собираясь у кого-либо в натопленной хате, а то и на русской печи, они и далеко за полуночь то резались в карты или лото, то просто фантазировали, сочиняли сказки, соревнуясь, кто придумает поволшебней да пострашней.
Когда приходила погостить Тамара, собирались у Шапориных; приглашалась, разумеется, и Клава. В такие вечера было особенно интересно, так как кроме сказок да загадок затевались развлечения пощекотливей. Всем нравилась, даже Вере, игра в бутылку. Правда, её не признавал Миша, не желавший целоваться с девчонками; но обходились и без него.
Ранее Ванько рассказал о своём разговоре со Степаном. Получалось, что их станичные сверстники — а он наверняка у них за старшого — тоже не упускают случая как-то насолить оккупантам. Или, по крайней мере, их прислужникам-полицаям, которые в своём усердии зачастую беспощадней хозяев. Решено было познакомиться с ними покороче. Может быть, даже удружить им один из пистолетов. И уж конечно — поделиться секретом мины, с помощью каковой так удачно насолили Гапону.
Впрочем, что до удачи, то разве что керосин. Пожар старосту особо, похоже, и не напугал… Сено вскоре появилось у него новое, дрова тоже. Достал он, надо полагать и керосину (правда, флягу у будки больше не оставляли). А вот худобу у хуторян изымать продолжали по-прежнему. Как на этой стороне балки, так и на той, с чисто казачьим населением, райскую жизнь которому так щедро сулили в листовках. По словам Клавы, в один из дней свели коров сразу у семерых её соседей; отогнали на станцию и погрузили в вагон. Командовал грабежом обретавшийся на хуторе толстый, как боров, в очках с толстыми же стеклами, немец.
Над учётчицкой всё ещё болтался флаг со свастикой. Там по-прежнему находился возглавляемый им полицейский участок. Не раз уже у ребят заходил разговор о том, что надо бы поджечь это осиное гнездо, но всякий раз приходилось считаться со сложностями и откладывать затею.
Об этом же зашёл у них разговор, когда в один из вечеров собрались они у Ванька поиграть в лото. Горела неярко лампа, порывисто хлестал за окном дождь, а на столе перед каждым участником лежали потрёпанные карточки с цифрами в квадратиках. Федя доставал из кисета «номера» и, объявив, ставил на свою.
— Помните, Андрей говорил, что видел в бинокль с кургана… Голодовка! — объявил он очередной номер. — Видел, как из грузовика что-то перегружали в амбар… Кочерёжки! Какие-то ящики и тюки. Ты глянь, опять цифры-близнецы, на этот раз барабанные палочки!
— Ты, Хветь, или играй, или говори — что-нить одно! — сделал ему замечание Борис.
— И чё ты, воще, хотел этим сказать? — накрыв тыквенными семечками цифры 33, 77 и II, спросил Миша.
— Что сказать? — отложив кисет с бочонками-цифрами в сторонку, обозвался Федя. — Что амбар этот постоянно на замке и по ночам охраняется. Клава говорила, что в него, кроме как с очкастым, никто не ходит — он, видать, никому ключа не доверяет. А это значит, что в амбаре хранится что-то очень важное.
— Так мы об этом уже толковали, ещё когда было тепло, — припомнил Миша.
— Что надо бы в него слазить на разведку, и если там нет такого, что рванёт, — поджечь. Ты это же обратно хочешь предложить?
— Не обратно, балда, а снова, — поправил его Федя. — Только не поджечь, хотя теперь это — как раз плюнуть. У нас ведь есть лимонка.
— Предлагаешь взорвать, воще?
— Причём, вместе с очкастым!
— А как это, воще, сделать, воще?
— Залезть внутрь, закрепить там лимонку, а кольцо ниткой соединить с дверью, она открывается наружу. Дёрнет — и вдребезги!
— Хорошая мысля! — похвалил Ванько. — Но, опять же, если там нет взрывчатки. Иначе кой у кого повылетят стекла, а на дворе зима. Надо, чтоб не навредить своим.
— Ежли нельзя будет взорвать, то разведать, нет ли чем поживиться. Правда, дело это рисковое, не нарваться б на пулю, — заметил Борис.
— Риск можно свести на нет, — возразил Ванько. — Полицай наверняка отлучается погреться. Надо установить, надолго ли, как часто и всё такое.
— В холодрыгу долго и не понаблюдаешь, разве что из окна хаты. Кто у нас живёт там ближе всех к амбару? — Борис посмотрел на Федю.
— Если имеешь в виду Клаву, то их хата далековато, я уже думал. Вот Иринка — их двор почти напротив.
При упоминании этого имени Рудик вздрогнул и живо повернулся к говорившему:
— Ир-ринка? Это какая же?
— Уже и забыл? А помнишь, летом на ерике… — усмехнулся Миша.
— Ты ей тогда ещё и письмо накатал. Клава мне по секрету говорила, что оно очень её взволновало, — не Клаву, конешно. Иринка долго мучилась — идти или не идти к тебе на свидание; но гордость пересилила.
— Сурьёзно?.. — Эта новость не на шутку и его взволновала. — Она мне тогда крепко в душу залезла… Я бы и теперь не прочь с нею задружить!
— Знаем, как ты дружишь! Не вздумай!.. — поморщился Федя.
— Да ты чё ровняешь! Это же не Нюська, я бы её ни в жисть не обидел, честное слово, — горячо заверил недавний блудник.
— Зарекалась свинья дерьмо жрать, да никто не верил! И правильно делали, воще…
— А теперь Клава ещё и порассказала ей, что ты за гусь. Так что ничего у тебя не выйдет!
— Ладно, насчёт амбара мы ещё поговорим. Сходим и прикинем на месте. А щас продолжим игру, — предложил Ванько.
В нашем повествовании уже несколько раз упоминалось о взаимоотношениях Рудика с Иринкой; приспело время остановиться на них подробнее. Случилось это в начале лета на ерике. Нанырявшись с вербы до посинения, Рудик с Мишей улеглись согреться-позагорать на берегу. Вовсю сверкало июньское солнце, в вербах попискивали пичуги, сплетая на кончиках веток уютные висячие гнёзда; от воды тянуло свежестью и тонким ароматом цветущих поблизости жёлтых водяных петушков. Блаженно-дремотный покой загорающих потревожен был визгом девчонок, раздевавшихся неподалёку и — кто боязливо, кто с разбегу — осваивавшихся с водой.
Когда шумная орава уже беспечно плескалась на мелководье любимого лягушатника, Миша, натянув трусы, незаметно подкрался к кучке пёстрой одёжи, прихватил платье поцветастей и незамеченным отполз обратно.
Платье оказалось сарафаном, то есть без рукавов, что несколько нарушило план, предусматривавший «завязать сухаря».
— Может, на подоле? — спросил он совета у приятеля. — С примочкой…
— Материя красивая… Может, не будем жмакать? — пожалел Рудик. — Подразним немного и всё.
Миша согласился, и они стали ждать, пока хозяйка накупается.
Спустя полчаса звонкое девчоночье племя высыпало на берег. Одни, стуча зубами, сразу же стали одеваться; некоторые — прыгали на одной ножке, наклонив голову и пытаясь вылить попавшую в ухо воду. Кто-то из них заметил наблюдавших из-за кустика пацанов, визгом оповестил остальных; похватав одежду, стайка упорхнула одеваться на безопасное расстояние. Лишь одна купальщица растерянно озиралась, не найдя сарафана и не зная, что же делать.
— А она ничего, — заметил Рудик. — И на мордочку, и вобще… Кто такая, не знаешь?
Миша, мочаливший в зубах длинную травину, обильно чвиркнул сквозь верхние резцы, ответил безразлично:
— Не нахожу ничего особенного… А вижу впервой. Отдадим, что ли?
— Дай-ка я сам… Нужно познакомиться.
Поднялись и, ухмыляясь, стали приближаться. Незнакомка хотела было убежать к уже одетым подружкам, но, узнав свой сарафан, осталась.
Подойдя ближе, Миша вряд ли изменил свою оценку, тогда как Рудик, уже начинавший «замечать» девочек, нашёл, что сблизка незнакомая и впрямь симпатяшка: стройная, светловолосая, голубоглазая, с «мордочкой», от которой не оторвать взгляда. Ровесница, прикрыв ладошками довольно крупные луковицы грудей, смотрела на него без страха, но осуждающе и с презрением.
— Не твой, случайно? У кутёнка отняли. — Он встряхнул сарафан, повертел, как бы давая возможность опознать. В то же время бесцеремонно, если не сказать — внаглую, изучал хозяйку, отчего миловидное личико её стало пунцовым.
— За дурочку принимаешь!.. Отдай сейчас же, бессовестный!
Не просьба — требование. Гордая, подумал Рудик. И стыдливая. Нашенская не стала бы краснеть да прикрываться — давно бы выхватила и удрала.
— Пожалста! — Он подошёл вплотную, протянул сарафан. Когда же та попыталась схватить, отдёрнул руку.
От Миши не ускользнула поспешность, с какой она тут же снова прикрыла ладонью оттопыренный коричневый сосец. Когда же Рудик предложил всерьёз, поднеся одёжку к самому носу, а она потребовала положить и обоим исчезнуть, это его задело, и он сказал:
— Под-думаешь, цаца какая, воще!.. — И добавил презрително: — Больно нужно нам смотреть на твоё вымя…
У жертвы от обиды и унижения повлажнели глаза.
— Не обращай на него внимания, он вобще грубиян! — Сказав так, посоветовал сочувственно: — Я выполню твой приказ в точности, но за это ты скажешь, как тебя звать. Идёт?
В ответ — косяк, полный презрения.
— Не скажешь, как звать, — потопаешь домой в одних трусах! — припугнул «грубиян». — Идём, повесим на вербу и нехай достаёт, воще, как хочет.
— Я скажу… — пошла на уступки девчонка, испугавшись.
— Ну так бери! — Рудик вернулся и положил сарафан к её ногам. — Или скажи имя и мы исчезнем.
— Помоги надеть…
— Пожалста! — Рудик накинул его на голову, подержал, пока просунет руки наружу.
И тут случилось то, чего он никак не ожидал. Едва продев руки, незнакомка с размаху влепила ему оглушительную пощёчину и кинулась наутёк.
— Ог-го! — подойдя, присмотрелся Мишка. — Всю пятерню видать…
Рудик оторопело смотрел, как удирает девчачья ватажка.
— Ну, с… синеглазка, погоди у меня!.. — погрозил кулаком вслед. — Это тебе даром не пройдёт!
— Давай догоним, воще, и наклепаем как следует!
— Чёрта с два их теперь догонишь… Говоришь, пятерню видать?
— Вся щека аж красная… Так тебе и надо, воще! Жаль, что сапатку не расквасила у всех на виду.
— Ты чё это? — удивился Рудик раздражению приятеля-соседа.
— А то! Что дался опозорить на виду у шмакадявок!..
Пострадавший не нашёлся с ответом, и они понуро побрели на свою лёжку.
— Ничего, мы ещё на ней отыграемся! — повторился Рудик, придумав, очевидно, достойную кару.
— Надо было отхлестать сразу. А через полмесяца — это будет не возмездие, а простое фулиганство.
— Почему — «через полмесяца»?
— Дура она, что ли, попадаться тебе раньше!
— Заставить прилюдно извиниться — не имеет значения, неделей раньше или позже, — оправдывался «оскорбленный», в душе соглашаясь, что дал-таки маху.
— Посмотрим, как это у тебя получится, — с сомнением отозвался Миша, снимая трусы. — Идём прыгнем ещё парочку раз да надо домой, я обещал долго не задерживаться.
Купание вернуло его в равновесие, и о случившемся он больше не вспоминал. Что же до Рудика, то душевно он был не в себе весь остаток дня. А потом ещё и ночью заснуть долго не мог.
Тут надо внести ясность: в мыслях его происходил сдвиг. Чувство оскорблённости и намерение сквитаться постепенно уступали место чему-то вроде одобрения и даже некоторого восхищения находчивостью незнакомки. Находчивостью и решительностью. Надо быть очень смелой, чтобы рискнуть на отомщение таким вот оплеушным способом! Из просто симпатяшки она постепенно превратилась в очаровашку. Такой неотразимой мордашки, таких синих-пресиних глаз ему ещё видеть не доводилось. И никогда так не хотелось познакомиться с девчонкой, подружиться, просто поговорить…
Только вот каким образом? Она же его теперь презирает, боится, станет всячески избегать. И всё-таки нужно попытаться! Сходить с Мишкой к Клавке — она была в той компании, выведать, кто такая, откуда, к кому и надолго ли приехала и всё такое прочее. А там видно будет, что делать дальше. Словом, засыпал Рудик без всякого гнева на Синеглазку и с ещё неясной, но приятной надеждой в сердце.
Наутро заявился к соседу спозаранку. Они с Клавой учебный год отсидели за одной партой, и Мишке запросто будет найти с нею общий язык. При этом нужно будет прикинуться, будто они осознали свою вину и даже готовы, если надо, попросить у новенькой прощения за некультурную выходку.
— Клавка обязательно передаст разговор, новенькая перестанет нас бояться, — пояснил «идею» Рудик. — Снова придёт на ерик купаться — тут мы с нею и поквитаемся!
Миша, не подозревая, что приятель влюбился в новенькую по уши, что затеяно всё это отнюдь не ради мести, идею одобрил и охотно согласился помочь.
Клаву заметили издалека: она присматривала за гусятами, щипавшими спорыш около двора. Рудик спрятался, а Миша направился к ней один.
— Привет Пушок! — отвлек он её от чтения какой-то книжки. — От шулики цыплаков стережёшь? — кивнул в сторону гусят.
— Во-первых, у меня есть имя… И это вовсе не цыплята — тебе что, повылазило? — не очень любезно обозвалась она.
— Разве? А похожи, воще, на индюшат. Но это неважно. Я к тебе, воще, по делу: что это за шмак… за девочка была с вами на ерике?
— А зачем тебе? — насторожилась бывшая одноклассница-однопартница.
— Ну, это, как его… Мы хочем перед нею извиниться за вчерашнее. Токо не знаем ни как её звать, ни где живёт, ни кто, воще, такая.
— А ты не брешешь? — усомнилась Клава Пушок. — Дай честное пионерское, что это правда и что вы не будете её бить.
— Может, потребуешь ещё и землю есть для доказательства? Нечего из-за пустяков, воще…
— Ну, тогда и не скажу!
Миша поймал её за косу:
— Хочешь, чтоб наполовину укоротил? Мне недолго! — Он достал из кармана складник, зубами откинул лезвие.
— Пусти, дурак! — схватила за руку. — Всё равно не скажу! Отпусти косу, а то укушу…
Миша отпустил со словами:
— Да пошутил я, воще… А ты и поверила. Чес-слово бить не собираемся. Рудик давно уже отсердился.
— Ну, смотри! — погрозила Клава пальцем, после чего сообщила о своей новой подружке и соседке нужные ребятам сведения.
Он узнал, что звать новенькую Ира, живёт она у дедушки с бабушкой, потому что папа с мамой ушли на войну — они оба медики. И что если побьют её за вчерашнюю пощёчину, то тогда они оба пошляки и подлецы.
Со жгучим нетерпением поджидал Рудик напарника. Опасался: вдруг он сообщит, что Синеглазка приехала погостить всего на недельку и скоро уедет в какой-нибудь Краснодар или Темрюк? Такая перспектива повергала его в отчаянье. Не дожидаясь, пока тот начнёт докладывать всё по порядку, он опередил его вопросом:
— Ну что, она ещё не уехала с хутора?
— Этого можешь не бояться. Токо мстить ей у меня лично охота отпала.
И рассказал всё, что узнал от Клавы.
Рудику не терпелось увидеть её хоть издали, но уже сегодня. Чтобы всё-таки не вызвать у товарища подозрений, он пошёл на хитрость:
— Клавка навряд ли поверит, что мы способны на извинения… Чего доброго, разгадает нашу хитрость, — высказал «опасения» Рудик. — А эта Ирка, как ты и предполагал, с месяц не выйдет со своего двора. И после такой давности поздно будет требовать даже паршивого извинения…
— Так что ты, воще, предлагаешь? — не понял помощник.
— Нужно прям сичас зайти к деду Мичурину (Ира оказалась его внучкой), позвать её и хотя бы через забор извиниться самим. Для блезиру, конешно, — поспешил уточнить, так как Миша скривил кислую мину.
— Ладно, начали — так доведём это дело до конца, — согласился он.
Дед Мичурин знаком был нашим героям давно. Не столько он сам, сколько его знаменитый сад. Знаменит же он был тем, что здесь всегда было чем поживиться, начиная с майских черешен, ранних абрикос, малины, слив, яблок или груш-бергамот. Понятно, что наведывались они сюда, как правило, после захода солнца. И хотя дед мог их в этом лишь подозревать, было если не боязно, то стыдновато являться ему на глаза… Поэтому какое-то время они просто посидели на лавочке у его калитки, не решаясь заходить во двор.
Но вот хрипло скрипнула дверь, из сеней вышла с ведром Иринка. Одета в светлое, выше колен, платьице, босиком, стройная и лёгкая. У Рудика чаще забилось сердце, а Миша отметил:
— Она и правда ничего себе. Против наших. К колодезю пошла. Давай зайдём под видом попросить напиться.
— Давай… Уже возвращается. Пошли!
Увидев нежданных гостей да ещё и узнав в них вчерашних обидчиков, Ира не стала вступать с ними в разговоры и поспешила скрыться в хате. Миша постучал было в дверь, но никто не появился. Направились уже к выходу, когда их окликнули:
— Вы, хлопци, чего хотели?
На пороге стоял дед — высокий, болезненного вида, с серой и длинной, как у Льва Толстого, бородищей и косматыми бровями. Опираясь на палочку, осторожно спустился с приступок.
— Здрасьте, деда! — поприветствовал его Рудик. — Извините, что побеспокоили… Можно у вас попросить водички?
— Чтой-то пить хотца, — уточнил Миша.
— Попросить-то оно можно… — Старик подошёл ближе, разглядывая посетителей и медля с ответом; Мише показалось это подозрительным: ещё огреет палкой…
— Если нет, то мы, воще… — попятился в сторону калитки.
— Ну почему ж нет? Есть водичка. И холодная, и свежая, и вкусная — только что из колодезя… Но я вот подумал: давать вам или не давать?
— Жалко, что ли, воще!..
— Да нет, не жалко… Признайтесь честно: это не вы, пострелята, обломали давеча черешеньку?
— Какую черешенку, деда, вы чё… — возмутился Миша.
— Нешто так можно? Пришли бы днём, попросили бы по-хорошему — да рази я отказал бы? — стал выговаривать дед. — Ешьте, сколько влезет! Или уж шкодничали бы, да аккуратно, зачем же ветки обламывать, деревце калечить…
— Напрасно, дедушка, вы нас заподозрили, — сказал Рудик. — Мы, конешно, бывали в ваших черешнях, случался такой грех… Но не давеча, а еще в мае. И мы ни одной веточки не сломали, честное слово!
— Бог вас знает… А почему зашли напиться именно ко мне?
— Да так… чисто случайно. Увидели, что ваша внучка несёт в ведре воду, ну и зашли. А она почему-то пожадничала.
— Ну, если так… Иринка! — позвал он внучку; та тут же высунула голову из-за двери. — Вынеси-ка хлопцам водички попить.
Через минуту она вернулась с полным ковшиком. Миша «для блезиру» отпил несколько глотков прямо из её рук. Подавая Рудику, зарделась, как маков цвет, но глаз не отвела. Возвращая ковшик, поблагодарив, он тихо, чтоб не расслышал дед, добавил:
— Извини за вчерашнее… И не бойся, я уже всё позабыл и мстить не собираюсь.
Ничего не ответив, она скрылась за дверью, и утолившие жажду, пожелав деду здоровья, покинули двор.
В тот же день Рудик накатал письмо такого содержания: «Дорогая Иринка-Синеглазка, извини меня и моего друга Мишку за подлую выходку, которую мы отчубучили тогда. Хотели подшутить, но, поверь, мы не имели в виду украдать именно твой сарафанчик. Просто так случилось. Наверно, потому, что он очень красивый. А может, это самой судьбе вздумалось таким вот образом свести нас с тобой и познакомить. Хоть ты и смазала мне по мордасам, но ты мне очень-очень понравилась. Честное слово! И я хочу с тобой подружиться. Если это возможно и ты меня простишь, то приходи к ореху в саду твоего дедушки. Сёдни, когда стемнеет. Я буду очень тебя ждать! Рудик. 9 июня 42 года».
Перечитав написанное (нет ли грамматических ошибок), сложил листок вдвое, сунул в конверт, заклеил и надписал: «Иринке, лично в руки». Мише объяснил, что этим письмом он хочет ускорить её появление на ерике, и если номер удастся, всё же потребовать извинения за пощёчину. Сосед, не подозревая, что дело тут вовсе не в извинениях, вручил послание Клаве с приказом не вскрывать и срочно передать адресату.
Но напрасно ждал Рудик едва ли не до рассвета — Синеглазка на свидание не пришла… В расстроенных чувствах, с гнётом на душе возвращался он восвояси. Было горько и обидно до слёз. И мучительно стыдно. Перед мысленным взором вставала ужасная картина: его записку, это идиотское признание в любви, продиктованное сердцем, читают вслух… при Клавке (а может, позвали и ещё кого-нибудь)!.. Читают и потешаются, надрывая животики… Всякая замухрышка станет теперь при встрече ехидно ухмыляться и показывать пальцем: вон тот, что втрескался по самые уши, а ему — дулю под нос. От такого позора Рудик то краснел, то бледнел, его бросало в жар. Силился уснуть, но так и не смог забыться до самого утра. С рассветом, не желая встречаться ни с Мишкой, ни с кем бы то ни было, он ушёл в акации и пробыл там весь день. Под конец, поспав, всё-таки успокоился. Но стал уже не тем Рудиком, каким был: огрубел, очерствел душой, поумнел. Больше на такой крючок он не попадётся! Чувство к Синеглазке ещё теплилось, но навязываться ей он больше не станет! А за поруганную первую любовь — отомстит! Отыграется на ком-нибудь из ихнего племени…
Такой случай вскоре представился: подвернулась Нюська Косая. Об этом нами уже упоминалось…
Однако развела их с Иринкой судьба не насовсем.
Как-то, вскоре после того разговора у Ванька, шел он балкой. Здесь в любую слякоть-непогоду можно ходить, не боясь утонуть в грязи. Впереди кто-то тащил вязанку сухого хвороста. У огорода Кулькиных сбросил с плеч и сел сверху — похоже, отдохнуть. И каково же было его удивление, когда, поровнявшись, встретился взглядом… с парой весенних васильков!
— Синеглазка, ты?!
Не назови он её этим именем, Иринка бы его не узнала — слишком мимолётным было знакомство, много с тех пор утекло воды. Но оно вмиг напомнило всё: и как отомстила за унижение, и как на следующий день он же и извинился, когда вынесла воды; записку, переданную Клавой, взволновавшую до глубины души; как она боролась с собой, не решаясь прийти на свидание и как, наконец, жалела после, обзывая себя трусихой и дурой… Растерявшись, она не находилась, что ответить, а Рудик продолжал:
— Вот уж, действительно, гора с горой не сходится, а человек с человеком встретится… — И сел рядом на хворост.
— А говорили, ты уехал… Я думала, навсегда.
— Как видишь, не навсегда. Не для того свела нас судьба в тот понедельник, чтоб развести навсегда!
— Ты и день запомнил?
— Запомнил и никогда не забуду. Так же, как и следующий, когда всю ночь прождал тебя в вашем саду… Ты, конешно, уже забыла?
— Я храню это твоё письмо… И помню его наизусть.
— Токо вот не поверила. Но я прощаю тебе и эту пощёчину.
Краска отчего-то залила её загорелые щёки, она посмотрела на него своими васильками, но не выдержала взгляда и потупилась.
— А чё это ты не женским делом занялась? Зачем он тебе понадобился? — кивнул на хворост.
— Топливо кончилось. Мы ведь теперь вдвоём с бабушкой остались.
— Можно, я помогу тебе донести это так называемое топливо?
— Помоги, если хочешь…
Во дворе, сбросив вязанку, Рудик взял её ладошку, присел на корточки и ласково посмотрел снизу вверх. Она не отняла её, когда он прижался щекой, улыбнулась:
— Спасибо за помощь… Теперь я сама управлюсь.
— А давай оставим этот хворост на память о нашей встрече, — предложил он, поднявшись. — Дровец деда вам припас, козлик отличный. Наверно, и пила имеется?
— Есть. Только ею надо пилить вдвоём, а бабушка хворает.
— Ежли ты не против, то вторым буду я. И сёдни, и всегда. Хочешь?
— Хочу. Но будешь не вторым, а первым. Чего ты так на меня посмотрел, я не то сказала?
— Да нет… Просто твои глаза мне напоминают весну.
С этого дня стал Рудик у Иры частым гостем. Бабушка, интерес к жизни у которой после тяжёлой утраты поддерживался лишь тревогой за внучку, оставшуюся без родителей, ко вторжению в их быт постороннего поначалу отнеслась настороженно. Но поскольку этот самый быт, а лучше сказать — беспросветная нужда и сплошные трудности, стал заметно меняться к лучшему, опасения её рассеялись. Более того, она нашла Рудика скромным и умным «вьюношей». В доме прибавилось жизни и веселья — стали приходить в гости и его друзья. У внучки появилась новая подружка Вера, которую она оценила не менее высоко. Иногда гости прихватывали с собой и детвору. Это для бабки было праздником души, скрашивавшим одиночество. Порой гостей набивалась полная хата, они задерживались допоздна, любили слушать сказки и были, рассказывать которые бабушка была большая мастерица. Перед иконой теперь по вечерам мерцал язычок керосиновой лампадки, и у бабки, человека глубоко верующего, сердце наполнялось благодарностью к милым и славным ребятам.
Бабкин двор, как мы уже знаем, был напротив амбара, и посещая новую приятельницу, ребята установили: с поста полицай отлучается, особенно после полуночи, отсутствуя при этом достаточно долго. И решили «заделать козла». В худшем случае, проникнуть в амбар с целью поживиться, если там имеется что-то подходящее.
— А ежели та доска привалена чем-нибудь тяжёлым? — высказал опасение Борис.
— Продавлю в другом месте. Но, помнится, она у самого порога, — заметил Ванько. — Навряд, чтоб её привалили.
— Там же будет темно, как в бочке! Не тащить же с собой и лампу?
— Не лампу, а фонарь, — уточнил Миша. — Зажечь, обмотать тряпкой — и годится!
— Я от тёти принёс немецкую свечку, — подключился Рудик. — Очень удобная: круглая, плоская картонная баночка в палец толщиной, залита воском и посередине фитилёк, — объяснил он её устройство.
— Сгодится, — одобрил Ванько. — Значит, сделаем так: Рудик и Борис дежурят снаружи. На всякий неожиданный случай. Я быстро выдавливаю доску внутрь амбара и помогаю Мише — он у нас самый щупленький — забраться через пролом. Ты, Мишок, зажигаешь свечку и хорошенько проверь, нет ли гранат или чего взрывчатого, в боеприпасах ты разбираешься. Если всё нормально, придави чем-нито гранату…
— Маленький я, что ли, что ты мне разжёвываешь! Сделаю всё как надо, воще, — заверил тот.
Словом, все было продумано тщательнейшим образом, учтена каждая мелочь — как и всегда, когда ребята решались на рискованное дело. Не станем утомлять подробным описанием проведения операции, названной в этот раз «Новогодний подарок фрицам»; она удалась.
В амбаре — он оказался загруженным лишь наполовину — Миша обнаружил совершенно безопасное в отношении детонации имущество: бухты колючей проволоки, верёвки, какое-то обмундирование, несколько винтовок и патроны к ним. Один из ящиков, уже вскрытый, был полон свечками наподобие той, которой снабдил его Рудик. Почти все они, а также с сотню патронов перекочевали в мешок и были спущены вниз Ваньку.
На следующий день, во второй его половине, очкастый в сопровождении полицая стали подниматься по ступенькам амбара. С дрожью и волнением наблюдали за ними Федя с Рудиком; Клава с Ириной, тоже посвященные в то, что должно произойти, смотреть отказались. Вот гитлеровец уже отпирает замок… тянет на себя дверь… И в тот же миг глухой взрыв валит обоих навзничь. Ещё через минуту их накрывает обвалившимся амбаром. Прибежавшие вскоре полицаи достали из-под обломков тяжелораненного фашиста и отделавшегося небольшими травмами своего коллегу. Позже прошёл слух, что он был расстрелян немцами.
О причинах случившегося говорили разное, но на ребят, как и вообще на хуторян, подозрение не пало. Имущество было переправлено во второй амбар, а обломки этого растащили потом соседи. В числе прочих запасся дровами и Рудик. Для Иринки.
П о с л е долгого ненастья наконец подморозило. Миша с Борисом пришли к Ваньку пораньше и застали его «играющим со своими гирями». Зная, что он почему-то не любит заниматься при посторонних (как правило, сразу же прекращает упражнения), они не стали ему мешать и наблюдали со стороны. Ждать пришлось недолго. Последнее упражнение сос-тояло в подбрасывании двухпудовой гири попеременно то правой, то левой руками выше головы. На уровне груди он снова ловил её и, пропустив между ног, делал новый взмах и бросок кверху. Закончив физзарядку, упрятал гири под деревянное корыто и направился к ведру с водой. Заметил посетителей.
— Привет! — удивился. — Давно мёрзнете?
— Не очень. Мы к тебе, воще, по делу…
— А я решил малость жирок сбросить, а то рубаха становится тесновата, — словно бы в оправдание пояснил он. — Борь, слей-ка мне на спину.
— Не простудишься? — попробовав пальцем воду, высказал опасение тот. — Холодная, а ты распаренный.
— Ничего, лей. Смелее! Уф, хорошо…
Ополоснувшись, стал энергично растираться шершавым вафельным полотенцем.
— Так что у вас за дело?
— Да всё то же: насчёт петель.
— Остаются считанные дни до Нового года, — напомнил Борис, — Такой праздник, а мы без мяса.
— Хочем поснимать петли у ивановцев, десятка хотя бы два, воще. А ты нас подстрахуешь. Пойдём?
— Сёдни, братцы, никак не смогу. Вчера Вера просила — не из чего стало каши сварить. Да и крёстная оклунок принесла, обещал к обеду смолоть… Давайте перенесем это дело на завтра! И хорошо, что вы пришли: мама с Томкой ушли вчера к ним, а мне нужен помощник. Пройдемте в хату.
В плите потрескивали дрова. Борис присел перед дверцей, стал греть озябшие пальцы. Ванько настраивал мельницу, а Миша отсыпал в ведро кукурузы из оклунка, приготовился подсыпать в воронку.
— Может, мы успеем и смолоть, и за петлями смотаться, — сказал он. — Завтра б установили, а послезавтра уже что-то и попалось бы.
— Мне, вобще-то, не нравится, что вы хотите вроде как уворовать, — возразил Ванько. — Я предлагаю поступить по-другому. Выйдем завтра пораньше, встретимся с вашими обидчиками и поговорим с ними по-хорошему. Они одолжат нам петель и вернут зайцев. Если, конешно, окажутся с добычей.
— Как же! Держи карман шире… Они знаешь, какие наглые, воще. Особенно рыжий. У него приговорка: «Скы-ы, Сирёга?»
— Без драки не отдадут, вот увидишь, — дополнил Борис. — Ходят с железным ципом, могут в ход пустить.
— Ну, это, Мишок, не страшно! — успокоил мальца.
— А вдруг у них имеется ещё и пистолет?
— Навряд ли они успеют им воспользоваться.
— А если их в этот раз будет не двое, а, допустим, четверо, — предположил Борис. — Я предлагаю тоже прихватить пистолет.
— Крепко они вас запугали, — усмехнулся старшой. — До войны дело не дойдёт, но так и быть, прихвати, Мишок, свой любимый ТТ. Но стрельнёшь, если понадобится, в землю. Для острастки.
— Дурак я, что ли, целиться в человека!
Мельницу настроили, и дело загудело. Только успевай подсыпать в воронку! Борису делать было нечего, и он засобирался уходить.
— Ты никак с Верой поругался? — остановил его мельник, перестав вертеть жёрнов.
— И не ругался, и не мирился… — ответил тот неохотно. — А чё?
— Она просила тебя зайти по какому-то важному для неё делу.
С того дня, как они вчетвером ночевали у тёти Мотри на печи, Борис затаил на неё обиду. Да и как не обидеться? У других подружки как подружки: Клава на Федю готова богу молиться; Тамара за Ваньком — и в огонь и в воду. Или взять Рудика: Иринка не посмотрела, что он блудник, вцепилась двумя руками. А Вера? Прекрасно знает, как он её уважает. Да что там уважает — любит. А обращается, как с врагом народа. Одёргивает, оскорбляет, пальцем не дотронься… Ни за что ни про что так съездила по губам, что и на другой день стыдно было перед ребятами. Много о себе вображает. Или мозги ещё зелёные. Нехай сперва подрастет да ума наберётся, а тогда посмотрим…
И Борис переменил к ней отношение, по крайней мере внешне. Старался меньше попадаться на глаза. Ноль внимания, фунт презрения. Что посеяла, то и пожни…
Вера перемену, конечно же, заметила, и это её встревожило. Догадывалась и о причине. За выходку на печи готова была извиниться, но всё как-то не получалось. Ругала себя за идиотский характер. В душе дала слово никогда больше не обижать его ни словесно, ни поступками. Хотела объясниться, но он избегает оставаться один на один. Всегда любил поговорить, а теперь кроме «здравствуй», «вот вам заец до каши» да «до свидания» — ничего другого от него не услышишь. Уже неделю вообще не виделись. И она попросила Ванька передать, что у неё важное дело, пусть как-нибудь зайдёт.
Борис застал её развешивающей на верёвку бельё.
— Звала? — спросил, не поздоровавшись.
— Ты ж сам не заходишь…
— А нечего мне у тебя делать.
— Раньше было, а теперь нечего…
Она закончила вешать. Руки, побабевшие от долгого бултыхания в воде, на холоде порозовели. Стараясь согреть пальцы дыханием, прислонилась к стогу из подсолнуховых торчей, с осени ещё заготовленных ребятами с его активным участием. Молча смотрела Борису в глаза. Во взгляде было что-то новое — некая печаль и нежность одновременно.
— Лапки замёрзли? — не выдержал он. — Дай погрею. — Взял озябшие ладошки в свои и стал растирать. — Чё так смотришь?
— Соскучилась…
— Неужели? Что-то на тебя не похоже.
— Напрасно ты так, Боря! Я тебя больше всего на свете люблю… — Она высвободила руки, обхватила, как тогда, у порога, за шею и прижалась щекой к лицу.
— Ты чё это!.. Мать же увидит, — опешил он.
— Пусть видит, никого я не боюсь. Ты меня, Боря, прости… Я вела себя, как дура. Всё боялась, что если тебя не придерживать, то ты… потребуешь такое, чего нам ещё нельзя делать…
Сказав это, она покраснела до корней волос. Борис увёл её на другую сторону стога, упрятал, расстегнув свое пальтишко, её руки под мышки, прикутал полами.
— И ты, значит, решила больше этого не бояться?
— Не знаю, как и сказать… — Прильнула, чтоб спрятаться от его глаз. — Мы недавно разговаривали с Ирой. Она безумно любит Рудика и была готова ради него на всё. Ну, ты понимаешь, о чём речь. А он узнал и говорит: «Выкинь ты из головы эти глупости, аж пока мы не поженимся». Я и подумала: если уж он так, то ты и подавно не позволишь себе ничего подобного… Разве не так? — подняла на него глаза.
— Спасибо, что хоть с чужой помощью дотямкала!.. Дурочка ты, вот и всё.
Так закончилось выяснение отношений, теперь уже надолго.
И з д о м у вышли затемно. Туман догадался, куда это собрались хозяин с друзьями, и жалобно скулил, просясь с цепи. Но его в этот раз не взяли: чего доброго, угодит в петлю да задавится. И долго ещё доносился сквозь густой туман похожий на плач скулёж и просительное тявканье…
Зайца поубавилось заметно. То ли много отловили (только Миша с Борисом взяли более сотни), то ли косой перебрался в сады, где корму побольше, но того, что с осени, уже не было. Дошли до гравийки, это около трёх километров, а вспугнули всего двух. Впрочем, возможно, что причина тому туман.
Гравийка местами сильно попорчена гусеничной техникой, но была ещё достаточно проезжей. Забегая вперёд, скажем: в десятых числах февраля она стала непролазной, и при отступлении, а лучше сказать — бегстве, фашисты бросили здесь уйму завязших по брюхо машин и вооружений.
Пройдя немного обочиной, свернули в степь, рассредоточившись так, чтобы из-за тумана, плотными волнами накатывавшегося со стороны плавней, не терять из виду друг друга. По такой погоде легко сбиться с направления, но эти места нашими зайчатниками исхожены были вдоль и поперёк неоднократно, им то и дело попадались знакомые ориентиры — терновничек, полынный островок на солончаке, другие, по которым безошибочно и держали путь.
Стали попадаться настороженные петли, и вскоре Борис свистом дал знать, что набрел на зайца. Друзья поспешили к нему. Косой, рослый и упитанный, вытолочил метровый круг в стремлении вырваться, но не смог ни петлю перекусить, ни колышек выдернуть — задушился. Борис высвободил его, связал за лапы и повесил на плечо; Миша подровнял проволоку, отошёл на несколько метров, воткнул колышек и насторожил снасть поновой.
— Вот это — проволока! Побывал заец — и как новенькая, — похвалил он. — Скоро должны повстречать и самих ивановцев.
— А вон они, кажись, нарисовались!
— Точно… И спешат в нашу сторону, воще…
— И вроде как должок при них!
Ребята остановились, поджидая. Туман поредел, видимость улучшилась. Заметив у Бориса зайца, новоявленные хозяева решительно прибавили шагу. По всему было видно, что спешат отнюдь не извиняться.
— Это обратно вы, субчики! — высокомерно воскликнул Рыжий — плотного сложения малый, с виду лет под восемнадцать. — Тогда мы о вас не стали мараться, скы-ы, Сирёга? Но сёдни вы зубов недосчитаетесь… А ну снимай зайца!
Ванько встал между ним и Борисом.
— Охолонь, приятель! И не разевай сильно рот, а то кишки простудишь.
— Чево-чево? — Рыжий вытер травой заострённый конец ципа, демонстративно вскинул на плечо. — Сирёга, он что-то провякал?
В отличие от «Сирёги» — тоже плотного, но русоволосого, обутого в резиновые сапоги парня — Рыжий был в постолах из сырой кожи и в солдатских обмотках. Напарник тем временем достал из кармана складной садовый нож, ногтем откинул кривое лезвие и тоже принял недвусмысленную позу… Возможно, они хотели всего лишь припугнуть, но Миша гадать не стал:
— А вот это видел? — спросил тоже заносчиво, ставя пистолет на боевой взвод. Рыжий растерянно переглянулся с Серёгой. — Бросай цип, рыжая морда! — направил в его сторону дуло; тот медлил, возможно, с перепугу. Раздался выстрел, пуля ушла в землю в метре от его ног. И железный прут, согнутый с одного конца наподобие трости, и нож тут же упали в траву. — Вот так бы и сразу, зубные мастера, скы-ы, Боря? — съехидничал, передразнивая рыжего. Вынул из рукоятки обойму, чтоб видели, что она ещё не пустая, и затолкнул обратно, предупредив:
— И не вздумайте драпать!
Он поднял нож, сложил его о колено, сунул в карман. Цепок поднял Ванько, без видимых усилий согнул пополам, получилось нечто вроде английской булавки. Противники сделали при этом «большие глаза».
— А теперь давайте спокойно разберемся, кто из нас не прав и кто виноват больше, — предложил как ни в чём не бывало.
— Да вы не бойтесь, мы бить не собираемся, скы-ы, Боря? — Миша сунул пистолет в карман.
— Вы отняли у этих пацанов двух зайцев. Было такое?
— Ну, было… Скы-ы, Сирёга?
— Давай без «ну». Затем вы посбивали ихние петли. Было?
— Н… тоже было.
— Это, по-вашему, как, справедливо? Не могли поставить свои в другом месте?
— Если честно, то… скы-ы, Сирёга? — Рыжий уже почти пришёл в норму и покосился на напарника, который, не вступая в разговор, пристально рассматривал Ванька.
— Нехорошо получилось, эт точно… — согласился он.
— Значит, будем считать, что вы этих зайчуганов у нас одолжили, — подключился в разговор Миша. — Неплохо бы сёдни этот должок возвернуть…
— Конешно, возвернём, — пообещал Серёга.
— Ежли они не расклёванные, то я согласен. — Борис поднял согнутый цепок.
Зайцы были целыми. Рядом с ними лежали две запасные петли с колышками. Ванько поднял одну, спросил:
— Где вы ухитрились достать такой замечательной проволоки?
— У нас её целый трос от эскиватора, — охотно сообщил Серёга.
— Целый трос! А мы свои знаете из чего, воще, делали?
— Похоже на телефонный провод, скы-ы, Сирёга?
— А как он нам, воще, достался — вы об этом не подумали?
— Мы, может, жизнями рисковали, воруя его у фрицев!
— Боря, много не болтай, — посоветовал Ванько.
— Может, они полицайские сынки, воще…
Такое подозрение пришлось, видимо, ивановцам не по душе.
— Обижаешь, — сказал Серёга.
— Ты, блоха, думай, прежде чем ляпать языком! А то не посмотрю, что с наганом, — пригрозил Рыжий.
— Насколько я понял, мужики вы неплохие, — примирительно сказал Ванько.
— Фрицевские прислужники в постолах да обмотках не ходят. — Он взял в руки изуродованный цип, упёр сгибом в грудь и выровнял. — Неровность дома поправишь кувалдой, — подсказал Рыжему. — Мишок, верни товарищу нож… Всё, что произошло, будем считать досадным недоразумением. Но с вас причитается: вы уделите и нам от вашего троса.
— Штук хотя бы на пятьдесят, — уточнил Борис.
Серёга, все ещё подозрительно, как показалось Мише, присматривавшийся к Ваньку, оставив без ответа и просьбу, и уточнение, задал свой вопрос: — Слушай, тебя, случаем, не Ваня звать?
— Ну, из Вани я уже вырос. Иван — да. А чё?
— Вы во-он с того хутора?
— Это, воще, не имеет значения! — недовольно вмешался Миша. — Ты ответь нащот троса, а опосля знакомься…
— Для меня очень даже имеет… У вас на хуторе есть такая — Шапорина Елизавета Дорофеевна?
— Допустим, что есть. А зачем тебе?
Серёга просиял лицом, схватил его руку и, крепко пожав двумя, сказал взволнованно:
— Значит, это за твои золотые часы мама выкупила батю из концлагеря под Майкопом?
— А, вот в чём дело! Не за мои лично, но дал я… Как он щас?
— Уже почти совсем поправился. Спасибо тебе! — он ещё раз потряс руку.
— Мы собираемся после Нового года прийти к вам в гости.
— Ну и ну, воще! — воскликнул Миша удивлённо. — Надо ж так, воще!..
— А чё мы стоим? — спохватился Борис. — Присядем. — И стал дёргать траву — подмостить под зад.
— Во-он ворона спикировала, — сообщил Миша. — Наверно, ещё один заец.
— Роман, сбегай, пока не раздолбала, — попросил Серёга рыжего, также немало удивлённого случившимся; Миша увязался следом.
Присели, и завязался разговор. Теперь уже чисто приятельский.
— Мама познакомилась с тёть Лизой ещё по дороге туда, на подходе к Майкопу, — стал рассказывать Сергей.
— Да, мы знаем, — подтвердил Ванько. — Это она уже во второй раз ходила.
— И знаете, что её мужа убили при попытке убежать…
— Конешно…
— Так вот она маме сказала, что часы дал ей паренёк по имени Ваня, — продолжал Сергей объяснять, каким образом опознал он Ванька. — И ещё — что этот подросток силач, каких не встретить и среди взрослых. Когда я увидел, что ты сделал с нашим сталистым ципом, то и смекнул, что тот Ваня — ты и есть.
Возвратились Роман с Михаилом.
— Уже и глаз успела выклевать, зараза! — положил до кучи четвёртого зайца.
— Надо бы её пристрелить, воще. Она тут одна такая наглая. Обратно вон кругаля даёт!
— Надо, наверно, допроверить петли, а то мы обошли не все. Вы нас подождете немного?
— Ты, Сирёга, побудь, я обойду один, — предложил Роман. Но, сделав несколько шагов, повернулся и поманил напарника к себе. О чём-то посовещался и побежал в направлении севшей вороны.
— Проволоки мы вам завтра принесём. Не на пятьдесят, а на сто пятьдесят хватит, — пообещал Сергей, вернувшись и обращаясь к Ваньку. — Между прочим, мы и про петли — что вы с их помощью наловчились дармовое мясо добывать — тоже от мамы узнали. Вернее — от тёть Лизы. Так что и за это спасибо вам.
— Это вот он додумался, — Борис кивнул в сторону Миши. — Мы уже знаешь, скоко их перетаскали!
— И то, что большую половину соседям раздаёте, знаю. Слышь, — обернулся к Ваньку: — Роман попросил узнать… у вас нельзя разжиться такой вот штуковиной? — показал на оттопыренный мишин карман.
— А зачем она вам?
— Ну, не ворон, конешно, стрелять. Грабежами тоже заниматься не собираемся.
— А что предложишь взамен? — прищурился обладатель «штуковины».
— Взамен?.. Есть у нас автомат пэпэша. Он, конешно, тоже вещь. Но больно громоздкий. Хочется что-то поудобней.
— А патроны к автомату имеются? — поинтересовался Миша.
— Два полных диска!
— Автомат где раздобыли? — спросил Ванько.
— В Красном лесу нашли. Ходили хоронить наших, там в августе бои шли сильные… Так как?
Миша посмотрел, что скажет Ванько.
— На твоё, Мишок, усмотрение, — разрешил он.
— Пистолет предложить можем, токо фрицевский. Правда, патронов всего шешнадцать. Согласный?
— Годится. Маловато, конешно, патронов, но для начала хватит.
Пришёл Роман и опять не спустыми руками.
— Рома, договорился: пистолет наш! — обрадовал и его Сергей и продолжил: — Вобщем, мы возвращаем вам должок… выбирайте любых двух. А вот этот, Ваня, тебе лично от меня. Проволока и всё остальное — завтра на этом же месте. На котором мы познакомились и подружились, — пояснил он.
Поблагодарив друг друга, недавние соперники разошлись добрыми приятелями. И те и другие — в приподнятом настроении.
— Я знаете, почему охотно согласился на обмен? — пояснил Миша, едва они отошли от места заключения сделки. — Главным делом потому, воще, что в придачу к автомату они дают аж два магазина, а это по семьдесят два патрона в каждом. А эти пэпэ-эшные патроны подходят к нашему пистолету ТТ.
— Правда? — удивился Борис. — Ты ничего не перепутал?
— Можешь не сумлеваться: я знаю, что говорю. Вот теперь мы душу отведём: выйдем подальше в степь, чтоб не слышно было выстрелов, и вволю потренируемся на меткость попадания. Вань, ты не возражаешь?
— Конешно нет! Уметь метко стрелять — это может пригодиться. И не только теперь: война-то продолжается…
В н о в о г о д н ю ю за полночь Ванько, потревоженный стуком в дверь, был немало удивлён, когда, открыв, снова увидел Рудика. Час тому назад они разошлись по домам и вдруг один из участников новогодней вечеринки, запыхавшись, извиняется за беспокойство…
— Что-нибудь случилось? — встревожился он. — Заходи. Я токо был улёгся!
— Одевайся и идём: тебя хочет видеть тётя.
— Что-нибудь насчёт Андрюхи?..
— По-моему, нет. Я даже не успел расспросить.
Ходики оттиктакивали первые часы января сорок третьего… Если прислали в столь позднее время, значит, и впрямь что-то важное. Ванько мигом собрался, и они побежали.
Морозец крепко подсушил непролазную грязь, бежать по улице было легко.
И дед, и мать Рудика уже, пожалуй, спали, лишь тётя всё ещё сидела за столом одетая, при свете парафиновой свечи, каковыми ребята запаслись недавно в амбаре. Ванько поздоровался, поздравив «с наступившим».
— Спасибо. И тебя также. Садитесь, — предложила Ольга Готлобовна.
Оба молча сели напротив неё.
— Ты помнишь паренька, с которым сидели в изоляторе, а ночью сбежали, — начала она издалека.
— Степу? Конешно! Я недавно с ним виделся.
— Этот пострел снова влип…
— Что вы говорите! За что?
— Вооружились обрезом и удумали освобождать арестованных. Не из каталажки, а уже на выходе из станицы. Они их, правда, всё-таки освободили, но заплатили за это дорогой ценой. Одного мальчишку конвоиры застрелили насмерть и троих схватили, в их числе и Степу. Ранив при этом в ногу.
— Их теперь повесят?
— Гитлеровцы уже избегают расправляться со своими жертвами столь демонстративным способом. Но — хрен редьки не слаще — ребята приговорены к расстрелу.
Ольга Готлобовна заметила, как взбугрились у Ванька желваки и стиснулись кулаки. Ей и самой нелегко было сообщать такие вести.
— Их, конешно, допрашивали, били!..
— Без этого не бывает… Правда, ребята несли всякую околесицу, не назвав ни адресов, ни фамилий соучастников. Но я послала за тобой не только для того, чтобы сообщить об этом несчастье. Этот Степа — он почему-то не грубил мне, как в первый раз и даже назвал по имени-отчеству (она сделала паузу и пристально посмотрела Ваньку в глаза) — так вот он, улучив момент, попросил поставить тебя в известность. Я пообещала.
— Спасибо. Они щас где, пацаны, сёдни их не расстреляют?
— Полагаю, с ё д н и (на этом слове она сделала ударение) они ещё переночуют в изоляторе.
— Представляю, какая там холодина!.. Расстреливают до сих пор за станицей?
— Где-то там… Сначала заставляют вырыть для себя яму, чтобы скрыть следы преступления. Иногда, правда, готовят яму заблаговременно сами.
— Ну что ж, спасибо, что передали Стёпкину просьбу… — Ванько поднялся, чтобы уйти.
— Погоди, — словно бы спохватилась она. — Ты хочешь что-то предпринять?
— Конешно!
— С голыми руками, как они?
— Да нет, мы побогаче: у нас есть автомат и пистолет.
— И как же ты собираешься действовать?
— Обсудим с товарищами. Видимо, будем ждать карателей на месте. Я примерно знаю, где они расстреливают. А днём побываем и уточним всё там.
— И сколько ребят будет участвовать в деле?
— Думаю, хватит троих.
— Пойми меня правильно… но мне бы не хотелось, чтоб одним из них был мой племянник.
— Полностью с вами согласен.
— А я нет! — возразил Рудик твёрдо. — И Федя, и тем более Мишка — они ещё совсем пацаны, и такое ответственное…
— Не горячись, Рудик, и успокойся! Для тебя дело найдётся не менее ответственное, — заметил Ванько и обратился к тётке: — Вы завтра работаете?
— Да, я должна быть на рабочем месте.
— К вам убедительная просьба. Нам будет очень важно знать: к какому времени ждать карателей, сколько их будет, как вооружены… Если вы что-нибудь об этом узнаете, сообщите через Рудика. Где нас найти, он знает. Риску он подвергаться не будет, это я вам обещаю.
— А я постараюсь сделать всё, что в моих возможностях. Что касается Рудика, то я имела в виду не только родственные чувства, хотя, конечно; сердце у меня не каменное… Ведь в случае неудачи, как это случилось со станичными ребятами, может сорваться государственное задание…
— Как раз это я и подразумевал, — вставил Ванько.
— … дело, из-за которого я уже столько вынесла страданий. А в глазах советских людей выгляжу как предательница и продажная тварь. Не говорю о том, что моя работа нужна для скорейшей победы над врагом.
— Вам не позавидуешь, эт точно… Но вот вернутся наши, и тогда люди узнают о вас правду и оценят ваш подвиг по достоинству.
— Об этом, сынок, я пока не думала. Вот и всё. Желаю вам удачи, но вы должны знать: если попадётесь, ничем помочь не смогу.
— Знаю… Но вы не переживайте, всё будет нормально.
О к р а и н н ы е улицы, которыми двое в заячьих треухах осторожно пробирались на другой конец станицы, были пустынны и глухи. Лишь стеклянно похрустывал под ботинками Ванька да постолами Миши трескучий ледок пустых лужиц.
На стук в окно хаты по улице Чапаева долго не обзывались. Значит, подумал Ванько, Рудик с Борисом ещё не пришли, а Елена Сергеевна, похоже, испугалась нежданных гостей, и он позвал:
— Тёть Лена, это я, серёжин друг!
К стеклу приблизилось светлое пятно. Послышалось:
— Сейчас открою, одну минутку.
Хозяйка открыла дверь со словами:
— Заходите, только у меня темно… Что-нибудь случилось?
— С наступившим вас Новым годом! Извините, что так поздно… Но мы не колядовать.
— Ничего, ничего, гостям всегда рады!
— Мы, вобще-то, тёть Лен, не в гости. Рудик ещё не приходил?
— Не было никого. Он разве…
— Скоро должен подойти. Я зажгу лампаду — керосин ещё не кончился?
— Спасибо, ещё много! Так что же случилось? — Волнуясь, она нащупала лампу. — Зажги вот её, светлее будет.
— Случилась, тёть Лена, большая беда… Мой приятель — который Голопупенко, помните? — влип в историю. Сёдни должны вести на расстрел. А мы хотим его, вернее — их: ребят должно быть трое — хотим их спасти.
— Это, должно быть, очень опасно?
— Опасно, конешно… Но мы хорошо вооружены. А вот, кажись, и они! — услышав стук, вышел он открывать.
— 3драсте, тёть Лена! — бодро поздоровался Рудик, поставив у порога сумку.
— Тише, Серёжку разбудите! — цыкнул Ванько; Борис ограничился кивком. — Ну, что у вас?
— Всё ладом, — присев на табурет, стал докладывать тот негромко. — Пацаны живы, не замёрзли и их больше не били. Повезут на машине, выедут к полуночи. Полицаев будет не больше пяти рыл, вооружены винтовками. Это всё, что удалось разузнать.
— Это немало! А в зароях были?
— Обязательно! Борис расположение знает, — ответил Рудик. — Ориентир — дорога в глубь зароев.
— Никого не встретили? В смысле — никто за вами не наблюдал?
— Предосторожность соблюдали, но ничего подозрительного! — заверили разведчики.
— Вы сделали большое дело! Ты, Рудик, можешь возвращаться. Спасибо и привет тётке.
— Можно, я издали понаблюдаю? Или хотя бы здесь подожду, — попросился он.
— И не проси! Мы тебе завтра всё расскажем подробно.
Простившись, Рудик с неохотой ушёл.
Оставшиеся занялись автоматом, доставленным сюда в разобранном виде: протирать от запотения в тепле, приводить в боевую готовность.
Серёжка давно проснулся, но боясь, что мать отправит к бабуле на печь, лежал тихо, не шевелясь и прислушиваясь к разговорам. Когда автомат был готов, он не выдержал — откинул одеяло и хотел свесить ноги.
— Серёжка! ты почему не спишь? — накинулась мать. — Сейчас же под одеяло, не то отправлю на печь!
— Мам!.. Я ж уже взрослый, можно и мне с ними?
— Только тебя там и не хватало! Взрослый нашёлся…
— Думаешь, я просто так? Я приготовил картечи из чугуна. Как из пряща вмажу полицаю по гляделкам, так он сразу ослепнет!
— Картечь, старик, прибереги для кряков на лето. А щас там знаешь, какой морозище — враз простудишься. — Ванько подсел к нему и погладил по вихрам. Сережа, хныча, укрылся с головой.
Ребята засобирались.
— Вы ж обязательно дайте мне знать… А то я до утра глаз не сомкну, — говорила Елена Сергеевна, провожая. — Если, не дай бог, поранят кого, ведите ко мне: у меня тёплый потайной погреб, не найдут и с собаками.
— Зайдём обязательно. Может, будет и раненый. Но вы раньше времени не переживайте, — успокаивал Ванько, прощаясь.
Ночь выдалась тихая и морозная. Полная луна превзошла самоё себя, заливая станицу светом. Выручатели, чтоб не быть замеченными кем бы то ни было, пробирались за околицу только в промежутках, когда щедрое ночное светило перекрывалось медленно плывущими разновеликими облаками. Благо недостатка в них не было.
Выйдя в разведанное место, разделились: Ванько с Борисом, вооружённые автоматом, направились в глубь зароев, куда вела промёрзшая, ухабистая дорога. Миша облюбовал себе секрет в кустах, метрах в десяти от неё.
Морозило крепко, но рукам и ногам не давали застынуть рукавицы и некое подобие унтов, сшитых девчатами из заячьих шкурок. Правда, поверх последних надеты были у Миши постолы, уже порядком задубевшие.
«Скорей бы ехали, что ли, — размышлял он, зевнув. — А то тянут резину — заснуть можно». По поводу предстоящего убийства шофёра — такая поставлена перед ним задача — особенно не переживал. Жутковато, конешно… И даже, пожалуй, жалковато, человек ведь. Не прировнять к воронам, в которых он когда-то пальнул из ружья. Но, опять же, полицаи — это ведь нелюди. Изменники и предатели. Убивают же они, не щадят даже детей. И этих хопцев застрелили бы, не моргнув глазом. Изменив своему народу, поступив в услужение к его врагам, они знали, чем рискуют. Чего ж их жалеть? Кровь за кровь, смерть за смерть!
Так подбадривал он себя, пока его мысли не оборвал шум двигателя, донёсшийся со стороны станицы. Грузовик с крытым кузовом попрыгал по ухабам и остановился, не доехав метров около ста до секрета.
Но и с такого расстояния было хорошо видно, как с кузова спрыгнуло двое полицаев, ещё один вылез из кабины, что-то наказав шофёру. Отвалился задний борт, и с помощью ещё двоих, оставшихся наверху, стали ссаживать арестованных.
Когда борт снова поставили на место, Миша насчитал не восемь человек, как ожидалось, а десять. Семеро взрослых и трое пацанов. «Крепко напугал их Степка со своей командой, — подумал он. — Боятся, гады, как бы обратно не напали… Ничего, патронов у Ванька хватит!»
Однако, когда процессия приблизилась, выяснилось, что полицаев всё-таки пять. Два из них, с винтовками за спиной, лопатой и подборкой на плечах, шли спереди. Позади шкандыбали подростки со связанными назад руками. Одного из них, видимо, Степку, раненного в ногу, поддерживали двое мужиков, явно не полицаев, судя по одежде (один был даже без головного убора). Заключала шествие тройка карателей с винтовками наизготовку.
Из сообщения Ольги Готлобовны было известно, что исполнители приговоров, прежде чем расстрелять, заставляют иногда самих же приговоренных выкопать себе яму. Избитым и, возможно, покалеченным пацанам это вряд ли под силу, подумал Миша. Вот они и прихватили двух мужиков, чтоб не трудиться самим. Но тогда и этих могут расстрелять. Что ж, избавим и их от неминучей смерти!
Проводив взглядом удалявшихся, перенёс наблюдение на грузовик, откуда доносилось негромкое тарахтение. Оно вряд ли заглушит выстрелы в зароях, подумалось ему. А автоматную очередь, даже если шофёр и закимарит, услышит верняк, как говаривал Андрей. Чтобы с перепугу не удрал вместе с машиной, надо подползти ближе, решил он. Воспользовавшись очередным потемнением, приблизился и затаился метрах в шести.
Едва он это сделал, как сюда долетели автоматные очереди. Короткие, но целых четыре. В морозном воздухе они прозвучали излишне громко. Тут же щёлкнула дверца, и шофёр выскочил наружу. С минуту прислушивался. «Что за чёрт!.. — послышалось недоуменное бормотание. — Никак почудилось? Или опять нападение…»
— Нападение, и похлеще первого! — подтвердил Михаил, поднявшись в полный рост. — На этот раз и тебе каюк!
С этими словами он почти в упор разрядил в него пистолет. Тот свалился, не вскрикнув. Подошёл ближе и выстрелил ещё раз — в голову. Сердце заколотилось, хотелось скорее убежать отсюда! Но он пересилил это желание и сделал ещё три выстрела: два по скатам и в радиатор. Заклокотала вода, но мотор продолжал ещё громче тарахтеть, когда Миша наконец припустился в сторону зароев.
Остановился, услышав громкий свист.
— Миша, не стреляй, это я, Борис, — узнал он голос соседа. — Мы расслышали аж пять твоих выстрелов, и Ванько послал узнать, в чём дело, — пояснил он, приблизившись.
— Да я заодно продырявил два колеса и радиатор. А как дела у вас?
— Нормально. Заметили колонну идущих — и за ними. Привели они пацанов к готовой яме. Пока устанавливали на ее краю, причём, не троих, а пятерых человек, Ванько занял удобную позицию. Токо полицаи стали в ряд, чтоб покончить с ними одним залпом, он их метров с десяти четырьмя короткими и уложил! — рассказал очевидец.
— Прям всех насмерть, воще?
— Двое ещё скулили, так он их прикончил прикладом.
— Автомата?
— Да ну! Винтовочным. Потом поотламывал все приклады и побросал в яму. Чтоб мягче лежать.
— Надо было хуть патроны вынуть, — пожалел любитель боеприпасов.
Подошли к месту казни. Ванько с помощью мужчины уже успел загорнуть подборкой сброшенных в яму неудавшихся в этот раз палачей.
— А, и ты, Мишок, здесь! Теперь обсудим, что делать дальше, — подсел он до компании. — Вы станичные? — спросил у помогавшего ему мужика.
— Нет. Мы оба с хутора неподалёку. Степной, може слыхали?
— Туда вам возвращаться, конешно, нельзя?
— Ни в коем случае.
— Тогда сделаем так, — распорядился старшой. — Вы, — показал на стёпиных дружинников, — шпарьте домой. Или к знакомым, если есть надёжные. Заодно и согреетесь. Степку я заберу с собой, он побудет пока в надёжном месте. Вы тоже идёте с нами. А там подумаем, как быть дальше.
Выяснилось, что этих мужчин немцы забрали за два дня до Нового года. А история их вкратце такова: попали в плен, бежали, с трудом добрались к себе домой. Жили, скрываясь, пока какая-то сволочь не настучала фашистам. Их схватили, допрашивали, и хоть никакого преступления установлено за ними не было, тоже приговорили к расстрелу.
К счастью, подоспели выручатели.
Как и намечалось, Рудик остался ночевать у тети. Он должен был известить ее о готовящейся операции по спасению попавших в беду Степана и его сподвижников, на следующий день в обед узнать от нее, как отреагируют фашисты с полицаями, и вечером все доложить ребятам.
В ту же ночь, «пока там не кинулись и не подняли хай», мужиков препроводили на хутор и временно устроили на квартиры — одного у Бориса, другого у андреевой крестной. А по утру, затемно, втроем — к Мише с Борисом присоединился и Ванько — отправились проверять петли и заодно договориться с ивановцами насчет двух квартирантов.
Тут надо пояснить два момента. В знак признательности Мише за пистолет и Ваньку за часы, благодаря которым удалось вызволить из майкопского концлагеря отца Сереги, ивановские зайчатники, как и обещали, снабдили хуторян отличной проволокой от «эскиваторного» троса. Наша ребята тут же изготовили до полусотни ловчих силков и установили неподалеку от ивановцев, но на гораздо большей площади. Это позволяло новым друзьям иногда встречаться и делиться новостями. И еще: последние дни декабря совпали с периодом «заячьих свадеб», отчего косые стали активней шастать по «магистралям», как назвал Михаил их стежки-дорожки, вдоль и поперек проложенные в степных зарослях. В результате уловы, перед этим несколько снизившиеся по сравнению с первоначальными, резко увеличились. Мише с Борисом дважды пришлось делать за добычей по две ходки, и они стали прихватывать в помощники Ванька.
Предусмотрительность и в этот раз была не напрасной: попалось аж двенадцать зайчуганов! Правда, двое из них были живы — то ли петли зашморгнулись под самое утро и они не успели задохнуться, то ли и не пытались вырываться, о чем свидетельствовала также несильно примятая трава вокруг колышков. Борис, вынув их из удавок, определил, что это «девочки», и их решено было отпустить на волю за пределами опасной территории.
— Живите, — сказал он, — да больше не попадайтесь!
— А весной нарожайте побольше зайчат. — добавил, в свою очередь, Михаил вслед задавшим стрекача самочкам.
Когда туман начал рассеиваться, заметили ивановцев и вскоре сошлись вместе.
— Привет! — поздоровался Миша первым. — У вас мешок тоже не пустой. Махнем не глядя?
— Если с Ванькиным — пожалуста! Скы-ы, Сирега?
— Хитрый, воще!.. У вас скоко?
— Сегодня шесть.
— А у нас — токо у Ванька восемь. Да у Бориса два.
— Вы ж старые зайчатники, — заметил Серега.
— Все это — благодаря вам. Еще раз спасибо за проволоку! — поблагодарил Ванько.
— А еще за автоматик, — добавил Миша. — Благодаря его мы седни ночью провернули славное дельце.
И они поведали ивановским друзьям о событиях прошедшей ночи.
— Этих мужиков, — закончил рассказ Ванько, — на хуторе держать опасно. Не приютите ли их денька на три, от силы четыре, у себя в станице?
— Конешно, об чем разговор! Скы-ы, Сирега?
— Почему только на четыре? — поинтересовался его напарник.
— Потом они уйдут. К партизанам, — пояснил Ванько. — Такой шанс имеется. И раз вы не против, то завтра, как начнет темнеть, встречайте нас возле кургана.
— Можешь на нас положиться. — заверил Серега.
— И еще: не одолжите нам одного зайца? Мы хотим штук три-четыре отнести хозяйке, которая ухаживает за нашим раненным товарищем. С харчами сейчас, сам знаешь…
— Не одолжим, а дадим с удовольствием! Скы-ы, Сирега?
— Не одного, а двух или даже трех, — подтвердил тот.
— Спасибо, хватит и одного. Да тройку выделим от своей добычи.
Рудику пришлось еще раз навестить тетку, и мужикам было объяснено, как выйти на партизанскую явку.
В тот же день, но уже потемну, Ванько с Михаилом успели побывать у Елены Сергеевны — к неописуемой радости всех ее домочадцев (кроме разве бабули, которая редко покидала уютное лежбище на печи), и трудно сказать, кто из троих радовался больше. Хозяйка не находила слов для благодарности, принимая гостей около пуда кукурузной дерти «на кашу», четыре замороженных заячьих тушки (одна, правда, предназначалась для степкиных матери, сестренки и деда), а также полдюжины немецких походных свечек из амбара, недавно, как помнит читатель, взорванного изнутри лимонкой. Сережке подарили «годнецкое» кресало, расколотый на части «мыльный» кремень и изрядный клочок ваты, проваренной в растворе подсолнуховой золы, и ему теперь не нужно было что ни день добывать у соседей угольков, чтоб развести огонь в печке. Степка, раненный и к тому же простудившийся накануне, не мог ходить и мучился оттого, что дома, возможно, все еще не знают, жив ли, а потому места не находят от горя. Он воспрянул духом, узнав, что их навестят (эту миссию Ванько планировал возложить на сообразительного Михаила, но Елена Сергеевна взяла на себя), все обскажут да еще и угостят зайчатиной.
Подворье Голопупенковых находилось «на край станице», где-то на отшибе, но Ванько, прощаясь с хозяйкой, посоветовал:
— Вы, теть Лена, будьте осторожны: сперва убедитесь, что там нет засады, и только после этого…
— Да уж постараюсь, — пообещала она. — За это можете не беспокоиться.
Н е д е л ю спустя Рудик принес из станицы радостную весть: Красная Армия теснит фашистов уже на подступах к Краснодару. Что это так и есть, подтверждалось заметно усилившейся суетой и беспокойством во вражьем стане.
Вплоть до Нового года оккупанты на хуторе появлялись изредка и не надолго, а уже к середине января почти в каждой второй хате их было по двое и более; при этом хозяйки с детворой вынуждены были довольствоваться кухней либо меньшей по величине комнатой. В большинстве своем непрошенными постояльцами являлись поляки, бельгийцы и румыны; в хате, ранее принадлежавшей Андрею, их поселилось не менее пятнадцати человек.
Вместе с разношерстной солдатней прибыла и техника — автомашины с походными кухнями на прицепе или пушками, а тягачи притащили несколько длинноствольных, видимо — дальнобойных, орудий. Одно из них установили в невысоком кустарнике на юговосточной окраине Дальнего. Из него по нескольку раз в сутки стали палить куда-то в сторону Краснодара. Ухало так, что в ближних хатах позвякивали стекла в окнах.
Эти пушкари оказались нестрогими, и пацанва помельче приходила глазеть. Интересно было наблюдать сблизка, как обслуга, подтащив ящик (штабелек из них находился метрах в двадцати от орудия), доставали из него большущий «патрон» со снарядом, заталкивали его в ствол, захлопывали, словно дверцей, затвором и, отбежав и заткнув уши, дергали за веревку. Кто из пацанов не успевал прикрыть ладонями свои, в голове долго звенело.
Пару раз наведался сюда и Михаил. Он обратил внимание, что и пушка, и склад с боеприпасом в перерывах между стрельбой оставляли без охраны. Ему страсть как хотелось обзавестись хоть одним снарядом, и он сказал об этом Ваньку:
— Слышь, Вань, давай один сопрем. Разрядим — знаешь, скоко там пороху!
— А что, это идея! Они в ящиках?
— Да. По четыре штуки в каждом.
— Вот и сопрем вместе с ящиком.
Сказано — сделано. Подождав, когда орудийный расчет ушел то ли греться, то ли на ужин, под покровом сумерек Ванько взгромоздил на плечо тяжелый, пуда под три, ящик и быстренько переправил в заранее подготовленное место. Извлекли «одну дуру» — снаряд с гильзой имел в длину около полуметра — и, замаскировав остальное, унесли в бесхозный, полуразвалившийся сарай на околице (дверь, стропила и все, что способно гореть, еще осенью они же перетаскали на дрова Вере Шапориной).
Миша, которому больше других не терпелось «раскурочить» приобретение, на следующий день собрал всех пораньше. Ванько, взявшись одной рукой за снаряд, другой — за противоположный конец гильзы, без особого труда, как это не раз делал с винтовочными патронами, расшатал и вынул стальную болванку из сужения. Затем из гильзы извлекли белый, похожий на шелковый, мешочек с порохом толщиной в руку. Но не сыпучим, как предполагалось, а в виде длинных зеленоватых трубочек чуть толще вязальных спиц. И лишь внизу, за перегородкой, обнаружили со стакан обычного, винтовочного, квадратиками.
— Вань, попробуй вывинтить и пистон. — попросил Миша. — Я вот ножницы для этого прихватил.
— А зачем он тебе?
— Тогда из этой дуры можно будет сделать классную мину.
— Ми-ину? Как это? — переспросил Борис с недоверием.
— Поясни, — не понял и Ванько.
— Очень, воще, просто, воще. — Миша взял пустую гильзу в руки и стал пояснять: — В отверстие от пистона вставим несколько порошин…
— А понял! — догадался Борис. — Всыпаем мелкий порох, сверху — длинный, затыкаем снарядом…
— Точно. А к наружным порошинам подводим фитиль…
— Мысля хорошая, — одобрил Ванько. — Ты, Мишок, голова! Но подорвем не склад — грохнет так, что повылетят стекла и на вашем краю. А вот орудие испортить можно запросто.
— Это намного выгодней, — признал и Федя. — Останутся целыми стекла, перестанут бухать под самым ухом, а главное — хоть немного поможем Красной Армии. От этой смертоносной машины не погибнет больше ни один наш боец!
Ну а дальше было и того проще. «Мину» закрепили так, что снаряд разорвался в области замка, раворотив его так, что орудие убирали уже после изгнания оккупантов. Кто и как это сделал, осталось видимо, загадкой и для обслуги. Если, конечно, ее не расстреляли за головотяпство.
К а к уже упоминалось, в андреевой хате, опустевшей после смерти матери, чье больное сердце не выдержало после пропажи сына, поселилась банда румын. Этим дикарям фашисты поручили гонять хуторских женщин на рытье окопов километрах в пяти восточнее хутора. Мало того, что звероватые надсмотрщики обращались с ними по-хамски там, они и здесь вели себя разнузданно.
Врываясь в чье-либо жилье, где не было других постояльцев, в поисках съестного переворачивали все вверх дном, забирали теплые вещи, тащили топливо вплоть до камыша или куги с крыш сараев. Гадили где попало, иной раз испражнялись прямо из окна, выставив оголенную задницу наружу.
Подобные издевательства, глумление и надругательство над жильем друга ребят нервировали и наконец вывели из себя настолько, что они решили найти способ «поджарить этих вшивых мамалыжников». Операцию так и назвали: «Смерть мамалыжникам!» А так как дело предстояло непростое и в случае неудачи чреватое большими неприятностями, Ванько пригласил всех на совет.
— Давайте подумаем, как сделать, чтоб ни на кого не накликать беды, — сказал он. — У кого какие будут предложения? — Ребята переглянулись, но охотника высказаться первым не находилось. — Тогда по порядку. Начнем, Рудик, с тебя…
— Легче всего, думаю, поджечь крышу: она камышовая, почти сухая да и порох как раз подходящий. А если что — подумают, загорелась от искр из дымаря, — предложил тот.
— Нет, это не то, — покрутил головой его ближайший сосед. — Нада, чтоб пожар возник внутри. А так, воще, токо помешаем им выспаться да немного напужаем.
— А на чем они спят? — поинтересовался Борис. — На кровати да андрюшкиной койке много не поместится.
— Я видел, как они заносили сено, — вспомнил Федя. — Большинство, наверно, спят покотом на доливке.
— Сено — это уже лучше! — заметил Борис. — Но проникнуть в комнату незаметно не получится.
— А что если… — Федя несколько секунд помедлил, поскреб в затылке и только после этого закончил: — Что, если предложить им свои услуги?
— Объясни попонятней, воще, — какие такие услуги?
— А вот какие. В балке за хутором нажнем куги… Она легкая, вязанки получатся большие, заметные даже издалека…
— Я понял! — подхватил Борис. — Пройдем мимо хаты или даже присядем отдохнуть…
— У них, я заметил, двое всегда остаются готовить к ужину мамалыгу, — добавил сведений Федя.
— И мы сделаем вид, что хотели променять топливо на это их кукурузное лакомство, — дополнил, в свою очередь, и Борис.
— Держи карман шире! Увидят, отберут и спасиба не скажут, — возразил сосед, но Ванько идею одобрил:
— «Делать вид» — это лишнее. А мысля хорошая. Попробуем, должно получиться.
С тремя вязанками, оставив Мишку и Федю заготавливать топливо впрок, кугоносцы вскоре были у цели. А поскольку румын во дворе не оказалось, сбросив ношу, присели «отдохнуть». Один из поваров вскоре показался, топливо заметил и ускоренным шагом направился к ним. Ребята похватали вязанки, как бы намериваясь уйти, но румын окриком велел им остановиться. Однако повел себя не грубо: «варнякая» на ломанном русском, предложил уступить кугу в обмен на пачку сигарет и полбулки хлеба. Разумеется, предложение было с радостью принято. Более того, за такую плату они пообещали принести еще столько же. За что удостоились похвалы:
— Рус камрад — корошо!
Под вечер «рус камрад» объявились снова. На этот раз вязанки были пообъемистей, особенно у Ванька. «Руссковарнякающий» румын не скрывал своего удовольствия и попросил помочь занести и расстелить кугу поверх порядком слежавшегося сена. Помогая, Ванько с Борисом незаметно в сумерках подмешали прихваченный с собой горючий материал.
Вскоре вернулись с окопов остальные, заметили перемены — хорошо натопленную хату и мягкую постель — и в знак благодарности (а возможно, чтобы заинтересовать и на будущее) пригласили помощников отужинать с ними за компанию. К этому времени Миша с Федей приготовили «мину» с фитилем, рассчитанным минут на пятнадцать тления и оставили в условленном месте во дворе. Когда последние из любителей мамалыги, доев, ушли из кухни в спальню, где многие уже похрапывали, Борис, пожелав «гутен нахт», коснулся кончиком раскуренной сигареты фитиля, убедился, что тот зарозовел, покинул хату.
Пожар вспыхнул в расчетное время. Наблюдавшие с фединого подворья диверсанты видели, как мощное пламя в считанные секунды охватило всю комнату. Сбежавшиеся расквартированные солдаты помочь ничем не смогли. На утро с места пожара увезли пятнадцать обгорелых трупов.
Начальство, похоже, решило, что те погибли из-за собственной небрежности, так как репрессий в отношении хуторян предпринято было никаких.
Это была последняя «операция» пацанов, поскольку вскоре, а именно двенадцатого февраля 1943 года, фашисты были изгнаны даже без боя. По крайней мере, на территории хутора Дальнего.


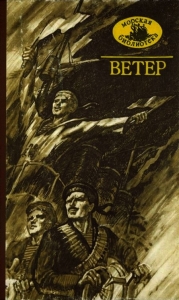

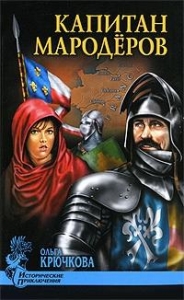

Комментарии к книге «Необыкновенные приключения юных кубанцев», Ольга Репьева
Всего 0 комментариев