Сергей Песецкий ЛЮБОВНИК БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ
KOCHANEK WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY
Piszę, bo pisać muszę. Jest to poprostu mojqpotrzebq organicznq, nieodzownq i niezwalczonq. Przeraźa mię czasem nawał rzeczy, które się (kleks cenzury) na papier — aby (kleks cenzury). Rozsadza to mi umysł. A tymczasem zdrowyrozsqdek kaźe pisać powoli, cierpliwie, planowo, kształcić styl, poznawać język, rozszerzać wiedzę. Jak to trudno bez potrzebnych ksiqźek, w nieodpowiednich warunkach. Jak przykro rozkładaćpracę na miesiqce, lata, gdy się chce jq wykonać zaraz… aby mieć spokój.
Sergiusz PiaseckiЧасть первая ПОД ОБОДАМИ БОЛЬШОЙ КОЛЕСНИЦЫ
На границе дождь умоет, Солнышко обсушит. Лес густой от пули скроет, Ветер шаг приглушит. Из песенки контрабандистов1
Это была моя первая ходка. Шло нас двенадцать: я и еще девять хлопцев под грузом, а вел через границу, машинистом[1] нашим был старый опытный Юзеф Трофида. Приглядывал за товаром еврей Лева Цилиндер. Носки[2] мы тянули легкие, по тридцать фунтов каждая, но уж очень большие. Товар был дорогой: чулки, платочки, перчатки, подтяжки, галстуки, гребни…
Сидели в темноте, в длинном, узком и сыром тоннеле под высокой насыпью. Сверху шла дорога от Ракова к границе, на юго-восток. Позади мигали огни Поморщизны. Впереди ждала граница.
Мы отдыхали перед нею. Укрывшись в тоннеле, хлопцы перекуривали напоследок перед границей, пряча рукавами огоньки папирос. Курили обстоятельно, жадно затягивались. Особо торопливые успели докурить первые и затянули по второй. Сидели вместе, кучкой, упершись в мокрые стенки тоннеля здоровенными, прицепленными ремнями за плечи, будто школьные ранцы, носками.
Я сидел с краю. Рядом со мной, уже в конце тоннеля, маячил на темном фоне неба неясный силуэт Трофиды. Юзеф повернул ко мне бледное пятно лица и прошептал хриплым, простуженным голосом: «За мной смотри… Понял? И того… если нас пугнут, ну… носки не кидай! Тикай с ноской. Большевики сцапают без товара — хана. Шпионом будешь. Загнобят».
Киваю в знак того, что понял.
Через несколько минут пошли дальше — крадучись, гуськом по лугу вдоль русла высохшей речушки. Впереди шел Трофида, останавливаясь время от времени. Тогда останавливались все, вглядывались и вслушивались в темноту вокруг.
Вечер выдался теплый. На черной завесе неба мерцали тусклые звезды. Я старался держаться поближе к проводнику. Ни на что больше не обращая внимания, изо всех сил старался не потерять из виду серое пятно носки на плечах Трофиды: вокруг-то ничего больше не мог различить. Вглядывался что есть мочи, но даже расстояния в темноте прикинуть толком не мог и не раз утыкался грудью в Юзефа.
Впереди блеснул огонек. Трофида стал, я оказался рядом с ним.
— Что такое? — спрашиваю тихо.
— Граница… близко уже… — прошептал он.
К нам подошли еще несколько хлопцев. Остальных не видно было в сумраке. Уселись на мокрой траве. Трофида исчез — пошел разведывать проход. Когда через несколько минут вернулся, сказал тихо и, как мне показалось, весело: «Ну, братва, шуруем дальше! Масалки[3] кемарят себе».
Двинулись дальше. Шли быстро. Мне немного не по себе было, но не боялся вовсе — наверное, и не понимал толком, в какой опасности нахожусь. Здорово все это, азартно даже: темень, мы в ней крадемся таясь, и само слово завораживает — граница!
Вдруг Трофида встал. Я тоже замер. Несколько минут так и стояли, не двигаясь. Наконец, махнул рукой, будто ночь рассек с юга на север, и бросил мне тихо: «Граница». Шагнул вперед. Я поспешил следом, вовсе не чувствуя тяжесть носки. Только и думал, как бы серый прямоугольник Трофидовой носки из виду не потерять.
Пошли медленнее. Мне почудился в том признак новой опасности, но какой именно, понять не мог.
Проводник встал. Долго вслушивался. Потом пошел назад, мимо меня. Я хотел было следом, но Юзеф шепнул: «Жди!» Вскоре вернулся вместе со Щуром, среднего роста, щуплым контрабандистом, очень смелым и ловким. Щур шел без носки — ее взял на время кто-то из ребят. Оба задержались рядом со мной.
— Логом пойдешь, — шептал Трофида. — Речку перейдешь по камням.
— У Кобыльей головы? — спросил Щур.
— Так. На той стороне подождешь.
— Дело, — ответил Щур и скрылся в темноте.
Через минуту двинулись и мы. Трофида выслал Щура как «живца». Когда б попался, должен был или удрать, или, будучи пойманным, такого шороху наделать, чтоб мы все услышали и вовремя удрали.
Переправы всегда отличались опасностью. На них чаще всего устраивали контрабандистам засады. На переправах засесть проще, потому что хороших мест для них мало, пограничники хорошо их знают и частенько стерегут. Конечно, вброд много где перебраться можно, но глубоко заходить и мокрыми идти захочет не каждый. Предпочитали рискнуть и перейти в опасном, но удобном месте.
Мы продрались сквозь широкую полосу густого ивняка у реки, изрядно нашумев. Послышался плеск воды на камнях, и вот мы оказались на обрывистом берегу. Крепко держась за лозовые прутья, я стал рядом с Трофидой. Он лег на берег и начал потихоньку сползать вниз. Через минуту послышался голос, приглушенный плеском воды: «Ползи сюда! Живо!»
Лег и я на берег, спустил ноги вниз, заболтал в воздухе. Трофида помог соскочить вниз. Потом, держа меня за плечо, медленно пошел к другому берегу. Я то и дело поскальзывался на камнях — они ехали под ногой, отскакивали.
Наконец, переправились. Когда стали в кустах лозняка на другом берегу реки, ожидая, пока переправятся остальные, я увидел: из темноты кто-то лезет. От неожиданности чуть не свалился в воду, но Трофида меня удержал:
— Ты что? Это ж свой!
Это был Щур, который, перейдя речушку, отошел на пару сотен шагов от нее и теперь возвращался.
— Все по фарту, — сказал Трофиде. — Можно дальше дыбать.
Когда все переправились, пошли дальше. Двигались теперь быстро, почти не осторожничая.
Тучи чуть разошлись, стало виднее. Теперь почти без усилий я мог разглядеть силуэт идущего впереди. Заметил, что он время от времени сворачивает то в одну, то в другую сторону, но не мог понять зачем.
Мы шли все быстрее и быстрее, я вымотался вконец. Ноги болели. Сапоги мои были дырявые, на переправе попало в них изрядно воды. Охотно бы попросил Трофиду остановиться, передохнуть малость, но стыдился. Только зубы стиснул, пыхтел да в отчаянии переставлял ноги.
Вошли в лес. Темень стала кромешная. Мы лезли на крутые склоны, сползали в овраги. Ноги мои путались в густых зарослях папоротника, цеплялись за кусты, спотыкались о корни деревьев. Я уже будто и не усталость чувствовал, а оцепенение во всем теле. Шел на автомате.
Наконец, выбрались на край огромной поляны. Там Трофида остановился:
— Стоп, хлопцы!
Контрабандисты побросали с плеч носки и полегли наземь, опираясь о них спиной и головой. И я торопливо скинул с плеч широченные, плетеные ремни, да и улегся, как все.
Лежал, глядел вдаль и жадно глотал холодный воздух. В голове была только одна мысль: «Хоть бы повременить чуток, не сразу опять на ноги!»
Трофида придвинулся ко мне.
— Что, Владку, замахался?
— Не… не-а.
— Ну, не надо. Я ж знаю: сначала всем трудно.
— Сапоги у меня никудышние. Ноги болят.
— Сапоги новые купим. Хромовые, на ать-два! Красавец будешь на сто с лишним!
Хлопцы говорили вполголоса, курили.
— Неплохо б заложить, а, хлопцы? — предложил Ванька Большевик.
— Умно! — жадно отозвался Болек Лорд, не пропускавший ни единой возможности выпить.
Послышались хлопки ладоней о донца бутылок. Трофида долго пил водку прямо из горлышка, запрокинув голову. Потом протянул мне наполовину пустую бутылку.
— Давай! Глотни вволю! Сразу полегчает.
Первый раз в жизни я пил водку прямо из бутылки.
— Тяни до конца! — посоветовал Трофида.
Когда я допил, дал мне добрый кусок колбасы. Хлеба вообще не было. Колбаса на вкус казалась — чудо. Я жадно глотал, даже шкурки не снимая. Потом закурил папиросу, показавшуюся необычайно ароматной! Веселей стало. Чувствовал себя превосходно. Водка разошлась огнем по всему телу, прибавила сил.
Отдыхали почти час. Когда двинулись дальше, уже посветлело. Глаза привыкли к сумраку, и я без усилий различал фигуру Трофиды, идущего в нескольких шагах впереди. Идти было легко, усталость прошла. Тревоги никакой вообще не чувствовал. Да и уверен был в нашем машинисте на все сто.
Юзефа Трофиду знали на пограничье как опытного и очень осторожного проводника. Он никогда не рисковал. Шел напролом, на «ура», только если не было другого выхода. Тропы за границу знал как свои пять пальцев и всякий раз их менял. Одной тропой шел к Советам, другой возвращался. С ним хлопцы охотнее всего ходили на «работу», ему купцы давали самый дорогой товар. Считали редкостным везунчиком, но везение его зависело, прежде всего, от его собственной осторожности. Он никогда не сбивался с дороги: самой темной осенней ночью шел по жуткому бездорожью так же уверенно, как днем по хорошо знакомому гостинцу. Направление будто нюхом чуял.
В местечке он был единственным моим знакомым. Когда-то служили вместе в Войске Польском. Встретил его в Вильне, где долго мыкался без работы. Юзеф приезжал туда закупиться. Когда узнал, как мне несладко приходится, предложил ехать с ним в пограничье. Я согласился сразу. Когда приехали в Раков, у него в доме и остановился, вместе с ним пошел на первую «работу». Он сперва не хотел меня брать. Советовал отдохнуть, набраться сил. Но я заупрямился и пошел с ним в ближайшую же ходку.
Группа Трофиды не была постоянной. Кто-то уходил, начиная работать «под своей рукой», сам по себе, а кто-то уходил с другими контрабандистами. Их места занимали новые люди, и работа продолжалась. Трофида обычно вел от семи до двенадцати человек, в зависимости от количества товара, который следовало нести через границу.
Когда увидел Трофиду — почти через два года после службы в войске — едва узнал. Похудевший, загорелый, голову втягивает в плечи, будто удара боится сзади, глаза немного прищуренные. Когда присмотрелся, заметил на лице много морщин. Очень он постарел, хоть всего на пять лет меня старше. Был по-прежнему веселый, пошутить любил, разыграть, но теперь как-то неохотно, словно не по своей воле. Будто думал в это время о другом. Через несколько лет я понял, о чем. Узнал, что именно крылось в глазах, не любящих дневного света.
Шли полями, лугами. Ноги скользили по мокрой траве, соскальзывали с узких меж, вязли в болоте. Шли мы через лес, продирались сквозь кусты, обходили множество препятствий. Некоторые замечали сами, о других знал только Трофида. Временами казалось: все, потерялись, идем наобум, плутаем. Например, уже взбирались в темноте на косогор с белеющей в сумраке березой на самом верху, и вот снова взбираемся по глинистому склону, и снова вверху — береза. Я уже и сказать хотел Юзеку, что плутаем, да все случай не выпадал подойти.
Крадемся вдоль деревушки. В темноте видны контуры сараев. Перелазим через изгороди. Идем по дороге. Из темноты, в нескольких десятках шагов от нас, там и сям светят окошки хат. Стараюсь на свет не смотреть, потому что после мрак густеет и трудно различить силуэт Трофиды.
Вдруг поблизости заливаются лаем собаки. Почуяли нас, хотя ветра нет. Идем быстрее. Ступаем на глинистую проселочную тропку. На ней вязнут подошвы. Каждый шаг дается с усилием. Хочется наклониться и придержать голенища, потому что при каждом шаге сапоги так и норовят слезть с ног. Какой-то пес бежит на нас и аж захлебывается визгливым лаем. Думаю: хорошо, что я не сзади. Через минуту услышал собачий визг — камнем, видать, получил.
Снова тащимся в темноте, бредем по бездорожью. Идем непонятно куда… Внезапно понял, что потерял дорогу, что не вижу перед собой Трофидовой носки. Пошел вперед быстрей — нет его. Повернул влево — нет. Вправо — и там нет. Слышу позади голос Лорда: «Чего крутишься?» Хотел уже закричать, позвать Юзека, но тут кто-то взял меня за плечо.
— Что с тобой? — спросил Трофида.
— Темно. Потерял тебя.
— Сейчас легче будет, — пообещал и пошел вперед.
Теперь и в самом деле идти стало легче. Отчетливо видно маячащее впереди узкое белое пятно. Вспоминаются почему-то порхающие в воздухе голуби. Это Трофида, чтобы облегчить дорогу, высунул из-за воротника куртки кончик белого платка. Теперь я вокруг вовсе ничего не вижу, только белое пятно кружится в ночи: то почти исчезает вдали, то мелькает прямо перед носом.
Действие водки кончилось — чувствую себя усталым донельзя. И сонливость одолевает. Подтягиваю ремни носки да бреду все время вперед, наклонившись, за белым пятном платка на спине Трофиды, уплывающим в бесконечную ночь. Спотыкаюсь, качаюсь вправо, влево, но все же иду, скорее, усилием воли, чем мышц.
2
Через семь часов, считая от пересечения границы, подошли мы к хутору Бомбины. Это была «точка», с которой товары увозили в Минск.
По очереди перелезли через изгородь большого сада и, крадучись, пошли к сараю. Пришлось прикрыться рукой, чтоб ветки не тыкались в лицо. Снова перелезли через забор и оказались у стены сарая. Послышался голос Трофиды: «Лорд, иди-ка глянь, как там в сарае. Мигом!»
Тот прошел мимо нас и исчез за углом постройки. Вскоре послышался скрежеток засова. Лорд вернулся спустя несколько минут и сказал коротко: «Пошли!»
В сарае было тепло, пахло сеном. В сумраке посверкивали заслоняемые ладонями огоньки карманных фонарей. Послышался голос Трофиды: «Носки кидать здесь, в кучу! Хлопцы, живо!»
Со вздохом облегчения я сбросил с плеч невыносимую тяжесть. Подошел к Трофиде и попросил: «Юзек, мне б поспать».
— Ну так залазь на сено и кемарь.
Показал мне на лестницу. Я забрался наверх, содрал с ног сапоги, накрылся курткой и в сене, как в теплой ванне, провалился в глубокий сон.
Проснулся поздно. В сарае царил полумрак. Неподалеку сидели несколько хлопцев. Разговаривали вполголоса. Прислушался: Ванька Большевик рассказывал эротическую историю. Женщины — любимая Ванькина тема. Обычно рассказывал или о Думенко и сменившем его Буденном (потому что служил когда-то в кавалерии Буденного), или про женщин. Слушали его Фелек Маруда, здоровенный мужик в летах, сгорбленный, со сплющенным носом, Юлек Чудило, молодой парнишка с необычайно буйной фантазией (оттого и «чудило») и Славик — маленький, щуплый, всегда улыбчивый. Голосу Славика был на диво красивый, и пел он отменно.
Ванька Большевик, облизывая пухлые губы, рассказывал:
— Баба, говорю вам, хлопцы, как из бетону литая. Нигде не ущипнешь. Леща дашь по… — аж звенит! Бедро зацепишь — искры летят! Э-лек-три-чест-во, о!
— Холера! — выговорил Фелек Маруда.
Юлек только головой крутил и глаза широко открывал.
Рядом из норы в сене, как из-под земли, показался Болек Лорд, сощурился насмешливо. Ванька же, его не видя, заливался дальше: «Тело, скажу вам, хлопцы, ну как алебастр». Чмокает и гладит ладонью воздух.
Тут Болек не выдержал и встрял: «Тьфу, пся крев, алебастер. Пятки в цыпках, навоз меж пальцев, колени как наждак. И смердит от нее на полверсты, а он, тоже мне: алебастер. Тьфу, тьфу!»
— А тебе-то что?
— А ничего! Нашел, тоже мне, слушателей и пошел вешать!
Начали спорить и вовсю костерить друг друга.
Я встал, обул сапоги, подошел к ним. Спросил Славика: «Где Юзек?»
— На хутор пошел.
— Бомбинку нашу навестить, — добавил Лорд.
— Цыцки ей поразмять, — не отстал Ванька Большевик.
— Долго еды не приносят, — сказал неожиданно Фелек Маруда.
— У этого всегда жрачка на уме, — огрызнулся Лорд.
— Рот, что скребок, все подберет, — вставил Щур.
Зажгли папиросы и осторожно, чтобы не зажечь ненароком сено, начали курить. Вскоре повылазила из нор и прочая братия. Потягиваясь и зевая, подсели к нам. Не хватало только жида Левки и Юзека.
Щур достал из кармана колоду и предложил перекинуться в «шестьдесят шесть». Бульдог расстелил на сене свою куртку подкладкой кверху, начали играть. К ним присоединились Мамут и Ванька Большевик. Лорд тем временем принялся важно и серьезно обучать Юлека, как охотиться без ружья на зайца.
— Значит, покупаешь пачку табаку и раненько, пока зайцы спят еще, обходишь поле и на каждом камне сыплешь немножко. Заяц, он с утра проснется, потянется, лапкой за ухом почухает и побежит, как собака, по нужде. К камню подскочит, принюхается, тут-то табак ему в ноздри и залезет. Он, бедняга, как чихнет! Лбом о камень — бац! И на бок. А ты утречком идешь и только собираешь их в мешок.
— Ну врешь!
— Вру? Да под судом мне быть, если вру! А на медведя вовсе по-другому охотятся, и по осени только, когда листва с деревьев опадает. Берешь, значит, ведро клею и идешь в лес, где медведь. Листья клеем смазываешь, а сам в кусты ховаешься. Медведь идет: топ-топ, топ-топ. Листья ему к лапам и приклеиваются. Все больше и больше, в конце концов столько собирается, что он и с места сдвинуться не может. Тогда выходишь из кустов, вяжешь его, на воз — и домой!
— Ну, еще один чудило объявился, — не удержался Щур.
— Не просто чудило, а пан Чудило! — заявил Болек.
— Такой пан на соломе спит и зубами блох ловит!
Опять началась сварка. Но вижу, не по злобе, а так, время убить.
Около полудня в сарай зашел Трофида. Веселый — наверное, уже подпил малость.
— Ну, братва, вали сюда! Сейчас подхарчуемся.
Мы слезли с сеновала на ток.
— Как там товар? — спросил Лорд Юзека.
— Сейчас явятся «носчики». Левка там с ними. Бомбина жратву варганит.
— Как ты, тисканул ее хоть? — спросил Ванька.
— Да на кой мне такая… шалава!
Снаружи послышались шаги, и вскоре в сарай вошла, ступая на удивление легко, рослая крепкая молодка лет тридцати пяти. Вид имела расфранченный и духами от нее пахло на весь сарай. Платье, короткое донельзя, плотно обтягивающее объемистые формы, на ногах — шелковые, телесного цвета чулки.
— День добрый, хлопцы! — объявила зычно и весело, открывая в улыбке ладные белые зубы.
Мы поздоровались. Ванька Большевик подскочил, забрал из рук две большие корзины. Поставил на ток и попробовал обнять молодку шутливо. Та тыцнула кулаком в грудь, да так, что аж с ног полетел.
— О так ему! — похвалил Юзек.
— Что, и самому досталось? — спросил его Щур.
Бомбина рассмеялась. Оглядела нас, посмотрела на меня. Повернулась к Трофиде.
— Этот новенький?
— Так… свой хлопец.
Кивнула и вышла из сарая, нарочито качая бедрами.
— Ну и баба! — сказал Ванька мечтательно. — Прям тюфяк!
— Это ты тюфяк, — отозвался Щур. — А она — кобыла!
Хлопцы разгрузили корзины. Были там большая кастрюля жаренной с салом яичницы, чугун тушеной с мясом капусты, стопка горячих блинов, три буханки хлеба, большой кус грудинки.
Трофида вынул из схрона из угла сарая три фляжки спирту и разбавил его водой из большой дубовой кади, стоявшей у ворот. А Лорд тем временем нарезал своим выкидняком толстые лусты хлеба.
Мы принялись есть и пить водку. Уплетали за обе щеки, как автоматы. Быстрее и больше всех ел Фелек Маруда. Мясо жрал, сопя, чавкая и чмокая, облизывая жирные пальцы то на одной, то на другой руке.
— Вы гляньте, втыкать пошел, — сказал Лорд, обтирая ладонью губы. — Аж за ушами трещит, а нос гопака скачет. До работы так он последний, а жрать — всех впереди.
— Ну дык правильно, — возразил Щур, — работать — это пусть конь. У него башка большая, и ноги четыре, и хвост в придачу, а у Маруды нашего что?
Хлопцы, сытые, один за другим отрывались от еды. Один только Фелек, ни на кого не обращая внимания, трудился, пока не прикончил все съестное без остатка. Болек Лорд начал рассказывать: «Знаете, хлопцы, знавал я бабу, которая каждый день ела яешню аж из тридцати яиц».
— Ну, точно была как наша Бомбина, — буркнул Бульдог, зажигая папиросу.
— …Раз как-то муж ейный решил пошутить и к ее трем десяткам, которые уже на сковородке жарились, добавил три десятка своих. Баба пришла, яешню сняла и принялася жрать. Чуть впихнула всю в себя.
— Холера, и не лопнула! — выдохнул Славик, крутя головой.
— …Съела, значит, и сидит. Сопит как паровоз. А тут соседка приходит, спрашивает, чего красная такая? А она: «Ох, соседушка, или заболела я, или заболею скоро. Яешню из тридцати яточков чуть одолела!»
Хлопцы смеются и, закуривая, начинают рассказывать истории про обжорство. Тут двери сарая снова открылись и вошла Бомбина, изящно неся корзину, полную яблок и слив.
— Держите, хлопцы. Принесла вам погрызть… А накоптили! Смотрите, сарай не спалите!
— Да мы только на току курим. Мы осторожненько, — успокаивает Юзек.
— Ну-ну, смотрите мне!
Подняла руки и, специально выставив объемистые груди, долго поправляла платок на голове. Подпитые хлопцы так и ели ее глазами. А ей и понравилось. Сощурилась, повернулась, прошла туда и сюда, качая бедрами. Потом взяла корзину с огрызками и косточками и вышла из сарая.
Мне показалось, перед уходом она в особенности внимательно посмотрела на меня и улыбнулась. А может, ошибся? Может, та усмешка была для всех нас?
Трофида думал: отоспимся на мелине у Бомбины, а назавтра ввечеру обратно. Однако жиды не привезли из Минска товар для нас, чтобы нести назад, в Польшу. Когда стемнело, пришел Левка. Тер нервно худые ладони, чертыхался: «Холера на них с такой работой! Они думают, мы на поезде ездим!»
Отошли в угол сарая вместе с Трофидой, долго говорили вполголоса. Пару Юзековых фраз я уловил.
— Да мне-то брито-стрижено, с товаром идти или без!.. Деньги на бочку и мне, и хлопцам — и баста. Я за работой не гонюсь… А если крутить будете, так я вам все в печку, и капут!
Так что с сумерками начали мы собираться в дорогу. Левка остался у Бомбины, чтоб приготовить товар на следующий раз. А нам следовало вернуться в Раков и через два дня идти с новой партией товара.
Наконец, двинулись в обратную дорогу. Без тяжести за плечами шлось легко. Трофида сразу припустил. Я только и поспевал за ним, стараясь шагать ровно и широко. Похолодало. В сгустившейся над головой тьме высыпали искристые звезды. Попыхтев малость, я, наконец, пристроился под шаг Трофиды и уже не замечал, как переставляю ноги. Мерность движения, тишина вокруг усыпляли. Время от времени даже забывался, принимался мечтать. Улыбался сам себе, махал руками. Поймал себя на этом и громко рассмеялся. Трофида, не останавливаясь, повернул ко мне голову, спросил тихо:
— Сказал ты чего, нет?
— Не, ничего!
За пять километров от границы сделали привал в густых зарослях под берегом речушки. Водки не было. Закурили осторожно, отдыхали, лежа в густой траве.
Трофида прилег рядом. Долго молчал, потом повернулся ко мне.
— Ты звезды знаешь?
— Звезды? — переспросил я удивленно. — Да нет, не знаю.
— Жалко. Если драпать придется, так знать нужно до границы дорогу. Видишь вон те звезды?
— Которые?
Он указал пальцем: вон, семь больших звезд в северной части неба, ближе к западу. Вместе похожи на контур возка: четыре колеса и вроде дышла спереди. Повел пальцем (мне показалось, чуть не в самые звезды ткнул) — дескать, видишь, наконец?
— Ну, вижу. И что с того?
— Если нас пугнут и разбежимся, то держись так, чтобы те звезды были от тебя по правую руку. Понял? По правую!
— Понял.
Я долго смотрел на те звезды. Красивые они. И так чудно сверкают — разными цветами, множеством диковинных оттенков. И спрашивал себя, дивился: отчего они такие, почему сошлись? Может, как люди, любят друг друга и потому идут вместе по небу? А может, говорят друг с дружкой, подмигивают? Когда лучше к ним присмотрелся, то показалось: все вместе они похожи на лебедя.
Вскоре двинулись снова. Теперь Юзек не торопился. Время от времени останавливался, прислушивался. Тогда остальные останавливались тоже.
Незадолго до полночи вышли к границе. Трофида задержался между столбами. Я подошел к нему.
— Это столбы пограничные, а это, видишь, граница, — сказал тихо.
Я с интересом осмотрел столбы: четырехугольные, вкопанные на небольшеньких холмиках, сверху — номера и государственные знаки. На польском столбе нарисован белый орел на красном поле. На советском — прибита оттиснутая на жестянке пятиконечная звезда с серпом и молотом.
От границы пошли узкой межой к Поморщизне. Когда остановились передохнуть, вдруг услышали сзади придушенный шепоток Славика: «Хло-опцы-ы!» Посмотрели налево и увидели: что-то белое впереди нас движется. Не человек — уж больно малое и трепещет, колышется не по-людски, то взмывает вверх, а то припадает книзу. Будто призрак какой.
У меня аж сердце в груди заколотилось. Подошел к Трофиде.
— Юзя, что это?
— Холера его знает. Может, упырь, а может, бес какой поганый… Говорят, капитанская душа это. Погранцы тоже его боятся.
Позже Юзек рассказал мне такую историю: один капитан русской армии, поляк родом, уехал из России во время революции. Когда большевики забрали власть, вернуться уже не мог, а оставил в Советах жену с дочкой. Хотел их, конечно, забрать и потому приехал в пограничье. Остановился на хуторе под Выгонищами, у крестьян тамошних. Решил жить там, пока жену с дочкой не вытянет с Советов, принялся искать их. В конце концов попросил помощи у местных крестьян — ничего больше не оставалось.
А сын хозяев, взявших капитана на постой, служил когда-то в российской армии и хорошо знал дорогу на Минск. В конце концов согласился помочь капитану вернуть семью в Польшу… Вместе и двинулись в далекий путь. Пришли в Минск, а потом, спустя много времени и после множества приключений, добрались до Нижнего Новгорода, где капитан и оставил родных. Там и узнали, что жена умерла, а дочка Ирина живет у бывшего сторожа тюрьмы, где-то в предместье. Едва сумели ее отыскать, а отыскав, двинулись обратно.
Когда добрались до Москвы, спутник капитана заболел тифом. Забрали его в больницу, там и умер. Капитан же с дочкой сумели добраться до Минска, а оттуда пешком пошли до Ракова. Ночью сбились с пути и близ Великого Села наткнулись у границы на советский патруль. Патрульные хотели их задержать. Капитан решил отбиваться. Убил двоих солдат и бросился убегать вместе с дочкой. Его засыпали пулями и на польскую сторону перешли, догоняя. Капитан сумел отойти шагов на двести от границы и упал на небольшом пригорке, обессиленный. Сумел еще крикнуть дочке: «Убегай!» И, умирая, пока хватило сил и патронов, прикрывал ее.
Труп капитана большевики утащили с пригорка и перетянули на свою сторону. А дочка сумела убежать и отыскать хутор, где жил капитан перед уходом к Советам. И прижилась у крестьян. До сих пор живет. Считают ее ненормальной, но любят, потому что работящая очень и добрая. Пригорок же, на котором погиб капитан, с того времени зовут «Капитанской могилой».
Вскоре у пригорка и на границе близ него стал показываться призрак. Один польский пограничник хотел его подстрелить. Выпалил с карабина пять раз — привидение исчезло. А назавтра солдата разорвало прямо в бараке своей же гранатой. Потом двое местных жохов подстерегли призрак и настрелялись вволю. Через два дня одного подстрелили на границе, а второй вскорости заболел и умер. С тех времен никто больше не охотился на призрака.
Такую историю рассказал мне, вернувшись домой, Юзек. Очень мне стало интересно. Вроде байка байкой, а похоже на правду. Потом мне многие ее подтверждали.
А тогда мы долго стояли в поле, глядя на удаляющийся призрак. Затем очень осторожно перешли гостинец, ведущий к границе, вышли на дорогу от Поморщизны до Ракова и берегом Ислочи медленно пошли к местечку.
У мельницы хлопцы разошлись, каждый в свою сторону, а мы с Юзеком пошли к его дому в Слободке. В саму хату не зашли, чтобы не будить никого, а зашли в сарай и там улеглись на свежем, замечательно пахнущем сене.
3
Утром меня разбудила Янинка, младшая Юзекова сестра. Удивительная девочка: всего дюжина лет от роду, а рассуждала уже, как взрослая. Иногда такое спрашивала, что и ответить не мог.
— Ходьте завтракать, солнце уже давно на небе! — позвала меня.
Попросил, чтобы принесла мыло с полотенцем. Когда принесла, пошел огородами к речке. А она увязалась за мной.
— Иди домой. Я сейчас приду.
— А я тут посижу себе. И смотреть не буду. Мне это вовсе не интересно. Юзек меня никогда не гонит. Нехорошо это, младших гонять.
— Сиди, сиди. Какая же ты еще глупая!
— Ну и хорошо! Если б все умные были, так с ума бы и посходили!
Оставил я ее под вербой и зашел в речку. Выкупался, и пошли мы назад. Янинка семенила рядом. Помолчала немного и говорит:
— Мне Гелька сказала, совсем вы бедный.
— Это отчего?
— Ни мамы у вас нет, ни брата, ни сестры.
— Юзек есть зато.
— Да… а сестры нет!
— Зато ты есть.
Задумалась на минуту.
— Но вы же меня не любите!
— Потому что ты еще маленькая и глупая. Когда вырастешь, влюблюсь в тебя. И не я один, а много хлопцев.
А она вдруг:
— Чхала я на ту любовь!
Наверное, от кого-то из старших девчонок слышала такое.
В доме меня ждала Геля, старшая сестра Янинки, девушка ладная и красивая, блондинка восемнадцати лет — и полная Янинкина противоположность. Та никогда не смеялась, а Геля то и дело расхохатывалась, заливалась аж до слез. И не раз по пустому поводу.
Она принесла мне чай в заварнике, хлеб, масло и деревенского творога.
— Прошу кушать. Я пана ждала-ждала, в сад идти собралась.
— А Юзек где?
— В город пошел. Должен скоро вернуться. Сказал пана не будить. Но как так можно — не есть столько времени!
Вскоре Геля пошла в сад, а я остался в доме с Янинкой. Пью чай, а она забралась с ногами на диван, уселась, оперлась подбородком о ладонь и смотрит прямо в лицо так внимательно.
— Чего глядишь?
— А пан на зайца похож.
— На зайца?!
— На маленького зайчоночка. Я видела, как он капусту ел. Юзек его поймал и принес. Так он мордочкой двигал ну точно как пан. Вот так.
И зашевелила щеками и носом.
— А ты на сороку похожа.
— Да?
— Да. Сорока сядет на забор и головой влево-вправо, влево-вправо. За людьми подсматривает.
— Не, неправда. Она не подсматривает, а «замошляет».
— Что?.. Что замышляет?
— Разные штуки. Я знаю. Я слыхала, сороки друг дружке про людей болтают.
Мама позвала Янинку в кухню, и я остался в большой комнате один. Ходил по ней туда и сюда. Вижу в окно: по всей улице один за другим — крестьянские возы. И вспомнил: сегодня в местечке ярмарка.
Закурил папиросу, уселся у окна в сад, отделенный от дома узким подворьем. Смотрел, как Геля, стоя на приставленной к яблоне лестнице, срывала плоды и клала в большую корзину. Ту держала перед собой, уперев в верхнюю перекладину. Долго за Гелей наблюдал, глядя между цветочных горшков, стоящих на подоконнике.
Послышалось — калитка в воротах открылась. Подумал, это Юзеф домой вернулся. Подошел к окну, выходящему на улицу. Вижу: по двору идет мужчина лет тридцати двух, одетый в темно-синий костюм, лакированные туфли и белую фуражку с лакированным козырьком. В руке держит хлыст и на ходу искусно постукивает им о ноги. Лицо у него на диво правильное, черные усики очень его украшают, но портят быстро бегающие глазки.
Что за щегол?
Не догадывался я тогда, что человек этот сделает много скверного и для меня, и для моих друзей.
Незнакомец с потешным изяществом поклонился Геле, двинув одновременно головой, фуражкой и хлыстом, и сказал ей что-то. Девушка повернулась к нему, улыбаясь, лицо ее засияло радостью… Так мне стало обидно. Я не был влюблен в Гелю, но очень она мне была симпатична — ведь сестра моего друга и такая красивая.
Незнакомец зашел в сад и, став у лестницы, что-то принялся Геле рассказывать. Та смеялась. Кивала головой, украшенной длинной красивой косой, отвечала. «Воркуют голубки», — подумал почти со злостью.
Вдруг увидел: незнакомец поднял руку и провел ладонью Геле по голени. Меня аж в жар бросило. А Геля быстро глянула на окно дома и соскочила с лестницы. Раскраснелась. Сказала что-то быстренько ухажеру. И видно по ней: не слишком она на него разозлилась. Может, выговаривала ему за бестактность… а может, за неосмотрительность? Взяла корзину с яблоками и направилась домой, а ухажер, подбоченившись, с ухмылкой глядел вслед. Потом размашисто рассек воздух хлыстом и направился к воротам.
Я снова начал ходить туда и сюда по комнате. Потом опять выглянул в окно на улицу и увидел: тот же мужчина с хлыстом стоит на другой стороне и разглядывает проезжающие мимо крестьянские возы. Затем я приметил быстро идущего улицей Юзека. Мужчина с хлыстом подошел к нему. Поздоровались, пару минут поговорили. Распрощались. Юзек перешел улицу и пошел домой.
— Уже встал? — спросил, зайдя в комнату.
— Давно уже.
— А я опоздал малость. Хлопот с этими жидами! Чуть выдрал деньги за работу да хлопцам раздал… Назавтра идем снова. Товар уже собирают.
Вынул с кармана два золотых червонца и дал мне.
— Твоих два гузика. Первый заработок… Плюнь на счастье!
Я взял деньги. Один червонец хотел оставить Юзеку, чтоб матери отдал на покупки — ведь я же ел и пил у них в доме. Но тот не взял. Сказал, заработок есть заработок, и никаких тут споров, а за кров и еду поздней рассчитаемся, когда больше заработаю.
Позже я спросил у Юзека про мужчину с хлыстом. Юзек рассмеялся.
— То, братку, кадр еще тот. Откуда его знаешь?
— Да не знаю его вовсе. Видел только, как он с тобой говорил.
— Гелькин нареченный. Я его не перевариваю, а вот Гелька втрескалась. Что с бабой поделаешь?.. Зовут Альфред Алинчук. Пять их братьев: Альфред, Альбин, Адольф, Альфонс и Амброзий. Все на «А». И фамилия на «А»: Алинчуки все. Только сами по себе и ходят за границу. Со стволами ходят. Контрабандисты ладные, а вот людишки — никуда. Носы позадирали, на других как на грязь глядят. Изображают знатных панов, а пятки дегтем смердят! У дядьки их смолярня была, а батька ихный упряжью и дегтем торговал… Да холера с ими, пес их нюхай! Пошли на рынок, сапоги тебе купим!
С тем взяли шапки и пошли на улицу.
Пришли на огромную, заставленную возами площадь. Середину ее занимал большой двухэтажный дом, сплошь занятый лавками. И по краям площади чередой тянулись жидовские магазинчики, чайные, ресторации и гостиницы. Рядом с магазинами были прилавки мелких торговцев и сапожников. Мы с Юзеком едва проталкивались сквозь густую толпу.
Над всей площадью безраздельно царил Бахус. Пили тут все. Пили везде. Пили стоя, лежа, сидя. Пили на возах, между возами и под возами. Пили мужчины и женщины. Матери поили маленьких детей, чтобы те радовались кирмашу, поили и младенцев, чтобы не плакали. Видел даже, как пьяный крестьянин задрал коню морду и вливал в конскую глотку самогон из бутыли. Видать, думал уже возвращаться домой и хотел пофорсить быстрой ездой.
Трофида привел меня к прилавку сапожника, поздоровался с хозяином и сказал: «Сапоги надо. Понимаешь, чтоб тип-топ! Первый класс! Золотой товар, золотая работа — для золотого хлопца, ведь за золотом ходит».
— Лады, — согласился хозяин и вместо того, чтобы снимать сапоги с прилавка, достал из-под него коробку. Вынул оттуда пару хромовых сапог.
— Лучших и в Вильне не сделают! Вот только подойдут ли?
Примерил. Оказались чуть великоваты, но Юзек посоветовал тесных не покупать. Зима на носу, и портянки нужно теплые носить.
— Сколько хочешь за штибло? — спросил Юзек.
— Пятнадцать рублей.
Юзек рассмеялся.
— Видишь, Владю, золотое дно: все и везде за золото и доллары. Канада, пся крев! Водки бутылка — серебряный рубль, фляжка спирта — уже золотой, а за колеса[4] с тебя пан мастер пятнадцать золотых крестиков[5] хочет. И так кругом!
В общем, сторговали мы сапоги за десять рублей и доллар. На придачу оставили сапожнику мои старые сапоги.
Юзек, довольный, оглядел мои ноги.
— На ценителя штука, пся крев! У самого короля английского таких нет!.. Может, еще хочешь чего купить?
— Не.
— Ну и лады. Следующий раз такой костюмчик купим, на ять! Как граф будешь, ей-ей! Я уж постараюсь. А сапожки стоит обмыть. На счастье и чтоб носились долго. Ходьма к Гинте!
По пути повстречали двух девчат, не спеша идущих вдоль прилавков. Девчата грызли семечки, сплевывали наземь. Одна была в красном платье, с зеленым платком на голове. Вторая — в зеленом платье и желтом платке. В руках несли большие кожаные сумки, сверкающие никелем замочков. На нас посмотрели дерзко, чуть ли не вызывающе.
— Гельке и Маньке мое наипочтеннейшее почтение! — усмехаясь, поздоровался с ними Юзек.
— Вам того же! — ответила первая.
— И с вазелином, — добавила вторая.
— Кто такие? — спрашиваю Юзека.
— Контрабандистки Гелька Пудель и Маня Дзюньдзя.[6]
— Что, и бабы с контрабандой ходят?
— Еще как! Некоторые и получше хлопцев. Но мало их. Во всем местечке десятка не наберется. Ходят те, у кого свояки за границей.
Подошли к ресторации Гинты. Перед входом толпились хлопцы с бутылками в руках и карманах. Из распахнутых настежь дверей валил пар и махорочный дым, слышался многоголосый гомон и пьяные крики.
К нам подошел Щур. Глаза блестят, ухмыляется, показывая меж тонких губ прямые желтоватые зубы. Костистыми холодными пальцами жмет нам руки и, сплевывая сквозь зубы на сапоги проходящих мимо крестьян, спрашивает:
— Что, до Гинтульки?
— Так.
— Ну и я с вами.
Выглядел Щур странно. На голове — большущая мохнатая американская кепи в клетку, на шее — по-апашски повязанный красный платок. Руки всегда держал в карманах штанов. На ходу плечами поводил влево-вправо. Был Щур ростовский бандит с темным и буйным прошлым, с ног до головы в ножевых шрамах, и с ножом не расставался. Не упускал ни единого повода подраться, даже если знал заранее, что проиграет.
Зашли мы на тонущее в грязи подворье и через темные, мерзко смердящие сени прошли в большой зал. Поначалу и разобрать ничего не могли — все тонуло в клубах табачного дыма. Потом увидели столы и сидящих за ними людей. Были то сплошь контрабандисты.
Вдруг в дальнем конце зала заиграли на гармони старый русский марш. Это гармонист Антоний, малорослый человечек неопределенного возраста, с зеленоватым лицом и торчащими во все стороны волосами, приветствовал Трофиду.
— Сервус, хлопцы! — крикнул Трофида, обходя столы и здороваясь с присутствующими.
Антонию кинул золотую пятирублевку.
Гармонист, не прерывая игры, поймал ее в воздухе быстрым движением руки.
— Это за марш тебе!
Я вслед на Юзеком обошел зал, пожимая хлопцам руки. Мамутову руку пожать не смог, в ладони не поместилась, а он мою жать и не стал: видно, повредить боялся.
Контрабандисты составили три стола, расставили бутылки с водкой и пивом, тарелки с колбасой, хлебом и огурцами. Из нашей партии поначалу были только Болек Лорд, Фелек Маруда, Бульдог и Мамут.
Старший за столом был Болек Комета, известный контрабандист, мужчина лет пятидесяти с длинными черными усами. По всему пограничью знали его как отпетого пьянчугу и гуляку. Позже я узнал, что прозвище свое Комета получил он из-за кометы Галлея. Как узнал в 12-м году, что комета к Земле идет и конец света не за горами, по такому важному поводу продал и пропил все хозяйство. Рядом с ним сидел Китайчик, высокий худой хлопец со смуглой кожей и красивыми, чуть узковатыми черными глазами. Остальных я почти не знал.
— Скажу и докажу, — объявил Комета, вытаращив глаза и шевеля усиками, — кто не пьет, тот заживо гниет, а не живет!
— Умно! — подтвердил Лорд, выбив пробки сразу у двух бутылок ударом о колени.
Налил по полстакана водки.
Мамут, бормоча и склонив набок голову, пододвинул стакан к себе и осторожно, будто опасаясь раздавить стекло в руке, выпил. Сопнул, затем подмигнул мне и буркнул невнятное. Я никогда не слышал, чтобы Мамут произнес что-нибудь длинное. Обычно одно, от силы пара слов, а чаще только руками махал да подмигивал.
— Знаете, хлопцы, — отозвался Китайчик, — что мне Фелек Маруда рассказал?
— Придумал, небось, как метлу съесть? — гыркнул Бульдог.
— Не… рассказал, что гусь — самая глупая птица на свете.
— …? — движением ладони и поднятыми вверх бровями спросил Мамут.
— Потому что одного съесть — мало, а двух — уже чересчур. Куры, утки — всегда приспособиться можно. Двух мало — трех съешь, трех мало — четвертого добавишь, а с гусями куда хуже.
— Наверное, ты перепутал, — засомневался Щур, — наверное, про телков он рассказывал, а не про гусей.
Маруда же, не обращая внимания на подначки, управлялся с гусем, похрустывая костями и облизывая пальцы.
Болек Лорд был за хозяина. Приносил из буфета водку и закуски, разливал по стаканам водку и пиво и, как умел, развлекал хлопцев. Не забывал и про музыканта, подносил ему время от времени стопку и закуску. Подходил к Антонию и пел:
Драгоценный пан Антоний Дринькал-тринькал на гармони, Ин-там тирли, ин-там-там, Тарарам, ха-ха!Пан Антоний играть прекращал. Опрокидывал стопку и, опершись локтями на гармонь, начинал закусывать. Похож был на крысеныша, грызущего корку хлеба.
Вечерело. За окнами стало темно. Хлопцы позадергивали шторы. Гинта зажгла висящую под потолком на проволочном подвесе керосиновую лампу.
Пили дальше.
Вдруг Китайчик начал блевать, сперва на стол, потом на пол.
— Эх, наделал собачьей сечки, — вздохнул Лорд, укладывая хлопца на узкий, обитый черной клеенкой диванчик под окном.
— Антоний, похоронную! — скомандовал Щур.
Гармонист заиграл Шопена. Щур наполнил стаканы и крикнул:
— Хлопцы, за здоровье покойничка! Пусть здравствует!
— Умно! — подтвердил Лорд, беря стакан в руку.
Никогда не видел, чтоб пили столько водки. В особенности пили Мамут и Болек Комета. Фелек Маруда с Бульдогом тоже зря времени не теряли. Мы с Юзеком пили меньше всех.
Вдруг заорали сразу в несколько глоток:
— Ура!
— Да здравствует!
— Давай его сюда!
Обернувшись, увидели Славика. Хлопец он был молодой. Улыбался, смутившись от такого шумного приветствия. Пожал всем руки. А Болек Комета тут же и начал просить: «Славику, сердце мое! Спой нам, братеньку, спой!»
Удивительно — горластые, пьяные люди вдруг утихли, и в зале воцарилось молчание. Встревожившись, Гинта приоткрыла двери из соседней комнаты и выглянула, но, убедившись, что все в порядке, скрылась.
Парень постоял минуту неподвижно посреди зала, а потом запел тихим, чуть дрожащим, но потихоньку набирающим силу и чувство голосом песню контрабандистов:
Вышел хлопец до границы, Дивчина в кручине. Ну когда ж он воротится, Что с ним на чужбине?Славик выпрямился, и голос его налился тоской, и нежностью, и неизбывной жальбой. У меня прямо мурашки по спине побежали. И не видел я уже ничего в зале, только удивительные глаза его, и каждым нервом отозвался на терпкую печаль песни.
Когда Славик замолк, все долго сидели тихо. Я посмотрел на Мамута: по его изрытым, серым, будто из камня вытесанным щекам стекали слезы.
— Вот же пся крев, — выдохнул Щур.
— Славичку, дорогой, — Болек Комета протянул к нему руки. — Спой, душа моя, спой еще! Милостью божьей, спой, спой!
— Отдохнуть ему дайте! — сказал Болек. — Эй, Тосик, — обернулся к гармонисту: — Сыграй пока нам «Дунайские волны»!
Антоний заиграл вальс, а Лорд усадил Славика за стол, налил водки. Я смотрел. Какой все-таки детский у него взгляд! Чуть улыбается. Ни дать ни взять — переодетый королевич, а не простой пограничный хабарник. И подумал: может, у королевича-то какого-нибудь как раз щеки землистые и глаза тупые, и весь он в страшных прыщах.
Чуть позже Славик запел другую пограничную песенку, уже веселей.
— Скажу и докажу вам, хлопцы, — объявил Болек Комета, когда Славик допел, — если снова не выпью, сердце мое сгорит!
— Умно! — похвалил Лорд, наливая стаканы доверху.
И вдруг Мамут вытянул из кармана гимнастерки двадцать долларов и, сопя, сунул в ладонь Славику. Тот глянул недоуменно, кинул деньги на стол.
— Ты что? Чего так? Я и петь не буду, не для того пел!
— Забери деньги! — приказал Трофида. — Это же свой хлопец. Сам фартует. За деньги не поет!
Мамут тяжко поднялся из-за стола. Взял банкноту, вручил гармонисту. Антоний равнодушно сунул деньги в карман и даже не поблагодарил. Ему было все равно. Играл бы и без денег. Лишь бы вокруг были смех и гам, и плескала бы в стаканах водка, и все веселились.
Юзеф захотел идти к купцу и спросил меня:
— Сам домой попадешь?
— Отчего не попасть? Попаду.
— Лады. Ты тут ни за что не должен, я уже заплатил.
Трофида попрощался с коллегами и вышел из нашего «салона».
А веселье все катилось. Я уже был в доску пьяный, радостно мне было, жарко. Пил, ел, смеялся, слушал песни Славика и гармонь. Не помню, как вышел из салона и оказался на улице.
Брел по каким-то закоулкам, шлепал по вязкой грязи. Вдруг впереди послышался истошный вопль. В падающем из окна свете увидел дерущихся в нескольких шагах от меня людей.
Трое лупят четвертого, а тот уже на земле и отбивается из последних сил. Не думая, я прыгнул вперед. Одного сшиб с ходу, второму кулаком хряснул в лицо так, что тот зашатался да и шлепнулся ничком в болото. Третий, пьяный, кинулся на меня. Свалил. Принялся кусать. Я ему кулаком по голове. Отпустил. Я вскочил, готовый драться, хоть сам едва стоял на ногах и почти не понимал, что вокруг делается. Начал блевать. Почувствовал: кто-то меня под руку взял, поддерживает, ведет. Был это тот, кому я помог. Спрашивал что-то, но я ничего понять не мог.
Помню, лицо мне вытирали мокрым полотенцем. Лица незнакомые надо мной. Потом я вовсе обеспамятел.
Проснулся рано утром в незнакомом доме. Никак понять не мог, где я. Спросил громко: «Есть кто дома?»
В дверях в кухню показалась смешная круглая голова, вовсе без усов, изведенных, должно быть, какой-то накожной хворью.
— Пан вчера такой был пьяный! Ничего не понимал, — произнес, подходя ко мне, незнакомый жид.
— А как я сюда попал?
— Я привел. Пан, наверное, приезжий — я пана не знаю. Меня бандиты вчера ночью убить хотели, а пан меня спас.
— Я в Слободке живу, у Трофиды.
— Пан — коллега Юзефа?
— Так!
— О, пан Юзеф — порядочнейший человек! Золотой человек! Ай, что за человек! Ай-яй! А меня Еся зовут, и я тут живу.
Я чуть не рассмеялся, глядя на потешные жидовские ужимки.
Когда умылся, Еся попросил разделить с ним еду. Пришлось согласиться. Еся поставил на стол бутылку пейсаховки и вынул из шкафчика фаршированную щуку. Из кухни пришла его жена, молодая и очень красивая жидовка с малышом на руках. Заговорили. Жена тоже поблагодарила за спасение Еси.
— А с чего они? — спрашиваю.
— В карты играли. Я у них выиграл. На фарт играл, никого не обманывал, — поведал мне жид. — Они деньги отобрать захотели. Если б трезвые были, не стали бы. А так ведь и убить могли!
Еся показал мне шишки на голове, синяки на руках и шее.
Когда я уже выходил, Еся вышел за мной в сени.
— Если пану нужно чего уладить будет, приходите! Я все сделаю!
— А чем пан занимается? — спрашиваю у него.
Он усмехнулся, положил мне руку на плечо и говорит: «Пусть пан спросит у Юзефа Трофиды: чем занимается Еся Гусятник. Пан Юзеф расскажет… Счастливой дороги!»
От Юзефа я узнал: Гусятник этот — профессиональный бандит.
— Известный был тип, — рассказал Трофида, — но влюбился, женился и утихомирился. Сейчас, большей частью, картами пробавляется. Шулер.
4
Первая моя встреча с королем границы и контрабандистов Сашкой Веблиным произошла необычно — среди его королевства, на границе.
Шел я уже четвертый раз с партией Трофиды. Через границу перебрались в районе Ольшинки. Темная выдалась ночь. Южный край неба обложило тучами. Западный ветер дул прямо в лицо, идти было трудно.
Шел я снова за Юзеком. Перед выходом из приграничной мелины, где спрятали носки, выпили по полфляжки водки. Потому было тепло и весело. К работе своей привык и уже ее полюбил. Тянула меня дальняя дорога. Тайна, опасность, ночь — все затягивало, влекло. Полюбил я тонкий, пьянящий слушок страха, будоражащий кровь. Полюбил отдых в лесу и дневки на мелинах. Полюбил и собратьев своих по работе, и простое, громкое веселье вместе с ними.
Несколько дней назад купил себе новый костюм. Уже обзавелся фонариком и часами. Отправляясь в дорогу, клал в карманы одну или две фляжки со спиртом. Сделался уже завзятым контрабандистом. Фартовал не хуже хлопцев.
Идя за Юзеком, думал о разном. Поспевать за ним уже труда не составляло. И с тяжелыми носками я освоился. Думая, не забывал наземь смотреть да по сторонам и прислушиваться. Спереди же и сзади было кому смотреть, особо головой вертеть не приходилось.
В нескольких шагах от границы зашли в заросли. Послышался тихий плеск воды. Трофида шел очень медленно, часто останавливался. Никогда так не осторожничал. Вдруг стал и очень долго стоял, не двигаясь. Я уже замерзать начал. Наконец, он двинулся вперед. И — начал пятиться. Дошел до меня, схватил за плечо, потянул вниз. Затаились в зарослях.
Перед нами отчетливо плеснула вода — и тут же ночную тишь разодрал выстрел из карабина, и взорвался, покатился страшный голос-рык: «Сто-о-о-ой!»
В ту же минуту бухнули несколько раз из револьверов. Потом снова загрохотали карабины. Сзади топот — побежали. Земля дрожит, кусты хрустят. И — крики, крики: «Сто-ой, стой! Стой!»
Все вокруг будто бурлит. Трудно разобрать, что творится в ночи. Трофида вскочил, потянул меня за плечо, пошел быстро вперед. Я — за ним. Под ногами заплескала вода — уже и выше колен. Стараюсь только Юзека из виду не упустить.
Добрались до поросшего камышом топкого берега речушки. Вылезли из воды. Тут оно и случилось. Передо мной грохнул выстрел, кто-то на меня упал. Да так сильно ударил, падая, что я свалился наземь и скатился в воду. «Носка» меня придавила. Кто-то бежал, разбрызгивая воду, по руслу речушки. Вокруг гремели выстрелы, орали, вопили люди. А я, укрытый обрывистым берегом, сидел в топком иле.
Через несколько минут рядом стихло. Крики и выстрелы отдалились. А я, не торопясь, вылез на берег и пошел в другую сторону, подальше от границы.
Зашел в лес. Идти было трудно. То и дело утыкался в деревья, кусты, бурелом. Куда иду — не знал. Боялся, как бы вот так прямо на погранцов не нарваться.
Присел на поваленной сосне, передохнул как следует. Пошел наощупь, стараясь особо не уклоняться от выбранного направления. Хотел выбраться из лесу.
Наконец, оказался в зарослях кустов на краю леса. Помню: когда шли к границе, ветер в лицо был. Значит, с востока дул. По ветру пойдешь — вернешься за границу. Подумал немного. Не, так куда угодно зайти можно. Ветер-то мог поменяться. Тут одолело меня отчаяние. Сижу беспомощный, потерявшийся в океане тьмы, где на каждом шагу неведомые мне опасности. Повсюду — только и хотят меня сгубить. Если бы Юзек был со мною, мигом бы вывел. Только где он? Может, ищет меня понапрасну?
Вдруг вспомнил, что рассказывал Трофида о звездах, когда впервые возвращались из-за границы. Пошел торопливо вперед, подальше от леса.
Стал посреди поля и посмотрел на небо. Большую его часть закрывали тучи, но на открытом увидел созвездие (как потом узнал от Петруся Философа, созвездие Большой Колесницы, или Большой Медведицы). Семь больших звезд блестели на темном пологе неба. Мне дыхание перехватило от радости. Долго сидел, глядел на них. Вспомнил Юзековы слова: «Если нас пугнут и разбежимся, держись так, чтоб те звезды были по правую руку. Как бы ни шел, всегда выйдешь за границу».
Встал по правую руку от звезд — и чую, ветер в спину. Значит, на запад — правильно!
Пошел потихоньку, не торопясь, чтоб шума не делать и не нарваться ни на что, да и чтоб себя не мучить.
Шел по полям, лугам, пригоркам. Речку перешел. Понятия не имел, где я. Может, еще в Советах? Или уже в Польше? Решил идти, как идется. Лучше к польским погранцам попасться. В Польше за контрабанду, особенно по первому разу, давали куда меньше, чем в Советах. Там отматывали сурово.
В потемках, медленно, шаг за шагом продвигался вперед. Останавливался время от времени, долго прислушивался. Старался разглядеть, что там среди сумрака.
Пришел к подножию пригорка. Забрался наверх. Вспомнил рассказ Юзефа про капитана и призрак. Подумал: «Да это ж, наверное, Капитанская могила!» Значит, я теперь в Польше! Ну, теперь до местечка легче дорогу найти.
Уселся, опершись ноской о склон, и долго смотрел на северо-запад — туда, где сверкала сказочными огнями, раскинулась широко по небу Большая Медведица. Не знал еще ее имени, но уже влюбился в нее. Не мог глаз от нее оторвать.
Долго так сидел, всматриваясь в звезды, и вдруг услышал шорох у подножья пригорка. Встал, подтянул ремни носки, готовясь побежать. Шорох не прекращался. Я сошел вниз и улегся в ложбине. Увидел, как кто-то медленно идет вдоль склона. «Наверное, не погранец, а свой, контрабандист, — подумалось мне. — У погранцов шинели цвета хаки, они ночью светлей лиц. Да к тому же чего так далеко от границы им шлындать? Может, кто из наших? Знакомый?»
Идущий сел. Я увидел его черную, съежившуюся фигуру. Чуть позже различил на плечах серый четырехугольник носки.
Послышался приглушенный вскрик. Человек ругнулся вполголоса. Может, это Юзек?
Долго не думая, позвал:
— Юзек, ты?
Черная фигура вдруг дернулась. С минуту висело молчание, а потом послышалось:
— Кто там? Сюда иди! О холера!
Подошел к сидящему в траве человеку. Наклонился.
— Кто ты? — спросил незнакомец.
— Я? Владек я, Юзефа Трофиды друг.
— Откуда идешь, от красных?
— Не… мы туда шли с товаром. Трофида вел. Погранцы нам кота погнали в Ольшинке.
Услышал задумчивое:
— А, так то вы были!
— Пойдем! — говорю ему.
— Холера, не могу! Ногу вывихнул.
— Лады. Бери мою носку.
Скинул ремни с плеч, бросил носку наземь. Помолчал с минуту, а потом сказал:
— Возьми носку и отнеси на вершину. И свою тоже. Иначе — никак. Потом пошлю за ними. Не бойся, не пропадут!
Я зашел на вершину и положил там обе носки. Вернулся к незнакомцу.
— Сможешь меня до местечка доволочь? — спросил тот хрипло.
— Отчего ж нет? Тут уже можно не торопиться.
Посадил его на закорки да и понес не спеша через поле к Ракову. Седок мой только дорогу указывал: «Вправо! Влево!» Так и шли вперед в ночной темноте. Время от времени он шипел от боли, когда я его встряхивал, чтоб не сползал с плеч, или когда спотыкался.
Добрели до кладбища. Там я малость передохнул и двинулся дальше. Долго шли, замучился я донельзя.
Заулком добрались до большого дома, зашли во двор. Я спустил седока на землю у окна. Он тихонько постучал в раму. Вскоре изнутри послышался недовольный женский голос:
— Кто стучит?
— Открывай, Феля! Живо!
— Сейчас… ну, уже иду!
Внутри большой дом оказался поделенным на две части перегородкой. От правой половины две двери вели в сени и в кухню.
Феля, сестра Сашки Веблина, зажгла керосиновую лампу и плотно прикрыла окна шторами. Когда в светле лампы посмотрел на нее, замер как ударенный. Глаз не мог оторвать. Высокая стройная женщина, лет двадцати восьми. Густые черные волосы вьются, рассыпаясь по плечам. Надела только юбку, на ногах тапочки, но меня вовсе не стеснялась. Суетилась по дому, готовила что-то. Лицо удивительное: матово-бледное, с тонкими чертами, очень правильными. А глаза большие, красоты необыкновенной, и губы сочные такие. Я так и ел глазами ее нагие плечи, тонкую шею. В жизни красивей женщины не видел. Так мне показалось, так тогда думал. И на самом деле — Феля Веблинова считалась наикрасивейшей во всем Ракове. Заглядывались на нее все тамошние хлопцы. А она смеялась над ними, глядела холодно змеиными своими глазами. Странная сила крылась в них. Хотелось смотреть в них — и страшно было, и хотелось отшатнуться. Как от пропасти.
Феля помогла мне уложить Сашку на диване, принялась ножницами вспарывать сапог на правой ноге. А я смотрел за движением ее полных, упругих плеч, зачарованный дерзкой наготой. Она, заметив мой жадный взгляд, кинула ножницы и чуть не крикнула:
— Чего выпялился?! Помогай! Вечно проблемы, холера! Приперлись, тоже мне.
— Эй, ты потише! — глянув зло, процедил Сашка. — А то успокою!
Швырнула ножницы на диван и вышла в соседнюю комнату. Вернулась через минуту, застегивая на груди блузку. Лицо ее сделалось будто незнакомое: глаза холоднее ледышек, губы стиснула.
Когда, наконец, содрали сапог с вывихнутой ноги Сашки, он губы себе до крови искусал. Сказал сестре:
— А ну давай к Живице! Чтоб одна нога здесь, другая там! Пусть сюда бежит. Если нет Живицы дома, беги к Мамуту. И живо!.. Пошла!
Феля, бормоча под нос, надела пальто, накинула на голову большой теплый платок. Вышла, лязгнувши дверью.
— Вот змея, пся крев! — буркнул Сашка, осматривая ногу.
Та была вывихнута в суставе и сильно распухла.
Сашка Веблин был лучшим контрабандистом на всем пограничье от Радошкович до Столбцов. Отличный проводник, границу и пограничье с той и с другой стороны знал досконально, но и купцы, и многие хлопцы его сторонились. Побаивались его диковатой, бесшабашной отваги и склонности к странным, зачастую рискованным делам. Врагов и в местечке, и на пограничье у него хватало. Боялись его, завидовали и уважали — как настоящего короля контрабанды. Имел и преданных друзей, любивших его за храбрость, за щедрость, за то, что жил на широкую ногу и ничего не жалел, за предприимчивость и за самую его странность. Ближайшим его другом был Живица, сильнейший человек на пограничье и полная Сашкина противоположность. Я не раз удивлялся: что же объединило таких разных людей?
Было Сашке тридцать пять от роду. Высокий, щуплый. Ходил, чуть наклоняясь вперед. Глаза серые, всегда чуть прищуренные, и взгляд такой странный, что лучше в глаза и не заглядывать. Шутить любил, часто смеялся, но смеялось только лицо. Глаза оставались ледяными. И улыбка казалась гримасой.
Сашка иногда добывал большие деньги. Но проматывал их так умело, что вскоре оставался ни с чем. Никто так не играл в карты, никто не бросал столько денег на женщин. И никто его не перепивал.
Когда я остался один на один с Сашкой, тот, глядя на опухшую ногу, долго молчал, усмехался чему-то, а потом сказал:
— Да, фарт наш то вверх, то вниз, то в глаза плюнет, то под дых даст.
— Так, — согласился я.
— Это ж Юзековым погнали кота в Ольшинке? — спросил через минуту.
— Им самым.
— Сколько вас было? Десять?
— Одиннадцать.
Покачал головой.
— Все ли вернутся… Погранцы часто палили.
— Кто-то по ним тоже палил.
Глянул на меня.
— Говоришь, по ним тоже кто-то пальнул из пушки?
— Так.
— Хорошо. Слишком уж осмелели, гады! Забыли уже, что такое граница и кто на ней фартует. Охотятся, как на зайцев!
Не совсем я его тогда понял.
Вскоре вернулась Феля, а за ней в комнату зашел здоровенный парень лет тридцати. Хоть одет был в просторный черный костюм, под тканью угадывались налитые мышцы.
Был то знаменитый контрабандист Живица, в ходку бравший сразу по три носки. Мамут был почти такой же сильный, но неуклюжий, а Живица, хоть и кряжистый, и тяжелый, был очень ловким. Рассказывали мне: как-то по пьяни поспорил Живица с Юрлиным, богатым машинистом, что пронесет коня от улицы Виленской до дома своей матери на Минской улице. Если пронесет, то коня заберет, если нет — отдаст Юрлину пятьдесят рублей золотом. Коню связали передние и задние ноги, Живица влез под него и легко поднял. И понес. Слегка наклонившись, придерживая веревки, которыми конские ноги были связаны, неторопливо шел по улице. Пронес большую часть пути, но на рынке конь вдруг задрыгался и оба свалились наземь. Живица проиграл, но мог бы и выиграть. Он играючи ломал подковы и гнул серебряные рубли.
Вот такого человека увидел я перед собой. И смотрел на его добродушное лицо, на дружелюбные детские глаза под широкими густыми бровями. Улыбка такая приятная, светлая. Когда улыбался, трудно было не улыбнуться в ответ. Я заметил, что говорить складно он затрудняется, и припомнил Мамута, который и вовсе говорить не любил и объяснялся жестами.
Живица подошел к дивану и, видимо тревожась, спросил басовитым шепотом:
— Ну и что? Что такое, а?
— Ничего особенного. Ногу себе вывихнул. Шухер был… Дали там жару. В Ольшинке погранцы устерегли. Хай подняли до холеры!.. Драпал да через пень полетел. Вот он меня до хаты притащил. Не знаю, сам приполз бы или нет.
Сашка кивнул в мою сторону. Живица глянул весело, стиснул мне руку в локте аж до боли и кивнул.
— Ну, ты жох! Ну, дело!.. Это я понимаю!
Немного позднее Сашка сказал:
— Иди носки забери. Две — мою и его. На Капитанскую могилу иди, там лежат на самом верху. Сюда приволоки.
— Ну, ладно. Сейчас.
Живица вскочил и пошел к дверям.
— Ствол возьми, — посоветовал Сашка. — А ну если кто лапу уже наложил?
Живица задержался на минуту раздумывая, потом махнул рукой, оскалился в усмешке.
— Я ему наложу.
Через час вернулся, принес обе носки. Нес их, вовсе не напрягаясь. Но лицо потное — торопился. Поставил их у порога и присел осторожно на диване рядом с Сашкой.
Фели в комнате не было. Когда пришел Живица, Сашка приказал ей идти спать. Живица смотрел, смотрел мне в глаза, потом выговорил:
— Ты чей?
— Юзефа Трофиды он, со Слободки. Коллега, — ответил за меня Сашка. — Видать, тоже золотой человек.
— Ну и круто, — ответил Живица, шлепая меня ладонью по колену.
— Собери пожевать, — сказал ему Сашка. — Водка, хлеб, колбаса в шкафу, огурцы в миске на полке. С ногой поутру разберемся. Фелька фельдшера позовет. Дотерплю. Уже не болит так сильно.
Живица выставил на стол стаканы и тарелки, потом мы пододвинули стол к дивану. Выпили на троих четыре фляжки водки. Потом Сашка меня спрашивает:
— Что с ноской делать собрался?
— Юзефу отдам. Чужой же товар.
— Товар теперь — твой, понял? Шухер настоящий был. С настоящего никто не отдает… разве дураки только. Пофартило тебе, понял? А жид с того не сдохнет. На раз-два снова поднимется. Зато тебе троху на курево подвалило, сечешь?
— Я Юзефа спрошу.
— Спроси. А носку можешь у меня оставить. Я за границу ее снесу — еще и на том заработаешь. Завтра мне скажешь. Я купца вашего знаю — тот еще жлоб. Счастье его, что с Трофидой работает. Шаленые тысячи сшибает. Когда-то — да два года тому всего — Шломо Бергер лохмотьями да бутылками торговал. А теперь Шломо Бергер гроссе гешефтер — в Вильне лавки открывает, дома покупает!
Смолк. Долго смотрел, задумавшись, в угол комнаты. Наконец сказал:
— Ты иди. А завтра скажешь. Я ж хочу, чтоб ты заработал больше.
Я распрощался с Сашкой и Живицей и пошел к себе.
Юзек еще не спал — окна еще светились. Когда я постучал в двери, сам открыл мне и с радости чуть не задушил обнимаючи.
— Файно, браток! А уже думал всякое, ну, холера! Два часа по пограничью шлындался, тебя искал! Чуть не попался. А тут ты сам!.. Ну, давай, рассказывай, как там было?
Когда рассказал подробно про свои блуждания по лесам, про встречу с Сашкой, да и про остальное, Юзек задумался. Потом сказал:
— Знаешь, браток… хлопцы они файные. Хорошо сделал, что помог ему. Но с Сашкой ты не водись, с ним на всякое лихо нарвешься. Не один уже сгинул, с ним ходивши. Не для тебя эта компания, так вот!
— Они меня совсем и не звали с ними ходить.
— Ну и лады! А с товаром тебе здорово пофартило. Пусть за границей продает. Если сам тут на блат загонишь, много не возьмешь. Сашка в пять раз больше возьмет. Помочь он тебе захотел. Видит, хлопец что надо, ну и решил.
— Так завтра я туда.
— Иди.
— Думаю, товар-то надо отдать.
Юзек только усмехнулся и сказал то самое, что я от Сашки слышал.
— Это ж не агранда,[7] не разыгранный шухер! С того не унесут Бергера черти. За две ходки все с лихвой вернет. А мы подкуемся малость. Кстати, пара хлопцев на самом деле носки кинули. Выпить хочешь?
— Не, пил уже вместе с Сашкой и Живицей.
Помолчав с минуту, Юзеф спросил, усмехаясь:
— Фельку видел?
— Видел.
— Ну, и понравилась?
— Ладная, ну, такая ж ладная!
— Так, так. Девка — загляденье, но такая ж, холера, вредная. Как пойдешь, так смотри, не задурись с ней. Любит она хлопцам головы кружить.
— На меня она и не глянула.
— Она ни на кого не глядит, потому что паскудные у нее глаза-то. Как глянешь — ошалеешь.
Трофида вздохнул и замолк. Может, и сам когда-то в нее влюбился.
Когда спать пошел, долго не мог заснуть. Перед глазами проплывали разные события и люди. Из встревоженной памяти плыли то семь красивых звезд Большой Медведицы, то смешное лицо Еси Гусятника, то поющий Славик, то шутливый Болек Лорд, то играющий на гармони Антоний, то Сашка, то Живица. Но, в конце концов, всех заслонила Феля с красивыми голыми плечами, удивительным, холодным, высокомерным лицом, тонкими волосами… И так приветливо улыбалась мне!
5
Наутро пошел к Сашке. Тот с забинтованной ногой лежал на диване.
— Как здоровье? — спрашиваю его.
— Нормально. Фельдшер приходил, ногу смотрел. Через пару дней смогу ходить.
— Отлично!
— Ну а как тебе с товаром?
— Да все равно. Юзеф говорил, ты лучше разберешься. Только работы не хочу тебе лишней делать.
— Какая там работа?.. Вместе со своим товаром загоню… Недельку подожди. Или тебе сейчас форшмачок нужен?
— Есть у меня троху. Мне хватит.
— Ну и файно!
В комнату вошла Феля — в красивом темно-синем платье, лакированных туфельках. Я поздоровался — и только сейчас заметил, что глаза у нее зеленые.
Начала собирать на стол. Двигалась так грациозно, ловко. Я смотрел с удовольствием. Глянула на меня искоса пару раз.
Потом Сашка спросил ее:
— Пойдешь в костел?
— Как же нет? Пойду.
— Одна?
— А с кем мне?
— Вот, приятель мой тебя проводит. Пойдешь с ней? — спросил меня Сашка.
Я опешил и пробормотал поспешно:
— Конечно, провожу с удовольствием.
Вскоре и вышел вместе с Фелей на улицу. День выдался хороший, к костелу шло много людей. В основном, молодежь. Не знал я, о чем с Фелей говорить. Шли молча. У костела встретило нас много празднично одетых людей. Почти все знали мою спутницу, здоровались: «Мое почтение панне Фелиции! Добрый день, паненку Фельця!»
Увидел пятерых мужчин, стоявших вместе. Все молодые, лет от двадцати пяти до тридцати пяти. Одного узнал — Альфред Алинчук, которого видел в саду вместе с Трофидовой Гелей. Понял: это и есть выводок Алинчуков. Все выфранченные, с шиком: и туфли, и сапоги лакированные, костюмчики, яркие цветастые галстуки, кепи, шляпы. И у всех хлысты в руках.
Когда Альфред Алинчук увидел меня с Фелей, шагнул навстречу, и лицо его сделалось недобрым. Потом скривилось в деланной, натужной улыбке. Альфред поклонился, как когда-то Геле: одновременно и шляпой махнул, и хлыстом, и головой.
— Мое почтение панне Фельце!
Феля кивнула ему приветливо.
— И вам мое почтение!
Повернулась ко мне.
— Я одна пойду. Можете подождать, если есть время и желание. Если нет — то до свидания.
— Я подожду.
— Хорошо.
Она пошла в костел, а я остался прогуливаться поблизости. На ступеньках костела шушукались стайки девчат в цветастых платьях. Хлопцы же, напыжившись, как павлины, вышагивали туда-сюда перед входом, поодиночке и группками, будто вовсе не обращая внимания на девчат — но то и дело поглядывали искоса.
Меня кто-то потянул за рукав. Обернувшись, увидел Лорда. Пожал ему руку.
— Что делаешь тут? — спросил меня.
— Фелю Веблинову жду.
— О! Вот ты с кем спознался!
— Ну да.
— Ну и ну! Моровая шмара!
Кивнул головой в сторону девчат.
— О, целый табун баб собрался! Всякого цвета и калибра! На любой вкус. Выбирай!
И пошел, теребя английский усик.
А я остался. Прохаживался по улице, то и дело поглядывая на двери костела: когда уже Феля выйдет?
В какой-то момент оказался недалеко от братьев Алинчуков. Альфред загородил дорогу и, топорща узкие брови, глянул мне в лицо. Я хотел оттолкнуть его и пройти, но он спросил:
— Фелю провожаешь?
— Так. А тебе что с того?
— Ты лучше до халупы топай.
— Это почему?
— Я ее провожу.
— А это как она захочет.
Альфред покраснел. Придвинулся и прошипел:
— Поперед батьки не лезь, фраер! А то осажу, не встанешь.
— Попробуй!
Я отступил на шаг. Братья Алинчуки повытягивали руки из карманов. Вдруг один из них зашатался, оттолкнутый, и перед Альфредом встал Щур. Лицом чуть к его лицу не притиснулся, цыкнул прямо в нос, сощурившись. Альфред отшатнулся, кулаки сжал. А Щур медленно так, цедя сквозь зубы:
— Ты, шавка! Чего растявкался?
— Умно, — заметил вовремя подошедший Лорд.
— Видишь того, — Щур кивнул и процедил, ухмыляясь, — жох паря, значит. Молодец.
— Молодец на овец. А на молодца сам овца, — отозвался Болек. — Смотри, Щуре, накидают тебе по полной! Пятеро жиганов таких!
— Они у меня зажиганят, где кура ятко носит, все пятеро. По пысе и в люлю!
— Ну, ты дал! Если Фредя не жох, тогда и курица не птица. То ж такой задира грозный!
— Коровам он хвосты задирал!
Около нас уже собрались зеваки. Бухнуло смехом. Алинчуки пошли прочь из-за ограды на улицу. Боялись ввязываться. Знали: Щур не с кулаками полезет, нож у него в кармане. А тот назойливой мухой все крутился поблизости, рук из карманов не вынимая.
— Ты с Алинчуками поосторожней, — посоветовал Болек. — А в особенности с Альфредом. Дрянь еще та… За Фелькой увивается. Хотел тебя шугануть. Ты железо себе заведи на всякий случай.
Назавтра я последовал совету и купил себе большой выкидняк. Юзек мне его наточил, как бритву — я даже волосы на руках брил.
А когда Феля вышла из костела, домой мы ее проводили вдвоем с Лордом. Пригласила нас зайти. Сашка сидел дома один и явно скучал. Предложил сыграть в тысячу по пять рублей за партию. Играли до ночи. Затем я попрощался с Сашкой и ушел вместе с Лордом. Когда уходили, Феля не вышла попрощаться из своей комнаты.
Вышли как раз под дождь и лютый ветер.
— Холера, погода собачья! — чертыхнулся Лорд.
— Гнусная, — отозвался я.
Побрели узким заулком, увязая в грязи. Лорд приостановился и спросил меня:
— Слушай, а может, до Калишанок сходишь?
— Кто такие?
— Веселые девчата! Ногами зарабатывают… Да тут пару шагов. Пойдем!
Подошли мы к отдельно стоящему дому на краю местечка. Лорд постучал в окно. Из-за него отозвались весело: «И кто там?»
— Я. Моя светлость граф Болеслав с приятелем!
— Ага! Сейчас.
Через минуту вошли в просторную избу, чистую очень, со множеством икон и картинок на стенах. В углу стоял большой стол, застланный голубой скатертью.
— Да здравствует Франка! — завопил Лорд.
Подхватил дивчину, впустившую нас в дом, поднял и так быстро закрутил по залу, что та аж ногами задрыгала и завизжала:
— Пусти, дурило, сейчас как в лоб заеду!
За столом сидел Болек Комета. Лорд, заметив его наконец, руками взмахнул широко и объявил:
— Ну, Владку, точно мы на небо попали! Вон солнце, — и указал на старшую, полную и мощную женщину, — а вон и звездочки, — показал на каждую из трех девчат. Напоследок показал на Болека:
— А вот и комета! Все в комплекте.
Зузя Калишанка, хозяйка дома, собрала на стол. Поставила миску с вареной картошкой — пар с нее валил аж до потолка — и большую мису простокваши.
— О-о, простоквашка с бульбою, объемся! — простонал Лорд, облизывая кончики пальцев. — Как ты на бульбочку. Комета, а?
— Угу, — отозвался тот, уже в доску пьяный.
— Зузенька, сладенькая, мне бы водочки на душу!
— Ага. Чтобы мне тут наделали разгону.
— Ну разве ж ты нас не знаешь, ангел мой? — спросил Лорд медовым голоском.
— То-то, что знаю. Потому и не дам.
Но отпиралась пани Зузя недолго. Принесла бутыль, поставила на стол. Комета оживился и вдруг обрел дар речи:
— Скажу и докажу, хлопцы: нет порядка на свете! — изрек сварливо. — Холера ясная, куда все подевалось? Ни выпить, ни позабавиться. Антония, и того нету.
— Нету. Так обойдешься. В такой компании, — Лорд подмигнул девчатам, — и без музыки хорошо.
Пани Сусанна Калишанка с молодости трудилась, торгуя ласками. Все три ее дочки пошли по той же дорожке. Глядя на них, трудно было поверить, что близкая родня, что мать с дочерьми. Младшая, Олеся, была пухлая блондинка. Средняя, Франка, была шатенка, такая же высокая и крепкая, как мать. А мать была рослой брюнеткой. Несмотря на возраст, Зузя очень неплохо выглядела и «работала» наравне с дочками. У некоторых гостей, в особенности тех, кто постарше, пользовалась даже большим спросом, чем дочки: мастерица была в любовном деле.
В ту ночь переспал я с Олесей. Очень она мне понравилась. Что-то похожее было в ней на сестру Трофиды, Гелю.
А Болек Комета смылся, как только выпили всю водку.
— Мочиморда он, — заключил Болек Лорд. — За водкой на край света потащится.
6
Осень. Золото висит на деревьях. Золото кружится в воздухе. Золото шелестит под ногами. Море золота вокруг.
Мы ходим по золотым коврам. И время то, когда глухие осенние ночи надолго окутывают землю, зовется у нас «золотым».
Граница в это время так и кипит. Группа за группой ночь за ночью идут за нее. Контрабандисты работают на износ. Пропивать заработанное времени почти не остается. Света дневного не видят — днем отсыпаются от ночных трудов.
Я похудел и почернел. Трофида тоже. Но я стал намного сильнее и выносливей чем тогда, когда впервые пошел за границу. Теперь для меня тридцать километров за ночь по оврагам и буеракам с тридцати-, а то и сорокафунтовой ноской за плечами — сущий пустяк. Одиннадцать раз уже ходил за границу. Стреляли в нас несколько раз. Когда впервые услышал свист пуль в темноте, даже весело стало. Знал: попасть в темени трудно, и вовсе за себя не боялся.
Мне казалось: в ночь мы выходим как в море, погружаемся в вязкую темноту. И, как морякам, грозили нам в ночи беды, но мы всегда уходили от них и доплывали до пристани.
Если снять глухой осенней ночью с границы покрывало мрака, увиделись бы повсюду бредущие к границе группы контрабандистов. Идут по трое, пятеро, вдесятером или даже больше. Большие группы проводят знатоки границы и пограничья, искушенные машинисты. Малые идут большей частью на свой страх и риск. Идут и женщины, по нескольку одновременно, чтобы за золото, серебро и доллары купить в Польше товар, который можно с большой выгодой продать в Советах. Есть и вооруженные партии, но их очень мало — контрабандисты оружия не носят. А если кто и берет с собой ствол, то и его бросит, если видит, что поймали их «хамы» — их обрезов контрабандисты боятся больше всего. Со стволами всегда ходят Алинчуки, Сашка да еще некоторые, у кого есть веские причины вооружаться.
Без покрывала темноты открылись бы и хищники пограничья, хлопцы с обрезами, карабинами, револьверами, топорами, вилами и дубинами, выслеживающие добычу. Обнаружились бы время от времени и банды диверсантов, пара-тройка человек, а то и несколько десятков с револьверами, карабинами, иногда даже и с автоматами. А с ними на пару и скамеечники, перегоняющие краденых коней из Советов в Польшу и из Польши к Советам. Наконец, увидели бы и вовсе странную фигуру, пробирающуюся по пограничью, крадущуюся через границу в одиночку. Идет зачастую самыми опасными дорогами с револьверами в руках, гранатами на поясе, со стилетом за голенищем. Это шпион. Старый, опытный, чудом уцелевший после десятков стычек, кому сам черт не брат, безумно смелый пират границы! Боятся его все: и контрабандисты, и погранцы, и агенты всех разведок с контрразведками, и холопы. Контрабандиста схапать всякий мечтает, но на такого дьявола нарваться — Боже пронеси!
Увиделось бы и многое другое. Кое о чем из того речь пойдет дальше.
С некоторых пор подружился я с Петруком Философом. Молодой парень, лет девятнадцати, со странными глазами — задумчивыми, внимательными. Никогда не видел я, чтоб он водку пил или с хлопцами гулял в местечке. Хотя и не отказывался вовсе от водки, но пил только для «разогреву» или чтоб силы подкрепить, а не для забавы. И шутить не любил. Отмалчивался, компанейской беседы сторонился. Когда спрашивали, отвечал обстоятельно, степенно. Я заметил, он даже в дорогу брал с собой книги. Читал, если выдавалась свободная минута. Юлек Чудило всегда поблизости от него держался, разговаривал с ним часто. Я слыхал от хлопцев: Петрук из образованных, а на пограничье осел в двадцатом году. Потерял отца и мать, когда большевики на Варшаву наступали. Жил вместе с Юлеком Чудилой у эмигранта Мужанского. Тот хорошо и не задорого часы чинил, но в местечке считался малость двинутым в уме.
Расскажу подробнее, как подружился я с Петруком Философом. Уже рассказывал я про то, как Юзеф Трофида показал мне на небе семь звезд, не раз помогавших мне найти дорогу из-за границы. Очень привязался я к ним и всегда, когда небо прояснялось, смотрел на них, и так хорошо было, будто в глаза лучшего друга смотрел. И так тоскливо было, когда затягивало небо тучами!
Однажды тихой красивой ночью, когда небо искрилось звездами, заговорил я с Ванькой Большевиком, отдыхавшим рядом со мной, опершись о сброшенную носку. Показал ему семь звезд. А он, когда наконец уразумел, на какие звезды показываю, буркнул:
— Ну, вижу их. И что с того?
— Что рисунок их напоминает?
Большевик долго молчал. Глядел, прищурившись, на небо.
— Это гусь. Толстый гусь с длинной шеей, — выдал, наконец.
Меня аж передернуло. Вдруг заметил, что уши у него гнусно торчат, нос синюшный и длинный, губы грубые и сам он попросту дурак. И мерзко рядом с ним до тошноты. Не стал больше с ним разговаривать.
В другой раз спросил про звезды Фелека Маруду. Тот долго в толк не мог взять, про какие звезды говорю, а когда понял, хмыкнул:
— Ну, вижу. Как сковородка.
Я разозлился. Только ему сковородка со жратвой на уме! Вообще, чего про звезды у тех спрашивать, кто никогда на небо и не глядит и за водкой да жратвой ничего не видит!
Потом, уже через довольно долгое время, захотелось мне спросить о тех звездах Петрука Философа, который мне нравился и видом, и обычаем. Он меня сразу понял и ответил:
— У тех звезд есть свое имя, имя созвездия. Большая Колесница.
— Большая Колесница? — переспросил я радостно.
— Да. Есть еще латинское название — Урса Майор.
— Не понимаю его.
— Это значит — «Большая Медведица». Созвездие так называется.
— Большая Медведица! Большая Медведица! Конечно, лишь ученые люди могли придумать такое красивое название… Большая Медведица! — только и повторял я, удивленный и радостный.
— Пан звездами интересуется? Могу дать книжку по космографии. Там много интересного про звезды.
— Нет, не нужно, — ответил я. — Мне только эти звезды интересные.
С той поры и повелась моя дружба с Петруком Философом и его неразлучным компаньоном Юлеком Чудилой.
7
Сидели мы как-то в амбаре на мелине у Бомбины. Пообедали. Разомлели от еды, и водка настроение подняла. Сидим, курим. Вдруг Юлек Чудило встрепенулся и произнес вдохновенно:
— Читал я вчера, хлопцы, про Орлеанскую деву. Ну, хлопцы, это баба! Ну и баба!
— Ну и чего там, баба эта армянская? — заинтересовался Ванька Большевик. — Здорово давала?
Тут в разговор вступил Петрук Философ. Пришел на помощь другу, кого Ванькин вопрос попросту ошеломил.
— Не давала она вообще! И, как по имени видно, вообще девица была. И называлась не армянская, а Орлеанская, по названию города Орлеана во Франции.
Ванька покачал головой — засомневался.
— Ну, ну! Что-то тут не так. Кто ее там проверял, а? Если девица была, так чего ее целым городом назвали?
Тогда Юлек Чудило принялся рассказывать историю о Жанне д'Арк. Распалился вовсе. А пьяненький ведь. Руками замахал, затрясся весь… Наконец, дошел до того, как ее на костре сожгли. И вдруг — заревел. Никто такого не ожидал. С минуту все молчали, глядя на рыдающего контрабандиста. Потом Ванька хихикнул коротко, как бы вопросительно. Будто на курок нажал — все вдруг и вместе безудержно зареготали.
Юлек перестал плакать. Побледнел. Широко раскрытыми глазами, блестящими от слез, оглядел нас. Встал и выпалил:
— Знаете что? Знаете? Я вам не говорил, но всегда думал, да!.. Сейчас вот прямо скажу: хамы вы, хамы, хамы!.. Нельзя над этим смеяться… Хамы какие. Только Петрук…
— …такой же чокнутый, как и ты, — спокойно добавил Щур, передвигая движением губ папироску из одного угла рта в другой.
— Умно! — подтвердил его вывод Болек Лорд.
Мне стало стыдно — я ведь тоже смеялся над Юлеком. Потом уже внимательней следил за собой, чтобы не обидеть его чем-нибудь.
Вечером в амбар пришел Юзек и сказал мне:
— Пошли, Владку, поможешь мне «перевязки» для баб-носчиц сделать. Товару с трех партий скопилось. Левка с Бомбиной не справляются. Заработаешь так, точно с партией пошел.
Подумал я минуту, встал и пошел вместе с Юзеком из амбара. Пошли стежкой вдоль сада. Издали увидел большую хату, вокруг — прибрано, порядок.
Когда из амбара выходили, Ванька Большевик крикнул:
— Здоровьица-то Бомбине! И вам удачи! — хлопнул в ладоши и кашлянул значительно.
Бомбина нас в сенях встретила. Тут же вместе с нами в дом зашла и начала мне объяснять, торопливо и неестественно как-то:
— Работы столько, а помочь некому. Юзеф вот мне посоветовал пана в работу позвать.
Юзек усмехнулся уголком рта. Заметил я ту усмешку, и стало стыдно мне. Понял: брешут они. А Бомбина все треплется:
— Пан пусть не отказывается. Работа-то — не мешки тягать. Перевязки делаем, чтоб бабам нести. Столько всего уже скопилось. Ну, не могу столько товару держать!
— Чего там, не откажусь. Помогу. Не знаю только, получится ли.
— Это нетрудно. Пан увидит.
Из избы вышли в малую пристройку. Единственное окно закрыто большим женским платком. Над длинным столом горит подвешенная к потолку лампа. Над столом склонился жид Левка. Подле него громоздятся кучи чулок, платков, перчаток, шарфиков, гребешков, бритв, машинок для стрижки, поясков, лакированной, хромовой кожи, шевро…
Завидев нас, жидок выпрямился и потер худые ладони.
— Ну, мне уже с лихвой хватило! Холера на них! А мне с того что? Процентишко никчемный?
Сопнул носом презрительно и снова склонился над столом.
Юзек тоже взялся работать. А Бомбина принялась учить меня «перевязкам». Касалась ладонями моих рук, опиралась о плечо грудью. Ее волосы щекотали мне лицо. Я почти и не понимал, что говорит мне. Она заметила и сказала, улыбнувшись:
— Пусть пан лучше пока чулки складывает. По дюжине в пачку. Больше ничего. Потом научится.
Вскоре Юзеф начал собираться в дорогу. Левка написал и отдал ему ксиву для купца. Юзеф попрощался с Бомбиной и Левкой и говорит мне:
— Выйдем-ка на минутку!
Вышел с ним на двор.
— Это Бомбина просила тебя позвать, — сказал тихо. — Вроде как помочь. Понял? Если не слишком хочешь оставаться, можешь с нами вернуться. Как хочешь, конечно. Но советую остаться. Дело того стоит. Не пожалеешь.
— Как это?
— А так. Или не понял? Старый бык, двадцать три на носу, а ломается, как пятнадцатилетний! Только не проштрафься!
— Чего? А? — спрашиваю недоуменно.
— Да ничего, — ответил Юзеф и скрылся в темноте.
После ухода его сделалось мне тоскливо. Посмотрел на небо, на север. Там и тут в прорехи между тучами выглядывали любопытные звезды. Но Большой Медведицы рассмотреть не смог. Долго стоял неподвижно, слушая собачий лай. Глядя на мигающие в окнах далеких домов огоньки. В соседней деревне залились многоголосо псы. «Наши прошли», — подумал я.
Подул холодный западный ветер. Стало вовсе темно. Я вернулся в дом.
— Где пан ходил? — спросила Бомбина.
— Юзефа проводил.
— Его провожать не нужно. Он и сам куда хошь дойдет. Наверное, мне косточки перемывали.
— Ничего подобного.
Она подмигнула, толкнула меня локтем в бок.
— Уж мне-то не знать! Да я вас как облупленных… Слышала я, о чем вы наедине треплетесь. Но мне какое дело? Меня с того не убудет.
Работали мы часов до десяти. Потом Бомбина пошла готовить для нас еду. Кроме нас, на «черной» половине дома суетились совершенно глухая девка и молчаливый усердный батрак, дальний Бомбинин родственник. Они управлялись по хозяйству, а Бомбина занималась контрабандой.
С Левкой мы не разговаривали, оставшись в комнате один на один, а молча продолжали паковать контрабанду. «Перевязки» делают для девчат, носящих товар от мелины в город. Это вроде огромных двойных безрукавок, от груди аж до бедер — двойные полотняные торбы, которые сверху донизу забивают товаром. Весят такие «перевязки» фунтов двадцать-тридцать. Носчица закрепляет «перевязку» поясками на плечах, сверху надевает кожух и отправляется в дорогу. Глухими дорогами и стежками идет одна или с подругами в город. За сутки носчица делает две-три, иногда даже четыре ходки, зарабатывая от пяти до десяти золотых рублей.
У Бомбины было семь носчиц, сноровистых и никогда не попадавшихся, знавших окрестности как своих пять пальцев. Леса поблизости хватало, всегда можно спрятаться, укрыться. Ходили так надежно, что и темноты часто не ждали, отправлялись днем.
Бомбина позвала нас с Левкой ужинать. Мы закончили с работой и вошли на чистую половину дома. Там стоял накрытый белоснежной скатертью большой стол. Еды было много, но простецкой. Водка — закрашенная каким-то соком. Левка ел мало и неохотно. Сидел задумчивый и, видно, что-то про себя пересчитывал: кривился, морщился, пальцами по столу постукивал. Когда смотрел на его лицо, едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ничего человек не видел и не слышал, только и думал, как деньги делать.
Бомбина все меня угощала, наливала да подкладывала. Сперва пил осторожно, после разогрелся и принялся есть и пить, не сдерживаясь вовсе. Вдруг Бомбина, сидевшая с краю стола, положила ногу мне на колено. Я руку под стол опустил, принялся гладить ее круглую крепкую щиколку. Пробовал забраться и выше, за колено, но не дотянулся. Бомбина раскраснелась, глаза заблестели, улыбалась, показывая красивые зубы, смеялась. Подмигивала мне и, бровью двигая, указала на Левку и показала мне язык. Я расхохотался. Задумчивый жид опомнился и сказал Бомбине:
— Я пойду уже. Спать хочу.
— Ладно, ладно!
Бомбина живо поднялась, взяла с полки карманный фонарик и вышла вместе с Левкой. Проводила его на другую половину дома, к его постели в закутке.
Вскоре вернулась. Замкнула дверь в сени на тяжелый железный засов. Отодвинула занавеску, скрывавшую кровать в углу, поправила подушки, откинула одеяло и принялась стаскивать свитер. Я смотрел на нее.
— Ну, иди! — впервые обратилась ко мне на «ты».
— Лампу гасить?
— Нет, не нужно. Сама потом погашу.
Женщина была роскошная и щедрая. Кровать — чистая, мягкая и теплая. Но мысли мои бежали вслед за группой Юзефа Трофиды, идущей в ночи от опасности к опасности. Хлопцы глядят в темень, торопятся на запад. Ветер свистит в ушах. А могут и пули свистеть. А меня с ними нет.
Наверное, уже миновали Старое Село. Впереди идет широким, уверенным шагом Юзек. Щурится, прислушивается. Принюхивается. За ним тащится с кислой миной Бульдог. За тем тянется понуро, сгорбившись, тяжелоступ Мамут. Дальше вышагивает, вздрагивая, Ванька Большевик, усмехается сам себе. Вспоминает какую-нибудь необыкновенную любовную историю. Жалеет, что рассказать некому. Следом идет, вихляя задом, Щур. Правая рука в кармане, в ней — нож. За ним — Петрук Философ, хмурится, задумался о чем-то. Неподалеку его неразлучный друг Юлек Чудило. Идет легко, весело, будто танцует. Переваливается с ноги на ногу за его спиной жид, присматривающий за товаром, Исак Консул. Втягивает в плечи тонкую шею, глядит с подозрением по сторонам. Леса он не любит, а в особенности продираться сквозь кусты, худшее же для него — вода… Боится. Кто знает, что там прячется по ночному времени, а? За жидом легко семенит Славик, улыбается сам себе. За Славиком распустил усы на ветру Болек Комета. Только и мечтает вернуться в местечко и как следует выпить. Последним тянется Фелек Маруда. На ходу смешно кивает головой взад-вперед, будто кланяется кому. Когда замечает, что отстал, бросается догонять. Нюх имеет собачий, всегда находит хвост партии. Догоняет быстро. Когда, догнав, утыкается в Комету, тот бурчит:
— Тянешься, холера, как вонища за войском. А потом мчишься как ошпаренный!
— Может, куртками поменяемся? — предлагает Маруда. — Еще и доллар дам на придачу.
— Тьфу, сумасшедший! — плюется Комета.
Лежу с закрытыми глазами и думаю о всяком. О Сашке, о гармонисте Антонии, о женщинах: Геле, Олесе Калишанке, Феле Веблиновой… Сравниваю их в мыслях, ищу сходства, отмечаю различия… Вдруг слышу голос Бомбины:
— Подвинься троху!
Перелазит через меня, идет к столу. На ней только сорочка. Сверкает розовым ладным телом. Специально крутится по избе. Залазит на лавку, снимает что-то с полки. Приподымается на цыпочках. Знаю ведь, все за тем, чтобы меня поддразнить. И она знает, что я знаю. Хочется мне выскочить из кровати, на руки ее поднять… и кусать, грызть — или целовать? Ну, смута. Наконец, гасит лампу, идет в кровать.
— У-у, холодища!
И прижимается ко мне горячим упругим телом.
А хлопцы уже, наверное, Смолярню прошли. Череда контрабандистов змейкой вьется через ночь, и каждый думает о своем. Каждый несет в себе множество мыслей. Каждый не там, где его тело, а там, где потерялись его мечты.
Когда наша партия через два дня вернулась, я стыдился выйти к хлопцам. Знал — будут смеяться надо мной. И не ошибся. Когда зашел в амбар, хлопцы заорали:
— Ура!
— Да здравствует!
— Как там Бомбинины сласти?
— Давай про сласти, давай скорей!
Изображаю негодование:
— Отстаньте, хлопцы! При себе держите, кто чего навоображал!
— Не навоображали мы. Знаем. Нас не обманешь!
— Я вас не обманываю. Нечем мне выхваляться! Что мне, как Ванька, вам лапшу вешать?
Негодование мое так хорошо получилось, что всех с толку сбил. Поздней Ванька подошел ко мне, когда поодаль от остальных были, и просит:
— Скажи мне правду, Владку. Никому не открою. Чтоб мне сдохнуть, если хоть кому расскажу!
— Ну чего тебе?
— Правду скажи: красивые у нее цыцки? Про остальное знаю. Сразу видно!
— Знаешь что? — отвечаю ему. — Всегда я думал, глуповат ты. А теперь вижу: вовсе ты дурак. Когда хочешь знать, какие у Бомбины цыцки, так сам и спроси. Может, она расскажет. Или покажет.
Когда в обед до амбара зашла Бомбина, как обычно, весело поздоровалась со всеми хлопцами. Те внимательно наблюдали за ней, за мной. Но она, как всегда шутила и дразнилась. А я — как обычно — молчал. Хлопцы удивлялись. Даже Юзек засомневался. Спросил, когда пошли мы в хату паковать «перевязки»:
— Ну, и как у тебя пошло с Бомбиной?
— Добре.
— Стоило-то, согрешить?
— Сто раз стоило!
— Ну и лады. Помягчеет хоть баба. Видал, какие кошелки жрачки притарабанила!
8
Вторую неделю уже не иду на работу. Несчастье случилось. Разбили нашу группу. Получилось вот как: возвращались мы без товара. Удачно миновали самые опасные места и подходили уже к границе. Вблизи Ольшинки послышались слева от нас выстрелы и крики. Трофида свернул вправо. Подошли к самой границе, но в том месте ее закрывало заграждение из колючей проволоки. Когда пошли вдоль, отыскивая удобное место для перелаза, спереди выскочили красноармейцы. Пришлось удирать в кромешной темноте, пробираться на ощупь.
Остался я один. Далеко удирать не стал. Нарочно лег наземь прямо у изгороди. Когда погоня меня миновала, раздирая одежду, раня руки и ноги, я медленно перебрался на другую сторону заграждения.
Вернувшись домой, Юзека не застал. И утром он не вернулся, а днем я узнал: арестовали его польские погранцы. Застрял он в колючке и выпутаться не смог. Завтра его отошлют в Столбцы, в староство. Юзеф уже второй раз попался и мог получить несколько месяцев за контрабанду. Хорошо хоть, не к большевикам попал. Хуже пришлось Бульдогу с Китайчиком — они на советской стороне попались. Славик говорил, ранили Бульдога или вовсе убили. Бежал за ним, стреляли, Бульдог свалился и застонал. Славик помочь не смог, самому пришлось спасаться. Про Китайчика никто ничего в точности не знал. Наверняка попался в Советах, раз до утра не вернулся и известий никаких.
Болек Комета предложил мне вступить в известную и большую группу Гвоздя — сам с ней начал ходить после провала Трофиды. Но я не хотел пока. Выжидал. Денег хватало. За носку, проданную Сашкой в Советах, получил четыреста двадцать, а со своими набралось за пятьсот рублей. Так что с работой мог повременить.
Болек Лорд сказал мне: хочет новую группу собрать. Сам поведет вместо Трофиды. Уже переговаривал об этом с Бергером.
Я сидел дома. Геля шила на машинке, Янинка, по обыкновению, чего-то болтала, я пил чай. Говорили про Юзека, отправленного под конвоем в Столбцы. Затем открылись двери и в дом зашел Альфред Алинчук. Увидев меня, нахмурился. Видно, не знал до того, что я жил у родных Юзека Трофиды.
Поздоровался с Гелей и Янинкой, потом нерешительно направился ко мне. Руку протянул поздороваться. А я взял в одну руку стакан, а в другую намазанную маслом корку хлеба и сказал, руки ему не подав:
— А, это пан! Не здороваюсь с паном, потому что уже выхожу.
Геля удивленно посмотрела на нас. Янинка сопнула носиком и выдала с необыкновенной важностью:
— Да, так. Чего здороваться, когда тут же и прощаться нужно?.. Я с Гелей никогда не здороваюсь!
Я допил и доел, взял шапку и вышел, оставив Алинчука с Гелей, проводившей меня задумчивым взглядом.
Пошел к Сашке Веблину. Хотел увидеться с Фелей, но ее не застал.
Поздоровался с Сашкой. Тот стоял у стола, доводил на ремне бритву.
— Что хорошего скажешь? — спросил меня.
— Мало хорошего нынче. Юзек попался…
— Знаю, знаю… Хлопцы говорили, Бульдога прикончили, но это неправда. Ногу ему прострелили и в Минск завезли.
— Откуда знаешь?
— Уж я-то знаю.
Сашка перестал доводить бритву. Испробовал ее сперва на пальце, потом на шейных волосах. Затем провел языком вдоль острия, сверху вниз. Должно быть, посчитал достаточно острой — отложил ее и принялся намыливаться.
— За границу не ходишь? — спросил, старательно намыливая помазком лицо.
— Нет.
— Чего нет?
— Не спешу. Бабки есть еще.
— Имеешь право! Навар есть — гуляй, хлопец! Работе — свое время. Если хватать работы не будет, ко мне приходи. А пока — гуляй! От работы, братку, кони дохнут.
Начал бриться, подпирая языком худые щеки.
— Куда идти собрался?
— До Петрука Философа. Книжку он мне обещал. Ну, и заглянул сюда по дороге.
— Ну и файно. Вместе пойдем. Он у часовщика живет, а мне как раз часы чинить…
Снова замолчал, бреясь. Сказал через минуту:
— Ага, вот! Чуть не забыл сказать тебе. В следующее воскресенье у нас будет вечеринка. Так ты приходи, обязательно!
— Приду.
— А я утром еду в Рубежевичи. Работка там подвернулась. Может, больше и не увидимся… до вечеринки.
Когда Сашка выбрился и умылся, пришла Феля — в нарядном темно-зеленом платье, очень красивая. Была в хорошем настроении и поздоровалась со мной доброжелательно. Хотелось с ней остаться, да постыдился признаться Сашке, что вовсе не к Петруку шел. Пришлось попрощаться и пойти вместе с Сашкой.
Шли по Минской. Я заметил: все встречные очень почтительно на Сашку смотрят, оглядываются, взглядами провожают. Мне это нравилось. Наконец, зашли мы в кривой узкий переулок.
Выйдя из-за угла, увидели шевца, лупившего шпандырем парнишку лет десяти. Видно, был пьяный, бил ребенка без жалости. Сашка к шевцу подскочил, отпихнул, вырвал шпандырь.
— За что лупишь?
— А тебе-то что?
— А то! Сейчас сам узнаешь, как оно!
Сашка замахнулся шпандырем на шевца.
— Так он же, холера, лампу разбил!
И показал на валяющиеся осколки стекла.
Сашка сунул руку в карман, вынул пятидолларовую бумажку и, наклонившись над мальчуганом, смотревшим широко раскрытыми глазами за нечаянного защитника, вложил деньги ему в руку.
— Бери, малый! На батьку плюнь. Отдай ему деньги. Пусть десять ламп купит. А как подрастешь, так сам хама лупи! Слышишь: всыпь ему, как он тебе!
Пошли дальше. А шпандырь Сашка в лужу бросил.
Мы зашли в большую, светлую, выбеленную известкой избу. На стенах висело множество ходиков, а у окна сидел маленький лысый человечек и что-то делал, склонившись над столом, где лежало множество часов и приспособлений для их починки.
Я увидел сидевших за длинным столом Петрука и Юлека. Юлек писал в тетради, а Петрук смотрел ему через плечо и поправлял.
Мы поздоровались. Сашка показал Мужанскому часы. Тот осмотрел их внимательно и заключил:
— Отличная штука! Дорогая… Запущенная немножко. Чистить нужно.
— И когда пан сможет их почистить?
— Сегодня не смогу, много работы. Наверное, завтра.
— До полудня.
— Хорошо, в десять часов.
Условились о цене, и Сашка отправился восвояси.
— Что слышно, хлопцы? — спрашиваю у Петрука с Юлеком.
— Сегодня на работу идем, — ответил Юлек.
— С кем?
— Мамут идет, Славик и мы.
— Кто проводник?
— Мамут. Он хорошо пути здешние знает. Когда-то сам по себе ходил, спирт носил.
— Чей товар?
— Наш. Под своей рукой идем.
— Ваш?
— Наш, говорю. Спирт понесем. Больше заработаем, чем у жида. Может, и ты хочешь с нами?
С минуту я поколебался.
— Пойдем! — повторил Юлек. — Нам веселей будет. И заработаешь.
— Но у меня спирта нету.
— И у нас нету. Мы Мамута ждем. Пойдем тогда к Серому за спиртом.
Через четверть часа явился Мамут, а следом за ним — Славик. Мамут нам кивнул и уселся на лавке у стены.
— Он тоже с нами, — сказал ему Юлек.
Мамут долго на меня смотрел, потом с очевидным усилием выговорил:
— Так что теперь?
— Теперь сто фляжек возьмем, — терпеливо пояснил Юлек. — Сейчас и пойдем.
Взяли торбы и вместе со Славиком вышли. Вернулись через час. Вынули из торб и выставили на кресле бутылки. Я посчитал — сто пятнадцать.
— Больше ведь, чем нужно, — говорю Юлеку.
— А Мамут тридцать возьмет. Еще пять — нам на сугрев.
Начали собираться. Сперва выставляем на стол по двадцать бутылок. Пробки вынимаем и доливаем спиртом доверху, чтобы стекла меньше нести и не булькало на ходу. Пакуем пять удобных носок, где бутылки переложены толстым фетром и сеном. Паковкой заправлял Мамут со сноровкой профессионального «спиртоноса».
Дождались вечера. Дорога предстояла очень дальняя — аж до минского предместья — и выходить следовало как можно раньше.
Во втором часу с востока потянулись серые тучи и закрыли все небо. Пошел косой дождь, забарабанил по окнам. Становилось все темнее и темнее. Мамут радостно потирал ладони. Такая погода хоть и сильно затрудняла дорогу, давала почти абсолютную гарантию безопасности.
Когда начало смеркаться, мы поужинали и выпили фляжку разбавленного спирта. Взяли носки. Мужанский, маленький, смешной, глядел на нас добрыми голубыми глазами, пожал нам руки.
— Желаю вам, Панове, удачи! Не марудьте там, возвращайтесь скорее! Мне без вас грустно.
Вышли. Двигались очень медленно, тыкаясь, запинаясь и обходя невидные в темноте преграды, стараясь приучить глаза к темноте. Но темень была такая густая, что вперед продвигались только на ощупь.
Дождь усилился, и ветер тоже. Ничего перед собой не разглядеть. Вдруг Мамут остановился. Я шел за ним, за мной — Петрук, затем Юлек и последним Славик.
— Держи! — велел проводник, суя мне в руку конец шнурка.
Я понял, в чем дело, из рук в руки передал шнурок дальше. И пошли мы, держась за веревочку. Неудобно было, но так хоть точно не потеряем друг дружку.
Продрались через кусты, пошли лесом. Потом лес кончился. Мамут схватил меня за плечо, сильно сжал. Понимаю: граница. Передал это предупреждение Петруку, он — дальше.
Дождь хлестал еще сильнее. Промокли мы до нитки, согревались только движением. Никогда такой трудной дороги мне не выпадало. С трудом брели по мокрой земле, ничего вокруг не видя. А Мамут же шел уверенно. Время от времени приостанавливался, шаркал ногами, бурчал под нос и шел дальше.
Когда кончился лес, идти стало легче. По крайней мере, я уже не спотыкался о разные препятствия и глаза не приходилось заслонять, чтобы не хлестнули по ним невидимые в темноте ветки.
Через три часа ходу остановились отдохнуть. Выпили спирту. Потом отдохнули еще раз и под самое утро, полностью вымотавшись, пройдя за десять часов тридцать три версты жуткой дороги в кромешной темени, добрались от Ракова до Минска. А ведь мы не новички были, привыкли к ночным переходам.
Со спиртом ходили дважды. Затем сделали перерыв, потому что Мамут со Славиком пошли ходить с группой Гвоздя. Там работа была легче, безопаснее. Расстояние меньше, и заботиться самому ни о чем не нужно.
В субботу вечером пил я с хлопцами в салоне у Гинты. Весело было. Антоний так наяривал на гармони, что аж стаканы по столу прыгали. Вдруг меня кто-то пнул под столом. Думаю, Мамут, больше некому. Смотрю на него. А он ноготь на левой руке угрыз, а пальцем правой и глазами показывает на дверь. Гляжу. Там стоит Альфред Алинчук. Мамут зареготал хрипло и объявил:
— Глянь-ка, кого дятел настукал!
Все расхохотались. Альфред поспешно скрылся за дверью.
А мы пили дальше. Веселье шло полным ходом. Лорд запел:
Гэй, там пиво, там и водка, Гэй, играют на гармони! Гэй, там моя Марысенька Чаркой у бутэльку звони!Поздно вечером возвращался к себе. На небе искрились звезды. Зашел во двор к Трофидам. Калитку на засов закрывал. И в этот момент справа от меня раздался выстрел… потом второй, третий, четвертый. Я упал на землю у ворот. Услышал быструю поступь в саду — кто-то уходил. Я вскочил на ноги, выхватил из кармана нож, вбежал через открытую калитку в сад. Тихо. Минуту прислушивался, вернулся к воротам, вышел на улицу. Поблизости — никого. Жаль, фонарика с собой не взял. Может, смог бы в саду догнать стрелявшего. А так — все напрасно. С того времени всегда носил с собой фонарик.
Назавтра тщательно осмотрел калитку и стену дома у ворот. Все пули застряли в толстых бревнах. Мне удалось достать одну.
Когда постучал в дом, Геля, отомкнувшая двери, спросила встревоженно:
— Пан стрелял?
— Не… дурак какой-то устроил бучу. Напугать меня хотел.
— Видела я, кто-то здесь крутился под окнами вечером, — заметила дивчина.
Назавтра Янинка разбудила меня спозаранку.
— Там вас сумасшедший какой-то зовет!
— Что за сумасшедший? Почему сумасшедший?
— Так он же смеется и смеется!
— Значит, каждый, кто смеется, для тебя — сумасшедший?
— Не-а. Но можно немножко посмеяться, а он все время!
— Где он?
— За сараем. Сказал, чтоб никому, кроме Владка, не говорила, дело о-очень важное!
Оделся поспешно и вышел. За сараем увидел сидящего в зарослях лопухов Есю Гусятника. Блестя круглой безволосой головой, выглядывал он из-за широких листьев, как месяц из-за тучи.
— Что скажешь? — спросил я, поздоровавшись.
— Дело есть. Очень важное.
— Ну, слушаю.
— Только секрет. Рассказать могу, но при условии: никому не скажешь, что от меня узнал.
Оглянулся по сторонам.
— Алинчуки тебя пришить хотят. Альфред пару наших хлопцев подряжал на тебя. Сто рублей сулил.
— Откуда знаешь?
— Хлопцы ко мне приходили советоваться. Меня-то все знают. Спрашивали: кто таков ты. Я им говорю, чтобы не смели на тебя, ты ж с Трофидой ходишь. Ты сейчас смотри, будь осторожен. Алинчуки — то холера!
— Спасибо, — говорю ему. — Теперь буду знать, кто на меня зуб точит. Поостерегусь! Вчера ночью, когда домой возвращался, стреляли в меня.
— Да-а? — спросил Еся удивленно. — То не из наших. Это сами Алинчуки. Ты смотри, если хочешь железкой доброй обзавестись, так дам тебе. У меня хватает.
Попрощался я с Есей, и пошел он, крадучись, берегом реки, обходя местечко стороной. А я вернулся домой позавтракать. И долго размышлял над словами Еси.
9
Приоделся я вечером — на тип-топ! Рубашку надел коричневую с золотистыми цветочками, причудливо завязал темно-фиолетовый в розовую полоску галстук. А костюм — темно-синий. Прихватил тросточку и вышел из дома.
На базаре встретил Щура.
— Ты куда? — спросил тот.
— К Сашке.
— Ага, на вечеринку! И я туда же дыбаю!
Вырядился Щур сущим графом: серый костюм, лакированные туфли, зеленый галстук. На голове светлая фетровая шляпа с широкими полями.
Когда подходили к Сашкиному дому, еще издали услышали гармонь.
— Антоха загибает! — определил Щур.
Сквозь открытые двери по двору тянулась широкая полоса света. Рядом с домом митусились смутно различимые фигуры. Слышались шепот, смешки.
Мы зашли — и сразу оглохли от неистовства гармони. Антоний от вдохновения даже зажмурился.
Тут толпились, вопили, голосили. От топота дрожали стены дома. Весь зал заполнила кружащаяся в танце, притопывающая толпа. Антоний выдавал модного тогда «Карапета». Кто-то посвистывал, кто-то подпевал под музыку.
Стали мы со Щуром у стены, присматриваясь к танцующим. Щур кивнул в сторону высокого тощего хлопца с темным, цыганским лицом и зачесанными по-казацки волосами.
— Это Гвоздь… машинист, — сказал он мне.
Танцевал Гвоздь с совсем молоденькой, может, лет пятнадцати, девчушкой. Маленькая — едва доставала ему до груди, но очень уж была красивая, с чудесным лицом. Танцуя, смешно семенила вокруг здоровенного контрабандиста, а тот ее подхватывал, поднимал, кружа. Размашисто танцевал — выгибался, подпрыгивал, притопывал.
— Его любовница, — сказал Щур через минуту.
— Ну-у? — удивился я.
А вообще, некрасивых девчат тут не было. Контрабандисты любились с самыми красивыми девушками в местечке.
Увидел я Лорда, блестевшего набриолиненными волосами. Неплохо он танцевал, словно бы нехотя, с высокой полной дивчиной в темно-зеленом платье. Фигура у девушки была что надо, но лицо имела мертвенно-бледное, упырячье, на маску похожее. Может, с пудрой неподходящего цвета переборщила?
Увидел и Ваньку Большевика, с болезненной усмешкой прижимавшего к себе мясистую девицу с толстыми, розовыми, голыми руками. Так ее облапал, что бедной приходилось голову отворачивать.
Заметил двух танцующих друг с дружкою девушек. Некрасивые, вели себя дерзко. Одна визжала, вторая притопывала, встряхивала коротко остриженными волосами.
— Что за крали?
— Андзя Солдат и Гелька Пудель. Контрабандистки.
Присмотрелся к ним. У Андзи были широкие плечи и узкие бедра, и выглядела она, точно переодетый женщиной мужик. Оделась в чересчур короткое платье апельсиновой расцветки. На пальцах — множество перстней, на руках — браслет на браслете. Андзя Солдат была высокой и щуплой. А товарка ее, Гелька Пудель — низенькая и коренастая, с симпатичным веселым лицом, немного вздернутым носиком. Была в голубом платьице, с черным платком на шее. Улыбался я, глядя на смешную парочку.
Кроме них, танцевали еще много хлопцев и девчат, большей частью мне не знакомые. Многие сидели на лавках у стен или стояли. Девчата все в ярком, праздничном. У кого ноги покрасивее, носили коротенькие платьица. Хлопцы, большей частью, в темно-синих, коричневых и светлых костюмах. Жилетки и галстуки, выглядывающие из-под расстегнутых пиджаков, были самых фантастических цветов и рисунков.
Я поискал глазами Фелю, но не увидел. Антоний перестал играть. Танцы прекратились. Избу заполнил гомон разговоров. Девчата начали собираться отдельно, в углу избы. Хлопцы стали у стен. Кое-кто прохаживался посреди зала. Держались неестественно — напыщенные, чванные. Видать, кружила им головы слава героев границы.
Девчата шептались, хихикали, поглядывали на хлопцев. А те делали вид, что ведут деловые, ужасно важные разговоры и вовсе на женщин внимания не обращают. Это считалось хорошим тоном.
Щур дернул меня за рукав. Я обернулся. В избу зашел Альфред Алинчук, разодетый с шиком и блеском, напомаженный, выбритый до гладкости и вообще будто лакированный. За ним явились и братья: Альбин, Адольф, Альфонс и Амброзий. Стали кучкой у двери. Разговоров стало меньше. Хлопцы угрюмо посматривали на братьев, и только «мамзели» (как говаривал Лорд) зашептали оживленнее и захихикали явственнее, дерзко улыбаясь и строя Алинчукам глазки.
Тут явился предо всеми Болек Комета. Вышел на середину избы, пригладил усы, оглядел присутствующих и вдруг безо всякого видимого повода расхохотался. Этого хватило, чтобы девчата захихикали, засмеялись. Хлопцы бухнули хохотом — не все, некоторые аж губы позакусывали, стараясь сохранить почтенный вид.
Болек Комета обратил взор на Антония, сидевшего в углу, уперев подбородок в баян.
— А… пан маэстро! Мое почтение!.. Сыграйте-ка нам малость «На сопках Маньчжурии»! Айн, цвай, драй!
Комета кинул гармонисту золотую монету. А когда тот заиграл старый, раздольный русский вальс, подхватил ближайшую дивчину и начал кружиться с нею по избе. Избранницей его оказалась Гелька Пудель. Она раскраснелась. Дрыгала смешно ногами в воздухе, отпихивала Комету. В избе дружно зареготали. Комета, наконец, выпустил Гельку. Та отскочила к девчатам, показала ему язык.
— По-французски не умею, — с достоинством ответил на это Комета, и вся изба снова грохнула смехом.
Затем Болек пошел к дверям, ведущим в другую комнату. Вскоре пара за парой стали выбираться на середину зала танцоры. Прерванная забава разгорелась снова. Я и Щур нашли места на лавке. Справа от меня стояла Маня Дзюньдзя, как обычно, с кислой миной, будто недовольная чем-то. Видел я ее как-то на базаре вместе с Гелькой Пудель. Теперь она стояла рядом с коренастой дивчиной с удивительными, смелыми, притягивающими, будто магниты, черными глазами.
— Это кто? — спрашиваю Щура.
— Та, в желтом — Маня Дзюньдзя, контрабандистка.
— Знаю ее… А рядом, в розовом?
— Белька… Она тоже по контрабанде. Машинистка она. Баба-гетман!
Белька наверняка услышала, что о ней речь. Повернулась к нам. Щур кивнул. Она ответила, чуть шевельнув поднятой ладонью. Потом отвернулась и, выпячивая большие упругие груди, вздрагивающие при каждом движении и безумно дразнящие хлопцев, принялась рассматривать танцующих.
— О… вот и Сашка! — заметил Щур.
Я увидел, как из двери, за которой недавно скрылся Комета, вышел Сашка. Пошел неспешно, пожимая протянутые ему руки. Подошел к нам.
— Чего не танцуешь?
— Пока неохота.
— А с кем ему танцевать? С тобой, что ли? — буркнул Щур.
— Как это — с кем? — Сашка обвел зал рукой. — Да тут дивчины как цветы! О, панна Бельця скучает. Приглашай танцевать!
Оставил я Щура и пошел танцевать с Белькой.
— Пан не местный? — спросила она.
— Так. К Юзефу Трофиде приехал.
— Он сидит?
— Сидит.
— Жалко.
— Что поделаешь.
Увидел я: Сашка подошел к Алинчукам и вместе с ними направился в комнату, откуда недавно вышел.
— Пани знает Алинчуков? — спрашиваю у Бельки.
— Знаю.
— Хлопцы их не хвалят.
— Мерзавцы потому что!
Обнял ее крепче. Противиться она не стала. Подумал, что нужно сказать ей какой-нибудь комплимент, и говорю:
— У пани такие красивые глаза!
— Правда? — она усмехнулась.
— Правду говорю! — клянусь ей искренне.
Она рассмеялась. Крутанув головой, отбросила за спину волосы.
— У меня все красивое, не только глаза!
— Ого! Пани Бельця такая откровенная и уверенная в себе?
— Так.
— Люблю смелых! Если б никто не видел, поцеловал бы за это пани!
— А после хвастались бы тем по всему местечку?
— Ничего подобного! Даю слово.
— Ну, это мы посмотрим, — сказала загадочно.
Очень она мне понравилась. Танцевал бы с ней долго-долго, но она не захотела.
— Хватит колобродить! Ноги болят. Вчера только с дороги, а назавтра снова.
— Далеко ходите?
— Под Петровщизну.
В самом деле, далеко — три версты от Минска.
Я проводил Бельку к подруге, уступившей ей место на лавке. А веселье вокруг шло полным ходом. Жарко стало в избе. Лица присутствующих залоснились от пота. Некоторые хлопцы уже были в подпитии. Сперва не мог понять, где они так умудрились. Потом заметил: по двое, по трое выходят на подворок, а возвращаются уже навеселе. Начал я высматривать Щура, но нигде не мог найти, пока он сам ко мне не подошел. Подмигнул мне и говорит:
— Выйдем-ка на минутку.
Пошел с ним в соседнюю комнату — прямо в облако табачного дыма. Сперва и вдохнуть не мог: такая духота стояла в комнатке, битком набитой людьми. Когда пришел в себя, увидел длинный стол, а рядом — сидящих и стоящих контрабандистов. С некоторыми был знаком, кое-кого уже видел, но были и те, кого увидел впервые.
Хлопцы пили за здорово живешь. Во главе стола восседал Комета с бутылкою в одной руке и стаканом в другой и возглашал:
— Хромое счастье наше, хлопцы, так подопрем его бутылками!
— Умно! — подтверждал Лорд.
— Кто не курит и не пьет, тот не живет, а гниет!
— Умно! — подтверждал Лорд и добавлял: — А потому еще по одной!
Щур потянул меня к столу, усадил рядом на узкую лаву. Лорд же поставил передо мной полный стакан и приказал:
— Догоняй!
На другом конце стола играли в карты. Сидели там братья Алинчуки, Сашка, Живица, Ванька Большевик и еще несколько незнакомых мне людей. Играли в «очко». На столе лежали стопки банкнот и кучки золотых монет.
Банк держал Сашка. Раскраснелся, но играл спокойно, старательно тасуя и раздавая карты. Лежала перед ним изрядная куча денег. Вдруг к нему обратился Болек Комета.
— Дашь карту за полсотни?
— Дам за пятьдесят, — кивнул ему Сашка.
— Пошло пятьдесят!
Болек взял три карты и проиграл. Заплатил проигрыш.
— Скажу и докажу вам, хлопцы: ни в картах фарта у меня, ни в бабах. Только в водке! Только обернусь, а бутылочки-чарочки подмигивают мне, позвякивают!.. Ну, еще по одной!
— Умно!
Лорд начал насвистывать. Знатно насвистывал, жаль только, редко показывал такое свое мастерство. Перестал и запел пропитым, хриплым, будто простуженным голосом:
Туда под вечер подошел Парнишка-жох, в кармане нож —Тут незнакомый мне молоденький контрабандист с совсем еще детским лицом принялся подпевать, затянул тоненько:
Друган меня обнял, повел И посадил за стол. Ты, Болек, хлопец в доску свой! Напейся, что ли, кофеей!Болек Комета при слове «кофеей» выразительно скривился и сделал вид, что блюет. Некоторые рассмеялись, Болек же пел дальше:
Ведь водку выпили до дна, В бутылке капелька одна!— Неправда! — заорал Комета. — Скажу и докажу вам, хлопцы: пока стоит граница, нам скорее воды не хватит, чем водки!
— Умно! — ответил кто-то за Лорда, продолжавшего петь:
Я был там ангел на траве, Хотя семь дырок в голове.— А у Фельки одна, зато какая! — выдал, осклабившись, Ванька Большевик с другого конца стола.
— Ты Фельку язычищем не обмахивай! — Сашка зыркнул на него грозно.
— Да я ничего… я так, шуткую…
— Ты шуткуй, а уважение знай!
Питье разогрело всех. Уже и хохотали одурело. Зубоскалили вовсю, изгалялись. Курили беспрерывно. Пол усыпали пустые пачки и окурки, на столе — лужи водки и пива.
Мамут, Комета, Щур и Лорд пили неустанно. Фелек же Маруда степенно и раздумчиво поедал огромный кус сальтисона. Щур пихнул меня локтем в бок:
— Глянь, как наяривает, а?
Болек Комета это услышал и сказал Маруде:
— Фелисю, коханку! Ты прям как лев, рыкающий и жрущий в пустыне.
— А где ты льва видел? — спросил Щур.
— На образке.
— На каком таком образке?
— Том, где пан Езус в Иерусалим въезжает.
— Так там же осел, а не лев!
— А я думал, лев! — ответил Комета.
Фелек оторвался от сальтисона. Обстоятельно прожевал. Проглотил. Затем изрек важно:
— А ты точь-в-точь — тринадцатый апостол!
Изрекши, снова принялся за еду. Все дружно разразились хохотом. Марудино сравнение, непонятно почему, показалось нам страшно смешным.
— Ну, срезал!
— Сказанул, однако!
— Накатил по полной!
— Цапнул, не ляпнул!
— Э-э, то старый кот! Молчит-молчит, но зато как выдаст!
— Точно черт из тихого болота!
Болек Комета тяпнул полстакана водки. Вытер губы ладонью. Поправил усы. И начал:
— Ну дык, это ж хлопец местный, бывалый.
— На мельницу с житом ездил! — подхватил Щур.
— Коров к быку водил, — добавил Лорд.
— Обтесанный, обтертый, — продолжил Комета.
— Шницелем по морде, — подхватил Щур.
— В люди ходил, — продолжил Комета.
— Вокруг сарая за свиньями, — добавил Лорд.
Маруда доел, со вкусом облизал пальцы и выдал флегматично:
— Видал я вас, хлопцы, там, где у куры ятки.
И снова все дико зареготали.
Вдруг в комнату зашла Феля. Стала в дверях и долго щурилась, стараясь хоть что-то разглядеть в облаках табачного дыма. Смеяться все сразу перестали. Умолкли, глядя на Фелю.
Была она в красивом черном платье, элегантных черных чулках, лакированных лодочках. На шее — золотая цепь от часов, на руках — множество браслетов и перстней.
Прошла в комнату — медленно, важно. Красивая, аж дух захватывало, горделивая, неприступная. Взгляды хлопцев облепили ее, как мед, следили за мельчайшим движением, жестом. Ванька Большевик аж рот раскрыл от восхищения. Какое там питье, какие карты! А она, довольная произведенным эффектом, легким шагом подошла к брату.
Сашка сморщился.
— Ну, чего тебе?
— Может, нужно что-нибудь?
— Ничего не нужно. Иди отсюда!
Феля надула губки. Тряхнула головой. Обвела взглядом собравшихся. Встретился я с ней глазами, и так холодно сделалось… Даже дух перехватило.
Неожиданно подал голос Маруда:
— Огурцов бы…
Щур прыснул. Сашка тоже рассмеялся и сказал сестре, уже идущей через комнату:
— Фелька, подожди! Принеси огурцов. Целое ведро — другу нашему Маруде. Мигом!
— Добре, — отозвалась Феля.
Подошла к дверям. Остановилась, обернулась.
— Так пойдем, поможешь мне, — сказала брату. Сашка встал, положил на стол карты. Подумал немного, потом подошел ко мне.
— Иди, Владку, помоги ей огурцов принести!
Я поспешно встал и пошел к ожидающей в дверях девушке.
10
Зашел вместе с Фелей в большие сени.
— Фонарик есть? — спросила меня.
— Есть.
Только сейчас заметил — она пьяная. Покачивалась, ступала неуверенно. Нащупала дверь в кладовку, открыла. Я посветил фонарем. Послышался полошливый женский вскрик. На полу лежали хлопец с дивчиной. Та прикрыла ладонями лицо, чтоб не узнали. Хлопец встал на колени. Феля ухватила меня за руку и потянула прочь.
— Гаси фонарик! Пошли!
Вышли на подворок. У стены тискалась еще одна пара. Завидев нас, оторвались друг от дружки и поспешно скрылись в темноте.
Послышался тихий смех Фели. Очень тихий — я даже и не понял, показалось мне или вправду слышу. Хотел посветить ей в лицо, но не посмел. А от смеха того случилось со мной странное. В теле загорячело, а колени будто обмякли. Она дотронулась до моей руки, и я услышал нервный, натянутый шепоток:
— Ты иди в кладовку… Ведро возьми, фонарь. И иди…
— Так они ж там!
Она прыснула смехом.
— Дурачок… иди!
В кладовке уже никого не было. Нашел в ней большое цинковое ведро и фонарь. Взял, вышел на подворье.
— Готово?
— Готово.
— Ну, пошли.
Шла быстро. Вышли мы в огород за домом к обсыпанной землею покатой крыше погреба. Феля отомкнула дверцу и, низко нагнувшись, вошла внутрь. Я зашел следом. Очутились мы в полной темноте. Уже и не понимая, что делаю, схватил ее, прижал к себе крепко. Она молчала. Через минуту только шепнула:
— Ну, пусти!
Я пустил. Она зажгла фонарь, отомкнула дверцу погреба. Повернула ко мне бледное лицо и сказала странно, голосом, которого я никогда от нее не слышал:
— Лезь туда! Фонарь держи.
Я слез по перекладинам почти отвесной лестницы. Поставил фонарь наземь.
— Держи! — крикнула сверху.
Кинула мне ведро и начала спускаться. В погребе пахло плесенью. Свет фонаря терялся в углах.
Я смотрел вверх, на спускающуюся по лестнице девушку. Видел ее смуглые ноги. Феля одной рукой приподняла подол… и выше, чем нужно для свободы движений.
Когда была на предпоследней перекладине, я подхватил ее на руки, осматривая погреб. Увидел большой перевернутый ящик. Усадил на него Фелю, начал целовать лицо, губы, шею. Глядел на нее. Она закрыла глаза. Начал расстегивать платье. Она не мешала.
Я глазам своим не верил. Такая она красивая… и ведь та самая, неприступная, холодная Феля. Веки опустила, лицо еще бледней, чем раньше… Закусила губу… И вдруг, в самый что ни есть последний момент сказала совершенно спокойно:
— Пусти-ка! Хватит этого.
Меня будто по голове ударили. Я захотел силой взять. А она крикнула, и в голосе ее были только омерзение и гадливость:
— Пусти, дурак! Просить тебя надо? Закричу сейчас… Ну, пошел вон!
Я отскочил, дрожа всем телом. А она, не торопясь, не обращая на меня внимания, поправила платье, застегнулась. Осмотрела себя внимательно, затем подошла к стоящей в углу бочке. Начала класть из нее огурцы, спокойно отсчитывая: «Один, два, три, четыре…»
Меня это больше всего взбесило. В ярости смотрел на ее легкие, грациозные движения.
— Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять…
Огурцы летели в ведро. Разъяренный, я кусал губы и стискивал кулаки. Старался думать о ней спокойно. Вон она, раскорячилась, скривилась. Нету в ней ничего особенного, так, мимолетка. Говорил так сам себе и знал, что вру. А из угла погреба раздавалось:
— Сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят… хватит!
Закрыла бочку крышкой, придавила камнем.
— Бери ведро! — приказала мне.
— Сама бери… графиня выискалась.
Она посмотрела в мои глаза и вдруг рассмеялась. Никогда ни перед тем, ни до того ни слышал я от нее такого смеха, не видел лица ее таким красивым. Подошла совсем близко, запустила пальцы в мои волосы. Погладила мою щеку.
— Видел, какая я?
— Ну и что с того?
— Видел?
— Ну.
— Понравилось тебе?
— Так.
— Так это все будет тебе, когда женишься. Все, что хочешь!
— Так зачем ты меня мучила?
Рассмеялась тихо, притянула меня к себе. Я почувствовал на шее ее руки, а на губах — поцелуй. Долгий. Нежный. Я так не умел целоваться. Прильнула ко мне теплым ладным телом. А когда снова захотел схватить ее, понести — оттолкнула.
— Это для того, хлопче, чтоб ты знал, какая я, чтоб не обманулся… Ну, бери ведро!
Я молчу, не двигаюсь. Она взяла меня за руку, сказала задумчиво:
— Понимаешь: нельзя. Я солдатской подстилкой не хочу быть… Мне, может, еще хуже, чем тебе. Ты над этим подумай немножко!.. Бери ведро.
Взял ведро и принялся карабкаться наверх. Феля светила мне снизу. Затем быстро вылезла сама. Я подал ей руку, помог замкнуть дверь погреба. Отправились домой.
Потом, на спокойную голову, я старался понять: что же произошло между нами тогда? Но не мог. Почему-то казалось: все оттого, что мы увидели в кладовке. Ведь она хотела, такая была уже… Но почему по-другому обернулось? Может, ей вообще и не нужно было, и не хотелось по-настоящему? Может, все бывшее между нами для нее вовсе ничего и не значило? Если б старшая сестра у меня была или женщина какая опытная, чтобы спросить, чтобы научиться… Самому тяжело понять.
Можно было б у Бомбины спросить или у Олеси Калишанки — но ведь тогда пришлось бы рассказывать обо всем. А как про такое расскажешь?
Вернулся к хлопцам с ведром огурцов в руках. В комнате галдеж оглушительный. Пьянка снова в разгаре.
Поставил ведро на столе напротив Фелека Маруды.
— На, наяривай!
Маруда без промедления запустил руку в ведро.
— Ему и бочку поставь, не откажется! — заметил Лорд.
Я огляделся, отыскивая Щура. Увидел его у другого конца стола, рядом с Алинчуками. Он подмигнул мне. Я подошел. Альфред Алинчук держал банк. Вынул из кармана две новых колоды. Содрал с них упаковку. Перетасовал. Положил на стол двести рублей.
— В банке двести! — объявил игрокам.
Начал раздавать. Я тоже взял. Первым играл Щур.
— Давай за пятьдесят!
— Куш поставь, — сказал Альфред сухо.
— Не бойся, не объеду!
Щур положил пятьдесят на стол, прикупил две карты и проиграл — перебор. Альфред кинул его деньги в общую кучу.
Вторым играл Живица. Кто-то потянул меня за руку. Оглянулся — это молодой, с детским лицом хлопчик, подпевавший Лорду.
— Чего тебе? — спрашиваю.
— Карту покажи. Примазаться хочу.
Я показал ему десятку.
— Добре! Примазываюсь.
И дал мне червонец.
Живица проиграл. Пришел мой черед играть. Я поставил тридцать рублей — и выиграл. Дал двадцать своему компаньону, но тот не взял. Сказал:
— На другой раз пусть остается.
— Добре, — говорю. — Как звать тебя?
— Вороненок.
Играем дальше. Мало кто выигрывает. А те, кто много ставил, проиграли все. Сашка поставил сотню и тоже проиграл. Был он последний в очереди.
Альфред потасовал. Пошел второй круг. Щур внимательно наблюдал за руками Альфреда.
Раздали. Щур положил сотню на стол.
— Пошло на сто!
Альфред дал ему карту.
— Хватит! — сказал Щур.
Альфред взял две и объявил, открываясь:
— Девятнадцать!
Щур проиграл. У него было только семнадцать.
Потом Живица проиграл пятьдесят. Я к двадцати рублям Вороненка доложил тридцать своих. Щур сказал:
— Примазываюсь на полста!
Я выиграл сотню и отдал компаньонам их долю.
Под конец второго круга банк вырос семикратно. Собралось в нем больше тринадцати сотен. Альфред нервничал. Раскраснелся. На лице пот проступил. Потасовал, раздал карты. Начинался последний, третий круг.
Щур поставил сто семьдесят рублей — все, что имел. Взял карты — и проиграл. Живица тоже проиграл. Повернулся ко мне:
— Покажи карты!
У меня туз был.
— Мажу триста, — объявил Живица.
Дал мне деньги. Сашка с другой стороны подсунул две стодолларовые банкноты. Вороненок дал полста. Понял: отыграться хотят, банк взять. Поставил сто своих. Щур подошел ко мне.
— Можешь поставить двести за меня? Если проиграем, утром отдам.
— Добре.
Поставил разом шестьсот пятьдесят рублей и двести долларов. У Альфреда тряслись руки. Щур нагнулся над столом, внимательно изучая каждое движение. Альфред взял карту и замешкался, не давая карты мне. Щур глаз не спускал с его рук. Альфред дал мне карту. Оказалось — десятка. Я выиграл!
Альфред, запинаясь, вслух отсчитал мне деньги.
— Круто, братку, — заметил Лорд. — Счастье тебе.
Банк уменьшился наполовину. Но после нескольких игр снова вырос. Подошла очередь Сашки. Он сказал кратко:
— Банк.
— Как? — спросил Альфред, бледнея.
— Сказал же, банк.
— Все???
— Так.
Сашка положил на стол портфель. Альфред пересчитал деньги в банке.
— Тысяча сорок рублей и триста семьдесят долларов!
— На все иду! — повторил Сашка.
Альфред, бледный, дал карту Сашке. Взял себе. Дал Сашке вторую, третью. Тот швырнул на стол — перебор. Двадцать четыре.
— Проиграл! — крикнул Сашка и полез в портфель, чтобы заплатить.
Но в этот момент Щур вдруг вырвал карты из рук Альфреда и заорал:
— Хлопцы, карты крапленые!
Альфред обомлел. Живица накрыл деньги огромной ладонью. Сашка нагнулся над столом.
— Карты крапленые, так? — спросил глухо.
Альфред отпрянул.
— Лжет, гадина! — выдавил тоненько, почти плачущим голосом.
— Ах ты, сука! — выкрикнул Щур.
— Да у него зуб на меня, вот и ищет повод.
В этот момент Вороненок, наблюдавший издали, схватил бутыль от водки и прыгнул к Альфреду.
— Так ты с хлопцами играешь!
Хряснул его бутылкой, аж стекло брызнуло. Альфред закрыл лицо руками — Вороненок уже замахнулся отбитым горлышком. Братья Алинчуки кинулись. Один схватил Вороненка сзади за шею. А Щур сверкнул ножом и заорал: «Вали фраеров!»
Неожиданно между ними оказался Живица и, двинув пару раз руками, разбросал всех по сторонам.
— Сбавь, хлопцы, потише, — предупредил спокойно.
— Ну, хватит, — объявил Сашка, вставая из-за стола. — Сейчас все увидим… Альфред, иди сюда.
Альфред подошел, вытирая платком кровь со лба.
— Карты крапленые? — спросил Сашка.
— Я… я не знаю. Я купил их, и все.
— Купить купил, да и сам накрапил! — заорал сбоку Щур.
— Где купил карты? — спросил Сашка, глядя в бегающие глазки Альфреда.
— В Вильне.
Щур прыснул.
Сашка, Лорд и Болек Комета внимательно осмотрели карты.
— Так, крапленые, — подтвердил Сашка.
— Я ж говорил! — крикнул Щур, надвигаясь.
Сашка топнул. Щур утихомирился. Сашка глянул на собравшихся.
— В моем доме бардака не будет, поняли? Кому поквитаться горит, другое место ищите! Вот ты поставил в банк двести рублей? Так?
Сашка взял с банка стодолларовку и отложил в сторону.
— Вот твои 200 рублей… Разница небольшая…
Затем обратился ко всем:
— Теперь, хлопцы, по чести: кто проиграл Альфреду — забирайте! Кто выиграл — отдавайте! Но по чести! Мы не шпана и не альфонсы, мы — фартовые! По чести!
Хлопцы закивали, соглашаясь.
Пересчитали деньги в банке. Потом — все проигрыши и выигрыши. Сашка поделил банк и выигрыши среди проигравших. Показал Альфреду на отложенные сто долларов.
— Это твое.
Альфред смолчал. Сашка повернулся к Щуру.
— Зажги спичку и спали мусор.
Когда Щур сжег банкноту, Сашка снова обратился к Альфреду.
— Теперь слушай: больше ты с хлопцами не играешь! Понял? Иначе разберемся с тобой по-другому. Я сам разберусь. А вас, хлопцы, попрошу помалкивать о том, что тут было. Наше это дело, пусть между нами и останется.
Альфред хотел заговорить, но Сашка не дал:
— Молчи! Сучьи глаза твои и язык сучий!
Сам помолчал с минуту. Заговорил снова, обращаясь к братьям Алинчукам:
— Спасибо вам, что в гости пришли ко мне с краплеными картами. На халяву нас разделать захотели. Больше ни пить нам, ни играть вместе!
Повернулся к Живице:
— Отвори окно!
Тот споро подошел, отомкнул, распахнул настежь.
— Нехорошо будет вас через двери выпускать, — объяснил Сашка Алинчукам. — Таких гостей только через окно! Ну, пошли! Один за другим!
Показал на окно пальцем.
Алинчуки начали вылазить друг за дружкою, а Щур стоял у окна и смеялся. Хорошо смеялся, бесшабашно, заразно. Вслед за ним засмеялись и остальные. Молчание сохраняли только Сашка с Живицей да Мамут. Еще Фелек Маруда молча ел себе и ел, не обращая ни на кого внимания.
Больше в карты не играли. Хлопцы после «выхода» Алинчуков взялись запивать и заедать. Живо обсуждали произошедшее с Альфредом.
— А у Щура глаз! — заметил Ванька Большевик.
— Да знаю я фраеров таких! — Щур хмыкнул. — Смотрел за ним в оба.
Лорд рассмеялся.
— А Вороненок ладно ему бутылкой приложил!
— Водкой его попотчевал, — буркнул Комета.
Вороненок смеялся, блестя весело глазами.
— Пусть хамы знают, как хлопцев обманывать!
— Умно! — одобрил Лорд.
Я подошел к Сашке и сказал:
— Дело есть к тебе. Может, выйдем на минуту?
— Что такое?
— Так… про Альфреда.
— А-а. Тогда выходи и подожди у ворот.
Вышел я, оставив общее веселье. Стал у ворот, дожидаясь Сашку. На подворок время от времени выбегали хлопцы с девчатами, по углам слышались шепотки, смех, девчачий визг.
— Ну, чего скажешь? — спросил Сашка.
— Вчера поздно вечером, затемно уже, возвращался домой. И когда калитку закрывал, кто-то в меня стрелял из сада. Четыре раза.
— Та-ак…
— Так! Знаю — это Альфреда работа.
— Откуда знаешь? — живо заинтересовался Сашка.
— Да знаю! Может, не сам он стрелял. Может, кто из братьев или наймит. Утром меня верный хлопец предупредил.
— Кто?
— Он просил, чтоб я никому его не называл.
— А о чем предупредил?
— Что Альфред предложил каким-то блатным сто рублей, чтобы меня убрали. А блатные пришли до того хлопца расспросить, кто я такой. Он и сказал им, чтобы не брались.
Сашка помолчал с минуту, потом сказал:
— Знаю я твоего верного хлопца… Еська это, Гусятник.
Я перечить не стал. Он задумался. А я вынул из кармана пулю, которую выковырял из стены дома, и протянул ему.
— С «браунинга» это… с «семерки», — заметил Сашка. — А что у тебя с Альфредом? Передрались, что ли?
Я рассказал подробно про свару с Алинчуками у костела. И о том, как встретился с ним у Трофидов, куда тот пришел к Геле.
— Хорошо, что сказал! Переговорю с Живицей. Будем в виду иметь, присмотримся. А ты не дрейфь!
Рассмеялся.
— Да плевать мне на тех, кто ночью из-за угла стреляет! — говорю. — Но дряни всякой может учинить, во в чем дело. Потому хотел, чтоб ты знал.
— Ну и лады. Посмотрим, что дальше будет. Если понадобится, так мы его на раз-два пошинкуем.
Сашка уже хотел уходить, как вдруг пришло мне в голову про Фелю поговорить. Подумалось: лучше я с ним пооткровенней.
— У меня еще дело… только не знаю, как рассказать.
— Твое дело. Не хочешь, так не говори.
— Если Феле ничего не скажешь, так расскажу!
— Ничего Феле не говорить? — спросил Сашка удивленно. — Лады, не скажу.
— Слово?
— Сказал же тебе. Не веришь мне — не говори.
— Был я с Фелькой в погребе. Ну, когда за огурцами пошел.
— Ну?
— Пошел — ты ж попросил.
— Ну и?
— Ну и там… того.
— Чего?
— Ну, понимаешь…
— Подвалил к ней?
— Ну.
— И что?
— Ну… говорит: женись — и тогда только.
Сашка вдруг рассмеялся. И сказал, положив мне руку на плечо:
— Фелька далеко не девочка-недотрога. Ей уже двадцать семь. И не раз она к себе подпускала уже. Я тебе как на духу скажу, не глядя, что сестра она мне: лучшей бабы не сыскать в местечке и лучшей жены. И шмары красивее во всем Ракове нету! Я тебе против ничего не скажу. Это как сам захочешь. Только ведь Фелька-то сама тебе сказала, первая. Так тебе лучше времени не терять, а то передумает. — Помолчав с минуту, добавил: — Фелька ведь уже сто раз могла выскочить, да не хотела! Не знаю, что теперь на нее нашло? Хлопцы на нее так и летят. И приданое за ней есть. Все хозяйство даю ей и пятнадцать тысяч рублей. Понимаешь? Мне самому ничего не нужно! Если все-таки решишься, так иди, ладь с ней! Я ввязываться не буду. Ваши дела. Альфред тоже за ней увивался. Водила его за нос года два… Ну, пойду я к хлопцам.
— Не, я пока жениться не хочу. Погулять хочу. Молодой еще.
— Дело твое. Ну, тогда иди пить или лучше подвали к Фельке!
Оставил меня Сашка у ворот, а сам пошел в дом. Помешкав немного, и я отправился следом. Задержался в общем зале.
Веселье бушевало вовсю. Антоний наяривал польку, молодежь танцевала до упаду. Лица разгорелись от водки и пляса. Феля танцевала с Гвоздем. Я принялся наблюдать за ними. Произошедшее недавно между нами теперь казалось попросту невероятным. Такое холодное, задумчивое лицо, так отстраненно держится, танцуя — неужели и вправду случилось то, в подвале?
Феля заметила мой взгляд. Нахмурилась. Я знал, что она искоса за мной посматривает. И танцевать стала по-другому. Красивей, страстней. Дразнила, я сразу понял. Огляделся я и увидел Бельку, сидевшую рядом с Маней Дзюньдзей. Подошел к ней.
— Прошу панну Бельцю на танец!
— Не, не хочется мне. Ноги так болят…
— Но я очень прошу! Очень!
Посмотрела на меня, слегка удивившись. Усмехнулась.
— Добре. Но недолго.
Начали танцевать. Я нарочно прижимал ее к себе, показать старался, что очень ею увлечен. Но, танцуя, старался держаться рядом с Фелей. Та принялась оживленно переговариваться с Гвоздем, даже засмеялась.
Забава кончилась поздно. Я пошел проводить Бельку до дому. А жила она на другом конце местечка.
В сенях ее дома я светил ей фонариком, чтобы сумела открыть дверь в дом.
— Одна живешь? — спрашиваю.
— Так. Мать с детьми на другой половине дома.
Притиснул ее к себе. Она меня отпихнула.
— Знаю, хлопче, чего хочешь. Да сейчас не получишь! Мне выспаться надо. Завтра в дорогу…
— Не сейчас… А когда?
— В свое время. А теперь иди!
Попрощалась со мной по-мужски, крепко пожала ладонь.
— Счастливой дороги панне Бельке!
— Спасибо! А тебе сладких мечтаний!
Вышел на улицу. В местечке было тихо. Месяц, унылый и усталый, полз между туч. На северо-западе неба сверкала Большая Медведица. Я долго смотрел на нее. Потом вздохнул и пошел домой.
11
Близился конец золотого сезона. Знали это контрабандисты и потому торопились, выбивались из сил.
Болек Лорд снова собрал нашу группу. Сам стал машинистом. Мамут и Ванька Большевик, ходившие с Гвоздем, послали его подальше и вернулись к нам. Не хватало Юзефа Трофиды, Бульдога да Китайчика, сидевших в тюрьме. Не было с нами и Петрука Философа. Захворал он и остался дома под опекой часовщика Мужанского. Нету и Славика, уехавшего к родне в Молодечно. Зато прибавился новичок — высокий молодой хлопец, моего где-то возраста, всегда хорошо одетый, даже в дороге. Звали его, наверное, как раз из-за этого Элегант. Это его первая ходка. За товаром, как обычно, приглядывал Левка Цилиндер. Товар дешевенький: карандаши, пудра, мыло туалетное, гребешки, батист. По первому разу с новым машинистом Бергер рисковать не хотел. Носки легкие: по двадцать пять фунтов каждая. Вместе с машинистом Лордом и сопровождающим Левкой ровно десяток нас набрался. Собрались мы в сарае на Загуменной улице, на краю местечка. Там и носки уже нас ждали.
С темнотой вышли и направились на полночь. Болек Лорд повел нас по новой дороге, по которой когда-то долго ходил вместе с группой Булыги, знаменитого контрабандиста, машиниста и проводника, убитого большевиками весной 22-го года, когда вел беглых из Советов в Польшу.
Шел я задумчивый, смотрел на семь удивительных звезд Большой Колесницы и принялся давать им, непонятно зачем, женские имена. Первая с левой стороны, сверху — Ева, вторая — Ирина, третья — Софья, четвертая, (переднее верхнее звездное колесо) — Мария, пятая (нижнее колесо) — Елена, шестая (заднее верхнее колесо) — Лидия и наконец седьмая (нижнее колесо) — Леония. Старательно запоминал имена.
Хорошо, что хлопцы не догадывались, о чем задумался. Засмеяли бы. Вот такая у меня тайна.
Улыбался я звездам, и кажется, они тоже улыбаются мне, будто красивые светлые глаза.
Пересидев день в лесу, ночью выходим снова и через два часа после выхода из лесу добираемся до хутора Бомбины. Разогретые, красные — шли очень быстро. Идем в сарай, носки оставляем у ворот. Отдыхаем на соломе. Потом втроем (я, Лорд и Левка) идем на хутор. Подкрадываемся к окнам, смотрим, что там внутри… Чужих людей в доме нет. Бомбина сидит за столом, боком к нам, делает что-то. Под потолком горит большая керосиновая лампа. Заходим в сени, оттуда — в избу.
— Вечер добрый любезной хозяйке! — здоровается Лорд.
Бомбина поворачивается. Смотрит на нас с минуту, потом всплескивает в ладоши и смеется радостно.
— Добрый вечер! А я уже и не надеялась!.. Садитесь!
— Что у вас слышно? — спрашивает Лорд.
— Все нормально. А у вас?
Рассказываем, что с нашей группой сталось, как Трофида, Китайчик и Бульдог засыпались. Бомбина посочувствовала.
— Ну теперь, что ли, снова за работу взялись? — спросила.
— А как же, взялись.
— Есть хотите?
— Еще как!
— Сколько вас?
— Кроме нас, еще семь.
Бомбина взялась готовить. Яичницу начала жарить. Левка сказал, что очень утомился, и пошел спать в свой закуток, на другую половину дома.
Через полчаса, волоча две корзины с провизией, вернулись мы в сарай. Бомбина шла впереди с лампой в руке.
Хлопцы принялись наперебой здороваться, зубоскаля. Ванька так и увивался вокруг, комплименты расточал. Сказал вдруг что-то вполголоса, я и не расслышал.
— Не про пса колбаса! — отрезала Бомбина.
— Умно! — подтвердил Лорд.
— Скажу и докажу, хлопцы, — поведал Комета, — наша Бомбина — то целое колодище ума! Золота мешок, а не баба.
— Кругом шестнадцатка! — добавил Щур.
— А потому надо выпить, — заключил Комета. — Сто лят дорогой Бомбине!
— Пятьсот! — поправил Лорд.
— Тысячу! — не отстал Щур.
Бомбина рассмеялась, выпила с нами вместе рюмку водки.
Кончили есть. Бомбина встала, взяла фонарь.
— Доброй ночи, хлопцы! Огня мне тут не подпустите!
— А ты помоги мне корзинки донести, — добавила, ко мне повернувшись.
Собираем в корзинки посуду и выходим. Когда ворота закрывал, слышал, Большевик ляпнул что-то. А Щур прыснул со смеху и ответил, тоже слов не разобрать.
— Умно! — громко подтвердил Лорд.
— Скажу и докажу, хлопцы… — начал Комета.
Но что дальше, я уже не расслышал, уже отошли далеко. В хате у Бомбины корзины поставил и хотел уже возвращаться.
— Ты куда? — заволновалась Бомбина.
— К хлопцам… спать.
— А со мной не лучше спать?
— Лучше… но…
— Что — но?
— Да неудобно. Что хлопцы подумают? Смеяться будут, шутки шутить.
— Да пусть смеются! Лишь бы не плакали. Тебе-то что?.. Неужто ты зеленый такой, что шуток боишься? Видишь: я же не боюсь. Плюю на все!
Поздним вечером, когда Бомбина погасила лампу и почти уже заснула, я вспомнил Большую Медведицу и имена, которые давал звездам. И вдруг подумал, что до сих пор не знаю имени той, с кем лежу в постели. Бомбина ведь не настоящее имя. Я разбудил ее, совсем уже сонную. Она потянулась лениво.
— Ну, чего тебе?
— Как тебя звать?
— А зачем тебе? — посмотрела, недоумевая. — Только из-за этого меня и разбудил?
— Да так. Знать хочу.
Рассмеялась.
— Леня.
— Леня? Значит, Леония? Так?
— Так. Понравилось имя?
— Очень! — отвечаю искренне.
Рассмеялась снова. А потом обняла меня жарче и крепче обычного.
С того времени, как только оставались одни, я называл ее только по имени. А когда смотрел на Большую Медведицу и на седьмую ее звезду, всегда вспоминал Леню — и тосковал по ней.
С той ночи в наших отношениях стало больше тепла и привязанности.
12
Кончился золотой сезон. Уже дважды падал снег, но быстро таял. Со дня на день мог лечь, устроить «белую дорожку» со всеми следами напоказ. Работу нашу это сильно затрудняло.
Хлопцы выбивались из сил, стараясь заработать побольше в остаток осени. И под конец сезона пошла полоса неудач. Началось с того, что Гвоздь положил всю свою группу. Засыпались на мелине в Советах, недалеко от границы. Выследил их Макаров. Сам я его никогда не видел, но много от хлопцев слышал.
Он был когда-то контрабандистом и ходил со своими хлопцами. Потом снюхался с чекистами и начал сдавать группу за группой. Хорошо знал, как мы работаем, тропы знал и схроны и потому наделал много вреда. Умел и сам выслеживать. Постоянно крутился по пограничью, устраивал засады.
Хлопцы рассказали, как он выглядит: высокий крепкий мужчина лет сорока, с короткой рыжей бородой и большим ножевым шрамом на левой щеке.
Известие о провале группы Гвоздя, состоявшей из четырнадцати человек, принес Бронек Кельб, единственный спасшийся. Ночью захотелось ему по нужде выйти во двор, и вдруг послышались шорохи, шепот. Не зная еще, в чем дело, отошел на всякий случай от ворот да спрятался под соломорезку, стоявшую справа от входа. Когда чекисты кинулись в сарай и принялись вытягивать сонных хлопцев из сена, сидел там, дрожа от страха, укрытый тенью. А когда чекисты вместе с арестованными вышли из сарая, выполз наружу через щель под воротами, заложенную длинной доской. До самого утра чуть не бежал назад, в Польшу, чтоб рассказать о провале. Раковские жиды (купец, давший товар, и родичи Юдки Балеруна, попавшего вместе с товаром) немедленно послали в Минск Шломо Жеребца, имевшего там много влиятельных знакомых. Через них он должен был выкупить, если удастся, Юдку и, по возможности, всю группу. С темнотой Шломо вместе с братом Гвоздя, Михалом Горбатым, и пятью тысячами долларов в халяве сапога отправились через границу.
За первым несчастьем не замедлило второе. Следующей же ночью на границе неподалеку от Вольмы польские погранцы погнали кота группе Кузьмы Стердоня из Душкова. Двое попались на польской стороне, один — в Советах. Уцелело четверо. Потом попалась Гелька Пудель из Белькиной группы. Потерялась в лесу у Затычина, на советской стороне, и не вернулась. А через несколько дней дошла и вовсе жуткая новость: за пять километров от границы, у Лесы, близ Горани нашли в болоте пять трупов. Была то группа из Кучкунов. Чекисты расследовали это дело, арестовали шесть хлопцев из Красного, Ляхов и Барсуков. Хлопцы те промышляли охотой на контрабандистов и утречком подловили кучкуновскую группу. Товар и деньги забрали, а самих на болото отвели. Постреляли из нагана, тела в топь втоптали, прикрыли поверху сучьями. Не хотели, видать, огласки, а мертвые никому не расскажут.
И нас не миновала беда. Шли мы вдесятером за границу с товаром. А на границе нас пугнули. Мы — наутек. Позади выстрелы грохочут, и мы в кромешной темноте, дорогу нюхом вынюхиваем, только по звукам шагов и пытаемся различить, куда идем. Уже в километре от границы, а выстрелы все грохочут. Хорошую на нас засаду сладили. Вдруг услышал — вскрикнул кто-то. И споткнулся о сидящего на земле человека. Перескочил через него, и слышу:
— Хлопцы! Подстрелили меня!
Я остановился, зову своих:
— Хлопцы, стойте! За нами уже не гонятся!
Все стали. Подошли к раненому. То был Элегант. Пуля прошила ему щиколку левой ноги. Дальше идти уже не мог. Немного посовещавшись, решили возвращаться, посменно неся раненого, по двое. Тут отозвался Мамут:
— Я сам его до Ракова отнесу. Справлюсь. А вы дальше валите.
Снова начали мы совещаться. Порешили, что Мамут со Щуром вернутся в Раков с Элегантом, а мы отправимся дальше. Разодрали рубашку, перевязали Элеганта, и Мамут взял его на закорки. Щур первый пошел, разведывать дорогу. Носки оставили нам. Лорд хотел взять вторую, но ему, проводнику, с двумя было бы слишком тяжело. В конце концов, по две носки взяли Болек Комета, Ванька Большевик и я.
Тогда добрались до мелины нормально. А по дороге назад снова нас обстреляли. Но не попали. Мамут же со Щуром без всяких проблем протащили через границу раненого Элеганта и отнесли домой.
Когда, отправив Элеганта, пошли дальше, я под двойным грузом брел, выбиваясь из сил, стараясь только не потерять из виду серое пятно носки на плечах Лорда. Начало казаться вдруг: это могильный камень и должны быть на нем имя с фамилией, год рождения и год смерти. Воображение нарисовало и крест на этой плите, и памятную надпись. Думаю: «Ну, точно ходим с плитой гробовой на плечах. А я сейчас целых две тащу».
Да, трудная и опасная доля контрабандиста! Но бросать ее не хочу. Тянет меня, будто к кокаину. Тайна тянет, ночная дорога. Хочется щекотки в нервах, игры со смертью. Люблю я возвращаться с далеких трудных вылазок. А потом — водка, песни, гармонь, веселые лица хлопцев и девчат. Те любят нас не за наши деньги, а за смелость, веселье, за бесшабашную гульбу и презрение к деньгам. Книжки — не для нас. Политика — тоже. Газет не видел уже несколько месяцев. И все наши мысли только об одном: граница, граница, граница. А с нею еще немного, в зависимости от вкуса и темперамента: водка, музыка, карты, бабы.
Подумалось мне тоже: за те две недели, когда посыпались на нас несчастья, ни разу Большая Медведица не выглянула. Ночное небо застлали тучи.
Вернувшись, пошел к Мамуту. Узнать хотел, как им удалось Элеганта через границу перетащить. Когда зашел в бедную его хату, увидел странную картину. Мамут, тяжелый, медведеватый, стоял посреди комнаты на четвереньках, на плечах его сидел пятилетний мальчуган и погонял «коня» хворостиною. Другой мальчуган, чуть постарше, подгонял папочку сзади. Крохотная же девчонка, сидя на перевернутых ночевках, глядела на эту забаву и смеялась. А Мамут, неуклюже изображая коня, поскакал галопом по избе, заржал… Эх, Мамут! Добрейший, мягчайший он был человек из всех, кого я знал. Всякий мог его обмануть, использовать, обидеть. Лицо его пугало лишь на первый взгляд. И в то же время, стань он перед судом, газеты наверняка писали бы про «угрюмый взгляд бродяги-изверга», о «каменном лице, лишенном человечности, исполненном грубости и жестокости», о «зверских инстинктах дегенерата». Писали бы такое про беднягу, безобидного, как младенец!
Когда я зашел, Мамутова жена, маленькая, сухонькая женщина, воскликнула горестно, показывая на Мамута:
— Совсем он ума лишился, совсем! Всегда так. Разума ни на грош! Бей его, лупи — никакого толку! Не может без дурости.
А конь-Мамут стоял посреди избы — огромный, тяжкий, неуклюжий, кругом виноватый. На губах — жалкая улыбка. Глазами просил жену, чтобы не ругала, не унижала его при госте. Я и не знал, что у Мамута столько потомства — еще и младенец лежал в люльке.
Когда вернулся домой, узнал: Юзек Трофида прислал письмо. Писал, присудили ему шесть месяцев ареста, сидит он в тюрьме, в Новогрудке.
Беспокоила меня очень сестра Юзека, Геля. Грустная ходила, задумчивая. Много раз видел: глаза красные, заплаканные. Видел и то, что частенько вечером уходила из дому. Однажды проследил я, куда она ходит. Лучше бы того не делал! Увидел я, как Геля в сумерках встретилась на мосту с Алинчуком и пошла вместе с ним за местечко. Если б Юзек был дома, я б его попросил предостеречь сестру, рассказать, что Альфред ко многим местным девчатам подъезжал и к Феле. А самому как сказать? Она б не поняла. Подумала бы: завидую. Вернулась тогда Геля поутру, бледная, измученная. На лице — следы слез. А я ничего сказать не мог.
Зато подружился я с Янинкой. Когда я по вечерам оставался дома, она ко мне приходила, рассказывала истории сказочные про птиц, зверей, о том, про что цветы говорят и деревья. Откуда у нее такая фантазия? И любопытно мне: что же будет через несколько лет, когда станет взрослой паненкой?
Однажды поутру пришел ко мне Лорд. Увидел, что Янинка поблизости, и говорит:
— Выдь-ка на минутку. Мне тут поговорить надо.
Девочка на нас посмотрела и сказала с необыкновенной важностью:
— Можете говорить, про что хотите! Про меня все знают: я чужих секретов не слушаю и не выдаю!
Лорд рассмеялся. Подхватил ее под руки, подкинул вверх.
— Я этого не люблю! — крикнула Янинка.
— Простите, панна! — Лорд низко поклонился.
— Прощаю! Я и не разозлилась… А теперь пойду… Не смею вам мешать!
И вышла.
— Это номер будет, точно! — заметил Лорд.
— Милый ребенок, — говорю.
— Ребенок? Да шикса эта всем нашим марухам фору даст! Такая важность! Фу-ты, ну-ты!
— С чем пришел?
— Агранду делать будем. Шухер сыграем.
— Когда?
— Сегодня пойдем на ту сторону. Обратно понесем шкурки. Понимаешь?
— Так.
— Шухер сыграем в лесу у границы. Сезон кончается, нужно малость подзаработать на зиму.
— Хлопцы знают?
— Сами просили. Знают Комета, Щур и Мамут.
— Не выдал бы кто.
— Ну, постараемся. Кто знает, как у нас выйдет. А нужно ведь заработать. Седьмой месяц чисто ходим. Так хоть одну напоследок надо. Предупреждаю, чтоб знал. Когда драпать будем, при мне держись.
— Добре.
Вечером вышли в дорогу. Товар дорогой: кожи выделанные. Сафьян, лакир, хром. Еще батист, чулки красивые. Носки аж по сорок фунтов.
Пришли в третьем часу ночи. Хлопцы пошли в сарай, а мы с Левкой направились к хутору. Поначалу хлопцы малость меня донимали, подначивали, намекая про мой роман с Бомбиной. Особенно Ванька Большевик усердствовал. Правда, Лорд как-то сказал ему: «Тебе жалко? Глаза от жадности повылазили? Правду Бомбина сказала: не про пса колбаса!»
С ним все согласились, в особенности когда заметили, что Бомбина куда лучше стала заботиться о пропитании всей партии. Потому в тот раз никто уже не сказал ничего. Пришли на мелину, хлопцы — в сарай, а мы с Левкой пошли в дом. Обычное дело. Только Ванька буркнул:
— Ноги греть пошел!
Бомбина открыла дверь. Не стесняясь Левки, обняла меня полными горячими руками. Потом споро спровадила Левку в его закут и, веселая, возбужденная, нетерпеливая, повернулась ко мне. Помогла раздеться, стащить сапоги, заляпанные до голенищ. А поутру я все нашел сухим и чистым.
Хорошо с ней было. Со временем заметил, что любить меня стала иначе… тревожней как-то, ревнивей. И я все больше к ней привязывался и тосковал, когда долго не видел. Убедил себя, что разница в годах особо и не важна. А иногда и вовсе казалось: младше меня она. Столько в ней было живости, смеха, какого-то вовсе девчоночьего легкомыслия.
Назавтра двинулись обратно. Несли шкурки. Я на плечах тащил триста восемьдесят шкурок алтайской белки (девятнадцать пачек по двадцать шкурок в пачке). Веса почти не чувствовал. Остальные тоже несли шкурки, ту самую белку.
Дорога выдалась трудной. Ночь чернее смолы, земля вязкая, липкая, как патока. Тащились мы, как мухи по клею, чуть выдирая ноги из топи. Трижды пришлось отдыхать, пока добирались до приграничного леса у Затычина, где хотели сыграть шухер.
Вошли в лес. Пошли гуськом по узкой тропке, вьющейся между густо растущими соснами. Вышли на поляну, потом выбрались на широкую, выбитую колесами телег дорогу. Каблуки вдруг застучали по доскам. Подумал, мост, стараюсь ступать поосторожнее, потише.
Щур обогнал меня, скрылся в темноте. Лорд задержался, взял за руку. Шепнул в самое ухо: «Сейчас!» И мы свернули с дороги. Вдруг слева из кустов вырвался свет фонаря, полоснул по длинной цепочке идущих по дороге хлопцев. И в тот же момент нечеловеческий голос проревел: «Сто-о-ой! Стрелять буду! Сто-о-ой!!!»
Фонарик погас. Грохнули два револьверных выстрела, потом еще два. Вокруг будто вскипело все. Забегали, заорали. Затрещали придорожные кусты, топот по всему лесу. Мы с Лордом сразу влево направились, к выстрелам и крикам, а хлопцы ломанулись направо.
Через несколько минут все стихло. Мы встали. Послышался свист. Лорд свистнул в ответ. Вскоре подошел к нам Щур. Это он орал и стрелял. А теперь тихо посмеивался.
— Ну, как оно? — спросил у Лорда.
— Файно! Холера, шухер вышел первого класса!
Границу перешли без приключений, и назавтра Болек Комета повез шкурки в Вильню. Там их намного дороже покупали, чем в местечке. Я, Лорд, Щур и Мамут отдали ему свои доли. Вместе вышло тысяча восемьсот сорок шкурок.
— Только бы не свалил, отоварившись, — беспокоился Щур.
— Кто, он? — усмехался Лорд. — Да его с границы и миллионами не выманишь!
Вернулся Комета через два дня. Привез две тысячи двадцать четыре доллара, по доллару десять центов за шкурку. Отсчитали мы ему двадцать четыре доллара за дорогу, остальное поделили, по четыре сотни на нос.
Только наша пятерка и знала про агранду. Остальные думали, нам и вправду кота пугнули. Некоторые посчитали даже: Макаров нас выследил. Ванька Большевик так и божился, что в свете фонаря видел и его бороду рыжую, и шрам на левой щеке. Все хлопцы благополучно вернулись в местечко. И товар купцу не вернули. Само собой, побросали, растеряли, а где, как и почему — никто ж не объяснит.
13
Снова лег снег и уже не растаял. Зима пришла суровая. Морозная, снежная. Крепко встала на пограничье, укрыла землю грубым мохнатым покрывалом на долгий холодный сон.
Пришло время «белой дорожки». Золотой сезон кончился. Хлопцы забавлялись. Пили, ели, ссорились, ухлестывали за девчатами. Казалось, будто каждый торопится как можно скорее спустить заработанное.
Гинта изрядно на том зарабатывала. Салон ее всегда был битком набит, даже дверей не закрывали. Контрабандисты чуть не купались в водке. Болек Комета прямо жил там. Пил, пил и пил. Непонятно, когда спал. Фелек Маруда не отставал. Правда, пил поменьше — едой был занят. Антоний играл без устали. Комета привез ему новую дорогущую гармонь и подарил на память. Ну, гармонист и наяривал как в последний день.
Однажды вечером встретил я на базаре Еську Гусятника. Он поздоровался весело.
— Куда идешь? — спрашивает.
— Домой.
— Рано еще. Пошли ко мне. Побалакаем малость. Расскажу тебе кое-что интересное.
Видя, что я сомневаюсь, добавил:
— Про Альфреда Алинчука!
Я пошел.
Жена ожидала Еську с ужином на столе. Уселись мы. Еська говорит жене:
— Ты спать иди, Дора. Нам-таки поговорить тут надо.
Когда она вышла, Еся посмотрел на меня важно и сообщил:
— Вы поосторожней. Альфред засыпать вас хочет.
— Как? Полиции донести?
— Не-а, — Гусятник усмехнулся. — Он вас крепко завалить хочет. На другой стороне.
— Откуда знаешь?
— Расспрашивал он, куда ходите. И где мелина у группы Лорда.
— Ну, неужто на такое решится?
— Он? Мало ты его знаешь. Он любую пакость может!
— Да не верю я! Он же сам из фартовых!
— Фартовый? — Еська рассмеялся. — Дерьмо он последнее! Думаешь, он за границей прячется? Нет, там он как по проспекту!
— Так Алинчуки ж со стволами ходят!
— Ходят, потому что гультаев боятся. А про вас с понтами расспрашивал. Будто для себя другую мелину отыскать хочет. А на самом деле — засыпать он вас хочет. Так вы смотрите! У меня тут есть подозрение…
Еська замолк.
— Какое?
— Никому не скажешь?
— Нет.
— Слово даешь?
— Даю.
— Он группу Гвоздя засыпал. Хотел у него Аньку Завишанку отбить.
— Да что ты говоришь такое?
— Я не совсем уверен. Но знаю, что в Минске он с Макаровым встречался. Вместе они забавляются. Макаров помогает Алинчукам с товаром ходить, а за то Альфред работу ему подыскивает. Хлопцев сыплет.
Я и не знал, что тут сказать. Подумал малость и говорю:
— Знаешь, Еся, важное дело это. Нужно мне посоветоваться с Сашкой и Лордом.
— Нельзя тебе! Ты же слово дал! Я больше разузнаю, а тогда уже и управляйтесь с Альфредом. Пока нельзя. Скажи только Лорду, чтоб ухо востро держал и мелину сменил. Рассказать можно: дескать, слышал, Альфред гопоту нашу, бунтуев, выпытывает, куда ходим. Но предупреди, чтобы и он никому ни слова… Хочет вас Альфред засыпать, как Гвоздя!
Поздно ночью возвращался домой, раздумывая над делом. Как тут быть? Не ровен час, и отвадишь хлопцев от Лениной мелины. А как тогда с ней встречаться?
Назавтра пошел к Лорду. Застал его дома. После вчерашней пьянки у Лорда болела голова. И хотелось это дело поправить.
— Знаешь, Болек, — говорю ему, — надо нам с мелиной поосторожнее. Альфред ходит да расспрашивает, где у нас точка в Советах. Не иначе, подставить нас хочет.
— Откуда знаешь?
— От хлопца одного.
— Холера с Альфредом этим! Во сука!
— Осторожней нам надо!
— Так… будем осторожней. Не дождется он, всех не засыплет! Самое большее, одного залапает… Так ты точно знаешь?
— Не то, чтобы очень. Но похоже на правду.
Не хотелось мне слишком уж пугать Лорда, не хотелось, чтоб он мелину поменял.
— Хлопцам нужно сказать, чтобы не трепали никому про нашу точку в Советах, — заключил Лорд.
— Так и надо. Скажи им. Пусть поостерегутся, язык за зубами — и точка! В конце концов, никто имени Бомбины не знает и навряд ли описать может, где ее хутор.
Больше мы про то не говорили. А потом пошли вместе до Гинты.
Через два дня вышли впервые на работу по «белой стежке». Как обычно, вел партию Лорд, за товаром смотрел Левка. Товар был дешевый: подметки, женские свитера, шерстяные платки — к зимнему сезону. Кроме меня, Левы и Лорда, шли Мамут, Щур, Болек Комета, Ванька Большевик, Фелек Маруда. Всего восемь. Петрук Философ тяжело хворал, Элегант еще от раны не оправился. Идем осторожно. Не полями напрямик к хутору и огородам, а краем молодого леска до выезженной санями дороги. По ней, чтоб следов не оставлять, и подходим к хутору.
На работу выходили мы с Бокровки, из сарая на краю местечка, куда еще днем принесли носки. Вышли рано, едва стемнело. Нарочно это сделали. Наши погранцы едва ли рассчитывают, что контрабандисты в такую рань выйдут.
Во втором часу ночи добрались до Бомбининого хутора. Лорд группу остановил, ко мне подходит.
— Может, первый пойдешь?.. Посмотришь, все ли в порядке на мелине, в сарае и огороде. Весь хутор осмотри. Спроси Бомбину, не заходил ли кто днем. Если все в порядке, выйди во двор и фонариком зажженным три круга сделай. Ну так пойдешь первым?
— Ладно, пойду.
— Носку оставь. Легче будет.
Скинул носку с плеч и вышел на дорогу. До хутора шагов триста. Идется быстро, весело. Без носки так легко! Смотрю вверх и налево, на Большую Медведицу, и усмехаюсь. Повторяю имена звезд: Ева, Ирина, София, Мария, Елена, Лидия и Леония… Леня. Повторяю: Леня, Леня, и смеюсь. Наверное, спит сейчас и не подозревает, кто к ней идет.
Ускоряю шаги. Калитка и ворота заперты. Перелезаю через изгородь во двор. Из глубины его бросается ко мне большой пес.
— Нерон, Нерон! — кричу ему.
Подбегает, прыгает, скуля радостно, становится на задние лапы, норовит лизнуть в лицо. Отпихиваю его.
Стучу тихонько в окно. Через минуту вижу за стеклом белое пятно лица.
— Кто там?
— Я.
— Владя?
— Так. Открой, Леня.
— Сейчас, сейчас!
Гремит засов. Я захожу в теплую избу. Леня, видно, только что из постели. Целует меня нежно.
— Какой ты мерзлый весь! Хлопцы пришли?
— Один я пришел.
— Один?
— Так.
— Вправду? А зачем?
— Соскучился по тебе — и айда в дорогу!
Смеется и говорит задумчиво:
— Ох, врешь ты. Не может такого быть.
Рассказал я ей, в чем дело. Она заверила: все в порядке на хуторе. Однако я все равно осмотрел подворье и огород, обследовал сарай и только потом вышел на дорогу.
Вынул фонарик из кармана, зажег, описал им три больших круга. Подождал.
Вскоре на снежной белизне дороги показались один за другим хлопцы. Впустил я их на подворье, закрыл калитку за ними на засов. Хлопцы пошли в сарай, а я с Левой — в избу.
Леня уже оделась. Хлопочет, суетится. Печь растапливает, готовит еду для меня. Хлопцы и Лева спать пошли.
Поздней, когда уже ложились в постель, Леня говорит мне:
— Знаешь, Владку, подумалось мне: останься ты у меня насовсем.
— А как так?
— Я все обдумала. Мелину я прикрою — хватит нам этого. Денег у меня хватает, и на тебя тоже. Жить будем. Документы для тебя сделаем. У меня знакомый в волисполкоме, в Заславле. Сделает.
— Не, не хочу я.
— Ты меня не любишь, что ли?
— Тут другое. Я бы у себя хотел жить, за границей.
Леня долго меня убеждала, уговаривала. Разные доводы приводила. В конце концов, сказал ей, что подумаю. Однако знал заранее, что не соглашусь. Занудился бы я вусмерть. Может, и Леня бы мне надоела. Но ей я того не сказал.
14
Праздник Рождества Господня и Новый год прошли очень весело, а после них мало у кого из хлопцев осталось хоть что-нибудь в карманах.
В январе снова пошли за границу — нужда погнала. Пошли, хотя дорога стала очень трудной, метели крутили, по полям и лесам шастали волки. Купцы давали зряшный товар, рисковать не хотели. Знали: ходить стало слишком опасно, а хлопцы, усталые и напуганные, споры разыграть шухер. Партии шли немногочисленные и редко. Потому чаще всего ходили на свой страх и риск. Носили спирт — его в Советах хорошо брали, и продать его было легко.
Под праздник Богоявления пришел ко мне Лорд. Сказал:
— Феля меня прислала.
— Чего хочет? — спросил я, удивленный.
— Приглашала тебя завтра в гости.
— Но Сашки же дома нету! Он в Столбцы поехал.
— Да ничего такого. Она вечеринку устраивает, по маленькой. Несколько девчат, пару хлопцев.
— Ты пойдешь?
— Так.
— Добре. Тогда и я пойду.
Назавтра приоделся в особенности старательно и пошел вместе с Лордом к Феле. Явились в седьмом часу, а все уже и собрались. Заметил: Феля так подобрала девчат и хлопцев, чтобы вечеринка обошлась без ссор и чтобы все чувствовали себя «как дома».
Кроме меня и Лорда, из знакомых были Петрук Философ, Юлек Чудило и Элегант. Кроме них, братья Фабьяньские, Кароль и Жыгмунт — дальняя родня Веблинов. Недавно приехали из Вильни и посматривали на нас свысока, держались отчужденно. Из девчат были, кроме Фели, Белька, Андзя Солдат, Маня Дзюньдзя, а еще Лютка Зубик, сменившая в Белькиной партии Маньку Пудель, попавшуюся в Советах и теперь сидевшую в минской тюрьме. Лютка была мясистая деваха, колыхавшая при каждом шаге жирами и тем немало возбуждавшая хлопцев. Еще была кузина Фели, молодая, едва шестнадцатилетняя девочка, ладная худенькая блондинка с красивыми глазами. Звали ее Зосей.
Когда пришли, молодежь уже развлекалась вовсю. На комоде стоял здоровенный граммофон и, лоснясь никелевой трубой, изрыгал вальс. Посреди зала кружились две пары. Элегант танцевал с Зосей, Кароль Фабьяньский — с Фелей.
Мы церемонно поздоровались со всеми, познакомились с незнакомыми. Жыгмунт подал мне неохотно, будто милостыню, мяконькую и маленькую, почти женскую ладошку. Губки надул и выдул важно: «Фа-а-бьяньски!»
Не понравился он мне. Не люблю фраерков щеголеватых. Стиснул ему руку так, что он едва не вскрикнул и представился: «Ла-а-брович!»
Уселся за маленький столик, за каким уже сидели Белька и Андзя Солдат. Заговорил с Белькой, а сам украдкой посматриваю на Фелю, все еще танцующую с Каролем. Красивая она была, в черном платье. Темное лучше всего ей шло. В темном, как в раме, выделялись очертания красивой шеи, лица. В танце двигалась так легко, что казалось, танцем одним и дышит, им и жива. Глаз от нее оторвать не мог. Почти и не слушал, что мне Белька говорила, смотрел и смотрел. Та, мне кажется, заметила и говорит:
— Пан Владко совсем невнимательный, не слушает меня!
Я опомнился, принялся оживленно с ней говорить, проявляя особенный интерес к ее особе. Предложил станцевать.
— Пану на границе танцев не хватило? — осведомилась Белька.
— И то верно.
Наклонился к ней через столик и говорю, на ты обращаясь, как у нас между своими:
— Белечка, а когда?
— Что — когда?
— Что обещала прошлым разом, когда до дому провожал.
— Спешишь? — рассмеялась.
— Очень!
— Так потерпи. Или водички холодной попей.
А Феля заметила, что так мы по-свойски говорим. Глянула пару раз, потом танцевать перестала, подошла к нам с партнером вместе. Поздоровалась со мной.
— Добрый вечер, пане Владзю!
— Добрый вечер!
— Панове, познакомьтесь! — кивнула, указывая на Фабьяньского.
Кароль подает мне такую же крохотную, как и у брата его, ладонь и так же тянет:
— Фа-а-бьяньски!
И я тяну, басисто, гнусаво и вызывающе, подделываясь:
— Ла-а-брович!
Белька рассмеялась. Феля посмотрела на меня задумчиво. Кароль отшатнулся.
— Больно пан нервный, — говорю Каролю.
— Как пуделек французский, — добавляет Лорд и, делая вид, что к Каролю вовсе это не относится, говорит Андзе: — Был он миленький, и хорошенький, и робкий, и пугливый…
Белька смеется. Феля хмурит брови, идет к граммофону, меняет пластинку. Кароль садится рядом с Жыгмунтом, начинают разговаривать вполголоса, поглядывая недобро на окружающих. Оба недовольны.
Вдруг из граммофонной трубы выплывает вдохновенный тенор:
Где ж ты, любимый? Где ты, ангел мой?— В фонаре, — серьезно замечает Лорд.
Девчата прыскают. Хлопцы следом. Фабьяньские морщатся. Мне очень захотелось выпить. Сказал про то Лорду.
— Умно! — согласился он.
Подошел к Феле. Посмеиваясь, заговорил. Вышли вместе в другую комнату. Гляжу вслед: удивительная фигура, стройные ноги, чуть покачивает бедрами на ходу… И тянет меня к ней, тянет и в то же время — боюсь ее и… ненавижу. Черт-те знает что!
Через несколько минут возвращается, идет ко мне. Улыбается, а мне чудится насмешка. Говорит, глядя прямо в глаза:
— Пан Болеслав просит пана на минуточку.
Выхожу в соседнюю комнату, ту самую, где приключилась история с Алинчуками и краплеными картами. Стол теперь стоит у окна, а за столом — Лорд.
— Ходь сюда, брате! Гульнуть надо.
На столе большой графин водки, подкрашенной вишневым соком. На тарелках лежат хлеб, огурцы, большие куски шинки. Лорд обводит стол рукой:
— Чем хата богата!
Берем стаканы, наливаем, пьем. Выставленные Фелей рюмки так и стоят сиротливо пустые.
— Фелька предупреждала, чтоб я тебя не спаивал, — сообщил Лорд, осклабившись.
— Да ну?
— Да то! Все к тому. Ты за ней поспевай. Царь-баба! Альфред за ней два года ухлестывал. То-то нос ему надерешь!
Торопливо едим и пьем. Водка кончилась. А мы повеселели. Лорд ест, на меня глядит, да и говорит:
— Пользуйся случаем! Я Фельку как облупленную знаю. Для тебя она вечеринку сладила. Нарочно тебя подальше держит, чтоб сильнее к ней потянулся, понял? Ты одиннадцатую заповедь не забывай. С бабами надо умеючи, так-то.
Начинает учительским тоном завзятого донжуана меня поучать. Мне слушать его отвратно, но не говорю ничего, слушаю, знаю: в самом деле хочет мне помочь, от чистого сердца.
Возвращаемся в зал. Граммофон играет полечку, Феля танцует с Жыгмунтом Фабьяньским. Часто на меня поглядывает. Удивительная женщина: тело тянет магнитом, а глаза — отталкивают. Хлопцы от нее шалеют, а она надо всеми смеется.
Водка добавила мне и веселья, и настроения. Говорю с Белькой, улыбаюсь Феле. Вижу на лице ее тревогу. Думает, наверное, не слишком ли я пьяный.
Перестает танцевать, садится рядом с Лордом. Заговаривает, натянуто улыбаясь. Гляжу ей в глаза и вдруг чувствую: хочет, чтобы на танец ее пригласил… По избе кружат пары. Зося танцует с Юлеком, Лютка Зубик, крепкая, мясистая, смешно трясет жирными икрами. Трудно не улыбнуться, на нее глядя. А танцует с Элегантом, который, изящно склонив голову, с превеликим умением ведет в танце объемистую партнершу.
Феля все смотрит на меня. Чувствую ее просьбу, не просьбу даже — приказ. Встаю и иду к ней.
— Панна Феля, прошу танец!
С минуту смотрит мне в глаза. И вдруг — выражение ее меняется.
— Большое пану спасибо! — говорит почти с издевкой. — Отдохнуть мне хочется.
Стою дурак дураком. Пристыженный, иду к Бельке. Та усмехается.
— Панна Белька! Позволите?
Дивчина встает. Мы кружимся вместе по залу. Хочу думать про Фелю, но думается про Бельку. Такое лицо у нее симпатичное, глаза хорошие и фигурка очень ничего! Хлопцы за ней увиваются. Дразнит их высокая грудь… Может, и ладней Лени будет! Прижимаю ее сильнее, ни на кого не обращая внимания. Беля шепчет:
— Перестань! Сумасшедший, а ну прекрати, а то как двину сейчас! Люди смотрят!
Вижу — одни танцуем. Все на нас смотрят. Вижу улыбки. Кароль с Жыгмунтом презрительно кривятся.
— Плюнь на них, любимая! Пусть смотрят! — шепчу я.
— Тебе-то легко сказать, а мне как начнут кости мыть!
Останавливаемся, садимся у окна. Делаем вид, что ничего и не случилось. Феля с Зосей выходят, готовят чай. Братья Фабьяньские держатся в стороне. Лорд развалился в кресле между Андзей Солдат и Манькой Дзюньдзей, рассказывает что-то. Девчата хихикают.
Феля с Зосей возвращаются. С нашей помощью ставят стол посреди избы. Накрывают. На столе — печенье, варенье, пирожные, конфеты, орехи.
Феля приглашает за стол. Садимся, пьем чай. Все, кроме меня с Лордом, ведут себя церемонно до крайности. Кароль с Жыгмунтом, держа стаканы, оттопыривают мизинчики. Девчата изо всех сил стараются не хлюпать. Пирожные кушают как бы нехотя, с мучительной медленностью. И разговор не клеится. Я чувствую себя вовсе не в своей тарелке. Кислые мины Фабьяньских и ухмылки их портят настроение. Феля ставит новую пластинку: звучную веселую «Польку в лесу».
Танцуем снова. Я — с Белькой, потом с Зосей, с Люткой. Танцуя с Белькой, спрашиваю:
— Можно до дома тебя проводить?
— Знаю, чего хочешь! — усмехается она.
— А что в том плохого? Ты мне очень нравишься!
— А язык за зубами держать умеешь?
— Слово даю! Никакому псу не сбрехну! Да чтоб меня первой же пулей на границе сшибло!
— Но-но, не клянись зря! Верю тебе. Я сейчас попрощаюсь, а ты подожди десять минут, с Люткой потанцуй, да иди домой. Я тебя подожду в первом переулке слева. Там никого.
Танцы кончились. Я подошел к контрабандистской компании, к Лорду. Феля разговаривала с Зосей и братьями Фабьяньскими. Начал заигрывать с Дзюньдзей. Вскоре Белька попрощалась и ушла. Сказала: голова болит. Снова начались танцы. Я заметил, что Элегант тоже собирается домой. Тогда и я попрощался, да и пошел. На улице говорю ему:
— Я Лорду тут сказать кое-что забыл! Ты иди, а я догоню через пару минут!
Зашел я за ворота, подождал, пока Элегант скрылся, и пошел быстро к переулку. Бельку застать не надеялся — мороз сильный стоял.
Иду быстро, никого не видно. Вдруг слышу легкий посвист и вижу Бельку, выходящую из темноты, из закутка между стеной и забором.
— Замерзла? — спрашиваю.
— А-а… я горячая. Мне мороз не вредит.
Прижимаю ее к себе, целую холодные, твердые, гладкие, как кость, губы. Беру ее под руку, и мы пробираемся заулками, минуя большие улицы.
Снег скрипит под ногами. Мороз щиплет щеки. На небе поблескивают звезды, заглядываются на нас игриво. Дивно сверкает Большая Медведица. Смотрю на нее и думаю: «Жаль, что ни одной звезды не назвал Белей».
15
Полфевраля я за границу не ходил и не гадал, что первый мой февральский выход кончится для меня трагично и я надолго окажусь за решеткой.
Пошел как обычно, с группой Лорда. Девять нас было: Лорд, Лева, Щур, Болек Комета, Ванька Большевик, Мамут, Фелек Маруда и Элегант. Другие по разным причинам не пошли. Товар несли мы дорогой — выделанные кожи: хром, лак, сафьян. Все наилучшего качества. Носки тяжелые, аж по сорок фунтов, но небольшие и удобно пакованные.
Двинулись, как только стемнело. Мело немного. Как раз хорошо. Но после второй, советской, границы замело по-настоящему. Завыло и захлестало. Скоро вся околица превратилась в море летучего снега.
Мы остановились, сбились в кучу. Стараясь перекричать ветер, Левка предложил нам возвращаться в местечко. Лорд не соглашался. Говорил, мы треть дороги уже осилили, а возвращаться опасней, чем вперед идти: трудно разглядеть, где граница, и попасться легко… Неправду говорил, потому что по такой погоде погранцы по землянкам сидят да у огня греются. Знают: в такую ночь контрабандистов едва ли встретишь, а вот волчью стаю — запросто. Лишь изредка бродят вдоль границы усиленные патрули.
Но пошли дальше. Лорд, Мамут и Комета по очереди вели группу. Первому труднее идти, нужно тропить глубокий снег.
Вскоре метель стала ураганом. Совершалось вовсе удивительное: ветер срывал снег и швырял высоко вверх, а мы, измученные и ослепшие, брели по голой обледенелой земле. Скользили, падали. Негде ногу поставить, чтобы не соскользнула. А через несколько минут ураган обваливал нам на головы все поднятое. Иногда по шею засыпало рыхлой, зыбкой массой снега. Тогда останавливались, отдыхали. Потом медленно, шаг за шагом, пробирались вперед, утопая в сугробах.
Ураган, казалось, задался целью не пустить нас, не позволить дойти. Неожиданно поддувал сзади, будто помогая. Толкал сильней, вдруг отступал, и мы, не ожидая, валились на спины. Утихал на секунды, а когда мы вставали и начинали идти вперед, одним ударом спереди заставлял нас остановиться. Выждав, наклонившись вперед и расставив руки, чтобы удержать равновесие, все-таки продвигаемся. Выглядит так, будто плывем в необъятном белом водовороте. Иногда дует вверх и будто смеется весело, торжествующе, а мы снова падаем на снег, выжидая и едва дыша. Сидим в снегу, а ветер воет над нами. Кажется, вовсе ему нет до нас дела. Забавляется: поет, взвизгивает, хохочет, повевает, гоняется за снежными хлопьями.
Встаем — и он встает. Бешеный, ледяной, острый, безжалостный. Сперва бьет по глазам целым сугробом снега. Наклоняем лица — приветствуем его и умоляем. А его не уговорить. Мало ему сугроба, так он, бешеный, злой, пьяный, сгребает снег с необъятного пространства полей и валит нам на головы. Уже и не слышно, как торжествует, ухает и рычит. Мы оглохли и ослепли. Захлебываемся мелким, холодным, колючим пухом.
Выбираемся из завала. На ощупь находим друг друга и, проваливаясь по грудь в снег, спускаемся с длинного, плавно снижающегося взгорья. Ветер молчит, и оттого страшно: снова готовит сюрприз! И не ошибаемся. Неведомо откуда пара тонн снега с разгону плюхается нам на головы. Лечь наземь не успеваем — сейчас же бьет по лицам ураганный порыв. Видно, поглядеть решил, что там с заваленными. И снова гора снега валится на нас. Опять дует, вздымает, хлещет — опять обвал! Раз за разом, удар за ударом.
Так лишь люди забавляются. Бросят в чан девять жучков-хрущиков, а потом швыряют мукой в них да выдувают ее. Забава безумца, глупая и жестокая. И у нашего палача жалости не было. Менял пытку, способ нападения, хоть мы вовсе противиться не могли. Устраивал засады. Затаивался. Громоздил на пути снеговые горы. Хотел нас ослепить, повалить, раздавить, размозжить. Шалел, метался. То разражался сатанинским хохотом, то стонал, то взвизгивал.
Я шел сощурившись. Крепко натянул шапку на уши, наклонился вперед. Шатался, падал, вяз в сугробах, но упорно продвигался, выискивая всякую возможность сделать хоть сколько шагов. Время от времени останавливался вместе со всеми — посмотреть, не отстал ли кто.
Когда уходили с поля в лес, шлось легче. Там заслоняли деревья, разбивали атаки ветра. Там отдыхали. Но лес кончался, и снова приходилось выходить на поле и продираться вперед, стиснув зубы, сжимая кулаки.
Шли мы, вовсе не заботясь об осторожности. Кто мог нас заметить? Кто в такую ночь выйдет из дому? Одни мы живые на огромной, залитой потоками снега равнине.
Несколько раз останавливались, пили спирт. Сил прибавлялось для новой борьбы со снежной бурей. Бежал по телу огонь, становилось жарко и душно. По лицу лил пот. С раздраженных глаз сочились слезы. Не шли мы — пробивались. А ветер вокруг рычал, плакал, выл, пел, свистел. Рвал на нас одежду. Сдирал носки. Мотал перед нами снегом, как белым плащом. Накатывал морем, грохотал громом и хохотал, хохотал, хохотал…
Казалось: и не выбредем оттуда, останемся навсегда в кромешном белом аду. Но удивительно: когда, ослепленный, закрывал глаза, иногда видел голубое чистое небо, свет солнца, цветы. Видел красивое лицо Фели, улыбку Бельки. Слышал гармонь, песню Славика. А чаще всего вставала перед глазами Леня. Видел ее отчетливо, слышал ее голос и смех. О ней думал чаще всего. Может, потому что с ней было мне всего лучше, теплее, спокойнее.
Может, через час или два приду к ней. А может — никогда.
Под самое утро, полностью выбившись из сил, дотащились мы до хутора Бомбины. Шли мы четырнадцать часов. Хлопцы сели на снег и казалось: все, с места не двинутся. Выглядели жутко.
— Пойдешь на хутор? — спросил меня Лорд.
— Так.
— Иди и смотри! В такую ночь трудно что-то заметить, следов-то нету.
— Добре, я присмотрюсь особо.
— Три круга сделаешь, но только отчетливо.
Выпил немного спирту, кинул носку на снег да и пошел к хутору. Залез через ограду во двор. Насторожился — пес не кинулся навстречу. Подумал: может, забился в какую дыру да спит? Подошел к окну и тихо постучал по стеклу. Никто не отозвался. Постучал сильней. В избе зажгли лампу. Но окна были занавешены, я не видел, что внутри делается. Удивился: почему Леня в окно не выглянула? Может, и не надеялась на таких поздних гостей, одевается сейчас, думает — чужой кто-то.
Пошел на крыльцо. Двери в сени открыты. Следующие, в дом, тоже не замкнуты. Зашел, увидел Леню, стоявшую у стола. Она странно глянула мне в глаза, не пошла навстречу, как всегда делала раньше. «Удивительно, — думаю. — Так быстро оделась и почему-то не здоровается».
— Добрый день! — говорю вслух.
— Добрый день, — отвечает. — Чего хотите?
И глядит искоса направо. А там большая занавеска, за которой ее кровать. Занавеску ту можно было передвигать — держалась на железных кольцах, прицепленных за проволоку. Задвигали ее на день, а ночью всегда бывала отодвинута. И сейчас закрывала всю кровать, хотя было еще очень рано.
Внизу занавеска не доставала до пола. Глянул — и увидел носки двух пар сапог! Одна пара вдруг пошевелилась. Стало ясно: там прячутся.
Все, влип. Засада. Говорю Лене спокойно:
— Не скажете мне, хозяйка, как быстрее и проще до Минска дойти? Такая метель! Заблудился, чуть живой, и вот сюда добрел. Не понимаю, где я.
— Идите вдоль хутора до мостков, — сказала Леня, чуть улыбнувшись. — А там направо возьмете, да и прямо на тракт.
Сзади, за дверями, послышался шорох. «И в сенях кто-то есть», — думаю. В этот момент занавеску рывком откинули, и вышел из-за нее мужчина в длинном сером плаще и буденовке с большой красной звездой. За ним — крепкий широкоплечий мужик в черной бекеше и огромной черной папахе. Была у него короткая рыжая борода и шрам на левой щеке. И прямо сверлил меня взглядом, будто проткнуть хотел. Думаю: вот и увидел Макарова.
— Попалась, птичка! — агент ухмыльнулся. — Скакала, скакала, да и доскакалась!
Подошел ко мне и замахнулся. Я отпрянул.
— Не трогай! — приказал военный. — Разберемся сейчас, кто такой.
Макаров открыл двери в сени и позвал:
— Идите сюда, товарищи. Одну дрянь поймали.
В избу вошли шестеро красноармейцев с короткими кавалерийскими карабинами в руках.
— Хорош гусь, — сказал первый товарищ.
— Не гусь, а мокрая курица, — заметил второй.
С моей заледенелой одежды, подтаявшей в теплой избе, вовсю текло.
Военный — я заметил у него на рукаве два кубика — сказал, обращаясь к Макарову:
— Возьми четверых и иди к сараю. Думаю, никто больше не подойдет. А если подойдет, позволь зайти внутрь.
— Глаз с гостя не спускайте! — приказал остающимся в избе. — Двинется — пулю в лоб!
— А ты, — показал мне пальцем на стол, — туда залазь! В угол!
Загнал в угол, чтоб я убежать не смог. А сам снова обратился к красноармейцам:
— Смотрите и за женщиной! Чтобы они не переговаривались. Ни слова, поняли?!
И вышел из избы. Красноармейцы взяли карабины наизготовку. Я посмотрел на Леню. Та выглядела невеселой, — но не перепуганной. Когда солдаты на нас не глядели, улыбалась мне. И я ответил ей улыбкой. «Хоть бы хлопцы не попались», — думаю и пытаюсь придумать ответы для неизбежного допроса.
Когда через полчаса военный с кубиками на рукаве и Макаров с красноармейцами вернулись в избу, я успокоился. Наверняка, хлопцы дали деру. Они долго ждать не станут. Поняли, что стряслось неладное, и не стали носы совать. Вернутся за границу. Намучаются, бедняги. Это уж точно.
— Выйди из-за стола! — приказал мне военный.
Я вышел, стал у стены.
— Раздевайся!
Стал раздеваться. Остался в белье.
— Все снимай! — крикнул Макаров.
— Но женщина же…
— Тебя это не касается!.. Не бойся, она такого насмотрелась! — Макаров хихикнул.
Я разделся донага. Обыскали меня всего. В рот заглядывали, под мышки, на подошвы смотрели, даже волосы ощупали. Обыскали белье, кинули мне.
— Одевайся! — велел военный.
Осмотрели придирчиво все до одной мои вещи. Подтяжки, пояс, кошелек, деньги, часы, ножик, фонарик и носовой платок — все. Выложили на стол.
Мне позволили целиком одеться.
— Дайте закурить, товарищ! — попросил я у военного.
— Гусь свинье не товарищ! — ответил он.
Макаров зареготал.
Хотелось мне спросить, кто из нас гусь, а кто свинья.
Однако военный все-таки дал мне папиросу из моего портсигара.
— Ладно, на. Закури и выкладывай всю правду. А иначе — худо будет. Бить будем.
Военный вынул из толстого портфеля лист бумаги и положил на стол. Был то формуляр. Начал расспрашивать, заполняя: имя, фамилию, год рождения и прочее. Когда кончил записывать, спросил грозно:
— Так ты с Польши?
— Так.
— Зачем к нам пришел?
Вспомнил я, что мне Лорд у Калишанок рассказывал про залет свой в Советах и как его в Койданове мутузили. Однако Лорд с товаром был, а у меня носки-то не было. Для Лени оно было легче, а для меня — наоборот.
— Худо мне было в Польше, — говорю. — Пришел я сюда, чтоб с Советской властью остаться.
— А деньги откуда?
— Да я все добро распродал.
— Врешь, дрянь!
— Правду говорю.
— Сколько раз тут был?
— В первый раз я.
Военный повернулся к Лене.
— Знаешь его?
— Нет! — ответила коротко и дерзко.
— Ты послушай, что скажу тебе, — военный повернулся ко мне. — Правду говори: сколько раз с контрабандой был и где товар прячешь? Ты ее не жалей. Ты о себе подумай. Пойми, если не контрабандист ты — значит, шпион. Ну, думай!
— Не контрабандист я, не шпион. Пришел, потому что хочу навсегда остаться в России.
— Так и останешься навсегда. Только в земле, понял? — отозвался Макаров.
Не ответил я ему, посмотрел только с отвращением и ненавистью. Мое молчание его разозлило.
— Чего ты с ним возишься? — спросил военного. — Задать ему баню, сразу запоет!
Шагнул ко мне со стиснутыми кулаками, щерясь, ухмыляясь золотозубо. Вспомнилось мне, что Гвоздь отбивался, и думаю: «Все равно бить ведь будут! Так пусть хоть не за так!»
Одежда была на мне мокрая насквозь, и я дрожал от холода. А Макаров, верно, думал, я от страху трясусь. Видно, добавилось наглости, раззадорился. Вот только когда ударил он, я удар отбил, да и вперед качнулся. Сильно двинул, всем весом — и лбом ему в нос, в зубы. Удар этот «бык» называется, а еще его зовут «датским поцелуем». Действует страшно. Мне показалось, кости хрустнули. Макаров взвизгнул и грохнулся на пол. Закрыл руками лицо.
— Взять его! — крикнул военный красноармейцам.
Я вскочил на лавку, с нее — на стол. Содрал со стены большую, в тяжелой раме олеографию, швырнул в лампу, висевшую под потолком. Звякнуло стекло — в избе стало темно. Я шарю руками по стене, ищу, чем отбиваться. Нащупал большой дубовый крест, содрал. Тяжелый оказался.
Тут вспыхнули фонари, и свет на мгновение ослепил меня.
— Взять его! — снова крикнул военный.
Я поднял крест. Красноармейцы не решались, замешкались. А я, пользуясь тем, опрокинул стол, стал за ним, как за баррикадой.
— Сдавайся, а то пулю в лоб! — заорал военный.
— Давай, хамье! — кричу им. — Цепи потеряли, так шкуры теперь сдираете? Давай!
— Взять его! Вперед! Прикладами!
Солдаты бросились на меня. Я яростно отбивался. Будто снова вокруг меня ураган стал. Только теперь меня кровь слепила. Слышал не вой ветра, а крики красноармейцев да тихий плач Лени. Меня стол заслонял, помогало немного, но вскоре его оттащили.
Тогда кинулся я вперед, лупя вслепую крестом во все стороны. Меня били прикладами — а я почти и не чувствовал.
Вдруг чувствую — голова плывет. Пол качается под ногами. Вдруг последним проблеском увидел у своей головы чью-то ногу. Вцепился в нее зубами.
— Ах ты сукин сын! — заорал военный.
Больше ничего и не помню. Уплыло все в темень…
Часть вторая ВОЛЧЬЕЙ ТРОПОЙ
Граница потешит, Граница напоит, Граница оденет И в землю зароет. Из песни контрабандистов1
Кончается март. Уже чувствуется весна. И тоска рвет сердце.
Шестую уже неделю сижу в первом подвале минской черезвычайки. Запихнули меня в темную сырую клетку. По стенам сочится вода. Через грязные, мутные стекла крохотного зарешеченного окна под потолком едва пробивается свет. Но видны в нем сапоги проходящих по улице солдат и чекистов. Везде грязь. Все липкое, гнусное. Поначалу и коснуться боялся стен, и двери, и деревянных нар. Теперь привык. Дышать нечем. Вонь, воздух насыщен водой, смрадом немытых тел. Белья никто не меняет, никто не моется. Горше всего воняет от параши, здоровенного деревянного чана, скверно закрытого и подтекающего. Моча ползет из-под него, стекается в лужу, ее разносят ногами по всей камере.
Сидит нас одиннадцать. Чуть помещаемся в нашей клетке. Семеро спят на нарах, четверо на полу. Иногда запихивают новеньких, но их, чаще всего, быстро выпускают или переводят. Мы сидим дольше всего.
Кроме меня, сидят еще двое контрабандистов — жители деревеньки прямо у границы, недалеко от Столбцов. Это братья Ян и Миколай Сплондзеновы. Молодые, одному двадцать, второму двадцать три. Попались они на мелине у Койданова. Хозяин мелины, Уменьский, крепкий широкоплечий мужик, сидел вместе с ними. Сперва сидели порознь, а теперь свели их вместе. Думаю, потому, что дело их не представлялось важным.
Есть самогонщик Каспер Буня, огромный, костистый хлопец. Жил он в смолокурне за Заславлем и там гнал из жита самогон. Поймали его с поличным — у аппарата. Носит он здоровенный кожух, от которого на всю камеру несет дегтем.
У окна стоит Жаба, вор-рецидивист. Сунул руки в штаны и насвистывает. Трудно сказать, сколько ему лет. Может, сорок или пятьдесят, а может, и больше. Голова у него огромная. Рот — от уха до уха. Глаза мутные, пустые. Кажутся они комками гноя на зеленоватом нечистом лице. Он все время горбится. Но хоть телом тщедушный, очень ловок и проворен.
Есть у нас и бандит Иван Лобов. Сидит за разбои. С виду — пристойный мужчина лет тридцати пяти, с черной бородкой клинышком. Все время улыбается, блаженненько так, словно богомаз владимирский. Давно бы его пустили в расход, но хлопочут о нем зажиточные родственники.
Есть и телеграфный техник Фелициан Кропка. Сидит за саботаж, потому что закоротил нечаянно реостат, тот сгорел. Пострадал Кропка от комиссара, о ком часто рассказывал. Тот давно имел на него зуб, а тут не упустил возможности, сдал чекистам. Кропка выглядит совсем запуганным. Дрожит всякий раз, когда двери открываются. Смешной он: малый, щуплый, все время ладошки потирает, а когда слушает, открывает рот.
Есть у нас и контрреволюционер, бывший царский офицер Александр Квалиньский, служивший в каком-то советском учреждении, а теперь угодивший в тюрьму. Он высокий, смугловатый, лет сорока. Молчун. Лицо бледное, измученное. Почти всегда лежит на нарах, но не спит, а часами смотрит в потолок. Квалиньский мне симпатичнее всех. Жаль мне, что такой интеллигентный, воспитанный и, как я убедился, очень добрый человек в таком унижении вместе с нами.
Есть и жид. Толстый, грубый, за пятьдесят ему. По фамилии Кобер, по имени Гирш. Перед войной был фабрикантом игральных карт, а теперь сидит за спекуляцию. Ему лучше всех в камере — почти каждый день носят ему с воли обеды. Его часто вызывают на допросы. Говорит, мол, снова доить будут, вымогатели.
Одиннадцатый в нашей камере — безумец. Все: и мы, и чекисты, и солдаты — называют его Бзик. Никто ни имени его не знает, ни фамилии. Арестовали его в поезде близ Слуцка. Он молодой, высокий, худощавый, с большими, удивительно светлыми глазами. Все время ходит по камере, то и дело смеясь. Нас это очень злит. Задержали его по подозрению в шпионаже. А теперь почти и не трогают. То ли забыли про него, то ли решили взять «измором».
Дни ползут нудные, тоскливые, долгие. Давит нас теснота, мучит голод. Голод царит. Мы грезим о еде, все мысли только про еду. Движения наши вялые, медленные. Голод выбелил наши лица, оттенил желтизной и зеленью, положил черные тени под глазами. У некоторых опухли руки и ноги. И у меня начали ноги пухнуть. А еще напасть, от какой спасу нет, — вши. Огромные тюремные вши, ленивые и сонные, как и мы. Но не с голодухи — скорей, с перекорму. Пасутся на наших телах. Множество их. Ползают по одежде, по нарам. Не давим их. Бесполезно. Вместо сотни побитых приползает тысяча. Зовем их ласково: «ползучее серебришко». От непрестанных расчесов на коже раны. А там, где хуже всего грызут — на плечах, на лопатках и шее, где кожа тоньше, — уже струпья.
Ночью, когда зажигается лампа и мы укладываемся спать на голые нары, из щелей выползают клопы. Жрут бешено. От них тело паршой покрывается. Новым арестантам от них житья нет.
Однажды проснулся я ночью, глаза открыл и вижу: Бзик сидит в углу камеры и странно как-то смотрит на спящих сокамерников. Я сделал вид, что сплю, а лицо мое как раз в тени было, можно подсматривать из-под полуприкрытых век. Бзик долго и внимательно рассматривал нас. Был он без рубахи — та лежала у него на коленях. Вдруг голову наклонил и, не переставая приглядывать за нами, зубами разорвал воротник. «Ого!» — думаю. Вынул оттуда кусочек тонкого полотна. То и дело поглядывая на нас, развернул. Я заметил: там написано что-то. Бзик принялся читать, затем — драть полотно зубами. За несколько минут порвал в нитки, да и кинул их в парашу. И пошел на свое место.
Наверное, важное прятал. А мы его считали двинутым. Он, видать, куда нас умнее. Той ночью мне так и не заснулось. Голод кишки крутил. Думал, до каких пор еще такое, долго ли.
В сны мои, навеянные голодом, неизменно являлась еда. Виделись не изысканные кушанья, а огромные боханы хлеба, кусищи сала и мяса, миски горячего супа, горшки парящей вареной бульбы. Просыпался больной, ошалелый и еще сильней мучился голодом, еще горше переживал свое несчастье.
Шили сперва шпионаж. Арестовавшие представили меня шпионом. Дело мое вел судебный следователь Стефан Недбальский, поляк, родом из местечка Мир неподалеку от Столбцов. Толстощекий хлыщик, в темно-синей гимнастерке, в штанах галифе. Показался мне он глупым и самодовольным. Вызывал по ночам, допрашивал часами. Схитрить старался, заковыристо спросить, чтобы подловить арестанта, но хитрости его чаще всего помогали не ему, а арестанту разобраться в ситуации. Повторял и повторял:
— Говори, ну! Говори всю правду, а то ведь сами узнаем, все узнаем!
— Что ж мне еще говорить? Я правду говорю. Вы ж не хотите, чтобы я врал вам? — так я ему обычно отвечал.
Несколько раз очные ставки мне устраивал с арестантами. Некоторых я уже знал — сидели рядом в камерах первого или второго отделов. Потом вовсе перестали допрашивать. Тогда я по совету братьев Сплондзеновых позвал караульного начальника (карнача) и попросил, чтобы проводил меня к следователю Стефану Недбальскому по очень важному делу. Вечером следующего дня за мной пришли. Под конвоем двух красноармейцев привели меня к нему в кабинет.
— Ну, что, надумался? — спросил Недбальский.
— Так. Хочу всю правду рассказать.
— Добре! Давно бы так! Возьми стул и садись тут! — показывает с левой стороны стола.
А я заметил — у него в выдвинутой шуфлядке наган. Обезопасился, значит.
— Бери папиросу!
Я взял, закурил. И стало мне дурно.
— Ну, давай! — приказал Недбальский, вынув чистый лист бумаги.
Начал я по новой. Рассказал историю, уже отчасти правдивую, намешал, как умел. Дескать, из Вильни я. Работы не было, я и поехал на пограничье к старому приятелю. Он мне предложил ходить с контрабандой. Потом приятель попался, отсиживает теперь в Новогрудке. Тогда и я перестал ходить, жил у матери приятеля. А под Новый год сходил три раза за границу с хлопцами. На третьем разе меня и сцапали.
— Куда с товаром ходили?
— Где мелина, не знаю. Водил нас машинист всегда по ночам, днем сидели в сарае, не выходили. Потому не знаю, как хутор выглядит, где он и как хозяев зовут… Еду нам приносила старуха в длинном желтом кожухе. Насчет товара машинист договаривался.
— Ох, кажется мне — крутишь ты!
— Не кручу я, знаю — не обмануть вас! Очень вы хитрый!
Недбальский усмехнулся.
— Зачем пришел на хутор Леонии Бомбиньской? Раньше она принимала контрабандистов?
— Я не знаю, принимала она или нет. Я заблудился. Метель была страшная. Я от своих отстал. Целую ночь ходил и чуть не погиб. Носку кинул, идти уже не мог. Под самое утро хутор увидел и пошел про дорогу спросить.
Следователь с минуту молчал. Потом выпалил вопрос за вопросом, видно, желая меня сбить с толку:
— Только правду говори! Контрабандисты в Минск ходят?
— Нет.
— Ваша банда ходила?
— Нет.
— Никогда?
— Никогда.
— А если в Минск ходить не нужно, зачем ты про дорогу на Минск спрашивал, ну?
— Боялся, хозяйка догадается, что я из-за границы, людей позовет, меня схватят.
— …А для чего тогда при аресте глупости говорил? К Советам пришел, потому что в Польше плохо было? Ну?
— Боялся, посадят за контрабанду. Подумал: может, отпустят или в Польшу назад отправят.
Недбальский долго писал, а после спросил как бы невзначай, мимоходом, хотя сощурился хитро:
— Сколько ты раз за границей был?
— В этом году два раза. На третий попался, — отвечаю, чуя подвох.
Снова пауза. Следователь, не торопясь, закурил.
— Сколько денег у тебя забрали?
— Не помню.
Недбальский вынул из папки листок бумаги и прочитал: «Семьдесят долларов, сорок пять рублей золотом и восемнадцать тысяч польских марок. Так?»
— Так.
— Сколько получаешь за ходку?
— Пятнадцать рублей.
— Добре! За две носки — тридцать рублей, а откуда остальное?
— В ноябре прошлого года шухер мы сыграли на товар. На мою долю пришлось четыреста долларов.
— Что за шухер?
— Несли товар в Польшу и удрали с ним. Потом продали.
— Что за товар?
— Шкурки. Алтайские белки. У меня было триста восемьдесят штук.
Недбальский прервал допрос. Велел мне стать у стены.
— Смотрите за ним! — велел красноармейцам, а сам вышел из кабинета.
Вернулся через двадцать минут.
— Знаешь Гвоздя? — спрашивает.
— Знаю. Наш хлопец, раковский.
— А он тебя узнает?
— А то! Узнает. Видел меня не раз.
Недбальский записал мои показания и дал мне подписать.
— Я еще это проверю! — сказал на прощание и велел отконвоировать меня назад.
Братья Сплондзеновы меня уже ждали. Я им рассказал в подробностях, как прошел допрос.
— Сейчас лучше будет! — заверил Ян. — Шпионаж наверняка отошьют!
— Может, через пару дней в ДОПР тебя отправят. Там лучше. Там хлопцев наших много, — добавил Михал.
Той ночью долго не спал. Полегчало мне немного. Радовался, что не будут меня судить как шпиона — за это наверняка вышка. А целиком сознаться не хотел из-за Лени. Знал: ее тоже ведь арестовали. Из множества деталей, о которых вызнал на допросах, понял я: нет против нее прямых улик.
2
Четвертый час после полудня. В камере полумрак. Бзик неустанно ходит от окна до двери и обратно. Иногда замирает и начинает смеяться. Долго, весело. Поначалу оттого и мы принимались смеяться. Потом злились, а теперь привыкли. Я же, зная теперь его притворство, частенько тайком за ним наблюдаю. Заметил еще много мелочей, не замечаемых другими, и окончательно уверился — не безумец он, притворяется.
Лобов снял с себя грязную, серо-желтую, липкую от пота рубаху, разостлал на нарах и прокатывает бутылкой. Массово давит вшей.
Жаба сидит в углу на нарах, обнял худыми руками колени и поет:
И вот собрались Будто на подбор: Она — проститутка, Он — карманный вор.Фелициан Кропка кривится брезгливо. Всегда кривится, когда Жаба поет. У того репертуар сплошь блатняцкий, сальный и слезливый. Квалиньский лежит неподвижно на нарах и смотрит в потолок. Когда глаза закрывает, вовсе выглядит мертвецом.
А Жаба не унимается:
Ее как проститутку По морде все бьют, Его же как вора В полицию ведут.— Ох ты доля, доля моя! — вздыхает Буня.
Слез с нар — огромный, костистый, ужасающе худой — и зашлепал тяжелыми сапожищами по камере.
Темнеет. Из коридора доносятся шаги солдат и откуда-то из глубины — крики.
— В кость дают кому-то, — замечает Ян Сплондзенов.
— Давят, — подтверждает Жаба.
Зажигается лампа. В камере становится светлее — и веселей. Все оживляются. Даже Квалиньский встает, но из-за нехватки места на полу ходит по нарам. Только жид сидит мрачный в углу и молчит. Не принесли ему сегодня обеда, потому он голодный и грустный.
Стою у окна с Уменьским, мелинщиком из Койданова. Говорим про контрабандистов, про то, кто сейчас ходит в Советы, а кто — в Польшу. В камеру заходит «карнач» с несколькими красноармейцами. Минуту смотрит на нас, потом спрашивает: «Кто в город хочет ехать за мукой?»
— Я! — выскакивает вперед Лобов.
— Больно ты скорый, — бурчит «карнач».
Оглядел нас внимательно.
— Ну, ты давай! — ткнул пальцем в Бзика. — И ты, — показал на Буню. — Только хлеб зазря жрете.
Вышли из камеры.
Через два часа мы услышали на коридоре топот и проклятия. Двери камеры отворились и к нам втолкнули Буню, перепуганного донельзя. Долго стоял он на пороге, беспомощно свесив руки. Потом сказал:
— Ох ты, доля, доля!.. За что же над нами так издеваются?
Нас удивило, что Бзик не вернулся. Начали мы Буню расспрашивать. Узнали: Бзик с Буней и четырьмя солдатами поехали на тяжелом грузовике к армейским складам. Там закинули в кузов несколько десятков мешков муки и поехали обратно. У моста через Свислочь, на улице Веселой, Бзик соскочил и кинулся наутек к реке. Грузовик остановили, красноармейцы начали стрелять. Двое следом побежали. Но темно уже было, и Бзик сумел удрать. А Буню, когда привезли, отлупили — и в коридоре, и на лестнице. Солдаты говорили, помогал удрать.
Новость та сильно нас впечатлила. Сразу стали обсуждать Бзиково бегство. Все говорили, что давно знали про притворство. Врали они. Считали его настоящим безумцем и относились как к сумасшедшему.
— Эх, братцы, жаль, что меня не взяли! — пожаловался Лобов. — Я б тоже деру дал. Нет мне счастья, хлопцы! Сгнию тут.
А Жаба по-прежнему сидел в углу на нарах и тоненьким, визгливым, скрипучим голоском тянул:
Ах ты, мать моя дорога! Зачем родила ты меня?— А этот все скулит! — морщился Лобов.
— Не нравится — не слушай! — ответил Жаба и продолжил, подперев щеку ладонью, мотая влево-вправо головой.
Ночью не мог я заснуть. Жрали меня вши и клопы. Голод мучил, донимала лихорадка. Крепился только зыбкой надеждой: может, скоро переведут в ДОПР?
Слушал плеск и журчание талой воды, бегущей по водосточным трубам… Весна идет. Несет новую жизнь, пробуждает новые надежды. А у нас черно, грязно, голодно. Нас бросили в мерзкую, тесную клетку, и каждый час мы все мертвее в ней… Бзик — счастливец. Где-то он сейчас? Может, на мелине где сидит или пробирается полями и лесами под прикрытием темноты?
Заснул под самое утро.
Назавтра в полдень вызвали меня наверх. Под конвоем двух красноармейцев зашел в кабинет Недбальского. Следователь приказал стать у дверей, а сам вышел из комнаты. Вскоре вернулся. Вслед за ним — два красноармейца, штыки примкнуты к карабинам. Под их конвоем — понурый, чуть сгорбленный долговяз. Я сразу Гвоздя узнал.
Недбальский усадил нас напротив себя.
— Знаешь его? — спросил, показав на меня пальцем.
— Если он меня знает, то и я его знаю, а если он не знает, то и я не знаю!
— Ну ты, не мудри! — Недбальский топнул ногой. — Отвечай на вопрос!
— А ты мне не грози! Не боюсь тебя. Бабу свою лучше пугай!
— Знаешь его? — спросил Недбальский у меня, показав на Гвоздя пальцем.
— Знаю.
— Откуда?
— Наш хлопец, раковский.
— И я его знаю, — сказал, не ожидая вопроса, Гвоздь.
— Почему раньше того не сказал?
— Я не твой стукач! Может, — Гвоздь кивнул в мою сторону, — он не хотел, чтоб я его узнал?
Недбальский приказал конвою увести Гвоздя. Поздней я узнал: он сидит уже в ДОПРе, на очную ставку его привезли оттуда.
Через два дня устроили мне очную ставку и с Леней. Вызвали из камеры сразу после обеда. Когда вошел в кабинет Недбальского, Леня уже была там, сидела в кресле у следовательского стола. Ее конвой остался за дверями. Следователь разговаривал с ней, смеялся. Она выглядела вовсе не угнетенной и измученной. Хорошо выглядела. Было на ней черное пальто с большим меховым воротником, в руках — объемистый пакет.
Я вместе с конвоем задержался у дверей. Недбальский пару минут просматривал бумаги, потом кивнул.
— Иди сюда!
Я подошел к столу.
— Знаешь эту женщину?
— Так, знаю.
Недбальский сощурился, посмотрел на меня значительно. Леня, не такого не ожидавшая, посмотрела на меня удивленно.
— Откуда знаешь?
— Зашел к ней спросить дорогу, там меня и арестовали.
— А раньше был у нее?
— Нет.
— Может, знаешь чего про то, что она пункт для контрабандистов держала?
— Ничего не знаю. Вообще, она ж под самым Минском, а там пунктов нету! — вру, чтобы Лене легче было на ставке.
— Откуда про то знаешь?
— От хлопцев.
— Так ты вообще ее не знаешь?
— Не знаю.
— А вы, гражданочка, знаете его?
— Не знаю. Но жалко его. Такой хлопец молодой, а сидит!
— А вы любите «таких молодых хлопцев»? — спросил Недбальский насмешливо.
— Я не потому говорю. Любого жалко. Тюрьма — не мед! — Леня замолчала. Потом говорит следователю:
— Может, товарищ судья позволит дать арестованному немножко еды? Так он жалко выглядит!
— Чего это гражданочка так им интересуется?
— Из-за того ведь страдает, что зашел у меня дорогу спросить. Может, он на меня обижается.
— Он из-за вас сидит, а вы — из-за него. Так что квиты. Ну, хотя дайте ему чего-нибудь.
Леня торопливо развернула пакет и дала мне два кило колбасы и большую буханку. Потом отвели меня в подвал. В камере я поделил еду на равные части, раздал всем. Жид не взял ничего. Офицер тоже не хотел, но, видя, что обидит меня отказом, все же взял свою часть.
Теперь полегчало мне. Надеялся, в ближайшее время переведут в ДОПР. Сокамерники уверяли: так оно непременно случится.
3
«Двойка» — большая камера. В ней два огромных окна. Если встать на подоконник и руку вверх вытянуть, все равно до края рамы не достанешь. К стенам приделано 17 складных коек. На день койки поднимают, прижимая к стене, так что места ходить хватает. Посреди камеры — большой стол на козлах. На внутренней стене есть полка для посуды. Пол асфальтовый. В правом углу — большая, обитая жестью печь.
Семнадцать нас в камере. Несколько воров. Несколько бандитов. Несколько хлопцев, сидящих по одному делу, по подозрению в убийстве. Есть железнодорожник, украинец с Полтавщины, по фамилии Кобленко. Сидит за спекуляцию: перевозил товар «мешочников» в служебном купе.
И тут голод на всех оставил отпечаток. Двигаются арестанты медленно, сонные, апатичные. У некоторых лица опухли, отекли ноги. Вшей и тут хватает.
Сперва я чувствовал: ну, наполовину на свободе. Камера светлая, воздух чистый. На прогулку выводят. Играем друг с другом в самодельные карты. И ко всему я уже привык.
Но с каждым днем убывало во мне сил. Ноги начали пухнуть. А за окном, за стенами, весна шла вовсю. Солнце заливало светом тюремный двор. Кого-то выпускали, на их место сажали новых.
Замучила меня тоска по воле. А те, кто почасту и помногу сидел, вовсе не тосковали. Всегда находили, чем себя занять. Играли в карты или разговаривали. Разговор вился вокруг нескольких излюбленных тем: еда, былые «дела», женщины, судебные дела, тюремное начальство. Надоели мне эти разговоры. Тосковал я еще сильнее по воле и худел все быстрее. Просиживал часами на подоконнике и смотрел в небесную синь. О чем думал тогда? Не знаю. Про все забывал я тогда, ничего не слышал. Возвращали меня в явь только шум и свара и камере, да пение Жабы.
Однажды подошел ко мне смоленский вор по прозвищу Бласт.
— Ты, паря, так себя не изводи. На нет затоскуешься. И в окно не смотри, пес его нюхал!.. Ты на носу заруби: думать много будешь — сканаешь!
— А что делать-то?
— Да что угодно! В карты играй, пой!.. Со мной когда-то так же было.
Вечером, после поверки, опускаем койки и укладываемся спать.
— Ну, три звонка до «пайки»! — объявляет кто-то.
И все пускают слюни, думая про утреннюю двухсотграммовую порцию дрянного полусырого хлеба. Твердую корку делим особо, а мякиш накладываем ложками на корку, будто пирожные какие или начинку на вафли. Ночь у меня скорее всего проходила. Я быстро забывался тяжелым сном, полным кошмаров и голодных грез. Просыпаешься, и первое чувство: как есть хочется! Первая мысль: два звонка до «пайки»!
Когда берут свои порции хлеба, у всех дрожат руки. Можно кусок мгновенно уплести, но никто не спешит. Едят медленно, откусывая крошечными кусочками. Не пропадает ни единой крошки. Да и крошек, в общем-то, нет — хлеб всегда недопеченный. После завтрака все мысли сосредоточены на обеде. И тянутся долгие, нудные часы ожидания. Потом — бачки с редким смердючим супом из сушеных овощей или мерзлой картошки. Один бачок на шестерых. Начинаем есть, а точнее, пить из ложек горячую, мутную, редкую жижу. Обжигаем губы и глотки, но быстро все съедаем. Тело охватывает блаженное — и лживое — тепло сытости. А через четверть часа желудок скручивает больнее прежнего. «Есть, есть, есть хочу!» Желудок не обманешь. После ужина — еще хуже. «Не то питье, не то еда, и все не туда!» — говорили арестанты.
Как-то в день свиданий, в конце апреля, вызвали меня на коридор. Проводили в комнату свиданий. Много там было замученных горемык. Длинная комната перегорожена поперек стеной из проволочной сетки, за ней стояли пришедшие на свидание с воли.
Когда разрешили говорить, комнату заполнили крики, плач и гомон, так что и не расслышать ничего. Я подошел к сетке, выглядывая знакомых на той стороне. Думал, кто-нибудь из раковских хлопцев с помощью родных или знакомых в Минске получил разрешение со мной увидеться. И вдруг — радостный взгляд, веселая улыбка Лени. Стараясь перекричать остальных, начали мы разговор.
— Как дела? — спрашиваю.
— На воле я!
— Все, полностью освободили?
— Подписку дала, что никуда не уеду с хутора и готова явиться по первому требованию.
— Дорого обошлось?
— Дорого… А чего мне? Не обнищаю.
— Хорошо выглядишь.
— А ты вовсе отощал.
— Куда ж тут, — развожу руками безрадостно. — На двести граммов хлеба жиров не нагуляешь.
— Я для тебя напаковала… Каждую неделю буду приезжать, на каждое свидание.
— Спасибо!
— Может, и тебя вскоре выпустят?
— Не знаю. Можно несколько лет схлопотать.
— Я слышала, на Первое мая будет амнистия!
Недолго длилось свидание. Но полегчало мне. Как увидел Леню, уже не чувствовал себя таким потерянным, безнадежным. Да и телу помощь: Леня хорошо знала, какой голод в тюрьме, привезла много хлеба, сухарей, солонины и сыра.
Через неделю снова получил пакет от Лени, но уже без свидания. Может, времени не было или разрешение не дали.
В начале мая судил меня ревтрибунал, и за контрабанду приговорил к трем годам ссылки в нижегородскую губернию. Деньги мои конфисковали. Приговор я предвидел и не расстроился. Даже и больше хотел в ссылку, чем отсиживаться в ДОПРе. Думал, сбегу из ссылки при первой же возможности.
После суда Леня снова меня навестила. Сказала, деньгами поможет, а если свободное время выдастся, так и в ссылке меня навестит. Просила писать почаще и сказала, что выгляжу намного лучше. Я тоже себя чувствовал здоровее и сильнее, чем раньше. И опухоль сошла с ног. Голод — худшая из хворей. А лучшее от нее средство — еда, лишь бы не слишком поздно.
Хлопцы в камере говорили, меня скоро отправят по этапу в ссылку. Советы давали, что делать и как быть. Лучше всего, из поезда удрать. О том больше всего я и думал.
В середине мая сказали мне собирать вещи и отконвоировали в канцелярию. У ворот меня ждал конвой: восемь солдат и сержант с тремя треугольниками на рукаве. Арестантов всего было шестеро. Одного нужно было в Смоленск, троих в Москву, двоих в Нижний Новгород. Первый этап был в Смоленске.
Уладили формальности в тюрьме, отвели нас на вокзал. В поезд посадили, и заняли мы два отделения. В каждом было по четверо солдат и по трое арестованных. Комендант конвоя пошел ставить печати на проездные документы. У меня было немного денег — Леня оставила их для меня в тюремной канцелярии. Попросил я начальника конвоя, чтобы купил мне две пачки папирос, коробку спичек, а на остальное — колбасы и хлеба. Офицер дал деньги солдату и послал в киоски на вокзальном дворе. Солдат принес мне полсотни папирос, спички, несколько булок и кусок колбасы, небольшой совсем.
— За все купил! — заверил красноармеец.
— Хорошо, спасибо, — говорю ему.
Принялся подкрепляться. Дал булок и немного колбасы товарищам по несчастью. Те разделили поровну между собой.
В первом часу пополудни поезд тронулся. Сидел я на лавке между двумя красноармейцами. Напротив сидело двое солдат и двое арестованных. Купе наше было первое в вагоне. От платформы отделял его небольшой коридорчик. И вдоль всего вагона, по левой стороне, тянулся проход, соединяющий все отделения. В соседнем отделении ехали остальные арестанты и солдаты.
Вагон был битком набит. Людей напихалось до крыш. В проходе понаставили кошелок, кулей и мешков. Люди, чтоб поспать, залезли на полки. Крики, ругань, жалобы — гомон оглушительный. Наконец, уместились. Заговорили нормально, шутить начали, засмеялись.
У Борисова в поезд зашел патруль железнодорожной ЧК. Проверяли документы пассажиров. Когда к нам подошли, начальник конвоя подал им документы и сказал: «Девять конвойных, считая меня, и шесть арестованных».
Чекисты просмотрели документы, осмотрели нас. Отдали, пошли дальше. А в Орше снова явился патруль ЧК.
Когда выехали из Орши в Смоленск, уже стемнело. Глянул я искоса в окно, на небо — и увидел Большую Медведицу. Взволновался. Так давно ведь не видел ее! Вспомнилось сразу мне веселое и грустное, многое вспомнилось и подумалось о многом. Долго смотрел на нее. Пока один из солдат не приказал мне отодвинуться от окна.
— Смотри, смотри! Только не поможет это тебе, не выскочишь!
— Да я ничего, — говорю, — я на звезды смотрю.
— Звезды? Вот они, звезды! — и хлопает ладонью по буденовке, где спереди пришита большая пятиконечная звезда из красного сукна.
Другие красноармейцы рассмеялись. Я отодвинулся от окна. Солдаты курили махорку, переговаривались лениво. Мои товарищи на соседней лавке уснули. И солдатам было сонно. Договорились, по двое будут стеречь. В отделение зашел начальник конвоя и предупредил: «Ребята, не засыпать! Стеречь крепко!»
— Успокойся, не заснем! — уверили красноармейцы.
— Ну-ну, — сказал насмешливо и пошел в свое отделение.
Близилась полночь. До Смоленска оставалось несколько остановок. Я притворился спящим и наблюдал исподтишка за конвоем. Уснул и третий солдат. Только тот, который у двери сидел, вытянул ноги так, чтобы никто не мог выйти из вагона на перрон, его не разбудив. Тоже дремал, но время от времени раскрывал глаза, осматривался и закрывал снова. Иногда кто-нибудь из пассажиров выходил в коридор в туалет. Тогда солдат открывал глаза, осматривал хотящего и отставлял ноги вбок, чтоб двери можно было открыть.
В отделении нашем царил сумрак. В него лишь искоса падал свет от фонаря на потолке коридора. Горела в том фонаре свеча.
И вот, улучив момент, я сильно высунулся вправо из отделения и глянул в коридор. Тот был завален спящими на полу людьми. Из некоторых отделений доносился приглушенный гомон — разговаривали. Думаю, трудненько будет добраться до выхода из вагона. Да еще может случиться, что офицер и солдаты из соседнего отделения не спят и заметят меня. Я в соседнее заглянуть не сумел, но слышал оттуда звуки, шорох подошв об пол.
Думаю: может, окно открыть?
Но, подумав, решил не пробовать. Ненароком разбудишь кого из конвоя, и все пропало. Выглянул в коридор снова. Увидел бредущую издали серую фигуру — солдат, набросивший на плечи шинель и направившийся к выходу, пробираясь между лежащими на полу людьми. Вот, быстрее пошел. Уже и вровень со мной. Вот открывает двери, отпихивая колени сидящего перед ними солдата. Тот открывает глаза, смотрит на него.
— Что-о?
— Ничего, товарищ! Отодвиньте ноги!
Красноармеец дает пройти, ерзает, сплевывает на стену, сует руки в рукава шинели и звучно зевает. Наклоняется вперед, внимательно осматривает отделение. Я притворяюсь спящим. Солдат снова опирается плечами о стену отделения и закрывает глаза. Ремень карабина у него через колено, ствол затиснул между ног. А дверь загородить ногами забыл! Может, и не забыл, но решил дождаться, пока красноармеец тот вернется.
Я внимательно следил за солдатом. Решил непременно удрать, будь что будет. Но все же следовало выждать момент. Вижу — голова его свешивается на грудь.
Я встаю. Делаю два шага в коридор, один — к двери. Медленно нажимаю на ручку, приоткрываю дверь. Шире… шире… Смотрю на лицо солдата… Вдруг спящий, будто почувствовав мой взгляд, открывает глаза. Глядит на меня мутно. Я быстро шагаю вперед.
— А ты куда, а?.. Сто-о-о-й!!!
Закрываю дверь за собой и кидаюсь вперед. Открываю дверь на площадку. Торопливо закрываю за собой. В этот момент предыдущие двери распахиваются и слышится нечеловеческий вопль: «Товарищи! Бегу-у-у-т! Подъем, товарищи…»
Тут я кидаюсь к двери, выходящей на ступеньки вагона. Жму на ручку изо всех сил, толкаю — не поддается! Тут соображаю: она же внутрь открывается! Тяну на себя. Открыто! Сзади падает полоса света, рассекает темноту. На площадку врываются люди с оружием, слышу за собой голоса:
— Стой, дрянь! Стой!
Передо мной черная ночь, утыканная золотыми иглами звезд. Я прыгаю вперед, в густой сумрак.
Лечу. Меня толкает вбок, откидывает. Сердце жмется. Мелькает в глазах полоса света, и все тонет во мраке и тишине, глубокой тишине…
4
Поначалу не мог сообразить, что со мной. Чувствую: не вдохнуть, в рот лезет густая липкая жижа. Задергался отчаянно, влево, вправо, вверх… Выдрался наружу. Вдохнул, наконец. Почувствовал, как в легкие заходит воздух.
Долго не двигался. Тело мое увязло в болоте, голова торчала сверху. Вытянул руки из грязи, отер с лица липкий густой ил. Увидел в нескольких сотнях шагов от себя длинный ряд желтых огней — поезд, остановленный после моего прыжка. А вдоль путей — множество огоньков поменьше, скачут, мигают. Это меня ищут солдаты с фонарями в руках.
Начал из болота выбираться. Встал. Повернувшись, чуть снова не шлепнулся в глей. Сделал два шага, нащупал ладонями берег канавы. Вылез. Сделал несколько шагов прочь ото рва. Он был, судя по склону на другом берегу, прямо под железнодорожной насыпью. Может, болото мое падение и смягчило — но я чуть не захлебнулся в грязи.
Уселся на пригорке посреди поля и долго смотрел на пути. Вдоль них все мелькали и мелькали огоньки фонарей. Потом стали пропадать. Слышались приглушенные голоса, но слов было не разобрать.
Паровоз свистнул — сильно, резко, протяжно. Огоньки на насыпи замелькали быстрее. Приблизились к огням поезда, погасли вовсе. Паровоз свистнул еще раз, и ряд огней поплыл в сумрак, сделался длинной огненной гусеницей, пропал в ночи.
Я встал. Еще было не по себе после падения. На ногах нетвердо стоял, но пошел к растворившимся в темноте путям. И, само собой, наткнулся на ров. Широкий, метра два, давно, видать, не чищенный — на дне метровый слой жидкого ила. Перебрался на другую сторону и оказался у подножия крутой насыпи. Подумал: «По верху идти, по рельсам, или низом пробираться?.. Нет, лучше низом, а то наверху, неровен час, на кого наткнешься».
Посмотрел на небо. На северной стороне четко виднелась Большая Медведица. Наклоненное вниз «дышло» колесницы указывало на запад.
Не торопясь, двинулся вперед. Время от времени останавливался, прислушивался. Несколько раз миновал дома железнодорожников. Далеко обошел какой-то полустанок. Через два часа увидел вдали огни железнодорожной станции. Двинулся медленнее. Различил вблизи вокзала много строений — наверное, поселение у станции. Обошел дома и снова вышел на пути. Там уселся передохнуть на куче старых шпал. Хотел дождаться какого-нибудь поезда и двинуться дальше на нем. Только на это и была надежда. Пешком за ночь сделаешь 25–30 километров, а поездом можно проехать раз в десять больше.
Решил дальше не идти, а ждать, пусть хоть и до утра. И раньше, чем ожидал, услышал вдали свисток локомотива. На станцию въехал товарняк. Я подошел к станции и пошел вдоль поезда. Шел так, чтобы поезд был между станцией и мною, крался по путям, укрытый тенями вагонов. На нескольких платформах был нагружен лес. Я забрался на одну и спрятался между концами бревен и низкой стенкой платформы. Оттуда удобно было наблюдать за окрестностью. А в случае опасности — легко удрать в любом направлении.
Поезд долго стоял на станции. Я устал ждать отправления. Наконец, состав двинулся.
Под утро добрался я до Орши. Вылез из своего укрытия и пошел к паровозу. Подслушал разговор железнодорожников и вызнал, что дальше поезд не идет. Тогда пошел по путям вперед, стараясь отойти подальше от станции.
Не хотел, чтобы утро меня в Орше застало. Знал: там чекистов много и милиции. Да и сидение без движения в укрытии мне надокучило. Мерз я без движения. Теперь постарался разогреться быстрой ходьбой.
Рассвет застал меня за десяток километров от Орши. Чувствовал себя в безопасности — от места побега меня отделяло несколько десятков километров.
Хотел дойти до следующей за Оршей станции, потому двинулся дальше. Шел или по стежкам у путей, или по выезженным колесами телег дорогам. Если замечал издалека строения, далеко их обходил.
Через несколько часов добрался до станции. Но подходить к вокзалу не стал, а забрался в лес, в гущу кустов, и лег спать.
С темнотой обошел станцию и вышел на пути. Вечер выдался теплый. Я улегся на песочек у рельсов и принялся дожидаться поезда на Минск. Голод меня терзал, а еды вовсе не было, как и денег.
Близ полуночи пришел пассажирский поезд. Остановился на станции. По узкой железной лесенке, прикрепленной позади вагона, я взобрался на крышу и улегся на ней. Вскоре поезд тронулся. Ветер засвистел в ушах. Вагон кидало в стороны, меня то и дело обсыпало искрами из паровозной трубы.
Когда поезд останавливался на станциях, я перебирался на дальний скат крыши, чтоб с перрона не заметили. Было очень холодно, руки онемели. Я дрожал всем телом, но поезда не покидал. Когда выехали из Борисова, стало светать. В Смолевичах пришлось слезть — развиднелось, меня могли заметить. Рисковать не хотелось после стольких-то трудов.
Поезд двинулся дальше, а я пошел вдоль путей. До Минска оставалось километров сорок. Голод мучил все сильней. Ослабел я сильно. Когда нагибался, темнело в глазах.
Идя, увидел будку железнодорожника с приоткрытыми дверями. Сквозь щель заметил женщину, стирающую в ночевках белье. У порога играли двое ребятишек. Минуту поколебался — а потом направился к дверям.
— Добрый день! — говорю женщине.
— Добрый. Что скажете?
— Может, хозяйка, дадите поесть чего?
— А откуда вы?
— Из Минска я. Был в Смоленске на работе, теперь вот домой нужно вернуться… Денег не было, только на билет до Борисова и хватило… Два дня не ел.
Будка была разгорожена на две части. В перегородке была небольшая дверка. Пока я говорил, она раскрылась, и появился мужчина лет пятидесяти, с худощавым лицом и хитро прищуренными глазами. Железнодорожник внимательно меня осмотрел и сказал жене:
— Даша, дай ему поесть. Хорошо накорми. Я сейчас вернусь. — А вы, — обратился ко мне, — садитесь, отдохните.
Уселся я на табуретке у стола. И думаю тревожно про взгляд хитрый железнодорожника и как с женой говорил подозрительно. Наклонился я к окну, глянул. Железнодорожник спешил вдоль путей к домам, чьи крыши виднелись издали среди деревьев. Оборачивался, смотрел и шел еще быстрее.
Женщина отрезала от полубуханки хлеба большой ломоть, положила на стол. Я схватил и принялся уплетать.
— Я вам сейчас молока дам!
Взяла кувшин с полки и налила мне кружку молока. Я жадно выпил. Женщина налила мне еще кружку. А я все время поглядывал в окно. Ел хлеб, пил молоко и следил за железнодорожником, уже приближавшимся к строениям. Тогда положил я недоеденный хлеб в карман и говорю:
— Спасибо вам большое, хозяйка, за хлеб и молоко. Если хотите, то оставлю вам свою куртку. Денег нет у меня совсем.
— Да не нужно ничего!.. Куда вы? Я обед сейчас сготовлю!
— Извините, времени нету ждать.
— Хоть яичницу пожарю!
— Спасибо, не люблю яичницу. До свидания!
Покинул будку поспешно и пошел назад, в сторону Смолевич. Когда отошел далеко, оглянулся. Женщина стояла на путях и наблюдала за мной. Дальше пути поворачивали. Я зашел за поворот и, стараясь не оставлять следов, сошел с путей и двинулся к кустам на опушке леса. Повернул назад, двинулся быстро и сторожко, не выходя на открытые места. И за путями присматривал.
Идя лесом, поравнялся с будкой железнодорожника. Увидел быстро идущих по стежке от строений в лесу к будке трех человек: железнодорожника и двух в военной форме. Зашли они на пути. Жена железнодорожника принялась рассказывать им, показывать рукой, куда я ушел. Они туда и направились, торопясь. А я пошел своей дорогой, стараясь держаться поближе к лесу, но и путей из виду не терять.
Переправился через речку и к полудню добрался до Колодищ. Там спрятался в лесу и отдыхал до вечера.
С темнотой добрался до Минска. Не заходя в город, направился напрямик через поля сперва на запад, потом на юго-запад. Через четыре часа вышел на тракт от Минска к Ракову у деревни Ярково, в девяти километрах от Минска. Тогда спустился в распадок, к известному мне колодцу. Пить захотелось. Вытянул журавлем из колодца обитое железом ведро, долго пил. Направился дальше, быстро пошел боковыми тропками, но далеко от тракта не уходил.
На четырнадцатой версте зашел в лес и отдохнул — измучился донельзя. Выкурил последнюю папиросу.
Оставил слева Старое Село, зашел в Старосельский лес и пошел его краем. Теперь места вокруг лежали мне хорошо известные, шел уверенно. И по звездам можно было идти — небо чистое.
На диво скоро развиднелось. Раздосадовало меня это — до границы-то идти и идти, а места опасные. Пришлось отступить к Старосельскому лесу и залечь там до темноты.
Лес этот я знал хорошо. Много раз проходил там с группой, дневал там. Твердо решил не спать вовсе. Ужасно боялся попасться снова после такой трудной дороги, после побега из поезда. Могли б меня, спящего, заметить пастухи и позвать милицию или агентов чекистских.
Отыскал доброе укрытие и залег. Изготовил на всякий случай крепкий дрын, чтобы обороняться. Спать очень хотелось. Когда замечал, что сон вот-вот переборет, вставал и ходил вокруг деревьев близ укрытия.
Много раз слышал крики бродящих по лесу пастушков. Несколько раз — шаги проходящих поблизости людей. Близ полудня углядел из гущи кустов двух слоняющихся по лесу хлопцев. У одного в руке — плетеная корзина, у другого — палка длинная. Смотрели вверх, на деревья, искали чего-то. Подошли совсем близко к моему логову и хотели уже пойти через кусты, но передумали и вскоре пошли прочь. Когда завечерело, я отправился дальше. Шел медленно, осматривался.
Уже в сумерках вышел из Старосельского леса. Дальше — полями. Со временем почувствовал странную дрожь в теле. Холодно как-то стало. Пришлось зубы стискивать изо всех сил, чтобы не стучать ими.
Но шел все же. Делалось все холоднее, а сам взмок от пота. Прилег на широкой меже, трясясь. Скверно мне было, а до границы еще далеко.
Заставил себя встать и двигаться дальше. Зубами стучал непрестанно. Едва различал, куда иду. Замирал часто, глядя на Большую Медведицу. Звезды то кружились, то ползли вверх, то вниз летели. Но я упрямо отыскивал Полярную звезду и почти инстинктивно брел дальше — на запад.
Не знаю, когда и как перешел другую линию, когда оказался на границе. Помню только: из карабина стреляли, где-то справа от меня. От выстрелов тех я пришел в себя и какое-то время оставался в здравомыслии. Быстро пошел влево. Когда снова начали стрелять — совсем рядом со мной — упал на траву и пополз. Трава показалась очень холодной.
Потом помню: карабкаюсь отчаянно на пригорок. Пока долез до верху, вовсе выбился из сил. Немного позже понял: это — Капитанская могила… И почти потерял сознание… Отчего-то снова я пришел в себя и увидел вдруг в поле странное, дрожащее, белое пятно. Двигалось туда-сюда. Кидалось вниз, взлетало, то исчезало, то неслось ко мне. Копаюсь в памяти — и вспоминаю про рассказы Юзефа Трофиды и других контрабандистов о привидении. А потом вспоминается, что у этого пригорка встретился впервые с Сашкой Веблиным. Если б он только знал, где я сейчас! А белое пятно все ближе. Совсем рядом, совсем…
…Вот, вижу лицо над собой. Вижу суровые спокойные глаза, черные брови. Слышу голос. Спрашивают меня, я отвечаю, хоть и не понимаю, что.
Вдруг опять всплеснулся во мне рассудок, в последний раз я в себя пришел. Спрашивают меня, знаю ли Петрука?
Знаю его. А как же его не знать, ха-ха-ха!
Затем все несется с необыкновенной скоростью прочь. Краски пляшут перед глазами. Кружатся звуки. Свирепеет буря голосов, водоворот лиц, образов, красок. Рвется вперед страшный горячий поток, подбрасывает меня, кидает вниз, в черную ледяную муть…
5
Очнулся я в маленькой комнатке. Увидел справа двери, спереди — открытое окно. Занавеску на нем колыхал легкий ветерок.
Прислушался. Далеко, на дворе, разговаривали женщины. Так где ж я, интересно? Никогда здесь не был, не помню этой комнаты. Хотел встать — но сил не хватило. Тогда спросил громко: «Кто есть в доме?»
Двери открылись, и я увидел маленького смешного человечка. Смотрел на меня сквозь толстые стекла очков и улыбался.
— Вы уже проснулись? — спрашивает.
— Так.
Вдруг вспомнил: это же часовщик Мужанский. У него жили Юлек Чудило и Петрук Философ. Я никак не мог понять, как же оказался тут.
— Выпейте вот! — посоветовал Мужанский, налив в стакан снадобье. — Хлопцы попозже придут.
И вышел из комнаты, а я уснул.
Вечером проснулся снова. В комнатке моей уже было темно. За приоткрытыми дверями услышал знакомые голоса. Позвал. Зашли Юлек с Петруком, неся зажженную лампу.
— Как ты? — спросил Юлек.
— Выспался? — спросил Петрук.
— В общем, да. Выспался.
— Я думаю! Долгонько же спал, ох, долго, — вздохнул Юлек.
— Как я здесь оказался?
Хлопцы переглянулись.
— А ты не помнишь? — спросил Юлек.
— Не… хотя… Капитанскую могилу помню, и призрак белый… говорил со мной он.
Петрук усмехнулся.
— Точно, призрак сам тебя и спас, а то умер бы там или пограничники забрали бы. Как себя чувствуешь?
— Нормально.
— Говорить не трудно?
— Нет.
— Так расскажи, как попал туда. Только медленно, подробно. Время у нас есть, — попросил Петрук.
Начал я рассказывать про все с того самого утра, как арестовали меня у Бомбины. Хлопцы часто перебивали вопросами.
Тут услышал: двери в избу открылись. И голос Лорда услышал. Тут же он радостно со мной поздоровался.
— А я уже за труп тебя держал, — ухмылялся Лорд. — И разузнать не мог, что с тобой.
Расспросы начались снова, и я опять в подробностях рассказал про арест, чрезвычайку и ДОПР, приговор к ссылке, побег из поезда и дорогу назад за границу.
Меня расспрашивали и расспрашивали и искренне радовались счастливому завершению моих приключений. Наконец, и мне удалось спросить у Лорда, что же случилось после моего ареста с ним и группой.
— Знаешь, — ответил Лорд, — ждали мы тебя пять минут, ждали десять, пятнадцать, а тебя нет и нет… Стали мы совещаться. Одни говорят: возвращаемся, другие: пошлем кого-нибудь еще на мелину. Ну, Щур и отправился на разведку. Полями, сзади подошел к хутору, прокрался во двор. И солдат увидел. Те ходили по двору, в сарай заглядывали. Ясное дело: засыпался ты. Он к нам вернулся и рассказал. Взялись мы за носки и айда назад. Только хлопцы чуть не падали от изнеможения. Едва успели до светла в Старосельский лес зайти. Метель чуть поутихла. Забрели мы в самую середину леса. Нашли там напиленные и уложенные дрова, разожгли костер и посушились немного. Но потом погасить пришлось — боялись, чтобы дым наш не заметили. Было у нас четыре бутылки спирта с собой. Тем и спасались. Дождались, пока темнеть начало, и двинули к границе. Чуть живые дотащились. Лева и Элегант заболели.
— Заплатил вам жид за дорогу? — спрашиваю.
— А как же? Вдвое заплатил, по тридцать рублей на нос. А пункт у Бомбины закрылся. Насовсем.
— А куда потом ходили?
— Да в разные места. Я сейчас в Юрлиновой группе хожу. Щур тоже. Но редко ходим. На закуску хватает, а на выпивку — уже не очень. Осени ждем.
— Никто из хлопцев не попался?
— Из наших — никто. Сейчас мало кто ходит.
— Что еще слышно?
Хлопцы рассказали много новостей. И еще сказали, что слух пустили по местечку: я в Вильню уехал. Теперь мне нужно будет слух подтвердить. Про мой засып за границей знают только самые верные хлопцы. Потом Лорд дал мне тридцать рублей золотом.
— За что это? — спрашиваю.
— За последнюю твою носку, за туда и назад… Когда на ноги встанешь, к Бергеру пойдем. Причитается тебе за спасение партии. Дорогой товар несли мы. Спас ты жиду тысячи три долларов, а может, и намного больше. Я уже с ним говорил. Дал мне еще семьдесят рублей к этим тридцати.
Слушал я его вполуха. А когда он сказал, чего хотел, спрашиваю:
— Как думаешь, почему у Бомбины засада была?
— Сдали нас! — ответил Лорд. — Наверняка же ждали нас. Специально и огня не разжигали. В сенях прятались, в сарае и за занавеской… Точно, сыпанул нас кто-то!
— А кто, как не он? — отвечаю, думая про Альфреда.
— И я так думаю. Только откуда вызнал он, где у нас мелина?
— Может, кто из хлопцев выболтал по пьяни, а оно до Альфреда и дошло? — предположил Юлек.
— Может, и так, — согласился Лорд. — Ох, получит он когда-нибудь за свое. За все сразу!
Назавтра почувствовал себя так хорошо, что оделся, и вместе с Юлеком вышел в город. Тепло было. Солнце заливало улицы ярким светом. По дороге заглянули к Лорду и вместе с ним пошли к Бергеру.
— Нужно с него малость стрясти! — заявил Юлек. — Есть с чего и есть за что. Ты ж ему целую партию товара спас.
Бергер оказался дома. Нашли мы его в столовой, обставленной дорогой, вовсе не подходящей для маленького дома мебелью. Все в резьбе. Два обитые кожей кресла, вычурный шкаф, огромный стол.
Бергер был на вид типичный еврей. Потирая ладони, пригласил нас в боковую комнату. Там вдоль стен стояли большие, закрытые висячими замками сундуки. Всю середину комнаты, почти не оставляя прохода, занимал длинный стол. Из-за закрытой двери соседней комнаты доносился по-восточному томный женский голосок, меланхолично напевавший:
О баядера, легкий сказочный сон! О баядера, тарарам-пам-пам-пам…— Шломо, сколько за баядеру приданого дашь? — рассмеялся Лорд.
— Ой, какое ей приданое? Что ей приданое? Она ж сама — золото!
— Но, но, не надо! Самое малое, полмиллиона!
Жид чуть усмехнулся, погладил ухоженную бородку и спросил:
— А что мне пан Болеслав скажет? По какому делу пан пришел?
— Тут хлопец наш вернулся, — Болек кивнул в мою сторону. — Шломо знает, о чем я. Тот, кто в марте нам партию спас, а сам попался. В ДОПРе сидел и в ЧК. Все деньги там у него забрали, судили на ссылку. А он по дороге удрал!.. Ему бы премию от Шломо… на фарт.
— Так это тот самый Владек?
— Так.
— Я сейчас, — сказал Шломо и вышел.
Вскоре вернулся в сопровождении молодого, разодетого и донельзя элегантного жида. Я чуть узнал Леву. Поздоровался с ним. Пару минут поговорили, и сказал Лорд:
— Шломо, тряхни мошной! Надо нам выпить за возвращение хлопца. Он за твой товар бока порвал себе еще как и три месяца после вшей кормил. Небось, и забыл уже, какая водка на вкус.
Шломо вынул из кармана длинный, бисером расшитый кошель — наверное, своими руками сделанный подарок от родни. Вынул из него и выложил на столе, осторожно касаясь золота пальцами, десяток червонцев. Придвинул ко мне.
— Пожалуйста! На удачу пану Владу.
Взяли мы деньги и распрощались с Шломо.
— Крохобор! — пожаловался Лорд, когда шли по улице. — Ты ему столько тысяч спас, а он всего сотню и отжалел. — И добавил, помолчав немного: — Потому шухер играем и агранды устраиваем. А он предпочитает все потерять, но за работу не платить как следует!
Направились мы к Гинте. Когда зашли в салон, увидел веселые лица хлопцев. Увидев меня, контрабандисты закричали:
— Ура-а!
— Здорово!
— Сюда его!
Увидел за столом завсегдатаев пивнухи: Болека Комету, Фелека Маруду, Мамута и Щура. Был там и Вороненок, очень молодой с виду контрабандист, на вечеринке у Сашки игравший на пару со мной в карты и ляснувший Альфреда бутылкой в лоб за крапленые карты. Рядом с Кометой сидел Юрлин, известный проводник — машинист, давно уже водивший группы и ходивший даже летом. Был то мужчина лет пятидесяти, высокий, широкоплечий, рыжий. И пьяный. Хохотал во всю глотку и повторял:
— Лишь бы только тихо!
В углу дремал гармонист Антоний.
Когда я подошел к столу и поздоровался, Болек Комета поднял руки вверх и провозгласил:
— Скажу и докажу вам, хлопцы, что по такому поводу, — он имел в виду мой побег, про который знало уже много хлопцев, — три дня и три ночи нужно стаканами… нет, не стаканами — ведрами водку глушить!
— Умно! — подтвердил Лорд.
— Лишь бы только тихо, — вставил Юрлин.
Началась гулянка. Я пил только пиво, и того помалу.
Не слишком здоровым я себя чувствовал. Антоний играл на гармони. А я платил за всех.
Потом, измученный шумом и гамом, отправился домой вместе с Юлеком и лег спать.
Узнал я: Юзеф Трофида отбыл срок и вернулся в местечко. Я попросил Юлека, чтобы разбудил меня вечером, в восемь. Однако проснулся сам без четверти восемь. Оделся и вместе с Юлеком пошел на Слободку. Там остановился.
— Ты, Юлеку, иди домой, — говорю ему.
— Ты смотри, чтоб плохо тебе не стало.
— Да я здоровый, иду всего только к Трофидам.
Юлек вернулся, а я пошел на подворье к Трофидам. Там все было как раньше. Через окно заметил горящую на столе лампу. Открыл дверь, зашел в избу. У лампы с голубым абажуром за столом сидела Янинка, уперев подбородок в ладони. Девочка долго смотрела на меня через зал, а потом, закрыв книжку, сообщила:
— А я вас ждала!
— Да? А откуда знала, что приду?
— Я знаю, — Янинка усмехнулась. — Мне кошка рассказала. Она у мельницы рыбу ловила, а после все умывалась и умывалась.
Янинка показала мне, как умывалась кошка.
Послышались шаги в сенях, и в зал вошел Юзеф Трофида.
— А, это ты!.. Я тебя ждал. Знал: вернулся ты. Ну, файное дело? Выпьем чего? Чаю, водочки?
— Чаю лучше.
— Ну и лады. Сейчас мы бурду эту сладим!
Юзеф пошел в кухню. Удивило меня, что Гели дома не было. Думал, она в город пошла.
Когда стали чай пить, принялся я расспрашивать Юзефа, что делал, пока меня не было. Потом рассказал подробно про свои приключения. Янинка слушала, но ни словечком в разговор не вмешалась. И вот я спросил Юзефа:
— Как Геля поживает?
Лицо Юзефа исказилось судорогой. Глаза широко раскрылись. Долго смотрел на меня, не отвечая. Тут я услышал тихие всхлипы. Янинка встала и пошла в спальню. Я понять не мог, в чем дело. Отчего простой вежливый вопрос про Гелю их так расстроил?
Наконец Юзеф выдавил из себя:
— Так ты… ты вправду не слышал?
— Нет. А что такое?
— Нету Гели, — ответил Юзеф, понурившись. — Нету ее. Нету больше.
— Умерла?
— Она… — Юзеф повернул голову, тяжело, натужно, будто груз привешенный поднимал, потом встал зачем-то и сказал очень тихо:
— Повесилась она.
— Повесилась?
— На груше.
Меня та новость как молотком ударила. Сижу и ног под собой не чую. Вдруг — непонятно, почему — вспомнилась мне Геля на лестнице в саду. Срывает яблоки, а расфранченный Альфред с тросточкой в руке стоит и подсматривает за ней. Говорит что-то ей. Она краснеет. Потом Альфред тянет руку и гладит ее по икре.
— Зачем она так? — спрашиваю.
Юзеф долго смотрел мне в глаза. Вижу, не понял вопроса. Тогда повторил.
— Зачем? — выговорил Юзеф тихо. — Затем, что беременная была.
— А-а…
— Так. Беременная была и боялась, что станут говорить про нее. Какая дура, дура… Пока я есть, никто б ее и пальцем не тронул, а она…
Поздно вечером я вернулся домой. Юзеф предлагал мне пожить у него, но я сказал, что поговорю с Петруком и Юлеком. Обидно мне было ужасно и гнусно на душе. Ненависть к Альфреду во мне просто кипела. Шел, задумавшись, и не заметил даже, когда свернул не в ту сторону. Осмотрелся наконец: дом какой-то знакомый. Ага, это ж Еськи Гусятника хата!
Пошел к дверям и постучал. Через минуту услышал в сенях голос Еси.
— Эй, кто там?
— Я это, Владек.
— А, сейчас!
Отомкнул торопливо дверь, впустил меня. Комната была пуста. На столе лежала какая-то еврейская книжка, на ней — очки в роговой оправе.
— Может, выпьешь? — спросил Еся. — Вишневка есть отличная. Жена делала. Золотые руки!.. Ах, какие у женщины руки! Брил-ли-ан-то-вы-е!
Принес графинчик вишневки, и выпили мы с ним несколько рюмок. Жиды стаканами пить не любят. Начали говорить о разном. Про мой засып Гусятник уже знал.
— Кто-то нас заложил у Бомбины, — говорю ему. — Иначе ни за что бы они мелину нашу сами не отыскали! Засада была. И засели, точно зная, что мы идем. Понимаешь?
— Его работа! — заявил Еся убежденно.
Ни имени, ни фамилии Альфреда сказано не было. Но я и так хорошо понял, про кого он.
— Его, говоришь, работа?
— Его. Что б мне счастья не знать! Чтоб я так за женой и детьми смотрел! Его.
Еся замолчал. Молчал и я. Долго это длилось. Потом, неожиданно для себя, говорю:
— Мне машина нужна.
— Машина? — Еся посмотрел на меня пытливо.
— Так. Добрый ствол хочу. На все сто с гаком! Чтобы надежно.
— Я тебя понимаю, — Есины глаза заблестели.
Начал обстоятельно, со знанием дела рассказывать про достоинства и недостатки разных систем. Но я лекцию прервал.
— Я в бижутерии этой тоже не новичок, — говорю. — Наган хочу. Автоматику мне не нужно, я не воевать собрался. А наган — самый надежный ствол.
— Так, так, самый надежный… Знаешь что? Ты подожди малость. Вишневочки еще выпей. Жена делала. Бриллиантовые, говорю тебе.
— Знаю, знаю, бриллиантовые руки.
— Так. А я сейчас.
Не знаю, почему именно тогда захотелось мне купить револьвер, когда узнал про самоубийство Гели. Конечно, Альфреда я ненавидел, но убивать его вовсе не хотел. И мысли такой не возникло. Но думал вернуться вскорости к работе контрабандиста. Еще когда сидел в ЧК и ДОПРе, решил: если снова буду ходить за границу, то лишь как Алинчуки, со стволом. Знал: Альфред не упустит мне навредить и уже пару раз не упустил, но убивать… Мне сама мысль человека убить противна была. Что угодно сделать, свинью какую подложить, но не убивать.
Гусятник вскоре вернулся. Замкнул двери. Проверил, плотно ли задернуты шторы. Затем вынул из бокового кармана пальто завернутый в бумагу, многократно перевязанный шнурком сверток. Шнурок разрезал перочинным ножом, бумагу развернул и показал мне матово лоснящийся вороненый наган. Офицерский, самовзвод. Гусятник нажал несколько раз на крючок. Боек поднимался и с сухим щелчком входил на место.
Я осмотрел револьвер: новый, чистый. Работал без задоринки. Приятно было в руке его держать. Гусятник, видя, что оружие мне понравилось, усмехнулся, поцеловал кончики пальцев и сообщил:
— Как часы тикает!.. Семь лбов с одного барабана наверняка!
— А патроны?
Еся вынул из кармана две картонные пачки.
— Тут полсотни. Если еще понадобится, ко мне приходи. Продам хоть тысячу.
— Сколько?
— Столько, сколько я сам за него отдал. Я не торгую.
— Сколько?
— Десять.
— Даю пятнадцать! — и протянул ему пятнадцать рублей.
Но Гусятник пятирублевку мне вернул.
— Я сказал, не хочу на тебе зарабатывать! Когда б у тебя денег не было, даром бы тебе отдал!
Стал прощаться я с Есей. В сенях говорю ему:
— Ты не думай, что это я на Альфреда.
— Я про него вообще и не вспоминал.
— Это для того, чтоб в Советах гадам не попасться. Хамы любят засады на нас делать, можно и нарваться часом.
— Так, так, знаю, — сказал на это Гусятник, отмыкая мне двери во двор.
— Доброй ночи! — желаю ему. — А вишневка отличная!
— Счастливо! Это жена делала. Брил-лиан-то-вы-е руки!
Пошел я темным заулком. В голове шумело от вишневки. Задержался немного. Посмотрел на небо, нашел Большую Медведицу. Вынул из кармана наган, зарядил. Было приятно держать в ладони выгнутую, шероховатую рукоять револьвера. Зажмурив левый глаз, прицелился в звезды. И рассмеялся. Подумалось мне, что теперь есть у меня два наилучших друга: Большая Медведица с семью звездами, не раз помогавшими мне найти правильную дорогу, и наган с семью патронами, способный в нужде защитить меня.
В ДОПРе слышал от уголовников: семь — счастливое воровское число. Может, потому так посчитали, что семерка видом напоминает отмычку?
6
Третью неделю живу у Мужанского. Не хочу возвращаться к Трофидам. У них сейчас угрюмо, все понурые. Юзеф совсем не ходит за границу, за мать боится. Она после смерти Гели оцепенела как-то, перестала говорить. Да и не нужен я им в доме, к чему хлопоты лишние? Я Юзефу сказал. Он согласился — ведь правда же.
А я себя никогда так хорошо не чувствовал, как теперь, поселившись у Мужанского. Старый часовщик полсвета объехал. Видел много интересного в чужих краях и вечерами за самоваром рассказывал нам истории, великое множество. Каждый день поутру шли мы с Юлеком и Петруком купаться на Ислочь, а после завтрака шли по окрестным лесам. Собирали грибы и ягоды, а потом ложились на мягкий мох и долго лежали неподвижно, глядя в далекую, глубокую синь неба на торопливые, легкие, веселые облачка.
Петрук всегда брал с собой книжку и часами читал нам. Мы слушали. Иногда я засыпал, а потом расспрашивал Петрука, что случилось после того места, на котором заснул.
— Спать не нужно! — отчитывает сурово Петрук, но дает себя уговорить и пересказывает проспанное, соединяя нить действий. Потом читает дальше.
Около полудня раздеваемся, загораем. К обеду возвращаемся домой, принося с собой запах леса и веселое настроение. Бася, рябая служка Мужанского, подает обед. Садимся и едим, каждый за двоих. Пьем пиво. А водки не пьем, я уже долго водки не пью.
От такой жизни я поздоровел, но заскучал. У Петрука-то с Юлеком занятие есть. Петрук учительствует в местечке, Юлек Мужанскому помогает в работе — тот обещал его на часовщика выучить. А мне делать нечего. Несколько раз приходил за мной Лорд, звал с ним идти (а он время от времени ходил за границу), но я всякий раз отвечал, что хочу еще отдохнуть.
Много раз я хлопцев расспрашивал: как же донесли меня от границы до жилья их, как нашли? Удивлялся очень, что не хотят мне того рассказать.
— Призрак нам рассказал, — отговаривался Юлек.
— Узнаешь в свое время, — добавлял Петрук.
Скрывали от меня, но что? Не хотелось мне назойливо выпытывать. Может, сами расскажут, когда захочется.
И вот как-то днем, когда Юлек работал за верстаком рядом с Мужанским, а Петрук ушел в город, я пошел в город тоже, намереваясь заглянуть к Сашке Веблину. Знал от хлопцев: Сашки дома нет, выехал вместе с Живицей в Радошковичи, но хотелось Фелю повидать. Всегда про нее думал, а в последнюю неделю каждый день собирался сходить к ней. Но расхолаживало меня скверное наше расставание в январе, когда не захотела она танцевать со мной.
Фелю я застал дома. Выглядела красиво, в хорошем, кремового цвета платье. Не мог и узнать в ней тогдашней капризной, своевольной дивчины. Очень меня удивляло, что всякий раз Феля по-разному выглядела. Каждое новое платье будто меняло ее целиком. Но всегда была она красивой. А в этот раз вела себя с необыкновенной важностью.
Когда зашел, увидел ее в компании Лютки Зубик, одетой в яркое желтое платье, плотно облегающее ее мясистое, крупное, трясущееся при каждом шаге тело. Лютка перетянулась широким лакированным поясом с никелированной пряжкой, и оттого смешно выпирали ее и без того немаленький живот и торчащие в стороны груди.
Девчата пили чай. Лютка то и дело покатывалась со смеху, показывая большие здоровые зубы и розовые десны.
— Чаю хочешь? — спросила Феля.
— Да я уже поел.
— Ничего страшного. Садись. На чашку чаю место найдется. У меня и варенье земляничное есть. Сама варила.
Выпил я чашку чаю.
— Болек что-то не идет, — пожаловалась Лютка.
— Еще рано, — заметила Феля.
Знал я от хлопцев, что с некоторых пор Лютка — Лордова полюбовница. Жениться на ней Болек не собирался, но дивчина от того вовсе не переживала, потому что жила, как хотела, и сплетен не боялась вовсе. Лютка не только не прятала связи с Лордом, но и выставляла ее напоказ, всюду с ним появляясь.
Когда Феля принялась убирать со стола, явился и Лорд. Разодет был как граф: элегантная шляпа, белые брюки, тросточка, японский галстук, рубашка, переливающаяся всеми цветами радуги.
— Мое почтение! — приветствовал Лорд с порога.
Лютка взвизгнула, вскочила и, тряся обширным телом, подбежала к Лорду. Обняла его за шею мясистыми розовыми руками, и, приподняв согнутую в колене левую ногу, поцеловала в губы. Лорд подхватил ее на руки, закружил по залу.
Феля чуть усмехнулась. Глянула на меня. Я ответил ей улыбкой.
Пошли мы все вместе в город. Много прохожих нас миновало, и все на Фелю поглядывали. Мужчины даже и оглядывались. Мне это льстило. В Фелиных ушах были сережки с крупными бриллиантами, на груди — дорогой кулон. На руках — браслеты, на пальцах — множество перстней. Девушка побрякушки любила, а Сашка подарков сестре не жалел.
Прохожих становилось все больше. Мы здоровались со знакомыми. У костела заметили идущего к нам Альфреда. Вел он под ручку Бельку и чего-то ей втолковывал. Она громко смеялась. Я глянул на Фелю — та смотрела, нахмурившись.
Альфред и Белька приблизились, и тут Белька заметила меня. Смеяться перестала.
— Мое почтение панне Бельке! — приветствовал ее Лорд.
Альфред шляпой махнул перед Фелей. Она кивнула в ответ.
После возвращения из Советов я у Бельки еще не был. Теперь в первый раз ее увидел. Я-то сразу к ней хотел пойти, когда вернулся, да разузнал от хлопцев: она с Альфредом ходит. И расхотел. Вот и своими глазами увидел. И Фели оттого еще сильней захотелось. Знал ведь: Альфред два года за ней ухлестывал, да ничего не выхлестал. И замуж за него не захотела, хотя много раз предлагал. Умная ведь и проницательная. Такую запросто, на бойкий язык и черные усики, не возьмешь.
Феля с Люткой пошли в костел, а мы с Лордом принялись прогуливаться среди празднично разряженных хлопцев, по-индючьи надутых. Те прохаживались группками да поглядывали искоса на ступеньки костела, сейчас походившие на цветущую клумбу. На девчатах были яркие, разноцветные платья. Стояли, шептались, хихикали, оглядывая парней. А те упивались взглядами. Вышагивали, будто упряжные кони, руками размахивали да все посматривали на крыльцо.
Подошел к нам Юрлин. Поздоровался, сплюнул в сторону. И попал — нарочно, не иначе — на лакированный носок туфли старшего Альфредова брата, Альбина Алинчука, как раз проходившего мимо. Тот стал, раскраснелся, не зная, должно быть, что сказать.
— Прошу прощения, Альбин, — сказал Юрлин спокойно.
— Да ладно, прощения он просит, — буркнул Альбин, вытирая туфлю куском бумаги.
— Ну, если не нравится, что прощения прошу, так я и не буду просить.
Тут вынырнул Щур.
— Не понравилось ему, что на туфлю попало, — заметил он. — Алинчуки любят, чтоб в морды им плевали.
К Альбину подошли братья. Щур не унимался.
— Зачем бумажкой вытираешь? Языком слижи! Как солнышко заблестит. Люди подумают: ну, князь какой, а не торгашов сын.
— Князь — под ногтем грязь, — добавил Лорд.
— Граф — добра на шкаф, — не отстал Щур.
Алинчуки ушли.
— Мне еще двух хлопцев нужно, — сказал Юрлин Лорду. — Товару до холеры, а ходить некому!
— А что, хлопцев в местечке мало?
— Так не хочу брать абы кого.
— Может, пойдешь? — спросил меня Лорд.
Я помялся немного. Деньги уже кончались. Нужно было браться за работу. Да и безделье долгое очень меня нудило.
— Когда идешь? — спрашиваю Юрлина.
— Во вторник.
— Хорошо. И я с вами.
— Умно! — одобрил Лорд. — Я еще Элеганта спрошу. Он на нолях. Может, согласится.
— Ну и сладили! — отозвался Юрлин. — Значит, готовим десять носок. Только чтоб на все сто!
— Этот наверняка пойдет, — заверил Лорд. — И Элегант пойти должен.
Юрлин отправился к Гинте, а мы остались ждать у костела. Наконец, увидели Лютку с Фелей, они проходили между расступающимися девчатами. Вместе ушли с костельного двора. На нас многие смотрели. Лютка притягивала хлопцев роскошной фигурой, Феля — красотой, Лорд был всем известным контрабандистом и гулякой, я еще и тогда был любопытным пришлецом, незнакомцем. А может, и то, что я рядом с Фелей, возбуждало любопытство.
Прогулялись мы, не торопясь, по улицам. Лорд зашел в кондитерскую, накупил конфет, шоколаду и орехов.
Вернулись домой. Феля подала на стол обед — его еще утром приготовила вместе с Люткой. Оказались на столе графинчик с водкой и бутылка вишневки. Лорд выпивать начал за здоровье дам, потом за здоровье их родни по мужской и женской линии, за границу, за контрабандистов. Пили за счастье, за удачу и черт-те знает за что еще. Да мало ли поводов, чтоб гульнуть. Лютка от нас в питье не отставала. Феля сдерживалась, но вишневки тоже хлебнула немало. Лоб и скулы белые, губы алые, а глаза так и сияют. Я ни на минуту от нее взгляда не отрывал, то и дело доливал ей.
Потом отодвинули стол и Лорд поставил на граммофон пластинку. Зазвучал старый вальсок. Лорд подхватил Лютку, прижал крепко к себе, и так они, притиснувшись, закружились по хате. Дивчина смеялась, запрокидывая голову.
— Ой, удушишь!
А сама так и льнула к нему. Я пригласил Фелю потанцевать. Она встала. Закружились мы по залу. Я сильней прижал ее к себе. Она не противилась… Но вдруг услышал ее голос, будто издалека прилетевший в мои уши:
— Может, хватит?.. Сгоришь!..
Вечером проводил вместе с Лордом Лютку домой. Когда прощался с Фелей, она крепко пожала мне руку и сказала:
— Ты приходи.
— Когда? — спросил я.
— Когда хочешь.
— Я приду, — пообещал я.
Радостно мне было. Не жалел я ни о Бельке, ни о Лене. Только Феля была на уме и в душе. Однако, когда, проводивши Лютку домой, Лорд предложил мне пойди к Калишанкам, я, стесняясь немного, ему поддакнул, чтобы неловкость сгладить:
— Добре… Выпить бы еще неплохо.
— Конечно, конечно. Очень умно! — ответил Лорд.
Той ночью я впервые после возвращения из-за границы не ночевал дома.
7
Одиннадцать нас — обычная группа контрабандистов. Идем лесом, в зеленом сумраке, по мягкому мху, как по дну моря. Крадемся наугад между деревьями, будто призраки. А над головой также тихо крадутся тучи. Пустили вперед наживкой крохотное легкое облачко — и ползут всем стадом за ним.
Юрлин идет первым. Легко идет, чуть покачиваясь влево-вправо, рысьими глазами шарит вокруг. За ним поспевает Лорд. Легко идет, как по паркету. И поглядывает по сторонам. За ними, двумя знаменитыми машинистами, иду я. За мной, качая бедрами, Щур. Ухмыляется. То ли сыгранный шухер припомнил, то ли новый удумал. Далее шествует Комета. Распустил черные усищи и шагает размашисто. За ним пробирается Соня, жена Юрлина. Ее специально держат в середине группы: там безопаснее. Шагает она меленько, но уверенно. Привыкла к таким путешествиям, второй год с мужем ходит. За Соней чапает Ванька Большевик. Идет, глаз от ее ног не отрывая. Наблюдает, как бедра завлекательно колышутся. Похабство у него на уме. Идет, забываясь, и частенько ломает сапогами сухие ветки. Тогда Щур оборачивается, делает страшное лицо и показывает кулак.
— Смотрит, будто кобыла на волка, — ворчит Ванька.
За Ванькой поспевает Соска — веселый, смешной, легковерный хлопец. Не любит очень, когда Соской его зовут. Прозвище свое получил как раз из-за сосок, когда пошел сам по себе за границу. Взял необычный товар — несколько тысяч детских сосок. Бандаж себе сделал: понавешал соски на шнурки, да и спрятал под куртку.
Летом это было. За ночь он до мелины своей добраться не сумел и спрятался в жите. Ну и надоело ему там сидеть, начал полями пробираться дальше. Заметил его конный патруль. Хотели солдаты его задержать, да он, будто щука в воду, в жито нырнул. Долго его ловили, жита стоптали немеряно, но все же словили. И начали обыскивать. Сняли куртку с него, и вот стоит он, в сосках, будто в орденах. Большевики покатились со смеху.
— Знаете что, товарищи? — наконец, сказал один. — Такого злостного спекулянта и задерживать страшно.
— Пускай несет! — поддержал второй. — Будет малым коммунарам развлечение.
И отпустили его. Даже товар не забрали. Вернувшись в местечко, хлопец простодушно рассказал про все коллегам, не подозревая, что станет мишенью насмешек и шуток. С того времени все его и звали: Соска.
За Соской идет Леон Юбина. Хлопцы зовут его Кавалерик, потому что очень любит с девчатами пофлиртовать, на всех вечеринках он — душа женского общества. Ходит за границу редко, разве что нужда его выпихнет. Боится хлопец походов таких. За ним элегантно, в элегантных сапогах и брюках, вышагивает Элегант. Только шапка и куртка у него старые, чтоб видом особо не выделяться. В конце партии тянется сопровождающий товар Гирш Кнот, молодой пухленький жидок. Боязливый он и близорукий, потому все время осматривается по сторонам, щурится, поспешает. Трудно ему, но отстать очень боится. Мало ли кто из кустов выскочит, лес ведь! Когда отстает на десяток шагов, пускается бегом догонять, перебирает смешно коротенькими ножками, вытирает платком пот с лица. Лорд однажды оглянулся да и увидел, как тот платком лицо вытирает. Подошел и говорит:
— Что, в морду захотел?
— Ты чего? Что такое?
— Ты платок спрячь сейчас же! Белую тряпку в лесу за километр видно! Если нужно, желтую бери или зеленую!
Носки у нас по сорок пять фунтов. Только Соня несет тридцатифунтовую. Товар несем дешевый, но хорошо расходящийся в Советах: зеркальца, бусы, ножики, гребни, наперстки, бритвы, помазки. Зарабатываем так же, как и за дорогой товар, по пятнадцать рублей. Товар от Ривы Гланц и Фейги Едвабной, у которых совместный павильон на базаре…
Жене Юрлина, Соне, тридцать лет, но выглядит намного моложе. У нее круглое веселое лицо, небесного цвета глаза, вишневые губы, светлые волосы и ямочка на подбородке. Очень она симпатичная, и Юрлин, сомневаясь в супружеской верности, берет жену с собой не для большего семейного заработка, а чтобы приглядывать. Знает: темперамент у Сони огненный, а сердечко — очень даже непостоянное, и к тому же не очень ценит она семейственность. Потому глаз с нее спускать не хочет.
А я по ходу время от времени запускаю руку в боковой карман куртки и с удовольствием сжимаю шероховатую рукоять нагана. Никому из хлопцев не говорил я про револьвер. Знаю: они боятся ходить с оружием, потому что в Советах пойманных с оружием судят очень сурово. Пару раз случалось, приговаривали за «бандитизм» и споро пускали в расход. Наган — моя тайна, я никому не хочу ее раскрывать. По мне лучше, если уж попадешься в Советах, отбиваться и погибнуть, чем снова голодать и кормить вшей в чрезвычайке и ДОПРе. А что меня ждало дальше, на протяжении трех лет ссылки, которой едва удалось избежать?
Ночи сейчас короткие, до мелины за раз не успеть, потому обычно днюем по дороге. Пункт наш — за двадцать пять километров от границы, на северо-восток от Старого Села. Идти мы стараемся лесом, на поля выходим в крайнем случае. Юрлин ведет группу уверенно, без тропок и путей, будто наугад.
Переждав день в лесу, следующей ночью добираемся до большого сада. Юрлин отодвигает доску в заборе, через этот лаз пробираемся в сад. Посреди него стоит большой амбар. Заходим туда.
Юрлин с Лордом идут на хутор. Возвращаются через четверть часа и принимаются переносить носки, берут по две за раз. Потом укладываемся спать. Соня спит в углу, рядом с мужем. Гирш Кнот тоже спит в амбаре.
8
Пришел август. Приближался золотой сезон. Граница оживилась. Контрабандисты ходили чаще и большими группами. Я продолжал фартовать с группой Юрлина. Удачно ходил. Пару раз погнали нам кота погранцы, но никто не попался. Щур все хотел сделать жидовкам агранду, но Лорд не соглашался: товар был зряшный, того не стоил.
Работать стало труднее. Границу взялась стеречь полиция. Пограничные батальоны ликвидировали. А как только границу начала стеречь полиция, начались и стычки с большевистскими солдатами. Те с прежними польскими погранцами ладили, по одной стежке ходили, разговаривали, встречаясь. Теперь на границе стреляли все чаще. Большевики стреляли в польских пограничников, гадости всякие устраивали. Полицейских, стерегущих границу, красноармейцы называли «черные вороны», или «черная сотня». Тогда и поляки, и большевики одновременно перенесли маршруты обхода границы на несколько десятков метров от самой границы, во многих местах границу загородили колючей проволокой, и заборы эти бывали очень и очень длинными.
Все труднее делалось ходить за границу. Погранцы стали нервными, из кожи вон лезли. Повсюду были засады. В наилучших для перехода местах высилась колючая изгородь, приходилось носить с собой маты или жерди. Случалось нам и резать проволоку ножницами, но только по крайней надобности. Не стоило ни сверх меры злить погранцов, ни указывать им наши излюбленные места перехода.
В конце августа пошел я седьмой раз с группой Юрлина. Вышли мы рано. Ночи стали длинные, и нам хотелось прийти на мелину к утру. В группе шли Юрлин, Лорд, я, Комета, Щур, Соня, Ванька Большевик, Элегант, Соска, Юбина и Гирш Кнот. Носки тянули по сорок фунтов.
Невдалеке от границы Юрлин с Лордом вытянули из зарослей мат длиною в несколько метров, сплетенный из соломы и лозы, по краям прочно обметанный шнурами. Лорд принес две длинные жерди, а Комета потянул скрученный ковром мат.
Медленно пробираясь по лесу, добрались до границы. Темно было. Небо обложило тучами. Долго прислушивались, стоя на краю леса, затем вышли на просеку и подобрались к заграждению. Привязали к концу мата жерди и, подняв, уложили мат на проволоку. Другой конец мата, с нашей стороны, тоже привязали к жерди.
Начали перелазить. По очереди карабкались наверх, держась за жерди, на коленках перебирались на ту сторону. Все — быстро и бесшумно. Когда перелезли, снова подняли мат за жерди, перетянули, отвязали жерди. Мат скрутили и спрятали вместе с жердями в глубине леса. Подальше от границы, в густом малиннике. На обратном пути собирались перелазить так же и забрать мат.
Без происшествий перешли приграничный лес и реку на второй линии. Чтобы сократить путь, Юрлин повел нас узкой тропкой через лес. Ночь выдалась тихая и теплая, темень в лесу была кромешная. А шли быстро и потому часто утыкались в спину идущих впереди.
Лес поредел. Вскоре вышли к узкой долине, клином вошедшей в лес. Посреди долины бежала речушка. Юрлин повел нас вдоль нее. Лес скрылся в темноте. Стало виднее, можно разглядеть на несколько шагов вокруг. Долина становилась шире.
Вдруг спереди послышался металлический лязг. Юрлин замер. За ним и вся партия. Лязгнуло еще несколько раз. Тут мы поняли: это бренчат железные путы на ногах пасущихся коней.
Юрлин перескочил в узком месте на другой берег речушки и, удаляясь от него, зашел в болото. Вскоре почва под ногами начала колыхаться, пришлось вернуться.
Когда снова вышли к берегу речки и остановились там, услышали шаги быстро идущих к нам людей. Юрлин дернул вправо, чуть не бегом. Спереди сверкнул фонарик. В его свете я увидел силуэты идущих впереди товарищей. Юрлин завернул в болото. И в этот же момент сбоку раздалось:
— Стой! Стой! Сто-ой! Ребята, заходите от леса, живо!
Сверкнуло еще несколько фонарей. Послышался топот, крики, проклятия.
— Стой, сто-ой!
— Говорят вам, стоять! Стрелять будем!
«Наверное, карабинов у них нет с собой, — думаю, — а то давно бы уже стреляли».
Щур бежал рядом со мной и чертыхался:
— Ну жлобье! Ну хамы! Ну дрянь!
Понял я, что не удерем. Тогда прыгнул в бок. Щур крикнул:
— Ты где?
Я не ответил. Постоял немного, увидел приближающиеся темные силуэты. Высветил их фонариком да и начал гасить по ним из нагана весь барабан подряд. Увидел: наши преследователи кинулись наутек. Поспешно выкинул из барабана стреляные гильзы, сунул новые патроны. Услышал сбоку, рядом совсем, легкие шаги. Чуть не выстрелил. Но посветил фонариком коротко и узнал Щура.
— Круто! — сказал тот.
— Кто это был? — спрашиваю.
— Или погранцы в ночном коней пасли безоружные, или хамы разбойные ночевали да нас услышали, что скорее всего. А ты их здорово шуганул. Они б нас догнали. Каждую кочку тут знают и на спине ничего не тащат. Ну, ладно ты им приложил, ладно!
— За нашими пойдем? — спрашиваю.
— За нашими? — Щур присвистнул. — Где их сейчас отыщешь, наших. Возвращаемся в местечко… А товар наш без всякой агранды! — добавил и рассмеялся тихонько.
Пошли, не торопясь, болотом к речке и вдоль нее добрались до лесу. Еще до полуночи вернулись в местечко.
— Где товар продавать будешь? — спрашиваю.
— Ты мне хоть сотню фур давай — все продам.
— Может, и мой продашь?
— Лады. Только помоги домой занести, а утром будешь с бабками.
Рядом с домом, где Щур жил, распрощались. Щур задержал мою ладонь в своей.
— Ты того… хлопцам не говори, что по гадам тем из машины садил… Забоятся ходить с тобой.
— Добре!
— А про товар скажи: в болото кинул, сам чуть вылез. Понимаешь? Чтоб не подумали про агранду!
— Лады.
— Вечером приду к тебе, — пообещал Щур и с двумя носками на плечах исчез в глубине двора.
А я пошел домой.
Вот так я впервые испробовал свой револьвер.
Назавтра в полдень ко мне пришел Щур.
— Загнал носки? — спрашиваю его.
— Не-а… За весь товар, твой и мой разом, дают сто восемьдесят рублей. За горло берут, дряни! Знают, что дело нечисто. Я бы отдал, но засомневался — а ты как? Кабы чего не подумал.
— Что подумал?
— Что от твоей доли часть присвоил.
— Да знаю я: не сделаешь ты такого! Тут и говорить не о чем! Иди да бери деньги.
Щур пошел, вернулся вечером, принеся девяносто рублей. Смеялся от души.
— Знаешь, — говорит, — Юрлинова группа тоже вернулась.
— Все вернулись?
— Юрлин вернулся с жидом, Лордом и Кометой. Элегант с Соской вернулись вместе. А Соньку Ванька Большевик под утро привел. Наверное, всю траву на пограничье помяли. Вот уж порезвились!
— А Кавалерчик? — спрашиваю, имея в виду Юбину.
— Не вернулся. Может, заблудился где.
— Как с товаром?
— Юрлин да Лорд с Кометой отдали, с жидом ведь шли. А остальное — фьють! — Щур присвистнул протяжно. — Дураков нет!
Пошли мы до Гинты. В салоне было полно контрабандистов. «Гильдия» работала вовсю. Тут по рукам били, договаривались. Группы набирали. Тут и тратили заработанное. Гармонь играла и водка лилась, а не раз и кровь. В карты тут играли.
Когда зашли мы, разглядели сквозь густую завесу табачного дыма всех наших за столом посреди зала, даже Юрлина, редко к Гинте захаживавшего. Освободили для нас место за столом.
— Выпейте-ка, а после поболтаем, — предложил Лорд загадочно.
Выпили по два стакана водки. Потом Лорд спросил у Щура:
— Ты вчера валял из машины по хамам?
— Нет, не я… А что?
— Ничего.
— Ты лупил по гадам? — спросил Лорд у меня.
— Нет.
— Да они это, — подал голос Юрлин. — Или один, или второй. Я знаю. Я близко был!
— Может, это хамы по нам палили? — предположил Щур.
— А кто на них фонариком светил? Кто? — спросил Юрлин.
— А что вам с того? — спрашиваю у Лорда, изрядно разозленный допросом.
— Того, что группа у нас спокойная. На чистую работу ходим, стволов нам не нужно. Если с машинами ходить, то всем. Иначе — одного со стволом словят, а к стенке все пойдут! Вот, Кавалерчик не вернулся. Может, там его и сцапали?
— Эх вы, зайцы! — Щур рассмеялся. — А если бы всех вас сцапали, что тогда?
— И ничего тогда! — отрезал Юрлин.
— Это тебе — ничего. Тебя жиды выкупят, а мы в чрезвычайке сдохнем!
— Может, и тебя выкупят.
— Я им не лакей!
— Чего ты так, а?! — вмешался Комета. — Юрлин — наш хлопец, знает, что говорит!
— Знает, да это он для себя знает, а не для нас! — Щур вскочил. — Помните тех пятерых кучкуновских хлопцев, которых в прошлом году гады у Горани в болото втоптали? Что, вспомнили? А?.. Нас ведь тоже в лесу у Горани подстерегли!
Все смолкли. Тогда я встал и сказал:
— Это я стрелял по гадам!
Никто не отозвался. Только Щур объявил торжественно:
— И хорошо сделал!
— …Не, тут другое, — подал голос Лорд. — Ты ведь не знал, что никто из наших машин с собой не берет.
— Знал я.
— Так чтобы больше такого не делал, — сказал тогда Юрлин.
— Это мое дело! — отвечаю. — Ты мне еще приказывать будешь! Ходил я с машиной и буду с машиной ходить!
— Круто! — выдохнул Щур.
— Значит, с моей группой ты больше не ходишь, — заключил Юрлин.
— И не надо! — ответил за меня Щур. — Какой гонористый, а? Может, хлопец нас от тюрьмы спас, а он носом крутит!
Вдруг от двери послышалось зычное:
— Из квасу пива не сваришь!
Все обернулись. В дверях, окутанный табачным облаком, стоял Сашка Веблин. Я и не заметил, как он вошел. Двери всегда были открыты, вентиляции ради. Сашка у порога стоял и слышал весь наш разговор. А теперь неспешно подошел к столу. За Сашкой — Живица. Оба держали руки в карманах.
Послышались приветствия. За столом для них освободили места. А Юрлин ушел вскоре после их прихода.
— Скатертью дорожка! — ухмыльнулся Сашка, наливая водку в два стакана.
— Кишка тонка, — презрительно хихикнул Щур.
— Ты вчера по гадам лупил? — спросил меня Сашка.
— Так.
— Это дело!
Подсунул ко мне один стакан, сам взял другой.
— Выпьем на счастье!
Чокнулись мы и выпили до дна. Потом Сашка закурил и говорит:
— Когда у меня работа на троих будет, со мной пойдешь!
Стало мне весело. Посмотрел я Сашке в глаза, кивнул и говорю:
— Добре.
Сашка вышел из салона в ресторанную комнату, вернулся вскоре, а через несколько минут Гинта с Теклей начали вносить и расставлять бутылки с водкой, пивом и ликером. Потом принесли много разных пирогов с рыбой и мясом.
— Сашка буфер закупил, — заметил Комета.
— Пей, братва! — объявил Сашка. — Пей и ешь! Сегодня никто не платит!
Потом подошел к столу Антония, налил ему стакан ликеру:
— Соси!
Гармонист выпил, закусил. Сашка ткнул в его ладонь несколько червонцев.
— Давай, рыпай «Шабашовку»! Но по-нашему, с огоньком! Чтобы пол под ногами скакал!
Вскоре зала наполнилась лихими звуками «Шабашовки», от которой ноги сами срывались в пляс. Контрабандисты пили вусмерть. Закусывали водку грушами и конфетами, ликеры — селедкой, колбасой и огурцами.
— Пей, братва, пей! Чтоб ничего не осталось! — подбадривал Сашка.
А хлопцы зря ушами не хлопали, водка не застаивалась. А Лорд пел на мелодию «Кто смеется с нашей веры»:
Смотри, Геля, на беду: Я с гуляночки иду, Голый, босый, оборванный, Питый, битый, голодраный!Поздней ночью вышел вместе со Щуром из салона. В голове моей шумело. Щур тоже был пьяный вдрызг.
Стали мы посреди рынка.
— С Юрлиным конец? — спрашиваю.
— А то, — отвечает Щур.
— Холера! С кем пойдем-то? Золотой сезон на носу!
— А хоть бы и с «дикими»!
— Знаешь кого из них?
— А то, — отвечает Щур. — Отрываться, так по полной. Эх, позабавимся! Тай-да, тара-дира!
И, насвистывая, намурлыкивая «Шабашовку», Щур принялся плясать в болоте у рынка. Потом мы долго провожали друг дружку по домам. Я ему рассказывал взахлеб, он — мне, но про что — я потом вспомнить так и не смог.
9
Была на границе необычная группа. Называли ее «дикой», а хлопцев, с ней ходивших, «дикими», или попросту сумасшедшими. «Дикие» не соблюдали вовсе никакой осторожности, ходили через границу «на ура». Часто попадались. Машинисты сменялись каждые несколько месяцев. Но удивительно: безумная та группа работала уже третий год! Сто раз разгоняли ее, сто раз она собиралась снова и шастала ночами по границе и пограничью. Собиралось и рассеивалось множество групп, попадались самые умелые машинисты, а те черти работали без перерыва. Разыгрывали шухеры, устраивали агранды и держались год за годом, хоть и меняясь составом.
С «дикими» ходили те, кого нельзя было заставить ходить в обычных группах, кто не хотел соблюдать никаких правил, не хотел подчиняться, кто любил авантюры и опасность и особо не заботился ни о своей безопасности, ни о постоянном заработке.
На следующий день после моей размолвки с Юрлиным Щур познакомил меня с машинистом «диких» Войцехом Анелом. Не хотели мы терять ни недели золотого сезона и знали, что «дикие» не будут нас спрашивать, со стволами ходим или без. Анела застали дома. Он сидел в детской кроватке-люльке посреди избы и раскачивался взад-вперед, вытягивая и сгибая ноги. К нижней губе его прилипла самокрутка, свернутая из странички от отрывного календаря. А на столе лежал на одеяльце вынутый из кроватки младенец, совершенно голый. Удивительно, но он не плакал. Может, потому, что был занят: засовывал пальцы левой ноги себе в рот.
— Здорово, Анел! — крикнул Щур, заходя вместе со мной в избу.
— Ну и что с того? — вопросил Анел, зажмурив левый глаз и харкнувши в угол.
— Что слышно у тебя?
— Интерес — в движении, а движение — в интересе! — сообщил Анел, качаясь в коляске, и, несомненно, эту мысль обдумывая.
— За границу хотим с вами ходить, — заметил Щур.
— Хотите и можете. Не даю я вам, что ли? Ваше дело.
— А когда идете?
— Сегодня.
— Где собираетесь?
— А холера его знает.
— Так как вас найти?
— А я знаю?
— Тогда обмоем договор, что ли, — предложил Щур, вынимая из кармана бутылку.
Анел многозначительно кашлянул и пустил под потолок клуб дыма. Щур подал ему бутылку. Анел легким движением вышиб из бутылки пробку и, покачиваясь, посмотрел на меня.
— Он тоже хочет?
— Ну, глоточек.
— Нет, не хочу, — говорю им.
— И отлично! — сообщил Анел.
Ногтем обозначил на бутылке половину, запрокинул голову и, по-прежнему качаясь, начал пить. Водка булькала в его горле, кадык скакал. Наконец, не глядя на бутылку, прервался. Посмотрел — как отмерено, ровно по метку от ногтя. Подал бутылку Щуру, который залпом опрокинул в глотку остаток, спросил:
— Где встречаемся?
— Вечером… около Кентавра. Как ангелочки.
— Файно! Ну, с Богом!
— К черту идите!
Когда вышли от Анела, говорю Щуру:
— Тот еще сумасшедший!
— Умный сумасшедший, — ответил Щур.
Вечером пошли мы к дому купца Кентавра, которого в местечке тоже считали сумасшедшим. Мнение это сложилось от множества причин, а главным образом из-за того, что давал товар «диким». Брались нести его товар лучшие нормальные группы, но он питал к «диким» непонятную слабость и третий год давал товар им. «Дикие» играли ему шухер, а он, знай, подмигивал — знаем мы вас, мол. Снова агранда. Он снова подмигивал и приглашал «диких» на пейсаховку. И говорил им:
— Ну, хлопцы, если и на этот раз будет криво, следующий раз солому за границу понесете. И я — с вами.
«Диких» это пронимало, и следующие пять-восемь партий шли чисто. Кентавр расцветал. Открывал фабрику мыла в Вильне, чернильный заводик в Лиде, фабрику шоколада в Гродно. Фабрики были его манией. Кроме прозвища Кентавр (такой был товарный знак на всей его продукции) имел еще одно — Фабрикант. Фабрики его и губили. «Дикие», узнав про них и решив, что Кентавр снова поднялся, принимались делать агранды, и купец снова разорялся. Тогда купец опять приглашал их на пейсаховку, снова говорил про солому и поднимался снова. И так — третий год.
В близи дома купца бродили поодиночке и группками хлопцы. Щур здоровался с некоторыми.
— Где Анел? — спросил у одного.
— Вместе с Шумом у Кентавра сидит, — ответил тот.
— Пейсаховку пьют, — добавил кто-то сбоку.
Пошли мы дальше вдоль ряда домов и магазинов. Вскоре из ворот купеческого подворья выехал большой воз. Сидели в нем Анел, Шум и сопровождающий жид Берек Штыпа. Кучером сидел Костик Кулявый, батрак Кентавра. Анел подозвал одного из хлопцев, сказал ему что-то. Тот кивнул. Воз поехал дальше и вскоре скрылся за поворотом.
Хлопцы все так же, группками, пошли к Слободке, а оттуда побрели дорогой, ведущей к Душкову.
Вскоре за Выгоничами из лесу, как раз напротив идущих первыми хлопцев, вышел Анел. Вместе с ними подождал остальных, и все направились в глубь леса.
Анел остановился у огромной кучи валежника, рядом с которой стояли Шум и Берек Штыпа. Анел принялся вытаскивать носки из-под валежника. Швырял их наземь, считая вслух: «Одна, вторая, третья…» Досчитал до восемнадцати, остановился.
— Берите носки! — приказал нам. — Ну, как ангелочки!
Выходить было еще рано. Хлопцы разбрелись по лесу, каждый нашел себе длинную крепкую палку. «Дикие» всегда так делали. Идти легче, и не раз палками этими гнали и били преградивших им дорогу хамов, падких на легкую добычу. Мы со Щуром тоже вырезали по толстому дубцу. После хлопцы собрались у груды валежника, закурили, лежа на мху.
Было нас девятнадцать. Вечерело, в лесу становилось все темнее. Анел подошел к груде хвороста и осторожно достал из-под нее большой мешок. Начал из него вынимать и швырять в разные стороны на мох бутылки со спиртом. Девять штук всего раскидал.
— По одной на двоих! — приказал. — И чтоб как ангелочки!
Хлопцы тут же и принялись выпивать, а Анел старательно завязал мешок и отдал Шуму, чтоб тащил вместе с ноской.
— На, неси! Только смотри, не разбей, да и не упейся!
Шум, буркнув неразборчиво, мешок взял.
Хлопцы пили взахлеб. Давились, откашливались. Голосили весело, хохотали.
Стемнело.
— Ну, бзики, за носки! — приказал Анел.
Все встали и принялись закидывать носки на плечи. Тяжело вышло нести на этот раз. Подошвенная кожа — товар дешевый, но прибыли давал сто пятьдесят, а то и триста процентов.
— Ну, геть! И чтоб ни гугу! — приказал Анел хлопцам, отправляясь в дорогу.
Кто-то расхохотался в ответ. Кто-то присвистнул. Партия двинулась. Хлопцы ни потише идти не старались, ни дистанцию держать. Ломали ветки, по валежнику топтались, кашляли, плевались, хохотали и растянулись аж на четверть километра. Анел несколько раз задерживался, грозил кулаком, но в ответ слышал только шутки да, смех. Тогда Анел пошел так быстро, будто удрать от нас хотел. Приходилось чуть не бежать, за ним поспеваючи.
Мы со Щуром шли в середине партии. Поначалу меня очень удивляло такое поведение контрабандистов вблизи границы, а после и самому стало весело. Спирт здорово меня разогрел, а от бесшабашности хлопцев и мысли про опасность пропали.
Кто-то в нескольких шагах впереди затянул на мотив «Яблочка»:
Что я вижу, что я слышу? Это Троцкий влез на крышу И орет всему народу: «Фигу вам, а не свободу!»— Здорово! Валяй дальше! — раздалось одобрительное, и певец — Валюш Шимпанз — потянул дальше пропитым голосом куплеты «Яблочка».
Вдруг партия остановилась. К Шимпанзу подскочил Анел.
— Заткни пасть, жлоб!
— Чего такого, а?
— А такого! К большевикам в лапы вас проведу!.. Как ангелочков!.. Граница сейчас! Погранцы так и ждут!
Анел снова двинулся вперед. Поспеваем за ним. Теперь никто не поет, но шуму делаем вдоволь.
Выходим на приграничную полосу. По-прежнему быстро, не прислушиваясь, вовсе не останавливаясь, движемся дальше. Уже виднее. Можно различить все вокруг на несколько шагов. Перед нами широкая, высокая изгородь из колючей проволоки. Анел сворачивает налево и идет вдоль нее. Минуем пограничные столбы. Хлопцы шлепают по ним на ходу ладонями, стучат палками о насыпь, куда столбы вкопаны.
Анел сворачивает направо, подходит к изгороди.
— Мигдал, ножницы!
Костик Мигдал вынимает из-за пояса ножницы и подает ему. Тот торопливо режет. Проволока звенит под лезвиями, падает обок. Работа спорится. Хлопцы отводят палками в стороны свисающие обрезки.
Наконец, проход свободен. Переходим на другую сторону и идем вперед. Замечаю, что не все идут гуськом, друг за дружкой, кое-кто идет рядом.
Спереди громкий плеск. Это хлопцы переходят речку. Без всякой осторожности, галопом. Перехожу и я. Глубина — почти мне по грудь. Поспеваю за идущим впереди Щуром. Когда вылез на берег — чуть не бегом за ним.
Добрались до зарослей кустов. И тут сбоку визгливый окрик:
— Кто идет?
— Свой!
— Свой? Кто?
— Конь в пальто! — рычит Шум.
Вокруг — взрывы смеха. В нескольких шагах от нас из темнеющих кустов раздается выстрел из карабина. С нашей стороны зажигаются фонари, высвечивают эти кусты. Различаются там смутно фигуры солдат в длинных серых шинелях. В их сторону летит несколько палок.
— Ура! На них! — орет кто-то из хлопцев.
Солдаты поспешно прячутся в кусты. Все это — на ходу, ни на минуту не останавливаясь.
Когда кусты те остались позади в нескольких сотнях шагов, оттуда снова послышались крики и выстрелы. Не обращая внимания, мы еще быстрее пошли вперед.
Отойдя два километра от границы, Анел повел нас по выезженной дороге. Потом свернул направо, и пошли мы узкой тропкой через лес.
Хлопцы разговаривали, время от времени светили фонариками. Анел на то вовсе не обращал внимания, шел и шел себе вперед. Очень быстро шел, держа в правой руке фонарик, чтобы ослепить внезапно любого встречного, а в левой — палку, чтоб опираться и для защиты.
Анел был девятым машинистом группы «диких». Первым, основателем группы, был Антоний Стенка. Прозвище свое получил от привычки то и дело вставлять в речь: «Как стена!», «Стеной!». Был Антоний безумец наипервейшего разряда. Работал не столько за заработок, сколько ради свободы всяческих безумных закидонов. Случилось ему пройти с хлопцами пару километров вдоль границы, выдираючи пограничные столбы. Столбы те потом отнесли за вторую линию да покидали в реку. Выбрыки Антония хлопцы вспоминают по сей день. Убили его на большевистской заставе. Он, в дрезину пьяный, пошел спросить дорогу и затеял драку с солдатами.
После него партию проводили тоже безумцы, кто вовсе чокнутый, кто слегка. Все плохо кончили. Одних убили, других расстреляли либо сослали. Предшественник Анела, восьмой сумасшедший, звался Ванька Вой (любил говаривать: «Войте, хлопцы!», «С воем полетите!»). Подорвался на своей же гранате, которую таскал привешенной к поясу. Выдернул чеку нечаянно. Анел был девятым безумцем и прозвище свое получил от излюбленного: «Как ангелочки полетите!», «По-ангельски», «Как ангелы».
Жизнь и дела «диких» машинистов, как и прочих членов группы, были странные. Я хорошо узнал многих из них и не обнаружил ни единого нормального типа. Были то, в большинстве, натуры беспокойные, не помещавшиеся в рамках нормальной жизни, любившие войну, партизанщину, рискованные путешествия и авантюры. Собрались они со всех концов России и Польши. Большей частью были они беглецы из Советов, по разным причинам не сумевшие ужиться с новой властью и осевшие на границе. Некоторые воевали за «зеленых», у Булак-Балаховича. Граница тянула их, как магнит — железо. На границе жили, работали и гибли. Жизнь многих из них могла бы стать удивительным сюжетом для книги. Писатель нашел бы среди их судеб кладезь сюжетов и персонажей. Но сами эти хлопцы вовсе про то не думали. Мало кто из них умел писать, и никто ничего не читал. Политика их не интересовала вовсе. Не раз, глядя на своих коллег и видя их необычность, их энергию, их силу, думалось мне, сколько же пользы могли бы принести эти люди, если бы их способности, энергию, фантазию направить к настоящей, полезной людям работе. А тут — все это пропадало напрасно…
Во втором часу ночи пришли на мелину — особняком стоящий хутор, со всех сторон окруженный лесом. Когда-то на его месте была смолокурня.
Когда подошли, встретил нас неистовый лай. Мы встали. Анел трижды протяжно свистнул. Через пару минут из темноты донесся хриплый голос, успокаивающий собак, а затем семь раз кряду сверкнул огонек фонаря. Мы двинулись вперед. У ворот хутора ждала нас смутного вида фигура, едва различимая в сумраке. Послышались веселые голоса хлопцев:
— Здорово, Брыль!
— Живой еще?
— Черти тебя не унесли?
— Хуже вас чертей нету, — ответил густой, хриплый бас.
Против обычая контрабандистов и держателей мелин мы пошли не в сарай, а в избу — огромную, с просмоленными черными стенами. Поскидывали носки с плеч. Наконец, разглядел я хозяина: здоровенного, широкоплечего, косматого, с густо заросшим лицом. Прозвище Брыль целиком ему подходило.
Анел с Брылем уложили носки на лавку у стены. Брыль подкинул в печь смолистых щепок. Стало светлее. Из соседнего здания послышались плач ребенка и голос женщины, успокаивающей его.
Хлопцы поставили лавки вокруг стола и принялись пить спирт. Брыль выложил на стол огромный, килограммов в двадцать, круг ржаного хлеба, принес копченой грудинки. Хлопцы пили свой спирт. Кроме того, который Шум нес, каждый припас еще по две бутылки. Кое-кто из хлопцев разбавлял спирт водой. Берек Штыпа, Анел и Брыль вынимали из носок товар и выкладывали на лавку.
Когда Брыль нас выпроводил, пошли мы вглубь леса. Ломились куда-то по бездорожью целый час. Когда уже рассвело, выбрались на полянку с большим шалашом посредине. Большую часть его занимали сваленные кучей смолистые корчи. Мы устроились, как сумели, и принялись укладываться на дневку.
Когда стемнело, двинулись снова. Оглядываюсь — и вижу за собой пламя огромного костра. Это приношение «диких» капризным божкам леса, поля, ночи и границы.
Поначалу кажется, что в лесу темно. Но глаза привыкают, и разбираю, что еще толком и не стемнело.
Выходим из лесу. Вдали маячат контуры строений. В окнах светло.
— Погодите-ка, ангелочки, — советует Анел и направляется к хутору.
Возвращается вместе с Береком и десятью бутылками самогону. Одну берет себе, вторую дает Шуму (аристократ партии), а остальным выдает по бутылке на два рыла.
Тут же и пьем. Самогон пахнет рыбой, но очень крепкий и здорово поднимает настроение.
Выходим. Идем с папиросками в зубах, группками по двое, по трое. Некоторые опираются на палки, другие несут их на плече на манер карабинов. Разговаривают спокойно.
Лес кончается. Перед нами — открытое поле. Смотрю на небо и вижу Большую Медведицу. И весело мне. Повторяю про себя имена звезд: Ева, Ирина, София, Мария, Елена, Лидия, Леония… Вспоминаю Леню…
Начинается марш-бросок через поля, почти бегом. Хлопцы без носок, спирт разогрел. Слева, справа остаются деревни, слышим людские голоса, видим свет в окнах.
Выходим на торную дорогу. Спереди слышится скрип колес. Думаю: сойдем с дороги, будем ждать. Ничего подобного. Идем дальше. Скрип все ближе. Из темноты показывается сивой конь, тянущий длинную телегу. Сидят на ней трое мужиков и женщина в белом платке. Телега останавливается, и мужики глядят на нас удивленно. Хлопцы балагурят:
— Глянь, одна на троих!
— Что продаете-то, коровку или телочку?
— Малая, пойдем на травку, погреемся?
Разминаемся с телегой и растворяемся в темноте. Ночь теплая, душистая. Сую руку в карман и сжимаю ладонью теплую от моего тела рукоять нагана. И хочется, как ребенку, рассмеяться от радости. Хочется скакать, кувыркаться. Чувствую: сила так и плещет во мне, так и рвется. А опасность? Да плевать на нее! У меня настоящий ствол. Он никогда меня не предаст. Семь верных патронов. «Семь пуль в барабане, семь звезд на небе!» Подмигиваю Большой Медведице, а потом показываю ей язык. И сплевываю: чур меня! Я что, тоже умом тронулся?
Бредем лесом на запад. Иду с револьвером в руке, никто того не замечает, а вторая линия все ближе. Переходим речушки, рвы, канавы.
Вдруг остановились, сперва Анел, за ним остальные. Мы в двухстах шагах от края большого леса. Деревья стоят редко, но видно едва шагов на двадцать. Стоим долго, молчим. Наконец, Анел уверенно идет вперед. Рядом с ним — Шум и Шимпанз.
Спереди послышался шум. Кто-то из наших крикнул: «Сто-ой!» Сверкнули фонарики. Анел с Шумом и Шимпанзом кинулись вперед с палками наизготовку. Мы — за ними. Затрещало тут, захрустело. Причем треск и хруст стремительно удалялись от нас в лес. Когда я вышел на опушку, увидел Анела с Шумом и Щура, разглядывающих какие-то мешки. Присмотрелся — а то носки!
— Улепетывали, как ангелочки, — заключил наш машинист.
— Как коты, драпанули! — добавил Шимпанз.
— Кто это был? — спросил Плющ.
— Да наши, наверное, раковские, — рассудил Шум. — Сейчас глянем.
Анел начал распаковывать. Чулки, трикотин, хром.
— А, это группа Адама Друнилы. Он от Арона с Виленской товар берет, — заметил Шум.
— Ну, хлопцы, будет и вам теперь магарыч да по паре пуговиц на штаны.
Взяли мы носки да и пошли через широкий луг к реке. Вторая линия. Тут глубоко, но к броду не идем — там за последний месяц попалось несколько хлопцев из разных партий. Хлопцы раздеваются полностью и, неся добро в руках, переходят. Вода до груди достает. Поспешно перехожу реку и бросаю на берег одежду. Возвращаюсь в реку и несколько раз ныряю с головой в воду. Выбираюсь на берег, одеваюсь побыстрее.
Снова вперед, к границе, быстрее, быстрее. Шуму лишнего стараемся не делать, чтоб издали нас не расслышали. Почти у всех в руках фонари. У меня в руке прикрытый рукавом куртки наган.
Вот и граница. Почти бегом выскакиваем на просеку, движемся вдоль изгороди. Снова скрежещут ножницы, падает разрезанная проволока… Проход свободен, вперед!
Во втором часу ночи пришли мы к кладбищу на краю местечка. Оттуда разошлись по домам. Я направился спать к Щуру. В дом не идем, забираемся в сарай, на мягкое, пахучее сено… Снятся мне граница, «дикие», погони, бегства, Леня. Я часто вижу ее во сне. Может, думает про меня? Как хочется ее увидеть! Но до сих пор никакой возможности для этого не было. Решаю навестить ее при первом же удобном случае. Я хотел было написать письмо и отдать хлопцам, которые бывают в Минске, но боялся, кабы не случилось с ними чего по дороге. Попадутся — и снова от меня Лене беда.
Назавтра утром пошел к Петруку с Юлеком, но не застал их дома. Пока меня не было, пошли они с группой Юрлина. Когда мы со Щуром ушли из группы, они начали ходить с ними. Это я очень одобрил. Так или иначе, группа была самая уверенная и осторожная, мелину имела хорошую. Хлопцам же нужно на зиму заработать. А Юлека стало не узнать. Под Петруковым влиянием рассудительнее стал, учится много, читает.
Вечером пошел до Гинты и развлекался допоздна в нашем салоне. Щур тоже там был. Дал мне сорок пять рублей: пятнадцать за свою носку и тридцать за найденные в лесу после удравших контрабандистов. Позднее я тихо выскользнул из салона. Пошел к Сашке. Нет, не к Сашке… то было только предлогом. Очень мне хотелось Фелю повидать.
В доме Веблинов было темно. Я обошел вокруг. Увидел, что в одном окне горит свет. Это окно Фелиной комнаты, которое выходило на огород. Потихоньку подкрался ближе. Окно заслоняла занавеска, не доходящая до подоконника. Я нагнулся, заглянул сквозь щель внутрь. И чуть не отпрянул от неожиданности. У самого окна стоял маленький столик. На нем горела лампа, и в ее свете я отчетливо увидел Фелино лицо. Оперлась подбородком о ладонь. Читала книжку какую-то. Лицо при свете лампы выглядело чарующе: не мог оторвать от нее взгляд. Страницу перевернула. Вдруг улыбнулась. Глаза ее искрились, будто драгоценные каменья. Удивительной глубины глаза. Будто шли из них теплые лучики, и радость во мне проснулась от них. Губку прикусила, смотрит… Перестала улыбаться, и лицо сделалось холодным, почти суровым. Но холод тот жег меня пуще пламени, тянул к себе. Я б там стоял и стоял, глядя, упиваясь. Но испугался, кабы не заметили меня с улицы.
Тихонько отошел от окна, стал посреди двора. Долго решиться не мог. Наконец, решился. Уверенным шагом подошел к двери, взялся за ручку. Постоял так минуту. Медленно пошел к воротам. На улице долго стоял в неподвижности. По небу плыл узкий серпик луны. Ясно светили звезды. Ночь уже подошла. Большая Медведица сегодня была в особенности красива.
Чувствую: не могу я оттуда уйти, должен я увидеть Фелю, голос ее услышать, рассказать ей… Важное что-то рассказать!
Снова подошел к дому. Подергал за дверную ручку. Заперто. Вдруг захотелось уйти. Еще не поздно ведь! Да что мне ей рассказывать? Но пересилил себя, подошел к окну. К тому самому, куда стучал когда-то осенью, притащив Сашку Веблина… Стучу в раму. Сильно стучу, звучно. Не понимая, зачем, все громче стучу, все навязчивей.
Вскоре слышу легкие шаги, и из-за окна доносится голос Фели:
— Кто там? Что такое?
— Это я.
— Кто — «я»?
— Владек.
— Владек?! Сейчас.
Снова слышу шаги. Идет в свою комнату. Затем выходит в зал с зажженной лампой в руке. Ставит ее на стол, идет ко мне.
Гремит засов. Двери открываются. Вхожу в сени, затем в зал. И забываю поздороваться с Фелей. Стою у двери и смотрю ей в глаза.
— Пану что-то нужно?
Стою, молчу. Феля всегда говорила мне «ты», а теперь: «пан».
— Что? Да, в общем, ничего, — говорю, наконец.
В ее глазах — недоумение.
— А я думала, стряслось чего. Пан как-то выглядит… — и замолчала, не договорив.
— Я спросить хотел, где Сашка? Его дома нет, наверное?
Посмотрела мне в глаза и выговорила медленно:
— Та-ак, пан, значит, думал?..
Чувствую, краснею, и все сильней. И никак это не побороть. А в ее глазах — смех.
— Значит, пан Владко, — сказала тихо, почти с нежностью, — пришел про Сашку спросить, так?
— Так.
— А мною пан вовсе не интересуется?
— Ну отчего же, тоже интересуюсь.
— Мною тоже, значит?
Глаза ее смеются. А мне так горячо, так жарко. Зачем я только сюда влез? Да я же посмешище для нее! Но все же говорю, непонятно зачем, тоже с «панной»:
— Да, панной тоже… Панна ведь говорила мне когда-то… в воскресенье… чтоб пришел когда-нибудь…
— Я слушаю пана внимательно.
— Чтоб приходил.
— Ага! Да, помню. И пан Владко нашел свободное время и пришел.
— Именно.
— Пришел меня проведать.
— Именно.
— Ночью.
— …Так.
— А для настроения пан Владко слегка выпил, так?
«Издевается», — думаю. Начинает во мне злость подниматься. Прямо прижала меня вопросами к стенке!
— Я всегда выпиваю! И что с того?
— Конечно! Пане Владзю — хлопец фартовый!
Хотел сказать, но Феля ладонью двинула — молчи, мол — и говорит:
— А может, пан Владзю всегда так: сперва выпьет, а потом к знакомым девушкам идет?
Вдруг чувствую: не могу себя сдержать. Хочу удержаться, смолчать, но не могу. И говорю, все запальчивее:
— А что, пане Феле так уж хочется знать, куда я по ночам хожу? Мне все равно, где панна Феля ходит, подвыпивши. И хлопцев ее не считаю!
— Да? — Феля подбоченивается. — Вот и хорошо! Очень хорошо!
— Спасибо за признание! А что панну Фелицию побеспокоил, так прошу прощения!
— Пожалуйста!
— Панна меня перебивает?
— Да уж извините.
— Пожалуйста!.. Я очень извиняюсь и обещаю панну Фелицию больше не беспокоить своей компанией.
— Это как пану захочется.
Смотрю на ее лицо: холодное, спокойное, мертвое почти. Удивительно. Вдруг замечаю на лбу ее длинную алую морщину. Только что ведь ее не было! «Что ж она мне напоминает?.. Ага, точно такая же есть у Сашки!»
— Доброй ночи панне!
— Доброй ночи пану!
Разворачиваюсь и уверенным скорым шагом покидаю помещение. А на дворе останавливаюсь. Горечь заливает мне душу. Зачем я говорил это все? Зачем? Она сперва в таком хорошем была настроении! Никогда не видел у нее таких веселых, игривых глаз! Ведь шутила же! А я оскорбился. Ну зачем, зачем? И что теперь делать? Идти просить прощения? Нет. Невозможно! Никогда такого не сделаю, никогда!
Смотрю в окна. Вижу, как она идет по комнате, на окна падает ее тень. Слышу, как отворяются двери в сени. Потом — по сердцу мне скрежещет засов. В избе делается темно.
Медленно обхожу дом. Сердце колотится в груди. Подкрадываюсь под окно, то самое. Снова смотрю сквозь щель между занавеской и подоконником.
Феля сидит за столом. Ладонью левой руки прижимает раскрытую книгу, правой рукой, стиснутой в кулак, бьет по столу. Лицо хмурое, глаза невеселые. Долго такое длится. Наконец, начинает читать… Вдруг захлопывает книжку, упирается локтями в подлокотники, ладони — на столе.
Смотрю в лицо ее, в глаза, и так мне жалко! Губы кусаю. Вдруг взгляд ее замирает. Неужели заметила? Но как же, из светлой комнаты в темноту? А может, взгляд ощутила?
Вижу: на лбу снова длинная алая морщина, а в глазах появляется хищное, злое выражение. Мне хочется отпрянуть — но стою. И вдруг Феля резко отдергивает занавеску! Но я мгновенно отклоняюсь в бок, в тень дома, отхожу тихонько. Отхожу на несколько шагов в глубь огорода, потом подхожу к изгороди, сажусь на траву.
Окно открывается. Вижу в светлом его прямоугольнике, как в раме, силуэт дивчины. Она наклоняется, старается что-то разглядеть в темноте. Прислушивается. Я долго не двигаюсь с места.
Потом окно закрывается, лампа гаснет.
Я встаю. Долго стою неподвижно. Месяц карабкается по небу. Ныряет торопливо в тучи, выбирается. Звезды смотрят выразительно и спокойно. И Большая Колесница без устали мчится на запад.
Перелез я через изгородь и пошел узким проулком. Ночь была светлая. Прохожих — ни одного. Когда подошел к Минской улице, заметил группку идущих навстречу людей. Разговаривали громко, смеялись. Пьяные. Когда подошел ближе, узнал голос Альфреда. Хотел отойти, но понял, что меня заметили, и пошел вперед.
Приблизившись, узнал: трое Алинчуков — Альфред, Альфонс и Альбин. До комплекта не хватало Адольфа и Амброзия.
За несколько шагов от них свернул, чтобы обойти. Они тоже свернули, чтобы дорогу мне загородить. Тогда я пошел вправо. И они пошли вправо. Альфред, покачиваясь, захихикал:
— А! Взяли фраерка! Это ж Фелин, — и тут он добавил парочку похабностей.
Чувствую: кровь мне в лицо бросилась, но не отвечаю, хочу обойти их. Но Альфонс подставил мне ногу, Альфред заскочил спереди.
— Чего хочешь? — спрашиваю у него.
— Морду тебе размять, жлоб!
— Чего с ним трепаться? Бей его! — заорал Альфонс, замахиваясь.
А я его тут же ногой в живот! Альфонс екнул и сел, скрючившись. Кинулись Альфред с Альбином. Сбили с ног. Тогда я выдернул из кармана револьвер, чью ручку уже давно держал в ладони. Альфред меня душил. Я дуло ему в ногу упер и нажал на спуск. Раздался выстрел. Альфред подскочил и тут же свалился наземь. Я вскочил и принялся его бить. Альбин отбежал и заголосил: «Полиция! Убивают! Полиция!»
Тогда я оставил Альфреда с Альфонсом и пошел назад. Альбин пошел за мной, держась вдалеке. Я развернулся, сделал несколько шагов к нему, выстрелил в воздух. Затем, уже без «хвоста», перешел улицу и двинулся к еврейскому кладбищу. Сзади слышались крики:
— Полиция! Убивают! Полиция!
— Держ-и-и!
Вдалеке засвиристел свисток.
Я не пошел домой, в поля направился. Затем, обойдя кругом все местечко, добрался до жилища Щура. Тот спал в сарае. Разбудил я Щура и рассказал про историю с Алинчуками.
— Что теперь делать? — спрашиваю.
— Задал ты им перца, да! Проучил хамов! Но худо теперь тебе, худо. Сдадут тебя полиции.
— А если я сам пойду в комиссариат да расскажу, как на меня напали?
— Ты что, с ума сошел? У тебя же свидетелей нет! Получишь и за оружие, и за выстрел. В следствии с год высидишь. Уж я-то знаю!
— Так что делать?
— Пока спрячься, а там посмотрим. Знаешь точно, куда ты Альфреда выцелил?
— В ногу стрелял!
— Стрелял в ногу, а попасть мог и в брюхо! Я поутру пойду, выясню, а ты пока помелинуй в сарае. Знаю я место поблизости. Там и год мелиновать можно. Никто тебя не найдет.
И пошли мы. Добрались до большого сарая на краю местечка. Дверь была заперта длинным тяжелым засовом с висячим замком. Залезли мы, отодвинули доску под дверью, а забравшись, задвинули доску на место.
В сарае было тепло и тихо. Темно, обширно и множество закутков.
— Да тут батальон солдат можно замелиновать! А тебя тут сам черт не найдет. Только не выходи наружу.
Щур оставил меня в сарае, а сам пошел в местечко. Вернулся через час, принес мне сетку папирос, бутылку спирта, несколько бутылок воды и много всякой снеди. Влез я на сеновал и там со Щуровой помощью соорудил себе глубокую нору. Затем Щур, пообещав проведать меня вечером, ушел.
10
Минули две недели. Уже середина сентября, золотой сезон начался. Граница ожила. Контрабандисты трудятся без устали. Есть группы, ходящие по три раза на неделе. А я все прячусь в сарае. Днями сижу один, много сплю. А вечерами и ночами делаю вылазки в местечко, стараясь, чтобы меня не узнали.
Назавтра после происшествия с Алинчуками узнал я от Щура: донесли они в полицию. Дескать, я напал на них на улице и подстрелил Альфреда. Рана легкая — левую ногу ему прострелил. Кость не задел. Кроме того, ударом ноги выбил ему несколько передних зубов.
— Золотые вставит! Как раз повод, — съязвил Щур.
Узнал я, что полиция меня ищет. Уже у часовщика Мужанского и у Юзефа Трофиды делали обыск, но я к ним и не ходил.
Щур всем в местечке рассказал, что на самом деле было между мной и Алинчуками, и что это они прицепились ко мне на улице. Почти все хлопцы были на моей стороне. Братья Алинчуки теперь на улице показаться не могли. Все их стыдили и угрожали поколотить. Щур с Лордом дважды вымазывали ворота их дома и оконницы дегтем. Обычно такое делают девчатам, на которых злятся. Значит такое, что в этом доме живет непорядочная девушка. Но поскольку сестер у Алинчуков нет, много нехорошего можно было про братьев подумать.
Встречался я несколько раз с Лордом, Кометой, Юлеком и Петруком. Хлопцы ко мне очень хорошо отнеслись. Деньги предлагали, надежные убежища. Я даже расчувствовался. Не думал, что у меня столько верных друзей. А Щур сказал мне: «Ты смотри, если случится, что полиция слапает тебя, не защищайся! Понимаешь? Если арестуют, я тобой займусь. Деньги найдем и на залог, и на адвоката, даже если большие деньги понадобятся. Хлопцы по гузику скинутся, глядишь, пару кусков и насобираем».
Несмотря на то, что был я в розыске, сходил трижды за границу с «дикими». Они со мной фартовать не боялись. А если бы кто и хотел меня засыпать, так не смог бы. Про мое убежище никто, кроме Щура, и не знал. А он часто, чтоб мне веселей было, ночевал в том сарае. Сходил я дважды и к Калишанкам, но не ночевал у них, а, позабавившись немного, возвращался в свой сарай.
Замучился я долгим сиденьем в сарае. Когда сидишь там в одиночестве целыми днями, лезут в голову всякие глупые мысли. Часто хотелось пойти пострелять Алинчуков, а после самому сдаться полиции. А чаще думалось о Феле, в особенности, когда вечерело. Смеялся, разговаривал с ней вслух. Может, я с ума сошел?
Пить стал больше. Спирт пил, как водку, водку — как пиво, пиво — как воду. Однако, до беспамятства никогда не напивался. Знал, что для меня это очень опасно. Только Щуровой поддержкой я и живу. Не знаю, как его за все отблагодарить. Для многих он такой жестокий, злой, а со мной щедрый и душевный. И не матерится без крайней на то надобности. Часто на полуслове обрывает готовую сорваться с губ ругань.
Как-то Щур сказал мне, что хочет меня видеть Юзеф Трофида. Я попросил передать ему, чтоб ждал меня в десять вечера в Слободке, на мосту у мельницы.
Ночь была темная. Пробрались мы со Щуром улочками и закоулками к Слободке. Юзеф нас уже ждал. Затем Щур пошел назад, к местечку, а я вместе с Юзефом пошел вдоль мельницы. Потом уселись бок о бок на берегу Ислочи, долго молчали.
— Как жизнь? — спросил, наконец, Юзеф.
— Держусь кое-как.
— Может, выехать отсюда хочешь?
— Куда ж мне ехать?
— У меня под Ивенцом родня в деревне. Если хочешь, устрою тебя к ним.
— Не, не хочу. Замучаюсь там от скуки.
Снова сидим молча.
— Дай пять! — просит неожиданно Юзеф, сильно жмет мне ладонь и говорит: — Спасибо тебе! Спасибо!
— За что?
— Ну, за него… за Алинчука. Сейчас все к нему, как к собаке.
— Жалко, что не пришиб гада!
— Не жалей, так оно лучше!
Опять долгое молчание. Теперь я уже говорю Юзефу:
— А ты что собираешься делать? Группу соберешь?
— Я? — переспрашивает задумчиво. — Не, братку. Со мной все. Я с границей навсегда распростился.
— Та-ак?
— Так, братку! Одну сестру недосмотрел, как волк ночами бегая. Вторую не дам в обиду!.. Не, холера!
Аж зубами скрежетнул. Темно было, не видел я его лица, но нутром чуял его муку. Очень он сестру любил. И у меня сердце за нее болело.
— Ты… не надо так, Юзек, — говорю. — Альфред еще получит свое… Не кончено у меня с ним, посмотришь. — Помолчал немного, решаясь, и добавил: — Ты не рассказывай никому, что я скажу тебе. Алинчуки связались с агентами в Советах.
— Та-ак?
— Так. Я про все в точности хочу разузнать. Вот тогда поговорим с ними по-настоящему, раз и навсегда.
Опять долго сидели молча.
— Может, нужно тебе чего? — спросил Юзеф.
— Не, все у меня есть.
— Если нужно чего будет, ты только скажи!
— Обязательно.
— …И чего я тебя сюда затянул? Счастливее был бы, если б границы не знал!
— Ты не говори такого! Спасибо тебе огромное за доброе сердце и за помощь дружескую! Я счастливый, брате! Иногда грустно мне бывает и нехорошо, как и всякому, но не про то речь. Никогда такого не говори больше и не думай про то!
Долго говорили мы, сидя в темноте над рекой. Когда распрощались, я долго бродил по закоулкам, сам не знаю где, растревоженный, взволнованный. Изредка люди миновали меня, в темноте я не различал их лиц.
Поздно ночью вернулся в свое убежище. Выпил полбутылки водки и закопался в сено. Но заснул нескоро.
Назавтра встретился с Лордом. Щур сказал, что у Лорда ко мне важное дело и он ждет на кладбище. У Лорда с собой было три бутылки водки и закуска. Пили мы, сидя на траве у низкой каменной ограды.
— Что сказать хочешь? — спрашиваю у Лорда.
— Феля про тебя спрашивала.
Я аж онемел на минуту. Хорошо хоть в сумраке лица моего не видели. Спрашиваю, стараясь, чтоб равнодушно звучало:
— И что ей интересно?
— Она слыхала, ты когда-то у костела с Альфредом из-за нее поссорился. И что второй раз, когда подстрелил, — тоже из-за нее. Что он про нее сказал гадость, а ты в него выстрелил.
— …Про первый случай ты и так знаешь. А когда Алинчуки ночью ко мне прицепились, то Альфред и про нее, и про меня плохое говорил. Но я про то никому не рассказывал. Не знаю, откуда она выведала.
— Так сама Феля и просила меня узнать, не говорил ли о ней чего Альфред?
Я молчал, не решаясь.
— Ты говори, — подбодрил Лорд. — Феля — такая баба, которой все рассказать можно. Ей нужно. Может, Сашке расскажет.
— Добре, — и я передал в точности Альфредовы слова.
— Это ей и скажу.
— Лучше не надо. Только разозлится, что из-за меня про нее несут такое.
— Ты за нее не переживай. Она никаких сплетен не боится. Она сама рассудить хочет и правду знать.
Когда Лорд собрался уходить, я спросил его:
— Ты к Феле сейчас?
— Так. Может, передать ей чего хочешь?
— Не… ничего.
— До свидания!
— Счастливо!
Потом мы со Щуром долго еще лежали на кладбище. Он мне рассказывал про последние события на границе, про местечковые новости, про то, что у хлопцев нового. Проводил меня до сарая и пошел в местечко.
Той ночью долго не мог заснуть. Все про Фелю думал. Назавтра, как только смерклось, Щур пришел снова. Веселый был, все время мне подмигивал заговорщицки и улыбался.
— Сейчас пойдем в одно место! Собирайся быстрей!
— Куда? Что такое?
— Увидишь…
— Кого? Что?
— Какой ты, однако… Потерпи. Не обидишься, это точно. Шел торопливо рядом с приятелем и все думал: что же такое? Перелезли мы через ограду в огород, подошли к дому какому-то. И вот, стоим на пороге длинной избы со стенами, выбеленными известкой.
Увидел я в избе сидящих за столом Сашку с Живицей.
— А, вот он! — сказал Сашка.
— Он, — подтвердил Щур.
Подошел я к ним, пожал им руки.
— Садись! — предложил Сашка. — Поговорим малость. Сел я за стол.
— Добре ты его отрихтовал, — заметил Сашка. — На ять.
— Пришлось… Полез ко мне.
— Ну и лады, раз пришлось, так пришлось!
Сашка наполнил до половины четыре стакана водкой, кивнул нам.
— Ну, приняли!
Мы выпили залпом.
— Теперь туго тебе, а? Прячешься? — спросил Сашка.
— Так, прячусь. Но живу как-никак, на работу хожу. Он мне помогает, — киваю в сторону Щура. — Если б не он, так и не знаю, чтоб со мной стало.
Сашка хлопнул Щура по плечу.
— А с кем фартуешь? — спросил меня. — С Юрлиным?
— Не… с «дикими».
Живица расхохотался.
— С «дикими»?! — изумился Сашка.
— Так. А что поделаешь? Другие боятся. Разве что под своей рукой ходить.
Сашка задумался. Долго смотрел в угол. Вдруг на лбу его обозначилась длинная алая морщинка — как у Фели. Смотрю на него, взволнованный, и молчу. И все молчат. Сашка закусил губу нижнюю и смотрит то на меня, то на Щура, то на Живицу, который пальцами хлебный мякиш мнет.
Наконец Сашка смотрит мне в глаза и говорит:
— Завтра пойдешь со мной на работу!
Не задумываясь, радостно отвечаю:
— С удовольствием!
Вижу Щурову улыбку. Сашка поворачивается к Живице:
— Подойдет он нам? А?
— Подойдет, — подтверждает Живица, кивая.
— Тогда дай пять!
Сашка стискивает мою ладонь. И Живица за ним, только жмет чуть-чуть. Если б он сильно сдавил, так и пальцы бы мне поломать мог. Сашка снова наливает водку и объявляет:
— Ну, тогда за удачу! Давай!
Выпиваем.
Смотрю на Сашкино лицо. Гладкое оно, чистое. Пропала морщинка. Заглядываю в глаза друзьям радостно. Так мне легко и весело! И снова слышу Сашкин голос:
— Ну, хлопцы, еще по одной!
11
Едем на запад. Кони мчат наперегонки с ветром. Везет нас Янкель Парх. Местечковые жиды называют его «мишугене» — безумцем. Любит он скачку, любит риск, авантюры, а больше всего любит Сашку. Обожает его за смелость, щедрость, за широкую душу. Часто работает с Сашкой.
Янкель Парх — заядлый пьяница. Не раз по пьяни загонял, калечил коней. Пару раз ему коней покупал кагал. Но когда Янкель перестал фурманить, а начал ездить с контрабандистами на фарт, кагал махнул на него рукой. Теперь ездил Янкель на паре отличных вороных коней, молодых, сильных, выносливых.
Возок нагружен товаром, на товар сверху навалена целая копна сена. Я сижу рядом с Живицей, Сашка лежит посреди воза, завернувшись в длинный кожух. Дремлет. Живица молчит. Мне аж дух захватывает от быстрой езды. Радуюсь, думая, какая работа будет вместе с Сашкой и Живицей, да и не меньше от того, что, наконец, перемена такая в моей жизни.
Вечер теплый, ароматный. На западе выбирается из-за леса ночь. Встает над землей, понурая, огромная. Обоими руками тянет натужно в гору черное покрывало, тяжелое, холодное. А потом, невидимая, укутанная в черноту, шепчет долго-долго.
— Но, детки, но! — понукает коней Парх, и мы мчимся дальше, в ночь.
Сворачиваем на юг. Глаза привыкли к сумраку, лучше различают все вокруг. Думается мне о разном: о границе, о контрабандистах, о Лорде, о Щуре, о Комете. Про чрезвычайку думаю, про ДОПР. Про Леню вспоминаю, про Бельку, про Фелю. Считаю, в скольких группах доводилось фартовать: впервые — с Юзефом Трофидой, потом Мамут, Юрлин, дальше — с «дикими», а вот теперь с Сашкой.
Смотрю на северо-запад. Огромная, огненная Большая Медведица широко разлеглась по небу. Сую руку в карман и глажу нагретую телом рукоять револьвера.
Мчимся на юг узкими дорогами среди полей. Янкель сворачивает на луг, мчится напрямик, без дороги. Кони рвут, а фурман все погоняет. Под колесами — речушка, вода брызжет по сторонам. Возок влетает по оси колес, проломавшись сквозь кусты, снова выезжаем на поле.
Возок швыряет влево и вправо, подкидывает. Иногда кажется: все, перевернемся. Но Янкель Парх — мастер своего дела. Несемся дальше, ничуть не замедлив ход.
— Но, детки, но!
И детки несутся, как буря, ломая кусты и выбивая копытами глыбы земли. Сворачиваем на восток. Кое-где поблескивают огоньки в окнах домов. Пару раз минуем деревни. Встречает нас неистовый лай псов, выскакивающих навстречу. Но они тут же отскакивают в стороны и умолкают.
Хочется мне запеть, сил нет сдержаться. Меня аж распирает — хочется хоть что-нибудь эдакое сделать. Будто пьяный я.
В конце концов, приезжаем мы на уединенный хутор далеко за Вольмой. С трех сторон укрывает его лес. С четвертой — огромный сад с огородом.
Возок въезжает на обширный двор, останавливается близ дома. Приехали. Слазим с возка. По двору идет к нам мужчина с большим фонарем в руке. Жмет Сашке руку и говорит:
— И по тому поводу, пане Ольку,[8] будет работа так работа!
— Еще какая! — подтверждает весело Сашка.
Темно. Я, Сашка и Живица идем неторопливо через большой сад. Невидимые в темноте ветки деревьев хлещут по лицу. Заслоняем голову руками, нагибаемся низко.
Пробираемся сквозь густой малинник. Сашка вдруг останавливается и открывает скрытую кустами дверцу. Не освещая фонариком крутой лестницы, спускается вниз. Лезу за ним. За мной Живица, закрывши за собой двери.
Мы в погребке. Стены его обшелеваны грубыми досками и горбылем. Сашка вешает на гвозде в углу фонарь с большим рефлектором, освещающий ярко сразу весь погребок.
У стены на толстой, крепкой лавке лежит несколько полных мешков. На другой лавке — три носки. У Сашки через плечо — большая кожаная сумка. Садится на лавку у фонаря и вынимает из сумки три пистолета. Один — с длинным стволом, два других — с обыкновенными.
Выкладывает их на лавку, достает несколько запасных магазинов. Внимательно осматривает оружие, заряжает, ставит на предохранитель.
Дает мне один из парабеллумов и спрашивает:
— Знаешь ствол такой?
— А то, знаю!
— Ну и лады!
И дает мне шесть запасных магазинов.
Вынимаю из кармана наган и показываю ему.
— У меня еще машина есть!
— И эта не помешает, — замечает Сашка, протягивая парабеллум Живице.
— Ты смотри, чтобы карман, где магазины носишь, чистый был, — это Сашка мне. — В левый лучше клади.
Раскладываю поудобнее оружие и магазины, проверяю фонарик. Сашка мне показывает на меньшую носку.
— Твоя. Наденешь, когда наверх вылезем.
Медленно вылезаю наверх. Вскидываю на плечи носку.
Ого, фунтов сорок! Сашкина «носка» намного больше. А Живицы — фунтов сто.
Идем через сад в темноту. На краю останавливаемся, Сашка тихо свистит. Тут же из темноты появляется неясная фигура и слышится хозяйский голос:
— И по тому поводу, значит, все в порядке. Бором идите, лугом потом… Наверное, до утра не вернетесь?
— Не осилим до утра, — подтверждает Сашка. — Ну, будьте здоровы!
— Дай Бог счастья! — желает хозяин.
Сашка идет первым, за ним Живица, я замыкающий. Идем по межам, чтобы следов не оставлять на поле. Через четверть часа добираемся до старого бора. Ветер шумит в ветвях над головой. Плесенью пахнет, сыростью. Ноги ступают бесшумно по ковру мха. Темень все гуще.
Через полчаса выбираемся на опушку. Перед нами — длинный луг, дальний край его теряется в сумраке.
Идем ровно, спокойно, неподалеку друг от друга.
Начинается болото, замедляется наш шаг. Кое-где проблескивает вода в окошках. Отражаются в них звезды, блестят мутно, будто из глубокой пропасти.
Снова выбираемся на поле, но идем еще медленнее. Делаю вывод: граница близко. Где-то далеко заливается лаем пес — долго, злобно.
Бредем в темноте вперед, шаг за шагом. Сжимаю в кармане рукоять револьвера, верчу головой — но ничего не разглядеть.
Замечаю: Живица стал. Я тоже останавливаюсь. Стоим, неподвижные, очень долго.
Слышится сбоку легкий шорох. Потом различаем шаги. Смотрю туда, стараюсь изо всех сил разглядеть, но — ничего. Черный силуэт Живицы на фоне неба торчит, точно пень. Сашки вовсе не видно. А шаги все ближе к нам. Легкий кашель. Вот, сплюнули. Держу оружие наизготовку и удивляюсь, что не отступаем и дальше не идем, чтоб от невидимых погранцов уклониться.
Шаги все ближе. Идут к нам погранцы, ногами шаркают, топают. Кажется — рукой подать.
Вдруг звук шагов стихает, и отчетливо слышится голос, говорящий по-русски, с великорусским акцентом:
— Никак плеснуло что-то?
— Это в голове у тебя плеснуло, — отзывается ворчливо густой бас.
Снова слышатся шаги. Тяжко топают, шаркают. Кажется: столкнемся лбами сейчас. Но на самом деле, шаги отдаляются. Спустя несколько минут — полная тишина. Тогда темный силуэт Живицы движется вперед, за ним — я.
Через минуту пересекаем приграничную тропу.
Минуем большое болото, обходим озерко. Подходим к длинной полосе кустов, полуостровом вторгающихся в болото. Выбираемся на твердую землю.
А пес все еще заливается лаем.
Мы долго тащимся вверх по склону. Наконец, вершина холма. Видим справа, у подножия, длинный ряд огней. Деревня. Пес лает оттуда.
Вдруг слышим в темноте перед нами рипение колес. Приглушенные голоса. И вдруг — взрыв смеха.
— Но-о! — разносится протяжное.
А издали, от деревни, песня:
Ночка темна, Я боюся, Проведи меня, Маруся!Мы спускаемся. Идем не торопясь. Минуем овраг, обходим огромный валун и движемся по песку, между густо растущими кустами можжевельника. А песня все слышится:
Провожала До вокзала, Жалко стало, Плакала!Теперь идем быстро. Минуем поля, леса, пастбища. Дорога наша — я слежу по звездам — почти прямая линия, на восток. Выходим на дорогу, долго идем по ней. По ней заходим в большой лес. Пахнет смолой.
Пять часов уже идем, а еще никто ни слова не проронил. Шагаем ровно, широко, легко и тихо ступаем. Я уверен: никто нас на дороге не подстережет, не выскочит вдруг. А если выскочит — так ему же хуже! Знаю я, уверен, хоть про то и не договаривались: живым не сдамся ни я, ни они. Уверен и в том, что никто из нас не бросит другого в беде, не оставит раненого. Все время будто поет у меня в душе. Очень радуюсь, что иду с такими людьми, сильными, быстрыми, знаменитыми на всю границу фартовыми, которым всегда, во всем можно доверять. С ними не боюсь никакой опасности, никакой преграды. Хоть бы знал, что если не отступлюсь от них, не предам, то ждет меня смерть через час, — и то их бы не бросил.
Еще через два часа приближаемся к жилью. Пахнет дымом. Останавливаемся и долго стоим, неподвижные. Вдруг из темноты рядом разносится волчий вой. Хватаюсь за наган и понимаю: это Живица воет. Вой то взвивается под небеса, то ползет у земли, дикий, унылый.
— Пся крев! — ругаюсь шепотом, восхищенный мастерством.
Когда бы сам не видел, не поверил бы, что человек такие звуки издавать может.
Вытье прервалось. Повисла тишина. Через несколько минут послышались два свистка: тихий, короткий, а за ним сильный и долгий. Такое повторилось трижды. Тогда и мы двинулись вперед.
Слышу в темноте легкие шаги — нам навстречу идут. Слышу Сашкин голос:
— Как там?
— В порядке!
Идем дальше и вскоре подходим к избушке. Окна ее закрыты плотными темными шторами. Под потолком светит подвешенная на проволоке лампа.
Вижу низенького широченного мужчину. Лицо его будто из камня высечено: серое, массивное, бескровное. Огромная голова заросла густой щетиной. Взгляд пронзительный, недоверчивый. Говорит мало и неохотно.
Сбрасываем носки с плеч. Барсук (так зовут хозяина мелины) и Живица с Сашкой вынимают товар и выкладывают на стол. Товар — сахарин.
— Сколько? — спрашивает Барсук.
— Двести фунтов, — отвечает Сашка.
Барсук вынимает из сундука, стоящего в углу комнаты, большой мешок и складывает товар туда. Живица легко вскидывает полный мешок на плечо и выходит вместе с хозяином из избы. Я остаюсь с Сашкой. Тот вынимает из кармана несколько папирос. Меня угощает и закуривает сам. Оба молчим. Барсук с Живицей возвращаются через четверть часа.
— Дневать будешь? — спрашивает Барсук.
— В лесу, — отвечает Сашка.
— Съедите чего?
— С собой возьмем. Принеси нам.
Барсук уходит и вскоре возвращается, неся большой бухан черного хлеба и кусок солонины. Живица укладывает еду в опустевшую носку. Сашка вынимает из кармана бутылку спирта, кивает хозяину и говорит: «За тебя!»
Отпил немного, вытер горлышко ладонью и подал хозяину. Тот повторил церемонию и выпил за Живицу, а Живица выпил за меня. Затем долили спирт водой и выпили по второму кругу — за удачу.
Потом вышли из дому и направились в лес.
Когда развиднело, были мы далеко в густом лесу. Лежали под большим дубом, слушали, как шумит над головой ветер.
Сашка нарезал солонину и хлеб. Принялись мы есть и уплели большую часть принесенного с собой. Поевши, закурили.
— Он один там живет? — спрашиваю Сашку, имея в виду Барсука.
— Жена сбежала, так он одичал, — ответил он.
Когда докурили, Сашка попросил:
— Через три часа разбуди меня. Если трудно будет терпеть, разбуди раньше.
Коллеги уснули, а я с пистолетом в руках, опершись спиной о дерево, сторожил их сон. Смотрел в лес, на них, спящих, на часы, на свой парабеллум. Очень было мне приятно, что такие знаменитые контрабандисты доверили мне свой сон. Конечно, понимал, что Сашка мне первую вахту дал, потому что она самая легкая. Вторая-то сон прерывает.
Смотрел я на медленные стрелки и думал о многом. Всмотрелся в Сашкино лицо — и заметил длинную алую морщину. Злое ему снится, не иначе!
— Это ничего все, ничего! — сказал ему тихо. — Ты спи спокойно.
А лес вокруг шумит — радостно, многоголосо. Здоровается с восходящим солнцем.
12
Подошла середина октября. Ночи стали долгие, темные. Осень обняла границу и пограничье, устлала золотом.
Отнесли мы уже за границу девять партий товара. Несколько раз удавалось отнести товар на мелину и вернуться в ту же ночь. Носили все время сахарин, который с собой привезли. Осталось уже товара всего ничего. Я все гадал: кончится «сладкая жизнь», что еще носить будем? А может, Сашка перерыв сделает? У него спросить не решался. Мы вообще мало говорили, и только о важных делах. Свыклись очень друг с другом. Понимали друг друга без слов — жестом, взглядом.
Лило три дня подряд, и мы на работу не пошли. От дождя земля размякла, появилось много новых озерков. Ручьи превратились в клокочущие потоки. Но, наконец, ночью дождь унялся и распогодилось. Всю ночь и день дул западный ветер.
После обеда Сашка вышел из дому. Я видел в окно, как он пошел к чернеющему поблизости лесу. Ходил часа два, а когда вернулся, сообщил:
— Сегодня идем. Закончим дело.
Живица кивнул и снова принялся за игру. Мы с ним играли в «шестьдесят шесть» — не на деньги, для интереса.
После трех ходок за границу Сашка дал мне семьдесят пять долларов.
— Твоя доля, — сказал коротко.
После трех следующих дал мне сотню — наверное, потому, что я брал не сорока-, а пятидесятифунтовую носку. После девятой ходки дал еще сотню. В целом, набралось у меня двести семьдесят пять. Спрашиваю, причитается ли с меня за жилье и содержание хозяину. Сашка сказал, что меня это не касается, он это дело уже уладил.
Вышли в дорогу очень рано, как только сумерки стали сгущаться. Ветер переменился: подул с востока. Разодрал облака, разогнал. Месяц торчал над головой — большой, бледный, перекошенный, как будто касторки напился.
Шли трудно. Ливень превратил поля в болото. Мы с трудом выдирали ноги из грязи. Наконец, добрались до лесу. Идти стало легче, хотя и хуже видно, темно. Свет луны чуть продирается между ветвями.
Почти каждый раз идем мы за границу новой дорогой. Направление всегда одно и то же, но идем так, чтобы всякий раз пересекать границу в новом месте. Сашка всегда считает: раз следы оставляем, погранцы могут устроить нам засаду, ожидая, что когда-нибудь мы пойдем по одной из знакомых, нахоженных троп. Но у нас их нет. Мы всякий раз идем по-новому. Только вдали от границы часто идем, как и раньше. Там уже безопаснее.
Идти было скверно. Сашка это предвидел, потому и вышли так рано.
Ноги в болоте вязнут почти по колено. Где несколько дней назад были лужи, теперь — озера. Где ручьи — там ревущие потоки, где были речушки — теперь полноводные реки. Острый, холодный ветер бьет в глаза, мешает дышать. А хуже всего — луна. Так ярко светит, будто с погранцами сговорилась. Прожектором сияет, мы как на ладони, и видно нас издалека.
Долго стоим на краю леса. Перед нами широкий открытый простор, посреди него — граница. Заходим в болото. Прыгаем с кочки на кочку, потихоньку продвигаемся вперед.
Я по пояс мокрый и грязный, но мне жарко: разогрелся ходьбой. Наконец, перебираемся через границу и спешим вперед. Сашка идет быстрее и быстрее, едва поспеваю за ним. Меня это удивляет, но не оглядываюсь по сторонам, спешу за Живицей. А позади — «бах» из карабина!
Кажется, где-то очень далеко, сильный западный ветер относит звук прочь. Может, и кричат, как обычно: «Стой! Стой!», но голосов не слышно.
Около нас все чаще свистят пули. Оглядываюсь: метрах в двухстах за нами бегут люди. С десяток их, рассыпались цепью. «Откуда их столько?» — удивляюсь, поспевая за коллегами.
Ситуация не ахти. Удрать не удастся. До ближайшего леса на востоке — километров пять. Ближе — рощицы, кусты, но в них от погони не укроешься.
Сашка сворачивает на юго-восток. Почти бежим уже. Выстрелы один за другим. К счастью, не попадают. Добрались до густого лозняка. Останавливаемся. Сашка велит:
— Подпустить ближе и валить!
Ждем, встав на колени, укрытые густыми зарослями. У меня наготове парабеллум, запасные магазины к нему.
Преследователи все ближе. Отчетливо различаю серые силуэты, придвигающиеся все ближе. Полы длинных плащей сунуты за пояса, чтобы не мешали бежать. В лунном свете блестит оружие.
Слышу зычный голос, выкрикивающий раздельно, по слогам:
— Цепь-ю за-хо-ди спра-ва!
Думаю: вспугнуть хотят, в болото выгнать. Гляжу вперед внимательно.
Серые уже шагах в пятидесяти. Близко совсем. Чего ж Сашка не стреляет? Гляжу на него. Он опер длинный ствол парабеллума о левую руку. Вправо целится. Смотрю на Живицу. Тот целит в центр цепи. Я тогда выцеливаю солдата на левом крыле.
А серая цепь будто плывет навстречу в море лунного света.
Вдруг справа — выстрел. Это Сашка. И я, тщательно целясь, принимаюсь стрелять. Выпускаю десяток пуль, вбиваю в ручку новый магазин. Сашка с Живицей палят непрестанно. Цепь рвется, встает. Издали гремит:
— Ложись!
Серые силуэты пропадают. Гремят выстрелы из карабинов. А мы переходим на другую сторону зарослей и ступаем в болото. Идем по прогибающимся под ногами мхам. Позади — частая стрельба.
Как привидения, шаг за шагом продвигаемся в сумрачном море лунного света. Звуки выстрелов все дальше.
Наверняка не решатся за нами. Убедились охотники, что этого зверя загнать нелегко.
Бредем дальше. Земля гнется под ногами, из-под ног сочится вода. Удаляемся друг от друга, чтобы не прорвать пружинистой прослойки мха и водорослей, закрывающей вязкую топь.
Через два часа выбираемся на твердую землю. Рядом — черная стена леса. Сашка, сверкая глазами, показывает рукой назад, на пройденное болото.
— Пусть попробуют!
— Я б не советовал, — говорит Живица.
Идем дальше и вскоре скрываемся в лесном сумраке. Там нас и черт не остановит.
Так перенесли мы двенадцатую партию товара. Вечером Сашка дал мне за последние три ходки сто пятьдесят долларов. Много. Но ведь и носил я по семьдесят фунтов. Теперь у меня было четыреста двадцать пять долларов — целый капитал, заработанный без агранды.
Я заметил, что за год и три месяца моей жизни на границе очень окреп физически. Легче мне было таскать семидесятифунтовую носку, чем когда-то тридцатифунтовую. По труднейшим дорогам ходил, будто на прогулку в знакомом парке.
Пока ходили, много у нас было разных приключений и происшествий, но тут о них писать не буду, чтобы не удлинять рассказ без меры.
Когда в последний раз возвращались из-за границы, Сашка повел новой, кружной дорогой. Далеко обошли место, где случилась перестрелка с погранцами. Пришлось лишние километры намотать, но хорошие, по нормальной земле. Не болото, леса большие. Но, возвращаясь, наткнулись в лесу на караулку погранцов.
Сашка прокрался, мы — за ним. Оружие наизготовку.
Он стал у освещенного окна, мы — рядом. Заглянули, увидели большую комнату. В глубине ее — помост, там лежат несколько красноармейцев. Спят, наверное. У окна — стол, на нем бумаги, горит большая лампа.
Посреди комнаты стоял высокий щуплый красноармеец и рассказывал что-то сидящим на лавках у стен товарищам, оживленно размахивая руками. Мы видели радостные лица, горящие интересом глаза. Вдруг все разом захохотали.
Вдруг заметил, что Сашка поднимает парабеллум. Сперва подумал: хочет через окно в солдат стрелять, но понял: в лампу целит.
Красноармеец рассказывает, гримасничает, кривится, махает руками. Шагает вперед и говорит так громко, что я слова различаю.
И — новый взрыв смеха, еще сильнее. В ту же минуту Сашка стреляет. Грохот, треск, звон стекла, в избе темень.
В избе — гробовое молчание. Наконец, доносятся перепуганные голоса, вскрики.
— Что за черт?
— Какой мерзавец лампу разбил?
Слышим шаги. Наконец, зажигается фонарь.
— Это выстрелил кто-то!
Не торопясь, отходим вглубь леса. Сашка улыбается.
Спокойно возвращаемся на мелину. Это была наша последняя ходка с сахарином. Переправили мы все привезенное из местечка. Сашка сказал тогда: «Ну, братва, завтра сгоняем-ка в Рубежевичи, позабавимся малость! А потом еще дельце есть. Поспеть надо, зима на носу».
И вот мы третий день в Рубежевичах. Живем у Сашкиного коллеги, на краю местечка. Сашка целыми днями пропадает, по делам ходит. Пару раз я видел его в местечке с жидами какими-то, купцами, должно быть. Мы с Живицей дома сидим. Спим, водку пьем, в карты играем.
А вчера развлекались всю ночь. Стасик Удрень, у которого остановились, отправил двух младших братьев на ночь к соседке. Знал, какая забава будет.
Для меня сюрпризом стал приезд из Ракова гармониста Антония. За ним специально съездил Янкель Парх.
Днем Стасик с Сашкой принесли множество разнообразных пакетов и пакетиков. Жилье Стасика было обширное, но очень запущенное. Мы с Живицей прибрались немного. На черной половине, в кухне, распаковали принесенное, разложили по полкам и столу. Было там много изысканных лакомств. Коньяки, ликеры и водку мы поставили в шкаф.
Глядя на то изобилие, хотел я себе настроение малость подправить, но Живица посоветовал подождать, чтоб место на потом оставить.
Гармонист Антоний сидел на чистой половине и наигрывал тихо обрывки мелодий.
В седьмом часу вечера пришел Стасик и привел трех девчат. Познакомил нас.
— Юля.
— Казя.
— Ядя.
Называли свои имена, по очереди с нами здороваясь. Сперва держались очень сдержанно, но вскоре раззадорили их Стаськовы шутки, Антониева музыка и перспектива веселья.
Усадили мы дивчин за стол, принялись угощать чаем с пирожными. Я попробовал долить в чай коньяку. Они не протестовали.
Юля была пухлая блондинка. Улыбалась мило. Смеялась охотно, запрокидывая голову, как от щекотки. Казя — брюнетка с красивыми темными глазами, лицо симпатичное. Держится сдержаннее других, улыбается краешками губ. У Яди — пышная рыжая гривка, снежная кожа. Улыбка такая веселая и зубы на зависть. У нее красивые ноги, и, наверное, потому носит очень короткое платье. Все три молоденькие. Должно быть, ни одной за двадцать не перевалило. Будто три ярких, искристых огонька за столом: Юля в кремовом платье, Казя — в темно-зеленом, Ядя — в желтом.
Через час явился Сашка. Поздоровался весело с девчатами, с Антонием. Разговор оживился. Стасик зубоскалил непрестанно. Девчата то и дело прыскали со смеху. Мы старались напоить их, но пили они неохотно. С каждой рюмкой приходилось упрашивать.
Еще через час настроение заметно поднялось. У девчат блестели глаза, щеки зарделись. Да и мы изрядно подпили. Антоний наяривал на гармони. Девчата рядком сидели за столом, а мы старались их разлучить. Сашка встал и подошел к Казе, наитрезвейшей из троих. Взял за руку и, не успела Казя запротестовать, поднял и перенес, усадил рядом с собой, на другой стороне стола. Юля захлопала в ладоши и говорит:
— Как здорово!
— Раз здорово, то здорово! — рассудил Живица, подошел к Юле и поднял ее вместе с креслом.
Дивчина пищала, хваталась за ручки кресла. Все смеялись. Живица пронес кресло с Юлей вокруг комнаты и поставил рядом со своим местом. Потом усадил ее к себе на колени. Дивчина хотела вырваться, Живица легко, но крепко ее удерживал. Я сел около Яди, чьи красивые ноги, снежная кожа и жаркие рыжие волосы меня давно уже притягивали.
— Посмотрите, как управились! — пожаловался Стасик. — Сами парами, а я как гвоздь в заборе.
— К Эстерке иди, — посоветовал Сашка. — Наверное, уже вернулась она из Барановичей. Скажи ей: я зову. Пусть гитару возьмет. Ну, махом!
— Лечу! — вопит Стасик и выскакивает, позабыв шапку.
А мы усиленно потчуем девчат ликером и вишневкой.
Они уже пьяненькие. Жестикулируют, разражаются смехом по поводу и без повода. По примеру Живицы, усаживаю Ядю к себе на колени. Не протестует. Обнимает меня за шею. Колышемся в такт вальса.
Через четверть часа возвращается Стас.
— Есть! — кричит с порога. — Наичудеснейшая, наикрасивейшая Эстерка собственной персоной!
В комнату быстрым шагом входит среднего роста щуплая дивчина. Жидовка. Вынимает из-под пальто гитару, кладет на кресло.
— Веселой забавы! — желает всем громко.
— Пожалуйста! — отзывается Сашка. — Садись к нам!
Указывает на место за столом.
На Эстерке — очень короткое красное платье. Лицо ее не слишком симпатичное, но фигура — загляденье. У Эстерки черные, коротко остриженные волосы, большие чувственные губы, красивые глаза. Стас поспешно поит ее вишневкой. Эстерка ест и пьет, не стесняясь совершенно, сама шутит.
— Ах, у Эстерки ручки — конфетки! — объявляет Стас.
— У меня и ножки, как конфетки, — отвечает она, ногу вытягивает и на стол кладет. Это сопровождается взрывом хохота. Стас не сдается и тоже укладывает на стол свою ногу.
— Посмотрим, чьи красивее? Пусть паненки рассудят!
Паненки хихикают.
Эстерка выскакивает на середину комнаты с гитарой в руках. Перебирает струны, пробует аккорды. Наконец, запевает:
Фраерочки, встаньте, На шузки мои гляньте, Нравятся? Ножки — загляденье, Грудки — восхищенье, Красавица!Певичка ступает на носочках, выгибается, гнется, вертится. Смотрим все на нее молча, а она носится по залу, грациозная, шустрая, играет свою песенку не только гитарой, но и телом.
Наконец, последний куплет:
Пусть месяц моргает. Нас не стесняет, Время нам — ночь! Веселье отпело, Мы тотчас — на дело! Прочь!Эстерка бьет костяшками пальцев по гитаре и с криком: «Э-эх!» крутится так быстро, что подол платья вздувается. Паненки хихикают. Мы аплодируем.
Пьем дальше. Никто уже не стесняется. Эстерка отвешивает крепкую оплеуху Стасю, пытающемуся содрать с нее платье. Не от стыда — а оттого, что рано слишком. Я глажу Ядины ноги. Живица вместе с Юлей выходит в соседнюю комнату. Возвращаются через четверть часа. У нее лицо красное, платье измято. Эстерка смеется, кричит, у Стаса на коленях сидя:
— На здоровье, панна Юлька!
— И тебе того же! — отвечает та.
Тогда Эстерка соскакивает со Стасовых колен и тянет его в соседнюю комнату. Когда возвращается, на ней только белье. Подбоченивается и велит Антонию:
— Марш давай!
Антоний выдает звучный марш, а Эстерка танцует, мельтешит туда-сюда, движет изящно стройными ножками в красивых черных длинных чулках. Позы принимает очень вольные, но все только рады.
Я наклоняюсь к Яде и говорю: «Пойдем!» Она улыбается. Идем в боковую комнатку, где большая кровать, а на подоконнике — медный фонарь со свечой. Эстерка кричит нам в спины:
— Успехов!
Забава продолжается! Уже за полночь. Девчата пьяненькие. Платья с них поснимали. Эстерка кричит:
— А ну, устроим конкурс! У кого самые красивые ноги?
Вскакивает на стол. Уверена, что самые красивые ноги у нее. Не стесняется вовсе, с самого начала верховодит весельем.
— Браво! — вопит Стас. — Даешь конкурс!
Ставим слегка отпирающихся дивчин на стол. Рассматриваем ноги. Три голоса за Ядю, один, Стасов, за Эстерку. Ядя, Кася и Юля с нашей помощью соскакивают со стола. Эстерка корчит недовольную гримаску и кричит:
— Раз конкурс, так конкурс! Что там ноги? Ноги и у свиньи есть! А давай все!
Принимается снимать и швырять на пол белье. Голая, вскакивает на стол. Стройная, фигурка что надо. Худосочна малость, правда. Гладит себя ладонями по грудям, по бокам и бедрам, кричит девчатам:
— Ну, кто отважится?.. Конкурс! Поехали!
Но девчата еще стесняются донага раздеться перед всеми. Тогда Эстерка соскакивает со стола и велит Антонию:
— Вальс!
Антоний играет, а Эстерка, голая, кружится по комнате. Глаза блестят. Улыбается, показывая мелкие белые зубы. Руки поднимает, сцепляет пальцами за затылком. Мы смотрим, ошеломленные, взбудораженные. Танцуем с ней по очереди. Затем Эстерка снова поет и танцует.
Перед концом забавы Сашка достает большой бумажник из кармана пиджака и раздает девчатам деньги. Каждой — по сотне долларов. Эстерка сует деньги в чулок и говорит:
— То за забаву и дружбу, а за песни?
Сашка кидает ей двадцатку.
— А за танцы?
Сашка дает еще двадцать.
— А за конкурс?
— Его Ядя выиграла, — говорит Сашка и дает двадцатку Яде.
— Ядя за ноги взяла, а я за все! — не сдается Эстерка.
— Ну, тогда на! — Сашка дает двадцатку и ей.
Гармонист тоже получает сто долларов.
Забава кончается под утро, когда девчата уже пьяные вдрызг.
Днем к Сашке пришли двое купцов. Один — известный богач, Юдка. Долго разговаривали. Сашка записывал на листке название товара, количество и цену. Долго торговались, пререкались. Потом пошли вместе в город. Сашка вернулся поздно вечером и сказал нам:
— Ну, хлопцы, все на мази! Утром возвращаемся. Пахать надо, зима на носу!
Живица, довольный, потер огромные свои ладони. Мне тоже стало радостно.
Эх, пойдет работа!
13
Дождь каплет, сочится, нудит. Ночь черна как смоль.
Возок загружен до краев краской и подошвенной кожей. Несколько десятков тюков с товаром, сверху накрытых брезентовым пологом, перевязанным толстыми веревками. Если и перевернется, ничего не выпадет. Колеса обвязаны тонкими просмоленными линями. Оттого и шума меньше при езде, и не проваливаются колеса в мягкую землю, не проскальзывают на пригорках и мокрой траве.
Все готово. Большой, сильный черный конь так и рвется вперед. Выезжаем на дорогу. Хозяин желает от ворот: «Дай Бог счастья!»
Ныряем во мрак. Правит Живица, держащий в руках длинные ремни поводьев. Сашка сидит рядом с ним, я примостился на задке воза. Едем медленно. Я в темноте совсем ничего разобрать не могу.
Через час Живица останавливает коня. Мы с Сашкой слазим. Он велит подождать, сам идет вперед. Через четверть часа возвращается.
— Ну, пошли! Только тихо…
Мы с Сашкой крадемся вперед, возок едет за нами. Пистолеты и фонари у нас наготове. Нутром чую: граница близко, но ни малейшего понятия, когда ее минуем.
Едем по бездорожью, почти беззвучно. Может, погранцы и близко, но вряд ли нас слышат, тем более, видят.
Я иду и думаю про то, что мне днем Сашка сказал: «Братку, начинаем работу настоящую. Пока белая тропа не ляжет, заработаешь пару тысяч долларов. Тогда в Вильню поедем. Там остепенишься, дело себе найдешь. А иначе — сгинешь рано или поздно».
Долго идем очень. Дождь льет все сильней. Долго кружим в темноте, долго перебираемся через преграды. Наконец выходим на дорогу и движемся быстрее. Возок тихо едет за нами. Иногда конь утыкается мордой мне в спину. Шеей чую его теплое дыхание.
Наконец сворачиваем с дороги в лес и снимаем лини с колес. Не стоит оставлять такой след от границы до мелины.
Крутимся по дорогам, съезжаем, поворачиваем — путаем следы. В третьем часу ночи мы на месте. Товар заносим в конюшню. Утром Барсук его отвезет на следующий пункт, под Минском. Живица заводит в конюшню коня, прячет воз, а мы с Сашкой идем в дом.
В печи жарко пылает огонь. Снимаем мокрую одежду, развешиваем на веревках у горячей каменки. Живица, зайдя, тоже принимается сушить одежду. А Барсук жарит для нас сало.
Пьем спирт, едим горячие шкварки. Все нам вкусно: и скверный лежалый хлеб, и старое сало.
Под утро дождь перестает. Барсук запрягает, укладывает с помощью Живицы товар на возок и едет на следующий пункт. Товар прикрыт сверху сеном.
— Не попадется он по дороге? — спрашиваю Сашку.
— Он? Да он и черту не попадется! По таким стежкам ездит, где души живой не встретишь. А если встретит, так у него от меня машина верная. Уж постреляет вволю! Он — номер еще тот!
Залазим спать на печь. Там очень жарко. Караулим по очереди сон друг друга.
В третьем часу дня возвращается Барсук. Привозит несколько больших мешков щетины. Их и повезем назад. Они не помеха: хоть большие, но легкие, а заработок больше.
Вечером укладываем щетину на воз и едем назад. Едем быстро. Конь рвется бежать, Живица его сдерживает. После трех часов пути останавливаемся. Снова окручиваем линями колеса, едем медленнее. Начинает дождить, с востока задувает. Хорошо — ветер нам помогает сохранить направление.
С большой осторожностью перебираемся через границу и в первом часу ночи добираемся до хутора.
Отвезли мы за границу три воза товара. Я получил от Сашки двести сорок долларов. Всего теперь у меня шестьсот шестьдесят пять долларов. Сашка сказал, что мне еще причитается, но отдаст позднее, когда работа кончится: сейчас трудно наличностью получить. Я столько никогда не зарабатывал.
Когда последним разом возвращались из-за границы, чуть не случилось у нас крови. Захотели мы пораньше домой вернуться, поехали кружной дорогой. Везли четыре больших тюка щетины.
Выехали на луг. Далеко слева виднелась деревня. Сумрак спускался медленно. С запада ползли пеленой тучи, затягивали небо. Собирался дождь.
Дорога попалась малоезженая, возок то и дело подскакивал на кочках. Я заметил впереди полосу кустов, пересекающих луг, мост через речушку, вербы близ него. Показалось мне: люди на мосту. Когда приблизились, увидели нескольких мужчин, стоявших, опершись о поручни моста, и смотревших в нашу сторону.
— Стоят какие-то то! — предупреждаю Сашку.
— Чтоб их черти побрали! — отзывается он. Подъехали к мосту. Увидели на нем семерых. Трое одеты по-деревенски, трое — по-городскому, а на одном — черная кожанка и фуражка.
Живица хлопнул вожжами, присвистнул. Конь побежал резвей. Я держу руки в карманах, на рукоятках. Ноги широко расставил, чтоб опора была. Смотрю на Сашку. По его лицу блуждает легкая усмешка, одна рука в кармане.
— Медленней! — приказывает Живице.
Тот придержал коня немного. Въезжаем на мост.
— Кто такие? Откуда? — кричит мужчина в кожанке зло и самоуверенно и за узду пытается схватить.
— Из Минска! — отвечает Сашка весело и громко.
— Из Минска? И откуда из Минска?
— Откуда? Сейчас документы покажу. Тпру-у!
Живица останавливает, Сашка спрыгивает, подходит к мужчине в кожанке. Смотрит внимательно в лицо и говорит:
— Ваша харя, товарищ, мне что-то очень подозрительна. По какому праву задерживаете проезжих?
— Как это, по какому праву?
— По такому праву! Ваши документы!
— Да я сотрудник койдановского погранотряда!
Тогда Сашка отходит на шаг и тычет в лицо кожаному стволом парабеллума.
— Лапы вверх, живо! — говорит холодно и спокойно. Мужчина в кожаной куртке бледнеет и подымает руки.
Я выхватываю оружие свое и, стоя на возке, кричу:
— Руки вверх! Ну!
Все поднимают руки. У Живицы в одной руке — вожжи, в другой — парабеллум. Улыбается, смотрит с интересом на стоящих с поднятыми руками людей. Сашка обыскивает агента. Вынимает из кармана его куртки заряженный наган.
— Пригодится, — говорит, кладя его к себе в карман. Вынимает из другого кармана толстый бумажник, тоже кладет к себе.
— А с этим мы потом разберемся.
Обыскав, поворачивается к стоящим на мосту.
— У кого еще оружие? Ну?
— Нету у нас! — раздается несколько голосов.
— Смотрите, если найду — пуля в лоб! Ну, у кого оружие?
— Нет у нас, товарищи!
Сашка поворачивается к агенту.
— Хотите знать, куда едем? За границу едем. Хотите знать, кто мы? Мы — веселые хлопцы. Мы границ не знаем и о таких, как ты, сексотов, рук не мараем. Ну, вот и узнал. А везем мы щетину. Хочешь пощупать?
— Товарищи, я ж не…
— Я тебе не товарищ! Твой товарищ в будке блох грызет!
— Я ж не думал, я хотел только…
— …шкуру содрать! — закончил за него Сашка и приказал: — Прыгай в воду!
Агент замешкался. Сашка поднял парабеллум, нахмурился.
— Ну!
Агент поспешно перелез через перила. Внизу звучно плеснуло. Живица захохотал.
— Давай в воду, блох топить! — заорал Сашка на стоящих. — Живо!
Те поспешно принялись карабкаться и прыгать. Бух, бух! Плескало громко.
— Купаются, — сообщил Живица.
Сашка вскочил на возок, конь рванул.
— Им полезно. Остынут малость, — заметил Сашка.
Проехали мы мост, выехали на луг. Позади послышались крики выбирающихся из воды людей.
Стемнело. Я размышлял над произошедшим. Дивился Сашке. Никто б не поступил, как он. Мы могли бы погнать коня. Им бы пришлось уступить нам дорогу — но потом могли бы стрелять нам в спины. Могли б мы стрелять в них и даже поубивать всех. Да только кровь бы зря пролили и шума наделали. А Сашка умудрился и того избежать, и другого… Смотрю на его спокойное, задумчивое лицо. На лбу — узкая алая морщина. О чем он задумался?
14
Близится середина ноября. Вывезли мы за границу семь возков товара. Сашка дал мне еще двести сорок долларов. Теперь у меня девятьсот пять.
Чуем мы — зима близко. Торопимся. Сашка хочет доделать все до конца ноября. Купцы на днях доставят нам из Рубежевич дорогой товар, много на нем заработаем. Осмелели, видя, как хорошо у нас идет.
Два дня тому был первый снег, но пролежал недолго. Черная стежка пока еще держится. Хоть бы подольше продержалась!
А еще через пару дней случилось жуткое, и все планы наши пошли прахом. Лучше б мы не брались за ту работу, лучше б про нее и не подумали! Но не буду забегать вперед.
Мы возвращались с работы. Сдали товар Барсуку и везли назад несколько тюков овечьей шерсти. Мы удачно доехали к лугу, что недалеко от границы.
За полночь уже было. Мы дали коню отдохнуть немного да и двинулись вперед. Возок тихо катился по влажной траве. Сашка соскочил, пошел вперед. Я хотел идти за ним, но он махнул рукой: не надо, мол. Я остался на возке.
Сашка шел в четырех десятках шагов перед нами через луг. Я старался не потерять его из виду. Вот он подошел к темному сгустку — купе густых зарослей у границы. Вот миновал ее. И вдруг — выстрел! Затем еще несколько, один за другим. И уже после — крик:
— Стой! Стой!
Грохот в ответ — Сашка отстреливается. Вижу: отходит к нам. А из зарослей сверкают вспышки выстрелов — из карабинов бьют.
Живица останавливает. Я палю из парабеллума в заросли. Прицел ставлю на сто двадцать шагов, опустошаю магазин. Вставляю другой, продолжаю палить. Карабин умолкает.
Вдруг слышу странно дрожащий голос Живицы:
— Держи коня! Быстро!
Хватаю вожжи. Живица соскакивает, бежит вперед — к Сашке, лежащему шагах в тридцати от нас. Сашка не стреляет, не шевелится. Я, занятый стрельбой, упустил его из виду.
Месяц прячется за тучами, становится темней. Уже не вижу ни Живицу, ни Сашку, ни заросли.
Снова слышатся голоса: «Стой! Стой!»
Меня трясет. «Что там случилось?» Конь рвется, но держу его крепко. Через минуту слышу торопливые шаги. Живица, держа Сашку на руках, бежит к возку. Кладет Сашку на мешки с шерстью. Говорит мне таким странным голосом, чуть не всхлипывая:
— Смотри, осторожней! Чтоб не трясло его! Ну, холера…
Встряхиваю вожжи, разворачиваю коня. Близко слышны шаги бегущих к нам людей. Выхватываю парабеллум, встаю.
Месяц выныривает из-за тучи и прожектором освещает луг. Вижу поблизости четырех солдат. Стреляю. Они отходят поспешно. Живица понукает коня. Я чуть не падаю. Хватаюсь за возок, стреляю снова. Карабины гремят в ответ. Пули свистят рядом. Стреляю, ошалелый. Месяц снова прячется за тучами. Уже я не вижу гонящихся за нами, они — далеко за спиной. Возок бежит быстро.
Наклоняюсь над Сашкой. Лицо его бледное, глаза блестят. Закусил губу.
— Что с тобой? Как помочь? — спрашиваю в отчаянии.
Не отвечает.
Все едем назад. Хорошо хоть, месяц спрятался в тучах.
Встали на краю рощицы. Живица поднял Сашку, положил на траву. Я склоняюсь над ним. Не знаю, с чего и начать. Спрашиваю, наконец:
— Как тебе помочь?
Не отвечает.
Живица выкидывает из возка тюки с шерстью, порет ножом упаковку. Кидает в возок огромные клубы шерсти — мягкую постель для Сашки готовит. Выстилает полвозка, кладет сверху полотнище с упаковки распоротых тюков. Укладывает раненого. Ноги, руки, голова Сашки свесились бессильно.
Живица вскакивает на возок и приказывает глухо:
— Смотри за ним!
Возок движется. Едем вдоль границы, она километрах в трех от нас. Катимся без дороги по лугам и полям. Я держу в руках пистолеты.
Опускаюсь на колени рядом с Сашкой. Вижу: разомкнул веки. Шепчет что-то. Наклоняюсь.
— …Мешочек… мешочек сними… на шее… под рубашкой…
Поспешно расстегиваю на нем куртку, блузу и рубаху.
Снимаю замшевый мешочек. Он плотно набит.
— …Отдашь Феле… Бумажник вынь…
Вынимаю его из бокового кармана куртки.
— Пятьсот долларов тебе… пятьсот Живице, — шепчет Сашка.
— Лады, — говорю ему.
— С купцами и Барсуком Живица поладит… Скажи ему.
— Да чего ты, ничего с тобой не случится, — говорю, — сам все сделаешь и уладишь.
— Не… кончено со мной… Сделай, как я сказал.
Замолчал.
— Может, сделать чего? — спрашиваю.
— Не… ничего уже. А ты — уезжай…
Молчу. Подкладываю ему шерсть под голову… Снова заговорил он, очень тихо:
— Владек?
— Что?
— Машину дай.
Шевелит пальцами. Вкладываю парабеллум в его ладонь. Сгибаю на ней его пальцы. Не понимаю, чего он хочет.
Месяц выглядывает из-за туч.
Вижу запавшие Сашкины глаза, бледное лицо, искаженное болью. Через весь лоб — глубокая алая морщина. Чуть держусь, чтоб не заплакать.
Вдруг улыбается удивительно.
— Коня держи! Стой! Умирает! — кричу Живице.
— Да что ты несешь?! Во холера! — голос Живицы дрожит.
Склоняемся над Сашкой.
— Влево бей! Еще дальше… еще… — шепчет он.
Молчим. Сашка приподымается, кричит:
— Хлопцы, давай, вперед! Вали их всех! — и падает.
Больше он не сказал ничего.
Так погиб Сашка Веблин, король границы. Погиб на советской стороне, в середине ноября, в золотом сезоне, в лунную ночь. Умер во втором часу. Мы с Живицей видели, как он умирал. Последние минуты его жизни осветило «цыганское солнце». А вокруг было тихо, торжественно и спокойно. Оставил он сестру Фелю и двух друзей, Живицу и меня. Оставил добрую память о себе у всех хлопцев на пограничье.
Мы стояли на коленях, склонившись над Сашкиным телом. На мою руку капали Живицыны слезы. И оттого меня мучило еще горше: он, такой сильный — и плачет. Тяжко, горе давит на плечи.
Вдруг Живица вскочил. Бледный, с кривой усмешкой на лице, говорит:
— Ну… чего мы встали, а?.. А?
Хватает вожжи, тянет так, что конь аж приседает. И кричит во весь голос:
— Но-о-о! Давай!
Срываемся с места. Возок глухо рокочет, мчась через луг. Подпрыгивает на кочках. А конь рвется все быстрей!
— Но-о! Едем! — кричит Живица на всю границу.
— Ну, холера, с ума сошел!
— Э-ге-ге! — голосит Живица.
И конь мчится еще стремительней. Это контрабандистов конь. Знает нас. Знает, что ведем себя не так, что произошло что-то особенное. Может, удивляется, что не слышно выстрелов из карабинов.
— Пош-шел!
Живица сует пальцы в рот и свистит пронзительно. Я сижу на охапке шерсти, растерянный. Не знаю, где мои пистолеты. Ничего не знаю, понять не могу… Луна заливает светом. Слезы застят глаза.
— Э-ге-ге!!! Пошел! — страшный Живицын рык разносится по всей границе. «Зачем он так?» — спрашиваю себя, кусаю губы.
Что еще случилось той ночью? Ничего большего и горшего уже не могло случиться. Ничего! Самое плохое уже случилось.
Сбоку гремят выстрелы из карабинов — прощальный салют пограничников Сашке. Возок скачет, как мяч. Конь несется вперед ураганом. Луна танцует по тихому небу, и катится по границе:
— Э-ге-ге! Давай!
Ничего больше не могло случиться! Не могло!
Рано утром лег снег и больше уже не сходил. С утра легла «белая стежка». С нами покончено. Черная стежка нам уже не нужна. Сашки Веблина уже нет.
Потому в 1923-м году и пришла ранняя зима.
15
Когда смерклось, я пришел в Раков. Боковыми улочками, заулками прокрался к дому часовщика Мужанского. Застал Петрука Философа. Я и сам не знаю, отчего сразу к нему пошел. Петрук сидел рядом с кроватью, где лежал Юлек Чудило, и читал ему книжку.
— Где Щур? — спрашиваю.
— Не знаю. Давно не видел. Он с «дикими» ходил.
— А Лорд?
— С группой пошел. Еще не вернулся.
— Что с тобой? — спросил я Юлека.
Скверно он выглядел.
— Продуло. Но это чепуха…
И закашлялся — долго, тяжело. Вижу: в глазах Петрука тревога.
— Знаешь что, — говорю Петруку, — ты форсу мою, может, возьмешь сохранить? Я ж, понимаешь, за границу хожу. Поймают там — пропадет все. Вы ж сейчас не ходите?
— Нет. Деньги твои могу сохранить.
Вытягиваю поспешно из кармана пачку банкнот. Отсчитываю тысячу двести долларов, даю.
— Это ж много так!
— Ну так, работали много.
Прощаюсь с хлопцами и иду к выходу. У двери задерживаюсь.
— Знаете, а Сашки нету…
— В местечке нету?
— Нет… вообще — нету!
Рисую в воздухе крест. Вижу удивленные взгляды.
Выхожу на подворье, смотрю на небо. Луна опустилась низко, улыбается бессмысленно.
Иду к дому Фели. В окнах темно. Стучу в окно, стучу сильнее… как тогда. Слышу торопливые шаги.
— Кто-о?
— Владислав.
— Какой Владислав?
— Владек.
— А-а!
Вскоре я в доме. На столе горит лампа. Феля смотрит на меня задумчиво. Молчит долго, потом спрашивает:
— Добрый вечер!
— Добрый вечер! — отзываюсь.
Снова молчим.
Достаю из бокового кармана замшевый мешочек. Протягиваю Феле:
— Это от Сашки.
Она берет. Я вынимаю Сашкин бумажник.
— И это от Сашки. Я взял пятьсот долларов себе и пятьсот для Живицы. Сашка так велел. Остальное сказал отдать пани.
— Что там? — указывает на мешочек.
— Не знаю. Не смотрел.
Вдруг на лбу Фели — глубокая алая морщина, как у брата. Глаза темнеют. Хмурится.
— А где он?
— Нет его.
— Нет его?
— Так. Большевики убили его у границы.
Рассказываю коротко, но ничего не скрывая, о том, как Сашка погиб. Она внимательно слушает. Вопросами не прерывает. Бледнеет все сильней. Идет к креслу, садится.
Долго молчит. Смотрит на меня, а в моей душе — пусто. Совсем.
— Может, пани помочь чем? — говорю, наконец.
— Пан… от полиции в бегах?
— Так.
— Тогда ничем. Я все сама улажу. У пана есть, где спрятаться?
— Есть.
— Хорошо. Я сейчас пойду к нему. Живица с ним?
— С ним.
Идет в другую комнату, начинает одеваться. Через минуту возвращается.
— Пан может идти. Я пана не задерживаю.
— До свидания.
— До свидания.
Выхожу. Долго блуждаю по улицам. Воротник куртки поднял, никто меня не узнает.
Смотрю вверх. Месяц усмехается насмешливо.
Изредка встречаю прохожих. Иду и иду по улицам. Холодно. Задувает льдисто с запада. Выжимает из глаз слезы.
Иду к Гинте. Нужно хоть что-то сделать. Упиться, что ли?
В салоне знакомых нет. Под потолком светит укрытая абажуром керосиновая лампа. Ее не хватает на большую комнату. Стол посередине — пустой. За боковым столиком вижу четверых «повстанцев».
Зову Гинту.
— Давно пана Владислава я не видела, — сообщает жидовка.
— И что с того?
— Да ничего. Чего пан хочет?
— Склянку сивухи, огурцы и колбасу.
Пью один. «Повстанцы» на меня внимания не обращают. Не знаю, зачем тороплюсь напиться. Все равно идти мне некуда. Все я потерял.
Выпиваю еще полбутылки водки. Теперь мне теплей, но еще тяжелее, еще тоскливее.
Расплачиваюсь, выхожу на улицу. Снова блуждаю по улицам.
Падает снег. Мелкие белые лоскутья кружатся весело. Карабкаются по длинным лунным лучам, соскальзывают по ним.
Спать я хочу. Так давно не спал. Замучился очень.
Уже совсем поздно, когда стучу в окно Калишанкам. Зузя отмыкает мне. Хлопает в ладоши и как-то чересчур оживленно выражает восторг:
— А-а! Пан Владислав! Наконец! Здравствуйте, пан, заходите!
— Здравствуйте, здравствуйте, — повторяю бессмысленно.
— Проходите, проходите дальше!
Усмехается. Осматривает меня с любопытством.
— Может, есть хотите, выпить?
— Водки дай.
— Сейчас будет, сейчас! Все, чего пан пожелает! Садитесь. Сюда, тут удобнее.
Снова пью водку. Зузька улыбается деланно. На месте ей не сидится, крутится по избе. То встанет, то сядет снова. Груди ее скачут, как налитые водой резиновые перчатки.
— Тоська так часто пана вспоминает! А пан такой невеселый! Я болтаю и болтаю, а пан — ничего!
— Язык у меня замерз! Отогреть нужно.
Зузя хохочет, хлопает себя пухлыми ладонями по бедрам. Я пью дальше. Потом выкуриваю папиросу за папиросой. Женщина посматривает на меня искоса.
— А хочет пан бай-бай? В кроватку с Тосенькой? С холоду да к теплым ножкам? Хе-хе.
Смотрю на Зузю и вижу: два носа, глаз множество. Все это трясется, дрожит, колышется, будто резина или тесто.
Иду в другую комнату. За мной, с лампой в руке, шуршит шлепанцами Зузя.
— Тосенька, поздоровайся с паном Владиславом!
— Мамуся, глупость какая! — взвивается заспанная дивчина.
Я раздеваюсь. Так долго не спал! Зузя стягивает с меня сапоги. Потом ныряю всем телом в мягкую, теплую кровать. Зузя говорит чего-то, хихикает, уходит, унося лампу. В темноте Тося прижимается ко мне гладким горячим телом. «Случилось что-то очень важное! Очень! Очень! Очень! Но что, что?» — думаю засыпая.
И лечу в душную, горячую пропасть.
— Вставай! — слышу сквозь сон суровый голос.
Меня дергают за руку.
Открываю глаза — и слепну от света карманного фонаря. Когда глаза привыкают, вижу в комнате несколько полицейских. В руках у них револьверы.
Потихоньку прихожу в себя. Так, пистолет в боковом кармане куртки. А куртка где? Хотя нельзя мне драку учинять!
— Имя и фамилия? — спрашивает по-деловому тот же голос.
— Антоний Петровский.
Зузя хихикает.
— Ой, потешный какой пан Владя! Он, паны полицианты, не протрезвел еще! Погулял хлопец, хе-хе!
Гнусная тварь, так это она меня продала!
— Одевайся!
Вылезаю из постели, начинаю неторопливо одеваться. Я целиком на свету, но вовсе того не стесняюсь. Все равно мне.
— Позабавился, кавалер! — все тот же хриплый бас, будто издалека откуда-то.
Кто-то смеется, Зузя похабно хихикает.
Чувствую на запястьях обжигающе холодное железо наручников. Что-то очень важное случилось. Но что?
Выходим в сени. В спину мне глядят чуткие револьверные дула. Светят фонари.
— Я всегда в порядке, пане начальнику, — слышится позади шепот Зузи.
Идем по улицам. Ухмыляется месяц, лоскуты снега весело кружатся над землей. Минуем двоих мужчин с палками в руках. Ночная стража.
Отводят меня в комиссариат. Назавтра — допрос, протокол. Приводят на очную ставку Альфреда, Альфонса и Альбина Алинчуков.
— Знаешь его? — спрашивают Альфреда.
— А как же, — отвечает, злорадно усмехаясь, контрабандист.
— Он тебя подстрелил?
— Он. Вышел перед нами и стал стрелять. Ограбить хотел!
Братья Альфреда тут же его слова подтверждают. Не прерываю их. Пусть несут, чего хотят! Все это — глупость в сравнении с другим…
Потом расспрашивают меня. Я повторяю, что рассказал раньше. Все в точности, как произошло. Все мне вспоминается до мельчайших деталей. Но вижу ухмылки, вижу, как переглядываются понимающе. Тогда вообще перестаю отвечать на вопросы.
На четвертый день после ареста, в пятом часу вечера, выезжаем из Ракова до Ивенца, к следователю. Едем на санях. Я — на заднем сиденье, между двумя полициантами.
От рынка едем на Слободку. Минуем дом Трофидов. Я смотрю в их окна. Кажется, вижу за стеклом чье-то лицо. Может, Янинка?
Выезжаем на мост. Сколько раз проходил здесь один и с хлопцами. А теперь…
Постепенно смеркается. Мороз сильный. Наручники жгут запястья, прячу руки глубоко в рукавах. В воздухе крутятся мелкие лоскуты снега — движущееся, сверкающее кружево, и земля за ним необыкновенно празднична.
Сбоку дороги — деревья. На их колышущихся ветвях тяжелые сугробки. Вдоль тракта бегут вдаль телеграфные столбы. Я слышу монотонный, низкий, дрожащий гул в проводах.
Полицианты достают папиросы, закуривают. Угощают меня. Я отказываюсь.
— Не куришь? — спрашивает один.
— Курю, но свои.
— Разумно, — замечает другой.
Фурман погоняет, но кляча шлепает потихоньку, убыстряясь только тогда, когда слышит свист кнута.
С востока дует холодный, пронизывающий ветер. Колет левую щеку, ухо. Вынимаю руки из рукавов, кое-как поднимаю воротник.
Снег сыплется все реже. Наконец, прекращается вовсе. Проглядывают звезды. Месяц упрямо карабкается вверх. Важный такой, задумчивый, вовсе на меня не смотрит.
В голове моей проносится множество мыслей, вязких, бесформенных. Приходят, уходят, не задерживаясь. Мне все безразлично.
Полицианты болтают про какие-то прибавки на родине. Часто прерываются. Вдруг один спрашивает другого:
— Знаешь Сашку Веблина?
— Знаю. Брат той брюнетки. Как ее имя-то?
— Феля.
— Да, точно. И что с ним?
— Застрелили его на пограничье.
— И кто застрелил?
— Неизвестно. Живица говорил, что вез его из Рубежевичей до Ракова, под Вольмой кто-то стрелял по ним из лесу и попал в Сашку.
Принимаюсь слушать внимательно. Но делаю вид, как и раньше, что разговор меня вовсе не интересует.
— Может, счеты сводили?
— Черт их знает! Хотя любили все Сашку Веблина, мог и врагов иметь. А может, Живица приврал чего со стрельбой той. Он вчера мозги себе вышиб.
— Кто? Живица?
— Так.
— Чего это он?
— По пьяни взбрело в голову. Вчера похороны Веблина были, потом сестра поминки справила. Так он по случаю и напился, а вечером пошел домой, а на рынке возьми да и выпали себе из парабеллума в рот.
Услышав такое, я просто омертвел.
— Может, сам он в том убийстве замешан, а? Ну, Веблина? А теперь побоялся, что всплывет, и возьмутся за него…
— Может быть. Дело темное. Черт тут ногу сломит. Вон, этого тоже за стрельбу арестовали, — полициант кивнул в мою сторону.
Я понял, что второй полициант только что вернулся из отпуска и не знает местечковых новостей. Он меня за руку тронул и спрашивает:
— Э, пане… за что его пан подстрелил?
— Кого?
— Ну, того…
— Алинчука, — добавляет второй.
— Дрянь он.
Полицейские понимающе переглядываются: тот еще фрукт! Снова закуривают. «Живицы нету! — проносится в моей голове. — Застрелился!»
И вдруг так мне захотелось самому про все разузнать! Поверить не мог в то, что Живица себя убил. Что-то не так здесь… Может, еще есть какой Живица?
В ту минуту родилась во мне твердая решимость: должен я удрать и разузнать все, должен!
И вот я украдкой, но внимательно изучаю полициантов. Они уверены, что я не удеру. Сидят, расслабившись. Курят. Карабины держат промеж колен.
Соскочить с саней вбок не удастся — задержат. А если оттолкнуться ногами от саней да кувыркнуться назад? Так можно выскочить, и руки свободные не нужны. Вот только на голову бы не упасть…
Украдкой рассматриваю окрестный пейзаж. На выбоинах сани так подскакивают, что вывалиться — запросто. Полицианты ноги спрятали в сено, укрыли плащами. Прежде чем им удастся встать и выскочить из саней, я сумею подняться и кинуться наутек — не догонят. Одет я легко, бегаю быстро, и если первыми выстрелами не попадут — удеру легко.
— Далеко до Ивенца? — спрашивает один полициант другого.
— Три километра.
Нужно торопиться. Высматриваю подходящее место, выжидаю момент. Подтянул ноги, уперся крепко в дно саней. Вынул ладони из рукавов. Если б еще не наручники!
Полицианты снова закурили.
Сани медленно въезжают на макушку пригорка. В лунном свете вижу длинный крутой склон, дорогу вниз по нему. Слева — большое темное пятно придорожных кустов, за ним — открытое поле.
Бросаю последние взгляды вправо и влево: изучаю местность и свою стражу. Сани быстро скользят под гору. Вжимаемся спинами в низкий задник. И из всех сил качаюсь назад, отталкиваюсь ногами от дна саней.
Вылетаю, падаю на дорогу. Вскочил и побежал вверх, в гору, с которой только что мчались вниз сани. Оглянулся на бегу.
— Держи коня-я-я! Держ-и-и-и!
А сани еще несутся вниз.
— Тпру-у! — орет фурман.
А я бегу вверх по дороге. Оглядываюсь снова. Вижу издали бегущего вверх полицианта. Стал. Целится. Я кидаюсь влево, к кустам. Грохочет выстрел. Я выскакиваю в поле, бегу вдоль кустов.
Снова выстрел, потом несколько, один за другим. Стреляют наобум, меня не видя — я ведь тоже их не вижу.
Взбираюсь на гребень. Затем легко и быстро сбегаю вниз. Вовсе я не устал, только разогрелся быстрым движением. Оглянулся несколько раз. На снежной глади дороги и поля — никого.
Отбежал уже за километр от вершины пригорка, когда, оглянувшись, увидел в лунном свете взъезжающие на него сани. Но поблизости уже был лес. Я — туда. Пересек, вышел на другой стороне, пошел быстро полями. Снова лес. Пусть теперь ищут!
Снова лес и снова поле. Оглядываюсь вокруг — никого. В лунных лучах искрится белизной поле. Смотрю на звезды — пусть откроют мне путь. Большая Медведица указывает мне на запад. «Нет, любимая, нет. Моя дорога — на восток. На западе нет для меня места!»
Часть третья ПРИЗРАКИ ГРАНИЦЫ
Не ходи ты, милый, Не броди ночами По краю могилы Со смертью за плечами! Из песни контрабандистов1
Зима. Мороз. Солнце садится. Расстилает по небу разноцветные узорчатые ковры. Меняется поминутно, красок не жалеет. Удивительные они — роскошные, странные.
Стою без шапки на узкой, выезженной санями дороге. Начинаю замерзать, бегу заснеженным подворьем, захожу в большую теплую избу.
Скоро середина декабря. Я уже четвертую неделю живу на хуторе Доврильчуков, в трех километрах от границы, между Дужковым и Вольмой. До Ракова отсюда одиннадцать километров. Устроил меня Лорд. Доврильчуки были его далекими родственниками.
Хутор стоит на отшибе. До ближайшей деревни два километра. Других хуторов поблизости нет. Мелина верная. Много лет можно прятаться — никто не найдет.
Недалеко от хутора — большой лес. Одним крылом подходит к хутору, другим — тянется к границе и за нее, далеко на восток.
Доврильчуки — обеднелая до хлопского положения шляхта. У них двадцать пять десятин земли, немного леса. Живут в достатке. Денег не жалеют, заботятся о хорошей еде и одежде. С окрестными хлопами не панибратствуют. Живут одиноко и в удивительном согласии. На мелочи внимания не обращают. Спокойные, веселые. Работа у них спорится, и в доме всего хватает.
Главе семьи, Матею Доврильчуку, шестьдесят, но выглядит на десяток лет моложе. Здоровый он и сильный, в работе не уступает сыновьям. В молодости много поездил по миру, сметливый и разумный, хотя едва может подписаться. У него могучие плечи и спина. Ходит, чуть наклоняясь вперед. Глаза всегда блестят весело, на губах — легкая улыбка. Любит рассказывать подолгу, говорит хорошо, правильно, только нестройно — то про одно, то про другое. Чувствую, мешает ему то, что слишком много всего сразу передать хочется.
Жене его, Ганне, пятьдесят пять лет. Держится просто, очень работящая. Никогда не видел ее без работы. Разговаривает мало и неохотно.
У Доврильчуков три сына и четыре дочки. Сыновья — как дубы, а дочки — как молодые, ядреные липки. Все — здоровые, веселые, сильные, работящие. Про то, что бывают у человека нервы, и не слыхивали. Всегда спокойные, уравновешенные. Работают много и быстро. Слово родителей — святое. И сынов, и дочерей никогда не нужно понукать, улещивать, уговаривать и тем более грозить им или ругаться.
Семья вся набожная, держится старых, освященных традицией обычаев. Не раз во время трапезы наблюдал, как чинно и степенно усаживаются за стол. Сыновья и дочки похожи друг на друга. Рост, возраст и пол как-то не слишком их разнят. У всех — здоровые, свежие лица, густые темные волосы, у девчат заплетенные в толстые косы, карие глаза с голубоватым блеском в белках. Разве что в девичьих лицах нет той упорной крепости, какая у парней. Когда сижу за столом во время трапезы и смотрю на Доврильчуков, вспоминаются мне народные российские игрушки «Ваньки-встаньки». Это целое семейство выточенных из дерева фигурок, размером от десяти до двух сантиметров. Фигурки раскрашены одинаково и ничем, кроме размера, не отличаются. Обычно их семь. У них круглые лица, круглые головы и туловища. Ног нет. Если любую положить на бок, она тут же встает — у нее в основании олово. Потому и название — «Ваньки-встаньки».
Старшему сыну, Василю, тридцать лет. Средний, Игнат, на два года его моложе. Младшему, Симону, двадцать пять. Василь похож на медведя: кажется тяжелым, неуклюжим. На самом деле — очень быстрый и сильный. Игнат — стройнее, но тоже сложен атлетически. Симон худее братьев, более деликатного склада. Может, потому он любимец матери.
Сестер четверо: Кася, Алена, Магда и Настя. Похожи друг на друга и одеваются одинаково. Иногда я их с трудом различаю. Все крепкие, рослые, круглолицые, кареглазые, темноволосые.
Когда Лорд привел меня к Доврильчукам, сказал: они тоже промышляют контрабандой. Родня у них на советской стороне поблизости от границы. Время от времени носят к ним товар. Однако я долго у них был, и они не ходили за границу. Я спросил про то у Симона, с ним мне легче всего было разговаривать. Он сказал, что еще не время. Я скучал немного без работы и ожидал ее с нетерпением. Когда я пришел на хутор вместе с Лордом, тот со всеми поздоровался, а потом — после обеда — обратился к Матею, сказал, что важное дело к нему.
— Ну, дети, — сказал тогда Матей, — идите-ка посмотрите, все ли в порядке на хозяйстве.
Сыновья и дочки без промедления вышли из избы.
— Вот, деда, — сказал Лорд, — хочу попросить вас: приютите на зиму этого хлопца. Это мой друг. В местечке жить ему нельзя, полиция хочет его схватить… за контрабанду. У вас было бы ему безопасней всего.
— Пускай остается. Только у нас без всякого такого. Мы просто живем, по-хлопски.
— Он ко всему привык. Что вы едите, то и он есть будет. А когда хлопцы пойдут с товаром, пригодится он. Хорошо работу знает… Старый контрабандист…
— Пускай остается. Места у нас хватает, хлеба тоже. Полиция ко мне не ездит. Соседей тоже нету, не донесут…
Тогда я вмешался в их разговор.
— Я заплатить вам могу за содержание. У меня денег хватает.
И сразу понял, что бестактность сделал. Матей в глаза мне посмотрел и сказал, чуть улыбаясь:
— Я до денег не охоч. Есть они у меня, и больше могу их иметь, но не гонюсь за ними. Ты, хлопче, для себя их придержи. Молодой еще, пригодятся тебе!
— Простите. Не хотел вас обидеть!
— Да ничего. Меня не обидишь, я на обиду не скорый. Для доброго человека я и даром все сделаю, а злого, пусть он хоть весь из золота, и видеть не хочу!
Вечером Лорд распрощался и вместе с Василем пошел по дороге к местечку. Лорд обещал навещать меня время от времени сам или присылать Щура. И я пошел проводить их. Неожиданно для себя дошли мы аж до Душкова. Распрощался я там с Лордом, попросив навещать почаще, и побежал по дороге к хутору.
Назавтра вернулся Василь. Принес большой пакет для меня и письмо от Лорда. Пакет я отложил и принялся за письмо.
Привет, брат-безумец!
Знаю: нудно тебе одному у Доврильчуков, но ты потерпи. До весны, может, придумаем чего. Ты в местечко не приходи, снова тебя заложат. Сиди у Доврильчуков, мелина там крепкая. Если нужно чего, так Василя пошли.
Альфред «повстанцев» про тебя расспрашивает, но никто не знает, где ты. Вчера Анел у Гинты ему шкуру выдубил, Альфред у него Зоську Кальбовщанку отбил. Анел сейчас на него чертом взъелся. Говорит, шкуру с него сдерет. Бельку Альфред уже вокруг куста обвел, а теперь все насмехаются над ней, солдаткой называют.
Грустно тебе там, но и нам невесело. На работу не ходим. Хлопцы агранды устраивают и дерутся что день. Говорил я со Щуром. Он к тебе на неделе прийти обещал.
Накупил для тебя всяких всякостей. Платки бабам дай, а остальное — как захочешь.
Петрук Философ про тебя расспрашивал. Я ему сказал, что здоров ты и в месте хорошем. С Юлеком Чудилой плохо. Чахотка у него. Наверное, до весны не дотянет. Отмучается. Жалко хлопца.
А так — ничего нового. Если чего будет, напишу.
Ну, бывай здоровый.
Болек.В пакете было пять больших шерстяных женских платков, девять бутылок спирта, несколько килограммов конфет, английская трубка, табаку изрядно и папирос.
Отдал я один платок хозяйке, остальные — девчатам. Сначала брать не хотели. Младшая, Настя, говорит:
— Это как тату захочет!
На это Матей ответил:
— А ты захотела, чтоб я в бабском платке ходил?
Все рассмеялись, и девчата подарки приняли. Матею я преподнес на память трубку. Тот ее осмотрел.
— Старая трубка, как старая женка: верная и надежная, но и молоденькая часом ох как пригодится! — и подмигнул сынам.
Снова смех.
По вечеру, за едой, выпили две бутылки разведенного водой спирта. Все спокойно произошло, без шума и суматохи. Я угощал мужчин водкой, а девчат конфетами — от водки они отказались твердо.
Так вот я и начал свое бытье у Доврильчуков.
Через неделю, в воскресенье, навестил меня Щур. Я и не надеялся на то. Щур в избу зашел во время обеда. Принес с собой большой пакет. Положил на лавку у стены, снял шапку и заговорил, потираючи ладони:
— А я так спешил, так спешил! Думал себе: успею на обед или нет? Я с ложкой и миской работник первый! У меня так: кряхтя работай, ешь — отдувайся. До обеда проспали, встали да обедать стали, наелись, помолились да спать повалились.
Вижу усмешки на лицах: что за чудак такой? Щур со мной здоровается и с прочими, с хозяина начиная. Все, конечно, поняли, что Щур — коллега мой. Хозяин за стол пригласил. Щур сел рядом со мной и говорит:
— Такая у меня сноровка к еде, как ни у кого! Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лег. Что мне ни дай — все сожру. Пузом пуст до капуст, груба или нежна, но чтоб жирна!
Все улыбаются. Матей говорит дочке:
— Настя, принеси-ка для гостя миску с ложкой!
— Панна Настя! Вы только посмотрите да с ложечкой-мисочкой угодите, чтоб были как надо! У меня всегда так, хозяин: на наше трепало что б ни попало — все мнет! А капусту вашу я аж в Душкове учуял. Так бежал, что сапоги чуть не потерял!
Обычно у Доврильчуков во время еды было тихо. А теперь — необычное оживление, которое подпитывал только сам Щур. Ел и болтал, болтал и ел. Наклонялся влево-вправо, сверкал глазами, смеялся, шутил. Всех развеселил. Вижу: все лица радостные, веселые. И смех все громче. Смотрю на Щура — и не узнаю. Обычно такой неразговорчивый, въедливый, цепляется по поводу и без повода. Со мной добрый и внимательный, но на шутки скупой. А тут как подменили, так и плещет задором и жизнелюбием. Хочет развеселить и веселит, да еще как!
Была в доме балалайка, на ней хлопцы и девчата наигрывали время от времени, по вечерам обычно, когда вся семья собиралась и важнейшая работа по хозяйству уже была окончена. Щур балалайку настроил и начал играть. Хорошо играл. Все слушали удивленно. И не думали, что на такой бренчалке можно сыграть так хорошо. А Щур выдавал одну мелодию за другой. То, чего из балалайки выжать не мог, выказывал движениями рук и тела, мимикой. Начал, подыгрывая на балалайке, петь по-белорусски:
Девчинонько, сердце мое, Так приятно лицо твое, Да не так лицо, как ты самая, В документики вписанная!Щур, поглядывая сладостно на девчат, пел:
Как возле тебя — Так и мыслю: на небе я! А как тебя поцелую, Три дня в губе сахар чую!Девчата прыскали смехом, толкали друг дружку локтями. А Щур знай наяривает вдохновенно песенку за песенкой. Играет польки, вальсы, марши, импровизирует, наигрывает свое. И не думал я, что такой он артист. Развлекал нас целый день, а вечером собрался в дорогу.
Матей Щура пригласил: приходи, мол, когда время свободное выпадет. Я пошел Щура проводить. По дороге он рассказал мне местечковые новости. Остановились мы возле леса. Еще больше часа там разговаривали, курили. Щур мне подмигнул заговорщицки:
— Ладные у тебя там шмары! Сдобные девахи!
— Так, так…
— Ты б подвалил к которой — веселей будет.
— Да ни к месту как-то…
— Так ты сделай, чтоб к месту… Девки-то аж пищат. Прям огнем горят. Аж ногами стучат, а ты мух ловишь. Подумают: инвалид какой!
Распрощались мы. Щур пошел быстро дорогой к тракту, а я вернулся на хутор. Застал всех за столом. Долго еще разговаривали, смеялись, вспоминая шутки и рассказы Щура.
Один из братьев взял балалайку и принялся наигрывать. Но в его руках инструмент снова стал обычной бренчалкой.
Щуровы слова про девчат возбудили мой интерес. Начал внимательно и по-другому, чем раньше, рассматривать их. И чем дальше, тем больше мне они нравились. Красивые карие глаза у них, а белки проблескивают синевой. Оттеняют их густые длинные ресницы. Рты небольшие, красивой формы, розовые щеки, чудесные крепкие зубы. И фигуры, должно быть, роскошные. Смотрю все с большим интересом. И они это чувствуют. Начали кокетничать: хотят мне понравиться. Но как же они все-таки похожи друг на дружку! Даже разница лет незаметна.
Тем вечером поздно пошли мы спать.
Снились мне «Ваньки-встаньки». Были у них карие глаза с синеватыми белками. Кланялись смешно, шевелили щеками.
2
Незадолго до праздника Рождества Господня братья Доврильчуки стали готовиться к походу за границу. Матей с Василем привезли много товара из местечка — на несколько носок. Товар недорогой: мужские и женские свитера, шали, чулки, обувная кожа-хром и подошвенная. Но зарабатывали на таком товаре много: спрос на него в Советах был большой.
Упаковали товар и собрали пять носок. В дорогу собрались три брата, я и Кася. Ее брать не хотели, но она заупрямилась. Уже ведь не раз носила с братьями контрабанду. В конце концов, Матей ей разрешил. Осталось только дождаться погоды.
Через несколько дней начало слегка мести.
— Если снеговей до вечера не утихнет, пойдем сегодня, — сказал мне Василь.
— Точно не утихнет, — отвечаю ему.
В самом деле, метель не только не утихла, но усилилась. Незадолго до сумерек я выскочил за ворота, увидел мутную колыхающуюся тучу снега, прячущую все вокруг. Леса в двухстах шагах не было видно вовсе. Замерзнув, вернулся в избу. А там уже готовили для нас ужин.
За едой царил важный, почти праздничный настрой. За столом сидела вся семья. Выпили по рюмке водки на разогрев и на удачу. Потом засобирались в дорогу. Братья и Кася одели толстые суконные домашней выделки белые штаны, крашенные в белый цвет кожухи, на головы — шапки из отборного белого каракуля, какие носили солдаты царской армии зимой. Такие же кожух и шапку принес для меня из чулана Матей. Очень удобная была одежда — легкая, теплая и на снегу в ней незаметно.
Братья и Кася попрощались с остающейся дома родней. Я тоже решил попрощаться, вслед за ними. Пожал сильные ладони Матея, Ганны и их дочек.
— Дай Бог счастья! — говорили мне все.
За сараем вышли в поле и нырнули в снежную круговерть. Василь шел первым, за ним — Симон. Кася третья, за ней — я, Игнат замыкал. Я на ходу держал правую руку за пазухой, на рукоятке заряженного парабеллума. Его купил для меня Щур, мое оружие забрала полиция, когда арестовала у Калишанок. В левом кармане кожуха лежали пять запасных магазинов и фонарик.
Мы долго шли полем в нескольких десятках шагов от леса. Потом зашли в лес и пошли, петляя между высокими соснами. По поведению Василя — по особенной его осторожности — я заключил: граница близко. Шли теперь медленнее, останавливаясь время от времени.
Метель не унималась. Я едва видел идущую впереди меня Касю. Белизна кожуха и шапки сливалась с белизной снега, и впереди себя, внизу, я видел только темное мелькающее пятно девичьей юбки… На ногах у нас были длинные белые сапоги, их тоже нельзя было отличить от снежного фона.
Вышли из леса. Перед нами вьются клубы летящего снега. Стоим на краю приграничной просеки. Кася расстегивает кожух и заправляет юбку в белые штаны, одетые под ней. Теперь нас никак не разглядеть на снежном фоне. Когда стоим неподвижно, нас трудно разглядеть даже в упор.
Идем вперед. Теперь мне приходится держаться очень близко от идущей впереди дивчины. Сквозь метель тянутся неровные и, кажется, движущиеся нити — колючая проволока. Думаю: как же мы через них переберемся? Нет у нас ни матов, ни жердей, ни ножниц. Но Василь идет уверенно вперед, и вскоре изгородь кончается, мы оставляем ее по правую руку.
Заходим в лес по другую сторону границы. Метель усердно, торопливо заметает наши следы — две длинные глубокие борозды. Через час тут снова станет ровно и гладко.
В лесу тихо. Движемся, как призраки, без дороги, скользим меж огромными стволами, минуем снежные кучи кустов. Пробираемся через сугробы, валимся в укрытые снегом ложбины.
Снова выходим в поле. Я не различаю ничего вокруг. Только чувствую, вверх идем по склону или вниз. Наползает на меня сонливость. Одинаковость движений усыпляет, будто колыбельная. Уже автоматически, полусознательно, слежу за мелькающей впереди спиной дивчины. Отличаю ее лишь потому, что она — мерно подрагивающее белое пятно на неподвижном белом фоне. Среди пятна этого различается чуть более темный прямоугольник носки, все движущийся и движущийся вперед.
Воображению моему открываются разные образы, вижу множество людей. Говорю с ними и, не замечая того вовсе, бреду вперед.
Чувствую себя в полной безопасности. Идем очень осторожно, но ничем практически не рискуя. Укрывает нас метель, прячут белые одежды, проводник уверенный, местность знает досконально — проводит без сучка и задоринки, дело легкое. А если и случится что, так отскочил на пару шагов вбок — и навсегда сбил погоню со следа. К тому же в кармане у меня парабеллум — машина надежная, безотказная.
К полуночи подходим к большому сараю. Становимся в затишке под стеной. Где-то слева забрехал пес. Почуял нас, с наветренной стороны он. Братья переговариваются шепотом, Кася снимает носку с плеч, вытягивает юбку из штанов и идет вдоль стены сарая. Скрывается за углом. Возвращается минут через пятнадцать.
— Сказали в стодолу идти. У них спокойно. Дядя сейчас придет.
Обходим сарай и оказываемся перед большими воротами. Кася отмыкает принесенным ключом большой замок и медленно отодвигает засов. Заходим внутрь. Окутывает меня тишина, темнота, тепло. Скидываем носки с плеч. Братья остаются внизу, а я забираюсь на сеновал. Делаю в сухом ароматном сене глубокую нору и прячусь в нее. Закутываюсь в кожух. Мне мягко и тепло. Глаза слипаются. Слышу: заходит кто-то в сарай. Долго разговаривают вполголоса. Затем двери сарая замыкаются снова. Братья тоже залазят на сеновал и принимаются укладываться. Однако нор не делают. Василь устраивается неподалеку от меня.
— А где Кася? — спрашиваю.
— В хату спать пошла.
— Это хутор?
— Нет, деревня. Двадцать три двора.
— Как бы не засыпали нас.
— Да что ты говоришь такое? Народ верный… Да и не знает никто, что мы пришли.
Удовлетворяюсь таким объяснением и вскоре засыпаю.
Просыпаюсь поздно. Братья уже проснулись и разговаривали тихонько, сидя на сене. Через час пришел высокий крепкий мужик в длинном желтом кожухе. Видом напомнил мне Матея — важный, степенный, рассудительный, говорит раздумчиво. Часто повторяет: «И вот, к примеру, расскажу вам». Зовут Андреем. Рассказывает нам много всяких известий и вещей, мне безразличных, но Доврильчуков очень интересующих.
Вскоре приходит Кася. У нее в руках большая корзина, плотно прикрытая рядном. Медленно взбирается по лестнице, держа корзину в руке. Я подхожу к краю, забираю у нее корзину.
— Добрый день, Кася! — говорю ей.
Она улыбается радостно, отвечает:
— И вам доброго дня!
Ставлю корзину на сеновале рядом с Василем, быстро иду назад, чтобы помочь Касе взобраться. Беру ее за руку. Дивчина спрыгивает с лестницы на сено и чуть не падает. Подхватываю ее, стискиваю, несу. Дивчина краснеет.
— Ах, какая я… неуклюжая!
— Это я виноват. Помешал Касе!
Она глянула на меня ладными карими глазами, улыбнулась.
Завтракаем: яичница, жареное сало, блины. Василь вынимает из карманов кожуха две бутылки водки. Пьем по очереди — стакан один. Вдруг дядя Андрей кивает в мою сторону и, показавши ладонью на Касю, говорит:
— А это, к примеру, нареченный ее?
Дивчина краснеет, опускает глаза. Братья смеются.
— Нет, гость это наш, — говорит Василь.
Стрый размышляет над Василевыми словами и заключает:
— Гость, гость… Вечером, может, и гость, а наутро, к примеру, швагер. Га?
Братья смеются. Я тоже смеюсь, пытаясь скрыть смущение.
— А почему, к примеру, замуж не идешь? — спрашивает Андрей у Каси. — Глянь, выросла как. Сгоришь, девка! Кровь тебя сожжет!
— А чего ей по чужим идти беды искать? — встревает Василь. — В доме хлеба и работы на всех хватает. Мы ее не неволим. Сваты приезжали не раз — отказывала.
Затем дядя Андрей собирается уходить. Нужно ему отвезти товар в местечко неподалеку, где купец издавна принимает от него контрабанду. Не все время этим промышляет, только по случаю. Кася выходит вместе с дядей.
Вечером дядя Андрей с Касей снова приходят в сарай. Дивчина приносит корзину с едой, а у дяди на плечах большой мешок. Залазит с ним на сеновал.
Долго ужинаем. Выпиваем две бутылки самогона, принесенного Андреем. Затем братья и Андрей подсчитывают стоимость принесенного нами товара. Длится это долго. Наконец, подсчет окончен. Андрей вынимает из мешка восемьдесят пять лисьих шкурок и отдает Василю. Затем вручает ему несколько десятков золотых монет. И говорит:
— У нас, на такой пример, все по-божески. Мы ж кровные. И вы заработаете, и мне накапает. Проживем как-нибудь! Только б здоровье.
Собираемся в дорогу. Братья пакуют шкурки в две носки, их берут Василь и Игнатий. Я протестую. Говорю, что товар все нести должны, кроме Каси.
— Тут и двоим нести нечего! — отвечает Василь.
Потом выходим из сарая. Стрый прощается со всеми по очереди и советует Касе:
— Ты бы, девка, не ходила за границу, а еще, на такой пример, в штанах! Не по-божески то!
— Зато удобно! — говорит весело Симон.
Отправляемся в обратный путь.
Назавтра подошел ко мне Василь и спросил:
— Чего за дорогу хочешь — две шкурки или двадцать пять рублей?
— Ничего не хочу. Пусть вам остается… за мое содержание.
Василь запротестовал энергично, и мне пришлось взять двадцать пять рублей.
Перед праздниками успели еще раз сходить за границу. Кася на этот раз осталась дома. Может, застыдили ее слова стрыя Андрея. А может, решила сестрам помочь — много тогда работы было по хозяйству.
Вернулись счастливо из-за границы, и я снова получил от Василя двадцать пять рублей. Назавтра Матей, Ганна и Василь поехали в местечко на последнюю предпраздничную ярмарку. Я дал Василю список вещей, которые для меня купить нужно, и письмо к Лорду. Когда они выехали, я принялся помогать с работой Симону и Игнатию. Они отпиливали толстые чурбаки, я рубил их. Потом побежал на черную половину хаты и навязался помогать Насте, ткавшей на кроснах большое узорчатое рядно. Я больше мешал ей, чем помогал, и получил за то кулаком в бок. Затем приладился к Касе, пекшей драники. Некоторое время мы работали вместе на удивление согласно. Она пекла и кидала драники в большую мису, а я их подъедал горяченькими. Но когда Кася заметила, что в миске драников не прибывает, согласию пришел конец. Пришлось отступить от мисы под угрозой здоровенной деревянной ложки, которой Кася наливала тесто на сковородку. Тогда подкатился я к Магде, которая, сверкая мускулистыми руками среди облаков пара, стирала белье в тазу. Пользуясь теми облаками как дымовой завесой, хотел я попробовать, твердые ли те мускулы. Проба чуть не окончилась для меня фатально. Магда как хряснет по спине крепко скрученным жгутом белья! Пришлось мне ретироваться поскорее, пока доказательство силы не стало чрезмерным. В конце концов, подкатил я к Алене, шуровавшей на чистой половине дома стол, лавки и пол песком с горячей водой. Пару раз учинил ей столкновения, когда она убирала тряпкой воду с пола. На третий раз пришлось мне уносить ноги. Она замахнулась на меня целым тазом воды, и если бы не увернулся, вымок бы целиком. Пришлось возвращаться к Симону с Игнатием, напилившим уже целую гору дров. Взял тогда топор в руки и принялся за работу.
Я теперь у Доврильчуков чувствовал себя членом семьи. Подружился и с хлопцами, и с девчатами, они меня вовсе теперь не стеснялись. Вместе работаем, вместе едим, вместе свободное время проводим. Старый Матей любит рассказывать мне разные истории из своей жизни, очень бурной в молодости. Интересно рассказывает, живо, люблю его слушать. Он курит трубку, я курю папиросы, и часто много часов проводим вместе.
На третий день после первого возвращения из-за границы лег я вечером спать. Для меня на ночь клали на две составленные вместе лавки большой сенник. Под голову клали огромную подушку, накрывался я ватным одеялом, верх которого был сшит из разноцветных лоскутов. Дивчины спят в двух кроватях за перегородкой, а хлопцы — на больших полатях за печью. Кровать хозяина с хозяйкой — на другом конце избы, за перегородкой, отгораживающей что-то вроде маленькой комнатки.
В тот вечер долго мне не спалось. Брал с подоконника сигареты, курил. Думал про всякое. Из-за печи раздавался могучий храп братьев. Сперва мешал мне спать, но потом я привык… Так два часа уже минуло, а я все уснуть не мог. Встал с постели своей и пошел в угол, где на низком табурете стояла большая кадка с хлебным квасом. Напился, вернулся к постели. Спать не хотелось вовсе. Охотней бы погулять пошел или с товаром за границу.
Вдруг из-за перегородки послышался девичий шепоток. Часто я слышал, как они разговаривали и шептались, но никогда — чтобы так тихо и так поздно. Потом все стихло. И я услышал легкий шорох босых ног. Глянул в сторону перегородки, но ничего увидеть не смог. Темень кромешная, ставни задвинуты. Шаги приблизились к моей постели. Стихли. Слышу шорох ладони по полке надо мной. Ищет там что-то? Долго ищет, не находит. Думаю, а может то предлог? Спрашиваю очень тихо: «Ты кто?» Никакого ответа, только ладонь шуршит по полке. Тогда сажусь на постели и вытягиваю руки в направлении шума. И касаюсь девичьего тела в грубой льняной рубашке. Кажется, она хочет отпрянуть — я обнимаю ее крепко, тяну вниз, усаживаю на постель. Начинаю целовать. Хочу сказать, но она поспешно кладет мне ладонь на губы. Тогда молча валю ее на постель.
Через час дивчина хочет уйти. Пробую задержать, но она решительно отстраняет от себя мои руки и уходит тихонько за перегородку. Я лежу тихо. Через пару минут слышу за перегородкой шепоток и, как мне кажется, смех.
Назавтра чувствую себя неловко. За едой сидим, как обычно: хозяин с хозяйкой в красном углу, я рядом с братьями, сестры напротив нас. Как обычно, во время еды все молчат. Все едят неторопливо. Я поминутно поглядываю на девчат. Время от времени ловлю на себе их взгляды, такие, как обычно. Но не замечаю никаких перемен в их поведении. Гляжу на свежие лица, темноволосые головы, на косы, спадающие по плечам, на красивые карие глаза и думаю: которая?.. И днем в отношении ко мне — никаких перемен.
День прошел в работе. Вечером отправляемся отдыхать. Лампа гаснет, избу окутывает мрак. Я жадно ловлю каждый шорох, каждый звук… Ничего. Только разносится храп братьев. В глубине избы слышен кашель Матея. Закуриваю папиросу. Кручусь с бока на бок в постели. Когда совсем уже потерял надежду, что дивчина ко мне придет, и засыпать начал, из-за перегородки послышался шепот и через минуту — легкая поступь босых ног. Когда, чуть позже, дивчина уже лежала в постели, начал я ощупывать ладонями ее лоб, щеки, губы, подбородок, нос, уши. Она не мешала мне. Думала, наверное, что ласкаю так. А я старался запомнить ее лицо. Но ничего то мне не дало. У всех сестер лица были похожие. Я хотел, чтоб отозвалась, чтоб по голосу ее узнать, но она упорно молчала, не выдала себя ни словом. А когда начал шептать ей на ухо, поспешно закрыла мне ладонью рот.
Назавтра снова внимательно наблюдал за девчатами, но ничего с того не вызнал. Так повторялось несколько ночей подряд. Однажды я с вечера спрятал под подушку фонарик. Хотел, когда дивчина со мной будет, осветить ее лицо. Уже и руку под подушку засунул. Но она, очевидно, угадала мой замысел, потому что быстро вынула фонарик из моей руки и, привстав на постели, положила на полку. И с тех пор, когда приходила ночью, прежде всего убеждалась, что у меня нет с собой фонаря. Наконец, я и пробовать перестал. Боялся, что приходить перестанет… Подумавши, решил вовсе прекратить попытки свои узнать, кто из сестер ко мне по ночам приходит. Конечно, мог бы ее осветить, когда она к постели подходит, или карандашом химическим знак ей на шее поставить, который она бы не заметила, а я бы поутру приметил. Но если уж ей так важно, чтобы я не узнал ее, так я и пробовать не буду.
О ночных визитах еще одна сестра должна знать. Когда возвращается, часто тихо разговаривают за перегородкой. Наверное, думают, что я того не слышу.
Как и раньше, заигрываю с девчатами, как и раньше, получаю от всех без исключения то кулаком, то ладошкой и, как и раньше, продолжаются ночные визиты моей таинственной молчаливой любовницы.
А в доме вовсю предпраздничная работа, вовсе не оставляющая нам свободного времени. Я теперь работаю наравне со всеми. Это скрашивает дни и аппетит нагуливает (как Щур говорит). И каждый день наполнен ожиданием вечера и моей удивительной любимой. Теперь веселей мне, реже вспоминаю местечко и хлопцев. Все реже скучаю по работе контрабандистов, реже вспоминаю Фелю, чей образ потихоньку тускнеет в моей памяти. Думаю про нее уже не как про настоящую, живую женщину, а как про выдуманную, воображаемую или вычитанную в какой-нибудь книжке, красивую, но не взаправдашнюю. Сперва часто думал про Сашку и Живицу, но теперь стараюсь гнать прочь мысли о них, потому что чувствую: плохо мне от того. Тогда тянет меня уйти в лес, где небо искрится звездами, где владычит Большая Медведица.
3
Пришел праздник Рождества. Сочельник отметили торжественно, по старой традиции — с сеном под скатертью, кутьей в красном углу, с двенадцатью постными блюдами. Все было вкусно, всего следовало по чуть-чуть попробовать, и так я к вечеру напробовался, что чуть из-за стола вылез. Той ночью дивчина ко мне не пришла, хотя за перегородкой долго слышался шепот. Может, помешало что или на праздник не хотела таким заниматься.
Назавтра все, кроме меня и Симона, сильно продрогшего и простывшего в предпраздничной бане и теперь лечившегося на печи, поехали на службу, но не в парафиальный костел в Вольме, а в Раков. Вернулись во втором часу пополудни. Рассказали мне много новостей и передали приветы от Щура с Лордом, пообещавших назавтра же меня навестить.
Вечером выставили на стол обильное угощение. Водки не жалели, все изрядно подпили, даже дивчины. Сидя рядком на лавке, грызли орехи и болтали весело со мной и родней. Водка разрумянила им щеки, придала блеск глазам, рождала взрывы смеха. Я взял балалайку, начал играть. Был пьяный от водки и от брошенных украдкой девичьих взглядов. Привыкли уж ко мне девчата. А потом, когда погасла лампа, ждал с нетерпением, когда же придет любимая. Жаль, что не мог сам к ней пойти! Не ждал бы тогда так долго…
Все долго не могут успокоиться. Братья разговаривают на полатях. Время от времени отзывается им с печи больной Симон. В другом углу избы, за перегородкой, кашляет Матей. А девчата долго тихонько переговариваются. Слышу их веселый смех, вскрики. Наконец, все успокаиваются. Братья храпят, Матей перестает кашлять, умолкают девчата. Но через час снова слышу шепот. Потом различаю поступь босых ног… Крепко обнимаю, тяну к себе горячее, крепкое, пышное девичье тело. Целую взахлеб шею, губы, лицо…
— Какая ты чудесная! Красивая! — шепчу на ухо.
Она кладет мне ладонь на губы и, кажется, тихонько смеется. Потом с неожиданной страстью и силой отвечает на мои ласки.
Назавтра в десятом часу утра пришли Лорд со Щуром. Рассказали множество новостей, принесли два пакета со множеством вкусностей для нас всех. И оживление с собой принесли.
Лорд поздоровался со всеми, начиная от старших. А Щур для всех сочинил веселые пожелания. Здороваясь с девчатами, делал вид, что целует им руки, на самом деле касаясь губами своей же ладони. Одной желал веселого сна, второй — красивого храпа, третьей — легкого пыхтения, четвертой — крепкого чиха.
Девчата улыбались и иногда достойно отвечали на Щуровы подначки. Нарядились сестры очень старательно: в новые цветастые платья, вышитые станики,[9] ботики на высоких каблуках, белые чулки. В косы вплели цветные ленты, на шеях — множество бус. Пахло от девчат духами и помадами. Щур к Насте подошел, носом потянул, чихнул и сказал:
— Вот бы женушку такую… и табаку не надо!
Лорд говорил с Матеем и братьями, а потом присоединился к нам, принялся развлекать девчат разговором и шутками. Вдруг Щур к Касе подошел да и ущипнул ее за бедро.
— А почем панна Кася за товар платила?
Получил в ответ такой толчок, что аж на середину избы вылетел.
— Умно! — заметил Лорд.
Щур делает испуганное лицо и объявляет:
— Когда бы своими глазами не видел, что это деликатная ручка пани Каси меня так отдарила, так поклялся б: конь меня лягнул. Ну, ну! Есть у панны сила в руках. Интересно, а в ногах как?
— И в ногах панны Каси всего хватает! Хочешь убедиться? — спросил Лорд.
— Рисковать не хочу, — ответил Щур, отступая.
После обеда берем трое санок и едем на ближнюю гору.
Начинаем кататься. А мороз сильный. Снег сверкает на солнце, хрустит под ногами. Санки резво мчатся с горы. Ветер свистит в ушах. Временами санки переворачиваются и мы летим в сугробы.
У девчат одни санки на всех. Съезжают по двое, по трое. Пару раз старались мы догнать их — да не получилось. И однажды, когда девчата уже уселись и приготовились ехать, Щур изловчился и втиснулся между Аленой и Магдой. Девчата напихали ему снега за шиворот и вывернули санки в снег. Пришлось Щуру спасаться бегством.
Забава длилась до вечера. И в какой-то момент, когда Кася уже решила съехать вниз, я выдернул из-под нее санки и попытался съехать сам. Кася стала их отбирать. Начали мы бороться за санки, вначале шутя, а потом и всерьез. Все нас обступили, подзадоривая.
— Но, но… не сдавайся, Кася! — кричал Лорд.
— Смотри, Владку, чтобы тебя вниз не спустила! — вторил Щур.
А мы боремся упорно, но безрезультатно. Кася была сильнее и намного тяжелее меня. Я ловчее был, но она сумела пару раз уйти от моих захватов. Наконец, рухнули оба в сугроб, а зрители грохнули смехом. Я вскочил и понесся к санкам, за которые боролись. Шлепнулся на них, поехал. А Кася сумела, в последний миг, вскочить на санки сзади. Мчимся по склону. Ветер студит разгоряченные лица.
— Кася, это ты? — спрашиваю.
— Чего?
— Не знаешь, чего?
Лицо ее раскрасневшееся. Глаза смеются.
— Не знаю…
Больше и не расспрашиваю. Боюсь ошибиться.
Уже мы внизу. За нами съезжают Лорд, Василь и Щур, за ними — Алена, Магда и Настя.
Веселые, поздним вечером возвращаемся домой. Смех не умолкает. Щур подходит ко мне, щупает за бока.
— Чего ты? — спрашиваю.
— Проверяю, целы ли кости. С Касей, брате, шутки плохи…
На столе — обильное праздничное угощение. Едим жадно, много. И водки хватает. А после еды — снова забава.
Щур играет на балалайке, поет:
Заложи-ка пару коней И пояс широкий! Мы поедем на залеты До панны Сороки!Затем Щур попросил, чтоб я сыграл вальс. Беру балалайку и играю. Щур с комичным изяществом обходит девчат, приглашая на танец. Но никто из девчат вальс танцевать не умеет. Тогда Щур танцует с Лордом. Извивается забавно, корчит рожи. Все смеются. Потом играю для них польку, те танцуют еще смешнее. Веселье полное. В конце концов, Щур приносит метлу из сеней и танцует с нею. Сперва обращается со своей дамой с большой галантностью, когда же полька убыстряется, оба митусятся, как сумасшедшие. Изба поминутно взрывается смехом.
Матей говорит Щуру:
— Может, хлопче, «Лявониху» сыграешь?
Щур хлопает себя ладонью по лбу — дескать, как же это я забыл? — и берет балалайку. И по избе разносятся веселые, задорные звуки. Лорд приглашает Алену, я танцую с Магдой, Кася и Настя танцуют с братьями. Несколько пар выходит.
Потом Щур играет «Метелицу» — еще один белорусский народный танец. Темп сейчас куда скорее, изба крутится перед моими глазами. Цветастые платья девчат мелькают в воздухе. Как проняло нас веселой, бесшабашной «Метелицей»! Глаза горят, лица пылают, ноги чуть поспевают за бешеным темпом танца. Щур с Лордом ухают, выкрикивают. Всех танец раззадорил. Даже Щур пританцовывает на месте, наигрывает со все большим азартом. Всех нас окутала «Метелица», кружит, вихрит, вертит, как настоящая снежная метель.
Долго длилась забава. Только поздно ночью, наконец, отправились отдыхать. Щур с Лордом остались у нас на ночь. Устроили гостям широкую, просторную постель на двух сдвинутых лавках.
Нескоро настала тишина в избе. Долго слышались со всех сторон разговоры и смех. Моя любимая этой ночью не пришла. Наверное, боялась выдать себя перед моими коллегами.
Утром после завтрака Лорд со Щуром отправились обратно. Доврильчуки уговаривали, чтоб еще день погостили, но хлопцы сказали, что возвращаться им надо прямо сейчас, чтоб в дорогу собираться.
Пошел я их проводить. Узнал много новостей. Юрлин перестал ходить за границу. Хорошо заработал в золотом сезоне и не захотел больше рисковать. Ждет лучших времен. Лорд занял его место и как машинист водил группы на пункт Юрлина. Перед праздником вернулся в местечко Гвоздь, положивший в Советах свою группу осенью 1922-го года. Сбежал из ссылки — больной, исхудалый, едва живой. Анел попался польской страже, сидит теперь в тюрьме в Новогрудке. «Диких» водит теперь Шум. Группа «диких» уменьшилась, теперь их от десятка до пятнадцати ходит. В начале зимы сделали Кентавру две агранды, но потом несколько раз сходили чисто. Братья Алинчуки в дорогу не ходят: боятся чего-то. Петрук Философ хочет отослать Юлека Чудилу в госпиталь. Может, там вылечат. Хлопцы скинулись и собрали для Юлека четыреста рублей. Я, про то узнав, написал Петруку записку, чтоб из тех тысячи двухсот долларов, что я ему оставил, сотню выделил на лечение Юлека, а если надо больше, то пусть мне напишет. Болек Комета пьет, как и раньше. Мамут, Элегант и Фелек Маруда ходят за границу с группой Лорда. И Ванька Большевик тоже. Щур сказал: Юрлин якобы потому работу прервал, что жену свою подозревать начал в шашнях с Ванькой. В дороге много бывало возможностей снюхаться, они их никогда не упускали. Белька со своей бабской группой (дырявой, как Лорд сказал) тоже хорошо заработала в золотой сезон и тоже теперь на работу не ходит.
Коллеги рассказали еще много нового про границу, про «повстанцев», про жизнь в местечке, но ни словом не обмолвились про Фелю. В конце концов, я спросил про нее У Лорда.
— У Фели теперь живет родственница из-под Дубровы, — ответил тот. — Альфред снова присылал к Феле сватов и снова съел арбуза. Феля теперь — панна с приданым. Только деньгами у нее тридцать тысяч долларов. Перед ней все расстилаются, а она носом крутит. Наверное, королевича ждет!
Проводил я хлопцев почти до Душкова. Когда прощались, Лорд спросил:
— Ну, привык немного? Не обижают тебя?
— Чего обижаться-то? — ответил за меня Щур. — Жратвы да питва хоть отбавляй, а шмары — как лани! Мертвого подымут!
— Да что мне они, — отвечаю с деланным безразличием. — А веселья особого там нету. Вот, вы повеселили немного. Сижу там, потому что приходится!
— Ну, не надо! — заметил Лорд. — Сиди пока крепко на мелине, а весной что-нибудь придумаем. В местечке нельзя жить… Заложат по новой. Альфред, как пес, везде рыщет. Хоть чего проведает — сразу в полицию полетит.
Коллеги пошли дорогой в Душков, а я вернулся к Доврильчукам. Сейчас там после ухода Лорда со Щуром стало тихо.
Праздники миновали, наступил Новый год. Я по-прежнему у Доврильчуков. Помогаю им в работе и скучаю все больше. Несколько раз спрашивал у Василя, когда за границу пойдем. Он отвечает: спешить некуда.
Вечером на Крещение девчата взялись гадать. Растопили на огне олово и по очереди лили в воду. Горячий металл в воде застывал причудливыми комьями. Слитки девчата внимательно рассматривали и обсуждали. И я к ним присоседился, хоть они и неохотно меня терпели. Позволили мне вылить немного олова в воду, а я взял да все вылил, за что и получил тумаков. Вынули из миски застывший металл. Принялись рассматривать. Настя прыснула смехом:
— Это же медведица!
— Что? — спрашиваю, удивленный.
— Так, да, — подтвердили Настины слова девчата. — Несет что-то в лапах. Наверное, в этом году женишься на медведице. Сам себе такую нареченную нагадал!
— А сватом волк будет! — сообщила Магда.
— А венчать будет лис! — добавила Кася.
Потом девчата жгли бумагу и по огари гадали о будущем. Затем сыпали на полотно мак. Позже поставили две свечи перед зеркалом и смотрели в темную даль коридора, идущего далеко в глубь зеркала, с двумя рядами горящих свечей по бокам. Этим занимались на черной половине дома, и каждая — отдельно. Все девчата видели что-то необычное и подробно про то рассказывали. И я тоже пошел, в конце концов, к зеркалу. Сел перед ним и долго смотрел, не двигаясь, стараясь не моргать, в глубь того таинственного коридора. Долго ничего не видел, но потом издали показалось маленькое золотистое пятнышко. Побелело. Стало приближаться быстро, расти… Вдруг увидел я перед собой лицо Фели — веселое, смеющееся… И вот — бледнеет, на лбу — глубокая алая морщина. Вижу затем — не Фелино это лицо, а бледный, холодный лик ее брата. И как молния промелькнула — неустанно меняются цветные штрихи. Лицо отступает, расплывается в темной глубине, от которой не отрываю взгляда, и вот: вижу перед собой бледное лицо со странным задумчивым выражением. Черные брови, глаза… Где я видел это лицо? Это же женское лицо! Думаю, думаю… Ага, так это же лицо призрака, пришедшего ко мне на Капитанской могиле, когда я лежал в горячке, удравши с Советов!
И это лицо пропадает. А на его месте вырисовывается отчетливо мужское — гадкое, гнусное. Рыжая борода, шрам на левой щеке, злые глаза, презрительная ухмылка… Агент Макаров. Вскакиваю — и все пропадает. Гашу свечи. Изба тонет в сумраке, по углам сгущаются тени.
Иду поспешно на чистую половину дома. Девчата встречают меня взглядами.
— Чего бледный такой? Что тебе привиделось? — спрашивает Кася.
— Замерз я, — отвечаю, потирая руки.
— Не… увидел ты чего-то! — упрямится Кася. — Скажи что?
Тогда говорю Касе важно:
— Сперва тебя увидел. Потом ее! — показываю на Алену. — Потом ее! — поворачиваюсь к Магде. — И ее следом! — показываю на Настю.
Магда прыскает со смеху.
— А напоследок увидел медведицу, — сообщаю им. — Большую… Большую Медведицу.
Девчата покатываются со смеху.
— В этом году судьба тебе пожениться с медведицей! — говорит Кася.
— С большой медведицей! — добавляет Настя.
4
В январе ходили за границу только раз. Да и погода была для работы не ахти. А в феврале братья прикупили по случаю, с помощью Лорда, большую партию товара. Наверное, товар этот с агранды происходил. Много там было батиста, сукна, платочков, рукавичек, подвязок и чулок. А купивши, принялись дожидаться подходящей погоды (верней, непогоды). Товар поделили на двенадцать носок — на три похода за границу.
Наконец, в середине февраля поднялась большая метель. Пользуясь ею, вышли вечером в дорогу. Добрались счастливо до мелины, на следующую ночь вернулись, неся много лисьих шкурок и несколько сотен рублей золотом. Через два дня переправили следующую партию товара. Когда вернулись, начало распогоживаться, но, несмотря на то, перепаковали остатки товара в четыре больших носки, почти по семьдесят фунтов каждая, днем отдохнули и тем же вечером двинулись за границу снова, пока метель вовсе не унялась.
Ночь выдалась ясная. Полный месяц то прятался за облака, то выплывал на открытый простор неба. Ветер был переменчивый, часто задувал с разных сторон. Временами набирал силу, вскидывал вверх целые тучи снега, временами пропадал где-то вдали, и снег снова укрывал поля мягким, лоснящимся, пушистым бархатом.
Дорога была трудной. Брели медленно вперед, с трудом перебираясь через преграды. Василь вел нас большей частью лесами. Опять мы пошли новой дорогой. За час едва сумели добраться до границы. В том месте не было изгороди. Мы быстро перешли границу и укрылись в зарослях на советской стороне. Вскоре выбрались из лесу, пошли дальше полями. Местность была неровная, овражистая. Шли большей частью по ложбинам и низинам, кое-где поросшим кустами. Через два часа пути выбрались на равнину и увидели перед собой большой лес. Дальше дорога была практически безопасной, и, идя лесом, мы добрались до мелины.
Стрый Андрей сказал нам:
— Плохо вы, хлопцы, на такой пример, делаете! Видно же, днем метель унялась.
— Да ничего, мы управимся, — ответил Игнатий.
— Дело ваше. Только смотрите!
Днем уладили все с товаром. Хозяин мелины дал Василю несколько сотен рублей золотом, несколько десятков лисьих шкурок. А вечером двинулись мы обратно.
Местность выглядела, как разглаженный бумажный лист, освещенный электрической лампой. Ни одно движение в поле не могло укрыться от людских глаз. Хорошо хоть, была на нас белая одежда, потому заметить нас можно было лишь вблизи.
Без носок шлось легко, вперед, на запад, продвигались быстро. Я заметил, что возвращаемся той дорогой, по которой шли в первый раз с братьями и Касей. Понял, что Василь собирается обойти изгородь с севера.
Миновали лес, выходим в поле. Снова лес, снова поле… Наконец, оказались в леске, прилегающем к пограничной просеке. Лесок тот казался на белой глади поля длинным темным островом, плывущим в море лунного света. Перебежали мы на другую его сторону, спрятались в густых кустах. За сотню шагов от нас, слева, виднелась уходящая вдаль изгородь. Справа простиралась широкое свободное пространство между краем просеки и темной кучей кустов. По другую сторону границы плыла в лунных лучах темная, понурая туча леса. Там — Польша.
Долго стояли, внимательно рассматривая окрестности. Но не заметили ничего подозрительного.
Василь уверенно пошел вперед. Мы — за ним. В правой руке, втянутой в рукав кожуха, я сжимаю заряженный, наизготове парабеллум. В левой руке — запасной магазин. Движемся на просвет между изгородью и кустами. Показалось мне, что в кустах тех что-то шевелится, но я не был уверен: может, почудилось? А Василь размашисто шагал вперед.
Уже и граница близко. Вдруг раздались выстрелы, и из тех кустов выбежали красноармейцы с карабинами в руках. Заслонили нам дорогу к границе.
— Стой! Руки вверх! — разнесся крик.
Мы кинулись назад. На открытой приграничной просеке нас быстро бы догнали и перестреляли всех. Я это понял и, как только послышались выстрелы и выбежали красноармейцы, сам начал стрелять по ним. Выстрелил девять раз и побежал вслед за братьями к лесу. Бежал, низко склонившись, кидаясь из стороны в сторону, чтоб трудней было в меня попасть.
Несколько секунд висела тишина. Потом солдаты, от моих выстрелов поспешно отступившие к кустам, снова начали стрелять. Мы вбежали в лес. Я оглянулся. Солдаты шли по нашим следам. Братья убегали по лесу. Я спрятался за толстой упавшей березой. Свистели пули. Солдаты бежали толпой. Некоторые, чуть задержавшись, палили в лес наобум, «на страх врагам». Я слышал их крики: «Товарищи, вперед! Брать их!»
Были уверены, что мы удираем лесом без оглядки. Уверенность ту подкреплял шум и треск от удирающих Доврильчуков, уже приблизившихся к другому краю леска.
Когда солдаты приблизились шагов на тридцать, я начал стрелять, целясь в середину их группы. Некоторые залегли на снегу, другие — принялись отходить к границе. Тогда я поспешил по следам за Доврильчуками. Старался не шуметь, чтобы солдаты не догадались про мой отход из засады.
Быстро перебрался на другую сторону леса и увидел за несколько сотен шагов от себя три фигуры. Братья Доврильчуки торопились к другому лесу, в трех километрах от этого. Хоть и в белой одежде, но были отчетливо видны на фоне снега. Я мог по силуэтам узнать каждого.
Я побежал за ними. Доврильчуки уже осилили полдороги. Догнал их, дальше убегали вместе. Далеко позади, от границы, раздались выстрелы из карабинов. Я заметил темные пятна на снегу. Наклонился над ними — это кровь. Я побежал, поравнялся с Симоном, который шел последним.
— Кто ранен? — спрашиваю.
— Игнатий… в руку попали.
Когда преодолели две трети расстояния до леса, снова послышались выстрелы — уже ближе, отчетливее. Я оглянулся и увидел выбегающих из-за северного края леска солдат. Не рискуя снова заходить в него, они обошли кругом и увидели нас, удирающих полями. Погнались, стреляя время от времени. Но расстояние было большое: попасть по нам было трудно.
Мы приблизились к лесу. Я шел быстрым шагом рядом с Симоном.
— Откуда их столько? — спросил, имея в виду наших преследователей. Я их насчитал не меньше десятка.
— Там караульня близко, — ответил Симон.
Зашли мы в лес и через некоторое время остановились передохнуть. Игнатий скинул с себя носку и кожух, а Василь принялся поспешно его перевязывать.
— Хорошо, что ты их задержал там! — сказал мне Симон. — А то не ушли бы… Пока они сидели, боялись, мы такой кусок дороги одолели!
Заметил я за несколько десятков шагов от края леса большую, присыпанную снегом кучу валежника. И пришла мне в голову идея. Подошел к нему и скинул вместе со снегом верхние ветки. Под ними оказался валежник сухим. Вынул я спички и поджег эту кучу снизу. Огонь весело побежал по сухим смолистым веточкам и вскоре сильно, весело разгорелся.
Вернулся я к Доврильчукам. Перевязывать Игнатия закончили, одели его. Раненую руку подвесили на большом шерстяном платке, закрепленном на шее. Носку его, где лежали лисьи шкурки, взял Василь.
— Зачем это сделал? — спросил Симон, показав на пылающий костер.
— Подумают, что мы здесь задержались, и побоятся входить в лес.
— И то правда, — согласился Симон.
Преследователи наши уже одолели половину дороги до леса и, стреляя время от времени, быстро продвигались вперед. Мы сперва отошли в глубь леса, за полкилометра от пылающей кучи. Оттуда отчетливо видели идущих полями красноармейцев. Теперь они рассыпались цепью, продвигались медленно. Сбивал их с толку огонь. Не знали, что делать. Встали, принялись палить залпами в сторону леса. Василь рассмеялся.
— Ну, до утра будут забавляться! Лишь бы патронов хватило.
Пошли мы краем леса на юг, потом на юго-запад. Издали все слабее слышались выстрелы из карабинов. Очень я был доволен своей придумкой.
После двух часов ходу на юг и юго-запад Василь повел нас лощиной прямо на запад. Теперь братья уже знают, что у меня оружие, потому уже не прячу так старательно пистолет в рукаве.
В четвертом часу утра перешли мы границу далеко на юго-западе от Вольмы. А на хутор вернулись, когда развиднело. Тринадцать часов были в дороге. Игнатий едва сумел дойти до дома. Полностью вымотался, хотя рана его почти не болела и мало кровоточила.
В доме засуетились. Разожгли огонь в печи, согрели воду. Затем Матей сам принялся осматривать рану. Кость оказалась целой. Пуля прошла через мышцы.
Через час все привели в порядок. Товар спрятали. Одежду вычистили от снега и развесили сушиться у печи.
Накрыли на стол. Выпили мы по стопке водки и принялись за еду. Поевши, братья принялись рассказывать про наше приключение. Все оживленно обсуждали. Братья рассказывали подробно, превознося мои «заслуги» — как дважды задержал погранцов. Народ развеселился. После рассказа про костер рассмеялись. Только Матей слушал молча, сосредоточенно, а после сказал твердо:
— Ну, сынки, скажите «спасибо» Владу, что вас от красных отбил, а то ведь, может, ни одного из вас и не увидел бы больше!
Помолчал с минуту и добавил, еще тверже и решительней:
— А теперь слушайте мою волю!
Все замолчали, глядя ему в лицо.
— За границу больше не пойдете! Никогда! Не хочу из-за денег сынов губить. Не ищите шкур лисьих, за своими лучше смотрите! Такая моя воля.
Никто ему не перечил.
С тех пор братья за границу не ходили, хотя пора настала для работы самая подходящая.
День миновал за днем. Неделя — за неделей. Я по-прежнему жил на хуторе у Доврильчуков. Помогал им в работе. Они про то не просили, но я сам старался быть полезным гостеприимной семье. Да и мне хорошо — хоть не так нудился, работая. Очень мне было за себя обидно. Чувствовал себя так, будто меня навсегда сюда запихали. А то, что в любую минуту укромный свой закуток мог покинуть, раздражало меня еще больше. Все время хотелось мне уйти, вернуться в местечко, прятаться там и ходить за границу с группой Лорда. А при том, может, время от времени виделся бы с Фелей и поговорил бы… Может, о том происшествии она и вспоминать не станет?
Визиты моей любимой продолжались, я каждый вечер с нетерпением ждал ее прихода. Одно то держало меня на хуторе. Если бы не она, давно бы я удрал. Но и это, в конце концов, перестало меня радовать. Почему так молчит упорно? Это ж уже третий месяц тянется! Однако я не пробовал вызнать, кто именно приходит. Если не хочет, так пусть оно так и остается! Может, оно и к лучшему?
Во второй половине марта с запада задули теплые ветры. Запахло весной. А тоска моя все росла. Ходил я как неприкаянный по хутору, по дому. Приходила ко мне неохота к работе, и тогда шел в ближний лес, подолгу блуждал там. Иногда прокрадывался к границе и из укрытия наблюдал проходящих вдоль границы погранцов. Потом возвращался на хутор.
Начал втихомолку попивать горькую — ее Симон, в тайне от всех, покупал в соседней деревне у хлопа, торгующего нелегальной водкой.
Однажды пошел с бутылкой водки в кармане в лес. Отошел очень далеко от хутора. Вернулся под вечер. И как обрадовался, увидев в избе Лорда! Я приветствовал его радостно, начал расспрашивать про новости. Разговаривали очень долго. Наконец, Лорд спросил:
— Наскучило тебе здесь?
— Донельзя наскучило!
— Ну, если хочешь, так есть работа. Аккурат для тебя. Немного того… рисковая, но заработок ладный.
— Какая работа?
— «Фигурок» водить.
Лорд рассказал мне, что Вороненок ищет себе в компанию верного смелого хлопца, который бы проводил вместе с ним через границу беглецов из Советов в Польшу. Прежний его компаньон попался с товаром в Минске, когда пошел проведать родственников. Посадили его в чрезвычайку (а обычно — в ГПУ). Про Вороненка тут уже шла речь. Это он на вечеринке у Сашки Веблина разбил бутылку о голову Альфреда Алинчука за игру краплеными картами.
Я охотно согласился на предложение Лорда. Влекла меня не только перспектива хорошего заработка, но и новая интересная работа. Вороненок был известен среди контрабандистов как «волевой» хлопец, и приятельствовали с ним, как равные с равным, самые известные местечковые деятели, старая гвардия.
Тем вечером Лорд в местечко не вернулся, остался у Доврильчуков. После ужина я сказал всем, что поутру иду в Раков.
— Надолго? — спросил Симон.
— Не знаю. Может, навсегда.
— Может, обидели чем? — спросил Матей.
— Ни единого разу не обидели, ничем и никак, — запротестовал я энергично. — И всегда буду вас всех только добром вспоминать!
— Что ж сделаешь, воля ваша, — сказал Матей. — Нужно будет — снова приходите. Роскоши у нас особой нет, но хлеба хватит.
Хоть Лорд в доме ночевал и риск был немалый, что он прознает, ко мне снова — в последний раз — пришла моя молчаливая любимая. Долго со мной была, но и в этот раз не сказала ни слова.
Назавтра утром сердечно распростился с Доврильчуками и вместе с Лордом ушел. Много раз оглядывался я на скрывающиеся вдали строения хутора, и с каждым разом делалось мне все грустнее. Удивительно сердце людское: мучится однообразием, люди одни и те же надоедают, а как разлучишься — начинаешь по ним тосковать.
Солнце стояло высоко, снег на дороге раскис. В теплом дыхании ветра чувствовалось уже приближение весны. Брели мы, оживленно разговаривая о разном. Лорд рассказал, хлопцы теперь очень редко ходят за границу. Большинство прервало работу до осени. Сонька сбежала из местечка вместе с Ванькой Большевиком. Видели их в Олехновичах. Садились они на поезд, идущий на Вильню. Юрлин поехал за ними. Говорил, и сучку убьет, и кобеля. Несколько хлопцев из группы «диких» попалось в Советах.
Я заметил: идем мы в направлении Ракова. Лорд мне объяснил: хутор, где Вороненок с матерью живет, всего за три километра от местечка, но в очень удобном месте. Для меня там будет мелина, надежная, как за каменной стеной.
Я спросил, знает ли Вороненок про то, что я с ним работать собрался. Лорд ответил мне: вчера с Вороненком разговаривал и обещал — если я соглашусь, конечно, — привести меня на хутор.
За два километра от Ракова Лорд свернул вправо, в лес. Долго мы шли по глухомани. Наконец, оказались на краю обширной поляны. В углу ее стояла, заслоненная чередой елок, маленькая почернелая хатка. Прижимались к ней какие-то каморки, хлевики.
Навстречу выбежал большой черный пес. С бешеным лаем кинулся к нам.
— Каро! Каро! Сюда! — закричал выбежавший из дома Вороненок, отгоняя пса.
Поздоровались. Вороненок выглядел очень молодо. Никто бы и не заподозрил, что он — опытный, умелый контрабандист, знаменитый проводник «фигурок». Глаза у него были детские, голубые, смешливые, и все лицо полнилось смехом. Бегал по подворью, гонял пса и казался подростком-сорванцом. Глядя на него, и мы рассмеялись.
— Да ему все и всегда — забава! — сказал Лорд.
Зашли мы в Вороненково жилище. Изба маленькая, сложенная из скверно отесанных бревен, выглядела мрачно. У входа — большая печь. Левую сторону избы отделяла длинная перегородка. Пол был глиняный, стены — голые, потолок темный, закопченный. Но от веселости Вороненка и изба казалась не такой унылой.
— Гелька, мамочка! — крикнул Вороненок. — Гости у нас! Жрать готовьте, много и быстро!
Тут я увидел старушку, маленькую, пухленькую, с такими же веселыми глазами, как у сына. Рядом с ней была молоденькая, лет пятнадцати, дивчинка, очень похожая на брата. Начали готовить для нас еду.
— Мы только позавтракали! — принялся отговариваться Лорд.
— Что там завтрак? Мы сделаем ОБЕД! Напихаемся на тип-топ! — объявил Вороненок.
И принялся помогать матери с сестрой, суетящимся у печи, больше мешая, чем помогая. Потом выбежал из избы и вернулся через пару минут, неся четыре бутылки водки.
— Каждому по стекляшке, а мамке с Гелькой — по половине, потому что усов у них нету!
— А у тебя есть? — огрызнулась сестра. — Разве если углем нарисуешь…
— У меня — будут! А у тебя — фиг!
Вскоре приготовили для нас угощения, и начали мы пить водку. Мне сразу стало тепло и весело в такой компании. Щура только не хватало… Чувствовал я: приближается интересная, новая для меня работа.
5
Ночь выдалась темная. Дул теплый западный ветер. Небо густо усеяли звезды. Темноту разделяло надвое черное и белое: темнота неба с рассыпанными искрами звезд и белизна снега, нарушенная там и сям темными контурами деревьев и кустов.
Поля застилала редкая, вязкая каша тающего снега. Ноги глубоко проваливались в нее, оскальзывались. Тяжело было идти. Там и сям по низинам от растаявшего снега сделались большие лужи. По ночам мороз затягивал их льдом, делал катки для теплого западного ветра, с утра вдоволь скользившего по ним. Когда ветру надоедало, он дыханием топил лед, гнал по лужам мелкую рябь.
Вечером вышли мы с Вороненком из дому и направились в лес. Несли под куртками «бандажи»: большие двойные вязаные безрукавки, в которых заделан товар. В основном Крючок зарабатывал проводом «фигурок» из-за границы, но при том носил и свой товар. Его брал немного, чтобы не слишком стеснять движения. «Бандажи» мы нагрузили швейными иглами, обычными и для машинок, граммофонными иглами, сапожными и швейными шилами. Кроме того, несли и по нескольку десятков бритв.
Пошли лесом, недалеко от хутора, пес Каро — вместе с нами. Вороненок влез на огромную липу и вытащил из дупла револьвер — российский «офицерский» наган, самовзвод. А я показал Вороненку парабеллум.
— Добрая цацка! — похвалил Вороненок. — Но для меня и нагана хватит. Я войны затевать не собираюсь.
Потом двинулись лесом напрямик на восток. Пес бежал впереди.
— Часто с собакой за границу ходишь? — спрашиваю Вороненка.
— Ну так, Каро лучше меня границу знает. Ему доверять можно. Третий год работаем вместе.
Пес, заслышав свое имя, прибежал, стал, глядя в глаза Вороненку.
— Иди вперед! — приказал тот.
Пес снова пошел впереди, держась за несколько шагов от нас. Вышли мы на край леса. Увидели широкий открытый простор. За три километра от нас была граница, в двухстах метрах проходила дорога из Вольмы до Ракова.
Уселись мы на поваленное дерево, ожидая, пока стемнеет. Выпили бутылку водки, закурили. Когда стемнело как следует, пошли неторопливо полями к границе. Сапоги наши были густо вымазаны ваксой, чтоб не пропускали воду.
У границы остановились на несколько минут, прислушиваясь. Каро побежал вперед, мы — за ним. Под ногами глухо хрустел снег. Мы старались не просто ставить ногу сверху, а втыкать ее в снег косо, сверху вниз. Так снега под ступней оказывалось меньше и меньше сочился он влагой, да и шума тоже не столько делалось.
Вскоре добрались до границы. Узнали ее по следам цепочкой, тянущимся по снежной глади с севера на юг и обратно.
Шлось очень тяжело. Ноги проваливались все время, мучительно было вытягивать их из глубокой снежной каши. Вдруг Вороненок остановился. Я подошел к нему.
— Что такое? — спрашиваю.
— Хочешь рискнуть? — спрашивает он в ответ.
— Как?
— Если ты не против рискнуть, дорогой можем пойти! Я часто хожу дорогами.
— Добре, — соглашаюсь. — Пойдем дорогой.
— А если встретится черт какой, то… — Крючок махнул наганом.
Вскоре вышли на дорогу. Была она полна выбоин, разбита копытами. Часто попадались на ней широкие лужи. Но все равно шлось по ней легче, чем по полям: ноги в снег не проваливались. Хотя было очень скользко.
Издали заметили огни деревни. Послышался собачий лай. Крючок остановился.
— Через деревню пойдем или обойдем? — спрашивает.
— Погранцы там есть?
— Нету. Раньше не было.
— Тогда пойдем.
Вскоре перешли по мосту речушку и вошли в большую деревню, выстроенную по обеим сторонам узкой улочки, описывающей большой полукруг. Застилающий улочку снег был серый, почти черный даже, во многих местах смешанный с грязью.
Шли мы быстро. Светили слева и справа скудные желтые огоньки из окон низких, прижавшихся к улочке халуп. Через каждые несколько шагов — кривые пятна света из окон. Кое-где доносились из дворов людские голоса — всегда угрюмые, полные злобы. Большей частью слышались ругательства.
Вороненок подошел к ограде и выдрал из нее кол: потому, наверное, что спереди послышался лай. Каро уже не бежал впереди, а держался рядом с нами. Миновали еще несколько халуп. В середине деревни окружили нас несколько собак. Начали бросаться к ногам. Вороненок, махая колом, их отогнал, но шавки не отставали, бежали за нами, держась поодаль. Каро спокойно шел впереди. Затем из ворот дома неподалеку вышли двое. Когда мы подошли, осветили нас карманным фонариком.
— Вы куда? — послышался голос.
— А тебе какое дело? — отрезал Вороненок.
— Я секретарь волостного исполкома!
— Ну и хорошо. Иди в свой исполком и ложись спать. Пьяный ты.
— Что-о?
— Ничего! Прочь с дороги!
Вороненок двинулся дальше, но секретарь ухватил его за левую руку. А Вороненок как хряснул его колом по голове! В тот же миг Каро прыгнул, целясь в секретарское горло. Второй мужик кинулся наутек, но я подставил ногу. Он плюхнулся в грязь. Вороненок их обоих принялся охаживать колом. По улице разнеслись вопли. Издалека послышались голоса. Там и сям замелькали среди темноты огоньки. Бросили мы лежащих на дороге и поспешили дальше. И тут же они заголосили пронзительно:
— Держи их! Держи!
— Воры! Бандиты! Держи!
Из темноты послышался топот бегущих к нам. Я посветил фонариком назад и увидел нескольких человек с дрекольем в руках, гонящихся за нами.
— А ну, шмальни им пару раз для острастки! — посоветовал Вороненок.
Я выпалил несколько раз из парабеллума. Раздался топот еще громче, но уже стремительно отдаляющийся.
— Наперегонки побежали! — заключил Вороненок.
Двинулись мы вперед побыстрее. За деревней оставили дорогу и пошли полями: Вороненок подумал, что секретарь может позвонить в соседнюю деревню по дороге, где стоял заградотряд. Там, глядишь, устроят засаду или облаву.
Снова начался долгий, мучительный переход по полям. Тяжелее всего шлось по перепаханной земле. Земля еще мерзлая, скорлупа ледяная на ней, ногам не на что опереться. Наконец, снова выбрались на дорогу и прошли километров пять. Затем свернули направо и полями дотащились до леса.
В четвертом часу утра пришли на одиноко стоящий хутор. Вороненок пустил пса вперед, мы пошли неторопливо к строениям. Ничто не выдавало присутствия людей. С оружием в руках подошли к выходящему на дорогу окну, не закрытому ставнями. Вороненок посветил в него фонариком. Между окном и белой занавеской стоял горшок с пеларгонией — знак того, что на хуторе все в порядке, чужих нет.
Вороненок постучал в окно. Долгое время никто не отвечал. Когда через несколько минут принялся стучать настойчивее, изнутри послышался женский голос:
— Чего нужно? Кто там?
— Открывай, Стася! — отозвался Вороненок.
— Подожди, я сейчас!
— Можешь не одеваться — я и так тебя узнаю!
— Ну, умник! — послышалось из-за окна.
Занавеску отодвинули в сторону, горшок сняли. Окно открылось. Вороненок резво вскочил на подоконник и спрыгнул внутрь. Я — следом за ним. Вороненок позвал, и Каро тоже заскочил через окно в комнату. Это оказалась кухня. Мы немного постояли в темноте, Стася выбежала из дому закрывать ставни. Их в случае надобности можно было открыть и изнутри. Стоя в темноте, слышим шепот откуда-то слева.
— А, так Генюся не спит? — осведомился Вороненок. — Может, примет меня на печь, погреться? На теплые ножки?
— Ах ты лайдак! Только залезь, мы тебе уши погреем! Вишь, чего захотел! Молоко на губах не обсохло!
Слышится смех. Возвращается Стася, зажигает стоящую на столе лампу. Левую сторону кухни занимает большая печь. Верх ее заслоняет длинная узорчатая занавеска, оттуда украдкой выглядывают чьи-то любопытные глаза.
Снимаем с себя куртки, бандажи. Вынимаем из карманов четыре бутылки спирта. Открываются двери, в кухню заходит, шаркая ногами, щурясь от света, высокая полная женщина лет сорока пяти. На ней просторный розовый застиранный халат и шлепанцы на босу ногу. Это хозяйка хутора, Марианна Жих, мать шести дочерей. Мужчин на хуторе нет — если не считать глуповатого паробка, Онуфрия, в хозяйкиных летах, уже много лет жившего на хуторе. Ходил он за лошадьми, возил дрова из лесу. Прочую работу по хозяйству исполняла своими силами «бабья бригада», как называл ее Вороненок. Впрочем, хозяйство было невелико, женщины управлялись. Мать Вороненка была дальней родственницей Марианны, называла она то родство «седьмая вода на киселе».
Марианна Жих держала пункт. Находился он на полдороги от Нового Двора до Петровщизны, на юго-западе от Минска. Особые посредники выискивали в городе людей, желающих нелегально перейти из Советов в Польшу. Их за большие деньги вели на хутор Марианны, а оттуда Вороненок провожал их в Польшу. Промышлял он таким третий год, а попутно и контрабанду носил.
Распаковали бандажи, и Марианна вместе со старшей дочкой Стасей разделила и переписала товар. Принялась рассчитываться с Вороненком (все привычно и обыденно). За все Вороненок получил триста семьдесят долларов, двадцать дал мне за дорогу.
Затем Стася с Марианной справили нам завтрак. После его хозяйка сказала:
— Ну, хлопцы, идите на чердак спать!
— Еще чего! — возмутился Вороненок. — На чердак? Я на печь хочу!
Вскочил на припечек, а оттуда нырнул под занавеску, на печь. Раздались крики, визг, смех.
— А ну отсюда!
— Ну, бесстыдник!
— Всыпьте ему!
Тут же Вороненок, провожаемый затрещинами, соскочил с печки на пол. Взяли мы два длинных кожуха и в сопровождении Марианны и Стаси, несшей лампу, пошли в сени, к длинной лестнице, ведущей на чердак. Вороненок залез, позвал пса. Каро быстро поскакал наверх по перекладинам. Когда залезли все трое, Марианна предупредила:
— Фонариками там не светить, огня не зажигать!
— Добре, добре, — отозвался Вороненок.
Полкрыши занимали сложенные высокой кучей снопы соломы. Вороненок вынул сбоку несколько снопов и сказал мне лезть в дырку. За мной полез Каро. Вороненок, забравшись, принялся затыкать снопами дыру. Снаружи ему помогала Стася, залезшая на чердак вслед за нами. Затем проползли мы узким проходом в конец крыши. Там было большое свободное пространство, укрыться хватило бы места и десятку людей. Окошко, выходящее на крышу, укрывал обрывок черного шерстяного платка. В это окошко при необходимости можно было и вылезть.
Постелили мы себе поудобнее и вскоре уснули.
Вечерело. Мы с Вороненком и Марианна, одетая в желтый долгополый кожух и юфтевые сапоги с длинными голенищами, пошли к ближайшему лесу. Марианна при ходьбе опиралась на длинную палку. Каро бежал впереди нас.
— Сколько их? — спросил Вороненок.
— Пятеро, — ответила Марианна.
— Кто они?
— Не знаю… Я документов не спрашиваю. Но что-то не так с ними. Ты уж смотри!
— Что не так?
— Ну, вежливые такие… Ко мне все время: пожалуйста, то, пожалуйста, это. Нигилисты какие-то или какие другие интеллигенты…
Идем лесом. Среди деревьев показывается малая хатка. Из нее выходит седоватый старичок. Несмотря на возраст, очень подвижный, все руками машет, на месте не стоит, пока с Вороненком и Марианной разговаривает.
— Как там у тебя, Грибок, все в порядке?
— Все, все… как всегда.
— Еду им принес?
— А как же! А как же!
— Ну так пойдем!
Углубились мы в лесную чащу. Через несколько минут увидели крышу вкопанного в землю погребка. Спереди его были маленькие дверцы, закрытые заржавелой железной колодкой, похожей на огурец. Грибок к той двери не подходил, а обошел кругом, снял с крыши несколько досок. Наклонился и крикнул в дыру:
— Вылезайте, сейчас пойдем!
Начали вылезать люди. Одеты по-разному, но когда посмотрел в их лица, на всех увидел одинаковое выражение. Мне его трудно описать. Будто смешали настороженное, пытливое внимание, боксерскую набыченность, детскую наивность, любопытство и непонятную благостную тоску, светящуюся в спокойных, решительных лицах. На всех — старые куртки и пальто. Двое — в длинных сапогах, трое — в коротких, по щиколотку. У одного на голове солдатская шапка фасона «ячменная каша», на другом — здоровенная ушанка, еще на двоих — «керенки», а на пятом — огромная черная папаха. Одежда им не шла, я сразу почуял. Выглядели военными или спортсменами, вырядившимися в лохмотья. Двигались точно, ловко. Выправка. Когда вылезли из погребка, один поздоровался:
— Шановная пани! Уже выходим?
— Так. Эти двое, — женщина указала на нас ладонью, — проведут вас через границу и устроят на пункт.
Все пятеро посмотрели на нас с любопытством. В лицах их виделись радость и облегчение. Наверняка удивлялись, что увидели двоих молодых приличных хлопцев. Наверное, представляли себе своих проводников мерзкими головорезами.
Стемнело. Мы медленно шли по узкой лесной тропке. Вороненок — первый, фигурки — за ним, я замыкаю. В лесу снег растаял меньше, чем на полях. Когда сходили с тропы, с хрустом ломался под ногами. Тогда возвращались на стежку, вскоре выведшую нас на край леса, вдоль которого шла широкая, выезженная санями дорога.
Вечер выдался темный, теплый. Весна ощущалась отчетливо. В лесу там и тут слышались странные шорохи. То трещали ветки, то падали сверху, с верхушек, обледенелые снежные пласты, то лопалась, корежилась от вечернего холода покрывающая снежные бугры ледяная скорлупа.
Вороненок остановился. Вынул из кармана бутылку спирта. Стукнул ладонью в днище, вышиб пробку и начал пить запросто из горла. Я увидел снисходительные усмешки на лицах «фигурок». Удивлялись: такой малец — и пьет. Вороненок протянул бутылку мне.
— Давай! Пососи и дальше передай!
Выпил и я немного спирта и протянул бутылку «фигуркам», говоря:
— Выпейте по очереди… для разогрева!
Начали пить, глотали неумело. Все кривились, кашляли. Впятером едва одолели полбутылки. Мы с Вороненком допили остатки.
— Кто хочет, может закурить, — сообщил потом мой коллега. — Дальше нельзя будет.
Закурили все.
— Далеко ли до границы? — спросил один из проводимых нами.
— Далеко, — ответил я.
— А она сильно защищена?
— Не… Хотя для кого как. Пройти всегда можно.
Вороненка тоже расспрашивали, он что-то отвечал, но очень неохотно. Всегда трудно объяснять в подробностях людям, ничего в деле не понимающим и задающим нелепые вопросы.
После краткого отдыха пошли дальше. Долго двигались полями, с которых местами снег вовсе сошел. Вскоре вышли на берег Птичи. Вдоль берегов еще держался лед, а посередине струилась быстрая вода. Пошли левым берегом в направлении Нового Двора. Шлось тяжело. Ноги вязли в слежавшемся, напитанном водой снеге. Вскоре впереди замаячили расплывчатые контуры моста. Вороненок стал, долго прислушивался. Двинулись дальше, он впереди, мы за ним.
Шли очень быстро, ступили на мост. Изношенные доски глухо стучали под ногами. Внизу шумела вода. Не подозревая ничего опасного, я тянулся последним. Вдруг из темноты блеснул огонь выстрела, грохнуло. «Фигурки» стали. Я кинулся вперед, вытягивая на бегу парабеллум из кармана, снимая с предохранителя. Зажегся фонарик. Я увидел Вороненка, левой рукой держащего карабин за дуло, а правой наставившего наган в грудь красноармейца. Поначалу толком разглядеть их не смог — красноармеец лежал на земле, в него уперся лапами и мордой пес.
— Каро, прочь! Пусти его! — приказал Вороненок.
Пес отскочил, стал неподвижно, готовый в любую минуту броситься снова. Красноармеец выпустил приклад, и Вороненок откинул карабин к реке. Послышался плеск.
— Встань! — приказал Вороненок солдату.
Когда встал, Вороненок выругался матерно и сказал:
— Что, вас разве учат сперва стрелять, а потом кричать «стой»?
— Меня, товарищ, пес напугал. Я думал — волк!
— Хуже волка, чем ты, нету! Где Дуличи, знаешь?
— Знаю.
— Далеко отсюда?
— Восемь верст.
— Дорогу хорошо знаешь?
— А как же!
— Ну, тогда веди нас! Только смотри: только дернешься удирать, хоть на шаг — пулю в лоб! И пес догонит!
— Не буду я убегать! Проведу вас, куда захотите…
Двинулись мы дальше. Первым шел красноармеец, за ним — «фигурки», потом я. Шли мы по узким, едва различимым на снегу полевым дорогам и тропкам. Несомненно, красноармеец нас вел так, чтобы избегнуть нежелательных встреч. Боялся, застрелим его при такой встрече.
Через полтора часа увидели справа лес, а слева — огни в окнах домов. Дуличи. Вороненок приказал солдату идти передо мной, а сам пошел первым. Я внимательно следил за серым силуэтом идущего спереди солдата. Через час ходьбы через лес вышли на хорошо утоптанную лесную тропу. Там Вороненок остановил всех и подошел к красноармейцу. Показал ему тропу и зло сказал:
— Стоило бы тебе в лоб пульнуть, раз без предупреждения стреляешь, да руки в кровь марать неохота. Иди быстро назад. Скажешь, что на тебя сто бандитов и сто тигров напали! Орден получишь за храбрость. Ну, пошел!
Красноармеец быстро пошел по тропке в глубь леса и вскоре скрылся в сумраке между деревьями. А мы пошли дальше. «Нет нам фарта, — думаю. — Туда шли — мешали нам, назад идем — снова нарвались!»
«Фигурки» замучились и через каждую пару километров просили отдохнуть. Вороненок глянул на часы и сказал им:
— Слишком часто отдыхаете — от этого хуже. Сейчас отдохните больше, а потом пойдем уж сразу до границы. Нельзя время терять. Второй час уже. Если на границе шуганут, так время нужно, чтоб в другом месте попробовать. Поняли?
— Да.
— Мы постараемся.
— Дорога тяжелая… — отозвались «фигурки».
Отдохнувши, двинулись поспешно вперед. Вороненок вел по хорошо наезженной дороге, шедшей через поля и леса. Дорогой той я шел впервые, но окрестности ее, ближние и дальние, знал хорошо.
Подошли мы к берегу речушки. Это уже была вторая линия. Двинулись вправо. Увидели толстый ствол дерева, перекинутый через русло. Каро перебежал по нему на другую сторону, нырнул в заросли лозы. Вскоре вернулся к нам. Вороненок начал переправу. Довольно быстро перешел по бревну на другую сторону. «Фигурки» принялись усаживаться на ствол и, упираясь руками, медленно передвигаться.
Я ожидал, пока все переправятся, сжимая в руке парабеллум и осматривая большое открытое пространство между речушкой и лесом. Казалось мне: у края леса люди какие-то. И не знаю, отчего мне так показалось? Может, там и в самом деле укрывалась группа контрабандистов, ожидая удобного момента перейти вторую линию и речку?
Переправа окончена. Медленно идем лесом. Вижу: наши подопечные сильно нервничают. Стараемся двигаться потише. Вороненок пустил пса вперед.
Наконец, мы у границы. Вороненок долго стоит неподвижно. Слева слышатся шорохи, и все отчетливее. Вороненок медленно идет вперед, приближается к густому ельнику. Забираемся в него и долго стоим, прислушиваясь. Шорохи слева то усиливаются, то пропадают вообще. «Или контрабандисты идут, или погранцы», — думаю.
Кажется мне, шорохи движутся мимо нас, вдалеке, и направляются к границе. Может, это «дикие»?
Слева, наискосок от нас, грохочут выстрелы. Многоголосое эхо от них волнами катится по лесу. Раздаются крики:
— Стой! Стой!
— Стоять! Руки вверх!
«Сперва стреляют, а потом кричат „стой“», — думаю, прислушиваясь к шуму слева.
Вороненок вышел из нашего укрытия и прошептал:
— Не отставать… тихо идти!
Двинулся вперед. Мы — за ним. Я с пистолетом наизготовку. Шум слева не стихает, слышатся оттуда крики, топот. Похоже, шухер за несколько сотен шагов от нас.
Выходим на пограничную полосу. Видим на снегу множество идущих в разные стороны следов, людских и звериных. Вот она, настоящая правдивая книга границы! Умеющий ее читать узнает много интересного. Оставили мы в ней и свою запись и углубились в лес на польской стороне.
Уже под утро довели «фигурок» до амбара на краю местечка. Я остался у амбарных ворот, а Вороненок пошел к жидовке, державшей пункт. Вернулся через четверть часа в сопровождении старшего жида. Вошли вместе в амбар. Вороненок обратился к «фигуркам», ожидавшим там:
— Вы — в Польше. Тут пункт. Тут вам все объяснят и помогут, кому в чем нужно… Дальше сами управляйтесь со своими делами, как хотите. Желаю удачи!
«Фигурки» подошли к нам. Один, самый старый, все силился всучить Вороненку, а потом мне несколько золотых монет. Вороненок не взял и я тоже.
— Нам уже заплачено, — сказал им Вороненок. — Вы все ваше путешествие оплатили на пункте в Минске. Мы с вас шкуры драть не хотим. Хватает нам того, что зарабатываем.
— Но это не плата! Мы ценим вашу работу… Это благодарность! Возьмите, это далеко не последние наши деньги!
— Ну, это другое дело, — согласился Вороненок. — Тогда давайте ваши лимоны.
Взял поданные ему шестьдесят рублей золотом, тридцать отдал мне. Потом мы вышли из амбара и боковыми улочками направились поспешно к Слободке.
Когда подошли к дому Вороненка, уже рассвело. Небо на востоке алело все ярче. Вот-вот взойдет солнце.
6
Пришла весна. «Белая тропа» сменилась «черной». Но контрабандисты ходили редко. Ночи короткие, идти тяжело, границу и пограничье хорошо охраняют. Работало сейчас с десятую часть тех, кто работал в золотой сезон. Товар носили нерегулярно, выбирали лучшие ночи. Почти все старые группы работу прервали надолго. Ходили вместо них «повстанцы» — молодые, неопытные хлопцы, не имевшие понятия о контрабандистской работе и ломившие на авось. Попадались очень часто, но их место тут же занимали другие, кому пришла охота заработать пару рублей на водку.
Я ходил с Вороненком за границу пять раз. Водили мы «фигурок» в Польшу. Вороненок сказал, что те пятеро, кого проводили в первый мой раз, — офицеры.
— Откуда знаешь? — спрашиваю.
— Нюх у меня! Я много всякого народу повидал, сотни провел. Сразу раскушу, кто каков!
Случилось нам вести на пункт двух женщин с двумя детьми и пожилого мужчину, сопровождающего их. Много с ними намучились. Женщины идти не могли, дети плакали. Пришлось дневать в лесу. Перешли границу только на следующую ночь. В третий раз проводили в Польшу попа с женой и дочкой. Те боялись очень. Поп повторял все время:
— Лишь бы только, мои наидражайшие, все было в порядке!
— У нас всегда все в порядке! — отвечал ему Вороненок.
Попутно с переброской «фигурок» промышляли и контрабандой. Зарабатывали за каждую ходку от шестидесяти до ста пятидесяти рублей золотом. Вернувшись из-за границы, обычно отдыхали два-четыре дня и шли снова. Вороненок улаживал дела на пункте, закупал товар. А я либо сидел дома, дожидаясь его возвращения, либо блуждал по лесам, одевшимся свежей весенней листвой и очень красивым.
Когда в пятый раз вернулись из-за границы, Вороненок, как обычно, пошел в местечко, а я лег спать. День прошел, ночь — он не вернулся. Я забеспокоился: Вороненок ведь обещал вернуться в тот же день до полудня. Следующий день его тоже не было, и я уже собрался идти на пункт узнать, что с Вороненком случилось. Незадолго до сумерек пришел ко мне Щур. Был страшно взбудоражен. Никогда я не видел его таким.
— Что такое? Где Вороненок? — спрашиваю его.
— Плохо с Вороненком. Не знаю, выживет ли. Отвезли его в больницу… Лорда арестовали!
— За что?!
— За Вороненка вступился!.. Ну хамы! Ну гады! Ну жлобы! — проклинал Щур.
Из сумбурного его рассказа я понял, что вчера близ полудня Вороненок с Лордом пошли выпить в заведение Гинты. Из наших хлопцев там никого не было. Салон заполняли повстанцы. Пьяные, лезли на рожон. Пил с ними вместе Альфред Алинчук. Дела у него с ними какие-то. Когда Лорд с Вороненком сели за боковой столик, «повстанцы» начали цепляться к Вороненку. Подначивал Альфред, не забывший вечеринку у Сашки Веблина и удар бутылкой по голове. Один из «повстанцев», пьяный вдрызг, кинул куском селедки Вороненку в лицо. Тот подскочил, ударил кулаком. Прочие «повстанцы» вступились за приятеля. Началась драка. Лупили кулаками, бутылками, стульями. «Повстанцы» схватились за ножи. Вороненок упал на пол. Тогда Лорд вынул револьвер. Чтоб отогнать, выстрелил несколько раз. Двоих ранил тяжело. Вот и арестовали. Вороненок получил несколько тяжелых ножевых ранений. А Альфред удрал, как только началась драка.
Ужасно меня поразил этот рассказ.
— Что ж теперь будет? — спрашивал Щура.
— Не знаю. Вороненок ранен тяжело. Может, и не выживет. А Лорд сядет и за оружие, и за тяжкие телесные!
— Худо!
— Худо, брате, — подтвердил Щур.
— Теперь разом и ты, и я остались без работы. Ведь группа Лорда теперь к чертям!
Щур замолчал. Долго думал.
— Это мы еще посмотрим! — сказал, наконец.
— Как? — спросил я, не понимая.
Щур топнул. Кулаки стиснул.
— Я им не прощу! Никогда! Алинчукам — тоже! — выговорил, сдерживая гнев.
Замолк снова и долго, неподвижный, глядел перед собой.
— Водка есть? — спросил, наконец.
— Есть.
— Давай!.. Вот нелюди! Вот гады! Вот скоты! — снова принялся клясть Щур.
Принес я бутылку. Коллега выпил разом половину, закурил и, сплевывая налево и направо, сказал:
— Ничего. Ты до головы не бери. Мы и сами не пропадем, и Лорду поможем. А к Вороненку нужно мать его отправить. Пойдем к ней.
Вошли в дом. Щур рассказал коротко матери Вороненка о произошедшем с ее сыном. Старушка поспешно оделась и в сопровождении Щура вышла из дома. На прощание Щур сказал мне:
— Ты далеко не уходи. Когда улажу все в местечке, вернусь к тебе.
Вернулся Щур назавтра вечером, уже пьяный. Приветствовал меня сердечно и объявил:
— Ну, брате, начнем мы работы! Выдубим шкуры им!
— Кому? Какая работа?
— «Повстанцам»! Я им, холерам, ни одной группы не пропущу! Каждую положу! Только держись!
Сидели мы в доме Вороненка. Сестра его занималась чем-то на подворье.
— Где Вороненок? — спрашиваю Щура.
— Повезли его в Вильно, в больницу. Операцию нужно делать. Мать Вороненка с ним вместе поехала.
— А где Лорд?
— В Ивенец повезли, к судебному следователю.
— А про какую работу ты говорил?
— Стоп! Это долгий разговор. Выпить нужно!.. Потом выложу тебе все документально!
Выпили мы бутылку водки, и Щур принялся рассказывать:
— Пока на границе наши фартовые работали, все шло как мое вам почтение! Появились «повстанцы». Ходят за пару грошей. Один у другого работу отбивает. Один другого сыплет. Сказать можно, что и не фартовые это вовсе, а хамы. И в машинистах у них гады. С ними даже «дикие» знаться не хотят. Звали они Шума к себе машинистом, так он ответил, что лучше голодный сидеть будет, лучше жидам будет воду носить, чем со жлобами водиться! То же и Бульдог им сказал. Раньше контрабандист был — хлопец! А теперь — или альфонс, или шакалюга, или засранец! Сейчас за бутылку пойла «повстанец» лучшему хлопцу перо в бок сунет! Так, как Вороненку по Альфредовой подначке. Знаешь, что мне в голову пришло?
Очень меня заинтересовала такая непривычно долгая речь Щура, и я спросил:
— Собственно, мне узнать хотелось бы, ты к чему клонишь?
— Хочу группы «повстанцев» разгонять и товар у них забирать. Если долго это делать, купцы им давать товар перестанут. Понимаешь?
— А откуда узнаешь, кто куда и когда идет?
— Все узнаю: либо от машинистов их, либо от хлопцев их группы, либо сам выслежу. Я уж сумею! Буду крыть их или тут, на пограничье, или лучше в Советах!
Щур, распалившись еще больше, принялся рассказывать, как он устроит работу. Я поддакивал, вставлял замечания. Незадолго перед уходом коллега сказал:
— Лишили нас, холеры, добрых хлопцев и работы! Но мы им покажем, почем фунт перца!
Через несколько дней из Вильни вернулась мать Вороненка. Сын ее умер в больнице, и мать с дочкой выплакали глаза. Когда смотрел на их горе, обуяла меня еще большая ненависть к «повстанцам». Я ждал нетерпеливо возвращения Щура, но он где-то запропастился, и я уже начал за него опасаться. Все же пришел он через несколько дней. Поздоровался со мной весело.
— Давно работа бы пошла, да не было нужного хлопца, чтоб третьим был. Ведь нужно, чтоб его «повстанцы» не знали!
— Так нашел?
— Нашел! Ездил за ним аж в Радошковичи.
— Кто такой?
— Янек Грабарь. Ты его не знаешь. Кле-е-евый хлопец! Надежный, боевой! До всякой работы охотник. И не жаднюга какой. Знаешь, где я его устроил пока?
— Где?
— У Петрука Философа. Сегодня вечером перенесем сюда много разных вещей. Я в местечке буду жить, все выведывать, а ты — тут. Нужно про это с матерью Вороненка переговорить.
Позвали мы старушку и спросили, согласится ли она нас у себя держать, а мы пункт здесь сделаем. Согласилась с радостью. Щур сказал, что хорошо заплатим.
— Я б и без денег, — ответила старушка. — Вы ж его коллеги… Живите, как дома.
И заплакала.
— Вы, мамусю, не плачьте, — утешил ее Щур. — Еще поживем! Не надо так печалиться! Ничего не воротишь. С пункта проценты вам будут. Если поработаем удачно подольше, соберете Гельке на приданое!
Не написал я раньше, что Каро, пес Вороненка, погиб в драке с «повстанцами». Кинулся, защищая хозяина. Рвал руки, ноги, лица. А один из «повстанцев», лежа на полу, распорол ему ножом снизу брюхо. Не написал я тоже, что Юлек Чудило умер в больнице от туберкулеза. Щуру про то рассказал Петрук Философ.
Вечером пришли ко мне Щур и Янек Грабарь. Был то мужчина средних лет, довольно плотный и очень ловкий. Волосы имел редкие, светлые, на лбу уже залысины. Часто улыбался, жмуря внимательные серые глаза. Лет ему, наверное, близ сорока. Часто потирал ладони и говорил: «Пошло! Первая категория!»
Коллеги принесли два больших пакета. Развернули их на чердаке, в тайнике, куда удобно залазить по крыше, не будя ни матери Вороненка, ни Гели. В случае опасности оттуда можно удрать в любую сторону, выбравшись через особое отверстие в крыше. В пакетах оказалось много всякой одежды и шапок. И приспособления всякие, чтобы изменить лицо. Осмотревши все и разобравши, стали мы совещаться.
— Оружия мало, — заметил Щур. — Две машины на троих. Но завтра станет больше!
— Откуда? — спрашиваю.
— Откуда? — Щур усмехнулся. — Сам узнаешь! Завтра первая работа!
— Пошло! — Грабарь потер ладони. — Первая категория!
— Кого кроем? — спрашиваю у Щура.
— Алинчуков! — объявил Щур торжественно.
— Не заливай! — я даже и не поверил сразу.
— Чтоб мне холера!
— Где кроем?
— Под мостом, напротив Большого Села. С товаром пойдут там.
— Откуда знаешь?
— Да уж знаю. Шли уже там то ли четыре, то ли пять раз. А про то, что завтра выходят, узнал от одного надежного блатняка. Маровой хлопец!
— Может, от Еси Гусятника?
— Знаешь его?
— Знаю.
— От него, точно.
— Но Алинчуки все с машинами, а у нас только две на троих!
— Потому их и берем первыми! Нужно оружие добыть. Видишь, я все обмозговал!
Принялись мы обговаривать детали завтрашнего дела. Затем Щур попрощался с нами и вернулся в местечко, а мы с Грабарем пошли спать на чердак и разговаривали о многом.
Вечер выдался тихий и теплый, как тогда, когда я впервые пошел с Юзефом Трофидой за границу. И был я в том самом месте, через которое шли тогда, но не сидел уже с партией контрабандистов в канале, и на плечах моих не было носки. Как я уже писал в начале своей повести, дорога в том месте проходила по высокой насыпи. А снизу ее шел тоннель длиной в несколько метров для того, чтобы по весне вода талая стекала. Алинчуки должны были зайти в него и укрыться на некоторое время, отдохнуть. Так каждая партия поступала, идущая той дорогой. Мы об этом хорошо знали.
Когда пришли туда вечером, прежде всего внимательно осмотрели местность. Со стороны Поморщизны тянулась черная пашня, вспаханная с большими отвалами. С той стороны рядом со входом в канал укрыться было нельзя. С другой стороны насыпи (со стороны границы) тянулся узким клином врезавшийся в поля лужок. Там тоже нельзя было удобно спрятаться, чтобы держать под постоянным наблюдением выход их канала. Тогда придумали мы так: по краям насыпи над каналом выкопали две продолговатых ямки, глубиной сантиметров в двадцать пять каждая. Мы с Грабарем залегли в ямку со стороны Поморщизны, а Щур — со стороны границы. Канал был под нами, а подняв головы, мы видели вход в канал, чернеющий на крутом склоне насыпи. Проверили мы, что хорошо укрылись. Идущие к каналу увидеть нас не могли. Потом мы залезли в канал, выкурили несколько папирос и, наконец, заняли свои места. Как поступаем, условились заранее.
Время тянулось невыносимо. Много раз мне казалось: слышу приближающиеся со стороны Поморщизны шаги. Даже чудились серые, маячащие в темени силуэты, но позже всякий раз убеждался — показалось. В правой руке я держал парабеллум, в левой — шнурок. Другой конец держал в руке Щур, лежащий по другую сторону насыпи. Когда идущие покажутся у входа в канал, я потяну единожды, когда залезут в канал — сильно дерну три раза. Тогда Щур соскочит и встанет у выхода, светя фонариком внутрь, а Грабарь одновременно соскочит и посветит с другой стороны. Дальнейший ход дела обговорили до мелочей, каждый знал свою роль. Мы со Щуром молчим, если придется заговорить — то коротко, измененными голосами. Это в особенности важно для Щура, еще «легального», еще могущего свободно жить в местечке, добывая нужную информацию. На Щуре куртка с поднятым воротником и кепка с длинным козырьком, надвинутая на глаза. Лицо свое он замаскировал, наклеив длинные рыжие усы, и выглядел очень смешно. Когда смотрел на него, чуть удерживался от смеха. Я себе наклеил маленькие черные усики.
Время все тянулось. Лежа в укрытии рядом с Грабарем и глядя в сторону Поморщизны, думал я о многом. Неподалеку, рядом с границей, была Капитанская могила. Поднимаю голову, смотрю через насыпь в направлении границы. Но ничего не могу разобрать в сумраке, окутывающем окрестности.
Где-то залаял пес. Стараюсь понять, где именно — там наверняка кто-то идет. В Поморщизне видны несколько огней. Когда долго смотришь на них, кажется, будто движутся. Стараюсь не глядеть на них, потому что потом темнота кажется гуще, труднее разглядеть местность.
Тянутся минуты, часы. Никого нет. Гляжу на фосфоресцирующие стрелки. Одиннадцать близко. Слышу невыразительный звук, вроде как подошвой об камень. Гляжу вправо, вслушиваюсь. Кажется: слышу глуховатый шорох шагов… Все стихло. Снова показалось? Может, они вовсе решили не идти или другой дорогой двинулись?
И вдруг ясно слышу легкие шаги. «Идут! — думаю радостно. — Точно идут!» Прижался телом к земле, голову приподнял, стараясь разглядеть тонущую в сумраке землю. Но слух в такую темень мне лучший слуга. Отчетливо слышу идущих в темноте. Толкаю локтем Грабаря, показываю дулом парабеллума туда, откуда слышатся шаги. Он долго вслушивается, затем кивает головой, подтверждая. Слышу: он приготовил уже фонарик и нож. С ножом в руке будет обыскивать Алинчуков в канале.
Шаги все ближе и отчетливее. Ошибки быть не может. Тяну за шнурок. Щур дергает в ответ легонько — слышит, значит.
Шаги ближе. Точно не погранцы — отсюда до границы далеко, идя по своим делам, вряд ли бы так тихо пробирались. Значит, или Алинчуки, или какие другие контрабандисты.
Вижу: выныривает вдруг из темноты, шагов за десять от меня, силуэт. За ним — еще. Опускаю голову, чтобы лица не заметили.
Пять их. Подходят к насыпи. Стали у тоннеля. Долго стоят неподвижно, потом один быстро взбирается по крутому склону насыпи, переходит на другую сторону. Мы такого не ожидали. Что такое? Может, они в тоннель и не собираются? Я гляжу то на четверых оставшихся внизу насыпи, то на вход в тоннель. Вокруг — тишина. Думаю: «Может, просто хотят осмотреть другую сторону насыпи и тоннель?..» Я не ошибся. Через некоторое время у входа появляется темный силуэт с серым прямоугольником носки на плечах. Слышу приглушенное «цсс, цсс», четыре темных силуэта движутся вдоль насыпи к тоннелю. Заходят туда вместе. У меня от радости сердце в груди заколотилось. Все как надо складывается, как предвидели!
Алинчуки, низко наклоняясь, один за другим залазят в тоннель. Тогда трижды сильно дергаю за шнур, и Щур вскакивает. Несколько длинных прыжков — и исчезает за насыпью. Грабарь соскакивает вниз на нашу сторону. Бегу за ним.
Почти одновременно включились с обеих сторон тоннеля фонари. Залили ярким светом. Послышался холодный, спокойный, уверенный голос Грабаря:
— Ручки вверх! Раз-два! И не гу-гу! Первая категория!
«Ого! — думаю. — Какой ты, а?»
Зажег я свой фонарь, и Грабарь со сверкающим в правой руке ножом пошел вперед. Мы со Щуром светили в середину тоннеля. Куртки широко распахнули, чтобы выходы заслонить, светла поменьше выпускать наружу, чтоб не так заметно издали было.
Грабарь обыскивает первого с краю. Узнаю в нем Альбина. Грабарь вынимает из его кармана пистолет, запасные магазины, еще что-то, издали не разглядеть. Сует все в свои карманы. Потом обыскивает следующего, Адольфа. Так же ощупывает, выворачивает карманы, забирает оружие. Потом Альфонса. Затем Амброзия. Наконец, подходит к Альфреду. Тот говорит. Я не слышу, что именно. Но расслышал, что Грабарь в ответ сказал:
— По какому праву? А потому, что нравится нам! Понял?.. Если не нравится, так я тебе зубы повытряхну или косарем в бок. Усек?
Грабарь закончил обыскивать Алинчуков. Сказал им:
— А ну, скидывать носки! Одним духом, ну, а то я вас!
Теперь Грабарь держал в левой руке фонарик, а в правой — парабеллум, отобранный у Альфреда. Братья поспешно скинули носки. Тогда Грабарь объявил громко:
— А теперь — марш за границу! Гуськом, один за другим!.. А я — с тылу. Кто обернется — тому сквозняк в мозгах сделаю, чтоб проветрилось. А ну, вылазь! Пошли! Первая категория!
Щур погасил фонарь, освободил выход. Алинчуки один за другим вылезли из канала и направились в поле. Грабарь пошел за ними. Щур залез в канал и принялся вытаскивать носки наружу. Оказались тяжелые. Я начал связывать их по две. Две для Грабаря, две для меня, одну для Щура: он послабее нас.
Ждем, пока Грабарь вернется.
— Марово их он обработал! — шепчу Щуру.
— Старая фирма! Жиган! Я знал, кого на такую работу взять. Таких, как он, мало на пограничье.
Вскоре послышались легкие шаги, и с насыпи сбежал Грабарь.
— Где их оставил? — спросил его Щур.
— Полкилометра вел их. Может, до самой границы. Я местность здешнюю не знаю. А потом потиху назад, назад… Задал им. До Москвы до самой помаршируют — думают, что я сзади иду.
Вернулись мы на мелину. На чердаке, при свете фонаря, Грабарь принялся вынимать отобранное у Алинчуков. Три парабеллума оказалось, два нагана, пять фонариков, много патронов и запасных магазинов. Несколько портмоне. Щур принялся их исследовать. Было там много советских и польских денег, были доллары и фунты стерлингов. Документов не нашли. Контрабандисты в дорогу удостоверений не берут.
— Знаешь что? — сказал Щур. — Половину денег отдадим матери Вороненка, а половину Лорду отошлем, в тюрьму. Он из-за них мучается. Пусть ему через то хоть какая польза.
— С паршивой овцы хоть шерсти клок, — заметил Грабарь.
— А нам останется товар и машины.
Принялись распаковывать носки. Товар там дорогой: кожа лакированная, шевро, французские перламутровые пуговицы, батист, красивые чулки. Все наилучшего сорта.
— Ну, добрый кус мы урвали! — обрадовался Щур.
— Где скинешь? — спросил Грабарь.
— Дьявол его знает! Продать можно, но ведь потеряешь много.
Тут пришла мне в голову мысль.
— Знаешь что? — говорю Щуру. — Может, занесем товар к Бомбине? Она давно освободилась, а дело свое зашмаровала.
— Дело говоришь! — похвалил он. — Тут задарма спустишь. А там вдвое против настоящей цены заработаем. В восемь, в десять раз больше возьмем, чем здесь. Ну и того, — подмигнул мне, — Бомбину свою увидишь. Хорошо, что вспомнил!
Решили мы подождать новой ночи и отнести завтра за границу отобранный у Алинчуков товар. Щур пошел в местечко, а мы с Грабарем остались на мелине.
7
Мы хорошо вооружены. У меня два парабеллума: один свой, второй отобранный у Алинчука. У Щура тоже два парабеллума, а у Грабаря — два нагана. Не любит он автоматического оружия. Несем мы три очень тяжелые носки с товаром Алинчуков. Был тот товар предназначен для Советов и направляется в Советы. Только с опозданием на один день и на другой пункт.
Ночь очень темная. Идем большей частью лесом. Медленно, осторожно, шаг за шагом — хоть никого и не боимся. На пулю из засады, из-за кустов, можем ответить десятком пуль. Осторожны мы, чтоб тех, кто на нас вздумает охотиться, врасплох застать. Осторожны мы до времени, а как время придет — драться будем до последнего. Про то не договаривались, но все мы это знаем.
У границы останавливаемся. Садимся на землю, снимаем сапоги, суем их за пояса, халявами вниз. Движемся беззвучно, как привидения. Ступни мягко опираются на хрусткие веточки, на шишки — никакого шума.
Ведет нас Щур. Я хорошо знаю этот кусок пути, иду последним. За Щуром идет Грабарь. Он местности вовсе не знает, потому держится между нами. У меня в руках пистолеты. Запасные магазины оттягивают карман. Шаг за шагом в тишине продвигаемся вперед. Постепенно глаза привыкают к темноте и местность различается уже на большом расстоянии.
Минуем стежки — по ним большевистские солдаты ходят в тылу приграничья. Осторожно приближаемся к каждой. Долго прислушиваемся, стоя рядом друг с другом. Наконец, переходим опасное место. Снова марш, снова лес и тропки.
Вдруг Щур остановился за два шага от тропы, опустился на колени. Мы — вслед за ним. Сперва ничего не слышу, потом улавливаю неясные звуки. И не разобрал поначалу, что такое. Потом различаю уже отчетливее шарканье подошв о землю. Ближе, ближе. Вот, различаю пару темных фигур, медленно приближающихся по стежке к нам. Тихонько поднимаю руки с пистолетами, направляю дула перед собой… Сделаю с теми, кто подойдет, что захочу! Восемнадцать пуль у меня наготове. Все могу выпустить за несколько секунд. Могу превратить двоих пограничников в изрешеченное пулями мясо!
Идут спокойно, лениво. Останавливаются рядом с нами. Один кашляет слегка. Щур рядом с ними. Если б захотел, мог бы ухватить за плащи. Погранцы стоят с минуту, прислушиваются. Но ничего не замечают и, тяжело шаркая ногами, идут дальше. Чувствую что-то вроде жалости к ним, смешанной с презрением.
Шум шагов все быстрее отдаляется. Щур встает, идет вперед. Мы — за ним. Движемся беззвучно — как тени, как призраки. Мы — ловкие, опытные, дерзкие, смелые, хорошо вооруженные, уверенные в себе. Хорошо так работать и с такими коллегами!
Удивляюсь Щуру, безумцу эдакому. Я думал раньше, он только свары и годится затевать, а он так осторожно и тихо нас проводит, что даже описать не могу свое удивление. И в то же время отвагой бравирует. Например, вторую линию перешли по мосту. Никто его не стерег. Если б кто был на мосту, столкнулся бы с нами нос к носу. А что было бы тогда?.. Нужно ли писать, что тогда бы случилось?
Слышим, по дороге едет воз. Сворачиваем с дороги и становимся вблизи группы елок… Не один воз проехал — целый караван их. К границе едут — может, лес валить там поблизости?
В нескольких километрах от границы одеваем сапоги и идем по полевым дорогам, стараясь сократить путь. Под утро приходим к хутору Лени. Наконец, увижу ее. Так часто думал о ней, собирался проведать. Стоим в лесу неподалеку от хутора. Ждем, пока рассветет.
Становится все светлее. Видим все отчетливее дорогу, идущую к хутору, и двор. Видим, как паробок запрягает коня, едет в поле. Вот девка потащила здоровенное ведро в хлев. Чужих вблизи хутора не видно.
— Пойду, посмотрю, — говорю Щуру.
— Добре. В случае чего — вали сразу из двух стволов и давай к нам. Мы поддержим.
— Лады.
Налегке, без носки, быстро иду к хутору. Иду по двору, ступаю на крыльцо, вхожу в сени. Рук из карманов не вынимаю. В карманах — заряженные, наизготове пистолеты. Из сеней заглядываю сквозь приоткрытые двери на черную половину дома. Вижу Леню. Стоит спиной ко мне. Моется в большом тазу, стоящем на табуретке посреди избы. Намыленными руками трет лицо и шею. Крадусь к ней. Леня ополаскивает лицо водой. А когда начинает вытираться, обнимаю ее, поднимаю.
Крикнула, вырвалась. Таз упал на пол, вода разлилась.
— Это я, Леня!
Прижала руки к сердцу.
— Как ты меня напугал! Откуда ты?
— Из Польши. Случилось мне тут с товаром идти. Решил тебя проведать. С коллегами я.
— Сколько их?
— Двое.
Леня поспешно вытирается полотенцем, весело мне улыбаясь и радостно сверкая глазами.
— У тебя спокойно?
— Полный покой! Теперь меня не трогают. Наверное, вызнали откуда-то, что я пункт закрыла.
— А для меня товар сдашь?
— Чтоб я для тебя не сделала! Ты не забыл меня? Иди, поздороваемся!
Кидает полотенце на лавку, обнимает меня за шею. Пахнет она мылом и мятой. Тянет меня за руку на другую половину избы.
— Хлопцы же ждут!
— Пусть подождут немного. Я тебя дольше ждала!
Потом иду в лес и привожу коллег на хутор. Леня уже оделась. Пригласила нас в комнатку за перегородкой, где обычно снаряжали бандажи. Мы вынимаем товар из носок, раскладываем по столу и считаем, сколько всего.
— И когда ты нам, Бомбинушка, спихнешь товар? — спрашивает Щур.
— Торопишься?
— Так, и бабки нужны.
— За золото хотите продать или за доллары? А может, на шкуры выменять?
— За доллары продай!
— Если так, то к завтрашнему вечеру все улажу. Раньше не получится. Придется вам у меня ночевать.
— Чтоб только нас здесь не загребли…
— Не загребут. Откуда им знать?
— А Владка тогда?
— Тогда ждали вас. Засыпал вас кто-то из местечковых, а Макаров засаду устроил. Четыре дня вас ждали.
Днем пересидели на чердаке. Оттуда хорошо видно во все стороны и удобно удирать в случае чего. Леня днем поехала в Минск, а вечером пять носчиц перенесли весь товар в город. Я тем временем сидел в хате, а коллеги — на чердаке.
— Сегодня можем возвращаться, — говорю Лене, когда та приехала. — Товар сдала и уже, наверное, бабки для нас имеешь.
Леня разозлилась.
— Чего спешишь? Столько времени не виделись, а тебе неймется! Ничего не станет, если подождешь! Или дело какое дома?
— Нету дела.
— Ну так завтра пойдешь! Денег я всех не получила еще. Завтра заберу остаток. С жидами я договорилась по-всякому, а вам же монету на руки надо!
— Ну, да.
— Видишь? Я знаю, как лучше сделать.
Хлопцы спали на крыше, а я — у Лени. Назавтра Леня с утра поехала в город. Вернулась близ полудня. Посчитала общую цену товара и вручила нам две тысячи девятьсот пятьдесят долларов. Взял я с этой суммы двести пятьдесят и протянул ей, говоря:
— А это тебе за работу и мелину.
Она рассмеялась.
— Какой ты добрый ко мне! А ты бы свои деньги дал со своей доли, а не с общего.
— Добре, — говорю. — Дам тебе половину своей доли, а если захочешь, то и все! Деньги у меня есть.
Леня кивает с деланным удивлением.
— Смотрите на него, богач какой! Ты за меня не бойся. У меня от жидов свой процент. Это вчистую ваше. Если шкурки за доллары взять захотите, то еще больше заработаете.
— Для нас и того заработка хватит, — сказал Щур. — Ни к чему нам лишние хлопоты.
Разделили мы между собой полученные деньги. Вечером, после сытного ужина, попрощались с Леней и пустились в обратный путь.
— Если еще товар будет — приходи, — сказала мне Леня. — Я пункта теперь не держу, но для тебя товар всегда продам.
Ночь выдалась теплая. Приятно было идти по полям и лесам без носки за плечами. Как раз был канун какого-то праздника. По деревням девки пели монотонные белорусские песенки. Шли мы по лугам, полям и лесам, по стежкам, мху, дорогам. На запад шли — туда, где тянется наискось, стремится сверху вниз, с востока на запад, Большая Колесница.
Мы хорошо одеты, с надежным оружием. Много у нас денег и надежд добыть еще больше, больше денег. Но зачем они мне? Разве я знаю? Мне деньги не нужны вовсе. Мне от жизни многого не надо.
Уже половина мая. Щур улаживает наши дела в местечке, смотрит внимательно, разузнает, не пойдет ли вскорости за границу группа «повстанцев». Грабарь целыми днями спит на чердаке, на нашей мелине у матери Вороненка. А я с двумя парабеллумами в карманах брожу по лесам и дорогам. Иногда очень далеко захожу. Не знаю, что меня гонит? Не могу понять. Может, не хватает чего? А чего? Все есть: и жратва, и водка, и преданные друзья.
Весна уже вовсю. Солнце поливает землю горячими лучами. Лес играет, поет, шумит. Земля оживает, дышит глубоко.
Я долго брожу по лесам вдали от местечка. Иногда ко мне присоединяется Грабарь (но только по вечерам: коллега не любит солнца). Тогда идем в ближайшие деревни. Там у нас много знакомых хлопцев и девчат. Зовем их к себе на водку и конфеты. Грабарь не особо разборчивый, кем угодно доволен — лишь бы баба! А днем цинично посмеивается над девками, которых вечерами и ночами усердно и работяще ущупывает по чуланам и амбарам. Говорит, к примеру, такое: «Для меня красота начинается изрядно за коленом, а кончается около пупка. Вот это — первая категория. А что остальное, так разницы никакой. И не в счет!»
Грабарь умеет с девчатами разговаривать. Хоть гадкий и циник, пользуется большим успехом. В каждой окрестной деревне у него по нескольку любовниц. Не раз слышал: такое он сальное, жуткое, похабное непотребство им говорит, что аж плевать охота, а они его клянут, кулаками тычут, уши себе затыкают — но слушают, так и льнут к нему.
Когда работы на ночь нету, Грабарь на мелине не спит. Приходит рано утром, заморит червячка и укладывается до вечера, а вечером снова на обход деревень. Днями остаюсь я один. Долго спать не могу, брожу в одиночестве по лесам. Часами лежу на мягком мху, глядя в глубокую бирюзовую даль неба, где плывут легкие облачка или ползут тяжелые огромные клубы туч.
Однажды случилось мне долго блуждать в лесу поблизости от Душкова. Уже хотел я обойти деревню Выгонище и вернуться на мелину. И вдруг, стоя на краю леса, заметил идущих по дороге от местечка молодых хлопца и дивчину. Хлопец мне показался знакомым. Отступил я в лес, спрятался за кустами.
Когда пара приблизилась ко мне, я узнал Петрука Философа, ведшего под руку девушку, которой я никогда в местечке не видел. Одета скромно. Черные волосы, брови, бледное лицо. Очень молодая, намного моложе Петрука. Показалось мне: видел я где-то ее лицо. Хотел я сперва подойти к ним, но показалось мне: когда-то я ее или кого-то очень похожего встречал. Потому не стал выходить. Они меня миновали. Тихо разговаривая, пошли дальше. А я смотрел им вслед и все старался вспомнить. Наконец, вспомнил Капитанскую могилу и призрак. Ведь лицо — то самое! Похоже очень. Видел сквозь горячку, в полумраке, но запало в память.
Пошел за ними. Слежу издали, но подойти не отваживаюсь. Что-то меня держит.
Дошли они до окраин Душкова, возвращаются. Я за ними иду вдали. Затем лесом забегаю вперед, прячусь в кустах у дороги. Приближаются ко мне. Слышу голос дивчины:
— Пусть пан в Варшаву напишет. Может, там известия какие отыщутся?
— Нет, панна Ирка! Ничего это не даст. Хочу я теперь через газеты обратиться к эмиграции. Они могли в Германию выехать или во Францию. У них могли быть знакомые, знающие об их судьбе.
Дальше я не слышал. Но из обрывка этого понял, что Петрук старается отыскать родных и разговаривает про то с дивчиной по имени Ирена. А кто она? Понял я, что стою перед загадкой, которую без помощи Петрука не разгадать мне.
Ушли они, скрылись за пригорком. А я долго смотрел им вслед.
Пошел полями к лесу, где было наше укрытие. Там Геля готовила нам еду. Можно было бы и в избе поесть, но вольготнее на чердаке, там мы никого не стесняем. Собираю еду в корзину, выхожу и залажу на чердак. Грабарь глянул на меня из-под прищуренных век, изображая спящего.
— Человече, и когда уже выспишься? — говорю задумчиво.
— А когда мне еще спать? Что, работа гонит? Ночью с бабами валандаюсь, а днем, значит, сплю.
— Вставай кушать!
Едим с аппетитом жареную со шкварками яичницу, горячие блины, тушеное мясо, капусту. Выпиваем бутылку водки. Закуриваем. До заката еще далеко.
— Щур приходил, — говорит Грабарь.
— Ну и?
— Принес десять бутылок «беленькой» и две тысячи папирос.
— Что говорил?
— «Повстанцы» тихо сидят. Не идут за границу. Алинчуки донесли в полицию, что ты их ограбил по дороге с Ракова в Олехновичи.
— Да быть не может! Что, правда?
— Щур сказал. Клял на чем свет стоит. Первая категория!
— Так ведь узнать меня не могли! Я ж ни слова не сказал, и не видели они меня вовсе!
— Щур говорил, это с понтом они, западло кинули. Сами не знают, кто их обработал, а на тебя со злости. Альфреда работа. А тебе чего? Никто ведь не верит, что у них товар в самом деле по дороге в Олехновичи отобрали.
— Да плевал я на них! — говорю, злясь. — Пусть доносят. Попрошу Щура, чтоб вызнал, когда снова за границу пойдут, и вот тогда за понты их уже и покатаю!
— Такое я понимаю! Люблю такие игры, — согласился Грабарь.
— Что еще Щур сказал? Работа будет?
— Пока ничего нет. Сказал потерпеть. Пусть темные ночи подойдут. Вот тогда начнется работа! Первая категория!
— Скучно ждать-то.
— Тогда пошли по бабам! Знаю я в одной деревеньке таких женщинков, что аж холера побери! Первая категория!
Солнце зашло. Отправились мы на вылазку в одну из соседних деревень. Уселись на большой камень поблизости от крайней хаты и наблюдаем за вечерним движением в деревне. Пастушки гонят с пастбища среди клубов пыли стадо коров. Мимо нас проходит мужик. У него огромная кудлатая голова, большие, почернелые, кривые ступни.
— Бог в помощь, Валент! — кричит ему Грабарь.
— А?.. Спасибо.
И пошел дальше.
— Видишь, карабин автоматический какой, — говорит Грабарь.
— Где карабин?
— Вон, на плече несет.
— Так это ж вилы!
— Само собой. Это белорусский автоматический карабин — за раз пять дырок делает.
— А белорусская пушка тогда как выглядит?
— Топор это, — отвечает Грабарь. — В лоб ляснешь — конь свалится!
С луга идет к нам группа девчат с граблями. Юбки подоткнуты высоко, рубахи взмокли от пота. Тряся цыцками, маршируют мимо нас, оставляя за собой густую волну вони: пот, гниль, лук, навоз. Оглядывают нас внимательно коровьими глазами, пустыми, безо всякого выражения, и идут дальше, зазывно колыхая бедрами.
— Ганка, косу заплети! — орет Грабарь.
Одна касается ладонью спины.
— Да не сзади, спереди!
— А чтоб на тебя лихоманка! — огрызается Ганна.
Остальные девчата улыбаются, показывая розовые десны и ровные рядки здоровых, белых зубов.
— Приходите, кто захочет, к Акулине! Позабавимся! — кричит вслед Грабарь.
— Добре! — отвечает одна издали.
Мы по-прежнему сидим на камне. Наступает теплый весенний вечер. Темнеет. Грабарь встает, стискивает кулаки, потягивается, аж кости трещат.
— Ну, пошли! Позабавимся — первая категория!
Идем узкой кривой улочкой в глубь деревни. Тут все настоящее: вонь, грязь, голод. И женщины — если красивые, то красивые, а если уж гадкие, так гадкие. Во всей деревне не найдешь ни корсета, ни парика, ни искусственных зубов. Разве только немного есть румян, пудры и помады. И то хорошо, если в половине семей, кто побогаче или родных в местечке имеет.
8
Ночь теплая и тихая. Небо черное, усеянное множеством ярких звезд, и в свете их видно ясно и далеко. Сижу, свесив ноги, на краю обрыва в несколько метров. Под ним проходит тракт с Ракова до Минска. В левой моей руке — карманный фонарик, в правой — заряженный парабеллум.
Смотрю внимательно в сторону моста. Он в сотне шагов. Слышу шум воды, но ни самого моста, ни речушки разглядеть не могу. Слева от моста вода журчит на камнях. Ждем мы группу «повстанцев», возвращающихся из Советов с грузом шкурок. Должны «повстанцы» — как сказал нам верный человек, и как ясно из местности вокруг — перейти речку по камням. Потом дорога идет по ложбине, прокопанной в длинном взгорье, и выходит на большую поляну. Ложбина широкая, метра четыре-пять, а длиной в несколько десятков шагов.
Мы со Щуром сидим напротив друг друга у выхода из этого выкопанного оврага. Он — отличная ловушка для группы, за которой охотимся две недели. Уже трижды ускользала из наших рук! Удивительное и непонятное везение. Мы оттого злимся и упорно охотимся именно за ней. Третью ночь уже сидим в засаде в том овраге.
Уже половина августа. Лето кончается. Четвертый месяц охотимся на «повстанцев». Поймали больше десятка групп — должно быть, больше, чем погранцы по обе стороны границы за целый год. Малые группы, идущие под своей рукой, не ловим — слишком малая для нас добыча. Выискиваем большие, с дорогим товаром. Несколько групп мы загубили совсем. Купцы, видя, что они все время попадаются, перестали давать товар. С некоторыми участниками и машинистами тех групп Щур договаривается втайне от их коллег, и они сами выдают дороги и пункты. А мы устраиваем засады в Советах. Изображаем агентов, чекистов или сексотов, берем «повстанцев» наскоком, они даже и понять не успевают, что случилось и кто мы.
На мне — черная кожанка и шапка с красной звездой. Ношу темно-синие вельветовые штаны, обшитые кожей, сапоги с длинными голенищами. Так же одет и Грабарь. На Щуре — длинная военная шинель и военная шапка без знаков отличия.
Уже первый час ночи. Очень хочется спать. Но борюсь с сонливостью, внимательно смотрю в сторону моста. Слышу позади легкий шорох. Наклоняюсь к земле, взвожу курки. Слышится тихий посвист. Два раза. Я отвечаю. Сбоку, из-за деревьев, показывается Щур. Садится рядом и шепчет:
— Наверное, не пойдут уже.
— Наверное. Уже давно за полночь.
— Закурим?
— Давай.
Отхожу в глубь леса. Снимаю куртку, ложусь наземь. Укрываю курткой лицо и верх туловища. Закуриваю. Потом прячу папиросу в рукав и возвращаюсь к Щуру. Он тоже закурил.
Долго сидим молча, курим. И прислушиваемся внимательно к тому, что вокруг делается, да и присматриваемся тоже.
Сидим на краю обрыва, свесив ноги. Под нами расстилается серое полотно дороги, уходящее в серый же сумрак.
Грабарь не с нами. Он сидит в засаде по другую сторону реки, прячется в кустах у моста. Мы учли, что группа может пойти другой дорогой. Слева от моста тоже есть брод. Если Грабарь увидит, что переправляются там, даст нам знать и мы тогда перехватим группу через несколько километров.
Сидели мы на краю обрыва, куря потихоньку, и вдруг заметили: внизу что-то движется. Выглядело так, будто часть дороги начала беззвучно ползти вверх… Наклоняюсь поспешно. Слышен легкий звучок, будто металл соприкоснулся с металлом. Повторился. Может, оружие звякнуло? Беру парабеллум с колен, укладываюсь на краю рва. Щур скорчился рядом с пистолетом наизготовку. Проходит несколько секунд, и видим: низом, уже прямо под нами, проходят два вооруженных красноармейца. Их серые шинели сливаются с серым сумраком дороги, и если бы не движение, вовсе бы их не заметили, даже и с такого расстояния. Только оружие позвякивает тихонько при каждом шаге. А звук шагов не слышен, ноги красноармейцев тонут в мягкой, застилающей дорогу пыли.
Долго смотрим вниз. Красноармейцы пропадают из виду. Звяканье растворяется вдали.
— Прошли, — говорю тихо Щуру.
Тот долго молчит, вслушиваясь.
— Не-а, стоят.
— Пойду посмотрю.
Встаю и медленно, тихо иду, описывая полукруг, между растущими вдоль края рва соснами. Выхожу на край большой поляны, посередине которой идет дорога от границы. Не видно ни дальнего, поросшего лесом берега поляны, ни моста, но кажется мне: слышу удаляющиеся звуки. Ложусь на землю и смотрю так, чтобы фоном служило небо — таким способом ночью видно гораздо лучше. Кажется, различаю уменьшающиеся силуэты. Чтобы удостовериться, наблюдаю их еще с минуту. Потом возвращаюсь в лес и иду к краю рва, где мы оставили между корнями сосны брезентовый мех с шестью бутылками спирта, литром ликера и несколькими плитками шоколада.
Ищу место. Медленно бреду меж деревьями, глядя под ноги. В левой руке — фонарь, в правой — парабеллум. Вдруг замечаю на краю рва, рядом со стволом старой сосны, серое пятно. Думаю, торба. Наклоняюсь, чтобы взять. А пятно отдергивается от протянутой ладони, и слышится вскрик:
— Кто это? Руки вверх!
Отпрыгиваю назад и вбок. Падаю на колени и направляю влево от себя луч света от фонарика. Вижу две головы в буденовках с красными звездами. Стволы карабинов направлены туда, где я был за секунды перед тем. Потом справа, с краю рва, зажигается еще фонарь и слышится голос Щура:
— Руки вверх!
Гашу фонарь, соскакиваю с края рва, в том месте неглубокого, оказываюсь как раз между красноармейцами. Парабеллум держу наизготовку. Щур светит на нас сверху.
— Кто такие, черт побери? — спрашиваю по-русски.
— Красноармейцы.
— А какого лешего тут делаете?
— Из Красного возвращаемся. Из засады.
— Вы сами откуда? Пограничники?
— Ну да.
— А кто вам позволил по тылам таскаться и засады устраивать?
— Политрук наш.
— Красноармейские книжки есть?
— Нет.
— Так откуда я, черт побери, узнаю, что вы — на самом деле красноармейцы?
— Вы, товарищ, не ругайтесь. Нет у вас права ругаться!
— А вы зачем тут шастаете и распугиваете нам контрабандистов?
— Да мы по дороге шли… тихо очень…
Щур, светя фонариком, тоже соскочил вниз. Погасил фонарь, и, пока глаза не привыкли снова к темноте, окутала нас чернота.
— Есть свободное время? — спросил Щур красноармейцев.
— Есть.
— Поможете нам. Только тихо, чтоб не услышали нас. Сейчас полвторого. До третьего часа еще можно покараулить.
Один из красноармейцев обратился ко мне.
— Товарищ, на той стороне в кустах сидит кто-то.
— Откуда знаете?
— Видели, как закурил. Спичка вспыхнула.
Понял я, что Грабаря они заметили, и говорю:
— Это наш человек. Макарова знаете?
— Слышали.
— Это он.
— А мы думали: контрабандисты. Ждали, что в поле выйдут, а они не выходят. В конце концов, пошли дальше — черт его знает, кто в кустах сидит.
— Хорошо сделали, — хвалю солдат. — Если б полезли вдруг, мог бы вас подстрелить.
Щур забрал себе одного красноармейца, я — другого. Вернулись на свои места, караулим дальше. Разговариваю тихонько с солдатом. Он из Борисова. Рассказывает много подробностей про свою службу. Сказал, знает место, где агенты товар на возу в Минск перевозят. Обещал помочь засаду на них устроить. Спрашивал, какой фирмы у меня пистолет. Первый раз в жизни такое оружие увидел.
В третьем часу ночи перестали мы караулить. Щур присвистнул дважды и спустился со своим компаньоном вниз. Мы тоже сбежали со взгорья на дорогу. Договорились встретиться с красноармейцами в воскресенье, в девятом часу вечера, рядом с кустами справа от дороги, на той стороне реки. Попрощались с солдатами. Те пошли к границе. Потом пошли искать Грабаря. Он вышел из кустов нам навстречу.
— Что у тебя слышно? — спрашиваю.
— Погранцы шли. Двое… Поторчали здесь, поторчали, да и пошли. Думал жахнуть по ним, да шухеру не хотел устраивать!
— Они заметили, как ты закурил! — сказал Щур. — Ты смотри! Нельзя так!
Кривыми узкими стежками пошли в глубь леса. Долго шли, Много раз меняли направление. Перешли большое болото. Наконец, когда уже рассвело, пришли в хорошо укрытое место. Там сделали дневку.
Прежде всего поели. На каждого — небольшой кусок хлеба, большой шмат солонины, полплитки шоколаду и по нескольку глотков спирта.
Разогретые движением и спиртом, укладываемся спать. Я на часах первый. Всегда так делаем: охраняем коллег по два часа каждый. Засыпать нельзя. Стараюсь на землю не ложиться. Сижу, стою, хожу тихонько поблизости от нашего укрытия — но не ложусь. Можно нечаянно заснуть.
Кончаются у нас солонина и спирт. Без хлеба уже несколько дней. У нас шкурок много: куньих, лисьих, беличьих. Только есть нечего.
У нас дневка. Я на часах. Развел костерок, пеку картошку. Я ее накопал в поле у смолокурни. На коленях у меня сидит большой рыжий кот — здоровенный лоб, излохмаченные в драках уши. Наверное, любовник хоть куда. Кошачий конквистадор. Очищаю от соли тоненькие ломтики солонины, кормлю кота. Он ест неохотно.
Кот пришел ко мне, когда я вчера сидел в засаде, в неглубоком рву около мостка. Щур сидел в зарослях через дорогу, Грабарь — у дальнего края поляны. Должна была пройти большая группа контрабандистов. Ее машинист и сопровождающий ожидались при изрядных деньгах. План был простой: когда группа выйдет из лесу, Грабарь должен пойти вслед. Когда взойдут на мост, я должен осветить их фонариком и крикнуть: «Стой! Руки вверх!» Потом это же сделает и Щур с другой стороны. Следовало постараться, распознать машиниста и сопровождающего, и если группа кинется наутек, гнаться только за ними — они с долларами.
Время тянулось медленно. Было очень темно. Я сидел в гуще кустов, растущих по краям леса и давно не чищенного рва. Держал в левой руке фонарь, в правой — пистолет. Надоело мне всматриваться и вслушиваться в ночную темень. Я и глаза прикрыл. Уверен был: и так расслышу шаги подходящей группы контрабандистов. Вдруг с левой стороны, изо рва, послышался шорох. Чуть не вскочил. Хотел посветить туда фонарем — но этого нельзя было делать без крайней необходимости. Сижу дальше, скорчившись на дне рва. Направил влево ствол, приготовился стрелять. Чувствую — что-то колена коснулось. Левой руки коснулась мягкая теплая шерсть. Кот. С коротко обрубленным хвостом. Удивительно, как он оказался так далеко от людей, в глубине большого леса. Я с ним вместе просидел в засаде до утра. Потом отнес его на наше дневное укрытие. Теперь вместе с ним сторожим сны Щура и Грабаря.
Незадолго до сумерек принялись мы чистить оружие. По очереди, чтобы не было сразу много пистолетов разобрано и не готово. Принялся я рассказывать коллегам свой сон. Приснилось, что я в глубине большого леса. Вдруг вижу: деревья начинают двигаться. Очень удивился. Не знаю, почему, но кажется, что они задушить меня хотят. Защищаться надо! Только этим и спасусь! Вижу на земле большой пистолет, хватаю. Он заряжен. Сжимаю его в ладони, оглядываюсь. А деревья все тесней сжимают кольцо. Сверху грохочет гром — это деревья глумятся надо мной, торжествуют. Кольцо вокруг все сжимается. Поднимаю пистолет и палю в красные, будто кровавые стволы. Пули сдирают с них кору, обнажают белое сочное мясо. А деревья все ближе! Я уже в твердых, безжалостных объятиях, шершавая кора древесных великанов сдавила меня, мои кости трещат. Я руки вверх вытянул, пистолет — в правой. Чувствую — смерть моя. Воздуху не хватает, а давят все сильней. Вижу над собой голубое пятнышко. Это небо. Последний раз давлю на курок, стреляю вверх. И просыпаюсь от звука выстрела. Вижу коллег, вздыхаю с облегчением. А Грабарь чертыхается: пока спал, шапка начала тлеть, волосы подгорели, а они и без того редкие. Щур, часовой, не заметил, как на Грабареву шапку упал уголек из костра.
— Знаешь, что мне приснилось? — спросил Грабарь тогда, гася шапку и снова водружая ее на голову.
— Что? — спрашиваю заинтересованно.
— Что лес мне кланяется.
— Как это, кланяется?
— До земли, и малые деревца, и большие деревья.
Щур хмыкнул коротко. Не знаю, придал ли он значение какое сну Грабаря, заинтересовался ли или просто насмешничал. Но когда поздней я пересказал свой сон, заметил раздумчиво:
— Случится потасовка какая, посмотришь! Осторожно!
Вечером пошли мы, как обычно, в засаду, устроились во рву. Я кота посадил на колени, тот заурчал тихонько. Вспомнились мне дом, родные, огонь в печи… Мысли плывут вдаль, а вместе с ними уплывают часы. Вдруг — опомнился. Слышу отчетливо, совсем близко, шум шагов. Обругал себя, встревоженный, — ведь чуть не уснул! Спихиваю кота с колен. Тот, недовольный, юркнул в темень. Я приготовился прыгнуть, в левой руке — фонарик, в правой — пистолет. Напоминаю себе, что нужно гнаться или за машинистом, большого роста, идущим впереди, или за сопровождающим. Тот маленький, держится сзади. Но его, скорее всего, будет Грабарь брать, идущий с тыла.
Внимательно вглядываюсь в ночь, упершись левой ногой в край рва. Вижу продвигающийся вперед темный силуэт. Пропускаю. Доски моста гудят под ногами. Может, «живца» пустили, проверяют. Сама группа идет в нескольких десятках шагов. Идут неуклюже, ногами шаркают. Много шума. Из-за того, что ходить не умеют, называют часто «повстанцев» «слонами».
Поравнялись со мной. Я приметил: впереди — силуэт большого мужчины. Думаю, машинист. Пускаю в темноту сноп искристого света. И ору:
— Стой! Руки вверх!
Сделалось удивительное. Закричали испуганно, и темная масса тел рванулась в кусты с другой стороны дороги. А оттуда в тот же миг сверкнул фонарик и раздался голос Щура:
— Стой! Ложись!
С тыла этот приказ повторил Грабарь. Но «повстанцами» овладела паника. Бегут, падают, ударяются о деревья, ползут. Стреляем, кричим: «Стой!» Но оттого паника еще больше.
Свечу фонариком вокруг, ищу машиниста. Вижу в нескольких десятках шагов от себя высокого, крепкого мужчину, пробирающегося между деревьями. Пускаюсь за ним. Чтобы сбить его с толку, свечу фонариком вбок, чтоб на дерево наткнулся. Не натыкается. Догоняю. Свечу вниз, ему на ноги. Выбираю удобный момент и наваливаюсь на него. Он падает.
— Вставай! — говорю.
Встал.
— Руки вверх! — говорю, направив ему в грудь ствол пистолета и луч от фонарика.
Контрабандист дергается молниеносно. Я едва успеваю отскочить — он хотел вырвать у меня пистолет! Бью в живот. Контрабандист кидается наутек. Снова гонюсь за ним. Удивляюсь его отваге. Если б я не решил твердо, что убивать буду только при крайней необходимости, давно бы его застрелил. Если контрабандист не остановится по приказу, обычный чекист или сексот застрелит, даже не пытаясь догнать.
Гонюсь. Догоняю, снова валю наземь. Приказываю подняться. Он еще раз пробует вырвать у меня пистолет, а когда не удается, кидается наутек.
Удивляюсь: чего он так отчаянно рвется, про смерть не думает? Снова догоняю. Но теперь фонарик зажимаю в зубах, левой рукой беру за воротник, поднимаю. Вывожу на дорогу, веду к мосту. Там, вдалеке, сверкают фонарики коллег. Вдруг мой пленник сильно бьет меня в бок и кидается вправо. Фонарик падает на дорогу. Хорошо еще, что не разбился. Поднимаю и, еще ощущая боль в боку, кидаюсь вдогонку. Сейчас я уже сильно разозлен.
— Стой, стой, убью ведь! — кричу на бегу.
Не останавливается. Почти утыкаю в его руку ствол парабеллума, давлю на курок. Не стреляет! Впервые случилось такое. Я всегда считал парабеллум безотказным оружием. Поспешно прячу парабеллум в карман, вытаскиваю наган, который в тот раз взял с собой. Наган никогда не подводит. Кричу:
— Стой! Последний раз говорю! Застрелю!
Не останавливается. Стреляю, целясь в левую руку выше локтя. Как только раздался выстрел, тот рухнул на землю и заголосил пронзительно: «О-го-го-го-го!»
Орал так, будто обрадовался до беспамятства, или перекликается с кем. Совсем не похоже на крик боли и отчаяния. А он все дерет глотку. Кричал страшным голосом, который подхватило эхо и далеко разнесло по лесу.
— О-го-го-го!
Чувствую — бледнею. Хочется в лоб ему пальнуть, только чтоб не орал так страшно. Чего он так выливается? Не от боли же? Знаю по опыту: боль от раны он не чувствует. И рана легкая. А может, от отчаяния, что удирать не может?
— Вставай! — кричу ему.
Он с места не двигается и еще страшнее орет:
— О-го-го-го!!!
Между деревьями сверкает свет фонаря. Приближается ко мне. Это Грабарь. Наклоняется над раненым.
— Что с ним? — спрашивает.
— Останавливаться не хотел! Несколько раз кидался наутек! Ударил меня. За пистолет хватал… Прострелил я ему руку.
— А отчего сразу ему не всадил? Нашел забаву! Он бы с тобой не забавлялся! — И сказал раненому: — Ну, вставай! Мигом! В лоб шмальну, а обыщу труп!
Раненый встал и, наклонившись влево, пошел к дороге. Подошли мы к мостку у поляны. Увидели двоих, лежащих на земле. Были это «повстанцы», пойманные Щуром у кустов, где хотели спрятаться от погони. Обыскали их. Ничего при них не оказалось. Принялись мы очень тщательно обыскивать моего пленника. Нашли на нем только десятку золотом и несколько серебряных рублей. Оттого очень удивились.
— Зачем удирал, холера? — ругался Грабарь. — Пулю захотел поймать?
Потом сказали «слонам», чтоб забирали с собой раненого, да и отпустили их. Те быстро утешились. Подхватили раненого под руки и пошли по дороге к границе.
Во время дела Щур прятал лицо в тени и не разговаривал. Хоть и замаскировался (налепил рыжие усы), боялся, что его узнают.
Когда выдалось свободное время, осмотрел парабеллум. С чего он не выстрелил? Причина оказалась неожиданной: пистолет был в полном порядке, но я во время суеты со «слоном» случайно поставил его на предохранитель. Потому и выстрелить он никак не мог.
Не повезло нам в тот раз. Ничего не взяли, группы не разбили. Только человека ранили. Когда обыскивал его, увидел, что рука целая, а пуля пробила мясо на боку, слева от грудной клетки.
Чуть позже я нашел во рву кота. Не испугали его ни крики, ни выстрелы, ни беготня, ни вспышки света от фонарей. Наверное, очень был опытный котяра, много в жизни повидал всякого. Трудно его было удивить или испугать.
9
Пару дней просидел я один на мелине в Красносельском лесу. Щур с Грабарем понесли за границу шкурки продавать: много их очень набралось. А я остался в лесу, чтобы выследить Казика Паяка, проводившего большую группу «повстанцев». Донесли мне: группа Казика два раза возвращается из Советов без товара, а на третий раз несет много шкурок. Вот и нужно было так улучить, чтобы подловить группу, когда будет возвращаться со шкурками, купленными за три ходки с товаром. Красносельский лес, где намеревались ограбить партию, проходила та группа одной из четырех дорог. Если внимательно наблюдать, как ходят, и смотреть, по какой дороге и с каким товаром прошли, то можно более или менее точно определить, когда и по какому пути будут возвращаться из Советов, неся шкурки.
Вот и сидел, записывал маршруты группы Паяка. Пока не пропустил ни одной ходки. Каждый день вечером и утром пересматривал следы на четырех «дорогах», какими обычно ходила через лес группа Паяка. Потом я стирал те следы с грязи и песка, с берега речушки и дороги, чтоб можно было различить новые. Оттого мог в точности определить, по какой дороге пойдут «слоны» в следующий раз.
Щур с Грабарем обещали вернуться самое большее — через неделю. Должны были продать шкурки и принести еды, табака и спирта. А уходя, оставили мне немного солонины, неполную бутылку водки и несколько плиток шоколаду. Предстояло мне обойтись этим до их возвращения.
Вскоре после ухода коллег начался ливень. Лило без перерыва день и ночь. Вымок я насквозь. Назавтра начал делать шалаш — получился хлипкий, тесный и протекающий. Надрал я древесной коры и принялся делать большую крышу. Работал долго, обдумывая каждую мелочь, отвлекаясь работой от скуки. Наконец, закончил крышу и укрепил ее на четырех опорах над кострищем, которое дождь обычно заливал. После, укрытый от дождя, достроил три боковые стенки, чтобы косо падающий дождь не заливал под крышу.
Дрова для костра были мокрые, дымили. Это и раздражало, и было опасно — дым мог издали выдать мое лесное укрытие. За километр от него я нашел сложенные в поленницы сухие березовые дрова. Снял с одной поленницы верхний мокрый слой и принялся носить к себе сухие поленца. Укладывал их под крышей, чтобы не вымокли от дождя. Вот так и обзавелся припасом для костра, и укрылся как следует от непогоды.
Кот был все время со мной. Когда лить прекратило, ходил в лес. Возвращался мокрый, терся об меня, грелся у огня, пел мне свою монотонную песенку. Веселей мне было с ним. Я говорил с ним, делился остатками еды, а он все принимал с необыкновенным достоинством. Хотя, несмотря на высокомерную мину, выглядел мой товарищ с отрубленным хвостом и обшарпанными ушами как настоящий бродяга, совсем не как упитанная домашняя гроза мышей.
Вечером я уходил в лес. Натягивал на хорошо известных тропах нити. Загораживал проход слегка укрепленными веточками. На берегах рек и ручьев, в местах бродов, затирал старые следы, чтобы после прохода группы остались свежие. Затем возвращался в укрытие. Не раз плутал в ночной темноте, подолгу искал его. Добравшись, подкладывал дров в укрытый глубокой ямкой огонь. Загораживал свод в шалаш, расставлял вокруг разные преграды, чтобы подбирающиеся к шалашу люди наделали побольше шума. Потом пек картошку. Ел ее с солониной, выпивал немного спирта и, не добавляя больше дров, чтобы не было лишнего света, укладывался спать на смолистых, обгорелых у огня еловых лапках.
Дождь барабанит по крыше, журчит вода, стекая со скатов. Жар от костра наполняет теплом мое тесное укрытие. Кот жмется ко мне, мурлычет песенку. Оружие у меня наготове, хотя ощущаю себя в полной безопасности. Кто сюда доберется в темноте?.. Ночь, мать несчастных изгоев, вынужденных скрываться от людей, укрыла меня своей завесой.
С утра иду наблюдать следы, оставленные ночью на тропках и тайных проходах. Запоминаю все тщательно, делаю выводы.
На следующий день после ухода коллег в местечко я заметил, что группа Паяка вернулась в Польшу. С того времени они за границу и не ходили. Может, ливни им помешали? Когда б я даже и не заметил их прихода в Советы, заметил бы их возвращение. Почти ничего не ускользает от моего внимания. Знаю, сколько мелких групп пошло в Советы, сколько вернулось. Узнаю это по следам и многим деталям — они, вместе взятые, дают точную картину ночной жизни в приграничье.
Кончился шестой день моей жизни в Красносельском лесу. Спирта уже нет вовсе, шоколад кончился. Осталось лишь немного солонины. Экономлю ее, постоянно голодный. Печеная картошка без соли уже надоела донельзя. Группа Паяка так за границу и не пошла, и меня ничего не держало здесь. Не стоило следить дальше, проще было узнать про партию в местечке. Обдумав все, решил я этой ночью идти за границу.
Ночь и день не было дождя, а теперь снова начало затягивать огромными клубами черных туч. Плотно закрыли они небо, затемнили. Скоро дождь польет еще сильней прежнего. Кот беспокоится. Крутится все время, бежать куда-то хочет, мяучит. Я его успокаиваю.
Близится вечер. В лесу уже темень. Тишина. Все замерло. Кажется только: тучи ползут с глухим рокотом по небу. Я кидаю в огонь все дрова, развожу большой костер. Греюсь, пеку картошку. Выкапываю ее из пепла, достаю последний кусок солонины. Отдаю треть коту, свою долю съедаю с картошкой.
Темнеет сильнее. Встаю. Ласкаю кота на прощание, выхожу из шалаша. Кот мяукает вслед. Может, чувствует, что навсегда прощаюсь с ним.
Иду напрямик лесом к дороге, выводящей на Затычин. Издали раскатываются глухие, тяжкие отзвуки грома. Все ближе они ко мне. Поднимается ветер, трясет верхушки деревьев, наполняет лес тоскливым шумом.
Темень кромешная. Я едва нахожу путь между деревьями. Вдруг, как коса на луг, падает на лес длинная зеленая молния. Низко, будто из-под земли — гром, плывет тяжелыми волнами во мрак. Новая молния, желтая, пронзает воздух. Третья, красная, взрывается ракетой. Четвертая, золотая, рассекает сумрак от края до края. Пятая, белая, срывает ночь с земли, и какое-то время я отчетливо вижу каждый ствол, каждую веточку, каждый лист. А потом молнии — непрерывно, одна за другой. Сплетаются. Бьют одна за другой. Разливают меж деревьями потоки света.
Воздух дрожит удивительно… Гудит тяжко. Дрожат деревья.
Гроза. Ветер ломает сучья, валит деревья. Молнии разбивают в щепы самые могучие ели, сосны и березы. Лес трепещет.
Я упрямо иду вперед. На голову сыплются ломаные ветки. Где-то справа, слева валятся деревья. Сверху сверкают молнии. Тревожный лесной шум сливается со свистом ветра, грохотом грома.
Держу в руке фонарь, но светить нет нужды. Молнии неустанно освещают мой путь.
Наконец, выхожу на край леса. Иду полем в нескольких десятках метров от опушки. Тут безопаснее. Не упадет дерево, не ударит падающий сверху обломанный сук.
Начинается ливень. По полям несутся потоки воды. Вскоре промокаю до нитки. Пробую фонарик — не работает. Тогда вынимаю из кармана наган и с оружием в обеих руках иду вперед. Стараюсь выйти на большак — иначе в такую погоду не найти нужного направления.
Наконец, нахожу дорогу. Долго не решаюсь, но, наконец, иду по ней вперед. Иначе могу заблудиться.
Иду вперед с оружием наизготовку. Ливень льет, я шлепаю по бесконечной луже. Пообок дороги, во рвах, несутся потоки.
Что сейчас кот поделывает? От моего лесного укрытия, от шалаша, от костра, наверное, и следа не осталось.
Все иду и иду по большаку вперед. Миную один за другим несколько мостов. Посчитав их, прикидываю: поблизости должен быть мост на второй линии. Останавливаюсь, прислушиваюсь, но через минуту иду дальше. Разве отличишь что-нибудь в таком урагане грохота?
Ступаю на мост. Медленно, пригнувшись, держа пальцы на спусковых крючках подготовленного оружия, иду вперед. Может, совсем рядом кто-то! Вдруг спотыкаюсь и чуть не падаю. Едва не выстрелил. Останавливаюсь, касаюсь ногой чего-то мягкого — это упавший с воза мешок с сеном.
Двигаюсь вперед. Дорога поднимается по скользкому склону. До границы мне — километр по дороге. Шаг за шагом, медленно бреду вперед. Смотрю на фосфоресцирующие стрелки часов. Половина десятого. Через час, если быстро идти, буду на мелине.
Чувствую: граница поблизости. Сворачиваю с большака влево и вскоре по пояс в воде перехожу обычно мелкий ручей, быстро набравший силу. Через пару часов он превратится в настоящую реку.
Наконец, подхожу к местечку. Иду по Минской улице, потом на рынок, оттуда на Слободку. Через полчаса я у нашей мелины. Залажу по крыше наверх и стучу в дверцы, ведущие на чердак. Через минуту слышу голос Грабаря:
— Кто там?
— Я. Владек.
Дверцы тут же открываются. Захожу на чердак. На перевернутом днищем вверх ящике горит свеча. Рядом на меньшем ящике сидит Щур. Перед ним — бутылки, закуски. Щур радостно меня приветствует:
— Я будто знал, что придешь! Говорили про тебя. Хотел уже идти за тобой, но днем у меня было важное дело в местечке, отложил до завтра.
— Дайте поесть и выпить, — говорю коллегам. — Изголодался я.
Поспешно выпиваю стакан водки, жую толстые ломти шинки. Когда чуть успокоил голод, снимаю с себя мокрые одежду, белье и обувь, переодеваюсь в сухое.
Щур рассказал, что Паяк после того, первого раза, сделал перерыв. У купцов нет товара, ожидают транспорт из Вильни.
— Просидел я там зря! — говорю Щуру.
— Не… наука на будущее тебе. Узнал зато хорошо, как «слоны» ходят!
Затем Щур вынул из бумажника и отдал мне тысячу девятьсот шестьдесят долларов — моя доля с последних наших работ. Теперь я имею вместе с тем, что отдал на сохранение Петруку, больше четырех тысяч долларов. Для меня сумма очень большая. Мог бы поступить, как советовал Сашка: прервать работу, уехать в другой город и там нормально устроиться. Задумался я над этим, но Щур мои мысли прервал. С оживлением принялся описывать планы будущей работы. Разгорячился, грозил «повстанцам» кулаком и нас заразил своей увлеченностью.
Выпили мы еще по стакану сивухи за удачу и легли спать. Щур из-за ливня не стал возвращаться в местечко, остался с нами. Рассказал, что раненного мной «повстанца» прячут в местечке и лечат тайно и что группа, с которой он шел, вернулась без денег и без сопровождающего.
Мы долго курили, разговаривали тихонько. Над нами безумствовала гроза.
Наконец я уснул. Снились мне той ночью слоны. Не африканские и не индийские, а наши, пограничные, которых старые фартовцы называют презрительно «повстанцами». Я следил за ними, гонял их, хватал. Помогал мне в том большой рыжий кот с обрубленным хвостом и разодранными ушами.
10
Однажды Щур пришел на мелину раньше обычного. Залез на чердак, замкнул за собой дверки и объявил торжественно:
— Знаете что, хлопцы?
— Ну давай, не томи! — сказал Грабарь.
— Петрук Философ прощается с границей. Сегодня уезжает в Вильню. С тобой, Владек, увидеться хотел. Он родных нашел. Вчера получил от матери письмо, так день, как пьяный, ходил. Сегодня начал в дорогу собираться. Мужанский чуть не плачет. Привык старикан к нему. Как сына полюбил.
Щур замолк. Долго раздумывал и вдруг предложил:
— Знаете что, хлопцы? Может, и нам на пару дней в Вильню мотануть? А что? Шкурок у нас тьма. Сдать нужно. Ну, и позабавимся малость. Как вам?
— Пошло! Первая категория! Да я хоть сейчас! — объявил Грабарь.
— И я согласен, — добавляю. — И в самом деле нужно что-то со шкурками делать. Много их собралось.
Щур пошел в местечко поговорить с Петруком, рассказать, что мы тоже в Вильню собрались. Вернулся вечером с двумя здоровенными новыми саквояжами. Запаковали мы в них шкурки и принялись приводить в порядок одежду, чтоб поприличнее выглядеть.
— Петрук тоже едет ночным поездом? — спрашиваю Щура.
— Так.
— Знает о том, что и мы едем?
— Знает. Один он едет. Мы с ним встретимся в поезде, по дороге.
Вечером попрощались с Гелей и ее мамой, оставили им много денег. Не хотели брать, говорили, что слишком много. Но Щур сказал: это их процент от нашей работы. Обещали мы вернуться через неделю. Когда завечерело, пошли с саквояжами к местечку.
Окольными тропками, через луга и огороды, пошли к дороге, выводящей на станцию.
Задержались на краю местечка, невдалеке от улицы Виленской.
— Кого ждем? — спрашиваю Щура.
— Фурмана.
— А как он нас найдет?
— Да он найдет. Договорились мы. Это ж Янкель Парх.
— А, другое дело!
Через несколько минут послышался грохот колес возка, подъезжающего по Виленской улице. Послышался голос фурмана:
— Но-о! Детки, но-о-о!
Щур зажег фонарь и описал лучом света два круга в воздухе. Возок остановился. Залезли мы на широкий, крепкий, слаженный для езды по трудным дорогам возок. Янкель Парх каким-то чудом меня узнает. Может, видит в темноте по-кошачьему? Я-то вовсе при нем голос не подавал.
— Мое почтение Владу!
— Добрый вечер, Янкель!
Возок трогается, движется в густой сумрак. Не едем мы по обычной, удобной дороге до Олехнович, тянущейся вдоль границы, от Ракова до Кучкунов и Дубровы. Едем мы через Бузуны и Волковщизну. Скверная это дорога. Все время кажется — вот-вот перевернемся. Возок кидает из стороны в сторону, подбрасывает, а кони мчатся вдаль по полям, лугам и лесам, минуют хутора и деревни.
— Но-о, детки! Но-о!
Вспомнилась мне езда с Сашкой и Живицей — и тоска стиснула сердце.
Минуем Дубровы и, обгоняя проезжих, едем уже по обычной дороге. На площади перед станцией Янкель останавливается. Щур с Грабарем остаются на возу, я иду за билетами. Хотел купить во второй класс, но Щур сказал, что одеты мы неподходяще для второго класса, подозрения вызовем. Захожу во дворик станции. Становлюсь в очередь к кассе, покупаю три билета. Потом возвращаюсь на площадь перед станцией. Возок стоит у въезда на нее. Коллеги стоят у возка, пьют водку и угощают фурмана.
— Скоро поезд? — спрашивает Щур.
— Через четверть часа.
— Ну так пойдем!
Щур щедро расплачивается с фурманом. Добавляет от себя двадцать долларов.
— Это на счастье!
— Дай Бог счастья! — отвечает фурман.
Берем саквояжи и обходим станцию. Не хотим идти через зал ожидания, где полиция и можно встретить знакомых из местечка. С другой стороны поезда входим в один из вагонов третьего класса. Занимаем свободное отделение.
Поезд трогается. Щур идет искать Петрука. Вскоре вместе с ним возвращается к нам. Здороваюсь с коллегой. Помогаю ему уложить чемодан на полку. Разговариваем о многом. Время летит незаметно. Щур с Грабарем уже легли спать, а мы все разговариваем. Петрук хочет отдать мне деньги, взятые на сохранение, но вместо того я уговариваю его взять еще две тысячи девятьсот долларов, так что всего становится четыре тысячи. Петрук неохотно соглашается взять.
В Вильно приезжаем утром. Щур говорит: останавливаться лучше в разных отелях, чтобы не привлекать внимания полицейских осведомителей. Петрук дал мне адрес своей матери — она жила на Зверинце — и просил зайти в гости вечером.
Щур остановился во второсортном отеле у вокзала. Я — в гостинице на улице Великой. А Грабарь величественным жестом подозвал извозчика.
— В отель!
— Какой?
— Первая категория!
— Есть Бристоль, Купеческий, Палас…
— В самый лучший!
Большой город сперва произвел на меня сильное впечатление. Попросту ошеломил. Сбивало меня с толку движение на улицах. Оглушал шум. Два года волчьей жизни не прошли бесследно. Множество ночей без сна, постоянное вглядывание в темноту, хождение под пулями, вошедшая в привычку осторожность — я сделался другим человеком, даже и физически изменился.
Давно уже не видел себя в большом зеркале. Когда теперь, одетый с ног до головы во все новое, посмотрел — надолго задумался. Увидел я чужого человека. В особенности удивили лицо и глаза — холодные, бледные, а в них — странная глубина, которой раньше не виделось. С того времени я не люблю смотреть людям в глаза и стараюсь, чтобы взгляд мой был спокойный, приятный. А тогда долго всматривался в свои глаза, все старался понять: в чем дело, что это? Но понять не мог. Было там что-то от ночной темноты, от блеска стали, от вспышек винтовочных выстрелов, от постоянно стиснутых зубов, от всегдашнего ожидания удара и готовности его отразить. Отражались в них вечная ночь и граница.
Удивляли меня здешние люди: такие несуразно нервные, неуклюжие, рассеянные. Делают множество лишних движений, из-за мелочей начинают нервничать, злиться, кричать. Очень жадные, трусливые. Всегда и везде старались меня обмануть — на жалкие копейки. Я позволял — и смеялся про себя.
Гулял день и ночь. Едва хватало мне времени, чтобы выспаться. Развлекаться значило есть и пить по разным ресторанам, ходить в кино и театры, покупать продажных женщин. Дешевый этот товар, и посредников полно! Предлагали мне встречу с разными кокотками, с девчатами, девочками, чуть ли не с детьми. Женщин, как кобыл, сдают в наем: на час, на раз. Несколько раз делали такие предложения, что отказывался с отвращением. Крутятся возле меня разные типы, унюхавшие деньги. Теперь я узнаю город с другой, раньше вовсе мне не знакомой стороны. И вижу: люди в нем живут страшно, куда хуже, чем на пограничье! Тут же все время, на каждом шагу, неумолимая безжалостная драка. Тут нет места слабому и неспособному.
Вчера ночью, в первом часу, вернулся в гостиницу. Вместе со Щуром и Грабарем гуляли в тайном дорогом лупанаре. Обрыдло мне все: и пьяные, расхристанные, бесстыдные женщины, и душные комнаты, и вонь спиртного. Вышел на минуту во двор. Ночь была хорошая. Звезды сверкали так красиво… точно как на пограничье. Только не хватало лесного шума. Но рядом со мной были не поля, не деревья, но мрачные, понурые, холодные, каменные дома, и жили в них мрачные, холодные, понурые люди.
Вернулся в дом. Попрощался с коллегами и женщинами.
— Чего так рано?
— Только забава и началась!
— Останься, котик!
— И горла не промочишь?
Вижу пьяные, мутные глаза коллег, их бессмысленные улыбки. Вижу потные толстые лица женщин. Пудра стекает с потом.
— Голова болит! — объявляю им и ухожу.
Бреду медленно по городу. Улицы пустые. Пешеходов мало. На перекрестках маячат темные силуэты полициантов.
— Тоже граница, — думаю, — и погранцы свои. И тут пограничные полосы, колючая проволока, заставы, засады. Только тут контрабанда по закону делается. Везде тут кроются под разными личинами и масками хамство, обман, подлость, болезни, садизм, тщеславие. Все тут — контрабандисты. По-встан-цы!
Медленно иду по улицам. Одет я с иголочки, полицианты не обращают на меня внимания. Рядом с гостиницей, где остановился, из боковой улочки выходит дивчина. Одета плохо. С минуту смотрит на меня, потом улыбается завлекательно и предлагает:
— Может, пойдем?
Вижу молодое лицо и будто приклеенную, ненастоящую улыбку.
— Почему так поздно на улице? — спрашиваю.
— Не заработала. А время плохое. Первый час.
— Пошли!
Провожу ее в свою комнату в гостинице.
— Есть хочешь?
— Так.
Приказываю заспанному кельнеру принести графинчик водки, пиво и холодные закуски. Дивчина ест жадно, мне это нравится — и вправду голодная. Выпиваю стакан водки. Когда дивчина перестает есть, говорю ей ложиться на кровать, к стене поближе. Двери замыкаю на ключ и прячу его так, чтобы она не заметила. Бумажник, с частью денег, кладу в ящик ночного столика. А большая часть денег у меня спрятана в тайном кармане куртки.
Ложусь в кровать, курю папиросу. Потом засыпаю. Ночью меня будят осторожные движения дивчины. Я просыпаюсь быстро, не как люди города. Им усилие нужно, время, чтоб проснуться полностью. А я в один момент бодрый и вскочить готов, но притворяюсь, будто сплю. Движения чувствую инстинктивно. Думаю: нет, сестричка, просто так не выскочишь! Понимаю: хочет вылезти из кровати. Изображая спящего, поворачиваясь на левый бок — так, чтобы вся комната была видна — и прикрывая рукой лицо, жду дальнейших событий.
Встала с кровати, подошла к столу. Тихонько налила воды из графина в стакан. Пьет, наблюдая за мной. Возвращается к кровати и наклоняется надо мной. Я дышу ровно, звучно. Она долго прислушивается, потом выдвигает ящик ночного столика и вынимает бумажник. Из толстой пачки банкнот берет несколько десятизлотовок. Складывает бумажник, кладет на прежнее место. Потом поднимает с пола свой чулок. Складывает купюры в несколько раз, сует в носок чулка. Чулок оставляет на полу и осторожно залазит на свое место у стены. Скользнула под одеяло и прислушивается: сплю ли я? Конечно, сплю. И смеюсь про себя.
Утром я тщательно умылся, оделся. Лола — так она себя назвала — тоже оделась. Заказал я роскошный завтрак, пригласил ее к столу. Обращался с ней очень вежливо. Ухаживал за ней. Спрашивал поминутно:
— Может, Лола еще чего пожелает?
Дивчина ела поспешно, жадно. Потом говорит:
— Все, мне хватит.
— Хватит?
— Так.
— Ну, тогда прощаюсь с панной.
И подал ей руку. А она говорит, пискливо так, зло:
— А за ночь?
Я злюсь:
— За ночь?
— Так, за ночь? Ты что себе думаешь?
Смотрю ей в глаза. Она молчит, потом отступает к двери. Я подхожу. Наклоняю Лолу, срываю с ноги чулок. Не без труда вынимаю запихнутые в носок банкноты. Разворачиваю сверток купюр. Семьдесят злотых. Отдаю ей десять, остальное прячу себе в карман.
— Вот за ночь!
Хотела сказать что-то, но я показал на дверь. Вышла поспешно.
Поздней ко мне зашел Грабарь, и мы пошли к отелю, где остановился Щур.
Шкурки на кровати. Шкурки на столе. Множество шкурок на креслах, на полу, на подоконнике. Желтые лисы, белые, чернобурки. Куница, выдра, каракуль, алтайская белка. Больше всего куниц и белок. Еще и приблудилось к ним триста шкурок венгерского кота, пятнадцать пачек по двадцать штук в пачке. Пишу «приблудилось», потому что венгерский кот — единственный мех, который носят не из Советов, а в Советы.
В комнате, кроме нас троих, трое жидов. Купцы рассортировывают товар по сортам, пересматривают внимательно каждую шкурку. Дуют в шерсть, пробуют пальцами обе стороны, смотрят на просвет.
Наконец, весь товар рассортирован. Щур начинает торговаться с купцами. С изумлением узнаю, что выделанные шкурки идут дешевле невыделанных. Щур потом мне рассказал, что в Европе не ценят русских способов выделки шкурок. Потому и цена ниже.
Куниц мы продали по двенадцать с половиной долларов за шкурку, белок — за двадцать долларов пачка (двадцать шкурок). Этого товара больше всего. Потом обговорили цену на венгерских котов — тоже по двадцать долларов пачка… Купцы торгуются. Клянутся: «Хоть бы я за своими детьми так смотрел, как выгоду пана соблюдаю!» В конце концов, округленно, выходит за все семь тысяч пятьсот долларов.
Купцы пакуют товар в тюки и уходят из комнаты. А мы делим деньги между собой, берем по две с половиной тысячи долларов каждый. И отправляемся обмыть сделку.
В обед я пошел к Петруку. Застал его дома. В Петруке произошла удивительная перемена. Он попросту лучился счастьем. Шутил все время, смеялся. Про границу не вспоминал вовсе. В доме, где жила его мать, я себя ощущал на диво неловко. Пошевелиться боялся, чтобы чего-нибудь не сломать, не спихнуть. Все со мной такие добрые, приветливые, предупредительные, но в их глазах вижу любопытство, которое ничем не скроешь. И от этого мне еще более неловко, и злюсь, и портится настроение.
Когда улучаю свободную минутку, говорю Петруку:
— Дело у меня к тебе есть!
— Добре… сейчас!
Когда остались одни в его комнате, отдал я ему на сохранение, с моей последней доли, две тысячи долларов. Теперь у него вместе с тем, что я давал раньше, шесть тысяч долларов. Петрук говорит мне:
— А что, если бы деньги пропали? Если бы у меня украли их?
Смотрю ему в глаза и отвечаю очень серьезно:
— Я б ни разу про них не пожалел. Когда нужно, я очень много заработаю. Если тебе нужны будут деньги — только скажи!
— Я никогда про такое и не думал! — протестует Петрук. — Шучу я! Никто не знает, что у меня эти деньги, и никто их не украдет!
За обедом чувствую себя не в своей тарелке. Стол сверкает белизной. В комнате — цветы. За столом — элегантные паненки, подруги сестры Петрука Зоси, и какие-то расфранченные паничи. Лишний я тут. Не умею я пустых любезностей говорить, не попадаю я в общий тон компании этой. Нутром это чую и впадаю в мрачное настроение.
Вздыхаю с облегчением, когда обед заканчивается и можно выйти из комнаты. Пошел я с Петруком в сад. Ходим по аллеям и разговариваем. Садимся на лавочку, в самом дальнем закутке маленького сада. Закуриваем. Долго молчим. Наконец, спрашиваю:
— Ты счастлив теперь?
Он молчит, озадаченный таким вопросом, потом отвечает:
— Так. Я счастлив!
— Вправду?
— Вправду.
— А не тоскуешь ли ты по хлопцам, по границе? Ты подумай: сейчас ведь золотой сезон! Ночи долгие, глухие, черные!.. Золото плывет через границу. Хлопцы крадутся по полям и лесам. Днюют по амбарам, по глухим логам. Пьют, гуляют. Каждый день — новое! Каждую ночь — приключения!
Долго я говорил. Но потом заметил удивленный взгляд Петрука и замолчал. Понял я, что он меня не слушал. А он и говорит:
— Знаешь, я совсем про это забыл!
— Совсем?
— Так. И не думаю про это. Что в этом интересного?
Тогда встаю и говорю:
— Ну, время мне идти. Ждут меня.
Прощаюсь. Он жмет мне руку, спрашивает:
— Когда придешь?
— Не знаю.
— Приходи завтра. Обязательно!
— Может быть.
Провожает меня на улицу, возвращается. Идя по тротуару, вдоль дома, я слышу сквозь открытое окно его задорный смех. Не такой, как раньше, — сочный, яркий, простодушный, искрящийся жизнью, радостью.
Думаю: «Не наш он, совсем не наш».
Иду по улице. В голове крутятся неясные мысли. Жаль чего-то. И на душе такая тяжесть, будто потерял что-то дорогое навсегда! Иду искать коллег. Потом поеду с ними в ресторан — напьемся и закончим вечер у девок.
Начинает все это мне надоедать. Обрыдли мне и попойки, и обманщики, и город, в котором правду приходится проносить сквозь множество кордонов, как наш товар! Все тут яркое, слепящее глаза, очень сложное с виду — а внутри прячутся обычная грязь и ложь. На границе жизнь полней. Там под грубостью и шелухой грубых слов кроются умные, мудрые мысли и ни капли нет лжи. А тут все всегда притворяются, играют роли в чудовищном фарсе-комедии-трагедии. Всегда театр — и в доме, и на улице. Тут женщины маскируют красивыми платьями и изящным, но часто грязным бельем немощные, больные тела. А там под убогим платьем и бедным льняным бельем — горячие, сильные тела, любовь без обмана — по желанию, не для заработка и не из любопытства.
Тоскую я, не понимая, по чему. Хочу поскорей вернуться на границу. Предлог для того хороший: нужно не упустить золотого сезона и разобраться с «повстанцами». Поговорю завтра про то с хлопцами.
11
Зашел я как-то раз со случайным знакомцем, знатоком «веселой» жизни города, в место, где было несколько очень симпатичных женщин. С удивлением увидел там Юрлинову Соньку. Сперва подумал: ошибка, но после убедился — это она. Была в зеленом шелковом платье с глубоким декольте. Плечи — вовсе голые. Выглядела молодо и привлекательно. И весело. Подошел к ней — не узнала меня.
— У пани есть своя комната? — спрашиваю у Сони.
— Так.
— Тогда пойдем.
Когда оказались мы в маленькой комнатке один на один, увидел, что женщина хмурится и внимательно на меня смотрит.
— Как зовут пани? — спрашиваю.
— Лаура.
Тогда я к ней на «ты»:
— Для других ты будешь Лаура, а для меня — Соня.
— А кто ты?
— Я из Ракова. Ходил вместе с тобой и Юрлиным за границу. Потом меня не брали, стрелял я в мужиков на болоте у Горани.
— Ага! Знаю! Владек!
— Так.
— И узнать не смогла! Так изменился!
— А ты от мужа удрала с Ванькой Большевиком?
— Так.
— А где он?
В Сониных глазах показались слезы.
— Бросил меня, холера! Забрал все, что у меня было, и удрал неизвестно куда!
— Возвращайся к мужу! Он тебя так любил… Примет тебя.
— Чтобы снова под замком сидеть или по лесам лазить? Хватит мне границы, боком вылезла!
— Здесь хочешь остаться?
— Ну, так… А почему бы нет? Хозяйка добрая. Ешь, сколько хочешь. Работать не нужно. Одеваюсь, как хочу. Гости меня любят.
С удивлением слушаю, как она хвастается своим новым положением. Потом спрашивает:
— В местечке будешь?
— Буду.
— Золотой мой, не говори никому, что меня тут видел. Не скажешь?
— Если не хочешь, не скажу. С чего мне?
Когда поздней распрощался, снова попросила меня, заглядывая в глаза, чтобы не говорил никому. Чувствую тревогу в ее голосе.
— Не скажешь, золотко?
— Сказал же, что нет, значит нет! И кончено!
— Ну, не злись!
Попрощался я с Соней. Она попросила, чтоб навещал ее… Иду к Грабарю. Тот пересматривает новую серию покупок, а Щур, сидя в кресле, курит папиросу и высмеивает его. Грабарь обращается ко мне:
— Видишь? — и показывает ладонью на Щура. — Насел на меня, будто Каспер на сучку. Все ему плохо! Все ему не нравится!
— Да на холеру тебе это? — спрашивает Щур. — Куда ты это денешь?
— В Радошковичи отвезу. Маме отдам.
— И несессер тоже? — глумится Щур.
— Все отвезу.
— И что она будет с этим делать?
— В хозяйстве пригодится! Первая категория!
— Несессер, картошку отмерять?
— Тебе моих денег жалко?
— Можешь их выбросить или сжечь! Мне и своих не жалко! — сказал Щур. — Но какого черта тебе это все? Что заработать даешь извозчикам, кельнерам, служкам гостиничным, девкам — это я понимаю. Но зачем ты все это покупаешь — не понимаю я, не понимаю!
— Так нужно и фабрикантам дать заработать! — отвечает Грабарь и прыскает звучным смехом.
— Ржешь, как жеребец на кобылу! — сообщил Щур, встал с кресла и подошел к окну.
Вечерело. В комнате стало темно. Света мы не зажигаем. Молчим. Потом Щур говорит:
— Знаете что, хлопцы? Сейчас — самый сезон, самая работа, а мы тут валандаемся, у баб волосы в подмышках рассматриваем!
— Хватит уже! Я возвращаюсь утром! — говорю решительно.
Грабарь молчит.
— И я возвращаюсь! — подтверждает Щур.
— Ну, тогда и я с вами! — отзывается Грабарь. — Но тогда нужно позабавиться напоследок! — добавляет оживленно. — Чтобы искры летели! Первая категория!
Остановились мы на краю местечка и отпустили мужика, привезшего нас со станции Олехновичи.
— Вы, хлопцы, здесь подождите, — сказал Щур, — а я к Гусятнику пойду, узнаю, чего нового в местечке.
— Только возвращайся мигом! — попросил Грабарь.
— Ну, добре.
И скрылся в темноте.
Не возвращался целый час. А когда, наконец, вернулся, рассказал:
— Ох, добре, хлопцы, что не пошли сразу на мелину. Там нас второй день ждут. Обыскивали. Донес кто-то, что укрываешься у Вороненка. Вслепую, пся крев, тычут пальцами — и попали же! Про меня еще не знают ничего, только тебя ищут. И его, — Щур кивнул в сторону Грабаря, — но не знают, кто он.
— Что сейчас делать будем? — спрашиваю.
— Знаю я место… мелина каменная! И пункт хороший. Только там нужно ти-ихо.
— Так веди нас!
Обойдя по берегу реки местечко, вышли в поле. Долго брели узкими стежками близ берега Ислочи. Потом, идя напрямик полями, вышли к большому каменному полуразрушенному дому.
— Что это? — спрашиваю Щура.
— Винокурня. Тут Поморщизна рядом и до границы рукой подать. Не раз тут товар мелиновал и сам кемарил.
Щур подошел к окну в тыльной стене заброшенной винокурни и без усилий вытянул из фрамуги длинный железный крюк, когда-то расшатанный и выдранный ломом. Открыл ставню и сказал нам залазить внутрь. Оказались мы в небольшой комнатке, откуда вели двери в другие комнаты и в винокурню. Увидел я в одном углу большой котел, а в другом — огромную бочку, где две пары могли бы свободно танцевать. Залезли мы в ту бочку. Нашли там много солонины, ведро и несколько бутылок водки — остатки давнего Щурова запаса.
Уложили мы в бочке принесенные с собой вещи. Щур принес из близкой речки ведро воды. Потом пошли в лес, к хутору матери Вороненка, нашли липу, в которой прятали оружие, вынули из дупла пистолеты с револьверами, патроны, ножи, пояса, сумки и фонарики. Забрали все с собой.
— Жалко, одежды нашей нет, — заметил Щур.
— Так. Все на чердаке осталось.
— А может, пойдем на мелину? — предложил Грабарь. — Не должны же там все время караулить! Нас трое. С оружием. В случае чего — справимся!
— Я по-другому думаю, — возразил Щур. — Никто ведь не знает, что мы вернулись. Дикая мелина для нас — лучше всего! Да и вообще, зачем нам мелина сейчас? Сейчас работать надо! А в лесу каждая елка укроет, каждый кустик приютит.
Замолк. Долго молчал, а потом произнес торжественно:
— А сейчас, хлопцы, нужно ударить так ударить! Чтобы помнила граница, какие на ней фартовцы были!
— Пошло! Первая категория! — одобрил Грабарь, потирая ладони.
У меня тоже на душе повеселело.
Вернулись мы на новую мелину. Щур сказал, чтоб днем не выходили, заметить нас могут, а сам пошел в местечко — за новостями и нужными вещами.
Выпили мы с Грабарем бутылку водки и улеглись спать в огромной бочке. Надежная мелина. Не каменная — железная. Чувствуем себя в полной безопасности. Курим, разговариваем потихоньку про будущую работу. Я фантазирую, представляю, что случится, а Грабарь мне поддакивает:
— Пошло! Первая категория!
12
На границе — золотой сезон. Золотая осень. Контрабанда идет непрерывно. Но старых фартовцев почти нет… «Повстанцы» работают. Интригуют, хитрят, сдают друг дружку по обе стороны границы, сбивают цены на работу.
Щур был в местечке два дня. Разузнал в точности, какие группы ходят за границу, где пункты у них, какими дорогами ходят. Принес много интересных и важных сведений.
В местечке осталось очень мало старых контрабандистов. Но зато так и роились «повстанцы», искренне презираемые немногими оставшимися фартовцами. И граница теперь казалась пустой, бесцветной. Не раз я вспоминал давних коллег, и всякий раз жалко было. Юзеф Трофида не ходит за границу. Сашка Веблин убит. Живица застрелился. Юлек Чудило умер. Петрук Философ уехал. Болек Лорд сидит в тюрьме. Вороненка убили «повстанцы». Юрлин после ухода Сони перестал работать. Китайчик погиб в Советах. Гвоздь зарезался бритвой вскоре после побега из ссылки. Фелек Маруда попался за границей в начале осени. Бульдога ревтрибунал приговорил к ссылке. Ванька Большевик, удравший с Юрлиновой Соней, в местечко не вернулся. Болек Комета взялся водить «диких». После убийства Шума он одиннадцатый их машинист — и одиннадцатый безумец (иначе бы такой высокой чести не удостоился). Мамут сломал себе ногу на второй линии, когда прыгнул с обрывистого речного берега на камни, и охромел. Алинчуки ходят очень редко. Боятся, чтобы не подстерегли их за границей. Знают: много у них врагов. «Дикие» работают по-прежнему: что ни раз — в новом составе. Несколько попалось в Польше, несколько — в Советах, нескольких убили или подстрелили, а остальные работают еще шумнее и веселей под руководством известного сумасшедшего Болеслава Кометы… Никогда мы не устраивали засад на «диких», хоть и было то очень легким. Это единственная симпатичная нам группа.
На границу мы свалились как снег на голову. Сразу стали класть группу за группой. Случалось, управлялись с двумя группами за ночь. Бывало, одну и ту же группу несколько раз подряд брали… Пограничье запаниковало. «Слоны» трепетали. Купцы потеряли головы. Никто догадаться не мог, да кто же их кроет так? А мы брали группы и в Польше, и в Советах, и в пограничье, и на границе. Если не могли в дороге взять, крыли на мелинах. Если б могли так работать вшестером, трое там, трое тут, то все бы купцы работу потеряли.
Собрали мы много товара. Мелиновали его в лесах, амбарах, старых окопах, в заброшенной винокурне. Щур время от времени сдавал огромные партии товара контрабандистам с Рубежевич и Столбцов.
Засады мы делали так умело, что втроем брали самые большие группы. Учитывали местность, время, число людей в группе, погоду, ожидаемый товар, «характер» группы и множество прочих обстоятельств.
Вскоре «повстанцы» узнали, что это я разбиваю группы. Меня узнали Славик и Элегант, ходившие теперь с «повстанцами». Видели меня в компании Грабаря, которого в местечке не знали, и Щура, никем не узнанного, потому что он гримировался. В местечке разнесся слух: я после побега сделался агентом, чтобы отомстить Алинчукам. С того времени, если где попадалась группа, то вину приписывали мне. Алинчуки вовсе перестали ходить за границу и боялись вечерами показаться на улицах местечка. Только одно оставалось для «повстанцев» загадкой: как это я крою их и в Советах, и в Польше?
В результате наших дел несколько групп «повстанцев» распалось, несколько купцов перестало давать товар на контрабанду. А мы работали дальше. И чем трудней выпадала работа, тем с большей энергией и упрямством мы за нее брались.
Дело наше не было легким, требовало большой прыткости и выносливости. Иногда попросту из сил выбивались. В работе нашей требовалось предвидеть и учитывать множество деталей. Все это, вместе взятое, превратилось в опасную азартную игру, в которой мы не раз ставили на кон свои головы. Нельзя было нам проигрывать — и мы не проигрывали. Ошибались временами в мелочах, но по крупному, чтобы провалить — ни разу. Набравшись опыта, пользуясь сведениями от информаторов в местечке, которым Щур щедро платил, работали почти наверняка.
Была в местечке одна группа, которую мы никак не могли подловить, хотя и несколько раз устраивали засады. Всегда она ускользала от нас. Нас это разозлило. Решили мы положить ее раз и навсегда. Чтоб не гоняться вслепую, Щур шел в местечко, добывал информацию. Разузнав, снова выходили охотиться — и снова группа ускользала.
В ней ходило десять «повстанцев», а вел ее Вицек Гетман, коллега и приятель Альфреда Алинчука. Это еще больше нас злило. Товар они носили очень дорогой и никогда не сыпались. Впрочем, группа эта образовалась недавно. Щур сказал нам: Альфред входит в долю с жидом, дающим товар группе Гетмана.
В последний раз, выведав, какими дорогами ходят гетмановские, устроили засаду в трех километрах от границы. Решили накрыть по дороге назад, в Польшу. Думали, замучаются они после тридцатикилометровой дороги (мелина их была рядом с Минском). Кроме того, знали: назад они понесут с собой много легкого и дорогого товара — шкурок. Знали еще: то место, где планируем засаду, группа Гетмана проходит под самое утро. А граница была, по обыкновению, куплена в обе стороны, так что шли наверняка. Обследовав окрестности, мы устроили засаду в открытом месте. С тыла был Красносельский лес, справа, за болотом и несколькими пригорками, лежала деревня Горань. Далеко перед нами тянулась в направлении смолокурни темная стена леса. Именно оттуда должна была выйти группа Гетмана и для сокращения пути пройти вдоль реки, лугом, довольно много по открытому пространству, чтобы потом зайти в Красносельский лес и по нему — к границе.
Грабарь устроился посреди луга за большой кочкой, в ложбине, нами слегка углубленной. Щур спрятался в копенке из нескольких снопов, сложенной на краю поля. Я скрылся в кустах на краю речушки. Между каждым из нас было шагов по пятьдесят. Следовало нам впустить группу Гетмана в этот треугольник, как в мешок, а потом брать ее.
На засаду пришли в третьем часу ночи. Для группы было еще слишком рано. Мы выпили спирта, выкурили по две папиросы и разошлись по местам. Я приготовил револьвер и гранаты. Сейчас у каждого имелось по пять гранат (их раздобыл где-то в местечке Щур). Потихоньку светало. Я различал все больше черт местности перед собой. Наконец, смог разглядеть узкую долинку и чернеющее вдали крыло леса, из которого должна была появиться группа.
Вокруг — пусто. Шумят деревья в лесу. Тихо журчит река, прокрадываясь сквозь болотистую почву. Долго смотрю на лес, потом озираюсь, высматривая коллег. Хорошо укрылись — могу лишь догадываться, где они. А в нужный момент вырастут как из-под земли. Моего укрытия тоже не различить даже с нескольких шагов.
Вдруг кажется мне — вдали движение. Сперва думаю: показалось. Но позже убеждаюсь: по верху долины, у края леса, что-то движется. Через некоторое время различаю идущих к нам людей. Быстро идут — торопятся пересечь открытое пространство.
Гляжу туда, где укрылись Щур и Грабарь. Наверняка они уже приготовились незаметно прыгнуть вперед. Я тоже готовлю оружие, меняю положение с тем, чтобы легче было вскочить на ноги. Идущие лугом люди все ближе. Теперь вижу их отчетливо, хотя по отдельности всех их различить не могу, идут гуськом, плотно. Впереди размашисто шагает Гетман. Уже и различаю черты его лица… «Слоны» все ближе. Я жду терпеливо, пока совсем близко окажутся.
Вдруг Гетман сворачивает налево. Перескакивает речушку и за сотню шагов от нашей засады двигает наискось через невысокие холмы, к лесу. Идет напрямик, через поля — очень невыгодный путь. За ним бредут «повстанцы». Их не десять, как обычно, а одиннадцать — группа увеличилась.
Я прямо остолбенел. Потом смотрю на коллег. Вот из-за снопов показалась голова Щура, из-за кочки на лугу вылез Грабарь. Смотрим с сожалением на удаляющуюся от нас группу. Преследовать смысла нет. Перепугаешь — разбегутся в разные стороны. А нам нужно всю группу положить, а не нескольких из нее.
Щур с Грабарем идут ко мне. Щур грозит кулаком исчезающей в лесу группе.
— Ну, пся крев, повезло вам! Но теперь по-другому станцуем!
В этот момент Грабарь молча показывает пальцем на верх долины. Глядим. Возле леса что-то движется.
— Хлопцы, по местам! — объявляет Щур и, поспешно перебравшись через луг, прячется в копне.
Грабарь еще раньше спрятался за кочкой.
Через минуту видим: от леса движется к нам партия «слонов». Идут неуклюже, не обращая внимания на землю под ногами. Сразу видно: «повстанцы».
Они уже близко. Я приседаю в зарослях, готовый прыгнуть. Подгадали-то мы хорошо. Долина, лужок, тропа у речушки — отличная дорога для контрабандистов. «Слоны» по ней и идут. Топают рядом с кустами, где я укрылся. Я вижу их ноги. Так и хочется кого-нибудь схватить за лодыжку, чтоб от ужаса завопил! Считаю их: раз, два… Вдруг вижу короткую юбку и женские ноги в черных чулках. Удивляюсь.
Проходят. Я вылезаю из зарослей и тихонько иду за ними. В одной руке — парабеллум, в другой — граната. Они не оглядываются, меня не замечают. Идут прямо на кочку, как мы и предполагали. Уже близко. И — перед ними вырастает Грабарь! Слышу спокойный, холодный, острый звук его голоса:
— Стой! Руки вверх!
«Слоны» пятятся назад. Слышу испуганные голоса. Сбоку выскакивает из-за копны Щур. Слышу его нарочито измененный голос:
— Ни с места!
Вижу: несколько «повстанцев» двинулись назад. Тогда и я кричу:
— На колени — а то бомбу кину!
— Товарищи, не кидайте бомбу! — кричит кто-то из «повстанцев».
Чтоб нас издали не заметили, ведем пленников к лесу, ставим спиной к кустам. Щур с Грабарем становятся по бокам группы контрабандистов и чуть позади, загораживая дорогу в лес.
Прячу пистолет и гранату в карманы и достаю из-за пояса сзади обоюдоострый стилет. Это на случай, если какой безумец во время обыска попытается вырвать из рук пистолет. «Слонов» семеро — шесть мужчин и женщина. Подхожу к ним и спрашиваю:
— У кого оружие есть?
Молчат. Тогда повторяю:
— У кого есть оружие, лучше сейчас сказать! Потом хуже будет!
Стоят молча с поднятыми руками. Вдруг вижу знакомое лицо — и вспоминаю контрабандиста, которого когда-то ранил в бок, он удирал ночью по Красносельскому лесу. Тогда он с другой группой ходил. С левого краю стоит жид-сопровождающий.
С него и начинаю. Сперва обыскиваю не слишком — проверяю, есть ли оружие. Потом — тщательнее. Нахожу две голубые лисы и забираю.
— Товарищи, отпустите нас! — просит жид. — Дам вам тридцать рублей!
— Обойдешься! А деньги мы заберем и так!
Тыкаю стилетом в голенища его сапог. Вынимаю из одного пять стодолларовых купюр. Разрываю верх у шапки — нахожу еще двести долларов.
— Ну ты умник! — говорю жиду, а он растягивает в жалкой улыбке бледные губы.
Обыскал я сопровождающего и приказал ложиться наземь. Начинаю обыскивать первого с краю «повстанца». Скидываю мешок со шкурками с его плеч. Кроме мешка, у него ничего нет. Но гримаса какая-то необычная.
— Открой рот! — приказываю ему.
Тогда контрабандист выплюнул на ладонь несколько золотых монет. Подмигиваю ему, спрашиваю:
— Чья форса-то? Купца?
— Моя, товарищ, моя!
Кладу деньги в карман его куртки. В этот момент слышится топот и хруст кустов. Контрабандист, который трижды удирал от меня, и теперь начал удирать. Грабарь кинулся за ним. Догнал в лесу, привел назад. Приказал стать на колени, сказал со злостью:
— Еще раз такое учинишь — в лоб шмальну! Предупреждаю!
Я подошел к тому контрабандисту и спрашиваю:
— Что, от той раны вылечился?
«Повстанец» смотрит на меня удивленно. А я говорю:
— Ты смотри, братку, сгинешь ведь!
Обыскал его с особой тщательностью, но нашел лишь несколько рублей серебром. Тех денег не взял. И шкурки, спрятанные под куртками у нескольких «слонов», оставил. Пусть и им заработок будет с нашей агранды. Носки кидаем в кучу, товара много.
Подхожу к женщине. Стесняюсь немного обыскивать ее. Перепугалась, но старается улыбаться побледневшими губами. Вижу, дрожит всем телом. Обыскиваю ее поспешно, кое-как. А Грабарь подмигивает, ухмыляется похабно. Замечаю это — и принимаюсь обыскивать спокойно, внимательно. Не нахожу ничего. Это подозрительно. Кажется мне, что дрожит она не только потому, что насилия боится, а еще боится и за что-то спрятанное на ней. Если б не думал, что коллеги не так поймут, обыскал бы всю с ног до головы. Вдруг замечаю: волосы ее связаны в большой узел на затылке. Выдергиваю из него шпильки и гребень. На землю что-то падает — это несколько сотен долларов, скрученных и завернутых в обрывок черного чулка.
— Умно! — говорю ей и вспоминаю Лорда. Это словцо — его любимое.
Обычно сопровождающий всех денег не несет, а отдает часть на сохранение вернейшим людям группы.
Кончив обыскивать, приказываю лежащим на земле людям:
— Встать!
Все поспешно поднялись, смотрят мне в лицо.
— Идите, гуляйте! И еще в гости заходите с товаром!
Лица контрабандистов повеселели. А тот, кого я ранил когда-то, просит меня:
— Товарищ, позвольте мне поискать в лесу шапку! Потерял ее, когда удирал.
— И без шапки пойдешь! Вижу, важная она для тебя! А ну пошел!
«Слоны» быстро пошли в указанном направлении и скоро скрылись в лесу. А мы переложили товар в две большие носки. Было там сорок две куницы и пять беличьих пластин. В одной носке нашлось немного еды и грязное женское белье. Грабарь рассмеялся.
— Ну, элегантка: даже на работу запасное белье берет! Это на случай, если перепугается чересчур!
Поздней сказал мне:
— Ну, не сумел ты ее как следует обыскать. Догола нужно было раздеть.
— Он не раздевал и все нашел, — возразил Щур. — А ты бы раздел, да ничего, кроме срама, и не увидел!
Много мы заработали на партии, так неожиданно попавшей к нам в руки. А Грабарь после нашел в лесу потерянную «повстанцем» шапку. Распотрошил ее, но не нашел ничего:
— Ну до чего упертый тип! И зачем ему та дрянная шапка сдалась! А я думал: деньги в ней прячет.
Идем в лес, на мелину. Разводим там огонь, пьем спирт, едим. Но недовольны. Настроение испорчено: группа Гетмана ушла прямо из рук.
— Это ничего! Посмотрим! — обещает, блестя глазами, Щур.
И не спрашивая, знаю, про что он. Понимаем мы друг друга с полуслова, с одного жеста, взгляда.
Начались дожди. Ночи стали черные. Ныряли мы в них, как в омут. Охотились дальше за группой Гетмана. Когда Щур распродал за бесценок товар: много его скопилось, сказал нам:
— Ну, хлопцы, теперь уж возьмемся за Гетмана! Должны мы его расколоть!
— И расколем! — заверил Грабарь торжественно.
— По-другому будем брать теперь! — сказал Щур.
— Как? — спрашиваю.
— Как?.. А так — на мелине! Как они в дорогу, так и мы в дорогу. Они на мелине, и мы на мелине. Они с мелины — шасть! А мы — цап за морду! Вот вам, холера — или шкуру, или товар!
— Клево! — одобрил Грабарь, хлопая ладонью о колено.
Щур вернулся в местечко, а мы с Грабарем по-прежнему мелиновали в лесу. Нашли надежное укрытие, при шухере легко в любую сторону удрать. Вечером Щур прибежал к нам.
— Ну, хлопцы, в дорогу! Пошли!
Чутьем находя дорогу в кромешной темноте, двинулись к Минску — туда, где мелина группы Гетмана. Вышли мы, как только стемнело. Шли очень быстро, без отдыха, и в двенадцатом часу оказались поблизости от мелины Гетмана. Щур осторожно перелез через ограду, подошел к амбару. Вскоре вернулся к нам.
— Ну, хлопцы, поехали! Все в порядке!
Пошли мы к амбару. Влезли сквозь щель под большими воротами. Внутри царили тишь и темень. С левой стороны были в амбаре сусеки, на которых обычно спали «повстанцы». Справа стояла сеносечка, лежали груды снопов. В углу лежали кучей несколько десятков мешков с зерном. Между ними и стеной оставался узкий проход. Укрылись мы там. Щур сказал нам:
— Придут сегодня и сегодня же вернутся. Знаю наверняка! Понимаете? Туда понесут дорогой товар, а назад — еще дороже: шкурки за три партии товара! Уяснили? То-то будет работка! Только смотрите: у Гетмана машина! Грабарь станет у ворот, а ты положишь их и обыщешь! Заберешь пушку Гетманову. Денег не ищи, много не будет, товар в тюках… Должны уже подходить. Вышли они раньше нас, а уже двенадцать.
Через четверть часа услышали мы звуки шагов под стенами амбара. Потом все стихло.
— К хозяину пошли, — объяснил Щур.
Вскоре послышался шум у дверей. Заскрежетал запор. Заскрипели ворота амбара, зашаркали подошвы по земляному полу. Мелинарь вынул из-под кожуха зажженную лампу, поставил у ворот. Увидели мы суетящихся в амбаре контрабандистов. Было их одиннадцать. Скидывали с плеч носки, укладывали у выхода из амбара. Расстилали сено по полу, укладывались отдыхать. Мелинарь, Гетман и еще двое взяли носки и вышли из амбара. Через несколько минут вернулись, неся пять больших носок. Были в них черные и белые каракулевые шкурки, которые «повстанцы» хотели отнести в Польшу. На двоих выходила одна носка — должно быть, попеременно собрались нести.
«Слоны», лежа на сене, курили.
— Есть будете? — спросил мелинарь у Гетмана.
— Нет. Возвращаемся сейчас. Нужно до утра границу перейти. Выпьем — и в дорогу, — ответил контрабандист.
— Как хотите, — ответил мужик.
— Может, яблок принесете немного? Добрая у вас антоновка, — послышался голос кого-то из «повстанцев».
— Антоновка у меня знаменитая, — сказал мелинарь и, спрятав лампу под кожух, вышел из амбара.
Стало темно. Во мраке светятся огоньки папирос. Слышатся обрывистые фразы. Всем хочется отдохнуть. Некоторые дремлют. Потом Щур говорит тихо:
— Грабарь — у ворот. Ты — в середину.
— Пошло! Первая категория! — шепчет Грабарь.
Выходим из укрытия и в темноте движемся вперед.
Я держу в левой руке фонарь, а в правой — снятый с предохранителя парабеллум. Подхожу к тихо разговаривающим «повстанцам». Жду.
— Тут кто-то чужой! — раздается голос из темноты.
Тогда зажигаю фонарь и выставляю вперед парабеллум. От ворот амбара и от сусеков светят фонари коллег.
— Руки вверх! Раз-два! А то — пулю в лоб!
— Всем лечь навзничь! — кричит Грабарь.
Все смолкли. Вижу: Гетман потихоньку опускает руку. Знаю: за револьвером лезет. Щур идет к воротам. Открывает. Выкидывает наружу носки со шкурками. Я по очереди обыскиваю «повстанцев». Начинаю с Гетмана, забираю заряженный наган.
— Что, тоже зубы есть? — говорю ему.
Вскоре кончил обыскивать. У сопровождающего нашел с тысячу рублей золотом.
— Пойдем! — зовет Грабарь.
Я иду к открытым воротам. Потом поворачиваюсь и говорю:
— До утра чтоб никто и носу не смел сунуть наружу! Если кого за амбаром поймаем — пристрелим!
Когда вышли во двор, увидели издали идущего с лампой в руках мелинаря. Лампа была прикрыта полой кожуха и бросала наземь дрожащий отсвет. Я подскочил к мужику. Вынул из рук кошелку с яблоками, поставил наземь. Посветил ему в глаза фонарем и говорю:
— Ты арестован! Из амбара не выходить, пулю схлопочешь!
Отомкнул ворота и впихнул в амбар обомлевшего со страху мужика. И замкнул ворота на засов.
Мы с Грабарем взяли по две носки, Щур — одну. Пошли неторопливо вперед. Окутал нас густой мрак. Несли мы тяжелый груз, часто приходилось отдыхать. До утра чуть управились добраться до нашей мелины в Красносельском лесу. Вечером того же дня принесли товар в местечко, и Щур его скинул с большой потерей.
А через два дня снова положили мы группу Гетмана. Щур узнал в местечке: теперь она идет на другую мелину. Прибежал к нам днем.
— Ну, хлопцы, — сказал, блестя зло глазами, — сегодня Гетман со своими снова в дорогу направился. Если потрясем их прямо тут, в местечке, то-то хаю будет, вуй! Идут с амбара Мальцысяка, из Загумення. Только делать, чтоб на ах! Всыпем по первое число!
Вечером устроили мы засаду у амбара, где должны были собираться «повстанцы» из партии Гетмана. Когда совсем стемнело, перелезли через ограду и залегли в грязи шагов за десять от ворот амбара. Слышали, как рядом остановился воз, откуда выгружали товар. Потом воз уехал и у амбара начали собираться контрабандисты. Подходили по одному, по двое. Мы слышали их приглушенные разговоры.
— Все уже? — раздался голос Гетмана.
— Янки Келба не хватает! — ответил кто-то.
— Сейчас придет. Пошел за спиртом для нас, — ответил другой контрабандист.
Через несколько минут услышали звуки торопливых шагов. Идущий повернул к амбару, отомкнул ворота и вошел. Вскочили мы на ноги и вслед за ним ворвались в амбар. Почти одновременно включили фонарики и, выставив вперед, под лучи света, револьверы, скомандовали:
— Руки вверх!
— Всем сесть!
Снова обыскиваю «слонов». И снова начинаю с Гетмана. Опять забираю у него заряженный наган. И говорю:
— Если еще раз найду у тебя такую игрушку, с нее же тебе мозги вышибу! Понимаешь?
Обыскал всех «слонов». Делал это нарочито медленно. Тем временем Грабарь повыкидывал с амбара носки, а Щур отнес их, по две за раз, далеко в поле. Потом я приказал контрабандистам не выходить до утра из амбара и замкнул ворота. Натурально, они нас не послушались, повылазили раньше, но нам было все равно.
Понесли товар скупщику, которого Щур предупредил днем. Через полчаса после агранды товар уже скинули. Взяли едва третью часть от стоимости. Щур смеялся:
— То-то болтовни будет! То-то шума! Но мы свое все-таки сделали. А если опамятуют да снова пойдут, и в третий раз положим их!
Несколько дней мы потратили на сбор в одном месте товара, разбросанного по разным мелинам, и на перенос его к скупщику. Скинули все, вздохнули с облегчением и решили немного передохнуть.
Мы с Грабарем днями спали в винокурне, а ночами бродили близ Ракова. Ходили по полям, лесам, дорогам, временами заглядывали и в местечко. Щур тем временем искал работу на будущее. Встречались мы с ним по ночам.
Набралось у меня, кроме тех шести тысяч долларов, которые дал на сохранение Петруку, еще восемь с половиной тысяч долларов и почти две тысячи рублей золотом. Большую часть тех денег я прятал в тайнике у Вороненка. Грабарь свои тоже там прятал. Называли мы тот тайник (дупло старой липы) нашим «банком».
Однажды вечером пошел вместе с Грабарем и Щуром к Мамуту, который охромел так сильно, что вынужден был бросить контрабанду. Коллега поздоровался с нами радостно. Занавесил окна шторами, закрыл ставни. Мамут долго ко мне присматривался, а потом пробормотал медленно, с усилием выговаривая слова:
— Ты что, правда… того… этот самый?
— Чего того? — спрашиваю.
— Агент.
Щур прыснул со смеху и говорит:
— Темень у тебя в голове, Мамуте. Это ж мы все вместе «повстанцев» кладем. Понимаешь? Кроем мы их и там, и тут. А его видели, когда их тряс, вот и болтают!
Мамут тряхнул головой, и глаза его блеснули весело.
— Это, братку, за все им! — добавил Щур. — И за Вороненка, и за Лорда, и за то, что шкуры, хамы, скоты!
Выпил рюмку водки и грохнул кулаком по столу.
— Как захотим, так ни одной партии за границу не пустим! Наша граница, не их! Наша и все! Нас трое, их триста, но ни один не пройдет! Ни один!.. Наша граница!
Мамут пил и кивал. Лицо его было, как из камня высеченное, и только глаза — огромные, детские, добрые — смеялись нам, и отражалось в них множество чувств и мыслей, которых сам он никогда бы не сумел выразить словами.
Когда собирались уходить, Щур позвал жену Мамута и сказал:
— Сейчас нет вам от мужа веселья, так?
— А что поделаешь? Я не жалуюсь.
— Хотите торговлю начать или дело какое?
Глаза женщины сверкнули радостно:
— Но с каких денег дело открывать?
— Я дам тысячу рублей, — предложил Щур.
— И я дам, — подтвердил я.
— Я тоже — тысячу, — отозвался Грабарь.
— Как же я вам заплачу? — спросила женщина.
— Не нужно платить! Это для него, — Щур показал пальцем на Мамута. — Только вы уж позаботьтесь о нем, о таком… таком мамонте… Его ж и ребенок обидит. Мир сейчас такой — слабого, доброго, стыдливого зубами загрызут.
Дали мы жене Мамута три тысячи рублей и пошли прочь.
Назавтра Щур принес мне бандероль, присланную на его адрес, но предназначенную для меня. Бандероль была от Петрука, из Вильни. Были там письмо и маленький сверток. А в нем — отличная безардовская буссоль в кожаном футляре. Никогда я даже не думал купить буссоль, хотя вещь для меня была очень полезная и удобная. Теперь мог я безошибочно, среди вовсе незнакомой местности в наитемнейшую ночь найти нужное мне направление.
Вечером долго смотрел на светящуюся стрелку компаса и, растрогавшись, думал о Петруке: «И как ему такое пришло в голову? Значит, все-таки вспоминает про меня! Купил для меня!»
13
Посреди Красносельского леса, километра за три от границы, лежит, пересеченная наискось трактом, огромная поляна. С южной стороны ее — большой, темный, густо заросший деревьями овраг. Здесь часто пробираются «повстанцы». Переходят поспешно поляну, чтоб дорогу сократить, и прячутся в густых кустах на краю оврага.
В ста шагах от левого края той поляны однажды ночью вырос кустик, а за ним — невидимая издали ложбинка. А в нескольких шагах слева, на краю оврага, оказалась копенка сена… Я сидел в ложбине за кустиком, а Щур укрылся в копне. Грабарь укрылся в кустах за несколько шагов от места, где лес подходил к краю оврага. Так устроили мы ловушку, вроде той, какую раньше устроили поблизости от Горани, поймав в нее случайно вместо партии Гетмана шестерых контрабандистов с контрабандисткой.
За час до рассвета заметил я людей, выбирающихся из леса на другой стороне поляны. Торопились они, стараясь побыстрее миновать открытое пространство. Все в черных коротких куртках и высоких сапогах… Приближаются ко мне. Проходят в нескольких шагах от моей засады и подходят к кустам на краю поляны. Вижу: навстречу им, чтоб не подпустить «слонов» близко к краю леса, бежит Грабарь. «Повстанцы» его сперва и не заметили. Потом стали, остолбенелые.
— Руки вверх! — крикнул Грабарь.
«Повстанцы» скопом кинулись влево, к краю поляны.
Из копны выскочил Щур с двумя пистолетами в руках. Крикнул в упор:
— Ложись, не то гранату кину!
Те плюхнулись наземь.
— Руки за спину! — приказал Грабарь.
Я поспешно ощупал их — искал оружие. Потом приказал встать и тщательно обыскал каждого. Мешки со шкурками, которые несли, покидал в кучу. В группе этой были крепкие, рослые мужчины.
— Хорошие б из вас солдаты для Красной Армии! — сказал им, обыскивая.
«Повстанцы» угодливо захихикали. Вдруг крайний из партии заговорил, и я узнал голос Элеганта. Удивительно, что до сих пор его не узнал.
— Хлопцы! Да это же — Щу-ур!
Элегант показал пальцем на Щура, стоявшего в нескольких шагах от копны. У того отвалились плохо приклеенные усы, и контрабандист его узнал. Я побежал к Элеганту.
— Заткнись, а то я тебе сейчас не Щура покажу, а кузькину мать!
Элегант отступил, забубнил плаксиво:
— Пане… товарищи… Владку…
Обыскал я «повстанцев» и отпустил. Но перед тем сказал:
— Вы скажите вашим гультаям в Ракове: граница на замке! Ни одной группы не пущу! Скажите, это за Вороненка и за Лорда, да за то, что с Алинчуками водятся. Поняли?
— Так, поняли, — подтвердили «повстанцы».
Тогда говорю:
— Теперь пошли! Бегом, шмалять по вам буду!
«Слоны» — деру. Выстрелил несколько раз вслед, чтоб не попасть. А Грабарь орал:
— Го-го-го! Держи фартовцев, жиганов, мудаков, жабраков, блатняков, пустозвонов!
Когда отнесли товар на мелину, Щур сказал:
— Ну, теперь и мне хана. Все местечко узнает. Теперь и мне нужно в бега, прятаться.
— Да ничего, справимся! — утешил Грабарь.
А через пару дней учинили на нас охоту. Были мы по делу недалеко от Минска. Ночью полил дождь. До утра управились перейти с Архиерейских лесов в Старосельский.
Задневали в лесу, поблизости от тракта, на девятнадцатой версте от Минска. Промокли до нитки. Перед полуднем дождь перестал и мы развели костер, чтобы согреться и обсушиться. Дым костра мог нас выдать, но мы на это внимания не обращали.
Сторожили по очереди, по одному, сушили вещи у огня, куда подбрасывали большие поленья из кучи распиленного дерева неподалеку. Вдруг вблизи нашего укрытия появились двое пастушков. Хлопцы задержались на минуту, глядя на нас с любопытством.
— Ну, чего вам? — крикнул Грабарь. — Шуруйте дальше!
Пастушки быстро исчезли в кустах. А через час (я как раз высушил одежду и стоял на страже) послышался мне подозрительный шум из леса. Повернул голову влево — и блуждающий мой взгляд наткнулся среди гущи кустов на чьи-то глаза. А к ним дорисовалась черная кожаная шапка с красной пятиконечной эмалевой звездочкой. Но я виду не подал, что обнаружил наблюдение, только пистолет снял с предохранителя и ногу поставил в костер. Коллеги посмотрели на меня удивленно. А я жестами показал им, чтобы одевались быстро. Они оделись, не теряя ни минуты и не покидая укрытия. Я ладонью показал в направлении ближайших кустов. А оттуда доносились шумы все отчетливее и шепот слышался. И слева слышался шум, и справа. Вдруг поблизости залаял пес. Тогда я наклонился и шепчу хлопцам:
— Гранаты! Живо!
Коллеги поставили на взвод шесть отборных французских гранат, дали мне две. Одну я кинул прямо в кусты перед собой, вторую — подальше. Щур с Грабарем в ту же минуту кинули гранаты влево и вправо. Через несколько секунд гранаты начали рваться. Лес задрожал. В воздух взметнулись фонтаны земли. Затрещали ветки. Раздались крики, топот удирающих. А мы двинулись на запад, стараясь не шуметь.
Долго было тихо, потом раздался выстрел из карабина. За ним — частая пальба. Мы шли вперед, не отвечая ни единым выстрелом. Через некоторое время сзади послышался собачий лай.
— Худо! — заметил Щур. — С собакой нас гонят, а до вечера далеко!
— Был бы терпентин или селитра, вылили б на землю, и нюхач за нами б не пошел. А теперь — худо дело! — подтвердил Грабарь.
Подошли мы к краю леса. Перед нами расстилались поля. До границы было двенадцать верст, до ближайшего леса, выводящего к границе — четыре версты, а стемнеть должно было только через три часа. Выходить в поле было очень опасно.
Пошли мы краем леса на юг. Перебрались через тракт и лесом же пошли на восток. Теперь тракт отделял нас от преследователей. Они шли на запад, а мы — на восток. Они двигались медленно, засады боялись, а мы шли очень быстро. Время от времени доносилось слева гавканье.
Я шел первый. Чтобы не терять направление и не удлинять дорогу, вел их по буссоли. Подошли мы к краю леса. Оттуда виднелось Старое Село и едущие по тракту возы. Мы свернули на север. Выждали, пока на тракте никого не оказалось, перешли и оказались в той части леса, с которой вышли за час перед тем — а заодно и в тылу облавы, медленно продвигающейся вперед в двух километрах перед нами.
Прошли мимо нашего угасающего костерка. Увидели воронки, выбитые в земле гранатами. От того места направились на север, а потом на запад — вслед за облавой. Слышим: удаляются на юг. Значит, перешли тракт. Тогда подходим к краю леса и там задерживаемся. Впереди — поля. А до сумерек два часа.
Второй раз кругом по лесу не идем. Знаем: раскусят нашу хитрость и устроят засаду, или пошлют часть сил назад. Ведь, судя по выстрелам и шуму, людей у них много. Затаились мы в кустах на краю леса и ждем. Держим наготове гранаты и пистолеты. Время тянется бесконечно… А до темноты еще далеко.
За час облава сделала круг по лесу и снова приблизилась к нам. Через пару минут послышался лай.
— Я этому пустобреху покажу! — пообещал Грабарь зло. — Подождите меня!
Положил револьвер в карман и снял предохранители у двух гранат. Пошел лесом навстречу преследователям.
Четверть часа — тишина. Облава все ближе. Вдруг — взрыв разносится далеко по лесу… Второй взрыв… Пес замолк. Полная тишина. Потом грохочут карабины. Через пару минут к нам подходит Грабарь.
— Попал в псину? — спрашивает Щур.
— Не знаю. Но задержатся они наверняка.
После того прошел еще час.
Мы вышли в поле. На месте ожидать нельзя — окружат. Быстро пошли к чернеющему в четырех верстах лесу. Когда прошли треть, позади раздались выстрелы. Оглянулся — за нами по полю бегут солдаты с карабинами в руках. Останавливаясь время от времени, палят по нам. Мы пошли быстрее.
На полпути — деревня. Желая сократить дорогу, чтоб уравнять шансы с нашими преследователями — они ведь наверняка пойдут через деревню, — пошли по узкой, тонущей в грязи улице. Оружия не прячем. В руках у нас — пистолеты и гранаты.
Посреди деревни — толпа, собрание какое-то. Стоят вокруг воза, на нем ораторствует мужчина, размахивая руками. Кто-то из толпы увидел нас, крикнул. Все на нас глазеют. Не обращая внимания, идем вперед. Тогда оратор спрыгнул с воза и побежал на ближайший двор.
— Держи! — заорал Щур насмешливо.
Грабарь несколько раз свистнул в два пальца.
Толпа начала редеть. Люди разбегались во все стороны. Идя дальше по пустой улице, увидели: тут и там выглядывают украдкой из окон и из-за углов хат.
Выбрались на другой конец деревни, пошли напрямик через поля. Издали все время слышались выстрелы — палят солдаты погони. Хотели так подать сигнал тревоги людям в деревне, чтобы нас хватали, но только перепугали всех еще больше, и мужики попрятались, где кто мог.
Наконец, мы добрались до лесу, где уже лежала ночная тень.
— Можем тут их дождаться, — предложил Грабарь, сидя на поваленной березе. — Вижу, им в пекло не терпится.
Теперь уж никто из нас не мог свободно показаться в местечке. Появлялись мы там чаще всего по вечерам и все вместе. Щур обходил жилища своих информаторов и собирал сведения о «повстанцах», о событиях на границе, пограничье и в местечке. Потом все вместе мы шли по магазинам, закупали нужные вещи. Пару раз нас узнавали, но никто не решался помешать или донести в полицию. Потом выбирались из местечка и шли в винокурню близ Поморщизны или в окрестные леса. Чаще в леса — там было безопаснее.
Снова потратили пару дней на сбор взятого товара и перенос его к скупщику. Заработали много. Деньги меня уже не радуют. Какая разница, есть они у меня или нет, если не могу купить на них всего, чего хочу? Складываю большую их часть, главным образом, монеты и мелкие купюры, в наш банк — дупло старой липы.
Вечером Щур пошел один в местечко. Мы ждали на кладбище. Щур принес несколько бутылок спирта, много еды и сказал мне:
— Есть для тебя новость.
— Какая?
— Расскажу на мелине.
Дождило. Потому, чтоб нормально отдохнуть, пошли на винокурню.
— Что за новость? — спрашиваю Щура.
— Не знаю, как и сказать…
— Говори!
— Добре. Только ты в голову не бери… Утром в воскресенье у Фели обручение.
— Не может быть! С кем?
— Догадайся!
— Даже и помыслить не о ком.
— С па-ном Альф-ре-дом А-лин-чу-ком!
Я онемел. Щур посмотрел, как на меня новость подействовала, и добавил:
— Братку, и меня эта новость поразила. Долго над этим думал. Очень долго. Так себе сказал: ну не может быть, чтоб мерзавец такой взял Сашкину сестру и приданое, которое Сашка ей ценой жизни собрал. Так себе говорил. И решил: завалю его! А после основательнее рассудил и решил: не нужно и нельзя! И ты это пойми. А знаешь, почему?
— Ну?
Щур поправил горящую свечу, воткнутую в бутылочное горлышко, а потом поднял два пальца и зажмурился. На лице его обозначилась кривая ухмылка.
— А потому, что стоят они друг друга!.. Понимаешь? Если она согласилась за него замуж, зная, что он за фрукт, то стоит она его! А он — ее! И чтоб им пес морды лизал! А ты плюнь и в голову не бери!.. Не должна была сестра Сашки такого делать, а раз уж сделала, то значит — та еще стерва!.. Вот так. Может, оно и к лучшему!
Я долго молчал. Вихрились в голове всякие мысли. Потом крепко пожал Щуру руку и сказал:
— Прав ты!
Щур мне кивнул, и глаза его засветились весело. А немного позже сообщил:
— Знаешь, что я придумал?
Я заглянул ему в глаза вопросительно.
— Пойдем-ка мы втроем на Фелино обрученье! А что? Не ждут, чай, таких гостей! Самые сливки соберутся. А тут мы, и желаем, и вот им «веселая аллилуйя для паненки и холуя!» Как вам?
— Давай! — согласился Грабарь. — Первая категория!
— Давай! — крикнул и я.
Охватила меня злость, и готов я был к любой самой дикой авантюре. Выпил много. Когда коллеги уже уснули, долго лежал и глаз сомкнуть не мог.
Назавтра поздним вечером отправились мы в местечко. К дому Веблинов легко можно было подойти с любой стороны. Перелезли несколько изгородей и оказались в огороде. Оттуда удобно было наблюдать за движением в доме и во дворе.
Начался дождь, двор опустел. Из открытого, ярко освещенного окна доносились звуки граммофона. Подкрался я к окну, заглянул внутрь. Увидел несколько человек, сидящих за уставленным едой столом. Феля сидела рядом с Альфредом, мило заглядывавшим ей в глаза и что-то рассказывавшим. Альфред все время улыбался, теребил тонкие усики. Лицо дивчины оставалось спокойным и суровым.
Кроме них, увидел в избе остальных братьев Алинчуков, Кароля и Жыгмунда Фабьяньских, Элеганта и Славика с гитарой на коленях. Кроме них, было еще несколько незнакомых мне мужчин, старых и молодых — наверное, родственников Алинчуков и Фели. Из девчат были Белька, помирившаяся с Альфредом, Андзя Солдат, кузина Фели Зося и еще пару женщин, кого видел лишь мельком.
На столе стояло много опустевших бутылок. Собравшиеся хорошо набрались, но вели себя чинно. Подошли ко мне Щур с Грабарем, стали мы вместе в окно смотреть. Граммофон смолк. Я увидел: Лютка Зубик что-то говорит Славику. Наверное, попросила, чтобы сыграл или спел. К ней и другие дивчины присоединились. Вижу: зарумянился Славик. Устроился в кресле поудобнее, взял пару аккордов и запел. Но не нашу, контрабандистскую песенку, сложенную на границе, а другую… тоскливую, тяжкую:
Степь да степь кругом. Путь далек лежит. В той степи глухой Замерзал ямщик! В той степи глухой Замерзал ямщик!Не могу оторваться от окна — так захватила меня песня. Овладела всем моим существом. Будто впитывал ее душой, сердцем, нервами… Щур тронул меня за руку.
— Пойдем!
Иду вместе с ним через сени. Песня умолкла. В доме — тишина. Щур распахивает двери, входит в избу. Мы — за ним. Все смотрят на нас удивленно. Вижу: Алинчуки зашевелились. Альфред руку в карман сует. Щур мгновенно сверкает двумя парабеллумами, направив их на сидящих. Мы тоже вынули оружие. А Щур сказал всем:
— Пришли мы сюда от имени брата Фели, Сашки. Сашка был моим товарищем и умер у него на руках! — он кивнул в мою сторону. — Когда был бы жив, пригласил бы нас на обрученье сестры раньше, чем многих из вас. А кавалер, — Щур повернулся к Альфреду, — пусть успокоится и ручки в порядке держит, а то вместо обручения случится пара похорон.
Щур сел за стол между отодвинувшимися Люткой и Зосей, напротив Альфреда. Все молчали. Потом раздался голос Фели. Она посмотрела мне в глаза и сказала:
— О, это чудесно, пане Владиславе, с пистолетом в гости приходить!
— В руках у меня оружия нет, — отвечаю понуро. — А вынул пистолет потому, что Альфред за оружием потянулся. Знаю: даже из-за ограды в спину для него стрелять не впервой!
— Это для меня — оскорбление! — сказала Феля, и на лбу ее обозначилась длинная алая морщина.
— А!.. Панну Фелицию так легко оскорбить? Не знал. По-другому думал, глядя, как тот, кто год тому панну курвой называл, о чем панна Фелиция хорошо знает, теперь ее нареченный.
— А тебя это касается? — процедил сквозь зубы Альфред.
— Очень касается, — вмешался Щур. — Кто ж за тобой, паскудой, присмотрит, если не я?
— Кто кота паленого погонит? — добавил Грабарь.
— И не для того, чтобы он панне глазки строил и ножку щупал.
— А кто вас сюда звал? — спросила Феля.
— Панна меня сама когда-то приглашала, — сказал я тогда. — Пришел подпитый… Высмеяла меня. Теперь вот трезвый прихожу, с друзьями — снова не угодил.
— С бандитами! — бухнул Альфред.
— Не с такими жлобами, как ты, которые из-за ограды стреляют, влевую полиции доносят, с агентами в Советах якшаются и хлопцев закладывают! — говорю ему.
— Вы сами никому работать не даете!
— Таким жлобам, как ты, не даем! И не дадим! Кончились для вас золотые деньки! Дрова вам рубить, воду носить и дерюгу ткать, а не фартовать! — сказал Щур. — Из-за тебя Вороненок погиб! Из-за тебя Гвоздь сгинул! Ты на нас «повстанцев» натравил! Ты чекистов напустил! Ну так помни: для вас граница на замке, и если кого из вас пятерых сцапаю за границей, — Щур по очереди ткнул пальцем в грудь всем Алинчукам, — то пулю в лоб! Границу только паскудите. И если сцапаю кого с «повстанцами» — а я сцапаю! — им тоже кости пересчитаю! Таким и скажите! А теперь хватит болтать! Пришли мы сюда выпить и пожелать Феле счастья. Свои дела где-нибудь в другом месте уладим!
Щур взял со стола большой графин и налил водки в три стакана: для себя, для меня и для Грабаря.
— Ну, хлопцы, давай! — сказал весело. — Выпьем за здоровье сестры Сашки Веблина, короля границы, Фелиции!
Выпили мы залпом.
— А теперь, хлопцы, стаканы об пол! Чтоб никто не выпил из них за здоровье Фелиции Алинчуковой, жены Альфреда!
Лица собравшихся выражали разное. Одни чуть сдерживались, чтоб не покатиться со смеху. Другие пытались унять бессильную ярость. Некоторые перепугались, хоть по нам и видели, что не собираемся никому причинять зла. А на лицах Славика и Элеганта увидел одобрение. Щур подошел к Славику, взял у него гитару и сказал:
— Пел я Сашке не раз. А теперь в последний раз спою его сестре!
Тронул струны и запел — смешную, очень фривольную песенку про тяжкие беды и рисковую долю контрабандистов. Некоторые, в особенности девчата, заулыбались. Щур допел и сказал:
— А теперь, моя дорогая Феля…
— Не твоя и не дорогая! — рявкнул Альфред через стол.
— Что не моя, так тут ты прав, — заметил Щур, сощурившись, — а что дорогая, так тут уж я прав, потому что на приданое ее ты больше чем на нее саму пасть раззявил.
— Чует пес мясо! — отозвался Грабарь.
— По всему это, не только по-моему. А больше всего, это точно, по-евойному, ему-то ого как выйдет! — сказал Щур шутливо, показывая пальцем на Альфреда.
Феля вскочила.
— Панове долго собираются тут быть?! — крикнула визгливо, гадко. — Если долго, то я сама пойду отсюда!
— Нет, — ответил Щур. — Уже уходим… А напоследок хочу панне Феле подарок свадебный преподнести. Не надеемся, что на свадьбу пригласит… Мы и не пришли бы, — заключил, помолчав с минуту. — Ну, панне денег не нужно, Сашка достаточно заработал их… для Альфреда. Потому не деньги дам — другой подарок. Сашка его бы охотно принял!
Щур наклонился через стол и положил на салфетку перед Фелей гранату. И Грабарь — гранату, следом. А я сказал:
— Я другое панне подарю: подарок, который мне Альфред когда-то послал. Не побежал я с ним в полицию, только Сашке показал, а теперь дарю панне.
И положил рядом с гранатами пулю от браунинга, которую осенью 1922-го года вытянул из стены дома Трофидов после того, как меня пытались убить.
Все молчали. Феля смотрела задумчиво на гранаты и пулю. Некоторые гости отодвигались вместе со стульями от стола. А Щур сказал:
— Ну, хлопцы, айда в дорогу! Пусть они тут небо коптят, детей плодят, а нас ожидает черная ночь, черная тропа, зеленый лес и зеленая граница!
Вышли мы из дому. А в сенях услышали голос Альфреда:
— Нужно полицию звать! Что ж это такое? Это же разбой! И свидетели есть!
И тут послышался спокойный, низкий, отдававший металлом голос Фели:
— Сиди тихо, ты, ты… — и умолкла, не договорив.
Вышли мы на улицу и нырнули в темень ноябрьской ночи. Шел я и думал все время: «Какие же слова были на Фелином языке, когда недоговорила Альфреду?» Много б я дал, чтобы узнать! Дорого б дал!
14
Мелина наша вовсе ненадежна. Со всех сторон — враги. Вокруг по дорогам, стежкам, лесам, полям, лугам снуют погранцы, агенты, таможенники, сексоты, чекисты. А мы сидим, как в гнезде, в умело замаскированной мелине, в глубине Красносельского леса, и ждем темноты. Любая неосторожность может нас выдать, а драка днем с превосходящими силами нам вовсе не улыбается. Потому сидим очень тихо, даже огня не разводим.
Держимся мы в таком опасном месте потому, что хотим накрыть несколько групп «повстанцев» за раз. Место верное, усердно нами наблюдаемое и исследованное.
Днем начался мелкий докучливый дождь. Небо затянуло тучами. Был второй час ночи. Мы уже не спали. Щур разжег в глубокой ложбине костерок. Из этой ложбины мы вытянули общими силами огромный, вросший в землю валун. Жгли только сухие дрова.
Нашу мелину с трех сторон окружало болото, но сама она находилась на сухом пригорке. Вокруг стояли задумчивые, понурые, сивые от старости елки. Черными колоннами втыкались они высоко в небо. Посуху путь к нам загораживали огромные поваленные деревья, густой бурелом, кусты, груды валежника.
Грабарь встал и сообщил:
— Пойду, прогуляюсь трохи. Принесу воды.
Щур кивнул. Грабарь взял бачок и скрылся за деревьями. Прошел час, и не возвращается. Вдруг услышали с юга, близко совсем, два револьверных выстрела. Щур вскочил.
— Наган, — сказал коротко.
После бухнуло еще несколько выстрелов.
— Парабеллум! — крикнул мне Щур. — Это Грабарь!
Кинулись мы напролом через лес в направлении выстрелов. Через четверть часа оказались на краю леса. Вдали виднелись крыши хутора. За несколько десятков шагов от нас увидели что-то чернеющее в траве. Подбежали с пистолетами в руках. Увидели лежащего на лугу мужчину в крестьянской одежде. Подошли ближе. Увидели торчащую вверх рыжую бороду, шрам на левой щеке и кривую, злую ухмылку, навсегда застывшую на мертвых побелевших губах.
— Это же Макаров! — крикнул я.
Щур склонился над телом агента.
— Мудрила! Мужиком переоделся! — буркнул брезгливо.
— А где Грабарь? — спрашиваю.
Мы осмотрелись. На лугу, у края леса — никого.
— Грабарь! Грабарь! — закричал Щур.
Никто не отозвался. Щур поднял лежащий рядом с трупом наган. Осмотрел его и сказал:
— Где-то недалеко должен быть. Может, раненый? Иначе, машину бы забрал.
Начали мы обыскивать край леса. Вдруг вижу сапоги, высовывающиеся из-под куста. Позвал Щура.
— Сюда! Он тут!
Щур прибежал. Вытянули мы из куста стынущее тело. Щур перевернул его на спину. Грабарь был уже мертвый. Щур долго смотрел на тело друга, потом сказал:
— Полз к нам и умер.
У Грабаря было в груди две пулевые раны. Что случилось, понять было нетрудно. Грабарь вышел на опушку леса. Увидев мужика, спокойно подошел к нему, не подозревая, что это агент. А Макаров сразу опознал в нем контрабандиста. Когда Грабарь оказался близко, агент выхватил из кармана револьвер и приказал поднять руки. Тогда Грабарь схватился за оружие. Макаров выстрелил дважды и кинулся наутек. А Грабарь из последних сил выстрелил в него несколько раз. Попал в бедро, в плечи и в голову. Рана в голову оказалась смертельной. А Грабарь пополз к нашей мелине. Дополз до кустов и умер от потери крови.
— Ну так, так, так! Ну и лады! — повторял Щур, глядя на тело коллеги.
— Занесем-ка мы его на мелину, — предложил я, глядя на Щура удивленно.
Я взял труп под мышки, Щур — за ноги, и потащили мы тело на мелину. Долго добирались до укрытия. Уложили тело на срубленные еловые лапы.
Щур принялся выгребать из ложбины, где жгли костер, головни, угли и пепел. Принялся копать землю — лихорадочно, нервно.
— Что такое? — спрашиваю.
Щур глянул на меня горячечно блестевшими глазами. Лицо его, мокрое от пота, запорошил пепел.
— Могила это для него… А как иначе? Оставить, чтоб волочили, трясли? В жизни ему того хватило! Пусть хоть теперь спокойно будет! Гроб будет, как холера!
Показалось мне, что Щур засмеялся, хотя не могло же того быть! Может, застонал так?.. Он все копал. Выкидывал из ямы кучи земли. Руками греб, тыкал заостренной палкой, обожженной в огне. Наконец, выкопал глубокий, в полтора метра, ров.
Вылез, отер пот со лба рукавом рубахи и сказал:
— Ты обыщи его. Оружие забери, деньги. Деньги его матери отвези в Рубежевичи. Я адрес дам… Я сейчас.
Щур пошел в лес, а я принялся вынимать из карманов Грабаря вещи. Были там парабеллум и наган, девять запасных магазинов, много патронов, четыре гранаты, фонарик, портмоне с деньгами и множество всякой мелочи. Высыпал я все это на большой платок.
Вскоре вернулся Щур. Принес охапку еловых лап. Принялся устилать ими дно могилы. Вылез наверх, сказал мне хрипло:
— Ну… покончим с этим!
Опустили мы в могилу тело Грабаря. Щур слез в могилу, уложил ему руки вдоль тела. Сказал мне:
— Машину дай… наган. Пусть у хлопца будет!
Положил заряженный наган у правой руки Грабаря и стал поспешно укрывать его еловыми лапками. Вылез, наклонился над могилой.
— Ну, прощай, Янек!
Стал ногами спихивать землю в яму. Потом и руками. Вскоре яма заполнилась. Щур утоптал землю.
— Может, камень положим на могилу? — спрашиваю.
Щур подумал с минуту. Нахмурился, махнул рукой.
— Не нужно. И так ему тяжело было в жизни… Ты не знаешь, как…
Замолчал.
Я развел огонь. Понемногу снова задождило. В кронах деревьев свистел, плакал, дрожал ветер. Срывал желтые листья, усыпал ими могилу Грабаря.
Мой верный друг Грабарь погиб в конце золотого сезона — как и Сашка Веблин. Все вокруг оделось золотом. Золотые ковры устилали леса, золото сияло с веток, золото укрыло его могилу.
Близился вечер. Я развел большой костер. Щур будто стряхнул оцепенение. Вынул из сумки бутылку. Вымыл спиртом руки и лицо, измазанные кровью друга. Вытерся платком. Закурил, сел у костра и долго, задумчиво смотрел в огонь. Дымил папиросой, сплевывал на угли и о чем-то думал, думал, думал…
Смеркалось. Темень окутала лес. Мрак укрыл все траурным саваном.
Ветер усилился, и дождь не переставал. А сверху, от крон, все летело наземь золото.
Теперь мы работали без всякой системы. Щур перестал маскироваться. Крыли мы «слонов», не таясь. Работали зло, упрямо. И времени отдохнуть почти не было. «Повстанцы» ходили теперь реже. Многие группы бросили работу, а кто не бросил, ходили по дальним кружным дорогам. Но и там мы их брали. Нюхом их чуяли.
Только одну группу никогда не трогали мы, хотя и легко могли бы взять — группу «диких». Теперь ее водил Душек Магель, двенадцатый машинист и двенадцатый безумец. Болека Комету убили большевики из засады. Полез ночью на карабины и погиб от пуль… Улетел Комета с пограничья. Сгинул первейший пропойца.
Стал я замечать, что у Щура помешалось в голове. Стал присматриваться, наблюдать и уверился: съехал он. Вскоре после смерти Грабаря взяли мы пятерых «слонов» и забрали товар, который те несли в Советы. Щур пораспаковывал все носки и скинул товар в общую кучу. Потом принялся развешивать по елкам яркие платки, чулки, свитера, подтяжки, лакированные пояски. Украсил так несколько деревьев. Смотрел я на Щура, не мешал. Тот закончил, отошел на несколько шагов, бурча непонятное под нос, осмотрел дело рук своих. Потер ладони и говорит мне:
— Ну, как? Марово?
— Так себе… пойдет.
Остатки товара Щур выбросил в ближайший ручей. Когда пришли на мелину, спросил:
— Знаешь, что мужик один из-под Курдунов сделал?
— Ну что?
— Скаред был. Целую жизнь деньги собирал. Когда под старость захворал тяжело, держал их в кожаном мешочке под подушкой. Боялся, чтобы кто из родни не забрал. А незадолго перед смертью принялся глотать золотые монеты. Одну за другой, как конфетки. После начал давиться золотом. Прибежали сыновья с дочками и жена. Хотели помешать ему. А он их стал бить, кусать и проклинать. Так и умер.
Не понял я, зачем он и по поводу чего такое рассказал. А Щур время от времени, а чаще в самый неподходящий момент, принимался спрашивать: «А знаешь, что случилось в Гервелях, в Уше, в Дуброве?» или «Знаешь, что сделал тот-то и тот-то?» И рассказывал странные истории.
Понял я, что у Щура мебель в голове попереставилась. Только понять не мог, на чем же он свихнулся. Я от него не отступал ни на шаг. Мелиновали мы большей частью под открытым небом. Все гонялись за «слонами». А товар часто попросту бросали в лесу, где он мок и пропадал. Несколько раз заходили вечерами в местечко. Закупали там провиант и табак. Щур навещал своих информаторов и вызнавал, кто еще ходит за границу. Работы у нас стало немного: «повстанцы» почти перестали ходить за границу. Некоторые даже боялись поодиночке ходить по улицам местечка. Всех мы запугали.
Щур как-то вызнал в местечке, что одна группа «повстанцев» ходит не прямо из Ракова, а из Вольмы. В ту сторону несут очень дорогой товар, а назад возвращаются через наши края, но без товара. Проводил их Берек Стонога. Проводил две-три группы и ходил один, чтобы принести полученные за переправленный товар деньги. Описали нам приблизительно, каким путем он возвращается из Советов.
Через некоторое время вызнали мы: Берек, перейдя границу, идет по одной из шести дорог. Проходил рядом с дубовым бором у бывшего маентка помещика Новицкого, оврагом позади амбара управляющего того маентка, Карабановича, у корчмы, находящейся близ дороги от Вольмы до Ракова, и, наконец, лесом поблизости от корчмы. Дальше шел по одной из трех дорог: лугом вдоль деревни, по левому краю леса и по стежке, проходящей через лес с другой стороны. Обдумав сведения, устраивали мы засады на одном из этих путей. Но безуспешно. А потом Щур узнал в местечке, что Берек Стонога вернулся как раз по дороге, которую стерегли! Щур пришел в ярость.
Ночи начались лунные. Когда тучи расходились, открывая небо, хорошо было устраивать засады. И вот как-то раз сделали мы, по обыкновению, засаду в двух местах: я — на тропе, проходящей через лес, а Щур с левого края леса. Решили мы, что Берек по одной из этих дорог будет возвращаться.
Был уже второй час ночи. Засаду сделали далеко от границы. Я изо всех сил всматривался в местность перед собой, чтобы не проглядеть возвращающегося из-за границы жида. Когда казалось мне: замечаю движение — вставал и внимательно осматривал окрестности. Убеждался в том, что показалось, и снова усаживался на ствол поваленной сосны.
Вдруг послышался шум. Побежал я краем леса к месту Щуровой засады. Увидел: обыскивает какого-то мужика, тот громко умоляет отпустить, сулит десять рублей золотом. Мужик нес в мешке несколько килограммов овечьей шерсти и говорил, что идет к родственникам, живущим поблизости от Вольмы.
Тут пришла мне в голову мысль. Когда Щур отпустил мужика, то я сказал, что, по моему разумению, Берек никогда не возвращается из Советов один, а всегда идет вместе с мужиком и бабой. Те идут первыми, за несколько десятков шагов от него. Напомнил я про бабу, которую задержали несколько дней тому у амбара Карабановича. Щур, не ответив, побежал туда, откуда пришел мужик. Вернулся через четверть часа и сказал:
— Прав ты. За мужиком шла босая баба, а за ней кто-то в сапогах. Наверное, Стонога. Обманули нас.
Сел на ствол поваленной ветром березы и долго молчал. Я раскурил папиросу, дал ему. Тот выкурил, по-прежнему не говоря ни слова.
— Может, пойдем? — спрашиваю его.
Поднял голову. Увидел я в лунном свете его бледное, худое лицо и яркие, чуть прищуренные глаза.
— Пойдем, говоришь?
— Так. Незачем тут сидеть!
— Нет, не пойдем. Я один пойду. Ты — не пойдешь.
— Куда? — спрашиваю удивленно.
— На юг пойду. Туда, куда птицы полетели. Свои у меня там. Я знаю Киев, Харьков, Ростов, Одессу, Тифлис. Пойду. Что мне тут? Нету никого. Брат мой живет в Ростове… Брат, мать и сестра. Мать старая, брат старше меня, а сестре четырнадцать. Может, плохо им?.. Пойду, посмотрю. А тут — да холера тут на все!
Встал и пошел по дороге к тракту, с пистолетом в руке. Забыл пистолет спрятать. А я пошел за ним. Знал: если вбилась ему в голову какая-то мысль новая, так ничем ее не выгонишь. Назавтра вечером перешли мы границу в Ольшинке. Колючую проволоку порезали ножницами — их всегда носили с собой. Пошли лесом ко второй линии. Шли по знакомым дорогам — по ним перенесли с запада на восток и обратно миллионы в деньгах и товарах. Знали тут каждую стежку, дорогу, поляну, овраг, каждый ручей, едва ли не каждое дерево и куст. Узнали много памятных мест. Шли, не говоря ни слова. Шли без дороги в лунном свете, во тьме, залегающей в глубине леса. Шли с пистолетами в руках.
Подошли мы к Старосельскому лесу. Там вышли на тракт. Идя по открытой дороге, вышли на перекресток. Тут утыкались в разные стороны света несколько указателей. Место было как раз на полпути от Ракова до Минска. Щур остановился у указателей. Сел на поросшем травой пригорке, вынул из кармана большую фляжку. Поглядел на нее в лунном свете и сказал:
— Давно мы ликеру не пили, так?
— Давно.
— Так выпьем на прощание. Наверное, больше никогда и не увидимся…
Ободрал сургуч с горлышка о столб с указателем, ударив ладонью, вышиб из бутылки пробку. Потом сказал:
— Ну, будь здоров! И никогда не позволяй хамам тебя сцапать!
Выпил полбутылки, протянул мне.
— Чтоб тебе во всем повезло! — пожелал я ему.
Выпил остаток ликера, а бутылку закинул далеко в поле. Потом оба закурили.
— Знаешь что? — спросил Щур.
— Ну, слушаю.
— Должен ты взять Берека Стоногу. Хоть один раз. Я не могу остаться… должен я идти. А ты возьми!.. Сделаешь?
— Добре.
— Точно? Слово даешь?
— Даю слово!
Снова закурили… Затем Щур встал. Оглянулся, осмотрел поля вокруг и сказал мне:
— Знаешь что? Жил поблизости от Каменя один мужик. Были у него дела с помещиком. Но однажды помещик его обидел. И решил мужик ему страшно отомстить. Однажды прибежал на подворье мужиково пес помещика. А у мужика коса в руках была. Замахнулся он да и отсек псу ноги. Так вот было, понимаешь?
Не понял я, о чем он и к чему это относится, но подтвердил:
— Так, понимаю.
— Ну, тогда прощай! Пора мне!
Пожал мне крепко руку и поспешил по дороге в направлении Старого Села. Я ему вслед глядел: не обернется ли?.. Не обернулся. Вскоре растворился он в лунном свете на краю Старого Села. Думал: может, что с ним случится там? В Старом Селе всегда жили и останавливались агенты, сексоты и чекисты. Мы всегда обходили село это стороной. Долго я ждал. Может, стрелять начнут? На помощь спешить надо?.. Но все было тихо.
Повернулся я и пошел медленно на запад. Один я остался… совсем один на целом пограничье. Очень мне было тоскливо. Напился бы с радостью, да водки не было. В винокурне, в бочке, оставалось несколько бутылок спирту, но винокурня осталась далеко за границей.
Когда рассвело, я был вблизи границы. Залег в болото среди ольшаника, в ложбину между кочками. Сзади шумел большой сосновый лес, слышалось журчание ручья. Впереди, за ольховыми зарослями, были пограничная полоса и изгородь, а в ней, неподалеку — прореха, которую вчера прорезали ножницами.
На полосу выходить нельзя. Если там засада (а она наверняка там есть), то застрелят даже издали. Я первый должен их увидеть.
Лежу в мокрой ложбине. В руках — два заряженных парабеллума. Смотрю между деревьями в направлении границы. Вижу просеку и, чуть вправо, прореху. Слышу позади легкий шорох. Оборачиваюсь. Из еловой заросли на болото выходит большой, не серый, а порыжелый, матерый, «конской масти» волк. В несколько прыжков перемахнул полболота и лег на кочке, мордой к границе, за два десятка шагов от меня. «Нос ему заложило, что ли? — думаю. — Иначе бы наверняка меня почуял».
В этот момент волк быстро повернул голову налево. На шее и спине вздыбилась грубая шерсть. Я гляжу на него в упор. Он зубами клацнул, но не удирает.
Тут я услышал шаги на пограничной полосе… Сперва тихие, потом все звучней. Вижу из-за низких ольховых ветвей, как из-за занавески, серые шинели и сапоги трех красноармейцев. Топают медленно, неохотно. Стали. Ноздри мне щиплет табачный запах. Крепко сжимаю в ладонях оружие.
Прошли, удаляются.
Волк срывается с места и несколькими прыжками преодолевает полосу. Я спешу за ним. Глазам моим открывается широкий открытый простор пограничной полосы, обрамленной двумя черными стенами леса. Волк помчался к ограде. Вскочил в прореху, вырезанную нами ночью, и пропал в лесу на другой стороне.
Наверное, очень у него срочное дело там.
Перебежал я вслед за ним полосу и оказался в лесу. Потом направился на запад.
15
Блуждаю я в одиночестве по полям, лугам, лесам. Иду ночами по пограничью. Одиночество и таинственная тишь лесов и полей многому меня научили. Научили лучше понимать людей — даже тех, которых не видел, даже тех, кто уже не живет… Одиночество научило меня думать и любить… Я люблю лес — как рысь, как волк. Люблю оружие — как лучшего друга. А больше всего люблю ночь — самую верную возлюбленную. Каждую новую ночь встречаю радостно, азартно. Когда ночь слишком темна или небо закрыто тучами, вешаю на грудь буссоль, сверяясь со светящейся живым, теплым светом стрелкой компаса, бреду по пограничью.
Каждый вечер выхожу из своих тайных укрытий и ухожу в темноту. На концах пистолетных дул я повязал белые платки — чтобы целиться в темноте. А ночь иногда такая темная, что и тех белых пятен на стволах не разглядеть. Тогда беру в левую руку фонарь, а указательный палец правой руки вытягиваю и кладу на ствол. Так можно стрелять в полной темноте, ориентируясь только по слуху, и с большой точностью. Убедился я: есть особая чуткость в указательном пальце. Слуховым нервам и мозгу легче подсказывать ему одному направление на шум, чем целой ладони. А на курок надавить можно и средним пальцем.
Крадусь через границу почти каждую ночь. Не преграда она для меня. Хожу тихо, как кот. В безветренные ночи — босиком. Не раз подходил к засаде, и не замечали меня. Изгороди из колючей проволоки научился я преодолевать быстро, много способов для этого знаю. С жердью в руках, будто с шестом гимнастическим, перескакиваю по воздуху. С двумя жердями, опираясь, перехожу ограду просто по проволоке. А иногда перелажу ограду по четырем жердям, как по стремянке. Режу проволоку ножницами. И снизу подлажу. Обычно собираю для этого кучу коротких раздвоенных веток и, поднимая ими проволоку, пролажу в освободившийся проход.
Однажды ночью в кромешной темноте подошел я, перелезши изгородь, к кустам на другой стороне пограничной полосы. Тронул ветки стволом. А в кустах тех была засада. Они меня почуяли. Хоть шагов моих тихих и не расслышали, прикосновение к кустам их насторожило. Чуть не в лицо мне грохнул выстрел. Я выстрелил перед собой несколько раз, вслепую, и отскочил вбок. Загрохотали выстрелы, но я на них не отвечал. Когда бы хотел, мог бы зайти сзади и кинуть гранату или засыпать пулями из пистолетов, но зачем?
В другой раз шел трактом к границе. Песок заглушал мои шаги. Вдруг услышал перед собой шум. Я присел. Через пару секунд коснулись меня, с двух сторон, полы шинелей. Красноармейцы прошли мимо, не подозревая, что я сижу, пригнувшись, между ними. Пошли себе дальше. Это меня очень позабавило.
Несколько раз заходил вечерами в местечко. Не узнанный никем, блуждал по улицам. Навестил Мамута, молча выпили мы с ним водки. Дал ему коробку с деньгами Грабаря (достал из нашего «банка»). Было там тысяча долларов и около шести тысяч рублей золотом. Зашили мы коробку в полотно. Я написал на полотне адрес матери Грабаря и наказал Мамуту назавтра послать ценной посылкой. Он так и сделал.
Однажды вечером зашел к Есе Гусятнику. Разделил с ним трапезу, выпил пейсаховки. Разговаривали о разном. Гусятник сказал мне:
— Зачем ты это делаешь?
— Что делаю?
— Не даешь хлопцам за границу ходить.
— Нравится мне. Поганые из них фартовцы.
— Я про то говорил с нашими… и с купцами тоже. Знаешь что? — спросил Еся, оживленно жестикулируя. — Они бы все сделали! И с полицией договорились бы, и с Алинчуками! Они ж свидетельствовать побоятся! Они на улицу боятся выйти! А ты миллионы заработать можешь… Ты можешь собрать, если захочешь, свою группу и водить сам, договорившись с купцами… на процентах. Знаешь, что это? Ты ж так знаешь границу, дороги разные… С тобой каждая группа наверняка пройдет, на каждой группе, если в обе стороны, заработаешь, самое малое, две тысячи долларов! Знаешь, сколько это за год будет?
— Добре, — прервал я его. — Но зачем это мне?
— Зачем что?
— Тысячи долларов.
— Зачем тысячи долларов? — спросил жид удивленно, шевеля пальцами в воздухе. — Их же все любят!
— А я не люблю, и не стоит про то говорить.
Вскоре распрощался я с Гусятником. Его практичный ум меня вразумить не мог. Наверняка посчитал меня безумцем. А я — его…
Каждую ночь шел я ловить Берека Стоногу. Шел за десять километров от Ракова в направлении Вольмы и стерег одну из шести дорог, по которой Берек ходил. Не было у меня информатора, чтобы навел на него. Потому ловил вслепую… чтобы только исполнить данное Щуру слово.
В конце концов, удалось мне его сцапать. Близ полночи тучи разошлись и показался полный месяц. Я сидел в засаде прямо за трактом, ведущим из Вольмы в Раков. Устроился я на краю дубравы. Красивой дубравы, с высокими, сильными деревьями. Кроны их начинались высоко над землей.
Один я был. Светило мне цыганское солнце. Пел мне ветер. Шумела дубрава. В третьем часу утра увидел я идущую через поле ко мне серую фигуру. Я спрятался получше. Человек — теперь я его видел отчетливо — поспешно шел через поле к лесу. Был то мужик в лаптях и в сермяге. Нес на плечах мешок. Остановился на краю леса, посмотрел по сторонам, кашлянул пару раз и пошел дальше. Прошел мимо. Через минуту я увидел идущую полем от тракта женщину, одетую в кожух, укрывшую большим шерстяным платком голову и плечи. Шла она босиком. Юбку подоткнула высоко. Шла быстро и все время головой крутила, оглядывалась. Под пахой несла пакет какой-то. Я пропустил и ее. Прошла, зацепив кожухом кусты, где я укрылся.
А я смотрел все время в направлении границы. Через некоторое время увидел еще фигуру, идущую долом к лесу. Был то мужчина в черной куртке и высоких сапогах. У меня сердце заколотилось. От радости грудь распирало. Те наверняка были приманкой, а это — сам Стонога.
Незнакомец приближался. При ходьбе опирался на палку. Когда поравнялся с кустами, я выскочил чертом на стежку и оказался прямо перед ним.
— Руки вверх!
Тот поспешно поднял руки. Палка выпала из его ладони.
— Давай деньги, живо!
Стонога поспешно выворачивал карманы, выкидывал из них золотые и серебряные монеты. Давал их мне.
— Пожалуйста, пан, пожалуйста…
— Это все?
— Все, пожалуйста, пан, все…
— Ну а если еще найду?
Забавлялся я с ним. Жаль было так быстро отпускать того, кого столько ночей терпеливо поджидал один и вместе с Щуром. Наверное, никто любимую так не ожидал нетерпеливо, как я того жида.
— А что пан найдет? Ничего у меня нет.
— Если найду еще чего… хоть грош, хоть один доллар, знаешь, что с тобой сделаю?
Стонога широко открыл глаза, облизнул губы. Жарко ему.
— Я… нет, нет… — прошептал жалко.
— Нет? Добре. Раздевайся!
Перестал я с ним по-доброму говорить. Схватил за грудки да тряхнул так, что пуговицы посыпались.
— Ну, живо! На раз-два! А то помогу!
Жид задрожал. Поспешно скинул с себя куртку, матроску.
— Пан, пожалуйста! Что пану нужно?
— Посмотреть, какой ты красивый!
Разделся донага. Тогда я говорю ему:
— Знаешь что, Берку?
Услышав свое имя, вздрогнул, глянул мне в лицо удивленно.
— Что-о?
— Можешь ты своей жизнью поклясться и жизнью родных, что нет на тебе больше денег?
— Чтобы я таких здоровых родных своих увидел, как на мне денег нет! — он ударил кулаком в голую грудь.
— Теперь, Берку, верю тебе!
Жидок повеселел, склонился над одеждой.
— Можно одеваться?
— Чего? Одеваться?.. Ах ты, хитрован! Ты ж поклялся, что ничего на тебе нет, потому что голый был! Доллары-то — в одежде!
Принялся я перещупывать вещи его, одну за другой. В белье ничего не было. В матроске, штанах, рубашке — тоже ничего. Зато из сапог, из голенищ, вынул около тысячи долларов. Из воротника куртки — еще пятьсот. В шапке — ничего. Мало слишком. Знал я, что носит он, самое малое, по пять тысяч долларов, сразу за две-три партии товара. Снова обыскал сапоги, чуть на части их не разодрал. Ничего. И в куртке ничего, хоть всю вату из нее выдрал. Мог бы я ударить Стоногу и угрозами или битьем заставить признаться, где остальные деньги. Но такое мне было отвратительно. Но вдруг пришла мне в голову мысль: «Ага! Палка, на которую он опирается! Там деньги!» Тогда сделал вид, что сдался, и прекращаю поиски.
— Одевайся, Берку!
Стонога поспешно оделся. Я сделал несколько шагов в направлении тракта, затем остановился. Повернулся к нему и говорю:
— Чего стоишь? Можешь идти!
Берек поднял палку и намерился уже идти. Ага, не забыл про палку! Значит, в ней деньги!
— Погоди-ка! — говорю ему.
— Чего пан хочет?
Подошел я к нему и говорю:
— Пан знает, сколько сейчас времени?
— Не знаю… четвертый час, наверное.
— Четвертый?.. Так поздно! Ну, так палку-то мне дай! Нога болит. А сам можешь идти.
Забрал палку из его рук и, оставив его на дороге, пошел в направлении Душкова. Берек остался на краю леса. Долго смотрел мне вслед. О чем думал? Наверняка считал, будто я не знаю, что в палке деньги спрятаны. Думал, я палку брошу где-нибудь. Я его не разубеждал. Было это моей местью за то, что так много ночей просидели, его поджидая.
Жаль, что не было со мной Щура, и невозможно было хоть как-то оповестить его о том, что я таки взял Стоногу.
Тоска по Щуру стеснила сердце. Где он теперь? Что делает мой несчастный сумасшедший друг, который временами был таким щедрый и добрым?
Когда потом, на мелине в винокурне, я осторожно расщепил ножом палку, нашел в пустой ее сердцевине шестьдесят стодолларовых банкнот. Взял я всего от Стоноги семь тысяч четыреста долларов. Но от такого увеличения капитала мне не было радости. Вообще я бы все деньги отдал, чтоб побыть хотя б несколько минут рядом со Щуром.
Брожу вдоль границы. Все от меня шарахаются. Нет у меня ни единого друга. Зашел как-то на мелину в Красносельском лесу, где укрывались мы с Грабарем и Щуром. А там голо, пусто и холодно. Все застлало толстое покрывало желтой листвы. И нет там никого, даже моего давнего приятеля — рыжего кота с обрубленным хвостом.
Блуждаю по пограничью. Травит меня тоска. Грызет тревога.
Выхожу на тракт. Ветер кидает на него жухлые мокрые листья. Столбы телеграфные стоят мокрые, тоскливые, темные…
Зима близко. Чую ее дыхание в воздухе. Скоро уже белая стежка!
Ту ночь я провел в лесной глуши у второй линии. Поднял огромные — метра в четыре длиной — сивые от старости еловые лапы и влез под них. Тихо там было. Пахло смолой, плесенью. Сухая подстилка из иглицы, нападавшей за много лет. В таких местах сухо и тепло в наигоршие зимы.
Не спал почти всю ночь. Виделось мне разное — необычное, странное. Слышались голоса живых и умерших. Той ночью понял и помыслил многое, чего никогда не найдут спящие в теплых постелях, не выразимое словами — но оставшееся со мной.
Той ночью я решил навсегда покинуть границу. Назавтра выходила годовщина смерти Сашки Веблина. Рассвет тем днем был неописуемо красивым. Смотрел я на него с высокого холма на второй линии.
Днем я пошел в местечко. Захотел попрощаться с Юзефом Трофидой и Янинкой. Но не застал их дома. В их доме жили незнакомые люди. Мне сказали, что Юзеф Трофида продал дом и вместе с сестрой и матерью переехал к родным, близ Ивенца.
Тогда пошел к Мамуту. И его не застал дома. Поехал он на станцию забирать привезенные по железной дороге товары для лавки, которую открыл в местечке.
Подошел я к салону Гинты — она поблизости была. Оттуда доносились звуки гармони, веселые выкрики, взрывы смеха. Я зашел.
Когда стал посреди зала с руками в карманах, на рукоятках пистолетов, увидел несколько пьяных «повстанцев». Некоторых знал в лицо. Многих не раз задерживал с товаром. Вдруг кто-то крикнул:
— Хлопцы, это ж он! Вон там!
Все повернулись ко мне. Антоний заиграл марш. В салон забежала Гинта, удивленная и озадаченная внезапной тишиной. Увидела меня и шарахнулась назад, к дверям.
— А-а… это пан Владко!
— Так, я. А ну, одним духом сюда бутылку пойла и закуски!
— Сейч-час…
Через минуту принесла водку и еду. Поставила на дальнем конце большого стола, за которым сидели «повстанцы». Один из них захотел вышмыгнуть из избы во двор. Я вынул парабеллум и показал дулом в угол.
— Марш туда! А вы, — сказал остальным, — сидеть по местам и молчать!
Выпил стакан водки. Закусил. Потом подошел к Антонию и дал стодолларовую банкноту.
— Играй «Яблочко»!
Антоний заиграл бесшабашное «Яблочко». Я выпил остаток водки, закурил. Потом кивнул Антонию и вышел из салона. Тоскливо там было, мерзко. Не застал там ни одного из друзей и коллег, с кем не раз весело там гулял.
Поздним вечером пошел в направлении Поморщизны. Забрал из винокурни хранившееся там оружие. Потом пошел к границе. Цыганское солнце кидало из-за туч наземь зыбкие лучи.
Остановился я у подножия маленького холма — у Капитанской могилы. Взошел наверх. Увидел огни в окнах халуп Большого Села, на советской стороне. Позади осталась деревня Поморщизна. Рядом проходила дорога, ведущая от Ракова за границу. Захотелось мне увидеть, как выглядит тоннель под насыпью. Когда в первый раз шел за границу, сидел там вместе с Юзефом Трофидой и другими коллегами. В том же канале отобрал вместе со Щуром и Грабарем товар у Алинчуков.
Подошел к насыпи. Посветил фонариком в тоннель. Пусто и тихо. Перешел по нему на другую сторону, вернулся. Уселся у выхода из него и долго смотрел в сторону границы.
Закурил. Огня не прятал. Кого мне бояться? Четыре ствола, одиннадцать гранат. Целый арсенал!
Потом заметил на лужке, на берегу пересохшего теперь русла ручья, темную фигуру. Я вскочил. Фигура та быстро двигалась. Пару раз заметил близ нее белое пятно: «Призрак!» — думаю.
Поспешил за той фигурой, не разбирая дороги. Пропала она из виду близ Капитанской могилы… Я почти бежал, стараясь не шуметь.
Медленно поднялся сбоку на холмный склон. Увидел на вершине темную, одинокую, согнутую фигурку, уткнувшую лицо в ладони. Неподвижный, смотрел на нее.
Что она делает? Может, молится?
Медленно подошел к ней. Увидел перед собой молодую дивчину, одетую в темное пальто. Должно быть, она почувствовала мое присутствие, вскочила. Попятилась. Я говорю:
— Пусть пани не боится.
Остановилась. Месяц выглянул из-за туч и, как прожектор, залил светом ее лицо. Я узнал девушку, гулявшую с Петруком у Душкова. Ее лицо я видел, когда, возвращаясь из Советов, потерял сознание на этом пригорке. Понял, что это она рассказала Петруку и Юлеку про меня. И еще понял: как-то она связана с «призраком» и услышанным мною когда-то рассказом о Капитанской могиле. Тогда сказал ей:
— Я друг Петрука… Пани меня спасла когда-то, когда я здесь больной лежал. Я запомнил тогда лицо пани… Кажется мне, пани зовут Ирена?
— Так.
— Удивительно именно здесь пани встретить!
— Я пришла попрощаться с отцом. Он тут погиб.
— И я пришел сюда попрощаться… с границей. Я хотел бы спросить пани об одной вещи, с этим местом связанной…
— Пожалуйста.
— Слышал я легенду о призраке, появляющемся вблизи этого места… Видел я его своими глазами.
— И что именно пан видел?
— Бесплотное белое пятно, все время двигавшееся в разных направлениях. То взмывало вверх, то падало…
На лице дивчины появилась легкая улыбка.
— Это не призрак был. Это Мушка. Собака человека, у которого я живу. Я брала ее с собой, чтобы не сбиться с дороги темными ночами и чтоб от опасностей меня уберегала. А сегодня пришла одна.
Дивчина умолкла. Минуту стояла, задумавшись, потом сказала:
— Попрощаюсь я с паном. Завтра уезжаю в Вильню, к Петруку. Он и его родные пригласили меня к себе.
— Пани пойдет к Выгоницам?
— Так. Уже сегодня уезжаю оттуда в Олехновичи.
— Может, пани проводить до деревни?
— Нет… Я ничего не боюсь. Я часто туда ходила. Знаю тут каждый шаг. До свидания!
— Счастливой дороги!
Она сбежала легко и быстро с пригорка. Обернулась напоследок, махнула мне рукой и пошла на запад. Я долго смотрел вслед — пока не растворилась она в лунном свете.
Пошел я медленно к Большому Селу. Вскоре оказался у пограничных столбов. Те стояли понуро. Глядели враждебно друг на друга, будто борцы, готовые помериться силой…
Где-то грохнул винтовочный выстрел. За ним еще несколько, будя эхо по близким лесам и оврагам.
Наверное, «дикие» границу перешли.
Месяц льет на пограничье бледный холодный свет. Мутно блещут звезды. По небу крадутся облака. Тайком перебираются через неизвестные людям кордоны. А на северо-западе чудесно сияет алмазами удивительных звезд великолепная, царственная Медведица. Обняли ее нежно-легкие, пушистые, снежно-белые облака.
Был то конец моего третьего сезона.
Была то годовщина смерти Сашки Веблина, некоронованного короля границы.
Была то моя последняя ночь на пограничье.
14 октября 1935 года — 29 ноября 1935 года. Святой Крест, тюрьма.Об авторе
…издание 1937 года, стало первым популярным шпионским романом, написанным профессиональным разведчиком. А в 1938-м Песецкий был номинирован на Нобелевскую премию по литературе…
…он работал на три разведки: польскую, английскую и французскую. И сразу три страны снабжали нашего суперагента новейшими средствами ведения тайной войны…
…многие материалы по его деятельности, как в Беларуси, так и за ее пределами, до сих пор засекречены…
…Песецкий знал, или, по крайней мере, неоднократно встречался с автором романов про того самого Бонда — Яном Флемингом…
…в гостинице Европа, что в Минске, он маскировался под богатого коммерсанта, жил «под прикрытием», на широкую ногу — роскошно одетый Песецкий обедал только в самых дорогих ресторанах.
…у Красного костела в Минске он назначал свидания своим агентам.
…Комаровка и тот глухой лесной массив, где сейчас находится парк Челюскинцев в Минске, — эпицентр скопления контрабандистов, среди которых шпионы всех мастей и наш герой всегда могли уйти от слежки.
(газета «Комсомольская правда в Белоруссии»)Сергей Михайлович Песецкий — один из наиболее ярких польских писателей белорусского происхождения, политический публицист, офицер разведки, солдат Армии Крайовой. Песецкий писал о реалиях жизни на польско-советском пограничье и сатирически высмеивал «народную демократию». Биография Сергея Песецкого — увлекательная история, готовый сценарий для остросюжетного фильма.
Сергей Песецкий родился в самом начале XX века в Беларуси и стал участником многих общественных потрясений: от Октябрьской революции до Великой Отечественной войны. Побывав в революционной Москве, вернулся в Беларусь ярым противником большевиков, занимался контрабандой в Ракове. Песецкий работал на три разведки — польскую, английскую и французскую.
Был участником белорусского антисоветского движения «Зеленый Дуб», а в 1921 году присоединился к Литовско-Белорусской дивизии польского войска. Затем переехал в местечко Раков под Минском, которое в результате Рижского мирного соглашения стало польским пограничным пунктом и столицей контрабандистов. На протяжении пяти лет Песецкий занимался контрабандой, одновременно выполняя на территории Беларуси функции агента польской военной разведки.
В 1927 году польский суд осудил Песецкого за разбой на 15 лет тюрьмы. Именно там, на седьмом году неволи, у заключенного просыпается литературный дар. Первый роман «Пятый этап», написанный в 1934 году, конфисковала тюремная цензура. Однако это не остановило узника. Услышав о литературном конкурсе, Песецкий написал автобиографический роман «Любовник Большой Медведицы».
Только этой книге, посвященной «контрабандистскому» периоду жизни Сергея Песецкого, посчастливилось в 1937 году выйти за тюремные стены и быть опубликованной. Благодаря этому произведению больной туберкулезом автор не только получил мировую славу и известность (за два предвоенных года роман был переведен и издан на 11 языках мира), но и был досрочно освобожден из тюрьмы в 1937 году.
Во время Великой Отечественной войны Песецкий участвовал в формированиях Армии Крайовой на Виленщине, а в 1946 году эмигрировал на Запад, сначала в Италию, потом в Великобританию. Расставание с семьей, оставшейся в Польше, жизненные трудности эмигранта не сломили писателя, закалили его волю и литературный талант. Песецкий писал до самой своей смерти от рака в 1964 году.
Похоронен писатель в Гастингсе. На его надгробии высечены ясные звезды Большой Медведицы.
Каждая книга Сергея Песецкого основана на личном опыте, хоть иногда в это сложно поверить. Герои Песецкого — авантюристы, разведчики, люди, живущие одним днем, способные выпутаться из любой ситуации, — автобиографичны.
Примечания
1
Машинист — проводник.
(обратно)2
Носка — ноша, товар.
(обратно)3
Масалка (жарг. устар.) — надзиратель в тюремном, острожном замке.
(обратно)4
Сапоги (жарг.).
(обратно)5
Царский рубль (жарг.).
(обратно)6
Вульва (жарг., вульг.).
(обратно)7
Присвоение купеческого товара (жарг.).
(обратно)8
Уменьшительно-ласкательное от «Александр» (диалект.).
(обратно)9
Деталь традиционного женского костюма, нечто среднее между плотно облегающей безрукавкой и корсажем, с застёжкой спереди.
(обратно)
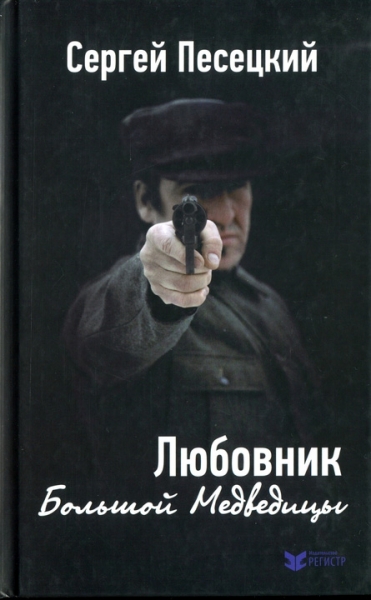



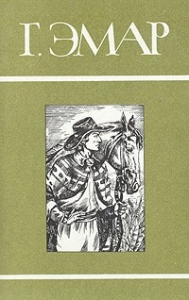

Комментарии к книге «Любовник Большой Медведицы», Сергей Михайлович Песецкий
Всего 0 комментариев