Далекий Николай Александрович
ОХОТА НА ТИГРА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Чарли
Колонну военнопленных, работавших последнее время во дворе бывшей базы «Заготскот», гнали по улице Гуртовой в лагерь на обед. Истощенные люди были утомлены до крайности, но двигались поспешно, и конвоирам не приходилось понукать их. Каждый пленный подгонял себя сам — там, впереди, звала жестянка спасительной горячей баланды. Сбивчивый топот многих ног, шорох затвердевшей от грязи и пота одежды, тяжелое дыхание, кашель, иногда короткий стон — все эти звуки сливались в неясный глухой шум, катившийся вместе с облаком пыли над развалинами и уцелевшими домиками пригорода.
Как всегда при прогоне пленных, к калиткам подбегали женщины, на окнах отодвигались занавески, открывались рамы и форточки: печальные, тоскующие глаза следили, как бредут по мостовой исхудалые, похожие на мертвецов люди, вчерашние воины, защитники, чьи-то сыновья, мужья, братья, отцы... Подходить близко к колонне, бросать пленным хлеб запрещалось под страхом смерти — конвоиры начинали строчить из автоматов без предупреждения. Несколько горожан уже поплатились жизнью за свою сердобольность.
Юрий Ключевский, награжденный в лагере странным прозвищем Чарли, шагал в середине колонны вторым слева в пятерке. Глаза его были прикрыты ресницами, и, если бы он не покусывал бескровные губы, можно было бы подумать, что этот молодой пленный с заросшим щетиной узким лицом научился спать на ходу. Однако Юрий даже не помышлял о сне. Он находился в состоянии сильного нервного напряжения,. и перед его мысленным взором проносились картины воображаемого побега из лагеря. Юрий творил, грезил, переносился в другой мир...
Да, в такие минуты он был почти счастлив, этот чудак-мечтатель, хотя, если разобраться, его положение не отличалось от положения других советских военнопленных, заключенных в Каменнолужском лагере,— та же жалкая пайка хлеба по утрам, тот же непосильный, изнурительный труд, то же смердящее карболкой тряпье вместо постели на пронумерованных нарах. Палка барачного старосты или немца-надсмотрщика могла обрушиться на голову Юрия столь же внезапно, как и на головы других, пули, таящиеся в магазинах автоматического оружия часовых, конвоиров, стерегли и его. И все же...
У Юрия Ключевского было преимущество: он обладал буйной фантазией, способной в мгновение ока изменить все вокруг, как бы перенести его в иной мир, где все подчиняется его воле и желанию. Конечно, всё объяснялось чисто профессиональными навыками, какие Юрий, находясь на фронте и в плену, не только не утратил, но и развил в себе, навыками, давно уже превратившимися для него в бесконечную, трудную, но увлекательную игру. Эта игра побуждала неутомимо выискивать различные, иногда совершенно неожиданные, невероятные сюжетные решения какой-либо жизненной коллизии, мысленно перевоплощаться то в одного, то в другого героя создаваемых им историй.
Дело в том, что у Юрия была редкая профессия, люди которой превыше всего ценили в себе и в своих коллегах творческое воображение, изобретательность, неуемный полет фантазии,— он был сценаристом. Он был молодым киносценаристом, всего лишь за год до начала войны закончившим институт, так и не успевшим увидеть на экране хотя бы одно из своих творений. Кличку Чарли Юрий получил не за внешнее сходство с гениальным комиком.
Пленные любили вспоминать свою довоенную жизнь, работу, сколь бы обыденной и несложной она ни была, могли бесконечно рассказывать об особенностях своей, профессии, о том уважении, каким они пользовались на производстве, в коллективе. Прошлое представлялось каждому удивительно прекрасным, и, если кто-либо немного приукрашивал себя в рассказе, слушатели как бы по молчаливому уговору делали вид, что они не замечают явных преувеличений: да, да, все было так, они не раз выручали начальство и товарищей, их уважали, ценили в коллективе, еще бы — такие золотые головы и руки...
Однако к рассказу Ключевского некоторые отнеслись недоверчиво. Люди простых занятий — хлеборобы, строители, горняки, транспортники — весьма смутно представляли, какую роль в создании фильма выполняет сценарист. Актеры — дело ясное, режиссер — тоже, оператор — это тот, кто снимает на пленку А сценарист? Юрий попытался объяснить самым популярным образом: режиссер, оператор, актеры не могут приняться за работу, пока будущий фильм весь, целиком, со всеми эпизодами, сценами, деталями не возникнет в воображении автора сценария, а он, Юрий Ключевский, является одним из тех, кто придумывает будущие фильмы, пишет сценарии, иными словами — пьесы для кино.
Вот это-то и смутило слушателей. Как так? Неужели этот Юрка способен выдумать такое, что потом миллионы зрителей, увлеченно ахая, будут пожирать глазами в залах кинотеатров. Ключевскому не поверили, решили: Юрка «заправляет арапа» — ведь фильмов, снятых по его сценариям, не существовало. Не обошлось и без чувства зависти: если парень говорит правду, значит, он голова, особый талант, не чета им. И какой-то шутник пренебрежительно махнул рукой: «Юрка, дело ясное, что твое дело темное. Словом — Чарли Чаплин!» Все рассмеялись удовлетворенно, беззлобно, и к Ключевскому прилипло это прозвище.
Юрий понимал, что его мечтания во многом подобны тем сладостным видениям, какие возникают в померкнувшем сознании наркомана. Он мог часами наслаждаться своими отчаянными приключениями, подвигами, жить героической, но — увы! — вымышленной жизнью. Тем не менее, он утешал себя мыслью, что это не только иллюзорное бегство от ужасной действительности, но, прежде всего, поиски реальных путей к освобождению. Одновременно Юрий как бы шлифовал свое профессиональное мастерство: мозг его был занят в основном работой над сценарием С коротким, выразительным названием «Побег», эпизоды которого предстояло разыграть не профессиональным актерам перед объективом кинокамеры, а самим пленным перед дулами вражеского оружия. Сценарий этот должен был стать судьбой Юрия Ключевского и его товарищей.
Сколько придумал Юрий способов исчезнуть из лагеря, какие удивительные по дерзости и смелости планы побега были детально разработаны им! Варианты, варианты, десятки вариантов... Все они оказались неосуществимыми. Но Юрий не сдавался. И вот...
На сей раз Юрий разрабатывал вариант с переодеванием — самый фантастичный из всех, какие приходили ему в голову до сих пор. В его воображении пока все шло гладко, даже слишком, и это пугало Юрия. Он старался сдерживать полет своего воображения: «Не спешить, только не спешить, обдумать каждую мелочь...»
Годун первый заметил его возбужденное состояние. Как бы случайно тронул локтем шагавшего рядом Шевелева и кивнул головой назад. Шевелев понял, но виду не подал, сделал несколько шагов и лишь тогда оглянулся. Сохраняя нарочито безразличный вид, он скользнул взглядом по лицу Ключевского. Беспокойство, мелькнувшее было в глазах Ивана Степановича, сменила грустная нежность — любил он этого странного мечтательного юношу. Он быстро отвернулся, сморщил губы.
Хотя эти двое не произнесли ни слова, короткий разговор все же состоялся: они давно уже научились понимать друг друга по скупым жестам, взглядам, мимике. Петр Годун сказал: «Иван Степанович, погляди-ка на Чарли. Что это с ним? Заболел или снова бредит...» — «Мысли у него»,— ответил Шевелев, взглянув на Юрия. «Окликнуть?» — Годун боялся, что Ключевский, находясь в таком состоянии, может споткнуться, упасть. «Не трогай. Обойдется. Пусть помечтает...» — сказал Шевелев.
Прошли несколько метров, и Годун произнес уже вслух, но так тихо, чтобы слышал только сосед:
— Он все-таки чокнутый, наш Юрка. Все время за журавлями гоняется.
— Такие-то журавлей и достигают, Петя,— так же тихо ответил Шевелев.— Не то, что мы с тобой.
— Ну да! Чем он лучше, чем мы хуже?
·— Сам говоришь — за журавлями гоняется. А мы поймали синицу, вцепились в нее обеими руками и рады-радешеньки.
Простодушный Годун недоверчиво покосился на Шевелева, спросил с обидой в голосе:
— Какую еще синицу, Иван Степанович?
— Котелок с баландой, вот какую...
Горькая правда, горькая улыбка на губах Шевелева. ■ Иван Степанович человек справедливый, ни себе, ни другим пощады не дает; пайка хлеба и черпак баланды для пленного неслыханная ценность, за пайку готовы друг ] другу горло перегрызть.
— Ну, н от его журавлей тоже проку мало...— сердито сказал Годун.
Шевелев не ответил.
Голова колонны приблизилась к шоссе, и первые пятерки начали сворачивать вправо. «До лагеря осталось тысяча двести метров»,— мелькнуло в сознании Юрия. Чтобы ничто не мешало работе воображения, он как бы притушил внешние звуки, краски, голод, боль в правой ушибленной и опухшей в колене ноге. Но он знал, что нельзя отключаться от внешнего мира полностью, и его слух точно через фильтр пропускал все звуки, глаза прятались за ресницами, будто бдительные зоркие часовые, готовые при первых же признаках опасности дать сигнал тревоги.
Идея нового плана побега озарила Юрия внезапно, всего лишь несколько минут назад, когда он по необъяснимой прихоти своей неуемной фантазии представил 1 вдруг себя в мундире помощника начальника лагеря унтерштурмфюрера Витцеля. Нелепая, дикая идея, бред! , Впрочем, повод для столь странного превращения все же имелся: возраст, рост, телосложение одетого в лохмотья пленного и лощеного эсэсовца совпадали, даже их узкие лица с тонкими хрящеватыми носами могли показаться отлитыми по одному образцу с той лишь разницей, что черты на лице немца выступали четко и жестко,; а у Юрия были как бы слегка сглаженными, выглядели мягче и нежнее.
Несомненно, Витцель не тратил времени на то, чтобы выискивать в толпе военнопленных тех, кто как-либо походил на него. Эта мысль показалась бы эсэсовцу невероятной. Что касается Юрия, то он уже давно заметил неприятное для него сходство и с брезгливым, враждебным интересом наблюдал за своим «дройником», когда тот появлялся в лагере. Обычно на этом и кончалось — стоило помощнику коменданта исчезнуть из поля зрения Юрия, и тот забывал о нем; но сегодня, когда прозвучала команда строиться пятерками в колонну, чтобы идти в лагерь на обед, Юрий вспомнил вдруг Витцеля и поставил себя на место унтерштурмфюрера в момент его утреннего пробуждения.
Превращение совершилось легко и незаметно, как по мановению волшебной палочки. Несколько минут Юрий, не открывая глаз, нежился на удобной, чистой, теплой постели, затем, отбросив льняную, пахнущую лавандой простыню, вскочил на ноги и подошел к зеркальной дверце шкафа, чтобы полюбоваться своей обнаженной фигурой. Повертевшись перед зеркалом, он надел на голое тело ремень с портупеей и кобурой (с оружием не следовало расставаться ни на минуту), набросил на себя полосатый махровый халат и совершил прогулку к стоящей в углу двора деревянной будочке, содержавшейся по его приказу в исключительной чистоте.
Затем зарядка перед зеркалом, нагишом — приятнейшие десять минут разминки и любования своей спортивной фигурой. Перейдя к водным процедурам, Юрий наскоро поплескался в белом эмалированном тазу — ему непривычно и гадко было на немецкий манер сперва мыть руки, а затем и лицо в одной и той же воде, но ведь в чужой монастырь со своим уставом не суйся... Зато долго растирался махровым полотенцем и с не меньшим наслаждением побрился острейшей бритвой, шуршавшей на щеке, точно гусиное перо.
И вот он снова перед зеркалом, свежий, чистый, довольный собой, готовый к исполнению служебного и национального долга. Остается надеть мундир.
Мундир на нем, пальцы правой руки начинают привычно быстро застегивать пуговицы... Нет, не привычно, нет, с пальцами что-то происходит неладное, они торопятся, путаются, дрожат от волнения. Черт возьми! Что случилось? Стоп!
Стоп! Найдено! Ведь это то, что ему нужно, — он в эсэсовском мундире. Шапка-невидимка на нем... Вот он, внешне спокойный, но с бьющимся сердцем выходит неторопливым, размеренным шагом из лагерных ворот, часовые открывают опутанную колючей проволокой дверь калитки, щелкают каблуками, вытягиваются. Конечно, его приняли за помощника коменданта. Еще шаг-два — и он на свободе, ищите ветра в поле. Стоп, стоп! Не спешить, начать все сначала. Не нужно отрываться от реального. Да, сходство несомненно, на этом можно сыграть, но каким образом мундир Витцеля может оказаться на плечах военнопленного Ключевского?
И пошло, и понеслось... И уже трудно остановить сорвавшуюся с узды фантазию.
Тут-то Юрий и заметил, что Шевелев оглядывается, тревожно смотрит на него. Кажется, он сумел шевельнуть ресницами, даже кивнуть головой и этим успокоил друга, но оторваться от своей мечты не смог. Он знал, что пленные считают его чудаком. Ну и пусть. Лишь бы только его друзья — Шевелев и Годун — поверили, что такой план побега осуществим. О, им трудно будет поверить, они будут ошеломлены. Годун сразу же начнет язвить: «Какой это, Чарли, план по счету?» — «Разве это аргумент? — справедливо возразит ему Юрий. — Семь раз отмерь... А бежать из лагеря — это тебе не жилетку выкроить». Иван Степанович, взбугрив желваки на скулах, медленно наклонит голову. Он согласен — мерять нужно не раз, не два. Затем последует самое трудное. «Переодевание?.. — спросит Иван Степанович. — Как понять, во что будем переодеваться?» — «В немецкую форму». Тут-то они вздрогнут от неожиданности оба — и Годун и Шевелев. Возникнет немая сцена, она продлится секунды две-три. Иван Степанович, широко раскрыв глаза, будет смотреть на Юрия, Петр Годун — на Ивана Степановича. У Шевелева в глазах испуг, на лице у Петра растерянность, горько-насмешливая улыбка: он ведь и раньше говорил, что Чарли чокнутый, и вот, пожалуйста, теперь в этом можно убедиться...
Подождите, друзья-товарищи милые, не торопитесь отвергать этот отчаянный, невероятный на первый взгляд, но вполне реальный и осуществимый план. Не перебивайте, слушайте внимательно. Да, замысел фантастичен и риск огромен, несоизмерим. Только смотрите, как просто и великолепно может получиться, если все хорошо подготовить и действовать решительно, бесстрашно.
Одно обязательное условие — до последнего мгновения о готовящемся побеге должны знать всего лишь несколько человек из пятого барака. Число посвященных должно быть как можно меньшим — так легче будет сохранить тайну и обеспечить успех.
Все произойдет во время очередной проверки барака на чистоту и порядок.
Проверка бывает два раза в месяц и продолжается, как правило, не меньше десяти минут, но иногда затягивается минут на пятнадцать-восемнадцать. Следовательно, организаторы побега должны уложиться в двенадцать-тринадцать минут, чтобы у часовых на вышках и у ворот не было оснований для беспокойства. Они не должны что-либо заподозрить.
Итак, начинается проверка. Каждый из посвященных хорошо подготовлен, знает свое место, свою задачу и последовательность предстоящих действий. Все выверено. Все на местах. Пленные, как и обычно при проверке, стоят у нар по стойке «смирно», пилотка или шапка в левой руке. У приготовившихся к нападению в шапках спрятано «добавление» — камушек или железка, замотанная в тряпье. Ждут...
«Ахтунг!» В пятый барак входит комендант со своей свитой — помощником, лагерным врачом, солдатом-автоматчиком. Комендант, как всегда, ведет на поводке овчарку Бетси. Староста барака начеку, встречает, салютует дубинкой, как саблей, и отступает в сторону, чтобы, пропустив, почтительно примкнуть к свите и идти позади.
Не спеша движутся по проходу. Комендант поглядывает то в одну, то в другую сторону. Ищет, к чему можно придраться. Сейчас он замедлит шаг, остановится — все уже приготовлено для того, чтобы он задержался там, где стоят организаторы побега. Вот он задрал кверху свой острый подбородок, останавливается, увидел незаправленную постель на верхнем ярусе нар, произносит громким театральным шепотом: «Что? Что такое?» Сейчас он загремит на весь барак: «Свиньи! Русские свиньи!!» Но крика нет. Комендант успевает только раскрыть рот и оседает на пол. В то же мгновение валятся на пол все сопровождавшие коменданта — удары полновесны, точны. В темечко...
Сразу же звучит уверенная и достаточно громкая, чтобы перекрыть поднявшийся в бараке шум, команда: «Внимание! Тишина! Товарищи, из барака не выходить, всем стоять на местах. Ждите дальнейших приказаний». У обоих дверей уже стоят вооруженные отобранными у немцев пистолетами верные люди: ведь среди пленных наверняка есть предатели, нельзя дать им возможность выскочить из барака и поднять тревогу. Трое, в том числе он, Юрий Ключевский, стаскивают с оглушенных немцев обмундирование, надевают его на себя. В это время звучит неторопливый, спокойный, громкий голос: «Товарищи! Приказываю соблюдать железную дисциплину. Первая, самая трудная часть подготовки к побегу завершена. Мы захватили оружие. За убийство коменданта отвечаем все. Все! Пощады нам не будет... Приказываем до сигнала оставаться в бараке. Сигнал — пулеметная очередь с вышки, находящейся у ворот. Там будут наши люди. Освобождаем всех. Пожелайте нам удачи, товарищи!»
Часовые на вышках и у ворот пребывают в полном спокойствии: одиннадцать минут прошло с того момента, как комендант со своей группой скрылся в дверях барака, сейчас он появится, выйдет из другой двери...
В бараке организаторы побега дают краткие наставления тем, кто будет ждать сигнала, и тем, кого они забирают с собой, кто должен будет помочь уничтожить часовых у ворот и захватить оружие в караульном помещении. «Все. Не робеть! «Немцам» держать фасон. Двинулись!»
И вот они выходят из барака.
Впереди шагает он, Юрий Ключевский, в одежде унтерштурмфюрера Витцеля. За ним на двух носилках восемь пленных (по четыре на каждые носилки) тащат под видом больных или умерших от голода, побоев товарищей — еще двоих организаторов побега. Позади на некотором отдалении шествуют комендант, врач, автоматчик. Козырьки фуражек надвинуты на глаза...
Прямо к воротам идут.
Важно, чтобы часовые открыли хотя бы одну створку опутанных колючей проволокой ворот. Они откроют, они увидят идущего впереди Ключевского и не усомнятся, что это помощник коменданта. Нужно только хорошо отработать походку, жесты, мимику Витцеля. От этого будет зависеть многое.
Так и есть. Часовые ничего не заподозрили, загодя открывают тяжелую створку ворот. Их двое, один вооружен винтовкой, другой — автоматом: Чурбаны... Теперь пропустить вперед носилки. Первые уже поравнялись с часовыми. Эти губошлепы брезгливо рассматривают лежащего на носилках пленного. Сухо стучат два одновременных выстрела — Юрий и еще один пленный стреляют из пистолетов в ошеломленных, так ничего и не понявших часовых. В упор, наверняка. Теперь у них два автомата, винтовка, три пистолета. Арсенал!
Часовые на вышках мгновенно всполошились, но не поймут, что именно происходит у ворот лагеря. Там кто-то убит. Неужели пленные оказали сопротивление? Похоже, что так. Немцы во главе с комендантом теснят пленных к караульному помещению. Часовые видят, как помощник коменданта Витцель со всех ног устремился к ближайшей вышке. Им не ясен замысел унтерштурмфюрера: возможно, он перепугался, бежит к пулемету, видя свое спасение на вышке. За воротами свалка. Стрелять в эту кучу? Но там комендант, врач. Стрелять по своим?
Счет идет на секунды, мгновения...
Юрий на лестнице, задыхается, в руке пистолет. Только бы не уронить... Без пистолета он не одолеет солдата на вышке, и тогда все пойдет прахом. Ступеньки, ступеньки... четыре, семь, девять... Позади, у караульного помещения, началась стрельба. Ноги, проклятые, подгибаются. Вот в люке площадки вышки голова часового. Смотрит на Юрия с ужасом. Что-то кричит, что-то спрашивает. Получай! Два выстрела, чтобы наверняка. И — за пулемет.
Очередь по ближней вышке... Очередь по второй. Проклятье! Кажется, низко взял. Еще. Порядок! По третьей не успеет. Сейчас с остальных вышек ударят по нем. Успел! Успел, все-таки... Почему молчит пятый барак? «У-р-рра!!» Вот они. Краем глаза Юрий видит, как пленные высыпали из барака. Орут: «р-р-ра!» Еще очередь. От караульного помещения также бьют по вышкам, значит, захватили оружие. Почему умолк его пулемет? Заело? Нет, кончились патроны, надо сменить магазин. Очередь, очередь, очередь... Еще, еще на всякий случай, для страховки, чтобы было наверняка.
Ну, все! Лагерь орет, ликует.
— Товарищи! — звучат голоса организаторов побега. — Слушайте приказ штаба восстания! Тишина! Слушайте приказ!
Да, необходимо будет сразу же взять в руки обезумевшую от счастья массу, направить ее энергию по нужному руслу. Действовать, действовать согласно разработанному плану. Промедление смерти подобно.
«Внимание! Слушайте приказ...» Слова эти гремели в ушах Юрия как торжественная музыка, заглушающая привычные звуки движущейся колонны, окрики конвоиров. Юрию показалось, что пот заливает глаза, он торопливо отер рукой лицо и удивился — лицо было сухим, горячим. Тут он почувствовал под ногами брусчатку, его пятерка вслед за передними вышла на шоссе и круто сворачивала вправо. До лагеря оставалась тысяча метров. Шире шаг, не отставать, не терять равнения в ряду при повороте... Юрий покосился на ближнего конвоира и снова прикрыл глаза ресницами. Все в порядке, можно вернуться к своим мыслям. Итак, главное найдено. Остается хорошенько обдумать и отшлифовать каждую деталь. Это необходимо сделать прежде, чем он начнет разговор с Иваном Степановичем и Петром.
И Юрий принялся за шлифовку плана. В ту минуту он не мог даже предположить, что в самом скором времени этот восхитительный план будет отвергнут им самим и он с таким же жаром и надеждой начнет разрабатывать еще один невероятнейший, но сулящий, по его мнению, самый большой шанс на успех, совершенно новый вариант побега.
«Какой это по счету, Чарли?»
Десять шагов вперед
Серой массой текла колонна по шоссе, пересекавшем восточную часть пригорода и уходившем в поля и перелески. Юрий двигался, точно лунатик. Стараясь быть спокойным, он начал заново обдумывать свой план, на этот раз уже не как автор, а как придирчивый, занудистый критик, стремящийся во что бы то ни стало найти наиболее слабые, уязвимые места, но вскоре почувствовал, что во внешнем мире возникло что-то новое, отвлекающее его. Это «что-то» еще не говорило о какой-либо опасности, но было непонятным и поэтому вызывало настороженность. Он уловил также, что люди в колонне начали вести себя беспокойно.
Юрий открыл глаза и прислушался. Где-то впереди, слева, в той стороне, где находилась железнодорожная станция, надсадно ревели моторы. Судя по всему, это были не автомашины, а мощные тягачи.
Он не ошибся. Вскоре с улицы Колеевой, идущей к товарному двору станции, выполз тягач с двумя танками на прицепе, за ним второй, также тянувший танк, третий. Тягачи, дойдя до шоссе, поворачивали навстречу пленным. Конвоиры подали поспешную команду принять вправо, и колонна, смешав ряды, растянулась по обочине, чтобы пропустить искалеченную боевую технику.
Да, тягачи тащили куда-то подбитые немецкие танки Т-3, Т-4. Пробоину, вмятины, уже успевшие заржаветь ссадины, сделанные снарядами на металле, перекошенные башни со свесившимися набок стволами, вздувшаяся сизая окалина на броне, у моторного отделения. У конвоиров сразу же помрачнели лица. Они стояли, сжав в руках автоматы, угрюмо поглядывая на грохочущие по брусчатке стальные коробки, потерявшие свой грозный вид и превратившиеся в нелепое скопление металла, годное, пожалуй, только для переплавки. Военнопленные также замерли и, затаив дыхание, жадно осматривали подбитые, выведенные из строя вражеские танки. Противоречивые чувства обуревали этих одетых в лохмотья людей. На них опять дохнуло жаром гигантского сражения, неумолимо, словно возмездие, передвигающегося по изрытой, опаленной войной земле на запад. «Бьют наши фрицев, вон сколько наклепали!» И они с особой остротой ощутили горечь и тоску, никогда не покидавшую их.
Последний тягач тащил только один танк, огромный, покрытый лягушачьей камуфляжной окраской, с расщепленным дулом пушки и многими вмятинами от скользнувших по броне снарядов. На башне, держась одной рукой за скобу поднятой крышки люка и подбоченясь другой, картинно восседал гитлеровский офицер в черной кожаной куртке. «Роскошный экземпляр тупого тевтонца, — отметил про себя Юрий, — Неужели не может сообразить, балда, что выставляет себя посмешищем?» И действительно, над колонной пронесся легкий ропот насмешливого одобрения: «Видим, мол, видим, какой вояка бравый едет на битом танке. Давай, фриц, улепетывай поскорей и подальше от фронта...»
Внимание Шевелева и Годуна привлек не столь танкист, как сам танк.
— Что это, Петя? — не удержался Шевелев.
— Первый раз вижу уродину. Кажется, новая машина. Сильная! Мощнейшая лобовая броня. Погоди-ка...
Тягачи прошли, колонна выравнялась, тронулась, и над ней зашелестело слово «тигр». Очевидно, первым произнес его кто-то из конвоиров — «панцер тигер», и теперь пленные повторяли: «Тигр», «тигр». Новый танк». — «Это его сибиряки обработали». — «Дальневосточники! Там охотники тигров не боятся — живьем берут...»
— Нет расгофор! Мать вашу ну!.. — крикнул конвоир, свирепо поглядывая на пленных.
И колонна сразу же затихла.
Юрий ломал голову над новой загадкой, хотя она не казалась ему сколь-либо важной и тем более не имела никакого отношения к его плану. Он просто не любил неразгаданного и искал ответа па вопрос: куда везут подбитые танки? Но ответа не было. Получалась какая-то нелепица: танки, вышедшие из строя, предназначающиеся для переплавки, почему-то привезли в город, где нет металлургического завода. И уже совсем непонятно, для чего потребовалось, чтобы этот железный лом сопровождал офицер.
Впереди над колонной снова возник легкий шум. Пленные всходили на мост, перекинутый над линией железной дороги, и поворачивали головы к станции. Вскоре Юрий увидел на станционных путях целый состав платформ, на которых стояли изуродованные танки и самоходки, ахнул. Быстро оглянулся, увидел, что тягачи свернули с шоссе на улицу Гуртовую, по которой только что прошла колонна. Значит, танки наверняка везут к бывшей базе «Заготскот». Вот оно что! Недаром их, пленных, заставили приводить двор в порядок, усыпать гравием площадки, дорожки, рыть и цементировать узкие траншеи. Там немцы будут ремонтировать танки. Конечно, это целесообразно — не таскать подбитые машины в фатерлянд, а восстанавливать их здесь, в сравнительно небольшом отдалении от фронта. Теперь понятно, почему работами во дворе руководил немец в мундире гауптмана инженерно-технических войск.
Загадка была отгадана, Юрий вернулся к своему замыслу. Прежде всего нужно исходить из того, что в подготовке к побегу в начальной ее стадии, включая момент нападения на коменданта, должно участвовать как можно меньше людей. Это даст больше шансов для сохранения тайны. Однако...
Тут внимание Юрия снова было отвлечено.
Позади послышался гудок автомашины, и колонну на тихом ходу, чтобы не наехать на конвоиров, обогнал потрепанный «оппель-капитан», в котором рядом с шофером сидел гауптман инженерно-технических войск. Юрий узнал его — тот самый, что распоряжался во дворе базы «Заготскот». Куда это он? Машина, обогнав колонну, свернула к лагерю. Технический гауптман наносит визит коменданту лагеря. С какой целью? Очевидно, гауптмана интересует рабочая сила. А что, если пленных заставят тягать на себе эти проклятые танки? В целях экономии горючего... У фрицев ведь горючее чуть ли не на вес золота. От них всего можно ожидать — запрягут человек сорок в танк и начнут подгонять дубинками.
Рабы... Все это не ново, все это многократно повторялось в истории человечества. Рабы и надсмотрщики... Перед глазами Юрия возникла широкая река с желтоватой водой, в свеже-зеленых берегах, рядом — серая пустыня. И ослепительное, безжалостное солнце в небе Он, Юрий, обнаженный, с одним грязным куском ткани на худых бедрах, загоревший до черноты, тащит с другими рабами вверх по подложенным балкам огромную, хорошо отесанную каменную глыбу. Пирамида, начатая тридцать лет назад, выложена только наполовину. Живее! Свистит бич, сыромятная плеть обжигает спину. Пошевеливайтесь! Фараону еще при жизни нужно возвести печное убежище — гигантский каменный шатер, вершиной своей уходящий к звездам. Рабов не жалеют — чем скорее подохнут, тем лучше, их заменят более молодые и сильные.
Видения... Ожившие страницы истории: пирамиды... рудники... галеры... плантации хлопка... — рабы, рабы, рабы. В глазах Юрия Ключевского тоска. Будь оно проклято все! Неужели пленных заставят таскать танки? Это окончательно подорвет их силы, и тогда прощай надежда на побег. Какой срок определить для подготовки? Не затягивать! Как можно скорее! Иначе все пропало.
Гауптман Оскар Верк вошел в кабинет коменданта лагеря оберштурмфюрера Брюгеля. Хозяин кабинета сидел за письменным столом почти рядом с висевшим позади него на стене огромным фотографическим портретом Гитлера без рамы. Брюгель специально подобрал такой портрет, психологически точно рассчитав, что у заходящих в кабинет подчиненных невольно, хотя бы на несколько мгновений, должна будет возникать иллюзия, будто Гитлер находится здесь в комнате, за спиной коменданта. Неплохо придумано! Ха-ха... Стоит только Брюгелю пожелать, он всегда может перекинуться словечком с фюрером, узнать его мнение по любому вопросу, заручиться поддержкой...
Инженер, обменявшись с комендантом нацистским приветствием, подчеркнуто уважительно глянул на портрет и уселся на стул, с особым шиком закинув ногу на ногу. Это был человек средних лет с красивым холеным лицом, со слегка вьющимися, но сильно поредевшими надо лбом каштановыми волосами. Военная форма сидела на гауптмане отлично (надо полагать, портной приложил немало усилий, чтобы идеально подогнать ее к фигуре); его манеры были какими-то нагло изящными, от него исходил тонкий, едва уловимый, свежий запах дорогого одеколона.
Своим видом гауптман как бы давал понять, что он не чета каким-нибудь грубиянам офицерам и тем более тем, кто выполняет функции тюремщиков и палачей. Это, надо полагать, совершенно непроизвольное у гауптмана проявление превосходства и высокомерия раздражало, бесило Брюгеля, вызывало желание хряснуть красавчика кулаком по физиономии. И вот, похоже, его час наступил. Брюгель безошибочным нюхом учуял, что сегодняшний визит Верка доставит ему некоторое удовлетворение. Комендант догадался — «инженеришка» неожиданно попал в затруднительное положение и, судя по всему, приехал за помощью и, возможно, советом. В таком случае ему следовало бы принять более скромную позу, а не сидеть так вот, развалясь на стуле. Если что-либо будет зависеть лично от него, Брюгеля, он не упустит случая хорошенько поварить воду из гауптмана, прежде чем согласится помочь.
Гауптман молчал. Он, видимо, не чувствовал себя ни стесненным, ни обеспокоенным, в его светло-карих глазах сияла жизнерадостность, сочные губы таили улыбку. Казалось, в эту минуту он предавался каким-то весьма приятным для него размышлениям.
Так оно и было. Конечно, прибытие огромного состава с танками, требующими капитального ремонта, не могло обрадовать Верка. Перед ним неожиданно возникли новые трудные задачи. Однако все это касалось чисто технических, организационных проблем, с которыми, сколь бы сложны они ни были, гауптман до сих пор весьма успешно справлялся. Что касается причин приступа самодовольства, какое испытывал в эту минуту Верк, то они объяснялись психологическим моментом и уходили корнями в область подсознательного.
Вид искореженной военной техники, особенно танков, всегда вызывал у Оскара Верка противоречивые чувства — глубокого уныния и тайного торжества, ликования и уныния потому, что он, хотя и не участвовал в стычках с противником и даже никогда не приближался к передовой более чем на десять километров, мог все же представить себе, и достаточно ярко, некоторые батальные картины. Ведь если сталь не выдерживает, то что должны испытывать на поле боя доблестные солдаты и офицеры фюрера, когда русские пускают в дело свои «катюши». Прорывы, стремительные обхваты, котлы... холодящий душу ужас! Несколько минут схватки — и тысячи немцев отдают богу душу. Поля Украины удабриваются трупами отборных арийцев. Судьба Третьего рейха предрешена.
Но именно горькое сознание, что каждый день, каждый час где-то не так уж далеко происходит неотвратимая массовая гибель его соотечественников и сверстников, пробуждало тайное ликование в сердце Верка. Все страшные, кровавые годы войны он, благодаря своей ловкости и умению завязывать нужные знакомства, провел в тылу, пользуясь всеми льготами фронтовика, окружая себя максимальным в условиях военного времени комфортом, вкушая из чаши тех наслаждений, которые столь желанны для каждого здорового, наполненного жизненными соками тридцатипятилетнего мужчины. Черт возьми, ведь он все эти годы катался как сыр в масле, жил и свое удовольствие и продолжает сибаритствовать по сей день.
Нет, нет, он молодчина, он ловок и умен, осторожен и хитер. Он великолепный специалист и организатор, и легко справляется с тем, на что у других уходит так много сил и времени, — этого тоже у него не отнять. Он выживет, наверняка выживет и выйдет целехоньким из бушующего огня войны. Его слишком высоко ценят, чтобы послать на фронт, и будут ценить еще больше, если он сумеет реализовать одну неплохую прямо-таки спасительную идею. Ради этого он и явился к оберштурмфюреру. Мрачноватый, неприятный тип все-таки... А какой позер! Ведь специально повесил портрет так, чтоб голова фюрера находилась чуть выше его головы. Боже, каких только дураков и кретинов не встретишь на жизненном пути. Ничего, он подберет к нему ключик.
Молчание затянулось, но гостя это не смущало, он не спешил начать разговор.
— Есть претензии? — сухо спросил комендант, имея в виду возложенную на него обязанность выделять для Верка в качестве рабочей силы неограниченное число пленных.
— Претензии? — оторвался от своих мыслей инженер и, взглянув на Брюгеля, снисходительно улыбнулся. — Нет, конечно. У меня претензии к русским. Они подбили много наших танков. Вы видели прибывший состав?
Брюгель кивнул головой.
— Зрелище не из приятных... — Взгляд гауптмана стал печальным. — Не правда ли? На меня это подействовало хуже, нежели вид санитарного поезда, переполненного ранеными.
— Вы имеете в виду эмоции? — подчеркнуто удивленно спросил Брюгель, и его губы тронула едва приметная брезгливая улыбка. Эсэсовец понял, что получил возможность щелкнуть по носу самовлюбленного гауптмана.
— Я прибег к образному сравнению...
— Возможно, возможно... — Брюгель продолжал брезгливо кривить губы. — Я, знаете ли, плохо разбираюсь в таких вещах, как образы, эмоции и всякие там художественные сравнения. Я солдат, а не какой-то театральный рецензент или слабонервная девица.
Верк смутился и даже слегка покраснел. Он догадывался, что комендант лагеря относится к нему недоброжелательно, но не ожидал такого неприкрытого, откровенно злобного выпада со стороны эсэсовца. Сравнить его со слабонервной девицей... Какой патентованный негодяй! Готов придраться к любому слову, истолковать по-своему, раздуть бог знает во что. Конечно, он, Верк, допустил ошибку: разговаривая с этим позером, нужно держать ухо востро. Видите ли, оберштурмфюрер считает, что любое проявление чувствительности, любые переживания недостойны настоящего арийца. Само слово «эмоции» вызывает у него брезгливость. Прекрасно! Один-ноль в пользу оберштурмфюрера. Случайно в начале игры он забил гол. Но на большее пусть не рассчитывает.
Верк мгновенно изменил тактику и, казалось бы, преобразился сам. Изображая прилив радости и восхищения, потирая от удовольствия руки, он воскликнул:
— Вы правы, оберштурмфюрер! Вы, возможно, даже сами не представляете, как вы глубоко правы и как искренне я признателен вам. Я полностью разделяю ваше мнение по поводу всяких там эмоций, которые могут только отвлечь нас от нашей задачи и выполнения нашего долга и даже... на какое-то мгновение могут расслабить нашу волю. Не так ли?
Гауптман великолепно самортизировал, смягчил нанесенный ему удар. Пойми его: смеется сквозь льстивые слова или говорит искренне. Во всяком случае, придраться не к чему.
— Полностью согласен! — Радостно сияя глазами, Верк аппетитно облизал свои полные, сочные губы, словно только что проглотил какое-то лакомство, и сразу же перешел в наступление. — Поэтому, дорогой оберштурмфюрер, не будем тратить времени попусту и приступим... Дело-то особой, чрезвычайной важности, уверяю вас. Вы видели эшелон... Прекрасно! События намного опередили наши планы. Предполагалось — я имею официальное предписание, — что первая партия предназначенных для ремонта машин прибудет через месяц. Они прибыли сегодня! И не десять машин, а двадцать семь! Это не все, дорогой оберштурмфюрер. Возникла еще одна сложность: военный завод прислал в мое распоряжение только восемь мастеров. Меня предупредили — больше не дадут!
Верк не сокрушался, не возмущался по поводу создавшегося положения, а преподносил его в своей обычной полушутливой манере, как будто бы речь шла о каком-то забавном казусе.
— Действительно, — с притворным сочувствием произнес Брюгель. — Что же вы намерены делать?
Верк, как бы готовясь прочесть мысли эсэсовца, заглянул ему в глаза.
— Привлечь к ремонтным работам специалистов из числа пленных. Полагаю, у вас они найдутся? Мне нужны слесари не ниже четвертого разряда, имеющие хотя бы небольшой опыт ремонта танков, автомашин, тракторов.
Вот на что рассчитывает «инженеришка». Ловок! Это, действительно, единственный выход из положения. Гауптман, надо полагать, больше всего боится, что его, как не справившегося с заданием, могут отправить на фронт. А не мешало бы молодчику побывать в пекле. Наверняка не слышал еще, как свистят пули над головой и рвутся снаряды. А так за проявленную инициативу отметят и даже могут наградить. Откинувшись на спинку стула, Брюгель молчал. Он думал над тем, как бы, не ставя себя под удар, хорошенько прищемить хвост этому сытому коту. Ведь не успел приехать сюда, а уже обзавелся любовницей. Говорят, очаровательная девица. Но в полученном приказе сказано недвусмысленно: «При первом требовании начальника ремонтной базы оказывать ему всемерную помощь».
— А вы уверены, что эти люди смогут принести какую-нибудь пользу? Ведь одно дело, когда мы их заставляем таскать камни или рыть землю, — тут можно за ними хорошо следить, — и совершенно другое, когда вы им доверите такие тонкие вещи, как детали мотора. Наверняка они будут саботировать.
— О! — улыбнулся Верк. — Саботаж... Оберштурмфюрер, готов побиться об заклад, что вы напрашиваетесь на комплимент. Мне говорили, что у вас накоплен огромный опыт по борьбе с саботажем и вы пользуетесь оригинальными приемами. Нет, с вашей помощью мы сумеем разрешить эту проблему. Кроме того, руководить каждой группой ремонтников будет немецкий мастер. Но это не всё. Мы будем проводить политику кнута и пряника: тем, кто хорошо работает, выдается дополнительный паек, тех, кто работает плохо, будем заменять другими. Вот почему мне нужно сразу же установить количество квалифицированных рабочих, имеющихся среди пленных, на которых я бы мог рассчитывать.
«Смотри, какой прыткий, — размышлял комендант, глядя на пуговицы нового мундира Верка. — Он все рассчитал, инженеришка. Дошлый. Но не так-то просто и легко сможет получить он квалифицированных рабочих. И вообще, маловероятно, чтобы из его затеи получилось что-либо путное. Во всяком случае, активно помогать гауптману он, Брюгель, не собирается. Притормозить где можно — другое дело... Но так, чтобы не было заметно».
— Я могу сказать, что мы не ведем учета по гражданским специальностям. Такого указания я не получал.
— Ну, а специальности военные — ведь и у русских в армии есть всевозможные ремонтные отряды, базы, летучки.
— Некоторые сведения имеем, — кивнул головой комендант. — Неполные, конечно. Дело в том, что все они стараются выдавать себя за рядовых пехотинцев.
Брюгель говорил правду. Действительно, не всегда можно было установить звание пленного и род войск, в которых он служил. Да и какое это имело значение! Пленных несколько раз перебрасывали из лагеря в лагерь, первоначальные списки не сохранились, к тому же многих из тех, кто значился в списках, уже давно не было в живых. Тем не менее, ссылка на отсутствие полных сведений была ни чем иным, как желанием коменданта затруднить задачу «инженеришки».
Верк был догадлив. Он ухмыльнулся и многозначительно посмотрел на Брюгеля. «Не валяй дурака, — как бы говорил гауптман, во взгляде которого на этот раз была неприкрытая насмешка и угроза. — Стоит мне захотеть — и ты сам будешь таскать у меня гусеницы и махать кувалдой». Но вслух Верк сказал другое.
— Оберштурмфюрер, — произнес он, снижая голос и придавая ему особенно убедительные нотки, — как человек, глубоко преданный идеям фюрера, вы, надеюсь, понимаете, что такое восстановить для фронта хотя бы один танк? Я подчеркиваю — хотя бы один! Ответственность в равной мере лежит и на вас. Это вы тоже понимаете... И, кроме того, оберштурмфюрер, разрешите вам напомнить, что, если мы справимся со своей задачей, я не забуду поставить в списке представляемых к награде ваше имя... В числе первых.
Вот какую блесну нужно подкинуть этому надутому позеру. Он заглотнет ее намертво.
Верк угадал. Брюгель задумался на несколько секунд и озабоченно спросил:
— Сколько вам нужно специалистов?
Чем больше, тем лучше, чтобы иметь возможность выбора, замены.
— А все-таки?
— Допустим, пятьдесят человек было бы хорошо.
Комендант скептически сморщил губы.
— Полагаете, что такого количества не найдется? — спросил Верк.
— Не то. Они могут догадаться, какая предстоит работа, и скроют свои специальности.
— А дополнительный паек? Эти магические слова на них не подействуют? Предвидя возможность возникновения такой ситуации, я заранее договорился со своим начальством. В моем распоряжении продовольствие, какое я смогу в виде дополнительного пайка выдавать тем, кто будет занят на ремонте.
— Есть наряды? — усомнился Брюгель.
Гауптман вынул из кармана мундира бумаги и показал их эсэсовцу.
— Вы предусмотрительны, однако, — ухмыльнулся комендант. — Ну что ж, попробуем. Когда вы намерены приступить к ремонту?
— Сегодня. Немедленно!
— Хорошо, не будем оттягивать, — вздохнул комендант. В сегодняшнем турнире он не добился той полной победы над гауптманом, на какую рассчитывал. Но все же получилась ничья. Почетная ничья. — Дохлые иваны будут выставлены на аппельплаце, и вы сами объявите им, чего вы хотите. Устраивает?
— Отлично! — после небольшой заминки воскликнул гауптман. У него возникло подозрение, что эсэсовец не отказался от мысли подбросить ему при удобном случае хотя бы маленькую пакость.
Хуже нет этих минут ожидания в очереди к котлу. И вот, наконец, хлюпнуло в котелок, и можно отойти с драгоценной ношей в сторонку, туда, где уже стоят или сидят на земле другие пленные. Дрожащая рука подносит ложку ко рту, первый судорожный глоток.
Юрий опустился на землю невдалеке от Шевелева и Годуна. Рядом не сел. Что-то подсказало ему: с этого дня подчеркивать свою дружбу с ними не следует. Шевелев и Годун хлебали баланду молча, сосредоточенно, низко наклонив голову к котелку и избегая глядеть друг на друга: слишком уж унизительными были их голод, жалкая пища, эта тревога в глазах — осталось ли еще что-нибудь в котелке?
Рассказать друзьям? Может быть, только намекнуть, окрылить их смутной надеждой? Нельзя. Сперва необходимо самому тщательным образом обкатать план, учесть все возможные затруднения, осложнения. Чтобы ни сучка ни задоринки. А тогда уже выслушать замечания друзей. Юрий поднялся, вылил из котелка в рот то, что уже нельзя было зачерпнуть ложкой. Последние капли... Теперь остается сполоснуть котелок, выпить эту водичку, и можно будет добрых полчаса полежать на нарах. До тех пор, пока староста Баглай не завопит во всю глотку: «Выходи во двор строиться!»
Юрий сделал шаг к бочке с водой и вдруг застыл на месте: он увидел у ворот группу немцев — коменданта, гауптмана инженерно-технических войск, переводчика и двух автоматчиков. Гауптман что-то весело рассказывал коменданту, а комендант сухо кивал головой, то и дело поднимал руку, поглядывая на часы. Несомненно, они ждали, когда истечет время, выделенное на обед. О, порядок прежде всего, все по расписанию! Несомненно, когда это время истечет, пленных построят на аппельплаце и будет что-то объявлено. Что?
«Что? Что? Что? — стучало в голове Юрия. — Ясно, то, о чем объявят, будет связано с приездом гауптмана и с теми работами, какие уже несколько дней ведутся на дворе бывшей базы «Заготскот». И с теми подбитыми танками, какие повезли туда? Конечно! Что же потребовалось техническому гауптману?» Юрий стоял в напряженной позе, прищурив глаза, мучительно искривив губы. «Что? Что? Что? Что?! Неужели...» Внезапно косая шторка мелькнула перед глазами, и на экране, на огромном экране своего воображения Юрий увидел пятнистый танк, тот самый, на котором красовался подбоченившийся фриц. Танк сорвался с места, помчался в поле, полоснул огнем по окопам, налетел на пушку, крутнулся на месте, заутюжил ее вместе с расчетом в землю. Несется дальше — крепостная башня на гусеницах, грозный, верткий, неуязвимый, сеющий смерть. А в нем, а в танке... Бац — и полетел на землю вниз головой фриц. А в танке — страшно даже подумать — они. У-р-р-р-р-а-а!! Жми, Петя, громи, дави гусеницами. Вот так! Это возможно, это прекрасно... Но... Неужели он на этот раз не угадал? Сейчас все выяснится. А танк мчится... Немецкий. «Тигр»! А в стальном нутре — они. Непостижимо. Шедевр! И шестьдесят километров в час...
Юрий очнулся. Он не смог бы определить, сколько времени продолжалось его забытье — минуту, две или одно мгновение. Ему снова показалось, что пот заливает лицо. Скорей1 Нужно успеть предупредить Шевелева и Годуна, объяснить им. Нет, объяснить он не успеет — сейчас будет команда строиться, он только скажет им, что нужно выходить. Юрий стремительно повернулся. Там, где сидели Годун и Шевелев, никого не было. Но у дверей барака среди фигур пленных мелькнула спина Ивана Степановича. Юрий бросился к бараку. Он нашел Шевелева у нар. Налетел на него.
— Иван Степанович, срочное дело: Петр — танкист?
— Ну? — недоумевающе уставился на него Шевелев. — Ты тише... Зачем тебе?
Юрий не ответил. Он спешил выяснить еще одно обстоятельство.
— Я держать зубило, молоток умею. При вашей помощи за слесаря третьего разряда сойду?
— Это можно. Зачем потребовалось?
— Сейчас будут слесарей спрашивать, — торопливо выговорил Юрий.
Брови Шевелева полезли вверх от удивления.
— Откуда знаешь?
— Танки видели? Будут ремонтировать.
— А ведь похоже, — согласился Шевелев, все еще изумленно глядевший на Юрия, — Как я не допер.
В это мгновение у ворот заколотили в рельс — часто и дробно. Это был сигнал немедленно строиться на аппельплаце. Следовало как можно скорее бежать туда: для опоздавших старосты не жалели ударов, а после поверки могли отправить и в карцер.
Шевелев и Ключевский побежали к дверям.
— Выходите с Годуном, Иван Степанович, — шепнул на бегу Юрий.
— Ты что? — испуганно взглянул на него Шевелев.
— Я тоже выйду, — задыхаясь от волнения, шептал Юрий, —Надо, Иван Степанович, поверьте мне. И Петра убедите. Вы рядом стоите. Он вас послушает.
— Надумал что?
— Есть шанс. Выходите с Петром, как только другие выйдут.
— Ты понимаешь, что говоришь? Фрицам танки латать? Это, брат...
— Знаю. Шанс верный, другого такого не будет. Это наше спасение, поверьте мне.
Губы Юрия вздрагивали. Напоследок он умоляюще взглянул на Шевелева. Тот сердито взмахнул рукой.
Пленные выстроились на аппельплаце побарачно тремя шеренгами в форме буквы «П». В середине поставили стол и стул. Подошли комендант, гауптман, лагерный оберпереводчик Цапля. Автоматчики остановились в некотором отдалении.
— Ахтунг! Ахтунг!
Замерли. Тишина. Юрий слышит, как стучит его сердце. Сейчас выяснится, сейчас все выяснится...
Комендант делает знак гауптману — можете начинать. У гауптмана приятный голос, он говорит негромко, с вежливой улыбкой, и одно из первых его слов, если Юрий но ослышался, — «битте». Но Цапля не успевает перевести ни одного слова. Коменданту, видимо, не понравилась манера инженера и тем более это дамское словечко «битте». С пленными нужно говорить не так — коротко, ясно, решительно, и комендант довольно бесцеремонно отстраняет гауптмана, выходит вперед и произносит первую фразу. Переводчик немедленно выкрикивает ее по-русски:
Среди вас есть слесари-ремонтники... имеющие опыт по ремонту тракторов, танков...
Тишина. Почти две тысячи человек застыли в шеренгах. Губы плотно сжаты: «Есть, есть, угадал. Давай дальше...»
Нам нужны всего лишь несколько человек средней и высокой квалификации.
Землистые бледные лица напряжены. Недоверчивость, едва заметная усмешка в тусклых глазах: «Врешь. Если нужно всего лишь несколько человек, зачем выстраивать пленных из всех бараков?»
Они будут выполнять легкую работу и будут Получать дополнительный паек.
Шумный вздох, словно порыв ветра: «Дополнительный паек... А что, если не брешет?»
«Удивительное дело, — проносится в мозгу Юрия. — Вот их, пленных, две тысячи человек. Люди различных национальностей, возрастов, характеров, образования и умственного развития. Они похожи друг на друга только тем, что все истощены, измучены, отупели от непрерывных надругательств. И вдруг эта замершая, молчащая масса каким-то непостижимым образом начинает чувствовать, соображать, мыслить синхронно, как один человек, точно их мозг внезапно соединился невидимыми нитями воедино. Только вот нити эти ненадежны, их легко оборвать.
— Дополнительный паек... — Комендант делает короткую паузу, безошибочно угадывая, какой эффект произвели на пленных эти слова.
Но пленные знают, что немцы дополнительный паек ни с того ни с сего не дают и даже не сулят, что работа слесарей будет особая, и по рядам летят едва слышные, едва улавливаемые слова: «Ремонт... танки...» — «Вот оно что...» — «Товарищи, опасно. Не спешите, подумайте!» — «Да, но все-таки дополнительный паек...» — «Иди продавайся за полпайки, сука. Не ты первый, уже были такие». — «А что, подыхать?» — «Товарищи, не выходите, это будет предательство».
Комендант считал, что он прекрасно знает примитивную психологию русских пленных, и твердо верил во всесильность пайки. Правда, он уловил в молчаливых шеренгах не обычную покорность, а какой-то неясный отпор, но не придал ему значения.
— Внимание! — Голос у переводчика сильный, он четко выговаривает слова. — Приказываю слесарям, знакомым с ремонтом моторов внутреннего сгорания, шоферам, трактористам...
Качнулись ряды и вновь замерли.
— ...Десять шагов вперед, шагом...
Многие в шеренгах затаили дыхание, закрыли глаза.
— ...арррш!
Вышли. Пять человек сразу, затем двое и еще один, последний...
Этим последним, восьмым по счету, был Юрий Ключевский.
«Чарли вышел, Чарли... Сука, интеллигентик. В сортире утопить мало».
Весь гнев, всё презрение пленных сосредоточились на Ключевском. Интеллигентик... Юрий этого не предусмотрел. Он понял, что допустил ошибку, поспешил сделать эти трудные десять шагов. Он боялся, что выйдут многие и он может оказаться лишним. Кроме того, он хотел увлечь за собою Шевелева и Годуна. Непростительная ошибка. Теперь его ненавидят — и поделом. А Иван Степанович и Петр так и не вышли. Неужели все сорвется? Этого нельзя допустить...
Гауптман явно разочарован результатом. Несколько мгновений он растерянно, выжидательно шарит глазами по рядам, ожидая, что, может быть, выйдет еще кто-либо, но шеренги неподвижны. И тогда гауптман поворачивается к коменданту. Кажется, он растерян.
Брюгеля не так-то легко смутить. Он знает, что делает. Приказ, и вот уже несут из кухни корзину с пайками хлеба. Пайки вручены тем, кто вышел из строя.
— Можете есть! — приказывает комендант и обращается к шеренгам: — Повторяю: слесари, шоферы, трактористы, десять шагов вперед!
Вышли еще трое. Им тоже вручены пайки. Стоят, торопливо жуют хлеб на глазах у товарищей. Только Юрий Ключевский застыл со своей пайкой в руках, бледный, ищет взглядом в шеренгах Шевелева и Годуна, что-то хочет сказать нм глазами, просит.
— У вас есть время подумать, — говорит Брюгель. — У вас есть время подумать. До утра. Утром последний срок. Кто не хочет воспользоваться легкой работой, пусть пеняет на себя. — Он с наигранной улыбкой поворачивается к гауптману: — Остальным мы найдем работу. Будете таскать танки со станции в город. Надсмотрщики будут вооружены особо прочными дубинками. Пеняйте на себя! Старосты бараков, стройте своих и колонну. Сейчас же отправляйтесь на работу! Эти, — комендант кивнул на слесарей, — пойдут особо.
Комендант со своей свитой удаляется. Те, кто вышел из строя и получил пайки, инстинктивно сбились в кучу и, не глядя друг на друга, доедают хлеб, подставляя ладони, чтобы не уронить ни одной крошки на землю. Юрий, стиснув зубы, завернул хлеб в тряпицу и спрятал за пазуху. Руки его дрожали.
Утро вечера мудренее
В тот день Юрий дважды оказался провидцем. Все произошло именно так, как он и предположил: лощеному техническому гауптману действительно потребовались слесари-ремонтники, всех остальных пленных разбили на команды и заставили таскать танки с железнодорожной станции на Гуртовую.
Конечно, это не было вызвано необходимостью, это была, как и предупредил комендант лагеря, «воспитательная» акция.
Немецкие солдаты — водители бездействующих тягачей — отдыхали у своих машин и животики надрывали со смеху, глядя, как пленные иваны, вцепившись в стальные тросы, точно муравьи, тащили за собой танки. Конвоиры щедро сыпали удары на спины тех, кто казался им недостаточно усердным, кричали: «Тафай, тафай!», «Юхнем! Тубинушка, юхнем!» При стаскивании танков с платформ на землю ломались наспех сколоченные настилы, шестерых пленных задавило насмерть, несколько десятков искалечило, остальные вернулись в лагерь с израненными, окровавленными руками, едва передвигая ноги от усталости.
Такого тяжелого, горького дня давно не было.
Уже когда возвращались в лагерь, свалился Роман Полудневый, находившийся в передних пятерках. Лейтенант Полудневый лишь вчера был выпущен из карцера, куда попал «за дерзость, проявленную в разговоре со старостой барака». Попасть в карцер было равносильно тому, чтобы оказаться одной ногой в могиле. Били Романа, ослабел... Он упал, и никто не пытался помочь, обходили, точно колоду, лежащую на шоссе. Обходили, потому что сами двигались из последних сил. Шевелев и Годун, не сговариваясь, подняли товарища и, положив его руки на свои плечи, повели.
Как ни трудно было, а дотащили все-таки до дверей барака.
— Спасибо, — мотая головой, прохрипел лейтенант. — Напрасно только. Не жилец, видать... Крышка.
— Ну-ну! Не паникуй, браток, отойдешь еще, — тяжело дыша, сказал Иван Степанович. — Топай к нарам, полежи.
Полудневый заковылял по проходу, придерживаясь рукой за столбы и доски нар. Шевелев перевел дух и огляделся. Устал он невероятно, на запавших висках блестела испарина. С каким бы наслаждением повалился бы он на нары или даже на землю, прямо тут, где стоял, чтобы дать отдых телу. Нельзя. Нужно уловить удобный момент и переброситься словом с Ключевским. Что пришло на этот раз в голову Юрия — что-нибудь в самом деле стоящее или бедный малый просто свихнулся на мыслях о побеге?
Те, кто добровольно попал в команду ремонтников, видимо, уже давно вернулись в лагерь. Они стояли отдельной группой возле полевой кухни и подставляли свои котелки под черпак повара, разливавшего забеленный молоком кофе. Никаких признаков переутомления. Очевидно, во второй половине дня никого из них не заставляли надрываться на работе. Все же вид у ремонтников был неуверенный, виноватый, они избегали глядеть в сторону толпившихся невдалеке товарищей. Словно незримая стена отделила эту горсточку от остальной массы пленных.
— Душить их, гадов, надо, — сказал Годун. Лицо Петра было черным от усталости и злости, на лбу красовался свежий продолговатый рубец — конвоир пометил дубинкой, угадал, собака, что пленный тянет трос не на полную силу.
Шевелев промолчал, скорбно глядя на свои исцарапанные руки с грязным металлическим глянцем на ладонях от троса.
— Душить их надо, — повторил Петр. — Они все равно, что власовцы. А первого Чарли. Сука. Своими руками...
— Погоди ты, — недовольно отозвался Иван Степанович. — Заладил. Видать, неспроста он. Говорит: есть шанс.
— Шанс... Знаем его шанс. Пайку учуял, и повело.
При упоминании о хлебе Шевелев почувствовал головокружение, во рту засочилась, пощипывая сухой язык, слюна.
— Ладно, узнаем скоро. Ты сходи посмотри, как там наш Ромка. Плох он. Я тут побуду.
Годун побрел в барак. Полудневого он увидел у нар. Тот стоял, обхватив обеими руками столб. Место его было на четвертом ярусе под самым потолком, и лезть на верхотуру он не решился, боялся, видимо, что не хватит сил, сорвется.
— Что, Роман, не отдышишься никак? — спросил Петр. — Идем на мой плацкарт, до поверки полежишь, полегчает.
Годун помог товарищу пройти несколько шагов вглубь барака, уложил его на свое место во втором ярусе. И тут Полудневый неожиданно охватил рукой шею Годуна, привлек его к себе, жарко зашептал:
— Петя, ты танкист... понять должен... Эти машины... нашими руками? Нельзя допустить. Чарли твой дружок... Гад он. Покарать, утопить в сортире. Я не гожусь... есть два верных человека. Ночью. Только булькнет, концов не найдут... Помоги.
Годун ужаснулся. Полудневый высказал его мысли. Но такие мысли возникали у Петра в момент крайнего ожесточения, и он понимал, что такой страшной кары Ключевский, даже если он соблазнился пайкой, не заслуживает. Вот как все взъелись на Чарли. Будто в нем одном все дело. Пропадет умник с позором. А кто просил лезть? Журавли... Дуралей несчастный с высшим образованием. Что только нашел Иван Степанович в этом психе.
— Ну? — допытывался Полудневый. — Обещаешь?
— Что изменится, Роман?
— Как же! Другим наука. Припугнем. Жалеешь дружка?
— Какой он мне...
— Вот и помоги.
— Подумать надо.
— Скорей думай. К утру бы... Тогда никто больше не выйдет, поверь моему слову. Отобьем охоту.
Годун направился во двор. Еще недавно он кипел от злости, теперь его охватила тоска. Неужели этой ночью придется помогать хлопцам отправить Чарли на тот свет? Жалко все-таки. Ведь не в себе человек, сразу видно — блаженный. Вот он...
Ключевский шел прямо к ним. Лицо его было решительным, губы сжаты, он не прятал глаза, смотрел на товарищей.
— Держите, — Юрий хотел было сунуть в руки Шевелева и Годуна по куску завернутого в тряпицы хлеба. — Ваша доля.
— Не возьму! — отпрянул Годун. — Сребрениками делишься?
Ключевский побледнел, кадык на его худой тонкой шее качнулся.
— Ты выслушай, а потом бей.
— Тебя, гада... — зашипел Годун.
— Да погоди, ты! — сердито взглянул на него Иван Степанович. — Пусть выложит, какая такая мысль ему и голову стукнула.
— Не здесь, — Юрий покосился в сторону проходивших мимо пленных. — Давайте руки помоем... А ты, Петр, припомни, какая максимальная скорость... у танка. Должен знать.
Он бережно спрятал в карманы не принятый товарищами хлеб и направился к умывальнику.
— Идем, — сказал Шевелев. — Послушаем...
И вот они трое рядышком, моют руки. Юрий в середине.
— Ну вспомнил, Петр? Какая максимальная?
— Ты дурочку не разыгрывай, — злобно блеснул на него глазами Годун. — Это тебе не кинокомедия. Утопят в дерьме, узнаешь какая...
— Шестьдесят километров, — повернувшись к Шевелеву, сказал Юрий. — А сколько мы с вами можем пройти за час? Километра четыре — не больше. Ну, пять от силы. Три часа, пятнадцать километров — и выдохлись. Так ведь?
— Так. Не тяни. К чему это?
Ключевский повел глазами по сторонам и сказал тихо, но четко выговаривая каждое слово:
— К тому, что мы эти пятнадцать километров можем сделать за четверть часа. Мой план — предлагаю бежать на танке. Втроем.
Всего ожидал Шевелев от Юрия, но только не это. Бежать на танке... Такое загнуть! Несерьезный все-таки человек Юрка. Иван Степанович досадливо хмыкнул.
— На ковре-самолете куда лучше...
— Это почти одно и то же. Только ковер — сказка, а танк — реальность. Шестьдесят километров в час... Пусть скажет Петр. Отремонтируем, захватим и рванем.
Оба умолкли и ждали, что скажет третий — как-никак Петр танкист, механик-водитель.
А Годун молчал. Лицо его вытянулось, приняло какое-то глуповато-растерянное выражение, рот был приоткрыт. Глаза, уставившиеся в одну точку, блестели. Слова Ключевского поразили Петра, но ему требовалось время, чтобы осмыслить, переварить их. Он словно оцепенел.
Ключевский решил, что товарищи не одобряют его плана. Значит, все пропало. Один он ничего не стоит, а искать рисковых и верных людей среди тех, кто по своей воле за пайку хлеба пошел в команду ремонтников, дело безнадежное. Все. Такая идея пропадает! Жалко. Теперь у него один выход...
— Иван Степанович, дело верное, но нет у меня времени вас убедить — нельзя нам долго быть вместе... Подумайте. Ночь у вас. Если утром из строя не выйдете, я... Что мне остается? Завтра же...
— Не пугай! — рассердился Шевелев, поняв, на что намекает Юрий. — Как сделать-то, ты подумал?
— Это детали, Иван Степанович. Нельзя всего предугадать. Уточним по ходу действия. В зависимости от обстоятельств.
— По ходу... Что они, дураки? Как карету подадут нам — пожалуйста, садитесь и погоняйте.
— Им в голову не придет. — Лицо Юрия просияло, стало вдохновенным. — Понимаете, они всего ожидают, только не этого. Слишком невероятно. Невероятность тем-то и хороша, что ее не предусматривают и к ней не готовятся. Никогда больше не представится нам такая возможность. Вы только посмотрите, как может получиться. Танк отремонтирован. Обязательно начнут пробовать, как работает мотор. И в процессе ремонта, и после окончания его. Так ведь? Когда будут пробовать, то не обязательно немцам всем экипажем садиться в танк. Там будет сидеть только водитель. А остальные будут стоять где-нибудь рядом с танком, может быть, даже и отойдут, от него. При более или менее удачном стечении обстоятельств мы легко можем завладеть танком, и тогда попробуй нас остановить. Уж десять километров за какие-нибудь пятнадцать минут мы сделаем. Это ж все равно, что на автомашине или на самолете. Где-нибудь в лесу остановим танк, подожжем, а сами наутек. Это просто счастье само лезет нам в руки.
Вот какому «журавлю» вцепился в хвост Чарли. Только ведь перышко может в руке остаться, а «журавель» улетит...
— Чем мы рискуем, Иван Степанович? — у Юрия даже слезы выступили на глазах. — Жизнью, тремя жизнями, а что стоит наша жизнь? Верный шанс упустим. Решайте. Пошел я. Утром буду знать... Утро вечера мудренее.
Он отряхнул капли с рук, вытер их о полы гимнастерки. Хотел было идти к бараку, но, вспомнив что-то, задержался.
— Возьмите хлеб. Прошу... Мне на сердце легче будет.
На этот раз Годун молча принял завернутый в тряпицу комочек. Он все еще находился в состоянии полуоцепенения. Иван Степанович хоть и не сразу, но тоже взял свою долю.
— Если не получится, — сказал он, — знаешь, кем нас считать будут?
— Знаю. Без риска нельзя.
— Я риска не боюсь, Юра. Так ведь не о нашей жизни речь идет. Копай глубже. Кроме жизни, честь имеется, вера в человека. Мы ведь советские люди.
— Надо рисковать. Всем, что у нас есть. И жизнью, и честью. Игра стоит свеч. Подумайте, что будет, если у нас выгорит.
Годун молчал, слабая улыбка блуждала на его лице.
— Теперь мне нужно ваше слово, — печально сказал Юрий. — О моей задумке никому ни звука. Обещаете?
— Это ясно. Будь спокоен.
— Значит, все, до утра... — Ключевский зашагал к бараку.
— Что будем делать? — спросил Шевелев невесело.
— Как — что? — встрепенулся Петр и перешел на деловой тон: — Свой хлеб я отдам лейтенанту. Он доходит. Это раз. Теперь насчет завтрашнего. Выйдем, Иван Степанович. Чарли дело предлагает.
— Поддерживаешь? — удивился Шевелев.
— А как же! На чем же еще бежать мне, если не на танке? Это Чарли ловко придумал, сварила голова.
— Еще не сварила, а только одну водицу на огонь поставила... Может опрокинуться, может выкипеть попусту.
— А мы зачем? Поможем.
— Как? Я должен знать, на что иду. А вы... Один — в облаках, другой — тоже...
— Мне бы только рычаги руками ухватить, Иван Степанович. Танк — это же машина, зверь стальной. Только бы рычаги в руки попали.
— Я не про это, Петя. План должен быть точным, а не вилами по воде. А у нас пока одно желание.
— Где его взять, точный план? Юрка правильно говорит — как подвернется. Дело случая.
Шевелев задумался. Его удивило то, что роли внезапно переменились, и теперь в плане Юрия Ключевского сомневался он, а Петр горячо защищал того, кого он еще недавно считал бесплодным мечтателем и даже предателем.
— Ладно. Пошли отсюда, — сказал Иван Степанович. — Хлеб отдашь? Не передумал?
— Не передумал, — стиснул зубы Петр.
— Тогда давай моим поделимся.
— А может, и ваш отдадим?
— Лучше завтра подбавим, от себя оторвем.
— Завтра Роман от меня не возьмет. Он ведь принципиальный... Будет нас подлецами, изменниками считать.
— Да, он такой. А сказать ему, объяснить, намекнуть даже нельзя.
— В том-то и дело. Мы связаны. Тайна.
— Ты так говоришь, будто я уже согласен.
— Вы мудрый человек, Иван Степанович. Такое мое убеждение — согласитесь. А во мне не сомневайтесь, я водитель первого класса, не подведу.
Долго не спали все трое.
После того эмоционального подъема, прилива сил, возбужденности, которые испытывал Ключевский, радуясь, что он открыл путь к освобождению, наступила тяжелая депрессия, и все предстало в черном свете. Жалкий фантазер — вот кто он в действительности. Полусумасшедшей, в голове которого толпятся замыслы-ублюдки, планы-химеры, ничего общего с реальностью не имеющие. Наркоман, беспрерывно курящий трубку сладостного воображения, — несбыточные мечты его опий. Как точно, одной короткой фразой разрушил Иван Степанович его очередной воздушный замок — «На ковре-самолете куда лучше...» Сказка, вздор, детские причуды, плод болезненного воображения.
Юрия трясло в нервном ознобе. Ему казалось, что с тех пор, как, выйдя из строя, он сделал десять позорных шагов, вся одежда его стала грязной и липкой, вроде он натянул на себя шкуру труса и предателя.
Иван Степанович отнесся к его предложению без энтузиазма. Петр тоже не поддержал Юрия, а он так надеялся, он отводил Петру главную роль в своем плане — танкист, умеет водить машину. Все пошло прахом. У него даже не хватило слов, доводов, красноречия, чтобы убедить, зажечь своей идеей товарищей. Значит, сама идея несостоятельна. Пленные ненавидят его. Понятно. Они мстят ему за те благожелательность и снисходительность, какие прежде он вызывал в их сердцах: «Ах, этот Чарли, душевный малый, мечтатель, не от мира сего человек!» Что же делать? Но ведь он уже решил. Тут нечего раздумывать. Однако уйти из жизни нужно достойно. Вот если б он сумел нанести удар какой-нибудь железякой по голове проходящего мимо технического гауптмана... Было бы замечательно. Его сразу бы пристрелили, растерзали на месте. И хорошо. Умер все-таки не зря — баш на баш. И не нужно будет возиться с петлей... Но Иван Степанович и Петр, может быть, выйдут все-таки?
Тело дрожит противной мелкой дрожью. Не унять эту дрожь, не остановить тягостных мыслей — все напрасно, не трать, куме, силы...
Шевелев лежал с открытыми глазами. Человек, неторопливый в решениях, обстоятельный, он тщательно обдумывал предложение Юрия. Было такое ощущение, будто ему сунули в руки кусок металла, приказали сделать деталь определенной конфигурации и совершенно точных размеров, но не разрешили при этом пользоваться какими-либо измерительными инструментами. Требуется высокая точность, но работай на глазок. Материала не то что в обрез, а скорее всего — недохват. Он ведь слесарь-лекальщик, а не какой-нибудь волшебник-фокусник. Ладно, никто ему чертеж не принесет, линейкой и кронциркулем не обеспечит. Тут все на одном риске — пан или пропал. Ну, а не выйдет? Позор, пятно на всю жизнь. Каждый колоть в глаза будет, мол, мало того, Иван Степанович, что ты в плен попал, ты еще танки фашистам латать согласился. За пайку... Есть ошибки, каких уже не исправишь ничем. Хорошо, но ведь надо что-то делать. Под лежачий камень вода не бежит. Сгниешь здесь в лагере так или иначе. Люди — друзья, родственники, дети — пусть говорят, судят. Их суд и приговор можно будет снести. Это в расчет не надо принимать, это можно будет стерпеть. Ведь перед судом своей совести он будет чист, не забудет, с какой целью пошел фрицам помогать. А овчинка-то стоит выделки: увести у немцев готовый, отремонтированный танк — за это самой дорогой ценой можно уплатить. Значит, надо выходить... Юрка, наверно, волнуется, тоже не спит. Да не переживай ты, Юрка, беспокойная, сообразительная головушка твоя. Похоже, что пойдем мы вслед, попытаемся схватить твоего журавля за лапы, хвост, крылья. Может, не вырвется он от нас. Погоди, погоди, еще не согласился, еще не сказал слова окончательного. Погоди, браток. Сам знаешь — утро вечера мудренее.
Отдых телу, сон, тьма...
Петр Годун тоже не мог долго уснуть, ворочался на своем ложе. Мысль о том, что он снова может оказаться на месте водителя, пьянила, возбуждала его, как вино. Петр то и дело напрягался всем телом, стискивал кулаки, словно уже сжимал в них рукоятки рычагов танка. Мягким, сильным движением он посылал машину вперед, внезапно разворачивал ее на 180 градусов, снова разгонял. Послушная его рукам, тяжелая машина неслась, подминая заборы, валя на своем пути деревья, уклонялась то влево, то вправо, делала стремительные повороты, легко брала крутой подъем, прыгала с пригорка в реку, расплескивая воду так, что обнажалось желтое песчаное дно, и, почти не сбавляя скорости, выскакивала на противоположный берег. Только танкист, только томящийся в плену танкист может понять, какое это счастье, когда рычаги в твоих руках и все тело ощущает послушную тебе стальную махину, способную подминать, таранить, плющить, громить технику врага. Только танкист это может понять.
Да, если бы удалось ему оказаться на месте водителя, он бы выдал фрицам концерт.
Так с сжатыми кулаками Петр и погрузился в сон.
Он проснулся внезапно от ощущения надвигавшейся беды. Будто кто-то его пнул ногой — вставай! Неясная тревога росла, давила грудь, заставляла сильнее биться сердце, лишала надежды. Наконец Петр понял — Чарли... Все это связано с Чарли. Как же он забыл о том, что говорил ему лейтенант Полудневый. Петр соскочил с нар и побежал по тускло освещенному центральному проходу в ту сторону, где на боковом ответвлении находились нары Ключевского. Годун услышал хрип, стон. Две тени метнулись от него, растворились во тьме. Неужели они... Неужели опоздал? Вот он, Чарли, теплый, значит живой. Стонет.
— Юрка, ты что? Что с тобой?
— Не знаю, — с трудом выговорил Ключевский. — Какой-то страшный кошмар. Сон, душило меня во сне. Навалилось, схватило за горло. Понимаешь, двинуться не могу, воздуха нет, сердце останавливается. Думал, что помираю.
— Ну, а сейчас, ничего, прошло? — Рука Годуна торопливо шарила по телу Ключевского, он проверял, нет ли крови. — Руки, ноги шевелятся?
— Немного горло болит, не помню, где я его поцарапал.
У Годуна отлегло от сердца.
— До свадьбы заживет, — сказал он весело. — Подвинься, я с тобой спать буду. И смотри, не вздумай без меня ночью из барака выходить. Слышишь? В случае чего — буди меня. Вот так...
Годун улегся рядом, прильнув к спине Ключевского, обнял его. Вот так-то вернее. Чарли — голова, без него им трудно будет это дело провернуть. Он ведь соображает быстро, наперед видит. Спи, Чарли, спи. И не надо тебе знать, что тебе грозило этой ночью.
Утром пленные снова были построены на аппельплацу, и комендант еще раз предложил слесарям, желающим попасть в команду ремонтников, сделать десять шагов вперед.
Начали выходить. Молча, с наклоненными головами, с деревянными лицами отступников.
Тишина, только шуршащие звуки шагов. Пленные в строю считали беззвучно: пятнадцать... двадцать три... тридцать один... тридцать восемь...
Да, больше нет. Тридцать восемь вышло на этот раз.
Среди этих тридцати восьми были Годун и Шевелев.
«Звезда балета»
В городе были развешаны свежие объявления. Уже сами по себе крупные черные буквы на серой бумаге навевали тоску. Населению оповещалось, что все лица в возрасте от шестнадцати лет, не имеющие специальных рабочих пропусков, должны в двухнедельный срок пройти перерегистрацию на бирже труда.
Любе Бойченко исполнилось восемнадцать. Она сумела избежать отправки в Германию только потому, что попала в работницы к коммерсантке фрау Боннеберг, открывшей на Пушкинской улице закупочный пункт льна, шерсти, щетины. Так значилось на вывеске, но фрау Боннеберг не ограничивала себя заготовкой столь прозаического сырья и охотно приобретала более ценные, в том числе и антикварные вещи, платя за них сущую безделицу. Эти операции она проводила лично сама, а прием и прочая возня с шерстью, щетиной, льном возлагались на русскую работницу. Люба взвешивала, сортировала и паковала товар, убирала помещение, обстирывала хозяйку и выполняла всю черную работу на кухне. Коммерсантка ничего не платила Любе, но достала ей рабочий пропуск, который оберегал девушку от многих опасностей и давал право на жалкий продовольственный паек.
И все же Люба была рада этой работе и считала, что ей повезло. Теперь они жили с матерью в маленькой комнате с крохотным оконцем, куда их выселили с прежней квартиры. Мать хворала все чаще и чаще, а последнее время ослабела до такой степени, что иногда целые дни проводила в постели. Люба все еще не теряла надежды, что мать поправится, она ухитрялась иногда раздобыть хоть немного козьего молока, давала больной по ложечке меду и смальцу — пришлось раскрыть две заветные баночки, отложенные на самый-самый черный день.
Было много у Любы этих черных дней, но, как она поняла, самый черный день наступил сегодня. Сегодня фрау Боннеберг объявила, что ликвидирует свое дело, и укатила в Германию, оставив своей «безупречно честной и исключительно трудолюбивой русской работнице» в подарок комнатные шлепанцы, испорченные щипцы для завивки волос, большой моток неиспользованного бумажного шпагата и рекомендательное письмо. Срок пропуска девушки кончался через три дня, в продовольственной карточке оставалось только три талона на хлеб. И никаких надежд.
Траурно-черными казались буквы объявлений о переучете на бирже труда. С тех пор, как гитлеровцы появились в их городе, Люба убедилась, что буквы, один лишь вид печатных букв, может вселять в ее сердце ужас, как если бы власти использовали для своих приказов какой-то особый, устрашающий шрифт. Конечно, буквы тут ни при чем. Все дело в словах: «За невыполнение приказа — расстрел...», «Караются смертью...», «Злостных саботажников ждет наказание — смертная казнь...» В сегодняшних объявлениях нет слов «смерть», «расстрел», но они угадываются за другими. «Лиц, уклонившихся от перерегистрации, ждет суровое наказание».
Перерегистрация — это отправка на работы в Германию. Люба знает, что ей не помогут никакие объяснения, слезы, мольбы. Раньше крупной взяткой можно было хотя временно отвратить беду. Сейчас «власти» взяток не берут. Боятся: немцы стали строгие, им до зарезу нужна рабочая сила. Да и откуда у Любы деньги для такой взятки? Ни денег, ни вещей, ни надежд.
Люба шла, погрузившись в свои невеселые мысли, и, когда увидела бывшую подружку Аллу Скворцову, растерялась от неожиданности. Алла в голубенькой куртке с выложенными короной на голове тугими косами показалась из-за угла и повернула к ней навстречу. Шмыгнуть в какой-нибудь подъезд, перейти на другую сторону улицы? Нет, поздно, Алка все равно заметит ее, подумает, что Люба испугалась. Значит, нужно идти как ни в чем не бывало, глядеть на нее равнодушно и ни одного слова, только легкий презрительный кивок головой — да, мол, дружила немножко, а теперь и знать тебя даже не желаю.
Хороша Алка все-таки. Идет, бедрами покачивает, стройными, точеными ножками играет, будто на репетицию в танцевальный ансамбль отправилась. Как выступала сна на концертах художественной самодеятельности! Как ей аплодировали! Недаром в школе мальчишки старших классов иначе не называли ее как «Звезда балета». Ах, Алка, Алка! Себя опозорила, всю школу, всех своих друзей. Не надо смотреть на ноги. Можно и в глаза. Чтобы не думала, что ее боятся. Нет, не боятся, а стыдятся только. Глаза чуть-чуть подрисованы карандашом, но больше никакой косметики не заметно. Сколько раз ночевала она у них в доме. На одном диване спали, до полуночи шептались, хихикали, и вот проходит она близко, так что плечом о плечо можно чиркнуть, но ведь чужая и пропасть между ними непроходимая лежит.
Люба, не сбавляя шага, едва заметно кивнула головой. Вот и все... Прощай, Алка, прощай, дрянь девчонка. Навсегда.
— Люба!
Остановилась, зовет... Нет, не слышу я. Иди своей дорогой, катись подальше.
— Любаша!!
Но как не оглянуться? Ладно, оглянусь. Что тебе потребовалось от меня?
Алла подошла вплотную, лицо розовое, глаза блестят.
— Не хочешь знаться со мной, Любаша? Напрасно. Гордая такая! Еще бы! Ты патриотка, а я... Но все-таки ты особенно нос не задирай, Любочка.
Люба молчала, смотрела в красивые, то злые, то веселые глаза бывшей подруги. Кажется, Алла была пьяна, и Любе не хотелось начинать с ней какой-либо разговор.
Но от «звезды балета» не так-то просто было отвязаться.
— Несколько раз замечала, что избегаешь меня. Боишься, как бы не увидели нас вместе. Как же, будет пятно в биографии? А я вот не боюсь разговаривать с партизанской связной, хотя меня за это тоже по головке не погладят.
Люба испугалась, побледнела. Не была она ни партизанской связной, ни подпольщицей, но ведь можно пострадать и ни за что, а так, за здорово живешь.
— Что ты городишь, Алка? Пьяная...
— Ага, сдрейфила. Нет того, чтобы пригласить подружку в гости. Даже на улице стесняешься разговаривать.
— Ты не знаешь разве, что живем мы сейчас у чужих из милости. Где же нам в темном чулане приемы устраивать.
— Тогда идем ко мне, — обрадовалась Алла. — Идем, идем. Мой явится не скоро. Мой повелитель! Рыцарь! Идем, не пожалеешь. Я тебя накормлю и напою. Да ты не бойся.
Алла вцепилась в руку Любы и потащила ее за собой. Люба упиралась, но из дворов, из-за заборов уже поглядывали на них люди и сопротивляться было бессмысленно.
Алла со своим «повелителем» жила на этой же улице в хорошем каменном домике, занимала кухню и большую горницу, окна которой закрывались на ночь изнутри щитами из толстых дубовых досок. В комнате было тесно от обилия мебели.
— Садись! — широким жестом Алла показала на стул, стоявший у стола, покрытого бархатной скатертью с тяжелой бахромой. — Что смотришь? Не удивляйся. Да, да, все это чужое, награбленное. И мебель, и скатерть, и хрусталь, и серебро в буфете.
Алла принесла с кухни блюдо с пирожками, сало, нарезанное мелкими ломтиками, и начатую бутылку рома с завинчивающимся на горлышке металлическим колпачком.
— Вот, угощайся, Люба. И домой можешь взять. Знаю, знаю, там у вас нехватка. А я живу как баронесса. Что поделаешь? Давай выпьем. Что, разве нам не за что выпить? А за нашу молодость, за дружбу? За комсомольскую юность?
— Ты не была комсомолкой, — мрачно уточнила Люба.
— Я это так, к слову. Красиво звучит... Я не любила политику, я любила искусство. Обожала.
Алла налила в рюмки, чокнулась, выпила первой. Кажется, с удовольствием, хотя скривилась и крякнула, как-то по-мужски вытерла кулаком рот, губы и отправила в рот ломтик сала.
Люба даже не притронулась к рюмке, но хозяйка, видимо, не заметила этого. Алла сидела, откинувшись на спинку стула, запрокинув голову и закрыв глаза.
— Вот ты, я знаю, ты презираешь меня, — заговорила она тихо, печально. — И я сама себя презираю. Нет, не презираю. Мне просто иногда бывает жалко себя. Понимаешь, так жалко, такое зло меня разбирает, что мы попали в эту кутерьму. Как будто не могла война начаться раньше или позже. Нет, нужно было ей начаться в пору нашей цветущей юности. И мне жалко себя. Я все знаю, я все понимаю...
Алла открыла глаза, наполнила свою рюмку.
— Почему не пьешь, Люба? Выпей немножко. Ну, тогда закусывай. Ешь, не стесняйся.
Она быстро опорожнила рюмку и продолжала:
— Вот вернутся наши и скажут, какая сволочь эта Алка, предательница, подумать только — с немцами спала, фашистов ублажала, а ведь могла бы стать звездой художественной самодеятельности, порхала бы на сцене в пачках и доставляла бы людям эстетическое наслаждение. И ты так думаешь, Любаша? Я знаю, думаешь...
Алла закусила губу, покрасневшее лицо ее сморщилось, по щекам потекли слезы. Видимо, давно ждала она случая, чтобы высказать все, что накопилось в ее душе.
Она ведь знала, что только немногие женщины в городе завидуют ее роскошной жизни, остальные жестоко ее ненавидят. Пропащий человек Алка... Люба на какое-то мгновенье почувствовала жалость к своей бывшей подруге, но тут же подавила в себе это чувство. Жалеть таких нельзя. Нельзя! Она отвела взгляд, наклонила голову.
— Знаю, знаю, Любочка, что ты хочешь сказать, что ты можешь сказать. Но я не такая. Понимаешь, я в героини не вышла. Не родилась я для геройства, ну что ж я с собой поделать могу? Ведь лучше признаться честно, что у тебя нет мужества, что ты слабый человек, чем взяться за дело, а потом, когда тебя прижмут и раскаленные иголки под ногти будут засовывать, нюни пустить, расплакаться и обо всем рассказать, всех выдать.
Ты можешь такое вытерпеть? Можешь. Верю. А я честно признаюсь — не могу. Так и покатилась я... Тебе хорошо, Любаша, тебе хорошо. Ты всегда была крепкой, мужественной. А я в этом смысле ничтожество...
— Что ты говоришь? — словно очнувшись, вскрикнула Люба, и лицо ее стало гневным. — Крепкая, мужественная... Нашла кого прославлять. Неужели ты и впрямь думаешь, что я какое-то геройство совершила или совершаю? Как бы не так! Я хотела бы... Нет, я такая же трусиха, как и ты. Жалкая трусиха, думающая только о себе, о своей беде.
Алла была поражена. Она не знала, что ее исповедь произвела на девушку совершенно иное впечатление, нежели она предполагала. Слова Аллы заставили Любу по новому, более строго и требовательно взглянуть на себя. Со «звездой балета» все ясно — красивая безвольная дрянь, польстившаяся на шоколад и тряпки. Но какую пользу принесла Родине «крепкая, мужественная» Любовь Бойченко? Рыла окопы, проклинала фашистов, горько плакала, когда советские войска отступали, а теперь вот радуется, что немцы отступают. И все! Разве этим может ограничиться настоящая советская патриотка? Правда, на руках у нее больная мать, дни которой уже сочтены...
— Тебя никто не упрекнет, не осудит, — послышался печальный голос Аллы. — Да и что ты... что мы все — слабые девчонки, вчерашние школьницы, можем сделать, если бы даже страстно того желали...
— Не то, опять не то говоришь, — с досадой возразила Люба и, собираясь уходить, встала со стула. — Ты себя и меня за компанию оправдать хочешь.
— Сиди, сиди, Любаша, — умоляюще протянула к ней руку подруга. — Не уходи, прошу тебя. Говори мне правду, от тебя я все вынесу. Ненавидишь меня, презираешь?
— Дело не во мне, Алла, как ты не понимаешь... Люди тебя ненавидят. У людей огромное горе — голод, унижения, в каждой семье плачут о погибших, на фронтах льется кровь. Как им смотреть на веселую, нарядную, сытую девку, которая, пританцовывая, идет под руку со своим любовником — фашистским офицером? Это же... Это плевок в лицо всем матерям, женам, сестрам погибших. Ты плюешь и смеешься... Все оправдания, какие ты придумала себе, как бы ты их красиво и жалостливо ни высказывала, — это фальшь, ложь. Ты сама это хорошо знаешь.
— Не надо, Любаша...
— Надо! Ты просила, чтобы я сказала правду. Получай! Если хочешь знать, я сама себя ненавижу. За слабость, за трусость, за то, что... и я хотела бы стать смелым, сильным человеком.
Тут Люба опомнилась — с Алкой не следовало бы пускаться в такие откровенные разговоры. Она сказала без прежнего ожесточения:
— Ладно! Красивые слова тут ни к чему.
— Сиди, сиди. Не пущу. Ведь может последний раз мы с тобою, Любаша. Посиди...
Часа два Алла пила ром и исповедовалась перед Любой. А Люба все время порывалась встать и уйти — ее мучила мысль о больной матери.
Наконец Любе удалось покинуть этот дом. Алла, лицо которой заливали пьяные слезы, напихала ей за пазуху пирожков и завернула кусок сала — целое богатство. Просила заходить днем — днем ее гауптмана не бывает дома.
Вечером, когда пришел Верк, немного усталый, но довольный, и начал уплетать приготовленный ужин, Алла села напротив него, закурила сигарету, спросила:
— Оскарик, это правда, что завтра биржа труда будет отправлять новую партию молодых рабочих в Германию?
— Возможно.
— А ты не мог бы выполнить одну просьбу своей лапухи?
— Мог бы, но не слишком ли часто лапуся обращается ко мне с просьбами?
— Но котик не знает, о чем я его хочу попросить.
— Нетрудно догадаться.
— Ага. Тогда сразу к делу. Ты бы не мог устроить где-нибудь у себя на работу мою подругу Любу Бойченко? У нее больная мать. Трудолюбивая, грамотная и расторопная девушка. Имеет рекомендательное письмо. Ты обещаешь мне?
Верк наморщил лоб. Он никогда не давал пустых обещаний и теперь прикидывал в уме, сможет ли куда-нибудь пристроить протеже своей любовницы. Нашел. Очень удачно получилось.
— Обещаешь? — теребила его Алла.
— Да. Но только в том случае, если ты, в свою очередь, пообещаешь больше никогда не обращаться ко мне с такими просьбами.
— Да, мой милый.
— Тогда надо скрепить договор печатью.
— Ну, если ты настаиваешь на такой формальности, пожалуйста! — Алла села на колени Верка, смеясь, вытерла его жирные губы салфеткой и наградила долгим горячим поцелуем. — Противный бюрократ... Но ты не забудешь? Это нужно сделать завтра же, иначе ее увезут.
— Я никогда ничего не забываю, Аллочка.
Утром Люба, явившаяся на биржу труда, услышала вдруг, как переводчик прокричал с балкона над головами собравшихся:
— Бойченко! Любовь Васильевна. Адрес: Сенная улица, тридцать восемь, квартира шесть, зайдите в комнату номер один.
В этом «зайдите» могла быть поддержка, но мог быть и подвох. Однако, когда Люба вошла, ее встретили вежливо, дали пропуск и заявили, что она сегодня же должна явиться на улицу Гуртовую к бывшей базе «Заготскот» в распоряжение гауптмана Верка.
Ремонтный рабочий № 13
Окна нижнего этажа домика на Гуртовой, где прежде размещалась контора «Заготскот», были замурованы, и с улицы этот глухой фасад выглядел как часть той высокой кирпичной стены, которой была обнесена территория базы. Люба направилась к воротам, возле которых стояли несколько поврежденных танков.
Часовых на воротах было двое — немецкий солдат и полицай. Как только Люба показала выданный ей на бирже труда пропуск, полицай пропустил ее, показал на выходящее во двор низенькое крылечко домика:
— Гауптман в конторе.
Стараясь не глядеть на изувеченные танки, которыми был заполнен двор, девушка зашагала к крыльцу, и тут ее внимание привлекли громкие хриплые голоса, хором повторявшие какую-то фразу. Она увидела за домиком людей, стоящих в два ряда лицом к стене, на которой черной краской были выведены надписи и таблица. Истощенный вид этих людей, их грязное рваное обмундирование говорили Любе, что перед нею советские военно-пленные. Она невольно замедлила шаги.
Стоявший возле пленных переводчик с белой повязкой на рукаве френча поднял руку.
— Повторяйте! Правило номер один!
— Правило номер один... — загудели пленные.
— Слово немецкого мастера... — взмахнув обеими руками, крикнул переводчик.
Слово немецкого мастера есть закон... — подхватили пленные.
— Требует...
— ...беспрекословного выполнения.
— Отказ...
— Отказ карается смертью.
Вслед за переводчиком, размахивающим, словно дирижер, руками, пленные трижды повторили «правило», написанное на стене полуметровыми буквами.
— Теперь перейдем к цифрам, — заявил переводчик. — Приказано научить вас немецкому счету до тридцати. Кроме того, вы обязаны выучить еще семьдесят немецких слов. Это нетрудно — названия инструмента и простые, необходимые понятия. Сегодня счет до десяти и двадцать пять слов. Начали. Айн, цвай...
— Айн, цвай, драй...
На крылечке появился офицер с румяным холеным лицом. Прислушавшись к нестройному хору пленных, он, не скрывая радости, весело-одобрительно закивал головой.
Гауптман Верк, свято придерживавшийся своего девиза — «план, расчет, предусмотрительность», пребывал этим утром в отличнейшем настроении, так как многое успел за короткий срок. Еще вчера его положение казалось прямо-таки безвыходным — рембаза полностью не оборудована, квалифицированных рабочих нет, запасные части и инструменты не получены. Но не прошло и суток, как подведомственная Верку машина начала делать первые пробные обороты: одна группа немецких мастеров занялась осмотром танков и составлением дефектной описи, другая рыскала по городу, собирая необходимое оборудование и инструмент; пленные закончили кладку стены в тех местах, где она была разрушена, и приступили к изучению наглядных пособий.
Эти «наглядные пособия» были изобретением самого Верка. Начальник рембазы не надеялся, что пленные будут проявлять особое рвение в работе, и, конечно же, не исключал возможность саботажа с их стороны. Однако труд пленных мог оказаться крайне малопродуктивным вовсе не по их воле и желанию, а по той простой причине, что они, особенно на первых порах, будут не в состоянии понять приказания мастера. Частые недоразумения на этой почве отнимут драгоценные минуты, даже часы, вызовут раздражение, озлобление мастеров. Начнется зуботычина, мордобой. Но наказания в таких случаях бесполезны, даже вредны, так как напуганный, затурканный рабочий становится еще более бестолковым.
Вывод напрашивался сам собой — необходимо научить пленных безошибочно воспринимать приказ мастера. Верк предпринял шаги в этом направлении. Нет, начальник рембазы не собирался устраивать для пленных курсы по изучению немецкого языка. Достаточно будет, если они запомнят, как звучат цифры до тридцати включительно, выучат такие слова, как «возьми», «подай», «принеси», «подними», «опусти», а также названия инструментов. Сто слов для круглого счета. И гауптман приказал написать на стене черной краской «правило» и первый урок — десять цифр и тридцать пять слов. Пятнадцать минут на изучение. Вместо утренней молитвы... Воспринимается звуковой и зрительной памятью. Пусть теперь какой-либо пленный посмеет заявить мастеру, что он не понял такой простой фразы, как «Принеси домкрат и два молотка». Такому негодяю следует дать в морду — справедливо, педагогично, черт возьми!
План, расчет, предусмотрительность... Слова можно переставлять в любой последовательности, суть остается неизменной — предусмотрительность, расчет, план. Верк гордился своим организаторским талантом.
Начальник рембазы повернулся к двери, намереваясь пройти в свой кабинет, но тут увидел приближающуюся к крыльцу девушку и остановился, оценивающе меряя ее взглядом.
— Гауптман Верк?
Подруга Аллы... Славная. Нет, красоткой и даже хорошенькой ее не назовешь. Совершенно иного стиля, чем Алла. Скромная и в то же время никаких признаков приниженности, угодливости, кокетства, одета плохо, но. держится с достоинством. Алла говорила, что у нее тяжело больна мать, они бедствуют... Впрочем, все это к делу не относится, подруга Аллы уже заняла свое место в его плане, она будет выполнять обязанности кладовщика. Ходатайство Аллы пришлось как нельзя кстати: на место кладовщика пленного не поставишь, а отрывать от ремонта кого-либо из немцев даже на два-три часа в день Верку не хотелось.
— Любовь Бойченко?
— Да.
— Ты знаешь немецкий?
— Многие слова, фразы. Я понимала все, что мне приказывала моя хозяйка, фрау Боннеберг.
— Фрау Боннеберг... Коммерсантка?
— Да. Она ликвидировала свое дело. Вот ее рекомендательное письмо.
Верк рассеянно пробежал глазами по строкам.
— Хорошо. Письмо останется у меня. Идем.
Верк провел девушку в коридор, открыл первую дверь справа, ведущую в кладовую. Комната была большой, и три стены ее занимали сколоченные из свежеобструганных, приятно пахнущих сосновым лесом досок стеллажи, разделенные перегородками на большие ячейки. На полу лежали сваленные в кучу различные слесарные инструменты, грязные, с налетом ржавчины.
— Это твое рабочее место. Здесь будут храниться инструменты и некоторые наиболее сложные и ценные запасные части. Ты будешь кладовщицей.
Начальник ремонтной базы изложил своей новой сотруднице обязанности. Прежде всего учет. В любой момент кладовщица должна быть готовой ответить на вопрос, какие инструменты и запасные части имеются в наличии и когда, кому выданы остальные, числящиеся в инвентарных списках. Инструменты можно выдавать ремонтным рабочим только взамен предъявленных ими личных номерных жетонов, образцы которых она получит. Жетоны могут быть возвращены рабочим только после того, как те сдадут инструменты, обязательно в исправном виде. Кладовщица должна ограничить свое общение с рабочими-пленными до минимума. Никаких вопросов, никаких разговоров на посторонние темы. Сейчас она должна заняться чисткой инструмента и раскладкой его на стеллажах. Итак, за работу!
Любу не нужно было подгонять. Она нашла в углу кусок брезента, обкорнала его ножницами для резки листового железа, подвязала на груди в виде фартука и принялась обтирать промасленной тряпкой инструменты, раскладывать их на стеллажах — те, что полегче, на верхние полки, тяжелые вниз.
Возиться со слесарными инструментами было приятно. Они будили у Любы воспоминания о детстве. Ее отец, слесарь-лекальщик, оборудовал в сарае крохотную мастерскую, в которой делал все «железное» для дома. Валерий почти всегда помогал отцу. Сколько помнила Люба, у дверей сарая вечно толклись мальчишки — верстак с маленькими изящными тисками, за которым под руководством отца мастерил что-либо Валерка, притягивал их, как магнит. Лет в пятнадцать Валерий уже был заправским слесарем. Многому научились в мастерской и его товарищи, даже Любе привился вкус к работе с металлом — она могла сделать ключ к замку, отре монтировать медный кран, мясорубку. Недавно все было, а кажется — далекие годы. Нелепый, несчастный случай унес в могилу отца, брат после окончания школы поступил в военно-летное училище и окончил его за несколько недель перед войной. Где теперь их крылатый Валерий? Летает ли?
Доносившиеся сквозь окно голоса пленных, твердивших первый урок, внезапно стихли. Через несколько минут переводчик привел в кладовую человека в выгоревшей, залатанной гимнастерке, державшего в руке кисть и ведерко с черной краской.
— Стой тут, у порога. С места не сходить. Я сейчас приду.
Пленный был молод, узкое лицо его заросло реденькой бородкой. Он бросил быстрый пытливый взгляд на девушку, стараясь, очевидно, определить, кто она. Вид девушки успокоил его. Он понял, что с ее стороны ему пока ничто не угрожает, и, слегка прикрыв глаза ресницами, замер у порога в позе терпеливого ожидания. Тогда-то и рассмотрела Люба лицо юноши, его затененные длинными ресницами теплые, добрые глаза, неуловимо меняющие свое выражение. Глаза были печальные, но к печали все время добавлялось еще что-то. Казалось, все новые и новые, может быть, даже не связанные друг с другом картины стремительно несутся в воображении этого человека, и только их неясные тени отражаются в расширенных зрачках.
Люба испытывала странное чувство. Ей показалось, что она угадывает эти смутные образы, слышит их звучание — свет, узким пучком вспыхивающий в темноте, щебет и тревожный крик птицы, сияние солнечного дня, скорбная мысль о прошлом, смертельный риск, гибельный шаг по краю бездны, тайное торжество, падение в пропасть, в небытие, счастье победы, тревога, отчаяние и снова надежда — так много можно было прочесть в этих, кажущихся покорными, чуть-чуть больше, чем следовало бы, прикрытых длинными вздрагивающими ресницами глазах.
Пустое... Она ничем не сможет помочь этому несчастному. Возможно, он болен. Он и в самом деле чем-то напоминает душевнобольного — шевелит потрескавшимися губами, словно шепчет во сне. Не от мира сего.
Пленный, почувствовав, что за ним наблюдают, как бы очнулся, еще раз посмотрел на девушку. Кажется, он хотел произнести какое-то слово, что-то спросить, острый кадык под грязной кожей худой шеи качнулся, но тут в кладовую вошел переводчик, и пленный напрягся, ожидая приказаний.
— Гауптману понравились твои надписи. Сделано быстро и хорошо, говорит. Он решил поручить тебе еще одно срочное дело. Изготовишь сотню алюминиевых жетонов. Пятьдесят больших, пятьдесят маленьких. Номерные. У каждого свой номер, от одного до пятидесяти. Понял? Вот таких размеров. Это гауптман образцы нарисовал.
Пленный как-то нерешительно взял поданную переводчиком бумажку, начал рассматривать рисунок. Вид у него был явно растерянный.
— Работать будешь здесь, — продолжал переводчик. —Ставь свою мазницу в угол, бери инструмент и приступай. Давай.
— Может, еще кого мне на помощь дадите? Дело, говорите, срочное.
— Без фокусов. Для слесаря четвертого разряда этой работы на час. Приступай.
— А из чего делать? Материал? — облизав губы, спросил пленный.
— Возьми тонкий алюминий. У нее есть. Без меня отсюда ни шагу.
Переводчик ушел. Люба положила на верстак два помятых листа дюралюминия, содранных, очевидно, с крыла сбитого самолета.
Пленный взял один и попробовал разравнять его руками на верстаке.
— Дать молоток? — спросила Люба.
— Да, — оживился пленный. — И зубило, пожалуйста. Широкое.
Он выровнял молотком покореженный лист, а затем долго возился с ним, стараясь как можно точнее вычертить острым углом зубила восьмиугольник жетона. Наконец рисунок был полностью перенесен на металл, и пленный, поставив зубило на черту, ударил молотком. Очевидно, в последний момент остриё зубила съехало с черты, и обрубленная линия оказалась кривой. Неудача обескуражила юношу; закусив губу, он смотрел на испорченную заготовку, капля пота текла по его виску. Наконец поднял голову.
— Пилку-ножовку я бы попросил. Пожалуйста...
«Он не слесарь и никогда не имел дела с металлом, — пронеслось в голове Любы. — Алюминий мягок, жетоны лучше всего вырезывать ножницами, а не вырубывать или выпиливать. Это и легче и быстрей». Не говоря ни слова, она положила на верстак ножницы, циркуль, кернер, напильник и несколько листков наждачной бумаги. Неужели не поймет?
Он понял... Не притрагиваясь к инструментам, окинул их несколько раз внимательным взглядом, стараясь установить, какая связь существует между этими предметами, словно перед ним были слагаемые хитро придуманного ребуса. Затем взял ножницы и, пробуя, осторожно отрезал от листа алюминия небольшой уголок. Линия среза получилась ровной. Обрадовался, бросил благодарный взгляд на кладовщицу. Люба отвернулась, будто ее совершенно не касалось, как справляется со своей работой слесарь четвертого разряда.
Вычерчивая на металле новый восьмиугольник, пленный догадался использовать циркуль, кернер, и дело у него пошло быстрее. Минуты через две-три первая заготовка была вырезана, но этот чудак не сообразил, что в его руках находится лекало. Он снова взялся за циркуль.
Чуть не плача, Люба схватила заготовку и, зажав ее в тиски, быстро зачистила напильником заусеницы на срезах, затем потерла ее наждачной бумагой и положила с краю на лист.
— Шаблон... — пораженный открытием, едва слышно произнес лжеслесарь.
Больше подсказывать не пришлось. Пленный проявил смекалку: сперва нарезал из листа узкие полоски, затем начертил при помощи лекала контуры жетонов, разрезал полоски на прямоугольники. Отхватить ножницами уголки было делом несложным.
Стопка заготовок росла. Капли пота струились но лицу юноши, судя по всему, впервые осваивающему самые несложные приемы обработки металла. Казалось, он полностью отдался работе и не обращает внимания на кладовщицу.
Любу даже обидело это безразличие. И вдруг ее слух уловил тихое:
— Вы похожи на мою сестру...
Пленный сказал это, не подымая головы и не глядя на кладовщицу.
Люба обтирала тряпкой дрель, готовясь положить ее на полку, и сделала вид, что она ничего не слыхала.
— Очень похожи... — так же тихо, точно разговаривая сам с собой, продолжал юноша. — Нет, не буквальное сходство. Есть что-то общее в облике.
Люба и бровью не повела: не слышит она — и все.
— По внешнему виду нельзя судить о человеке. Можно ошибиться и жестоко. Но все-таки характер, духовный мир находит какое-то отражение во внешних чертах. И вдруг обнаруживается, что два человека, казалось бы, совершенно разных, чем-то неуловимым похожи друг на друга. Мы говорим — родство душ...
Ну и ладно. Пусть себе бормочет, если ему нравится. Учитель, может быть, или студент. А говорит складно, будто книгу читает.
— Я вам благодарен дважды. За помощь и за это сходство.
Видимо, удивленный упорным нежеланием кладовщицы дать понять, что она слышит его голос, пленный слегка повернул голову и взглянул на девушку — уж не глухонемая ли? Не заметила Люба этого взгляда. Была она в тот миг далеко-далеко. Голос юноши, его слова совершили волшебство: увели Любу из грязной кладовой на зеленый луг, на широкую, пахнущую хвоей лесную просеку, к берегу тихой, запутавшейся в лозняке и камышовых зарослях реки. Шла она с братом, беседовала, нагибалась, рвала цветы. И был их молодой, сильный, счастливый Валерка чем-то похож на пленного, изготовлявшего алюминиевые жетоны. Но не было в мире ни жетонов, ни пленных, ни войны — сиял солнечный день, шли двое — юноша и девушка, беседовали, показывали друг другу сорванные цветы, и Люба была счастлива.
Мелькнуло, погасло. Перед ней снова куча сваленных на пол инструментов, верстак и этот исхудавший от недоедания, одетый в жалкое тряпье юноша-пленный, старающийся изо всех сил освоить нехитрые секреты слесарного мастерства. Ну и пусть старается... Видать, это ему очень-очень нужно.
И вдруг Любу охватило предчувствие надвигающейся опасности, непоправимой беды, предчувствие, которое она все время пыталась в себе подавить. Да, с тех пор, как гауптман объяснил ей обязанности кладовщицы, она старалась обмануть себя, прикинуться эдакой несмышлёной девчонкой, не понимающей, что происходит рядом. Ведь здесь, на площадке, будут ремонтировать, восстанавливать танки. Руками советских военнопленных. И этот симпатичный, умный юноша будет из кожи лезть, чтобы угодить мастеру — «слово немецкого мастера есть закон!». Отремонтированные танки снова станут смертоносным оружием. Следовательно, и она, кладовщица, будет причастна к делу, которое сродни измене, предательству. Конечно, у нее особенные обстоятельства, безвыходное положение... Но ведь всегда можно найти уважительные причины, чтобы оправдать собственную трусость. А этот пленный? Он молод, хочет жить, цепляется за жизнь. Наверное, их, работающих на ремонте, будут подкармливать. Он видит в этом спасение. Спасение в предательстве... Слишком суровое, слишком жестокое определение? Нет, именно так это и называется — предательство товарищей по оружию. Он умен, образован, но, видимо, слаб духом, не выдержал испытания голодом. А она смогла бы выдержать? Ужасно...
— Возможно, вы фольксдойче? Нет, не похоже... Впрочем, и среди немцев есть хорошие, добрые люди. Должны быть...
«Какое тебе дело, кто я? Помогла немножко, и все. На большее не рассчитывай. А добрые немцы... Разве есть такие? Фрау Боннеберг тоже зверем не назовешь...»
— Возможно... Мне кажется, у вас какая-то беда. Я не ошибся? Сочувствую.
«Угадал. Видимо, уловил что-то в глазах. Наблюдателен. Неужели станет расспрашивать, попытается залезть в душу?»
— Я понял, вам нельзя со мной разговаривать. Запрещено. Благодарю.
Юноша умолк и до конца своей работы уже не проронил ни слова.
Утром, когда пленные получали из кладовой инструменты, знакомый Любы подал ей свой малый жетон с грубо вычеканенным № 13, попросил ведерко с краской, кисть. Он ушел, а Люба, вешая жетон на доску, увидела на верстаке горевший, как пламя, букетик тронутых увяданием кленовых листьев — четыре маленьких резных листочка с коричневыми, блестящими, словно лакированными черенками, перехваченными грязной, очевидно выдернутой из старой ткани, ниткой. Два были ярко-желтые, третий такой же по тону, но забрызганный пурпурными веснушками, и, наконец, совсем крохотный вишнево-красный, напоминающий по цвету не пламя, а кровь.
Конечно, этот так просто и хорошо подобранный букетик незаметно бросил ей на верстак чудаковатый пленный. Как привет, как свою благодарность, как намек на то, что даже в самые тяжелые моменты жизни красота природы может доставить человеку крупицы радости и счастья. Люба торопливо спрятала букетик на полку и заглянула в список пленных, занятых на ремонте. Там под несчастливым тринадцатым номером числился Ключевский Юрий Н.
Контакты караются смертью
В тот же день ремонтную базу посетил оберштурмфюрер Брюгель.
Верк охотно показывал эсэсовцу свое хозяйство. Гауптман не был лишен честолюбия, и ему не терпелось рассказать о своих первых успехах. Он создавал базу на голом месте, в труднейших условиях, но тем не менее одновременно с установкой оборудования уже начались ремонтные работы на двух танках — на одном сняли заклинившуюся башню, у другого меняют вышедшие из строя катки. Да, Верк при случае не прочь был хвастануть. Особенно он рассчитывал на тот эффект, какой, по его мнению, должны были вызвать у Брюгеля «наглядные пособия».
Однако комендант лагеря заглянул на базу не для того, чтобы своими похвалами доставить удовольствие «инженеришке». К надписям на стенах он отнесся иронически, и появившаяся на его лице глумливая улыбка должна была свидетельствовать, что он не одобряет столь наивных затей. Но надписи были не существенной мелочью. Придраться, показать свою власть следовало по более солидному поводу. И такой повод нашелся, им оказалась колючая проволока, протянутая в три ряда поверх стен.
— Немедленно все переделать, — тоном приказа заявил Брюгель. — Всю территорию обнести с внутренней стороны у стен столбами с колючей проволокой густого и сложного переплетения. В двух метрах от столбов нанести по земле широкую белую черту. Объявить, что по пленному ремонтному рабочему, если он окажется за этой чертой, часовые будут открывать огонь без предупреждения. Вышку для часовых поставить на крыше конторы.
Верк не стал спорить, хотя все эти предосторожности казались ему чрезмерными, а следовательно, и не нужными. Ведь, кроме часовых, имелись еще и мастера, которые должны были следить за прикрепленными к ним рабочими. Но все, что касалось конвоирования и наблюдения за пленными, полностью было в компетенции коменданта лагеря, и Верку оставалось лишь молча, терпеливо кивать головой.
Однако такая послушность «инженеришки» только подзадоривала Брюгеля. Он вошел во вкус и продолжал перечислять свои требования.
— Мастеров следует уведомить под расписку, что они должны каждый час, нет, каждые полчаса выстраивать своих рабочих и по всей форме производить перекличку. После этого они докладывают дежурному, что все рабочие налицо.
Верк начал испытывать раздражение. То, что в приказном порядке излагал ему эсэсовец, было явной бессмысленностью. Кому нужны столь частые переклички и, тем более, доклады дежурным, да и сами дежурные, если рабочие все время перед глазами мастера, а часовые на вышках следят за передвижением каждого на базе.
— Оберштурмфюрер, — не без издевки вставил Верк, — вы, возможно, забыли, что эти люди нужны мне не для строевых упражнений, а для довольно сложной, кропотливой работы?
Брюгель бросил уничтожающий взгляд на начальника рембазы.
— До тех пор, пока за пленных отвечаю я, вам, гауптман, придется считаться с моими указаниями, даже если они покажутся вам нелепыми. Переклички, доклады каждые полчаса — обязательно!
Тут внимание эсэсовца привлек пленный, шагавший к кладовой с заляпанным черной краской ведром.
— Вот они! — с явно наигранным возмущением воскликнул Брюгель. — Разгуливают у вас совершенно свободно, без надзора. Праздношатающиеся!
— Этот пленный выполняет мой приказ, — спокойно возразил Верк. — Он пишет на стене второй урок. Для пользы дела необходимо, чтобы они выучили хотя бы сотню немецких слов. Всего три урока.
— Уроки... — сварливо пробормотал оберштурмфюрер, провожая пленного недобрым взглядом. — Поможет, как мертвому горчичники. Им нужен более впечатляющий урок. И он будет. Сегодня же...
Ключевский шел в кладовую, у него кончилась краска, а нужно было написать еще почти половину слов второго урока. Юрий заметил, что комендант обратил на него внимание, и, хотя не расслышал ни одного слова, понял, что эсэсовец говорил о нем. Само по себе это не сулило Юрию ничего хорошего, однако он все же не обеспокоился — рядом с Брюгелем стоял технический гауптман, которому работа Юрия понравилась.
Оказалось, девушка-кладовщица ждала его прихода. Глянув в окно, она торопливо произнесла:
— На верстаке в бумажке бутерброд. Съешьте. Сейчас же! И никому ни слова.
Юрий оцепенел — девушка отдавала ему свой завтрак, а может быть, не только завтрак, но и обед, ужин, все, что предназначалось ей на весь день. Как бы защищаясь, он поднял руку с кистью. Это был непроизвольный жест, невольно выразивший охватившие его противоречивые чувства.
— Не надо...
— Берите ешьте! — От тревоги и нетерпения девушка притопнула ногой. — Сразу, здесь...
Она беспокойно взглянула в окно. Знала, чем рискует, и волнение ее нарастало.
А чудаковатый пленный с жетоном № 13 на груди медлил, кусал губы.
— Ешьте, — почти умоляюще крикнула Люба. — Скорее!
— Нет, нет... — затряс головой юноша. — Я один не могу. Товарищи...
Он не может есть один, он должен поделиться с товарищами. Люба была в отчаянии. Все складывалось гораздо сложнее и опаснее, нежели она предполагала, когда решила отдать свой завтрак пленному. По ее предположению, он должен был тут же, в кладовой, проглотить маленький бутерброд, облизать губы и этим уничтожить все следы. Но он оказался не из тех, кто думает только о себе. Как благородно с его стороны — бутербродик с крохотными ломтиками сала делится на три-четыре равных части. Очень трогательно! Но и степень риска, на который отважилась она, сразу увеличивается пропорционально числу его друзей.
Юрий овладел собой. Голод, начавший терзать его при виде хлеба, отступил, как зверь, отогнанный огнем от его жертвы.
— Не надо. — мягко сказал Юрий. — Лучше скажите, где линия фронта. Знаете?
— Наши вышли к Днепру, — встрепенулась Люба. И, почувствовав прилив смелости, снова показала на бутерброд.
— Берите! Ну берите же...
Юрий решился, сделал шаг к верстаку.
— Только газету оставьте. И, пожалуйста, осторожно. Если узнают, мне... — В голосе девушки звучали слезы.
Юрий посмотрел на нее и как-то особенно, одними глазами грустно улыбнулся.
— Не узнают. Помните: вы мне ничего не давали, и я ничего не брал. Спасибо!
Пленный быстро и осторожно завернул бутерброд в тряпицу и сунул в карман:
Через несколько секунд Ключевский покинул кладовую. Люба увидела в окно, как идет он, поддерживая руку с ведром на весу, стараясь не расплескать краску. Кто же он такой, этот тринадцатый номер? Неумелый удар молотком по зубилу и на диво быстрая сообразительность, слова о внутренней схожести, родстве душ и радующий, тревожащий душу букет из пламенеющих резных листьев, верность товарищам даже в малом и звучащая, как клятва, короткая оборванная фраза: «Не узнают...» — не вязалось все это с тем главным, что определяло поведение человека: как-никак оказался он среди тех, кто будет ремонтировать оружие врага. Что же побудило его?
У Любы не было времени размышлять. Работы накопилось много, требовалось рассортировать и разложить по стеллажам привезенные мастерами инструменты, переписать в двух экземплярах инвентарный список, прибрать хорошенько кладовую. К тому же как только девушка разложила бумаги на верстаке, в кладовую вошел Верк в сопровождении какого-то незнакомого офицера-эсэсовца, державшегося очень надменно.
— Утаивание инструмента, вынос его с территории базы исключены, — видимо, продолжал свои объяснения гауптман. — Каждый ремонтный рабочий из числа пленных получил два жетона — большой и маленький, имеющие один и тот же номер. Большой прикрепляется с левой стороны на груди и служит личным опознавательным знаком, маленький жетон пленный оставляет кладовщице в залог, когда берет необходимый инструмент.
— Очень ненадежно! — неодобрительно скривил губы эсэсовец. — Они же слесари. Сделают тайком еще несколько жетонов с любыми номерами.
Верк снисходительно улыбнулся.
— Конечно, могут сделать. Сколько угодно! Но это им ничего не даст. Во-первых, кладовщице известны не только номера, но и фамилии рабочих. В случае какого-либо подозрения она может проверить. Во-вторых, если на доске будет висеть хотя бы один жетон, — партию пленных не выпустят с территории базы.
Брюгель слушал Верка, а сам не спускал глаз с кладовщицы.
Вдруг он насторожился, быстро шагнул к стеллажам, взял с полки букетик. Он рассматривал листочки так, точно они были начинены взрывчаткой.
— Ну, это как всегда у девушек, — счел нужным усмехнуться Верк, — Цветочки-листочки, букетики, бабочки, фотографии кинозвезд...
Эсэсовец неопределенно хмыкнул, положил букетик на прежнее место, окинул взглядом кладовую.
— Гауптман, я хотел бы посмотреть ваш кабинет.
Оказалось, что это было только предлогом. Брюгель не захотел вести разговор в присутствии кладовщицы.
Как только Верк, пропустив гостя вперед, закрыл за собой дверь своей обставленной по-деловому комнаты, оберштурмфюрер спросил:
— Девчонка знает немецкий?
— Говорит плохо, понимает почти все.
— Так и предполагал. Где вы ее выкопали? Зачем она вам?
— Взял с биржи труда. У нее есть рекомендация. А что случилось? Чем она вам не понравилась?
В глазах Верка появилась откровенная насмешливость. Он, видимо, не собирался скрывать, что понимает смысл придирок эсэсовца и эти придирки только забавляют его.
— Только тем, что она женщина. Тем более молодая, мечтающая о романтике и, конечно, любви. Неужели нельзя было найти мужчину?
— Вы рекомендуете поставить на ее место кого-либо из пленных?
— Ни в коем случае! Но у вас есть немцы.
— Отрывать мастера на выдачу инструментов? — Верк посмотрел на эсэсовца с таким изумлением, точно в этот момент убедился в его непроходимой глупости. — Ну, знаете, оберштурмфюрер, я от вас такого совета не ожидал. Даже учитывая то обстоятельство, что по роду службы вы мало сталкиваетесь с техникой...
Но я в достаточной мере... — начал было Брюгель.
Верк не стал его слушать. Он подчеркнуто иронически развел руками.
— В достаточной мере? Тогда дело обстоит очень просто, давайте поменяемся местами. Да, да. Вы будете ремонтировать танки, а я буду наблюдать, проверять, производятся ли каждые полчаса переклички, буду требовать замены тех ваших сотрудников, которых заподозрю в склонности к романтике, эмоциям... Подскажите, к чему там еще? Я ведь тоже не театральный рецензент и плохо разбираюсь в таких вещах...
Вот так, дорогой оберштурмфюрер, получайте своего «театрального рецензента» и успокойтесь. Напрасно вы считаете, что имеете право совать нос в чужие дела, выступать с непрошеными советами, поучениями.
Лицо эсэсовца начало багроветь.
— Вот что, гауптман... — Брюгель готов был разразиться ядовитой тирадой по поводу ловкачей, старающихся, чтобы кто-то другой таскал для них каштаны из огня, и оказывающихся в стороне, когда дело касается ответственности. Однако первая же его фраза осталась незаконченной. Верк неожиданно получил подкрепление в виде появившегося на пороге лейтенанта танковых войск, судя по повязке на голове совсем недавно побывавшего на фронте.
— Гауптман, разрешите. Вы обещали осмотреть башню. Мастер Хопф считает нужным обязательно проконсультироваться с вами.
— Сейчас приду, через несколько минут, — торопливо сказал Верк и недовольно покосился на эсэсовца. — Как только закончу наш несколько затянувшийся разговор с оберштурмфюрером...
Танкист ушел. Брюгель успел остыть и понял, что намерение приручить «инженеришку» снова следует отложить до другого, более подходящего случая. Сейчас самым разумным было бы, как теперь все чаще и чаще писалось в газетах, «выравнивая линию фронта, отойти на заранее подготовленные позиции».
— Окно в кладовую необходимо заделать, оставив небольшое отверстие для передачи инструмента, — сказал оберштурмфюрер спокойным деловым тоном, будто неприятного разговора не было.
Верк подумал и сдержанно кивнул головой — это можно сделать.
— В кладовую пленные могут заходить только в исключительных случаях и только в сопровождении конвоира или мастера.
Верк снова ответил молчаливым знаком согласия.
— И я бы хотел, — продолжал Брюгель, — чтобы вы, гауптман, в моем присутствии строжайше предупредили кладовщицу о недопустимости каких-либо контактов с пленными.
— Я уже это сделал, — отрезал Верк. — В первый же день, как только она приступила к работе. Повторять не считаю нужным. Я отдаю приказ один раз.
— Хорошо. Тогда я сам должен сказать ей несколько слов. Надеюсь, вы не будете возражать?
— Пожалуйста! — пожал плечами Верк. — Вы, очевидно, придерживаетесь русской пословицы — маслом каши...
— Я придерживаюсь специальной инструкции, с которой при случае могу вас познакомить. Пригласите переводчика.
— Она поймет вас.
— Нет, я хотел бы через переводчика... Чтобы все, каждое мое слово было ей ясно.
«Кажется, ему нужен свидетель, — подумал Верк. — Продолжает пугать меня, важничает».
— Если вы придаете всему этому такое важное значение, проще будет взять у нее письменное обязательство.
— Именно так я и хочу поступить.
— Надеюсь, на этой процедуре мы покончим, и я смогу заниматься своим делом? — В голосе гауптмана слышалась нескрываемая досада.
— Нет, я должен провести еще одну акцию, и вам следовало бы присутствовать, — скривил губы в насмешливой улыбке комендант лагеря. — Но если вы не пожелаете, откажетесь... Я не буду особенно настаивать.
— Что за акция, можно узнать?
— Акция чисто профилактическая, — загадочно произнес Брюгель. — Один из тех оригинальных приемов по борьбе с саботажем, о которых вы отозвались с похвалой. Не беспокойтесь, акция не займет много времени и не потребует особых приготовлений — столб, перекладина и веревка.
— Казнь? — удивленно поднял брови Верк. — Вы будете вешать кого-нибудь из пленных?
— Не кого-нибудь, а саботажника.
— Есть доказательства?
— Мне они не нужны.
— Вы уверены, что уже имеются акты саботажа? — с тревогой и сомнением спросил начальник рембазы. — Ведь они только приступают к работе и даже при желании не смогли бы что-либо сделать.
— А вы считаете, что было бы лучше, если б они успели сжечь новый мотор или устроить какую-нибудь другую пакость? Я сказал — акция профилактическая. Мы объявим саботажником любого из них и повесим его посередине двора, как пугало на огороде. Вонь, которую будет распространять труп, явится для других хорошим лекарством против саботажа. Своеобразная психотерапия. Учтите, гауптман, я предпринимаю эту акцию сугубо в ваших интересах. Улавливаете?
Верк не был в восторге от решения коменданта лагеря. Все же он должен был признать, что в рассуждениях оберштурмфюрера имеется логика — ужасная, лишенная каких-либо признаков человечности, логика палача, садиста. Более того, Верк понял, что он, начальник рембазы, должен будет подчиниться этой логике, так как предлагаемая эсэсовцем акция действительно отвечает его интересам. А вдруг кто-либо из пленных отважится на акт саботажа и ему удастся вывести из строя уже отремонтированную машину... Как будет выглядеть тогда начальник ремонтной базы? Тем более комендант лагеря предупреждал, советовал, предлагал... Нет, тут следует полностью положиться на богатый опыт оберштурмфюрера.
— Конечно, если вы будете заняты или по какой-либо другой причине не пожелаете... — продолжал со своей ухмылкой Брюгель. Он с удовольствием наблюдал за растерявшимся гауптманом. — В таком случае я не буду настаивать на вашем присутствии. Все-таки сцена не из особо приятных и требует крепких, здоровых нервов...
Какое все-таки дерьмо этот оберштурмфюрер, господи! Выламывается, хамит, фиглярничает. Черт с ним, пусть упивается своей властью над пленными, пусть вешает. Конечно, погибнет ни в чем неповинный человек, однако такая казнь должна пойти на пользу делу, а это главное.
— Нет, дорогой оберштурмфюрер, я обязательно, обязательно буду присутствовать, — сказал Верк, сверкнув белозубой улыбкой. — С большим удовольствием! Считаю своим долгом... Ну, а объяснение начальству, если это потребуется, будете давать вы. Согласно имеющейся у вас особой инструкции.
И начальник ремонтной базы открыл дверь, приглашая эсэсовца покинуть вместе с ним кабинет.
В кладовую Брюгель явился в сопровождении переводчика. Любу заставили подписать обязательство, гласящее, что она не должна вступать в посторонние разговоры с пленными, передавать им что-либо, кроме указанных мастером инструментов, и не брать у них писем, записок или других предметов для передачи третьим лицам, а также немедленно сообщать своему начальнику в случае, если кто-нибудь из пленных попытается установить с ней контакт.
Переводчик старательно, слово в слово, перевел то, что сказал в заключение комендант.
— Помните, такие контакты караются смертью. Вас казнят, повесят тут же, на базе, немедленно, как только мы установим вашу вину. Нам все будет известно, и гораздо раньше, нежели вы предполагаете. Все ясно?
Брюгель знал, что делал. Он верил во всепобеждающую парализующую силу страха. И он увидел, что достиг цели — молодая кладовщица перепугалась до смерти.
Но настоящий страх Люба испытала немного позже, когда увидела в окно, как четверо пленных устанавливают посередине двора высокий столб с перекладиной. Свисающая веревка с петлей на конце не оставляла сомнения в назначении сооружения — это была виселица.
Остальные пленные стояли у стены и под надзором переводчика твердили «урок». Но вот они закончили зубрежку, к ним подошли конвоиры и повели к столбу. Там всех пленных выстроили в одну шеренгу.
Виселица, эсэсовец, переводчик, конвоиры и шеренга пленных.
Вдруг, очевидно по приказу эсэсовца, из шеренги вышел пленный с жетоном № 13. Люба сразу же узнала его — черное ведерко в руке. Она ужаснулась: сейчас на ее глазах состоится казнь, и будут вешать именно его, этого юношу. За что? В чем он провинился? Может быть, нашли тот злосчастный бутерброд, которым он намеревался поделиться с товарищами? Нашли, но он не сказал, кто дал ему хлеб... «Не узнают...» — сказал он тогда и грустно улыбнулся. Он был уверен, что никакая сила не заставит его сказать немцам правду. Окаменев от страха, Люба смотрела в окно.
Юрий Ключевский стоял около столба, лицом к товарищам. Он видел, как испуганно и вопрошающе смотрят на него Шевелев и Годун, и отвечал им едва заметным пожиманием плеч. Он понял, что сейчас по приказу коменданта его должны повесить, но не мог догадаться, и чем именно состоит его вина, вызвавшая такой гнев коменданта лагеря. Это лишало Юрия последней надежды найти какой-то спасительный выход.
Однако и сам Брюгель не смог бы объяснить, почему на этот раз он избрал своей жертвой измазанного краской молодого пленного с грустными мечтательными глазами. Правда, задайся он выяснением этого вопроса, вспомнил бы праздношатающегося, за которого вступился Верк, и то раздражение, какое вызвали у него надписи на стене. Он не мог подавить свою подсознательную неприязнь к людям, в глазах которых угадывался высокий интеллект, богатство духовного мира. Но Брюгель не был склонен к самоанализу и считал, что он вовсе и не выбирал, а всего лишь поманил пальцем к себе первого из пленных, на ком остановился его взгляд.
«Вот и конец, — думал Юрий, слыша, как учащенно и сильно бьется его сердце. — Какая-то роковая случайность, дикое недоразумение. Неужели Иван Степанович и Петр не сумеют без меня осуществить план побега? Заклинаю перед смертью, друзья, найдите в себе силы, совершите этот подвиг! Заклинаю, умоляю!» Глаза его, устремленные на Шевелева и Годуна, затуманились влагой. Неожиданно он вспомнил, что бутерброд девушки-кладовщицы все еще у него в кармане. Пропадет... Как глупо!
Брюгель оглянулся, поискал кого-то глазами и удовлетворенно кивнул головой — к виселице поспешно шагал начальник рембазы. Итак, все в сборе, можно начинать. Переводчик откашлялся, приготовившись орать во всю глотку.
Оберштурмфюрер заложил руки за спину, сделал шаг вперед.
Верк подчеркнуто невозмутимо оглядел застывшую шеренгу и даже изобразил на своей физиономии что-то похожее на улыбку. Он знал, что предстоящая казнь вызовет у него неприятное, тягостное чувство — тут уж ничего не поделаешь, такой характер, — но больше всего боялся, что Брюгель догадается об этом, и старался показать, будто присутствие при казни доставляет ему некоторое удовольствие.
Тут взгляд Верка остановился на пленном № 13, стоявшем по-прежнему у столба с пустым черным ведром, из которого косо торчала деревянная ручка кисти. Верк понял, кого собирается повесить Брюгель, и понял также, что если он, Верк, сию же минуту не вмешается, то эсэсовец совершит глупость, которая сведет на нет весь эффект от его, не так уж плохо придуманной, профилактической акции. И к тому же, если сразу не поставить эсэсовца на место, он будет продолжать под разными предлогами вмешиваться в дела ремонтной базы, нарушать производственный ритм, портить нервы. Брюгелю это, видимо, очень нравится. Нет, этого допустить нельзя.
Комендант начал говорить, делая частые и продолжительные паузы, чтобы переводчик успевал за ним.
— Мы пошли навстречу вашим желаниям...
...Мы улучшили ваш рацион...
...но среди вас нашелся...
Верк решительно дернул эсэсовца за рукав.
— Один момент, оберштурмфюрер. Отойдемте, мне нужно сказать вам несколько слов.
— Потом, потом, — зашипел комендант лагеря. — Не мешайте.
— Нам нужно поговорить сейчас же, — настаивал Верк. — Немедленно. Иначе будет поздно.
Они отошли на несколько шагов в сторону, Брюгель бросал па Верка взгляды, полные ненависти.
— Что за манера путаться под ногами. Не умеете сами...
— Оберштурмфюрер, выслушайте меня, — сдерживая ярость, как можно спокойнее произнес начальник рембазы. — Этого пленного вешать нельзя.
— Почему?
— Смысл акции, как я понимаю, заключается в том, чтобы ремонтные рабочие поверили, будто их товарищ действительно пытался заняться саботажем и тут же был разоблачен нами. Не так ли?
— Так, так. Ведь всё уже решено, обо всем мы договорились. Сейчас не время для бесплодных теоретических рассуждений. — Брюгель сделал шаг к виселице.
— Один момент, — удержал его Верк. — Это очень важно, оберштурмфюрер. Мы собираемся внушить пленным, что любая попытка саботажа с их стороны будет немедленно раскрыта и повлечет самые суровые наказания.
— Наконец-то вы поняли мой замысел...
— Но ведь в ваши расчеты не входит, чтобы ваш замысел был раскрыт пленными?
— Они будут убеждены, что...
— Нет, они догадаются, что мы казнили человека, даже не помышлявшего о саботаже, казнили первого попавшегося нам на глаза только для того, чтобы запугать их.
— Глупости! Вы переоцениваете умственные способности этих ублюдков.
— Но тут не нужно особых способностей. Пленный, которого вы выбрали для казни как саботажника, единственный из них, который еще не принимал участия в ремонте. Он даже близко не подходил к танкам. Они все это знают, так как вчера и сегодня пленный № 13 по моему приказу делал надписи и заготовлял жетоны.
— Я не знал, что у вас уже появились любимчики...
Верк смерил эсэсовца презрительным взглядом, давая понять, что он не собирается отвечать на такие дурацкие шпильки.
— Вы можете повесить любого из них или всех вместе, это ваше дело. Но, оберштурмфюрер, я должен еще раз подчеркнуть, что, повесив этого, именно этого пленного, вы убедите их, что действовали вслепую и что в будущем вы не в состоянии будете определить, кто виновен в саботаже, если такой обнаружится. Вместо идеи вины и торжества справедливого наказания, возмездия вы внушите им идею возможности действовать безнаказанно, сваливать свою вину на других. Вместо страха вы будете вызывать у них насмешку. Вы поняли меня, оберштурмфюрер? Если не поняли, я изложу свою мысль более четко и пространно в рапортах о случившемся, которые будут отправлены моему и вашему начальнику.
Брюгель слушал, стиснув зубы. Снова «инженеришка» взял над ним верх. Отстаивать свое ошибочное решение было опасно. Но отменить казнь означало полностью признать себя побежденным, потерять лицо. В такое глупое положение оберштурмфюрер давно не попадал. И вдруг Брюгеля осенило — ведь он еще не успел объявить пленного с жетоном № 13 саботажником. Комендант мог вызвать пленного из шеренги по другому поводу, допустим, только для того, чтобы тот написал (он ведь художник) на доске, которая будет красоваться на груди у повешенного, одно словечко — «Саботажник». Выход был найден.
— Благодарю, гауптман. Ваше замечание справедливо. Рад, что вы с таким пониманием относитесь к моим задачам и обязанностям.
Комендант лагеря с кислой миной, но учтиво козырнул Верку и направился к виселице.
Ключевский стоял перед строем. Мысленно он уже испытал все, что испытывает человек, которого казнят на виселице: страх, сменяющийся оцепенением, отвращение, когда веревка впервые коснулась шеи, бег беспорядочных мыслей, мелькание образов, ужас от внезапной боли, муки удушья и избавление от всего этого — потеря сознания, спасительный переход в небытие. Близкая смерть уже была чем-то окончательно решенным, неизбежным и не страшила его; страшило то, что, возможно, его великолепный замысел побега, который стал главной целью его жизни и уже существовал как бы самостоятельно, отдельно, независимо от него, не будет кем-либо осуществлен, умрет вместе с ним. Две смерти... Как это тяжело, несправедливо. И еще мучила мысль, что не сумел передать друзьям бутерброд.
Он услышал шаги позади себя, оглянулся, его охватило желание огреть ведерком по голове ненавистного эсэсовца. Но при одном взгляде на лица оберштурмфюрера и технического гауптмана он сразу же сообразил: что-то изменилось в первоначальном решении немцев и изменилось в его пользу — он будет жить. Да, он будет жить!
Все же Юрию пришлось вынести еще несколько минут смертельного томления. Он продолжал стоять у столба, лицом к товарищам, когда оберштурмфюрер снова обратился к пленным. На этот раз речь эсэсовца была короткой. Не глядя на Ключевского, словно забыв о существовании этого пленного с черным ведерком в руке, Брюгель бросал короткие фразы, Цапля переводил. Из слов коменданта можно было понять, будто бы начальник ремонтной базы гауптман Верк установил, что один из пленных пытался вывести из строя оборудование. Сейчас этот пленный будет казнен. Так поступят с каждым саботажником.
Пленные в шеренге все еще были уверены, что речь идет о Чарли. Да и сам Ключевский холодел от мысли, что он неправильно прочел выражения на лицах оберштурмфюрера и гауптмана. Тут Брюгель повернулся к переводчику.
— Где этот маляр? Пусть напишет на куске фанеры слово «Саботажник». — И эсэсовец ткнул пальцем в строй. — Пленному с жетоном № 29 выйти из строя.
Нет, Юрий не ошибся, смерть и на этот раз минула его.
Повесили Сазонова, по лагерному прозвищу Таракан, стоящего в строю рядом с Петром Годуном. Повел бы оберштурмфюрер пальцем чуть вправо, и на виселице оказался бы Петр. Таракану нацепили на грудь дощечку, он пучил глаза, сопел, очевидно, от страха потерял способность соображать что-либо. Лишь когда петля начала затягиваться на шее, из груди Таракана вырвался короткий хриплый крик. И он закачался у перекладины.
Потом привезли кухню с баландой, и они пообедали, потом целый час отдыхали, лежали на земле, потом Юрий сдал свое ведерко и был определен в группу мастера, низенького толстяка Теодора Фуклара, и они устанавливали на рельсах, проложенных вдоль забетонированной ямы, катки небольшого лебедочного крана, потом сдали инструменты и получили свои малые жетоны, потом команду ремонтников погнали в лагерь, и они прошли мимо росших на Гуртовой кленов, с которых ветер сносил пожелтевшие листья — три конвоира и сорок два пленных, оборванных, грязных, с алюминиевыми жетонами на груди. Утром из лагеря вышло сорок три, теперь одного недоставало. Никто из пленных не мог сказать о нем доброго слова — мужик был сволочной, жмот, готовый продать товарища за пайку. Он остался висеть там, на столбе, с дощечкой на груди, но Юрий Ключевский знал, что Таракан ни в чем не повинен и первоначально место под перекладиной предназначалось ему, пленному № 13, по лагерной кличке Чарли.
Юрию было трудно поверить, что смертельная опасность миновала. Вторую половину дня он провел как во сне и как во сне слушал, но не понимал, что говорят товарищи. Видел милое лицо девушки-кладовщицы, отдававшей ему малый жетон и смотревшей на него так удивленно и жалостливо, словно он вышел из могилы, помнил, как наступил ногой на кленовый листок, упавший на дороге, ярко-желтый, с вишневыми крапинками, и изнемогал от тяжести того, что он испытал, пережил, стоя под виселицей.
Только после вечерней поверки Юрий пришел в себя. Ощущение реальности вернулось к нему. Он вспомнил о бутерброде. Петр принял свою часть молча, а Иван Степанович не смог скрыть удивления, спросил оторопело:
— Где взял?
Юрий печально посмотрел на него, сказал со слабой улыбкой:
— Где, где... Если скажу, что сам оберштурмфюрер вас угощает, вы ведь не поверите?..
Утром, подавая кладовщице в окно свой жетон № 13, пленный положил на подоконник листок клена. Один, маленький, красный, как кровь.
Губы у девушки дрогнули, она быстро убрала листок.
Заговор непобедимых
Гауптман Верк сидел за столом в кабинете. Рабочий день кончился. Пленных увели в лагерь, мастера и члены экипажа «тигра» поднялись на второй этаж в комнаты, отведенные им под общежитие. Немцев-часовых сменили полицаи, охраняющие рембазу в ночное время. Верк уже составил суточную рапортичку, определил, чем будет заниматься завтра каждая бригада восьми мастеров, но домой не спешил. Он знал, что его там ждут пьяные слезы, упреки.
Сегодня утром Оскар Верк поссорился со своей любовницей. Эта ничтожная русская девчонка начинает капризничать, дерзит. Если бы ее капризы касались тряпок, ценных подарков, он бы не удивился и не обиделся — женщина, молоденькая очаровательная женщина... Нет, она вздумала доказывать свое превосходство над немецкими офицерами. Ни больше, ни меньше. Какая инфантильность! Он простил бы ей пьяную дерзость, но в то утро Алка не выпила ни капли.
Верк вспомнил, как началась их ссора, оставившая неприятный осадок в его душе.
Они пили утренний кофе. Алла, в голубеньком халате и такой же косынке на пышных спутанных волосах, медленно отхлебывала из чашки и казалась задумчивой, печальной.
— Моя девочка начинает хандрить? — спросил он тем ласково-игривым тоном, каким всегда разговаривал с Аллой. — Может быть, рюмку ликеру? Прекрасное средство...
Застывшее лицо Аллы ожило, она быстро вскинула глаза на Оскара.
— Мне кажется, ты нарочно спаиваешь меня. В этом есть какая-то цель.
Верк рассмеялся — таким неожиданным и нелепым показалось ему это предположение.
— Как могло такое прийти тебе в голову?
— Я замечаю. Каждый день. Тебе нравится, когда я пьяна и мелю вздор. Ты спаиваешь меня, чтобы избежать разговора о чем-либо серьезном. Боишься?
— Боже мой, — шутливо ужаснулся Верк. — Она не может жить без серьезных разговоров, противопоказанных молодым красивым женщинам! Нет, нет, предпочитаю слушать твой пьяный, забавный лепет.
— Удивительно... — не обращая внимания на его шутливый тон, задумчиво продолжала Алла. — Пустые дни, пустейшие разговоры. Какая-то внутренняя бедность, ограниченность у всех у вас...
Это задело Верка.
— Ты хотела бы, чтобы я беседовал с тобой о политике? О положении на фронте?
— Нет. Это запретные темы. Я понимаю... Но вот ты и твои друзья побывали почти во всех странах Европы, но ничего о них не можете рассказать. Неужели не осталось впечатлений?
— И я тебе рассказывал, и другие...
— Как вы рассказываете... французы — лягушатники, изнеженная, вырождающаяся нация; итальянцы жрут макароны, вояки никудышные. Куда не ступи — памятники старины, дурацкие достопримечательности. Не страна, а лавка древностей, сувениров.
— Ты все же запомнила мои выражения...
— Что тут запоминать?
— Девочка, что ты хочешь? — Верк пытался повернуть разговор в шутливое русло. — Ведь я военный инженер, а не ученый-этнограф. Признаюсь, меня совершенно не интересуют древние развалины, облезшие картинки на стенах и мраморные фигуры с отбитыми руками и носами.
— Но ведь это сделали люди, жившие бог знает когда, много, много веков назад. Неужели...
— Повторяю, я не поклонник древностей.
— И поэзии ты не любишь. Тебя даже раздражает, когда я читаю стихи.
— Рифмованная чепуха. Настоящего мужчину может увлекать только техника.
— Ты говоришь — техника, твой приятель Карл говорит, что настоящее дело для мужчины — война.
— Каждому свое.
Алла вздохнула, печально покачала головой.
— Мне скучно с тобой, Оскар. Честное слово. И товарищи твои скучные, неинтересные люди. Разговоры только о выпивках, любовницах. Бедность, ограниченность.
— Не умничай, Алка. Тебе это не идет, — зло сказал Верк, выходя из терпения.
— Я знала, что ты это скажешь. Я тебе нравлюсь глупой, а глупой я становлюсь, когда пьянею. Тебя это устраивает — вот она, представительница низшей расы, дуреха и алкоголичка.
— Но я ведь не виноват, что ты родилась славянкой. Расу не изменишь, дорогая...
И тут-то его милая девочка выбросила неожиданный, недопустимый фортель. Она поднялась со стула, гордо вскинула голову и гневно заявила:
— Раса, раса... Твердите, как попугаи. Я русская, славянка и горжусь этим. И, если хочешь знать, я ничем не хуже и не глупее всех твоих приятелей, этих надутых офицеров-арийцев. И тебя тоже! Потому, что ты, кроме своих болтов и шестеренок, ничего не признаешь. Вы тупицы, ограниченные люди!
Нужно было немедленно залепить пощечину зарвавшейся дуре, но Верк не сделал этого.
— Опомнись и погляди на себя, — сказал он, задыхаясь от возмущения. — Кто ты такая? Жалкая потаскушка! Если хочешь знать, то ты достойна только того, чтобы лизать сапоги немецкого офицера. Русская дрянь!
На Аллу слова «повелителя» не произвели особого впечатления. Она отпарировала:
— Между прочим, ты клялся в любви этой дряни. Даже обещал жениться.
— А ты и поверила? — злорадно улыбаясь, спросил Верк.
— Нет. Я это говорю к тому лишь, что лживые заверения не подняли тебя, представителя арийской расы, выше жалкой потаскушки.
Верк не выдержал. Он бросил смятую салфетку в лицо своей «девочке» и, кипя от гнева, одел фуражку.
Закрывая двери, услышал позади плач. Оглянулся — Алла упала на постель, лицом в подушки и рыдала.
Пусть поплачет, он нарочно придет сегодня попозже — пусть ждет. Ей это пойдет на пользу. Ведь она и раньше пробовала заводить с ним такие разговоры. На нее временами находит блажь. Ее, видимо, мучит комплекс славянской неполноценности.
И Верк направил свои мысли по иному руслу — положение, создавшееся на рембазе, требовало всестороннего анализа.
Прошло ровно десять дней, как на станцию прибыл состав с вывезенными с поля боя подбитыми, требующими капитального ремонта танками. Два обстоятельства омрачили для Верка это время. Первое — неожиданное ночное нападение на базу на следующий день после того, как был повешен «саботажник».
Конечно, было бы глупо и наивно полагать, что для вражеского глаза останется незаметным то, что немцы организовали ремонтную базу в городе. И все же Верк не допускал мысли, что местные партизаны, или как их там называют, — подпольщики, народные мстители, — уже в первые дни предпримут диверсию. Правда, никакого существенного вреда нанесено не было. Диверсанты бросили через стену несколько бутылок с горючей смесью, и только одна из них попала в бочку с отработанным машинным маслом. К счастью, дело кончилось небольшим пожаром, который удалось сразу же локализовать и потушить. Утром пленные даже не заметили следов ночного происшествия. Но если бы невдалеке стоял какой-либо танк, огонь мог перекинуться на машину.
Верк сразу забил тревогу, потребовал усилить охрану. Теперь, слава богу, все в порядке: дали специальный наряд полиции. В конце концов, если что и случится, то вряд ли кто-нибудь решится свалить вину на него. Нет, он писал, предупреждал. И, кроме того, его задача обеспечить техническую сторону. А уж вы, господа, бегайте кругом, нюхайте воздух.
Конечно, все это выглядело трусливой перестраховкой, но общение с оберштурмфюрером Брюгелем многому научило Верка, и он уже не пытался вступать в спор с комендантом лагеря, не дразнил его, а сразу же старался использовать то рациональное зерно, какое находил в советах и требованиях эсэсовца. Точно так, как требовал Брюгель, территория базы была обнесена столбами с колючей проволокой и белой полосой на земле; на крыше конторы появилось «гнездо», из которого вместо клюва аиста выглядывало дуло пулемета и голова часового; точно, как требовал Брюгель, проводилась перекличка в бригадах, и мастера докладывали дежурному по базе о том, что их люди все налицо. Единственное, с чем не согласился Верк, это тот срок, какой, по мнению Брюгеля, должен висеть «саботажник». Гауптман распорядился снять повешенного на третий день — он не терпел трупного запаха.
Да, сам факт ночного нападения очень неприятен. Но куда большее огорчение и беспокойство вызвало у Верка то обстоятельство, что, несмотря на давно полученные телеграммы об отправке специальных грузов для базы, вагоны с этими грузами не прибыли, и неизвестно, прибудут ли они вообще, — польские и советские партизаны не теряли времени даром, все больше и больше поездов пускали под откос. Десять дней — время немалое, особенно в военных условиях, но еще ни одна машина не вышла с базы, хотя многие из них уже были почти отремонтированы. На одной требовалось установить пушку, на другой — поставить новый мотор, на третьей — сменить некоторые детали. Теперь срок выпуска танков из ремонта зависел не от ремонтников, а от того, когда прибудут вагоны с запасными частями и деталями.
Верк, спокойный, уравновешенный, иронически смотрящий на жизнь Оскар Верк начинал нервничать. И было отчего: все его старания, энергия, организаторский талант могли оказаться израсходованными бесполезно. Правда, можно было снимать что-либо на одних машинах и ставить на другие этого типа, «лепить» из двух-трех неисправных танков один, готовый к бою. Но это была бы дьявольски неэффективная и непроизводительная работа, и такой вариант гауптман откладывал только на крайний случай. Теперь, кажется, откладывать надолго нельзя, слишком большой риск. Еще день-два Верк подождет. Но не больше... Вот тогда-то он и заставит иванов рвать жилы, будут работать от зари до зари. Только бы мастера выдержали.
Размышления Верка прервал стук в дверь.
— Да! — крикнул гауптман, полагая, что это кто-то из немецких мастеров.
Дверь приоткрылась, и показалась голова начальника караула полицая Тышли.
— Заходи, — скомандовал удивленный гауптман.
Тышля вскочил в комнату и торопливо закрыл за собой дверь, точно за ним кто-то гнался. Он явно был взволнован, на красном лице блестели капельки пота.
— В чем дело? Какой есть дело? — спросил Верк, не понимая, зачем он потребовался полицаю.
Тышля говорил по-немецки примерно так, как Верк по-русски.
— Я есть донесение. Очень важный секретный донесение. Рапорт.
— Рапорт? — ухмыльнулся гауптман. — Давай рапорт. Только не очень шнель. Мне надо слушать каждый слово. Давай.
— Заговор... — торопливо, заикаясь от волнения, начал Тышля. — Я раскрыл. Понимаете, группа из трех человек решила захватить танк. По-вашему панцер. Понимаете, захватить! Завести, сесть и уехать. Ту-ту!
Начиналась какая-то чертовщина. Уж не пьян ли этот Тышля? Глаза Верка сузились.
— Грабеж панцер?
— Как хотите, так и считайте. Грабеж, захват, похищение — все едино. Захватили бы и поехали. Ту-ту!
— Куда ту-ту? Ехать, куда ехать?
— Они мечтали податься к партизанам. В лес, к партизанам, к большевикам.
— Сколько их?
— Трое. Три человека.
— А как они будут управлять танком?
— Понимаете, у них есть книжка. Как это?.. Бух. Наставление. Инструкция. Они изучали книжку.
— Ты знаешь этих людей?
— Ну, как же. Не только знаю, я их захватил, арестовал, привел сюда.
— Привел?
— Да. Они в коридоре стоят. Показать главного?
Тышля оглянулся на дверь и продолжал с заговорщицким видом, перейдя на шепот:
— Между прочим, это сынок не кого-нибудь там, а начальника полиции Строкатова.
— Полицая Строкатова? — продолжал изумляться.
— Сын его. Да, да. В том-то и дело, господин гауптман. Папаша распинается перед вами, а сынок вон что надумал. Обратите внимание, может быть, и сам Строкатов того... — Тышля покрутил пальцами возле виска и злорадно ухмыльнулся. — Ненадежный, только на словах новый немецкий порядок поддерживает, а на самом деле...
«Этот Тышля пьян, несет вздор, — подумал Верк, — а может быть, просто шизофреник. Он ненавидит своего начальника и готов на все, чтобы сделать ему пакость. Впрочем... Впрочем, чего не бывает, партизаны проникают и в полицию. Занятно...»
— Давай!
Полицай нырнул в дверь и тотчас же вернулся, толкая перед собой плотного мальчугана лет тринадцати, который сердито озирался вокруг, но не проявлял каких-либо признаков растерянности и страха.
— Вот Тимур Строкатов. Собственной персоной. Это главный у них. Атаман всей шайки. Полюбуйтесь!
— Ну главный, ну и что? — презрительно взглянул на полицая Тимур.
Признаться, Верк был разочарован. Он не ожидал увидеть перед собой мальчика. Возможно, Тышля что-то напутал. Наверняка напутал. Если такой мальчик главный, то и все остальные из его «группы» такого же возрасти.
— Вот он не отказывается. Понял, что крутить нечего. Я ведь у него нашел эту книжицу. — И Тышля передал Верку растрепанную, захватанную маслеными руками книгу. Это было наставление по боевому использованию танка «тигр».
— Ты читал эту книжку? — удивленно спросил Верк.
— Да, господин офицер, читал.
— Зачем?
— Чтобы научиться управлять танком, — не задумываясь, простодушно ответил мальчик.
— Где ты взял книжку?
— Это не я. Это Васька Петренко мне принес, а он, говорит, в танке нашел. Ну, в общем, понимаете, как было. В тот день, когда танки со станции привезли, ну, нам, хлопцам, интересно было посмотреть их. Начали лазить, осматривать. Вот Васька и нашел книжечку. Мы ничего не взяли, только книжечку. Валялась... Грязная, растрепанная, а в ней рисунки. Тогда я подумал, ну, пришла мне в голову такая мысль, что неплохо будет, если я управлять танком научусь. И я начал читать книжечку, изучать.
— Ты знаешь немецкий?
— Ну, мы учили в школе. И сейчас я часто слышу... Словарь достал...
— Ты баки господину офицеру не забивай, — вмешался потерявший терпение Тышля. — Ты скажи, зачем тебе все это нужно было и к чему ты своих корешей подбивал?
— Я же говорил вам — к чему, — повернулся к нему мальчик. — Я вам толковал, ну, а вы свое. Вот папе расскажу все. Он еще с вами поговорит. Привязался...
— Куда хотел на танке ехать? — спросил Верк. — К партизанам?
— Да, к партизанам, — на этот раз конфузливо улыбнулся мальчик, словно стесняясь своей детской затеи.
— У тебя есть связь с партизанами? Ты знаешь, где они?
— Ну, где? В лесу они, конечно. Только вы, может быть, неправильно поняли. Мы не к партизанам ехать хотели, а на партизан. Ну, вроде как облава. Конечно, не всерьез, а игра, ну, баловство, в общем.
— Ты дурником не прикидывайся! — вскрикнул Тышля, обеспокоенный тем, что сынок Строкатова оборачивает все в шутку, переводит на детскую игру. — Разрешите, господин гауптман, других пригласить. Там есть один. Он все скажет.
Верка уже начала забавлять эта сцена, он кивнул головой.
Тышля снова юркнул в коридор и привел еще двоих. Они были чуть пониже Тимура и не такие упитанные, но выглядели для своего возраста молодцами.
— Гришка, а ну скажи господину офицеру, что тебе Тимур говорил, на что настраивал.
— А что? — начал черненький, с бегающими глазами мальчик. — Я скажу, скрывать не буду. Говорил, что, мол, давайте захватим танк и уведем его к партизанам. Я, говорит, научусь им управлять. А вы только будете сидеть, смотреть по сторонам.
— Вот дурак! — с искренним возмущением сказал третий. — Разве тебе так говорили? Хуже нет такими вот связываться. Недаром в школе самым плохим учеником был. Тебе говорили что: игра, война с партизанами. Так ведь никто партизаном не хотел быть. Все хотели быть немецкими танкистами. Одна форма чего стоит! Ну, Тимур и согласился партизаном быть. Чтобы игру не портить. А он вон чего порет.
— Сколько раз вы, мальчишки, заходили в танк, смотрели? — спросил Верк черненького.
— Один раз только. Когда привезли. Потом проволоку натянули, охрана. Не подступить.
— Ночью можно. Вы есть смелый мальчик.
Гришка Вареник даже свистнул.
— Ночью нельзя по городу ходить. Убьют. Меня мать за двери и то не пускает.
В общем, вся эта история не стоила и выеденного яйца, обычная мальчишечья забава. Тем не менее, Верк начал испытывать что-то похожее на страх: вот как все просто могло получиться... Нет, не эти мальчишки были опасны. Но ведь танк могли захватить взрослые. И что тогда? Попробуй останови его. Свободно могли бы угнать куда-нибудь в лес. Тем более, если б за это дело взялись партизаны. Вот тогда-то произошел бы колоссальный скандал. Да, в первую очередь досталось бы тем, кто отвечал за охрану. Но, конечно, попало бы и ему, начальнику рембазы. А пленные? Разве они не могут попытаться осуществить побег на танке? Им-то совсем легко. Среди слесарей-ремонтников есть танкисты и уж во всяком случае шоферы, трактористы, которые смогут управлять боевой машиной. Что стоит небольшой группе сговориться, вскочить в танк, закрыть люки и понестись по шоссе, сметая все по пути. Тогда скандал будет еще громче. Что же делать? Верк посмотрел на «атамана шайки».
— Как твоя фамилия, кто твой отец?
— Строкатов, — с достоинством ответил мальчик. — Мой папа он... он начальник полиции. Вы его должны знать.
— Ага, — кивнул головой Верк. — Ну что ж, я отпускаю вас. Но только больше не играйся такими игрушками. На месте твоего отца я бы хорошенько дал бы вам всем розог. А сейчас идите. Господин Тышля, проводите их и вернитесь ко мне.
Сконфуженный Тышля, сурово прикрикивая на мальчуганов, увел их, а Верк встал со стула и начал прохаживаться по комнате. Как бы ни был смешон этот Тышля, раздумывал он, но все-таки следует быть благодарным ему. Полицай этот при всей своей глупости оказал немалую услугу. Теперь нужно поставить вопрос об охране ремонтной базы шире, включая возможность похищения или побега на отремонтированном танке. Он, Верк, сам поставит этот вопрос, и, конечно, это будет в его пользу.
Явился Тышля. Он стоял у порога и нервно теребил пальцами свою шапку. Конечно же, он сообразил, что немец не одобрил его инициативу, и ожидал разноса.
Но обошлось.
— Вы поступили правильно. Как есть ваша фамилия?
— Тышля. Тимофей Семенович.
— Тимофей Семенович... Я доволен вами. Я буду просить благодарность для вас.
— Спасибо, господин гауптман. А я думал... Может быть, вы еще постращаете их? Я думаю, дело такое. Ну, как не доложить?
Тышля переступал с ноги на ногу. Он радовался, что все закончилось более или менее благополучно, хотя, конечно, вначале ожидал большей благодарности и даже награды.
— Можете быть свободен, Тышля.
Мальчишки шли по улице. Они молчали. Тимур, стиснув зубы, смотрел под ноги. Гришка Вареник поглядывал на товарищей и зябко ежился. Его явно взяли в клещи: слева шагал Тимур, справа — Васька. Ох, как хотелось Гришке юркнуть в какую-нибудь подворотню, чтобы избавиться от опасного соседства. Он знал, что взбучки ему не избежать, и ждал момента, когда можно будет дать деру. Так опростоволоситься! А все Тышля. Напугал старый дурак, наобещал целую гору, а что вышло?
Они уже отошли от ремонтной базы метров на двести. Тут Васька Петренко оглянулся с таким видом, точно там, позади, происходило что-то интересное. Это был тактический прием на отвлечение внимания, и он оправдал себя. Тотчас же оглянулся и Гришка, полюбопытствовал, что там увидел его товарищ. И тут-то его бросило на Тимура — Васька ударил его правой снизу в подбородок. И еще два сильных удара, только искры из глаз.
— А-аа! Уби-в-а-ают!
Еще один удар, под ложечку. И Гришка захлебнулся криком.
Тимур держал Гришку под мышки сзади, как будто боялся, что он упадет на землю, а в это время Васька еще несколько раз сунул ему в челюсть.
— Ну, ладно! Ну, хватит вам, — вроде недовольно прикрикивал Тимур, но Гришку Вареника из рук не выпускал. — А ну перестаньте! Вон люди смотрят. Мало я из-за вас, дураков, напереживался.
Васька опустил руки, лицо его было бледным, он тяжело дышал.
— Вот, гад, знай.
— Скажу-у-у, все скажу, — сквозь всхлипывания загудел Вареник. — Пожалуюсь. Думаете...
— Ну, ладно тебе... — урезонивающе произнес Тимур. — Ты — пошутил, Васька — пошутил. Вот и квиты.
— Ты знаешь, за что тебя били? — отдышался наконец Васька. — Совсем не за то, что донес.
— Это ты хорошо сделал... — поспешил вставить предусмотрительный Тимур.
— Нет, не за то. А за то, что дурак.
— Ну да, — обрадованно ухмыльнулся Тимур. — У нас игра, а он... На тебе! Всерьез подумал, дурачок. А ведь могли на танке покататься. Может быть, нас даже немецкие танкисты к себе в полк взяли бы. Правда, Васька?
— В натуре! А форма какая! Могли выдать... А теперь нас не то что близко, а и на пушечный выстрел к базе не допустят. Все, дурак, испортил.
Говорят, что созревшие идеи носятся в воздухе. Все было почти так, как объяснял Тимур начальнику рембазы — Васька подобрал эту книжонку, валялась она где-то там, рядом с сиденьем водителя. А когда Тимур, раскрыв ее, увидел на рисунке рычаги управления, вспомнил он рычаги трактора ДТ-54, которым еще до войны на весенней пахоте научил его управлять отец. Разве думал он, что все обернется таким ужасным образом и ему придется мучиться и скрывать свою ненависть к тому, кто два года назад был самым дорогим для него человеком. Попала книжка в руки Тимура, и мелькнула мысль: а что, если подобрать несколько отчаянных мальчишек, захватить танк и умчаться на нем в лес, к партизанам. Уж с таким-то подарком партизаны примут не только сына начальника полиции, но, пожалуй, и его самого.
Все шло как будто нормально. Вроде начал Тимур теоретически осваивать этот танк. И хлопцы подобрались что надо, и название их группы было прекрасное — «Отряд непобедимых». Правда, в глубине души он не очень-то верил, что его мечта может осуществиться, так как видел и колючую проволоку на стенах базы, и часовых у ворот, и понимал, что никто им «поиграться» в танке не позволит. Да и куда бы они поехали? Но как интересно было строить планы, мечтать о поездке на танке, уведенном у немцев из-под самого носа. От одной этой мысли дух захватывало и уши огнем пылали. И вот подлец Гришка оказался ничтожным предателем. А Тышля?.. Это ведь он все раскопал. Было бы хорошо, если бы отец скрутил голову Тышле. Придется все рассказать отцу, конечно, не так, как было в самом деле, а как он рассказывал гауптману. Нужно самому первому, ведь все равно узнает. Отец ему поверит, может всыпать, конечно, за баловство, но поверит. Нужно только твердо стоять на своем — игра и все. Слава богу, Васька все сразу понял и поддержал. Молодец! Настоящий друг. А ведь если бы растерялся, могло повернуться и по-йному. Вначале гауптман на него так смотрел, будто проколоть взглядом хотел. Боятся. Даже таких пацанов боятся. Отец тоже дрожит. Нервный стал, последнее время газеты уже и в руки не берет, мало радости читать, что немцы отступают, отступают. Пропадет их несчастная семья. Из-за отца. И он, Тимур, пропадет — сын начальника полиции... Связаться с партизанами? Как с ними свяжешься? Найдешь кого — не поверят, да и могут сказать: что толку от мальчишки? Беда.
С такими мыслями шел Тимур Строкатов домой. Знал он, что ему влетит от отца за всю эту историю, но не очень-то печалился: если бы только это! Мальчик даже не мог заподозрить, что их наивный, разоблаченный Тышлей заговор «непобедимых» повлечет за собой такие последствия, какие приведут в отчаяние участников другого заговора, людей, для которых побег на отремонтированном танке был вопросом жизни и смерти.
Как только Тышля закрыл за собой дверь, начальник рембазы достал из ящика стола новенький большой блокнот и, отвинтив колпачок вечной ручки «пеликан» с золотым пером, приготовился писать докладную. Первая фраза не складывалась. Между тем, от нее зависело многое. Нужно было сразу же взять правильный тон, не допускать преувеличений, а лишь по-деловому подчеркнуть, что и такая опасность, кажущаяся почти фантастической, не исключается, хотя степень вероятности ее невелика.
Тут в дверь снова постучали, на этот раз довольно громко и решительно. Явился командир «тигра» лейтенант Бегнер. На правах боевого фронтовика, которому доверили командовать самым новым и мощным танком, он вел себя с начальником ремонтной базы подчеркнуто независимо и даже чуточку развязно.
— Гауптман, две важных новости, — заявил лейтенант с порога. — Во-первых, нашлись наши вагоны. Во избежание неприятности их направили более безопасным южным путем, через Львов — Тернополь — Казачин. Сейчас они застряли в Жмеринке. — Танкист хорошо выговаривал названия советских городов и, видимо, не прочь был щегольнуть этим. — Прибудут послезавтра или даже завтра вечером — четыре вагона и платформа. Я сам завтра утром отправлюсь в Жмеринку и постараюсь при первой же возможности протолкнуть вагончики.
— Это было бы великолепно, — искренне обрадовавшись, воскликнул Верк. — Я буду благодарен вам, лейтенант.
— Не стоит благодарности, — сухо заявил Бегнер. — Это мой долг. Для меня каждый день пребывания в тылу мучителен. Держать без действий такую чудо-машину, когда товарищи сражаются... Нет, скорее на фронт. В бой, в бой.
«Отважен лейтенант, — подумал Верк, делая вид, что увлечен боевым пылом бравого танкиста, — ничего не скажешь. Его патриотизм и глупость, кажется, неподдельны. Вот такие-то храбрецы могут затянуть проигранную войну надолго, опустошат Германию, уведут с собой в могилу многих других, вовсе не стремящихся составить им компанию».
— Я понимаю вас, лейтенант, отлично понимаю. В душе вы настоящий рыцарь и созданы для боевых подвигов. Германия может гордиться такими сыновьями... Я понимаю. Ну, а вторая новость?
— Не совсем приятная, гауптман. Я только что разговаривал с заместителем начальника гестапо, и он в общих чертах нарисовал мне обстановку. В северных районах значительно усилилась деятельность партизан. Сперва предполагали, что это действуют недавно возникшие разрозненные группы, однако такое мнение не подтвердилось. Месяц назад в Белоруссии наши карательные войска под командованием оберста Виквебера окружили один или два партизанских отряда и, как следовало из рапорта Виквебера, разгромили их наголову. Теперь выясняется, что победные реляции оберста не соответствовали действительности: партизаны избежали разгрома, они просто разбились на мелкие группы, просочились через кольцо окружения и отошли на юг. Сейчас, — вам я это могу сказать, — готовится новая карательная операция. Довольно крупная. Но это вопрос пяти-шести дней, а может быть, и больше. Пока что нужно нам держать уши востро. Бутылки с горючим, брошенные через стену, могут оказаться первой ласточкой. Представляете, внезапный ночной налет на базу: все поломают, подорвут, сожгут за какие-нибудь пятьдесят минут и исчезнут. Ищи ветра в поле.
Верк расстроился — еще один источник страха.
— Лейтенант, вы меня не обрадовали последней новостью. Черт знает что! Чем я должен заниматься — ремонтом или борьбой с партизанами? Для чего тогда существует гестапо, что они думают?
— Я вам уже говорил: против партизан готовится крупная карательная операция. Но эти дни... Что вы скажете, если кто-либо из нашего экипажа ночью будет сидеть в башне танка? Пулеметы исправны, остается только брать с собой на дежурство несколько магазинов с патронами. В случае чего, танк открывает мощный пулеметный огонь.
— Лейтенант, это было бы прекрасно, — обрадовался Верк.
— Так и сделаем. С сегодняшнего дня устанавливаем ночное дежурство в танке. Поверьте, если бы партизаны повредили или совершенно вывели из строя нашу чудо-машину, я бы не вынес такого позора и пустил бы себе пулю в лоб.
Верк невольно взглянул на невысокий, твердый лоб лейтенанта, созданный, надо полагать, с очень большим запасом прочности, но, конечно, вполне пулепробиваемый, и подумал, что, пожалуй, лейтенант не кокетничает и при возникновении указанной им ситуации, чтобы избежать позора, сможет, не раздумывая много, покончить с собой. Впрочем, не следует удивляться — поводы для самоубийства бывают самые нелепые, все зависит от душевного состояния человека в эту минуту. Избави бог от этого.
Начальник ремонтной базы пожелал лейтенанту доброй ночи и принялся писать докладную. Теперь он не боялся, что кто-то будет иронизировать по поводу его перестраховки — партизаны действуют невдалеке от города, значит, нужно полностью оградить себя от возможных неприятностей.
Удары судьбы
В то время, как Верк у себя в кабинете сочинял докладную записку, в лагере три ремонтника сошлись начло умывальника.
Шевелев, Годун и Ключевский попали к разным мастерам, и их общение на рембазе было затруднено: сходиться вместе нельзя, идти долго рядышком нельзя, затевать какие-либо беседы нельзя — всё на виду, всё может броситься в глаза. Они старались вести себя по отношению друг к другу подчеркнуто холодно и равнодушно, чтобы никому и в голову не пришло заподозрить их в сговоре. Работа, одобрение мастера, дополнительная пайка с крохотным кусочком маргарина и зубком чеснока — вот замкнутый круг их интересов и вожделений.
Зато, вернувшись в лагерь, можно было переброситься словцом-другим, обсудить положение.
Можно встретиться в любом месте, даже у нар, но самое лучшее место — умывальник. Сразу видно; люди не боятся, что кто-то увидит их вместе, не таятся, не шушукаются. А мыть руки, тереть их песочком можно долго, бесконечно.
Петр Годун был недоволен тем, что ремонт тормозится из-за отсутствия нужных деталей, ему не терпелось поглядеть, как будут испытывать ходовые качества отремонтированного танка. Это дало бы возможность определить, когда может наступить наиболее удобный момент захвата машины.
— Партачи... — бурчал он. — А еще хвастаются организованностью. Тянут резину, не могли деталями базу обеспечить.
— Потерпи, — спокойно сказал Шевелев. — Нужно ждать, другого выхода нет.
— И уродина эта стоит... На психику действует. — Петр имел в виду «тигр», возле которого вечно сновали надменные члены экипажа в черных кожаных куртках. Они помогали немецким мастерам ремонтировать машину, пленные допускались к ней только как подсобные рабочие.
— Чем она тебе мешает?
— Может помешать. Лишние люди... А если будет на ходу — догонит. А то с дальней дистанции из пушки приварит — будь здоров! Только дым пойдет. Там же пушка!
— Что их держит?
— Вроде мотор нужно новый поставить и пушку сменить. Дней на пять работы.
О том, чтобы захватить «тигр», никто из друзей не помышлял. Сама эта мысль показалась бы каждому из них нелепой — новый мощный танк, сложность управления, экипаж дежурит возле своей машины чуть ли не круглосуточно — не подступишься. Даже буйная фантазия Ключевского становилась бессильной перед этой стальной громадиной. К тому же Юрия все чаще и чаще беспокоило другое. Удобного случая, возможно, придется ждать долго. Из них троих только Годун умел управлять танком. Допустим, произойдет что-либо с Юрием или Иваном Степановичем за это время и кто-нибудь из них вынужден будет выйти из игры, — не беда. Но если вдруг что-либо случится с Петром, тогда их великолепному плану побега не суждено будет осуществиться даже при особо благоприятных условиях. Несколько раз Юрий хотел сказать об этом товарищам, но не решался. Чем больше сомнений, опасений, тем меньше уверенности, а они все время должны быть готовы к решительным действиям. Да и где взять второго запасного водителя? Потребуется он или нет, а в их тайну будет посвящен еще один человек. Четвертый по счету... Это опасно, это всегда опасно. Иван Степанович правильно говорит — нужно терпеливо ждать. А ждать было трудно. Юрий чувствовал какую-то перемену в себе, что-то истончилось в нем до предела, и нелегко было сдерживать начинающийся ни с того ни с сего нервный озноб.
Годун первым ушел в барак. Шевелев поглядывал на молчаливого Юрия. Заметил он перемену в своем юном товарище — притих как-то Юрка, потускнел.
— Юра, что с тобой? Сомневаешься, может быть, или что новое придумал?
— Нет. Верю, план хороший, ничего нового не надо. Только, видно, я никак не отойду после того, как у столба постоял.
— Чего вспоминать? Обошлось ведь.
— Дурацкое ощущение, Иван Степанович. Как будто петлю только что с шеи сняли. Шершавая веревка, кожу натерла...
— Не растравляй себя. Скажи лучше: по-прежнему полагаешь, что комендант вслепую действовал?
— Нелепую, наугад. Это точно. Напугать пожелал. Как говорит Петр: «За что бьют? За старо, за ново, за три года вперед».
— А почему на тебя выбор пал?
— Чистая случайность. Может быть, мои глаза ему не понравились. Бывает Подсознательная антипатия. Теории есть...
— Кто тебе бутерброды дает?
— Зачем вам, Иван Степанович? — поморщился Ключевский. Глотнули свою долю и забыли.
— Не в том дело. Человек ведь знает, чем рискует. Значит, верный человек. Положиться можно. Может, чем другим поможет.
— Не надо ее втягивать. Это кладовщица.
Шепелев недовольно пожевал губами.
— Правильно. Не надо трогать девчонку. Ты и бутербродов не бери.
— Я больше для Петра. Силенок ему не мешает подбавить. Рычаги... Их потягать надо.
— Не дай бог заметят.
Я отказывался. Скажу ей твердо.
Мысль о побеге на отремонтированном танке по-прежнему обжигала, пьянила Юрия. Часа в четыре утра он просыпался и уже не мог заснуть. Бесконечно проигрывал Юрий и своем воображении захват машины — выбрали мгновение, вскочили, закрыли люки, танк рванул, выбил ворота или разрушил одним ударом стену. И они понеслись... Все ошеломляюще просто. Великолепный, вполне реальный, выполнимый план. Только бы поскорей. Только бы наступил этот момент.
Утром, подавая в окошко жетон, Ключевский почувствовал прикосновение руки девушки — она вкладывала в его ладонь завернутый в тряпочку бутерброд.
— Больше не надо. Не возьму. Вы не должны рисковать.
Люба бросила на него печальный внимательный взгляд.
— Я ничего не боюсь. У меня умерла мама...
Кадык на худой грязной шее Юрия качнулся вверх-вниз... Он облизал сухие губы, сострадательно покачал головой. И столько боли внезапно отразилось на его лице.
— У вас температура? — спросила вдруг девушка, очнувшись от своего горя.
— Нет.
— Что-нибудь случилось?
— Давно уже. Попал в плен...
— Успокойтесь. Вас так надолго не хватит.
— Спасибо. Может быть... — Юрий вздохнул, просиял глазами. — Может быть...
Он ничего больше не мог ей сказать. Может быть... Может быть, она узнает, зачем он пошел ремонтировать немецкие танки. И не пожалеет, что отрывала от себя эти маленькие кусочки хлеба с драгоценными ломтиками сала.
Вскоре после начала работ на базу снова приехал комендант лагеря.
Верк принял эсэсовца радушно, но гость на заигрывание не отвечал и напустил на себя меланхолический вид, чтобы скрыть свою неприязнь к «инженеришке» — своей докладной гауптман фактически сваливал ответственность за возможные неприятные происшествия на плечи оберштурмфюрера. Брюгель считал, что захват танка пленными вещь невозможная, и страхи такого рода могли появиться только в душе трусливого человека, каким и следовало предположить начальника ремонтной базы, но коль скоро страхи обрели форму официальной бумаги, оберштурмфюрер не желал рисковать даже в самой малой мере.
— Возможно, мои опасения только плод болезненного воображения и со стороны все выглядит смешным, но я буду очень рад узнать ваше мнение, оберштурмфюрер, которое научился ценить очень высоко.
«Но ведь не посоветовался со мной, а сразу отправил докладную начальству», — отметил про себя Брюгель. И сказал томно:
— Гауптман, я знаю радикальный способ, который сразу же избавил бы вас от всех возможных неприятностей такого рода.
— Да? Что вы предлагаете? К вашим советам я всегда...
— Очень просто! Откажитесь от идеи использования пленных на ремонте танков.
Верк кисло улыбнулся.
— Вы знаете, что это невозможно. Завтра прибывает несколько вагонов с запчастями. Танки ждут на фронте. Неужели вы не можете предложить что-нибудь иное, не менее радикальное?
Комендант лагеря, испытывая терпение «инженеришки», долго выстукивал носком сапога по полу.
— Я думаю, — сказал он наконец, — что можно полностью обезопасить себя другим путем. Но это потребует дополнительных хлопот.
— Слушаю вас, оберштурмфюрер.
— Во-первых, нужно точно установить, кто из занятых на ремонте пленных может водить танк или трактор, тягач. Этих людей, безусловно, на базу нельзя допускать.
— Но... — попытался возразить Верк.
— Взамен следует набрать новую группу слесарей, — не слушая гауптмана, продолжал Брюгель. — Полагаю, что мы сможем наскрести нужное нам количество.
— Я это понимаю, но я не об этом, оберштурмфюрер. У нас имеются сведения, кто из ремонтников умеет управлять танком, — некоторые из них указали, что они были танкистами, шоферами, трактористами. Но ведь не исключено, что кто-нибудь из них умышленно скрыл свою специальность. Эти пленные будут сохранять свою тайну.
Брюгель морщил губы и нетерпеливо кивал головой: хуже нет, когда эти зазнайки торопятся, не выслушивают до конца и лезут со своими доводами.
— И во-вторых... — с нажимом продолжал комендант лагеря, как только Верк умолк. — И во-вторых! Как я понимаю, танк может быть захвачен только на территории базы, не так ли?
— Конечно. Только здесь пленные могут приблизиться к машинам.
— Значит, нужно закопать у стен два ряда гранитных столбов, а на воротах выставить несколько стальных ежей, сваренных из кусков рельса. Вам должно быть известно, что такие препятствия не может преодолеть ни один танк. Посчитайте, сколько нужно столбов — иваны завтра же привезут их с карьера. Ежи сварите сами. Таким образом, если даже предположить, что кто-либо решится удрать на танке, то, увидев столбы и ежи, он поймет, что его план ни при каких обстоятельствах осуществим быть не может, и откажется от него.
Нет, напрасно Верк иронизировал по поводу слабых умственных способностей коменданта лагеря. Свое дело оберштурмфюрер знал превосходно. То, что предлагал он, исключало возможность угона танка. А усиление охраны базы не сулило успеха и партизанам даже при внезапном ночном нападении.
Довольный, сияющий Верк проводил эсэсовца до машины, остановившейся у крыльца, рассыпался перед ним в комплиментах и затем прочувствованно и долго жал ему руку.
У Юрия, краешком глаза наблюдавшего эту сцену, упало сердце. Еще раньше он заключил, что между техническим гауптманом и оберштурмфюрером нет дружбы и согласия и их отношения складываются скорее в духе скрытого недоброжелательства и соперничества. И вот холеный гауптман, в глазах которого при разговоре с комендантом лагеря всегда таилась улыбка превосходства, вдруг начал лебезить перед туповатым эсэсовцем. Почему холодные взаимоотношения сменились вдруг таким проявлением радости, дружеских чувств? Очевидно, гауптман и оберштурмфюрер о чем-то договорились, и следует ожидать какой-то новой напасти.
Как только Юрию выпал случай оказаться невдалеке от Петра Годуна, он скривил лицо, точно проглотил что-то горькое, и крепко потер рукою висок. Это означало: «Внимание! Опасность. Быть начеку». Годун при первой же возможности передал этот предупреждающий сигнал Ивану Степановичу. Теперь все трое напряженно следили за поведением немцев, стараясь по каждой мелочи определить, в каком направлении будут развиваться события и чего им следует ожидать.
И вот в конце перерыва на обед на базе появились заместитель коменданта унтерштурмфюрер Витцель и Цапля. Эсэсовец и старший переводчик сразу же скрылись в конторе и не выходили оттуда, но было замечено, что мастера, один за другим, побывали в конторе. Каждый из них находился там недолго, минут по пять-десять, чего, впрочем, было бы вполне достаточно, чтобы они смогли ответить на вопрос: «Кто из пленных вызывает у вас какие-либо подозрения?» — если бы такой вопрос был им задан.
И вот после обеда в контору начали посылать пленных. Их посылали собственно не в контору, а в кладовую, якобы сменить инструмент, но как только рабочий-ремонтник появлялся у окна, переводчик требовал, чтобы он зашел в кладовую. Там, в присутствии читавшего газету унтерштурмфюрера, Цапля с небрежным видом «уточнял» некоторые анкетные сведения. Все это делалось так, будто ответам ремонтников не придавалось большого значения, но пленных посылали по порядку номеров жетонов — о, немецкое пристрастие к пунктуальности! — начав с первого номера, и Юрий Ключевский, еще не зная подробностей, сразу же сообразил, что проводится какая-то хорошо продуманная, осторожная проверка, касающаяся всех занятых на ремонте пленных.
Те, кто попал в ремонтники, не отличались особой говорливостью, они знали: молчание — святое дело. Но все же жетон № 9 сказал с невеселой усмешкой: «Щупают все. А чего щупать-то? И на глаз видно — одна кожа и кости». Жетон № 11 высказался столь же неясно: «Мог бы на тракториста выучиться. Не захотел, дурак, пропала каша».
На них смотрели с любопытством, но никто расспрашивать не стал.
Наконец пришел черед Ключевского.
Едва только он положил на подоконник ключ для нарезки резьбы на болтах, как из кладовой послышалось:
— Это кто? Какой твой номер, фамилия?
— Номер жетона тринадцать, Ключевский.
— Ага... Нет, ты мне не нужен. Впрочем, зайди... Зайди сюда.
Юрий остановился у двери. Его «двойник», унтерштурмфюрер Витцель, закинув ногу на ногу, сидел на принесенном в кладовую чистом стуле и читал газету. Цапля рассматривал какие-то бумаги. Начались вопросы: где родился, состоял ли в комсомоле, образование, специальность, военное звание, род войск, какие должности занимал, нет ли дополнительной специальности? Юрий отвечал не задумываясь — такие вопросы гитлеровцы задавали ему в плену не впервые, и у него имелся хорошо составленный набор наиболее безопасных автобиографических данных, в правдивости которых трудно было бы усомниться.
— Тэ-э-э-к... — пренебрежительно протянул Цапля, не отрывая глаз от бумаг. — Значит, бывший слесарь, выбившийся в советские интеллигенты, без пяти минут этот... сочинитель. А автомашиной наш сочинитель случайно не может управлять?
Юрий увидел, как поднял голову и насторожился его «двойник» унтерштурмфюрер.
— Автомобилем? Нет, не приходилось.
— Ну, не автомобилем, так трактором или, допустим, тягачом? Ты же грамотный человек, тебе легко было освоить. Были ведь у вас всякие курсы, автодор...
— Как-то не выпадало... — начал Юрий.
— Понимаешь, в чем дело, — не слушая его, с хорошо наигранным сожалением произнес Цапля, — Нам скоро нужны будут для одной работы шоферы, трактористы даже самой низкой квалификации. Лишь бы умел за рулем сидеть. Учти, что дополнительно ко всему этим людям будут выдавать по котелку каши. Понял, какое счастье?
«Каша... Не захотел, дурак, на тракториста выучиться», — пронеслось в голове Юрия. Значит, всех об этом спрашивали, всех кашей соблазняли. Остальные вопросы только камуфляж, дымовая завеса!
— Как не понять, господин переводчик.
— И отказываешься...
— Рад бы, но никогда с автомобилем, трактором дела не имел.
— Точно?
— Правду говорю.
— Смотри, проверю, — как-то ненатурально засмеялся переводчик, — Если скрываешь...
— Дурак бы я был от каши отказаться?
— Кто тебя знает, может, дурак и есть. Ну, иди к окну, получай, что там тебе надо. Кладовщица сейчас придет.
Казалось бы, все обошлось без каких-либо осложнений. Никто не обвинил его в том, что он плохой слесарь, а он именно этого боялся больше всего. Ну, а то, что он не умеет управлять автомашиной, трактором, поставить ему в вину нельзя. Тем не менее Юрий возвращался к своему мастеру в подавленном настроении. Он знал, что простодушный Петр Годун не скрывал в лагере свою военную специальность. Да и как скроешь, если Петр попал в плен в замасленном, обгорелом комбинезоне и черном шлеме танкиста. Следовательно, он окажется в той группе, какую для каких-то особых целей отбирают немцы. Ну, а если эта группа будет работать где-то в другом месте? В таком случае их план становится жалкой химерой. Возможно, даже дело обстоит гораздо хуже — немцы осознали вероятность такой опасности, как угон пленными танка, и предпринимают меры, чтобы обезопасить себя. В таком случае они постараются удалить из группы ремонтников всех, кто может водить танк. Потому-то Цапля так напирает на кашу, это та приманки, на которую, по мнению немцев, должны клюнуть пленные, скрывшие, что они хотя бы в какой-то мере знакомы с вождением танков.
Побывал в кладовой Петр Годун — недоуменно пожимает плечами, видимо, никакой опасности не заметил, Иван Степанович мрачней обычного, ему что-то не понравилось. Ясно, Петр подтвердил, что он танкист, и на этом разговор закончился, а беседа с Иваном Степановичем была более продолжительной. Цапля хитрил, ставил ловушки, выпытывал, соблазнял кашей. И старый слесарь понял, что все это неспроста.
Принято считать, что удары судьбы неожиданны и неотвратимы. Неотвратимы? Какое удобное оправдание для тех, кто трусливо склоняет голову перед врагом, лишен воли к победе. Есть и другое, полушутливое, озорное — ловите удары судьбы! Ловите, как берет в немыслимом прыжке вратарь, казалось бы, «мертвый» угловой мяч, принимайте на себя, гасите, как гасит молнию острие громоотвода — только грохот, страшный треск... Но ни пламени, ни разрушения.
Ловите удары судьбы! Юрий, нарушая правило, подошел к Петру Годуну, скучно посмотрел на него.
— Срочно нужен четвертый. Танкист. Немой. Подумай, по дороге в лагерь скажешь.
Со стороны глянуть — насчет обмена был разговор, допустим, пуговицу или осколок зеркала за щепотку табаку предложил Чарли или четверть пайки за старенький ремень.
Петр сказал для чужого уха, погромче:
— Иди ты! Дурней себя ищешь?
Роман Полудневый
Петр так же, как и Иван Степанович, уже не удивлялся поразительной способности Юрия предугадывать некоторые события. Если Чарли говорит, что нужен четвертый да еще «немой», то есть такой, о котором не знают, что он танкист, значит, нужен. Но на базе и при возвращении в лагерь друзьям не выпало случая переброситься словом.
Лишь миновав колючие ворота, Иван Степанович черкнул локтем о локоть Юрия.
— Полудневый. Тот самый...
— Немой?
— Только Петр знает, и то случайно. Его в форме пехотинца в плен взяли.
— Посвятить. Сказать все. Завтра добровольцем в ремонтники.
— Думаешь, снова будут набирать? — Шевелев был поражен.
Юрий вместо ответа только устало сомкнул веки.
— По чем заключаешь, однако?
— Кашу вам Цапля предлагал?
Иван Степанович кивнул головой.
— Ну, вот. Теперь, кто кого перехитрит. Скажете, как Полудневый. Я должен знать. Как можно скорее.
С Полудневым разговаривал Петр Годун. Петр пошел выполнять это поручение с тяжелым сердцем. Последнее время лейтенант Полудневый избегал встреч с ними, а увидев близко, отводил глаза. После карцера он начал заметно сдавать — осунулся, тяжело передвигал ноги, смотрел на товарищей и конвоиров равнодушными, пустыми глазами, ни с кем не заводил разговоров. Годун нашел его во дворе. Лейтенант сидел, подвернув под себя ноги в разбитых солдатских ботинках, как сидят кочевники на привалах. Черная коротко остриженная голова казалась обугленной.
Петр опустился на колени рядом.
— Слушай, Рома, ты мне веришь?
Полудневый не ответил. Что ни говорил ему Петр, он продолжал молчать, равнодушно рассматривая гноящиеся ссадины на руках, точно ничего не слышал. И лишь в конце сказал без злобы: «Не воняй, чесночник, возле меня». «Чесночниками», «вонючками» в лагере называли тех, кто пошел в ремонтную команду за дополнительную пайку с кусочком маргарина и зубком чеснока.
Через несколько минут Годун был у нар Ключевского.
Юрий лежал на спине с закрытыми глазами.
— Пустой номер. Не соглашается.
Юрий открыл глаза.
— Что говорит?
— Ничего не говорит.
— Не сумел убедить...
— Его не убедишь! Иссяк он...
Юрий бистро поднялся, свесил с нар ноги. Он не скрывал своей встревоженности: если Полудневый так ослабел, то их план рушился, все летело под откос.
Каждый пленный борется, цепляется за жизнь: не потерять ни одной крошки из пайки, стать в очередь к котлу так, чтобы повар налил в котелок баланду погуще, избежать удара надсмотрщика и конвоира — каждая капля крови, вытекшая из раны, дороже любой драгоценности, экономить силы на работе — ни одного лишнего движения, щипнуть травку на привале и сунуть ее в рот раньше, нежели это сделает сосед, — все-таки пожива, «салат», бугай вон одну траву щиплет, и силу нагуливает будь здоров. На многие ухищрения пускаются пленные, чтобы как-нибудь сохранить, приберечь жизненные силы. Но вот кто-то из них ослабел до такой степени, что уже ни во что не верит, ни на что не надеется, стал ко всему равнодушен и ждет только смерти. Таких людей с потухшими глазами земное уже не интересует, близость смерти не ужасает, она благо, спасение от бесчисленных мучений.
Лейтенант Роман Полудневый, единственная надежда Юрия Ключевского, кажется, стал таким. Карцер, работа по перетаскиванию танков со станции на базу, предательство тех, кого он считал патриотами, своими друзьями — продались за пайку, пошли в ремонтники, — все это, видимо, подкосило лейтенанта. Юрий не искал встречи с ним, а встретившись случайно, не пытался вступать в разговор, хотя уже знал, что именно по приказу Полудневого его чуть было не удушили ночью за то, что он добровольно пошел в ремонтники. Зачем слова, объяснения? Если удастся захватить танк, лейтенант узнает сам, пайка ли соблазнила Чарли или что иное.
— Где он?
— Во дворе сидит.
— Глянешь со стороны... — Юрий спрыгнул на землю.
Полудневый уже не сидел, а лежал ничком, уткнувшись лицом в ладони. Может быть, слова Годуна все-таки подействовали на лейтенанта? Просто он обессилел, потерял веру в себя и считает, что не может выполнить ту роль, какую ему предлагают. Есть правило: не можешь — не берись. Это рассуждение обнадежило Юрия. Но та поза, в которой находилось тело Полудневого, говорила о другом — перед Юрием был человек, духовная смерть которого на много-много дней опережала смерть физическую. Если это так, то любые слова бессильны и бесполезны.
Юрий лег рядом, выждал несколько секунд — Полудневый даже не шевельнулся. Юрий с силой толкнул его в бок.
Послышался тихий стон.
— Это я, Чарли. Слышишь, лейтенант?
Молчание.
Юрий еще раз, чуть слабее, ткнул локтем.
— Чарли. Тот самый... Слышишь?
— Ну, чего тебе?
— Лежи так и слушай. Я знаю, понимаю твое состояние: как будто тысячи ног в кованых сапогах прошли по тебе, втоптали тебя в грязь дороги, превратили в полупрах, в дорожную пыль. Ты не можешь подняться — поднимаются, держатся на ногах, передвигаются твоя тень, имя, номер.
— Отвяжись. Философ, мать твоя принцесса... — глухо отозвался Полудневый.
— Значит, ты меня слышишь все-таки? — обрадовался Юрий.
Он приподнял голову, осторожно осмотрелся. В углу барака маячил Петр, среди тех, кто стоял возле умывальника, находился Иван Степанович. Они были начеку и, если б кто-либо попытался подслушать, о чем говорят Ключевский и Полудневый, помешали бы этому. И Юрий снова опустил голову.
— Роман, мы тебе предлагаем бежать на танке. Верное дело. Найди в себе силы. Мы поможем, будем давать часть своей пайки, чтобы ты окреп. Только согласись завтра утром пойти в ремонтную команду.
— Все сказки, красивая брехня, мираж. Никто... все тут... ляжем.
— Даже попытаться не хочешь?
— Дурное. Лучше на проволоку броситься.
— Ты и так уже мертвый, Роман.
— Ну, и ладно. Иди ты!..
— Ты мне нравился, лейтенант, когда живой был. Тебя плен не сломал, не согнул, человеком остался. Ты нравился мне даже тогда, когда приказал удушить меня и утопить в уборной. Другим в назидание, чтобы за пайку не продавались... Было такое?
— Не помню... Может, и было.
— Было. Это прекрасно! Я тобой восхищался. А сейчас...
— Что лезешь в душу? Сам видишь — дохожу я.
— Ты бы мог победить, Рома. Даже если нам суждено погибнуть но время побега. Слышишь? Твое имя осталось бы на века в памяти нашего советского народа. О тебе слагали бы легенды, песни.
Уходи, Чарли. Ты болтун, краснобай. Ничего вы не сделаете. Были уже такие... Нас всех ждет смерть, мы обречены.
— Последнее твое слово? Подумай.
— Последнее.
— А ты знаешь, что предаешь нас? — спросил Юрий срывающимся голосом. — Ведь никому другому мы не можем доверить.
Молчание.
— Предаешь нас, себя, своих товарищей, всех, кто попал в этот лагерь. Ты лишаешь их силы, воли к победе, к сопротивлению.
— Говори, говори. Ты это умеешь, мать твоя принцесса.
— Ладно. Ничего нам от тебя, лейтенант Полудневый, не надо.
Юрий осторожно вытащил из кармана тряпицу с бутербродом. Еще на базе он решил пойти на риск и сохранить до вечера подарок девушки-кладовщицы, чтобы затем передать его «четвертому». Он слегка развернул тряпицу и подсунул бутерброд к лицу лейтенанта.
— Вот съешь это. Только скорей.
— Зачем?
— Съешь. Просто так.
— Сам сказал — я мертвый. Отдай живым.
— Не дури, лейтенант, ешь. Скорее. Человек пострадать может.
Впервые Полудневый поднял голову. Увидел хлеб, кусочек сала, посмотрел на Юрия, в его глазах было изумление и страх.
— Зачем? Ведь все равно... Пропадет. Я не обещаю. Ничего.
— Пусть пропадет. Ешь.
Лейтенант помедлил и откусил от бутерброда, не притрагиваясь к нему руками.
— Не кроши... — сурово предупредил Юрий, отвернулся и проглотил слюну.
Все съел Полудневый, подобрал губами с тряпицы каждую крошку. Лицо его заливали слезы.
— Спасибо, брат. Только напрасно, если рассчитываешь...
— На что рассчитывать, если ты... — зло сказал Юрий. — Ни на что я не рассчитываю. Так захотелось мне... Придурь. Что тебе сказать на прощание? Слабак ты оказался, а мог... Громкое дело, подвиг, легенда. Ну что ж, умирай, лейтенант. Своею смертью ты никого не удивишь. Жалкая, никчемная жизнь и бездарная, бесполезная смерть.
— Ты брось, Чарли. Я воевал будь здоров.
— Воюют до последнего.
— Я рук не поднимал. Меня без сознания подобрали.
— Сейчас-то ты в сознании?
— Хитришь, Чарли, — устало сказал Полудневый. — Брось это.
— Нет, не хитрю, прощаюсь. Умирай, Пулудневый. Не стоишь ты ни доброй памяти, ни доброго слова.
Ключевский взял тряпочку, подтянул под себя руки и ноги, чтобы подняться.
— Нутро выворачиваешь? Гад ты, садист проклятый, — Полудневый разразился длинным, гневным ругательством. Но тут же обмяк, спросил тихо, устало: — Что от меня требуется, комик несчастный?
— Вот это разговор, лейтенант, — обрадовался Юрий. — Успокойся и слушай. Завтра будут набирать новую партию слесарей. Выходи. Только будут спрашивать, твердо стой на своем — слесарь, а водить танк, машину, трактор не умею, не приходилось.
— Почему раньше не вышел, спросят.
— Говори правду: боялся, мол, товарищи презирать будут, а теперь решился, не хочу умирать. Договорились? Не подведешь?
— Если до завтра доживу...
— Ну, ну, не дури. Доживем до победы. Иди первым. Вытри губы, оближи. Иди. Я полежу.
Утром построения не было, о новом наборе слесарей не объявляли. Команду ремонтников погнали на базу в прежнем составе. Шевелев и Годун вопрошающе поглядывали на Юру: «Ошибся? Ложная тревога на этот раз?» Юрий неохотно пожимал плечами: «Все возможно. Я не бог. Увидим». Свою дополнительную «ремонтную» пайку он не съел, принес в лагерь, отдал Полудневому.
Прогноз Юрия подтвердился с небольшим опозданием. В тот же вечер комендант объявил о дополнительном наборе слесарей, и все ахнули, увидев вышедшего из строя Полудневого — сломали и этого, а ведь высоко и гордо голову держал человек, не боялся карцера. Вслед за Полудневым с таким выражением на диковатом лице, будто он сам изумляется своему поступку, вышел Григорий Петухов, или, как его звали в лагере, Петух.
В ремонтную команду взяли десять человек. Каждого из них в присутствии Брюгеля расспрашивал Цапля и снова пытал котелком каши, выискивая тех, кто смог бы управлять тягачом, трактором, автомашиной. Не нашлось таких...
Все это еще ничего не значило и самое страшное подозрение Юрия не подтверждало.
Молния сверкнула на следующий день утром. Перед отправкой команды ремонтников прочли список тех, кто должен сдать жетоны. Восемь человек. Среди них Петр Годун и... — в первое мгновение Юрий подумал, что он ослышался, — Юрий Ключевский.
Ошеломленному Юрию трудно было понять что-либо, кроме одного: этот удар судьбы оказался неожиданным и неотвратимым. Он не поймал, пропустил его. Не знал тогда Юрий, что на этом не кончилось, что их ждут новые, не менее жестокие удары.
Кленовый листочек
Отправилась на работу команда ремонтников, за ней — партия в пятьдесят человек ушла на железнодорожную станцию.
Ключевский и Годун попали в самую большую группу, и их погнали в каменоломни, где работала основная масса пленных, заготовляя гранитные глыбы, плиты, монолиты. Спрос в рейхе на знаменитый украинский гранит был чрезвычайно высок, собирали и отправляли даже щебенку.
При выходе из лагеря Ключевскому удалось пристроиться в пятерку Годуна, рядышком с ним. Теперь-то, когда они были «изгнаны из рая», скрывать особенно свои дружеские отношения не было нужды.
— Ну?
— Похоже, они выставили с базы всех тех, кто умеет управлять машиной, — угрюмо сказал Петр. — Недоберу только, почему тебя-то в нашу компанию определили.
— Есть исключения, какие подтверждают правило. Я такое исключение. Ошибка, случайность, недоразумение.
На этот раз ошибался Юрий. В черный список он попал далеко не случайно, его подвели крайняя впечатлительность и воображение. Во время проверки мастер Фуклар, под началом которого Юрий работал, человек медлительный, тугодум, на вопрос унтерштурмфюрера Витцеля, кто из пленных ведет себя, по его мнению, странно и вызывает у него какие-либо подозрения, сперва только оттопырил нижнюю губу и пожал плечами. Лишь перед самым уходом он неуверенно произнес:
— В отношении странности... Пленный жетон № 13 странный, я считаю.
— В чем это выражается? — сразу же заинтересовался Цапля.
— Вечно задумывается, рассеянный.
— Плохая дисциплина?
— Нет, наоборот, очень исполнительный, но думает не о работе.
— Он думает о том, как бы поскорей обед привезли, вот о чем он думает, — засмеялся Цапля.
— И еще я заметил... — по-прежнему неуверенно продолжал мастер, — какие глаза у него были, когда он в люк танка на рычаги управления смотрел.
— Какие?
— Прямо-таки безумные. Как будто он собирался сесть на место водителя и помчаться на машине. Честное слово.
Мастер Фуклар говорил, ничего не выдумывая. Однажды, находясь возле танка, Юрий Ключевский взглянул в открытый люк, увидел рычаги управления, и воображение заработало. Он забылся на несколько секунд, попал под власть своей фантазии, и она развернула перед ним картины воображаемого побега. И так сильны были пережитые им в этот момент чувства, что они не могли не отразиться в его глазах, на лице. Мастер Фуклар заметил, удивился, но особого значения странному выражению на лице пленного не придал. Он вспомнил об этом случае только сейчас.
Витцель и Цапля переглянулись, судьба пленного, значащегося под номером тринадцатым, была решена. Может быть, этому туповатому мастеру показалось, может быть, пленный смотрел в нутро машины просто так, с обычным, профессиональным интересом, но зачем им рисковать, если имеется сигнал. Занести тринадцатый номер в черный список, чтобы его нога и близко возле рембазы не ступала.
Юрию не суждено было узнать что-либо об этом разговоре. И все же самое важное, главное он определил правильно: немцы о его плане ничего не знали, они просто страхуют себя от всех возможных неприятностей. Выгнали из команды ремонтников всех, кто мог бы управлять танком, и успокоились. А там, на автобазе, уже вместо Годуна вступил в строй запасной игрок... Жалко, нет третьего, но третий не обязателен. Шуруй, хлопцы!
Когда колонны пленных подходили к каменоломням, впереди один за другим прогремели взрывы, и отвесные стены гигантского котлована затянуло серым облаком дыма и пыли. Подрывники подготовили работу для пленных на целый день: нужно было разобрать образовавшийся после взрыва завал, рассортировать глыбы, вывезти их из каменоломни наверх, к железнодорожным путям.
Ключевскому бросилось в глаза, что немец, главный распорядитель работ, начал отдавать предпочтение глыбам определенной формы — подобию каменных столбов длиной в два — два с половиной метра. Такие куски гранита заставляли вытаскивать и вывозить в первую очередь.
Еще и раньше Юрий не раз задумывался над тем, для чего могут использовать немцы добываемый в каменоломнях гранит. Что-то шло, очевидно, на строительство нижних этажей дорогих особняков. Были глыбы, просившиеся на сооружение фамильных кладбищенских склепов, могильных плит. Однажды пришлось изготовить большую партию гранитных крестов для военного кладбища, где захоронены видные гитлеровские офицеры; щебенку, конечно, использовали на капитальных военных сооружениях. Толстые и продолговатые гранитные бруски, какие пришлось ему грузить с другими пленными на маленькие платформы узкоколейки, вызывали в его памяти картину укрепрайона с рядами противотанковых каменных надолбов. Но тот укрепрайон, перед которым, возможно, будут торчать на треть или даже наполовину закопанные в землю эти бруски, в представлении Юрия был где-то очень далеко.
Тяжелый гранит обрывал руки. Некоторые пленные насмехались над бывшими ремонтниками. Злорадствовали: «Бери, держи, подставляй плечо, чесночник. Это тебе не на заготбазе прохлаждаться». От них еще попахивало чесночком. «Руки надо беречь, только бы руки не покалечить», — твердил про себя Юрий. В воображении он так часто переносился на ремонтную базу, следил за тем, что делает в этот момент Полудневый, мысленно беседовал с лейтенантом, убеждал, успокаивал, окрылял его, что часто забывал, где находится сам, и лишь острые края гранита, впивавшиеся в ладони, напоминали ему об этом.
Наконец они вернулись в лагерь. Полудневого не было видно, но Шевелев ждал Юрия у барака. По спокойному лицу Ивана Степановича Ключевский понял — у них с Полудневым дела идут нормально. Он кивнул головой и прошел в барак, лег на свое место на нарах. Все идет как надо. Он уже знал, что пленные, отправленные на железнодорожную станцию, разгружали прибывшие вагоны с запчастями для танков. Значит, еще дня три-четыре и несколько танков на базе будут отремонтированы. Тогда все решит удобный момент. Хлопцы не промахнутся. Жалко, нет третьего. А может быть, это как раз и хорошо — тайна перестает быть тайной, когда она становится достоянием многих.
В этот вечер Юрий ни с кем не встречался, не разговаривал. Зачем? Лишний риск. Тем более, все идет нормально.
Вечером следующего дня ремонтники вернулись в лагерь позднее обычного. Сумрачный Шевелев сам подошел к Юрию.
— Беда, Юрка! Сегодня закопали на базе у стен гранитные надолбы. В два ряда. Роман говорит — мертвое дело, не пробить. А на воротах ежики сварные поставили. Роман запсиховал, пайку мою отказался взять. Вчера взял для подкрепления, сегодня ни в какую. Чего, говорит, понапрасну пузо буду отъедать.
Ключевский смотрел под ноги Ивану Степановичу. Он чувствовал себя так, точно ему только что нанесли сильнейший удар в солнечное сплетение. Ну, на этот раз, кажется, все, конец. Уже ничего не придумаешь... Мысленным взором он пробежал по замыкавшей в себе территорию базы кирпичной стене со свежей кладкой в местах недавних проломов, с надписями, которые нанес он черной краской на кирпичах, с густым переплетением колючей проволоки, белой полосой на земле и двумя рядами высоких, чуть ли не в рост человека, гранитных надолбов. Он увидел ежи из ржавых кусков рельса с сизой окалиной на местах сварки, прикрывших собой подходы к воротам, — их будут оттаскивать в стороны только по команде технического гауптмана, только тогда, когда нужно будет открыть проезд. И еще увидел двухэтажный кирпичный дом с пулеметным гнездом на крыше, дом, который как бы являлся составной частью стены, окружавшей базу. Дом был старый, запущенный...
— Пайку сохранили?
— Отщипнул немного... — смутился Шевелев.
— Сохраните, прошу вас. Скажите Роману, пусть подойдет.
Через несколько минут у умывальника появился Полудневый. Ужасной была его походка, тянул ноги, покачивался при каждом шаге. Но ведь шел все-таки.
— Плохо обернулось, Роман?
— Хуже нет, — голос Полудневого звучал глухо.
— И ничего не придумаешь?
— Гиблое дело.
— Опять теряешь веру?
— Я трезво смотрю.
— Там домик есть...
— Домик... — фыркнул Полудневый. — Домина, кирпичная кладка. Думал уже. Не пробьешь.
— Надолбы у него поставили?
— Нет. Два ежика подкатили.
— Проход есть?
— Что с того?
Замолчали. Подошел Годун.
— Знаю, дела... Один выход, Роман, захватить уродину. Она с двух-трех ударов дом пробьет.
Юрий встрепенулся. Это была новая идея — захватить «тигр». Однако на Полудневого предложение Годуна не произвело нужного впечатления. Похоже, он только разозлился, сказал Петру с досадой:
— Иди ты... Думаешь, что говоришь?
— Я бы решился. Только так.
— Гуляй отсюда, советчик.
Обиженный Годун сполоснул руки и ушел. Лицо Полудневого было скорбным.
— Смотрел я эту машину, думал... Шансов почти никаких.
— Чем черт не шутит, когда бог спит.
— Готов рискнуть, — тяжело вздохнул лейтенант. — Только мне для начала толщину стен и перегородок знать надо. Бессмысленного риска не признаю.
Ключевский подумал и сказал твердо:
— Завтра или послезавтра будешь знать.
— Уверен? — усомнился Полудневый. — Точные данные будут?
— Точные.
— И еще, Чарли, я должен знать, не намудрили ль чего фрицевские конструкторы с управлением. Сразу ведь не поймешь, задергаешься и потеряешь время. А все решают секунды.
— Не знаю...
— Хотя бы одним глазом в наставление глянуть.
— Ах, лейтенант, лейтенант... Как будто оно у меня в кармане.
— Достань. А чего? Раз кашу заварил.
— Иди. Пайку у Шевелева возьмешь, съешь. Приказываю.
— Издеваешься?
— Тебе нужно.
— Думаешь, легко мне чужое жрать? Садист ты.
— Не дури. Ты наша надежда, лейтенант. Наше оружие. Иди.
Для отвода глаз Юрий завернул штанину на правой ноге, как бы желая сделать примочку распухшему колену, и еще раз убедился, что опухоли, какая пугала его, уже нет, плотный рубец стянул ранку. Все-таки работа на рембазе была курортом. И помог кусочек бинта, пропитанный борным вазелином, который дала ему кладовщица... Теперь все будет зависеть от этой девушки. Поверит ли она? Согласится ли? А ведь не хотел он подвергать ее риску, втягивать в это дело. И вот приходится. Перед глазами Юрия возник пятнисто окрашенный танк. Даже неисправный, он выглядел грозно... «Тигр»... Начинается охота на «тигра»... С копьем на «тигра»... И уже не поймешь, безумие это или реальность, которую следует назвать отчаянной храбростью.
С прибытием запасных частей работы у Любы прибавилось, и она уходила домой поздно вечером. С пленными Люба вела себя строго, редко удостаивала их двумя-тремя словами, немецких мастеров ни о чем не расспрашивала, на их заигрывания не отвечала и даже не прислушивалась к их болтовне, когда они встречались в коридоре или заходили в кладовую. Казалось, ее совершенно не интересует то, что творится за стенами кладовой. В действительности же девушка почти все время размышляла над теми переменами, которые произошли на базе за последние четыре дня.
Началось с таинственной проверки, которой подверглись все пленные, работающие на базе. О чем допытывался у пленных переводчик в присутствии заместителя коменданта лагеря, Люба могла только догадываться, так как не присутствовала при разговоре переводчика с пленными. Но то, что переводчик пытался создать у каждого пленного впечатление, будто разговор с ним носит случайный характер, а не был заранее обдуман, подготовлен, в этом она смогла убедиться. Через день после проверки исчезло восемь ремонтников, в том числе и тот загадочный, числившийся в списках под номером 13. Сейчас жетон с этим номером носит Петухов — худой, высокий парень со впалой грудью, в лице, в глазах которого Любе чудится что-то нехорошее, шальное, одичавшее.
Может быть, антипатия к этому пленному, занявшему «чужое» место, возникла потому, что ей, Любе, жаль того юношу, который еще недавно был «жетоном номер тринадцатый»? Наверняка. Да и как не пожалеешь, если он то и дело попадал из одной беды в другую. Сперва обнаружилось, что он, назвавшись слесарем четвертого разряда, даже молоток в руках держать по-настоящему не умеет. Все же научился с грехом пополам, удержался... Потом его чуть было не повесили как саботажника. Судя по всему, его мучила, угнетала необходимость выполнять эту работу, но он изо всех сил старался показать немцам свою исполнительность, дисциплинированность, умение.
И вот что-то случилось, он исчез, а вместе с ним исчезли еще семь ремонтников. Куда они делись, что с ними, — неизвестно. На их место взяты новые.
Почти одновременно произошло еще одно загадочное событие, будто не связанное с заменой ремонтных рабочих, — на базу привезли много гранитных глыб-столбов и закопали их у стен в два ряда, а у ворот и даже перед окном кладовой поставили стальные раскоряки, сваренные из метровых кусков рельса. Люба знала: надолбы и ежи — непреодолимое препятствие для танка. Зачем это? Девушка не раз слышала разговоры немцев. Возможно, гауптман Верк опасается, как бы кто-либо из пленных не попытался угнать танк. Поэтому он заблаговременно избавился от всех подозрительных. Возможно, кого-нибудь из этих восьми уже допрашивают, раскрывая «преступный» замысел, а может быть, они уже казнены — и те, кто готовился к побегу, и те, кто ничего об этом не знал. Бывший номер тринадцатый среди них... Милый, душевный юноша. Даже в плену он сумел сохранить внутреннюю чистоту, нежность, благородство. Его букет она отнесла домой. Листочки слегка покоробились, пожухли, но по-прежнему прекрасны.
И вот... снова перед ней на широком поцарапанном подоконнике листок клена, нежный, свежий, едва тронутый огнем увядания... Что за чудо? Кто его принес?
У окна — пожилой пленный. Простое, суровое и доброе лицо, продолговатый шрам на щеке. Он кладет свой жетон № 17 рядом с листочком.
— С приветом, дочка, от бывшего тринадцатого.
Люба вздрогнула: вот и к ней пришла беда. Провокация? Сделала вид, что не слышала слов пленного, не замечает листика.
— Что дать, семнадцатый?
— Я его друг, — тихо и степенно сказал пленный. — Он делился со мной твоими бутербродами. Он сказал: «Подбери на дороге и передай кленовый листик — она поверит». Ты не веришь?
Кладовщица быстро убрала с подоконника кленовый листок.
— Он жив?
— Да. Просит узнать, во сколько кирпичей выложены стены, эта и та, что выходит на улицу. Можешь?
— Зачем ему?
Пленный взглянул на девушку огорченно — лишний, глупый вопрос.
— Дрель, два сверла, пробой, молоток. Толщина капитальных стен? Не беспокойся, риску никакого. Никто не узнает. Сердечная благодарность наперед.
Ушел от окна не оглядываясь, спокойный, уверенный.
Такой мог быть другом тринадцатого. Ну, а если все-таки провокация? Возможно, несчастный тринадцатый не выдержал пыток, рассказал, кто ему давал бутерброды, — не мог скрыть, товарищи его признались. Но о кленовых листочках зачем ему было говорить на допросе? О букетиках из полыхающих прохладным пламенем увядания кленовых листочков знали только он и она. Это была их безобидная тайна, и касалась она только их двоих. Нет, это пароль. Бывший тринадцатый, Ключевский Ю., жив, ему и его друзьям нужно знать толщину наружных стен этого дома. Зачем? Это их дело. Ее дело измерить, определить и сообщить им.
Перед обедом жетон № 17 пришел сменить сверла и дрели на другие, более крупного диаметра.
— Внешние стены выложены из самана и только облицованы кирпичом в полкирпича. Общая толщина тридцать семь сантиметров. Внутренние стены тонкие, в один кирпич или деревянные, дощатые, В коридоре две печки-голландки. Запомнили, или повторить?
— Запомнил, дочка. Это что? Не надо.
— Берите, берите.
Маленький сверток оказался в руке Шевелева.
Вырванные страницы
Когда привезли обед и повар разлил баланду в котелки, Шевелев сел рядом с Полудневым. Склонясь над котелком, чавкая, сказал в несколько приемов, разрывая фразу в самом неподходящем месте.
— Стены-то, оказывается, саманные, кирпичик... только сверху для красоты. Перегородки... тоненькие, но внутри имеются... две печки-голландки. Какое мнение будет?
Полудневый ничего не сказал, сопел, вычерпывая ложкой остатки баланды из котелка. Вдруг в котелок упали два кусочка хлеба и ломтик сала. Лейтенант чуть было не поперхнулся. Повел тоскливыми глазами по сторонам, отдышался и, ничего не сказав, принялся отламывать ложкой маленькие кусочки и, смешав их с баландой, отправлять в рот. Это была пища драгоценная, сказочная.
Съел, перевел дух, сказал с мрачным видом:
— Откармливаете. Чтобы хода мне назад не было?
— Брось выдумывать!
— Не во мне ведь дело. «Четверка» может застрять. Саман — хорошо, печки — скверно. Почти что надолбы. И две стенки коридорные, продольные, по курсу. Тяжело...
Полудневый помолчал и так же мрачно спросил:
— Сибиряк, кажется? В тайге на тигра охотиться не приходилось?
— Н-нет, — опешил Иван Степанович.
— Ничего страшного, большая кошка. Только и всего. — В голосе Полудневого уже слышались веселые, насмешливые нотки.
— К чему разговор?
— Нужно поймать зверя. Чего хитрого: один будет за хвост держать, другой — зубы посчитает. Не побоитесь?
— Забавляешься? — насупился Шевелев. — Вроде не время...
— Оживать начинаю, дядя, — громко, чтобы слышали сидящие поодаль, сказал Полудневый. — Я ведь шутник, балагур. Дурак, что сразу в вашу компанию не попросился.
— У каждого голова на плечах, — так же громко заметил Шевелев, подхватывая пальцем приставшие к стенкам котелка крупинки и отправляя их в рот.
Поднимаясь, Полудневый тяжело стал на колени, и его голова на несколько мгновений оказалась рядом с головой Шевелева.
— Спроси ее, попроси... пусть достанет наставления по «тигру». Понял? Хотя бы те страницы, какие касаются рычагов управления. Пусть переведет, перепишет, рисунки срисует, но срочно, завтра же.
Воскрес Полудневый — жесткий, подтянутый, как струна. Вот какого зверя добыть хочет. И сразу догадался, кто сведения о толщине стен дал, кто бутерброд свой пожертвовал. Возьмешь «тигра», как же! Совсем малый шанс. Только не это расстроило Ивана Степановича. К мысли о возможной неудаче и гибели, как своей, так и товарищей, он попривык, а симпатичную кладовщицу было жалко до слез, — запутается девчонка, пропадет. Такое задание. По силам ли ей?
— Погоди, Роман. Зачем ей-то петлю на шею надеваешь?
Полудневый не ожидал такого упрека. Он схватился рукой за живот, словно начались колики, лицо потемнело от страдания и гнева, снова сел на землю, отдышался, повел взглядом вокруг: не услышит ли кто.
— Жалостливые... Вы на какую игру меня пригласили? Жил-был у бабушки серенький козлик? Мать ваша принцесса...
— Я к тому — может, обойдешься? — смутился Шевелев. — Ты ведь спец, а коляски эти все на один манер.
Утомленный вспышкой гнева, лейтенант закрыл глаза.
— На один манер... Спроси Петуха, как он, дурило, в плен попал?
Простоватый Григорий Петухов из новой партии ремонтников в свободные минуты очень смешно рассказывал о своем пленении. Иван Степанович мог бы повторить этот рассказ слово в слово. Шевелев как бы услышал голос незадачливого бойца: «Темнота наша подвела. Взяли мы в атаке первую линию окопов, а дальше фрицы не пустили, прижали. У нас в окопе ребята не робкого десятка подобрались. Правда, на передовой недавно, новички. Все же решили держаться, пока подкрепление не подойдет. Держимся. Только беда — патроны кончаются, гранат нет. Когда это один боец тащит целый ящик. Открыли, а там немецкие гранаты на длинных деревянных ручках. Никто толком не знает, как с ними обращаться. Начали запалы искать. Вставили, а дальше у нас сообразительности не хватило. Бросили одну — не взрывается, вторую — то же самое. А немцы эти же самые гранаты нам обратно кидают, и они рвутся одна за другой. Так мы и снабжали их боеприпасами по своей дурости. Оказывается, нужно было отвинтить на конце ручки колпачок и перед броском дернуть за пуговичку, что на шнурке. Пока мы уясняли, как обращаться с трофейным оружием, нас и накрыли с этим ящиком — «Хенде хох!»
Не рассказ-забава, а притча... Полудневый напомнил о ней не напрасно. Мелочь может все дело испортить. Ради успеха надо рисковать всем.
— Нужно, Иван Степанович. Зря бы не тревожил, — Полудневый поднялся и, не глядя на Шевелева, заковылял к ведру с водой.
Сокращенный наполовину обеденный перерыв кончился, и пленные разошлись по своим местам. Работа на базе в последние дни была напряженной. Мастера старались нагнать то, что упустили, ожидая вагонов с деталями. Часто звучали их раздраженные голоса, ругательства, кое-кто из нерасторопных пленных, подвернувшихся под горячую руку мастера, получил не одну затрещину, а некоторых били нещадно. Но все же немцы были довольны тем, как идут дела. Особенно приподнятое настроение появлялось у членов экипажа и мастеров, когда заканчивался ремонт какого-нибудь узла, агрегата на супертанке. «Тигр» был любимцем и баловнем всех немцев-ремонтников. Один его грозный вид вызывал у них восторженную горделивую улыбку: и еще бы, такая сила, мощь, неуязвимость. Скорей покончить е ремонтом, скорей отправить закованного в стальные латы чудо-рыцаря на фронт. Чуть что, и почти все мастера бросали свою работу, собирались у «тигра», оживленно обменивались мнениями, подавали советы. Эти минуты были большим облегчением для пленных и, хотя рабочий день удлинился, они расходовали сил и энергии не больше, чем в прежние дни.
Выгадав удачную минуту, Шевелев и появился у окошка кладовой с дрелью и сверлами.
— Это сдаю... Круглый напильник нужен. — И тихо изложил свою просьбу.
Кладовщица не испугалась, а скорее растерялась, огорчилась. Виновато посмотрела на Шевелева.
— Этого у меня нет.
— Может, раздобудешь где? Очень нужно. И главное — срочно. Завтра бы... — Иван Степанович честно выполнил свою миссию.
Девушка нахмурила чистый лоб, проверяя память, и тяжело вздохнула.
— Нет, этого достать не могу. Не видела даже.
— У танкистов наверняка водится. Зашла бы к ним...
Девушка отпрянула от окна. Только по губам Иван Степанович понял, что она сказала: «Нет, нет, нет...» Идти к танкистам, в их комнату, заигрывать с этими жеребцами было выше ее сил.
При первой же возможности Иван Степанович сообщил Полудневому:
— Пустой номер.
— Хорошо просил?
— Просил.
— Что делать будем, дядя?
Этот вопрос был обращен не к Шевелеву. Этот вопрос Полудневый задавал сам себе.
Люба была в отчаянии. Теперь она не сомневалась, что несколько пленных, поставив на карту свои жизни, намереваются захватить «тигр», и страдала от мысли, что ничем не может помочь им. Она давала бутерброды, сумела определить толщину стен... Все это мелочи.
Им нужна книжка с описанием материальной части танка «тигр». Где достать эту книгу?
Рабочий день кончился, пленных увели в лагерь. Получая свой жетон, пожилой ремонтник со шрамом на щеке вопрошающе глянул на нее: а может, что придумала, может, догадалась, где добыть нужные странички? Она отрицательно качнула головой — ничем не может обнадежить, ничем...
Люба делала последние записи в своей «бухгалтерии», она следила, чтобы отчетность по кладовой всегда была в ажуре. В коридоре послышался топот, заскрипели ступеньки деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Это мастера. Сейчас начнут мыться, переодеваться, одеколониться и, поужинав, сядут писать письма: «Дорогая Клара, дорогие дети! Ваш муж и отец, слава богу, жив и здоров и находится в безопасном месте...» Впрочем, кто-либо из них обязательно заглянет в кладовую, чтобы попытаться полюбезничать с русской девушкой. Восемь мастеров — восемь мужчин, тоскующих о домашнем уюте, ласках добропорядочных жен. Любу тошнило от взглядов их маслянистых глаз, трусливых ухаживаний, тяжеловесных комплиментов, хихиканья и раскатов утробного хохота. Хорошо, что Верк по ее просьбе строго предупредил своих соотечественников — никаких флиртов с кладовщицей.
В коридоре кто-то завозился, но на этот раз дверь открыл не мастер, а танкист, белокурый красавец с фельдфебельскими нашивками на погонах. Его фамилии Люба не знала, но слышала, что товарищи называли его Густавом. Ничего не сказав, Густав остановился на пороге, вынул из кармана губную гармонику и, прислонившись плечом к дверному косяку, часто мигая белобрысыми ресницами, начал играть «Катюшу». Он играл и неотрывно смотрел на Любу ледяными серыми глазами. Иногда казалось, что он винится перед девушкой, раскаивается, зовет ее куда-то, строит перед ней роскошные воздушные замки. Он играл самозабвенно, старательно выдувал писклявые ноты, вкладывал в музыку душу, и в глазах его, обращенных к Любе, таял лед, появлялись нежность, страдание. За «Катюшей» последовали тирольские песенки, их сменила русская «Метелица».
Когда какой-то мастер, привлеченный музыкой, открыл дверь, Густав, не меняя позы и не прекращая игры, одним небрежным ударом ноги вытолкнул его в коридор. Люба поняла: Густав сильно пьян.
— Три дня — едем на фронт, — сообщил он, вытер губы и заиграл снова.
Сыграл два куплета и оторвал гармонику от губ.
— Фронт, война, — произнес он обреченно и выпучил глаза. — Танк, пушка — бух, бах! Та-та-та-та-та-та... Трах! Бах, бух!
Изгибаясь всем телом, взмахивая руками, корча страшные гримасы на лице, Густав, точно маленький мальчик, играющий в войну, долго показывал, как несется танк, стреляют пушка и пулеметы, трещит что-то под гусеницами, взрываются и горят при прямом попадании советские танки, тогда как неприятельские снаряды отскакивают от брони «тигра», точно резиновые мячики.
Все он показывал в темпе, даже капли пота выступили на лбу.
Люба продолжала делать нужные ей записи и терпеливо кивала головой. Этого Густаву показалось мало. Ему хотелось, чтобы русская кладовщица полностью представила себе ту важную роль, какую он, фельдфебель-башнер, играет среди других членов экипажа, когда их танк вступает в бой. Чтобы внимание девушки не отвлекалось от его рассказа, он вырвал из ее рук карандаш и снова начал гудеть, бахать, щелкать языком, вертеться с выпученными глазами, изображая, как он быстро находит цель и, посылая снаряды, безошибочно метко поражает ее.
Все это было похоже на воинственные ритуальные танцы мужчин диких племен перед тем, как отправиться на охоту или совершить нападение на соседей. В этот момент Густав, несомненно гордившийся своим арийским происхождением, отличался от дикаря из людоедского племени только тем, что, вместо набедренной повязки из пальмовых листьев, на нем были брюки и отлично сшитая кожаная куртка.
— Я поняла, я все поняла... — кивала головой Люба, думая с тоской, что пьяного фельдфебеля не так-то просто будет выдворить из кладовой, и ей придется задержаться на рембазе дольше обычного.
А молодой гитлеровский танкист только распалился, даже пена выступила у него на губах. Видимо, ему давно хотелось покрасоваться перед строгой русской девушкой, не лишенной привлекательности даже в рабочей спецовке, вызвать у нее восхищение своей героической особой, но, будучи трезвым, он не позволял себе этого. И вот сейчас прорвало. Очевидно, боясь, что для Любы останется многое непонятным, Густав вынул из внутреннего кармана книгу в плотной картонной обложке, раскрыл ее на том месте, где находился занявший всю страницу рисунок танка в разрезе, и, тыча пальцем то в сидящего за пушкой башнера на рисунке, то себя в грудь, снова начал вертеться и вскрикивать, как бесноватый.
Но Люба уже не обращала внимания на пьяного танкиста. Затаив дыхание, она смотрела на лежавшую перед ней на верстаке книгу, на обложке которой значилось крупными буквами: «Т-6 «ТИГР». Материальная часть, боевое использование, технический уход». То же самое, только более мелкими буквами, было напечатано на корешке. Боже мой, ведь она уже однажды видела где-то эту книгу, нет, не всю книгу, а только голубоватый коленкоровый корешок с бросающимся в глаза словом «Тигр». Видела, видела... Где?
Она не заметила того момента, когда в настроении Густава произошел резкий перелом, и воинственный пыл танкиста сменился позорной плаксивостью. Густав внезапно приостановил свой устрашающий танец. Тяжело дышащий, вспотевший, он смотрел на Любу так жалостливо, будто только эта русская девушка могла понять его по-настоящему и посочувствовать, пожалеть...
— Фронт. Я убиваю. Раз, два... Много-много раз убиваю. Потом — бах! — убивают меня. Меня нет. Совсем нет. Ничего нет.
Он хотел было начать играть, но едва приложил гармонику к губам, как из его глаз покатились слезы.
— Мама, бедная мама... — говорил он, всхлипывая и не вытирая слез. — Она ждет, ждет, моя бедная мама.
Это было так неожиданно и необычно, что Люба не поверила своим глазам.
Густав плакал, вспомнив мамочку... А книга лежала на верстаке. Что делать? Прикрыть ее чем-нибудь? Но она не успела. В кладовую, громко стуча ногами, ввалились лейтенант Бегнер и еще один танкист без знаков различия на погонах, которого танкисты и мастера звали Карлом.
Лейтенант высокомерно окинул внимательным, острым взглядом верстак, девушку, сидящую за тетрадкой, плачущего Густава.
Очевидно, ему не впервой было видеть своего подчиненного в таком состоянии, и он не удивился, а лишь брезгливо скривил губы.
— Опять набрался, скотина... Как вы выглядите, фельдфебель?! Сейчас же приведите себя в порядок.
Густав попытался вытянуться, застегнуть пуговицы на куртке, но его сильно покачивало, пальцы путались, и пуговицы не хотели лезть в петлю. Карл помог ему, ловко одернул полы куртки и, взяв за плечи, попытался поставить фельдфебеля в почти безукоризненное вертикальное положение.
— Как вам не стыдно, фельдфебель? — хорошо поставленным командирским голосом распекал подчиненного лейтенант, — Боевой немецкий офицер, танкист... Появляется в таком виде, распускает нюни. И перед кем?
Лейтенант Бегнер метнул взгляд на кладовщицу, старательно заполнявшую графы в своих тетрадках и не обращавшую на него внимания, заметил на верстаке раскрытую книгу, видимо, показавшуюся ему знакомой, но тут его внимание отвлек Густав, промычавший что-то по поводу предстоящей отправки на фронт и необходимости хоть немного встряхнуться, находясь п тылу.
— Молчать! — повернулся к нему Бегнер. — Если бы не отправка на фронт и не ваши прошлые заслуги, я бы немедленно передал дело в военный суд.
Лицо Карла, стоящего позади лейтенанта, расплылось в лукавой улыбке, его явно потешала эта сцена, он знал прекрасно, что никакое серьезное наказание Густаву не угрожает, так как члены экипажа связаны одной боевой судьбой и стоят друг за друга горой, не дают в обиду.
— Сейчас же в комнату! — театрально гремел лейтенант. — Сдать оружие, домашний арест до утра. Карл, веди его.
Люба замерла. Книга лежала перед ней на верстаке: «Т-6 «ТИГР». Материальная часть, боевое использование, технический уход». Неужели останется?
Карл, поддерживая фельдфебеля под локоть, повел его к двери. За ними, поджав губы, двинулся лейтенант Бегнер.
Книга осталась на верстаке. Забыли. Она возьмет ее с собой, за ночь переведет нужную главу, скопирует чертежи и рисунки. А утром книга снова будет лежать там, где ее оставил Густав.
Уже на пороге лейтенант Бегнер, как бы вспомнив что-то, оглянулся, устремив свой взгляд на верстак.
— Негодяй, — прошипел он, хватая книгу. — Морду набить мало. Одну уже потеряли... Ну, я ему покажу!
Хлопнула дверь. Люба закрыла лицо ладонями. Боже, какая она неумелая, беспомощная в таких делах. Ведь книга была почти в ее руках. Стоило только прикрыть ее тетрадкой, и пьяный Густав не вспомнил бы о ней до утра. Да вообще вряд ли он будет помнить о том, что заходил сюда. Теперь книга у лейтенанта Бегнера, и заполучить ее невозможно. У Любы было такое ощущение, будто кто-то подразнил и жестоко посмеялся над ней. Но где же все-таки видела она корешок такой книги? Совсем недавно... Кажется, в стопке среди других книг, кажется, на чьем-то письменном столе. У Верка? А ведь похоже, очень похоже...
Люба выскочила в коридор, постучала в дверь кабинета начальника ремонтной базы. Она редко заходила сюда и всегда по какому-нибудь служебному делу, поэтому сочла возможным использовать личный мотив.
Верк был один. Он что-то высчитывал на листке бумаги и поднял усталые глаза на девушку, когда она близко подошла к столу. Люба сказала, что пьяный танкист Густав заходил в кладовую, устроил ей спектакль и у нее сейчас сильно разболелась голова. Не разрешит ли ей начальник закончить работу завтра утром, она придет на базу пораньше и, кстати, если будет оставлен ключ, сделает уборку в его кабинете. С такой просьбой кладовщица обращалась к Верку впервые. Гаутман внимательно посмотрел на нее и отвел глаза в сторону, о чем-то раздумывая. Люба успела несколько раз бросить взгляд на корешки лежащих на столе книг и с огорчением убедилась, что ничего похожего на учебник для танкистов среди них нет.
— Я разрешаю, — сказал Верк со своей мягкой, чуточку насмешливой улыбкой. — Ты придешь завтра раньше и, если будет время и желание, уберешь здесь. Ключ будет находиться у начальника охраны. Но услуга за услугу. Сейчас ты поедешь к своей подруге. Посидишь с ней, выпьешь кофе, поболтаешь. Всякие там воспоминания... Ты сама видишь, как я занят в эти дни, а Алла вынуждена сидеть дома одна и, естественно, скучает, хандрит и даже... даже ревнует. Развей ее глупые мысли, развесели. И, пожалуйста, не давай ей много пить... Буду благодарен. Идем, я скажу шоферу, чтоб он отвез тебя. А танкисты... Что взять с фронтовиков? Не обращай на них внимания, скоро мы с ними распрощаемся.
Через несколько минут из ворот рембазы вышел «оппель-капитан». Рядом с шофером сидела Люба, ветер трепал уголки ее скромного серенького платочка. «Последняя надежда... —думала она. — Возможно, корешок учебника я видела на квартире Верка, когда после смерти мамы не удержалась и зашла к Алке поплакать». Да, она заходила к Алле, все-таки Алла хорошо знала их семью и мама ее когда-то любила. Тогда в горе она, Люба, не обращала ни на что внимания, по ее зрительная память могла вобрать в себя некоторые, бросившиеся в глаза мелочи. Вот и корешок книги с неожиданным, набранным крупными буквами словом «ТИГР» мог запомниться ей.
Перед самым отбоем встретились у лагерной уборной Ключевский и Полудневый.
— Она не сможет достать. Попытайтесь на «четверке» — стены тонкие, глина, — сказал Юрий.
— Застрянет «четверка»...
— А может, рискнешь на этом...
— Робею, боюсь... — признался Полудневый. — Понимаешь, нет у меня уверенности. Машина неизвестная, на ерунде можно погореть.
— Что ты, Рома? Возьми себя в руки, мобилизуйся.
— Вот что, Чарли, мать ваша принцесса, — разозлился Полудневый. — Ты свое сделал и не путайся под ногами. Мы сами... Сами с усами.
Разошлись.
Алла обрадовалась приходу Любы, пустила слезу, расцеловала подругу. И начались сетования: Оскар ее разлюбил, у него, наверное, есть другая. А за ней, за Любой, он случайно не ухаживает? Конечно, конечно, она верит ей... Черт с ним, она найдет другого, уедет с ним в Германию.
Жалкая, слезливая бабья болтовня. Как опустилась, поглупела Алка. Даже красивое лицо приобрело что-то неприятное, отталкивающее. Боится потерять своего Оскара...
И Люба, выполняя наказ своего начальника, захватила инициативу, легонько подталкивая хозяйку, прошла с ней в горницу, уселась на диван, невдалеке от письменного стола. Все вышло очень естественно, но сердце Любы билось все сильней и сильней, она боялась взглянуть на книги, двумя стопками возвышавшиеся на письменном столе. Последняя надежда.
— Ой, какая ты глупая, Алка, — развязно-весело начала гостья, чтобы дать себе время успокоиться. — Ты мне веришь? Так вот, я свидетельствую, у твоего благодетеля много работы. Ты даже не представляешь, как ему трудно. Он и дома работает? Ой, как много книг! И все техническая литература.
Любе казалось, что ее слова звучат откровенно-фальшиво и Алла легко почувствует эту фальшь, но отступать было некуда, она должна была действовать напролом. И, повернувшись к столу, продолжала тем же тоном:
— Все-таки умный твой Оскар. Так много читать.
Она сняла с ближней стопки книгу, вторую, третью и вдруг на какое-то время потеряла дар речи — в ее руках был учебник для танкистов, на потрепанной обложке которого проступали сквозь грязные маслянистые пятна четкие буквы знакомого заглавия: «Т-6 «ТИГР». Материальная часть, боевое использование, технический уход».
Это был тот экземпляр, который гауптман Верк отобрал у предводителя «Отряда непобедимых» Тимура Строкатова, сына начальника городской вспомогательной полиции.
Люба пробыла в гостях у своей подруги довольно долго, а когда уходила, книга осталась на письменном столе в той же стопке, на том же месте — третья сверху.
А утром жетон № 17 вместе с инструментом получил листочки, свернутые в тонкую, трубочку.
— Оригинал и перевод... — шепнула Люба.
Шевелев взглянул на кладовщицу, увидел темные круги под ее глазами и, не найдя слов выразить изумление, восхищение, благодарность, сказал растроганно:
— Ну, дочка...
Делай, как я!
«Тигр» стоял на площадке готовности, обчищенный, обмытый, с закрашенными ссадинами. Угловатый, неуклюжий корпус его едва заметно вибрировал от работы мотора — водитель то увеличивал, то уменьшал обороты. Именинниками выглядели и члены экипажа. Их было четверо: командир танка лейтенант Бегнер, башнер-наводчик фельдфебель Густав, водитель рядовой Карл и механик — пухлый блондин с нашивками ефрейтора на погонах. Недоставало пятого — радиста-заряжающего, он погиб в последнем бою, и на его место еще никто не был назначен.
В праздничном настроении находился и начальник рембазы. Верк не спеша прохаживался с Бегнером возле танка и, сдержанно улыбаясь, рассказывал что-то, очевидно, приятное для них обоих.
Любе хорошо была видна эта картина — площадка готовности находились напротив окон кладовой. Видела она и фигуры пленных, работавших на своих местах у других танков. Однажды ей показалось, что невдалеке от «тигра» прошел ее знакомый, пленный со шрамом на щеке, носивший жетон № 17. В списке он именовался Шевелевым Иваном С. На что надеются этот человек и его друзья? Ведь, как она поняла, все их надежды каким-то образом связаны с танком «тигр», а танк этот сейчас уйдет с территории рембазы. Сколько волнений испытали они, готовясь к чему-то чрезвычайно отчаянному, сколько переживаний выпало на ее долю. И вот наступил тот тяжелый, огорчительный момент, когда приходится признать, что все их усилия, смертельный риск, какому они подвергали себя долгое время, оказались напрасными, бесполезными.
Точно такие же мысли одолевали Полудневого. Роман находился метрах в сорока от «тигра», помогал двум пленным ремонтникам снимать неисправный каток с поднятого одним бортом на домкратах танка Т-4.
Лицо его потемнело от злости — «тигр» с того момента, как его заправили горючим, все время был окружен немцами — сытыми, сильными, вооруженными, и это лишало лейтенанта даже самого малого шанса завладеть машиной. Тем не менее Полудневый с утра подавал Шевелеву знаки соблюдать готовность номер один, и Иван Степанович все время стерег взглядом своего старшого, готовый немедленно выполнить любой его приказ.
Имелся у Полудневого на примете еще один кандидат в помощники — Григорий Петухов, но, зная характер этого шального парня, Роман решил держать его в неведении до самого последнего момента. Петух человек рисковый, долго раздумывать не будет, поймет и согласится с ходу. На его долю, возможно, выпадет обязанность стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове зазевавшегося гитлеровца, а после этого нырнуть в люк, закрыть крышку. Сумеет! Только бы оказался в нужный момент под рукой. А скажи ему заранее, будет пороть горячку, сам изведется и тебе нервы издергает.
Конечно, по-прежнему все зависело от случая, фортуны. Однако похоже было, что фортуна повернулась спиной к Полудневому. Выполняя свою работу, он ухитрялся все время следить за тем, что делается возле «тигра», и настроение его ухудшалось с каждой минутой. По всем приметам «тигр» покидал базу. Так и есть, экипаж грузит магазины с патронами для пулеметов, несколько снарядов, занимает в танке свои места. У башни, держась за скобу, пристроился мастер Хопф. Начальник рембазы машет рукой, и часовые откатывают стальные ежи, открывают ворота.
Взревев мотором, «тигр» разворачивается, лейтенант Бегнер, почти по пояс высунувшийся из люка, приветственно помахивает рукой столпившимся на площадке мастерам, и танк выезжает с базы, оставив на земле два рубчатых следа от гусениц.
Вслед за танком выезжает на своем стареньком «оппель-капитане» гауптман, и часовые снова закрывают ежами проезд.
К мрачному, подавленному неудачей Полудневому подошел Шевелев — видимо, догадался, в каком состоянии находится его старшой.
— Видел? Можно было что сделать? — прошептал лейтенант.
— Никто тебя не винит.
— Хорошо было вашему комику придумывать, расписывать. Вот он — был и ушел, только след оставил.
— Так ведь не совсем, — сказал Иван Степанович. — Вернется.
— Откуда известно? — недоверчиво зыркнул на него цыганским глазом Полудневый.
Иван Степанович кое-чему научился у Ключевского.
— Вещички они свои не забрали, налегке отправились. И без рукопожатий...
«Точно! — пронеслось в голове у Полудневого. — Будут танк обкатывать, пушку, может быть, опробуют. Вернутся. Обязательно вернутся».
И действительно, через несколько часов «тигр» вернулся на базу.
Он снова стал на площадке готовности, развернувшись носом к воротам — тяжелый, разогретый, как бы покрытый испариной, с протертыми до блеска траками, с комками дерна, заброшенными гусеницами на бухту стильного буксирного троса, закрепленную на корме. Был чем-то похож он на молодого сытого битюга, которого тренировки ради хорошо погоняли по лугу. Довольные танкисты и мистер Хопф вылазили из люка, одобрительно хлопали ладонями по броне, прыгали на землю.
Прием экипажем отремонтированного танка состоялся.
В этот момент раздались три удара о подвешенный на проволоке кусок рельса, возвещавшие о том, что обеденный перерыв пленных закончился. Полудневый оказался невдалеке от Григория Петухова и подал ему знак приблизиться.
Раскачиваясь на длинных ногах, подошел Петух, высокий, с впалой грудью, в обвязанных проволокой ботинках с негнущимися деревянными подошвами, придававшими его походке что-то странное, комическое, как будто он шагал по гладкому льду и все время боялся поскользнуться.
Они не были друзьями. Но Полудневый покорил Григория презрением к власти проклятой пайки и дубинки барачного старосты. Григорий Петухов добровольно пошел в подчинение к этому смуглому, черному, точно обугленному человеку и гордился, когда Полудневый поручал ему что-либо или просто уделял внимание.
— Женат, кажется? — спросил лейтенант, рассеянно глядя в сторону. Он старался сохранять такой вид, чтобы со стороны их разговор с Петуховым казался бы случайным, пустячным.
— Ну?
— Есть шанс увидеться с женкой...
Петух испуганно, недоумевающе посмотрел на лейтенанта и тут же торопливо сказал:
— Понятно...
Но он не понял, он просто поверил, доверился Полудневому. Как всегда. Полудневый ведь никогда не шутил ради шутки.
— Поглядывай на меня. По первому знаку — на помощь.
— Понятно. — Теперь-то Петуху кое-что стало ясно.
— Не подведешь?
Григорий, в избытке нахлынувших на него чувств, не нашел нужных слов, а только издал горловой звук, похожий одновременно и на хриплый смех, и на рыдание.
— Надеюсь на тебя, Гриша... — прочувствованно сказал Роман.
И тронулось, завертелось вокруг лейтенанта Полудневого, как карусель вокруг опорного, держащего все на себе столба.
Сперва медленно, очень медленно.
Чистят два танкиста пушку «тигра» — значит, провели где-то за городом пробную стрельбу. Закончили, надевают новенький кожаный надульный чехол. Молодцы!
Наводчик вылез из башни, оставляет люк открытым. Хорошо!
Командир танка что-то внушает пухлому механику, строго грозя пальцем, затем, повеселев, дает какое-то распоряжение мастеру Хопфу и уходит в контору, прихватив с собой наводчика. Замечательно — только два члена экипажа остались у танка!
Что будет делать мастер Хопф? Мастер Хопф, поговорив с танкистом-механиком, направляется к бригаде, ремонтирующей Т-3, и с довольным видом что-то сообщает мастеру этой бригады. Он оповещает о чем-то приятном и других своих коллег. Похоже, что в конторе организуется малый сабантуй. Конечно! Гитлеровцы собираются отпраздновать окончание ремонта «тигра». Лучше не придумаешь!
Возле танка двое. Водитель лезет в свой люк, запускает мотор. Собирается ехать куда-то? Нет, часовые у ворот не проявляют намерения убрать ежи. Просто водитель и механик решили еще раз опробовать на разных режимах мотор. Пожалуйста, не возбраняется, мотор должен работать надежно...
И вдруг кто-то бьет Полудневого по лицу. Перед ним взбешенный мастер Рильке. Ага, мастер Рильке дважды окликал, подзывал к себе ремонтного рабочего жетон № 28, а жетон № 28 в это время глазел по сторонам, увлекался чем-то посторонним и не слышал приказа мастера. Черт знает что! За жетоном № 28 это замечается не впервые... Рильке кричит, бьет еще раз по лицу пленного, а «провинившийся», лейтенант советских танковых войск Роман Полудневый, стоит перед мерзким гитлеровцем, вытянув руки по швам. Он вынесет это испытание... Он будет стоять так, если даже мастер Рильке превратит его лицо в кровавое месиво. Он должен вытерпеть.
И Полудневый вытерпел, удержал себя, не заехал тяжелым ключом в ненавистную морду гитлеровца. Молодец, лейтенант Полудневый!
Слегка успокоившись, Рильке втолковывает пленным, что после замены неисправных катков они должны будут подтащить к танку траки, уложить их на земле под катками и соединить в гусеницу. Чтобы к его возвращению эта работа была закончена. Роман ест глазами начальство. Он воплощение покорности и послушания. Будет сделано, господин Рильке! Слово мастера есть закон!
Рильке скрывается в дверях конторы. Полудневый медленным движением вытирает тыльной стороной ладони кровь на губах и, будто бы он не совсем верно истолковал приказ мастера, хватает крюк, устремляется к воротам, где сложены в штабеля траки.
— Куда ты? — кричат ему пленные из его бригады. — Сперва нужно заменить еще два катка.
Полудневый точно не слышит. Он идет-ковыляет мимо «тигра», даже не поворачивая головы в ту сторону, но боковым зрением видит, что у танка по-прежнему дежурят двое: водитель — в открытом люке видно его сосредоточенное лицо, — прислушивающийся к работе мотора, и механик, который стоит перед люком, кричит что-то водителю, показывает на пальцах. Если бы отошел в сторонку этот толстяк, если бы вылез на минутку водитель...
В сознании рисуется такая соблазнительная картина: «тигр», заправленный горючим, загруженный боеприпасами и трехдневным сухим пайком для танкистов, покинули на несколько минут все члены экипажа, люки гостеприимно открыты, мотор работает. Садись и кати! Но Полудневый знает, такая идеальная ситуация вряд ли когда-либо может возникнуть. Нужно довольствоваться тем, что есть, лучшего случая не будет. Давай, Ромка, начинай, ставь на карту все, что есть у тебя и у твоих друзей.
И Полудневый, найдя глазами Шевелева, подает ему знак команду: «Делай, как я!»
В руках у Полудневого длинный тонкий крюк. Трак-звено танковой гусеницы — тяжел. Нести его на руках, передвигать по земле, направляя и подгоняя к другим тракам, неудобно. Кто-то из немецких мастеров предложил использовать для этой цели длинные крюки из толстой стальной проволоки с загнутым и слегка заостренным концом. Прихватил пленный крюком трак и тащит его, как салазки. Этим же крюком, не нагибаясь лишний раз, можно довернуть трак, подтянуть, точно сомкнуть с другим. Это не только облегчало, но и ускоряло работу.
Полудневый тащит подхваченный крюком трак. Навстречу ему с таким же крюком идет к штабелям Шевелев. Их пути пересеклись невдалеке от «тигра», один оказался левее танка, другой — правее. Полудневый одобрительно кивает головой: маневр правильный, здесь-то они и будут встречаться, это исходный рубеж для нападения.
Роман подтаскивает трак к своему танку и, не обращая внимания на недовольное бурчание, упреки товарищей по бригаде, сменяющих катки, поворачивается, чтобы идти за новым траком, и не может поверить своим глазам — танкист-механик шествует к чистенькой деревянной будочке с надписью на русском языке: «Только для немцев».
А Шевелев уже тащит трак от ворот.
А последние два мастера скрываются в дверях конторы.
Только часовые на воротах.
И тот, что в «гнезде» над крышей.
И бледное лицо девушки-кладовщицы в окне...
Вот он, долгожданный шанс, другого такого не будет. Действовать. Немая команда Шевелеву: «Делай, как я! Делай, как я!»
Пока ничего особенного: два пленных с невозмутимым видом, даже не глядя в сторону «тигра», идут навстречу. Один тащит на крюке трак, другой — с разбитыми, опухшими губами — волочит по земле такой же блестящий тонкий крюк, идет за траком. Они работают, они выполняют приказ мастера...
Приближаются друг к другу.
— Держи крепче крюк, — еще издали негромко и как можно спокойнее говорит Полудневый. — Вытащим гада.
Неожиданно движения двух пленных становятся быстрыми, плавными, слаженными и даже изящными. Они будто выполняют сцену из какого-то балета. Шевелевым брошен трак, точно сам он соскочил с крюка, Полудневый делает на одной ноге поворот. Оба они оказываются рядом. Четыре стремительных, скользящих, бесшумных шага к танку — и они перед открытым люком, из которого выглядывает лицо водителя, еще не успевшего ни удивиться, ни испугаться. Внезапный одновременный выпад, точно при фехтовании рапирами, и два тонких блестящих крюка, как две стальные змеи, влетают в открытый люк.
Крюк Шевелева сразу же зацепил хорошо, «с мясом», а крюк Полудневого скользит по коже куртки. Роман дважды дергает им, и, наконец, «подсечка» удается. Но мгновение упущено, гитлеровец успевает упереться руками о края люка, опешив от неожиданности, он все же сопротивляется яростно, молча, изо всех сил.
— Пету-ух!! — кричит Полудневый.
Петухов уже возле них, хватает своей длинной рукой водителя за шиворот, и гитлеровец вылетает из люка, как торпеда, шлепается упитанным телом на твердую, утрамбованную землю.
Только тут из его горла вырывается отчаянный крик, но Петухов коротким ударом ноги загоняет в его открытую пасть почти половину деревянной подошвы своего ботинка, и крик сменяется хрипом, бульканием.
Полудневый уже на месте водителя, закрывает дверцу люка. Иван Степанович утонул в люке башни. Петухов бросается вслед за ним, но в спешке вместо того, чтобы опустить в люк обе ноги сразу, сунул сперва левую, а правая оказалась вверху возле головы. Он дергает ее вниз, но в таком положении человеку, не имеющему навыка циркового акробата, не так-то легко проникнуть в танк через узкую горловину люка.
Уже поднялся шум, уже к «тигру» бежали часовой от ворот и выскочивший из будочки танкист-механик, уже кто-то из мастеров появился на крыльце конторы, уже Полудневый начал сдавать машину назад, а голова Петуха и его нога, обутая в ботинок с огромной, окровавленной деревянной подошвой, все еще не могли скрыться в люке. Петуху помог Иван Степанович, он дернул его изо всех сил вниз, и тот проскочил через горловину. Но в люке уже показалась рука с пистолетом, хлопнул выстрел, пуля звякнула о металл. Петух все же успел схватиться за рукоятку закрывающего устройства и потянул ее вниз, в сторону. Однако люк не закрывался полностью.
Полудневый не терял времени. Задний ход. Стоп! Передний. Танк рванул вперед. Вовремя — по смотровой щели выпустили очередь из автомата, но, к счастью, пули пошли косо, только защелкали по броне. И какая-то фигура отскочила в сторону. Часовой...
Ни одной секунды промедления. На ходу нужно сделать два небольших поворота: первый сейчас же, чтобы вывести танк ближе к конторе, второй — влево, чтобы точно нацелиться на крылечко и не задеть ежа. «Тигр» хорошо слушался рук Полудневого; забегающая гусеница мягко завернула машину к дому. Теперь строго на крыльцо. Успеет ли он сделать разгон, чтобы толкнуть домик по-настоящему? Так, все идет хорошо. Разгон... А позади наверху какая-то непонятная возня. Не оглядываться. Пусть Шевелев и Петух сами управляются. Что там у них?
Толстяк-механик, кисть правой руки которого была зажата крышкой люка, орал, как недорезанная свинья, пальцы его давно разжались и выпустили пистолет, однако Петух, ухватившись обеими руками за рукоятку крышки, тянул ее вниз, так и не понимая, почему не может загнать закрывающую скобу в гнездо. В это время Иван Степанович, помня наказ Полудневого, торопливо вращал ручку поворотного устройства, поворачивая башню так, чтобы длинный хобот пушки оказался над кормой танка и не помешал таранить стену.
Люба стояла у окна, судорожно хватая ртом воздух. Все, что произошло на площадке готовности за несколько последних секунд, разыгралось на ее глазах. Она стала свидетельницей чуда — танк оказался в руках трех отчаянно храбрых пленных. Любу переполняло чувство радости и гордости: она, слабая и беспомощная девчонка, была причастна к этому подвигу, стояла у его истоков.
Натужный рев мотора заставил девушку прийти в себя. Увидев надвигающуюся на дом громадину танка, сбившихся на крыльце отчаянно вопящих немцев, она отпрянула от окна к стеллажам, сообразив, что здесь самое безопасное место, но тут же заметила, что дверь кладовой, закрытая на крючок, сотрясается от рывков и ударов. Кто-то из мастеров старался сорвать дверь, проникнуть в кладовую, надеясь найти тут спасение. Этого нельзя было допустить. Люба подбежала к двери и дважды повернула торчащий в замке ключ.
Тут затрещало, пол качнулся под ногами, что-то тяжелое рухнуло на Любу, и она растворилась в бурой мгле, не успев подумать, догадаться, что это смерть, что она умирает.
Полудневый нанес первый, точно рассчитанный удар по дому. «Тигр» смял крыльцо в щепки, легко протаранил стену у проема входной двери, разрушил левую продольную перегородку коридора, свалил первую печку-голландку. Под обломками остались многие, не успевшие выскочить из конторы немцы. Легкое перекрытие верхнего этажа треснуло, осело, «гнездо» часового-пулеметчика провалилось между сломавшимися стропилами.
Сейчас же Полудневый послал машину назад. «Тигр» без труда вылез из горы обломков и, едва не зацепив правой гусеницей еж, вышел на площадку готовности. Тут Полудневый осуществил молниеносный поворот на месте и начал заранее запланированный «круг почета» по двору базы. «Тигр» сшибал лебедки, краны, козлы, на которых находились новые и ремонтируемые моторы, столкнул в бетонированную яму поднятый на домкраты Т-3, раздавил автогенный аппарат и походную кухню. Пленные ремонтники, уцелевшие немцы, часовые, стоявшие у ворот, разбежались кто куда, попрятались за танками, думая только об одном, как бы не попасть под гусеницу взбесившегося «тигра».
Дикая паника охватила гитлеровцев. Сперва они остолбенели от неожиданности, затем все делали невпопад, суматошно, бестолково. Особенно поразил их истошный крик танкиста-механика, чья рука с пистолетом оказалась зажатой крышкой башенного люка. Поначалу никто не мог сообразить, что произошло. Потом стало ясно, что пленные захватили танк. Каким образом могли они это сделать? Каков у них план действий? Ведь стены, окружающие двор, укреплены надолбами, а у ворот стоят стальные ежи. Никто не мог предположить, что танк изберет местом для удара кирпичное здание. А новый водитель «тигра» ударил в дом, и кирпичная стена, точно в сказке, рассыпалась на куски сухой, смешанной с соломой глины. Невероятно!
Среди всеобщего переполоха и остолбенения только один гитлеровец сохранил присутствие духа. Это был лейтенант Бегнер. Правда, в первое мгновение, когда он выскочил на крыльцо, на него тоже как бы напал столбняк, и он, изумленный, потрясенный, смотрел на свой танк, не зная, что делать. Однако, поняв, куда направлен удар, лейтенант бросился к ежу, чтобы, подкатив его, перекрыть дорогу «тигру». Он опоздал на какую-то долю секунды и поплатился за это — гусеницей прихватило край носка сапога на его левой ноге и, кажется, повредило палец.
Когда пленный, сидевший за рычагами управления «тигра», отбросивший, по предположению Бегнера, надежду пробить стены дома, сдал назад и начал свой разрушительный рейс по двору базы, лейтенант понял, как ему следует поступить, и, подхватив с земли какой-то болт, побежал за танком. Рука механика, потерявшего сознание или уже мертвого, все еще была зажата крышкой, и его тело висело на башне как бурдюк, одетый в черную кожаную куртку. Однако там, у зажатой руки, между крышкой и бортом люка имелась щель. Сунуть болт в эту щель и стрелять в нутро машины, вот что хотел сделать Бегнер. Но как только лейтенант оказался на танке, крышка люка приоткрылась, выпустив руку ефрейтора, и тотчас же закрылась намертво. Наконец-то Петух сообразил, что ему надо сделать. Тело ефрейтора съехало на жалюзи моторного отделения.
Бегнер спрыгнул на землю. И вовремя — танк, снова нацелившись на пролом в доме, набирал скорость.
На этот раз расстояние для разбега было большим и удар сорокашеститонной стальной громадины оказался намного сильнее первого. «Тигр» скрылся среди глиняных груд, обломков балок и стропил, трещавших и вздымавшихся под его напором.
Лейтенант Бегнер остановился, чтобы перевести дух.
Над разрушенным домом поднималось облако пыли. По реву мотора следовало предположить, что танк, пробив вторую стену, выползает из-под обломков на улицу.
Чудовищно! Бегнер вытер рукой пот на лице. Нет, он не даст уйти этим ублюдкам, танк будет спасен. Бегнер хлопнул по кобуре, проверяя, на месте ли пистолет, прихрамывая на левую ногу, бросился к стоящему у ворот мотоциклу с коляской и дал гудок перепуганному часовому, чтобы тот открыл ворота и пропустил его.
Верк услышал беспорядочную стрельбу, когда он после визита к коменданту города возвращался на базу, чтобы принять участие в маленьком торжестве по случаю окончания ремонта «тигра». Гауптман присутствовал при всех испытаниях танка, а затем решил заскочить на железнодорожную станцию, так как туда прибыл первый эшелон южного отряда войск, которому совместно с другими отрядами надлежало провести крупную операцию по окружению и уничтожению партизан, обосновавшихся в северных лесах. Верк задержался там, беседуя с подполковником Гизлингом. Подполковник интересовался, когда будут отремонтированы первые танки и следует ли надеяться, что их можно будет использовать в боях против партизан. После этого начальник рембазы поехал в комендатуру, откуда отправил телеграмму своему начальству, отрапортовав, что отремонтированный «тигр» успешно прошел все испытания.
Послышавшаяся было в районе рембазы стрельба почти тотчас же утихла, но это не успокоило Верка. Он понял, что на базе что-то произошло, и приказал шоферу гнать машину, не жалея шин и рессор. Когда «оппель-капитан» выскочил на Гуртовую, Верк заметил только одно — пулеметное гнездо на крыше конторы исчезло и сама крыша как будто стала ниже. Тут послышались треск, грохот, натужный рев мотора, стену вспучило, на улицу, загораживая дорогу, вывалились куски стены нижнего этажа, и из пыльного облака, сердито урча, выполз заваленный обломками танк. Шофер мгновенно затормозил, дал задний ход, чтобы развернуться, намереваясь поскорее удрать от чудовища, но «тигр», сделав поворот налево, устремился по улице. Поняв, что им угрожает, Верк прыгнул в одну сторону, шофер — в другую, и танк левой гусеницей сбил, расплющил, как консервную банку, кузов старенького «оппель-капитана». Верк не успел прийти в себя, как мимо, вслед за танком, промчался на мотоцикле лейтенант Бегнер — бледный, с искаженным лицом, похожий на безумного. Очевидно, он не заметил ни раздавленную автомашину на мостовой, ни людей, стоящих на обочине. Он догонял танк.
Броня и гусеницы
Когда Полудневый ради попытки осуществить побег на танке согласился пойти в ремонтную команду, он думал не столько о желанной свободе, сколько о возможности получить в руки мощное, грозное оружие. В лагерях военнопленных его не раз доводил до отчаяния тот факт, что один гитлеровец заставляет повиноваться своей воле пятьдесят, а то и сто человек пленных, среди которых нашлось бы немало людей храбрее, мужественнее и искуснее в военном деле своего надсмотрщика или конвоира. Один и сто, десять и тысяча... Их лагерь с двумя тысячами пленных охраняло не более сорока пяти немцев. Секрет такого соотношения состоял лишь в том, что в руках эсэсовцев были автоматы и пулеметы, а загнанные за колючую проволоку пленные не имели даже палок и камней. Полудневый мечтал об оружии. Для него было бы счастьем, если бы в его руках хотя бы на минуту оказался автомат или пулемет. Счастьем и чудом. Чудом потому, что Полудневый не знал случая, когда бы пленным удалось захватить оружие конвоиров или часовых. Такие попытки были, но, как правило, они кончались неудачно, и смельчаки расплачивались за них жизнью.
Полудневого не привлекало поспешное трусливое бегство на танке, он жаждал боя, ему нужно было нанести неожиданный сильный удар по врагу, серию таких ударов, только тогда бы он утолил хотя бы частично свою жажду мщения, снова почувствовал бы себя бойцом, настоящим человеком. Не удачный побег прельщал его, а победоносный бой, даже если бы бой этот закончился его гибелью. Поэтому Полудневый заранее обдумал с друзьями маршрут, по которому должен был пройти «тигр» после того, как он вырвется с базы.
Первым объектом для нападения определили бывший городской Дворец пионеров. Годун несколько раз попадал в группу пленных, какую гоняли в город на ремонт брусчатых мостовых, и утверждал, что на улице Пушкинской, переименованной немцами в улицу Бисмарка, в здании бывшего Дворца пионеров находится какая-то офицерская школа. В ней занимаются и укрепляют после госпиталя здоровье унтер-офицеры, получающие после короткой подготовки лейтенантские погоны. По словам Петра, курсантов было сотни две, он несколько раз видел, как они в две или три смены обедали в специально выстроенном возле летней кухни просторном деревянном павильоне.
И Полудневый повернул налево. В танке было темно, смотровая щель, засыпанная глиняным мусором, светилась тускло. Роман с трудом угадывал, где пролегает проездная часть улицы. Когда танк слегка перекосило и под левой гусеницей заскрежетал кузов «оппель-капитана», Роман даже не понял, что танк раздавил автомашину. Затем под правой гусеницей затрещал забор и захлопали падающие на землю стволы сломанных маленьких деревьев.
Двигаться, почти ничего не различая впереди, было опасно, и Полудневый рискнул: не сбавляя скорости, он одной рукой открыл дверцу люка, другой протер снятой с головы пилоткой смотровую щель и тут же захлопнул тяжелую дверцу. Стало светлей.
«Тигр» несся по улице, стряхивая с себя куски глины и кирпича, деревянные обломки, песок и пыль.
— Эй вы! — крикнул Полудневый, поворачиваясь. — Проверить пулемет. Сумеете стрелять?
— Сейчас попробую! — донесся голос Петуха. И послышалась короткая очередь.
— Отставить! — заорал Роман. — Куда стреляешь, мать твоя принцесса?
— Попробовал. Ничего не видать. Люк можно открыть?
— Петух, голову оторву! — отчаянно закричал Полудневый. — Старший в башне — Шевелев. Открывать огонь только по группам немцев и полицаев.
— А если один, да генерал? — Петух находился в самом приподнятом настроении. Шевелев толкнул его локтем — молчи, не время для веселья.
Лейтенант Бегнер, увидев, что танк повернул не на выезд из города, а к центру города, начал догадываться о намерениях тех, кто захватил машину. Первым его желанием было обогнать танк и, проскочив вперед, предупредить курсантов офицерской школы об опасности. Однако один из пулеметов танка дал короткую очередь, и Бегнер, решив, что он замечен и стреляют по нем, вильнул вправо, к забору, и притормозил. Тут он понял, что ошибся, но несколько секунд было потеряно. В это время «тигр» выскочил на брусчатку мостовой и, сбив одну за другой две встречных грузовых машины, помчался по улице Бисмарка.
Вот и здание бывшего Дворца пионеров. Лихой поворот на ходу левой, забегающей гусеницей, удар в ворота, и две створки из листового железа распахнулись, словно они были сделаны из тонкой фанеры. «Отличный, первоклассный водитель, — с тоской отметил про себя Бегнер. — Снова жертвы, много жертв».
Последняя смена курсантов закончила обед. В павильоне дежурные убирали со столов посуду, но двор между павильонами и трехэтажным домом был заполнен курсантами, готовящимися к построению. «Тигр» врезался в эту толпу, но, на удивление, только трое из стоявших невдалеке от ворот попали под гусеницы, остальные успели отскочить в сторону, открывая танку путь.
— Огонь!! — во всю глотку крикнул Полудневый. — Короткими очередями!!
Он резко завернул танк в сторону павильона, руша столбы легкой деревянной постройки. Под гусеницы попали вместе со столами, стульями несколько пытавшихся найти здесь убежище курсантов. Башня все еще была повернута пушкой и пулеметом назад. Пулемет застрекотал короткими очередями, но вскоре замолк.
Получилось жиденько, и это расстроило Полудневого, рассчитывавшего на большой эффект. Если бы внезапное нападение танка произошло буквально на пять минут раньше и Роман застал бы будущих гитлеровских офицеров в павильоне за десертом, он бы накормил этих молодчиков... Жалко, но уже ничего не поделаешь, возвращаться нельзя, нельзя терять и нескольких секунд, да и могут найтись у этих гадов настоящие, а не учебные противотанковые гранаты, мины или бутылки с горючей смесью. И отчаянные смельчаки среди них, конечно, найдутся — публика бывалая, на передовой обтертая, обстрелянная. Теперь надо снова вырваться на шоссе и выскочить к железнодорожной станции.
— Поверните башню пушкой вперед! — скомандовал Роман. — Ведите наблюдение за дорогой.
Башня начала вращаться. «Тигр» шел задворками, огородами, ломая, как спички, столбы, обрывая колючую проволоку изгородей. За ним почти впритирку несся подпрыгивающий на неровностях почвы мотоцикл с лейтенантом Бегнером.
То, что пережил Бегнер на ремонтной базе и во дворе офицерской школы, было самым ужасным в его жизни, но он не отказался от своего плана остановить танк, уничтожив тех, кто захватил машину. Только это спасало его от неслыханного позора и военно-полевого суда. Впрочем, был еще один выход — пистолет к виску... Кто бы мог подумать, вообразить: такую машину, последнее слово немецких конструкторов-танкостроителей захватили жалкие оборвыши, полутени-полутрупы. Немецкий танк в руках советских пленных! Эта стремительно движущаяся на гусеницах стальная крепость будет выведена из строя не в бою, не снарядами сверхметкой советской артиллерии, не бомбами, не отвагой искусных метателей бутылок с горючей жидкостью, а жалкими, едва передвигающими ноги дистрофиками. Перед тем, как покинуть машину, они, конечно, попытаются каким-либо способом привести ее в полную негодность. Но до этого они успеют наделать еще немало шума. Уже погибло несколько десятков немцев, из экипажа танка в живых остался, кажется, только он, лейтенант Бегнер.
Полудневый нашел просвет между домами, вывел танк на мостовую улицы Пушкинской и на этот раз повернул не к центру города, а туда, где шоссе ровной линией уходило к мосту, переброшенному через железнодорожное полотно. Как ни соблазнительно было проскочить на «тигре» по центру, пугая немцев и полицаев, Полудневый эту мысль отбросил — шуму будет много, а толку мало, да и рискованно очень. Еще в танковом училище их преподаватель, участник боев в Испании, рассказывал, в каком невыгодном положении оказываются танки, когда им приходится сражаться в крупных населенных пунктах без поддержки пехоты — за каждым домом их подстерегает опасность.
— Разобрались там? — крикнул Полудневый. — Снаряды есть?
— Есть! Два снаряда, — ответил Шевелев.
— Петух! Магазины?
— Пустые, — ответил Григорий. — И жратвы никакой не видать... Сволочи!
Роман пошарил правой рукой по кожаным гнездам, где находились магазины, предназначенные для курсового пулемета. Только один оказался тяжелым.
— Нашел. Возьми.
— Хлеб? — крикнул обрадовавшийся Петухов.
— Для фрицев! Ты, Гриша, не дури — выброшу из танка! Стрельба прицельная, боеприпасы беречь! Иван Степанович, как пушка?
— Освоил вроде.
Пушкинская кончилась. Левый поворот на шоссе. Полудневый вынужден был сбавить газ, форсируя ход правой обгоняющей гусеницы.
Тут-то лейтенант Бегнер решился осуществить первую и самую трудную, как полагал он, часть своего плана. Разогнав мотоцикл, почти ткнув его в корму «тигра», он уперся правой ногой в передок коляски, поднялся и прыгнул на моторное отделение танка. Боль в левой ноге снова огненной иглой пронизала его тело, но все же ему удалось удержаться на танцующей под ногами броне, уцепиться за скобу башни. Этот прыжок по праву следовало бы сравнить со смертельным номером под куполом цирка, и лейтенант Бегнер подумал с тоскливой радостью, что все-таки фортуна полностью не отвернулась от него и что после трагической неудачи он, возможно, снова попал в полосу везения.
Теперь оставалось ждать. Ждать терпеливо, возможно, очень долго, не обнаруживая своего присутствия на танке. Кто-то из иванов не вытерпит и откроет люк башни. Вот тогда-то наступит его торжество, они без оружия, и он с ними разделается в течение нескольких секунд, перестреляет всех, точно кроликов в ящике. Ждать! Бегнер посмотрел на ногу. Гусеницей прихватило всего лишь два-три сантиметра, рант с подошвой на носке сапога был сорван, залит кровью. Если бы только это...
Ждать! Они не подозревают, что кто-то есть на танке. Какие сволочи, какая дерзость... Этих свиней надо было поголовно уничтожать прямо на поле боя, а не брать в плен.
Все-таки нужно отдать должное этим русским, они все продумали и организовали отлично. Наверняка танкисты. Сейчас чувствуют себя на седьмом небе, опьянели от счастья. Ничего, он им покажет. Хорошо было бы, если б развязка наступила поскорее. Он бы выбросил трупы на обочину. Нет, он привяжет тела этих негодяев вот здесь, где он стоит, а сам, развернув танк, медленно, на первой скорости, поведет его к ремонтной базе. Как заарканенного, усмиренного коня. Это будет триумфальный проезд, путь героя, пусть знают ремонтники и прочие тыловики, что значит офицер-танкист. По их вине произошло это неслыханное несчастье. Какой идиот мог додуматься до того, чтобы привлечь пленных к ремонту танков? Глупость, граничащая с преступлением, предательством. Кто там уцелел на базе? Ведь почти все находились в конторе.
Бегнер стоял, пригнувшись, возле башни. Он боялся, что в обзорные просветы командирской башенки его могут заметить — ведь кто-то там сидит на его месте. Тогда все пропало. Может быть, уже заметили...
Однако опасения лейтенанта были напрасными. Внимание Полудневого, Шевелева, Петухова привлекло в этот момент другое. Впереди, у обочины, стояли несколько автомашин с большими, обтянутыми брезентом кузовами. Еще три таких машины выехали с улицы Колеевой на шоссе. Приблизившись к колонне, они съезжали на обочину и останавливались. Возле машин бегал, размахивая руками, офицер. Все было ясным — тут формировалась какая-то автоколонна. Услышав крики, выстрелы, увидев бешено мчавшийся танк, начальник колонны счел наиболее благоразумным освободить для «тигра», каким управляли, по его мнению, пьяные или сумасшедшие танкисты, всю проезжую часть шоссе.
У Полудневого, при виде замерших в ожидании автофургонов, дух захватило от ликования — более роскошную поживу для тяжелого танка трудно было представить. Он расправится с ними без единого выстрела.
— Внимание! — закричал Роман. — Пушку чуть влево. Огонь не открывать. Башку, башку берегите!
Голова у Полудневого гудела, с рассеченной брови сочилась кровь. Пробкового шлема у него не было, и он дважды, когда таранил дом, ударился головой о железо. Боль вскоре, казалось бы, утихла, а теперь снова дала знать о себе.
Бегнер осторожно выглянул из-за башни, чтобы посмотреть на дорогу, и только тут увидел машины, находившиеся в каких-нибудь двухстах метрах от танка. Он понял, что ничем, даже ценой своей жизни, уже не сможет предотвратить разгром колонны. Эти машины через несколько секунд будут раздавлены, многие солдаты, сидящие в них, погибнут, даже не сообразив, откуда пришла к ним смерть. Бегнер стиснул зубы, закрыл глаза и поплотней прижался к башне.
Первую машину Полудневый ударил почти в лоб. Она затрещала, вздыбилась, перекинулась, рассыпая вокруг себя обломки кузова и какие-то ящики. Из кабины второй прямо под гусеницы прыгнул немец в очках, вслед за ним начали прыгать с других машин солдаты, разбегаясь в стороны, они кричали что-то и отчаянно грозили танку кулаками. Роман чуть свернул влево, прибавил газу. Теперь «тигр» несся впритирку к колонне. Казалось, он даже не прикасался к машинам, но не успевал танк поравняться с очередным автофургоном, как тот, точно сдутый ветром, летел под откос, кувыркался, рассыпаясь в щепки. Один за другим. Восемь машин. В том числе и та, над фанерным, окрашенным в грязно-зеленый цвет кузовом которой была протянута антенна.
Очень хорошо прошелся «тигр». Тяжелый танк не раздавил колонну, а, точно гигантский резец, черкнул по ней, снял с нее стружку, превратив грузовики в железный хлам. Одна машина сразу же загорелась.
Да, русский водитель знал свое дело. Бегнер был в отчаянии, ему казалось, что он начинает сходить с ума, боль в ноге становилась нестерпимой. Какие планы у этих негодяев? Где они собираются нанести свой очередной удар? Запас горючего в танке ограничен, его хватит на пять-шесть километров, не больше. Водитель, конечно, знает это. По логике вещей иваны постараются отъехать от города как можно дальше. Ведь они совершают побег и охвачены тревогой за свою судьбу. Но перед тем, как покинуть «тигр» и скрыться в ближнем лесу, они, несомненно, попытаются поджечь танк или каким-либо другим способом вывести его из строя. Как бы там ни было, им придется открыть люк. Он, Бегнер, не упустит этого мгновения, он перестреляет их по одному в танке. Ведь они не имеют личного оружия и станут его легкой добычей.
Вдруг танк остановился и круто, на месте, развернулся в обратную сторону. «Снова в город? — изумился Бегнер. — А может быть, им просто захотелось полюбоваться разгромленной колонной? Не исключается также, что они попытаются добыть боеприпасы, ведь в танке оставалось два неполных диска и два снаряда. Возможно, они не удержатся от соблазна поискать съестное, ведь их мучит голод. Терпение, терпение. Сейчас все выяснится».
О еде думал только Григорий Петухов. Правда, желание раздобыть харч было даже для Григория не главным, больше всего его занимала мысль, что в разбитых машинах среди прочего груза находились, несомненно, ящики с патронами и что парочка таких ящиков, заброшенных в танк, им бы не повредила. Он эту операцию провел бы молниеносно. Ну, а если бы ему на глаза попался мешок с провизией, он бы, конечно, не преминул бы прихватить и эту добычу.
Что касается Полудневого, то повернуть назад его заставило другое — он сообразил, что разбитые им машины прибыли по железной дороге, что на станции, очевидно, происходит разгрузка воинского эшелона. Чтобы убедиться в этом, нужно было выскочить на мост-виадук, оттуда хорошо были видны станционные пути, — но это потребовало бы нескольких минут, а минуты-то и решали успех. «Нанести внезапный удар по станции!» — приказал себе Полудневый. Он знал, что рискует попасть в ловушку, однако, если на железнодорожную станцию прибыл эшелон, то риск был оправданным, игра стоила свеч.
— Останови! Патронов наберу! — закричал Петухов и, не ожидая разрешения, открыл крышку люка башни.
Бегнер давно ждал этого мгновения, но все произошло немного иначе, нежели он предполагал. Сперва над люком показалась худая, грязная рука с пистолетом. Вот этот пистолет-то и смутил Бегнера: «Откуда у них оружие?» — мелькнуло в голове лейтенанта. Он понял, что пленного надо разоружить раньше, нежели тот увидит его, и изо всей силы ударил рукояткой своего «вальтера» по грязному кулаку. Пистолет выпал из разжавшихся пальцев, но пленный ухватился за ручку крышки люка и захлопнул ее. Бегнер успел выстрелить в щель и был уверен, что пуля попала в того, кто находился в башне танка, но тут же понял, что совершил ошибку, побоявшись сунуть руку в горловину люка. А побоялся он потому, что перед его глазами все еще стояла картина ужасной гибели их несчастного механика, чья рука оказалась зажатой крышкой. Бегнер начал с остервенением дергать, рвать на себя крышку, однако она не поддавалась, хотя чувствовалось, что еще не была закрыта наглухо.
Крышку тянул вниз Шевелев. Григорий успел крикнуть: «Фриц!» — и свалился на бок. Каким образом гитлеровец оказался на танке, этот вопрос не интересовал Ивана Степановича. Важным было лишь то, что этот гад находился возле башни и пытался открыть крышку люка. Раненный, потерявший сознание, Петух своим телом давил на Шевелева, мешал ему ударить по задвижке, но в то же время немного помогал, так как, навалившись на руку Ивана Степановича, увеличивал груз, тянувший крышку люка книзу.
Полудневый понял, что произошло. Он понял также и то, что Иван Степанович не сможет долго удерживать крышку, а задвижку ему не закрыть, так как нужно хотя бы на несколько мгновений освободить вторую руку, на которой лежал истекающий кровью Петухов.
Их спасение состояло в том, чтобы немедленно сбросить немца с танка, и Полудневый свернул к развалинам двухэтажного здания. Это здание с тонкими кирпичными стенами, предназначавшееся раньше для хранения поступающего от колхозов льняного волокна, стояло сейчас без дверей, окон, с разобранной крышей и перекрытиями, и в нем сохранилась почти полностью только одна стена, пробитая в нескольких местах снарядами. Роман танк направил так, будто хотел миновать здание, но тут же повернул вправо, и «тигр» с грохотом проломил стену, свалил остатки другой и в облаке рыжеватой пыли снова вышел к шоссе.
Бегнер вовремя понял маневр водителя и успел спрыгнуть на землю, по несколько кирпичных обломков все же ударили его в спину, он едва поднялся на ноги. Скорбная улыбка появилась на губах лейтенанта. Да, ему везло — он снова, в третий раз за короткое время, ушел от смерти. От смерти, но не от позора. От позора его уже ничего не спасет. Но разве он не попытался сделать все возможное? Нет, он ни в чем не может обвинить себя. Разве только в том, что оставил танк под присмотром дуралея Генриха. Только в этом его вина. Впрочем, достаточно. Вполне. Лейтенант Бегнер огляделся вокруг: стреляться здесь, среди развалин, жалких грядок огородов, чтобы его тело валялось в пыльном бурьяне? Нет, он примет смерть не прячась, на виду, у шоссе.
«Тигр» уже свернул на Колеевую. Не успел Бегнер добраться до шоссе, как со стороны железнодорожной станции послышались отчаянные крики, грохот, стрельба — танк перемалывал своими гусеницами выгруженные из эшелона машины, оружие, снаряжение. К Бегнеру бежали те, кто спасся при разгроме автоколонны, они что-то кричали, видимо, надеясь получить у офицера-танкиста объяснения тому, что произошло. Лейтенант не обращал на них внимания и не прислушивался к стрельбе на станции. Все, что творилось вокруг, уже не касалось его. Отставив чуть в сторону раненную, горевшую огнем ногу, он медленно поднял к лицу пистолет.
Как пьяный, старающийся хорошенько, чтобы не потерять и капли драгоценной влаги, приложиться к горлышку бутылки, Бегнер повертел головой, елозя губами по дулу «вальтера», продвинул его в рот, успел ощутить вкус металла и смазочного масла и нажал немеющим пальцем спусковой крючок. Выстрела он не услышал...
А «тигр», послушный рукам Романа Полудневого, носился по привокзальной площади, товарному двору, станционным путям, сбивая, подминая под себя выгруженные из вагонов минометы, полевые кухни, ящики с боеприпасами, провизией. Были изувечены еще несколько автомашин и два броневика. Однако больше всего обрадовало Романа то, что после коротких пулеметных очередей, пущенных рукой Шевелева, загорелись, а затем начали рваться три беленьких цистерны с бензином.
Город замер, оцепенел, затаился, прислушиваясь к бою танка-одиночки.
Окна как бы сами собой прикрылись ставнями. Матери прижимали к себе детей. Полицаи на постах растерянно поглядывали друг на друга. По улицам бешено промчались мотоциклы с гитлеровскими офицерами. На вышках лагеря часовые припали к своим пулеметам.
У коменданта беспрерывно звонили телефоны, отдавались поспешные приказания.
В карьере по добыче гранита приостановились работы, и никто из немцев не пытался кричать на пленных, требовать, чтобы они снова начали поднимать куски камня, грузить щебенку, толкать вагонетки. Все замерли на своих местах, там, где их застали звуки стрельбы, доносившиеся со станции, — часовые, распорядители, надсмотрщики, пленные.
Никто не мог представить себе, что, собственно, происходит в городе. Мысль о нападении партизан среди бела дня, тогда как в городе имелся крупный гарнизон и к тому же на станцию прибыл эшелон с войсками, отметалась сама собой.
«Какое-то недоразумение, вызвавшее широкую волну паники, — уже несколько раз пытался успокоить себя начальник карьера. — Бывает... Может быть, полицаи ловят кого-то. Подняли такой шум, дурачье».
Он обозлился на себя, на своих помощников и, конечно, больше всего на получивших неожиданный отдых пленных.
— Приступить к работе! — заорал начальник карьера. — Что раскрыли рты? Немедленно приступить к работе.
Но тут-то в первый раз раскатисто ахнула пушка, и снова все замерли, прислушиваясь.
Только два человека среди находившихся в карьере знали, что именно происходит в городе, — Юрий Ключевский и Петр Годун. По то вспыхивающей, то умолкающей в разных местах жиденькой ружейно-пулеметной стрельбе Петр Годун мысленно прослеживал путь танка, почти безошибочно отгадывая его местонахождение. В районе железнодорожной станции «тигр» задержался; несколько пулеметных очередей, взрывы гранат могли означать, что танк повредил гусеницу и уже наступила развязка. Но тут раздались мощные взрывы, и в той стороне, где находилась станция, поднялось мутное голубое облачко.
«Цистерна с бензином!» — подумал Годун, опуская голову, чтобы никто не заметил радости в его глазах. Странно, кроме восхищения действиями Полудневого, он испытывал ревнивое чувство к тому, кто занял его место в танке. Конечно, Полудневому и Шевелеву наверняка повезло в самом начале, но и все последующие действия их говорили о том, что они думали не о своем спасении, а о том, как бы причинить гитлеровцам побольше вреда. Это был не побег на танке, а серия хорошо продуманных внезапных ударов по врагу. И Годун должен был признаться себе, что действовать так хладнокровно и умело, как лейтенант Полудневый, он при сложившихся обстоятельствах, пожалуй, не сумел бы.
Юрий Ключевский стоял с полуприкрытыми глазами, бледный, искусавший в кровь губы. В его сознании перегородка между явью и вымыслом никогда не отличалась прочностью, а иной раз исчезала полностью, становилась эфемерной. И сейчас ему казалось, что он бредит, что дерзкий замысел, родившийся в его голове, осуществляемый в этот момент другими, не что иное, как галлюцинация. Находясь на дне чаши карьера, Юрий видел то, что было недоступно его взору и взорам других, — на ремонтной базе рушился пробитый насквозь дом, пулеметное гнездо вместе с часовым проваливалось сквозь крышу, и «тигр» медленно, с трудом выползал в пролом, расширяя его и разворачивая обломки. Вот он понесся по улицам, что-то громя и подминая под себя. Затем точно провал в памяти, темнота... И вот уже «тигр» объявился на привокзальной площади и учинил там полный разгром, Юрий видел перед собой страшное, почерневшее лицо Полудневого, неистово орудующего рычагами и посылающего танк то в одну, то в другую сторону, нанося короткие, сильные, неотразимые удары. И лицо девушки-кладовщицы привиделось ему, и напряженные глаза сидящего в башне за пулеметом Ивана Степановича. Бешено кружились в воздухе листья клена, и кидались врассыпную бледные от страха гитлеровцы, пытающиеся спастись от настигающих их гусениц танка. Юрию трудно было поверить, что все это происходит в действительности, ведь все это он придумал, создал в своем воображении, и вдруг воображаемое стало реальностью, жизнью, судьбой его друзей. Непостижимо!
А кленовый, цвета крови, листок кружил и кружил перед лицом Юрия, опускался на его искусанные губы, как бы для того, чтобы остудить их, и снова возносился потоком воздуха, трепетал, как крохотное полупрозрачное алое знамя.
Со стороны города начали бить пушки. Беглый огонь вела батарея, а может и две. Звуки выстрелов сливались с грохотом разрывов снарядов. Затем артиллерийская стрельба оборвалась, и в небе появился бомбардировщик. Самолет летел низко в той стороне, где пролегало шоссе. Вдруг черный комочек оторвался от самолета, и земля вздрогнула от взрыва тяжелой бомбы.
Петр Годун судорожно вздохнул, он понял, что «тигр» снова вышел на шоссе, опомнившиеся гитлеровцы вели по нем огонь из уцелевших пушек, а сейчас на него сбрасывает бомбы специально вызванный самолет. Вот какой шум подняли хлопцы... Петр завертел головой, пытаясь найти глазами Чарли, но не нашел, хотя тот стоял недалеко от него. В эти мгновения все пленные были удивительно похожи друг на друга — застывшие в ожидании чуда полумертвецы.
Весь город, притихший, притаившийся, слушал звуки боя.
Начальник вспомогательной полиции Строкатов заскочил на минуту домой. Лицо серое, щеку бьет нервный тик. Не стесняясь ни жены, ни сына, обругал немцев, употребляя самые грязные слова, — сами отдали в руки пленных такой танк, а вину, конечно, свалят на полицию. Высшая раса, мать их распратак. Уже выбегая из квартиры, Строкатов, заметив сына, дал ему хорошенько по загривку. «Понял за что? Ты у меня доиграешься, сукин сын». Тимур понял. Он вышел на улицу. Там, у ворот, его ожидал взволнованный Васька, смуглое лицо которого блестело от пота.
— Слышишь? Вот как надо было. А мы... Игрались. Подлеца Гришку взяли в свою компанию.
— Не в этом дело, — сурово сказал Тимур. — Возраст у нас не для такого танка. Если бы каждому хоть бы годка по два прибавить...
И они умолкли, жадно прислушиваясь к эху взрывов.
Полудневый не давал себе передышки, знал, что самая ничтожная заминка может стать роковой для них. Башенный пулемет молчал. Патроны в магазинах кончились. Оставались два снаряда, но на надульнике пушки висели клочья кожаного колпака, и вряд ли можно было рассчитывать на прицельный выстрел, так как в дуло наверняка попали куски кирпича и прочий мусор. Скорее всего первый же выстрел разорвет ствол. Это будет неплохо, но надо оставить под конец. Развернувшись в последний раз на привокзальной площади, Роман погнал танк вверх по Колеевой и выскочил на шоссе в тот миг, когда мимо хотела прошмыгнуть мчавшаяся на большой скорости открытая штабная машина. Военное счастье еще раз, как бы в награду за его умение и храбрость, улыбнулось лейтенанту Полудневому. Он успел преградить дорогу машине выступом правой гусеницы, и машина эта с металлическим визгом, точь-в-точь как воющая бомба, закувыркалась по шоссе.
Броневичок, сопровождающий штабной автомобиль, резко затормозил, но, потеряв управление, съехал юзом в кювет, опрокинулся. Полудневый дважды, как перевернутого на спину металлического жука, ткнул броневичок в брюхо и, отвернув, погнал танк от города.
Роман чувствовал, что силы его на исходе. Итак, уйти подальше и, главное, главное, — не забыть поджечь танк. «Тигр» должен быть уничтожен. Обязательно! Для одного этого можно было пожертвовать жизнью. Но чем поджечь? У них нет спичек. У них ничего нет. Только танк, у которого осталось в запасе горючего на два-три километра. Ну, на четыре...
Впереди разбитые машины. Одна догорает, дымит слегка. Возле них ни одной живой души. Разбежались, а может быть, притаились где. Роман миновал последний опрокинутый грузовик, съехал с шоссе и, развернувшись носом к городу, остановил машину, сбавил обороты. Разогретый мотор сердито бормотал за спиной.
После грохота, лязга гусениц почти полная, целительная тишина.
— Как Гриша? — спросил Полудневый, не оборачиваясь, а лишь откинувшись на спинку сиденья и уронив руки на колени.
— Готов, — ответил Шевелев. — Сразу почти. Пуля в грудь...
— Ладно... — после паузы подавленно произнес Роман. — Уже не поправишь. Слушай, Иван Степанович, приказ. Наведи пушку и пулемет на машины.
— Патронов нет! — счел нужным предупредить Шевелев.
— Ты слушай, слушай, батя, — раздраженно повысил голос Роман. — У меня нет сил растолковывать. Они одного глаза пулемета боятся. Сейчас откроешь люк и рывком к машинам. Нужны патроны, спички или зажигалка. Автомат, пулемет найдешь — дай очередь и тащи сюда. Канистра с горючим подвернется — тащи, главное — спички. И пить хочу, горит душа, флягу найдешь — тащи. Давай быстро, не робей, батя, ты молодец у меня.
Голос Полудневого слабел, и последние слова он произнес вяло, точно засыпая. Он так обессилел, так был физически опустошен, что ему казалось, будто его вообще нет в танке, а на спинке сиденья висит только его пустая рваная гимнастерка. Но в опустевший сосуд его существа капали одна за другой какие-то живительные капли, и что-то там набиралось, начинало плескаться на донышке. Еще сочился в его теле крохотный родничок... Роман уже не испытывал ни той радости и счастья, ни того восторга, какие охватили было его, когда «тигр» вырвался из ремонтной базы, он просто сознавал, что сумел использовать вражеский танк на всю катушку, и был доволен, гордился этим. Он также отдавал себе отчет в том, что к его боевому умению примешалась еще и удача, большая, огромная удача, то военное счастье, которое так часто сопутствует отважным. Ему просто повезло. Кроме усталости, Роман испытывал также удивительное спокойствие. За себя он с гитлеровцами рассчитался полностью, об этом и разговора быть не могло. Он рассчитался за всю компанию: за Чарли — ведь это он, он, комик этот, артист, все придумал, все сварил своей умненькой, чокнутой башкой, за Годуна, чье место в танке он занял, за шалопутного Гришу Петуха, что лежит сейчас на дне башни, — Гриша ведь все понял на лету, за честнейшего и благороднейшего Ивана Степановича, оказавшегося таким мужественным, великолепным помощником. И даже за всех тех, кто, спасая свою шкуру, за пайку добровольно пошел в ремонтную бригаду, — ведь и с них он, лейтенант Полудневый, сумел смыть позор.
Тревожные дорогие секунды полного отдыха. Как бы они не стали роковыми. Сочится родничок, падают капли.
Сейчас, сейчас. Нужно сделать еще один рывок. Главное — уничтожить танк.
Шевелев понимал, в каком состоянии находится его старшой, и старался точно выполнить его приказ. Он выскочил из танка, оставив люк башни открытым, и подбежал к ближайшей опрокинутой машине. Нашел автомат возле лежащего ничком мертвого солдата, послал перед собой веером очередь — на всякий случай, для острастки, и вытащил из обломков кузова ящик с патронами, а затем и ручной пулемет. Сам пулемет был как будто исправен, но деревянная рогулька приклада раскололась и одна упорная ножка согнулась. Нашел он магазин с согнутыми в кольца металлическими лентами с патронами, заложил одну и, пробуя, отстучал длинную очередь в сторону города, — пусть думают, что огонь ведет скрытый за машинами танк. Через несколько минут Иван Степанович натаскал к танку ворох оружия, боеприпасов, солдатских ранцев с верхом из телячьих шкур.
Полудневый заставил себя податься телом вперед, открыть дверцу своего люка.
— Хватит. Спички, зажигалка?
Шевелев снова побежал к машинам. Пришлось обшарить карманы нескольких убитых, пока он нашел зажигалку, начатую пачку сигарет. На фляги ему повезло, притащил две вместе с ремнями и висевшими на них в чехлах кинжалами.
— Горит? — спросил Роман.
Иван Степанович чиркнул зажигалкой, голубой огонек замигал в дырочках металлической сетки. Полагая, что лейтенант хочет закурить, Иван Степанович протянул ему пачку с сигаретами, но Роман отрицательно качнул головой.
— Флягу.
Он сделал два жадных глотка, поперхнулся.
— Что дал? Это же шнапс, мать их принцесса!
Шевелев быстро свинтил пробку на другой фляге, понюхал, сделал глоток.
— Ром, кажется...
— Суки... Ладно, там, впереди, — река. У моста напьемся.
— Может, Петухова здесь оставить? — спросил Шевелев, роясь в ранце. — Все равно похоронить как следует не сможем.
Полудневый отрицательно качнул головой. Шевелев нашел плитку шоколада, торопливо разломал ее и, сорвав обертку, сунул большой кусок в рот Роману.
Они молчали несколько секунд, пережевывая и глотая сладкое, пахучее месиво.
Тут в воздухе что-то прошелестело, и за шоссе с грохотом вырос черный букет разрыва фугасного снаряда.
— Не паникуй! — брызжа коричневой слюной, поспешно и строго сказал Полудневый. — Грузись. Автомат, ранец — мне. Остальное в башню. Канистры не видел?
— Две, разбитые, все вытекло.
— Сними обрывки чехла с пушки. Башню повернешь, попробуешь их снарядом пощупать. Петух — с нами, в танке. Лучшей могилы не придумаешь... Стальная, боевая, огненная. Передвижной крематорий на гусеницах. — Полудневый высыпал из фольги в рот мелкие кусочки шоколада и, облизывая губы, закрыл глаза. Последнее мгновение отдыха.
Не успел Шевелев забросить в люк башни то, что он притащил к танку, как снаряды, почти опережая звук пушечных выстрелов, один за другим начали ложиться справа и слева шоссе, но с большим недолетом. По броне «тигра» вдруг щелкнули несколько пуль, видимо, кто-то из спасшихся при разгроме колонны и притаившийся в поле, расхрабрился и, пользуясь начавшимся артиллерийским обстрелом, решил и себе открыть огонь по танку. Иван Степанович забежал с другой стороны и, вскочив на танк, скрылся в люке. «Тигр», взревев мотором, помчался по полю параллельно шоссе. Несколько султанов разрывов возникло впереди. Полудневый круто взял вправо и, как только впереди появились новые разрывы, круто повернул танк к шоссе.
— Видишь батарею? А ну тюкни по ней.
Иван Степанович на глаз определил расстояние к тому сарайчику, у которого пристроились две пушечки, поймал их в перекрестке оптического прицела и выстрелил. Сильный грохот оглушил его, и, когда дым и пыль рассеялись, он увидел, что надульник со ствола сорван, а сам ствол треснул на конце и несколькими полосами загнулся назад, образовав какой-то странный фантастический цветок со стальными лепестками.
— Нормально! — закричал Полудневый, поворачивая голову. — Живой?
Иван Степанович не расслышал, но понял, что старшой предвидел возможный разрыв ствола и доволен результатом, — пушка, которую так тщательно и любовно устанавливали ремонтники, вышла из строя. Действительно, Полудневый не очень-то надеялся, что те два снаряда, какие имелись в танке, окажут им большую пользу. Вперед! Мчаться по шоссе, пока хватит горючего, а затем поджечь танк. Одного «тигра» Гитлер не досчитается. Пусть на его заводах льют металл, прокатывают и нарезают толстые полосы стальной брони, штампуют детали мотора, вытачивают на огромных станках дуло пушки, насаживают, пригоняют, варят. Этого «тигра» нет, машина переживает свой последние минуты, ее придется заменить новенькой.
Полудневый знал, что артиллеристам, стрелявшим вслед, танку, не так-то уж трудно нащупать и поразить цель, но даже тыльная броня «тигра» была не по зубам для снарядов тех пушечек, какие прихватили с собой гитлеровцы, готовясь к карательной экспедиции против партизан. У партизан ведь нет ни танков, ни дотов. Только бы снаряд не угодил в гусеницу.
И вот первое прямое попадание — снаряд трахнул в башню.
— Батя, живой?!
Иван Степанович протянул руку и потрепал старшого по плечу.
— Живой! В башню пусть лупят, мать их принцесса — выдержит! — не надеясь, что Шевелев его услышит, сам себе крикнул Роман.
Но вот артиллерийский обстрел внезапно прекратился. Полудневый хотел было открыть дверцу своего люка, но тут невдалеке ахнуло так, что шоссе дрогнуло, точно раскололось под танком, а по земле пронеслась крылатая тень. Самолет! За ними охотится бомбардировщик. Сейчас он сделает новый заход над шоссе и снова бросит бомбу. По плотности тени Роман сообразил, что самолет держится на небольшой высоте, пилот знает, что с земли ему ничто не угрожает. Лейтенант оглянулся, встретился с встревоженными глазами Ивана Степановича и энергично ткнул пальцем вверх — пугни его.
Шевелев понял приказ, откинул крышку люка и, упершись коленом в сиденье, изготовил ручной пулемет для стрельбы. Самолет уже заходил на цель, он летел низко, с большим серым брюхом, помеченным черным крестом. Штурман и пилот не ожидали огня с земли и думали только о том, чтобы положить очередную бомбу как можно ближе к мчащемуся по шоссе танку. Это была какая-то устаревшая модель «юнкерса», используемая, очевидно, только в операциях против партизан. Сибиряку Шевелеву приходилось хаживать и на медведя, и на другого крупного зверя, а уж бить птицу влет он научился еще мальчишкой. Изловчившись, Иван Степанович послал три коротких очереди с опережением, первую еще до того, как стали раскрываться створки бомбового люка. Одна-две пули, видимо, попали в решетчатый фонарь штурмана, а остальные продырявили фюзеляж. Самолет, казавшийся неповоротливым, флегматичным, сразу же проявляя резвость, вильнул влево, и точно нацеленная бомба ушла в сторону, подняла черный клуб земли и дыма метрах в сорока от шоссе.
Набирая высоту, «юнкерс» сделал не один, а два широких круга, держась от танка на приличном отдалении. Послышался сплошной треск авиационных пулеметов, и пули, отскакивая от брони танка, засвистели, завыли.
— Что, ожегся, не понравилось? — злорадно улыбаясь, пробормотал Иван Степанович, закладывая в пулемет новую ленту.
До того, как оказаться в плену, Шевелев пробыл на передовой три недели, рыл окопы, отбивал атаки гитлеровцев, сам ходил не однажды в атаку, лежал пластом, прижатый к матери — сырой земле кинжальным огнем противника, несколько раз попадал в группы танковых десантников. И хотя выполнял он свои солдатские обязанности старательно и безупречно, все же выходило так, что действовал он не очень-то расторопно, не в полную силу. И получалось у него совсем не так, как бы хотелось, без той ловкости и смекалки, какую он ценил и в себе и в других. Когда захватили танк, действовал в основном Полудневый, а он с Петуховым оказались на положении пассажиров.
И только сейчас, в поединке с бомбардировщиком, Шевелев впервые почувствовал себя настоящим бойцом, воевавшим не только по необходимости, но и в охотку, сознавая свою силу и смертельную опасность для врага, — там, в самолете, сидело их трое или даже четверо — молодые, сытые, хорошо обученные, у них были бомбы и скорострельные пулеметы на послушных турелях, но они боялись его одного, русского мужичка-мастерового, вооруженного пулеметом с разбитым прикладом, больно долбившим плечо при стрельбе.
Он ждал в открытом люке, не прячась за броню не обращая внимания на тянущиеся к нему трассы очередей, на чертову музыку рикошетируемых пуль и, угадав самый удачный угол, резанул с опережением на полсамолета вперед, как раз по фонарю. Не дотянув до нужной точки, «юнкере» сыпнул весь свой бомбовой запас на шоссе, торопливо отвалил в сторону и, набирая высоту, ушел по направлению к городу.
Не успели осесть дым и пыль от разрывов, как снова заговорили пушечки. На этот раз стрельба была более точной, и сразу же два снаряда попали в танк, словно желая подтолкнуть его вперед. Лента шоссе тянулась к реке с деревянным мостом и невысокой дамбой, проложенной через болотную луговую пойму, за которой синел лес. «Дотяну, пожалуй, — решил Полудневый. — Сейчас спуск, танк скроется из виду. Только бы не послали новый самолет».
Но тут лейтенант заметил какое-то движение на шоссе у леса. Там были машины, люди. «Минируют дорогу, — догадался он. — Сейчас же за дамбой свернуть влево или вправо?» Он повернулся к Шевелеву, хотел крикнуть, чтобы тот набивал патроны в пустые диски, но Шевелев сам кричал ему что-то, и Роман уловил запах дыма.
Танк горел. Какой-то снаряд, попавший в корму, высек губительную искру. Роман смерил глазами расстояние до моста. Оставалось метров триста-четыреста, но мотор начал давать перебои, левый бортовой фрикцион заедало. «На мост, на мост. Неужели не дотяну?» Он открыл дверцу, и свежий воздух тугой струей ударил в его разгоряченное лицо.
Танк мчался к мосту, протянув за собой густую гриву черного дыма.
Сто метров до моста. Танк заносит вправо. Роман с трудом выровнял его и почувствовал, как тепло обдало плечи.
— Прыгай! Прыгай в воду! — крикнул Роман Шевелеву, поняв, что огонь уже пробирается к башне.
Гусеницы, грохотавшие на брусчатке шоссе, мягко зашлепали по настилу моста. Роман выключил газ, резко затормозил, и «тигр», сломав левой гусеницей перила, остановился.
— Прыгай, батя!
Успел ли выпрыгнуть из горящего танка Шевелев, Роман не знал точно. Сам он, задыхаясь, с большим трудом выбрался через свой люк, с автоматом в руке подошел к обломанным перилам, увидел желтоватую быструю воду внизу и упал, услышав, как позади пули застучали о броню. Пуль было много. Целые рои неслись от леса к танку. Они плющились о сталь, впивались в доски настила, пронизывали тело советского танкиста, свесившего голову к воде и прикрывавшего рукой лежавший рядом немецкий автомат.
Подозрения нуждаются в доказательствах
Слух о взбесившемся немецком танке облетел город почти мгновенно, но вначале мало кто понимал истинный смысл происходящего. Возникали и высказывались дичайшие предположения: экипаж «тигра» перед отправкой на фронт перепился до такой степени, что решил показать тыловикам, где зимуют раки; среди немецких танкистов оказался шпион, и он удирает на танке к партизанам; какие-то новые советские сверхмощные самолеты доставили в глубокий тыл немцев танковый десант, и один из танков прорвался с целью разведки в город... Мысль о том, что «тигр» захватили занятые на ремонтных работах советские военнопленные, казалась самой нелепой и неправдоподобной.
Но постепенно фантастические домыслы отпали, и все свелось к двум словам: «русские пленные». Как все случилось, каким образом голодные, с трудом передвигающиеся люди оказались в «тигре» на месте бравых немецких танкистов и как сумели они управлять новой машиной, — никто объяснить не мог. Сейчас самым важным было то, что пленные, овладев мощным оружием, превратились в бойцов. Укрывшись за броней, они наносили врагам удар за ударом.
На квартиру к Верку прибежала знакомая Аллы, любовница начальника офицерской школы Катька Коровяк. Бледная, с круглыми от страха глазами, она, задыхаясь и прижимая руку к сердцу, сообщила новость, почти ничего не преувеличивая.
— Из базы «Заготскот», где твой начальником, вырвался самый страшный немецкий танк под названием «тигр». Развалил весь дом конторы и вырвался. А на танке — наши... Тьфу! Эти черти, пленные... Поняла? Танк здоровый! Перво-наперво напали на офицеров в училище. Восемь человек убито, не меньше, и раненые есть. Теперь этот танк носится по городу, душит немцев, где только найдет. На улицах полно разбитых машин, мертвые солдаты немецкие прямо на земле валяются. Даже один подполковник убит. Кошмар! Твоего видела — живой, невредимый, только лица на нем нет. Они все сейчас как помешанные. Такое делается... Тихий ужас!
Алла сообразила, что ей, пожалуй, лучше всего сидеть дома и ждать появления Верка. В том, что ее «повелителю» грозят серьезные неприятности, она не сомневалась и даже побаивалась, что эти неприятности могут коснуться и ее. Алла сперва не могла понять, почему у нее возникает такое тревожное чувство, но, поразмыслив хорошенько, поняла, что виной всему Люба. Мысль о Любе и раньше рождала неясное беспокойство. Не нужно было просить за нее Оскара. Какая Люба ей подруга? То, что было, ушло безвозвратно. Все изменилось, Люба стала ее врагом. Это можно было понять с самого начала. А как она вела себя при последней встрече... Вся насквозь фальшивая, ни одного искреннего слова. Пленные украли, захватили самый лучший танк. Какой ужас! Вот книга об этом «тигре». Оскар как-то принес, просматривал... Люба тоже заинтересовалась.
Алла взяла со стола книгу, рассеянно полистала ее, рассматривая чертежи, и вдруг обнаружила, что книга легко раскрывается на одних и тех же страницах, точно там пустота, недоставало нескольких листов. Так оно и есть — недостает тридцати двух страниц, шестнадцати листиков, они вырваны из середины книги. Книгу держала в руках Люба... Ну и что из этого? Книга, судя по ее виду, у многих побывала в руках. Кто-то взял и вырвал. Ну, а если это сделала Люба? Ведь Люба оставалась в комнате, когда она, Алла, уходила на кухню приготовить угощение. Боже мой! Если подлая Любка помогала пленным и это выяснится, — они все пропали — и она, и дурак Оскар, и Любка. Что делать? Разорвать, выбросить эту проклятую книгу, сжечь ее? Ни в коем случае, это сразу же вызовет подозрение у Оскара. Она ничего не знает, ничего не видела. Все может быть, но она, Алла, совершенно непричастна. Впрочем, рано она начинает паниковать. Может быть, Любу ни в чем и не заподозрят, может быть, она ни в чем не виновата. Ну, а если... А если она уже арестована и рассказала, где раздобыла, украла листики?
Алла вдруг представила себя на месте подруги и изумилась ее отваге. Вот это человек! Ведь знала, на что шла, и не побоялась. Алла упала лицом в подушку, разрыдалась. Это она подлая, ничтожная дуреха, а не Люба. Перед Любой нужно преклоняться.
Выплакавшись, Скворцова немного успокоилась: ведь она ничего не знает о Любе, о ее судьбе. Может быть, Люба совсем не замешана, а если замешана, то никто этого не знает и доказать не сможет. Нужно ждать Оскара, нужно спокойно ждать...
Верк явился домой под утро, грязный, смертельно усталый, подавленный мыслью, что, вполне возможно, за все случившееся придется отвечать ему, только ему. Мысль эта не оставляла Верка ни на минуту. Если бы его обвинили только в халатности, недосмотре, было бы полбеды. Нет, против него могут выдвинуть обвинение совершенно иного рода. Подруга Аллы мертва... Это хорошо, это может служить доказательством, что девушка ничего не знала о готовящемся побеге, иначе она заранее вышла бы из кладовой или отскочила к стеллажам. Нет, Любу нашли у самой двери. Правая гусеница «тигра» прошла оба раза по коридору, но дверь с деревянным переплетом осталась цела. Она так и стояла, слегка перекосившись, и в коридоре возле нее нашли трупы трех раздавленных танком мастеров, а по ту сторону двери под балкой лежала с окровавленным лицом кладовщица. Отскочи она хотя бы на шаг к стеллажам, смерть миновала бы ее. Но в момент первого удара танка девушка почему-то находилась у двери и дверь почему-то оказалась запертой изнутри не только на массивный крючок, но и на два оборота ключа во внутреннем дверном замке.
Верк не помнил случая, когда бы подруга Аллы запиралась в кладовой даже на крючок. Очевидно, Люба поступала так, чтобы не навлекать на себя каких-либо подозрений: дверь можно было открыть в любое мгновение, в любое мгновение можно было проверить, чем занимается кладовщица. Но в тот трагический момент, когда мастера пытались укрыться в кладовой, дверь оказалась закрытой на крючок и на. ключ. На два оборота ключа... Верк открыл замок, никто этого не заметил, ключ у него в кармане. Крючок... Крючок кладовщица могла накинуть раньше — слишком уж начали ей надоедать своими визитами подвыпившие танкисты. Свидетели мертвы. Ну, а если найдутся немые свидетели, подтверждающие, что кладовщица была заодно с теми, кто готовился захватить танк и помогал им? Тогда никто не будет сомневаться, что она намеренно закрыла дверь в кладовую, обрекая тех, кто находился в коридоре и в противоположных комнатах, на смерть. И протянется цепочка: пленные, угнавшие танк, — кладовщица, помогавшая им, — любовница начальника ремонтной базы, ходатайствовавшая за свою подругу, — и сам гауптман Верк, которого до этого дня многие считали счастливчиком, прямо-таки баловнем судьбы.
Боже, чего только не натерпелся он за этот день! Какие только картины не мелькали перед его глазами, сколько было гневных взглядов, криков, дурацких приказов, истерик, упреков, докладов разгневанным начальникам, попыток что-то сделать, исправить положение и до того, как «тигр» загорелся, и после того, как вместе с танком запылал деревянный мост. Бегали, суетились, орали, подбирали убитых и раненых. Кажется, хладнокровнее всего вели себя подполковник Гизлинг и оберштурмфюрер Брюгель. Оберштурмфюрер сохранял на своем лице демоническое выражение, он ни разу не взглянул на Верка, не сказал ему ни единого слова. Он скажет то, что ему выгодно, в другом месте, он-то не станет выгораживать Верка. Черт возьми, почему эта девчонка закрыла дверь на ключ? Два оборота... Может быть, она растерялась, хотела выскочить в коридор, делала не то, что нужно, и повернула ключ не в ту сторону? Сейчас он узнает... Если хотя бы одно из его подозрений подтвердится, он будет знать точно.
Алла не спала, она ждала его. Совершенно трезвая. Прибавила огня в лампе и бросила на него сочувствующий, понимающий взгляд. Не стала ни охать, ни расспрашивать, сказала как-то по-матерински, заботливо:
— Умойся. А я подогрею мясо и сварю кофе.
Давно ее голос не звучал так сердечно и ласково.
Оскар взял у нее лампу, прошел в горницу, сразу к письменному столу. Книга «Танк-6 «ТИГР» была на месте.
— Скажи, ты давала кому-нибудь эту книгу? — спросил он, не поворачиваясь.
— Какую? — Алла стояла на пороге.
— Ты знаешь какую...
Алла с преувеличенно-недоуменным выражением на лице подошла ближе.
— О чем ты говоришь, Оскар?
— Ты все прекрасно понимаешь.
— Какую книгу?
— Вот эту, — Верк осторожно вынул из стопки учебник. — Ну, конечно, ты не знаешь, и не видела, и даже не брала в руки?
— Что же тут удивительного, я не убирала на столе и даже не подходила к нему.
Верк провел пальцем по полированной глади стола.
— Да, не убирала... Такой слой пыли, что можно расписаться, но на книге пыли не видно. Ее недавно кто-то брал в руки.
— Слушай, Оскар... — Голос Аллы задрожал от обиды. — После всего, что произошло сегодня... после того, что я пережила здесь, ожидая тебя, пугаясь каждого звука, шороха, ты начинаешь разговор об уборке и какой-то дурацкой книге... — Она умолкла, увидев, как вдруг исказилось лицо Верка.
Верк нашел то место, где были вырваны листы, убедился, что недостает многих страниц, торопливо заглянул в оглавление. Вырванные страницы относились к разделу: «Запуск мотора. Приборы и рычаги управления».
Вот где ключ к разгадке. Алла! Молоденькая красивая русская девчонка шла на все, чтобы найти среди немцев влиятельного покровителя и иметь возможность под его крылышком выполнять задания подполья. Она прикинулась безвольной, самовлюбленной, глупенькой эгоисткой, для которой самым ценным были тряпки, сытая, праздная жизнь, удовольствия. А он-то жалел ее, боялся, что сопьется и к тридцати годам превратится в опухшую от пьянства, грязную, развратную бабу. Он ведь не желал ей зла.
Все было сделано чисто, не подкопаешься. Подпольщики и партизаны действовали чрезвычайно оперативно. Как только они узнали (через Аллу, конечно!), что на ремонтной базе будут работать советские пленные, они дали задание той же Алле немедленно устроить на базе своего человека. Кто мог меньше всего вызывать подозрения? Молодая, скромная, трудолюбивая девушка, не проявляющая интереса к тому, что не входит в круг ее обязанностей. Тысячу раз прав был оберштумфюрер Брюгель, когда советовал Верку на место кладовщицы взять другого человека. Эта Люба была, несомненно, смелым, умным, хорошо подготовленным агентом. Она сразу же установила, кто из пленных умеет водить танк, определила, кому из них можно довериться, предложить оригинальный план побега. Кто знает, может быть, она передавала заговорщикам, чтобы укрепить их физически и поднять их дух, высококалорийные продукты. Такая возможность у нее имелась. Дьявольский план советских подпольщиков был почти сорван благодаря тем своевременным мерам, какие предпринимал он, Верк, — всех пленных, которые смогли бы управлять танком, убрали из ремонтной бригады. Однако какому-то танкисту, а может быть, просто трактористу, шоферу, удалось скрыть свою военную специальность и притаиться. Этот пленный не решался сесть на место водителя «тигра», не изучив инструкцию по запуску мотора и назначение каждого из рычагов управления — машина была новой конструкции — и ему эту инструкцию добыли. Алла побоялась передать всю книгу, она вырвала только нужные страницы.
Вот в какую историю влип «счастливчик» гауптман Верк. В такой ситуации будет чудом, если он сумеет отделаться только тем, что его пошлют поближе к фронту, назначат начальником ремонтной мастерской-летучки, состоящей из каких-нибудь двух-трех машин и ремонтирующей танки у самой передовой, чуть ли не на поле боя. Тогда бы он, как пишут газетные репортеры в отделе происшествий, отделался бы всего лишь легкими ушибами. Однако им может заняться фельдгестапо, сотрудники которого действуют быстро, решительно и не обременяют себя поисками неоспоримых доказательств — есть вина, есть виновник, есть приговор. Они не смогут обвинить его в измене, предательстве, с ним они будут вести себя корректно, независимо от грозящего ему наказания.
По-другому поведут они себя с его любовницей: они применят к ней пытки. Ужас! Но, может быть, Алла все-таки ни в чем не виновата?
Верк повернулся и встретился с глазами Аллы, сказал брезгливо:
— Не выкручивайся, не поможет. Твоя подружка все сказала, когда за нее взялись по-настоящему.
Аллу охватил ужас. «Люба сказала, где взяла страницы из книга? Неужели Люба могла сознательно оклеветать ее? Нет, Любу били, пытали, им нужно было, чтобы она подтвердила их предположение. Можно представить себе, что она вынесла там, прежде чем они добились такого «признания».
Конечно, она, Алла, будет все отрицать, расскажет, как все происходило на самом деле. Но разве ей поверят? Ее будут бить, истязать так же, как и Любу. Замучают до смерти. Верк ничем не может ей помочь, он ей не верит, боится. Нужно умереть раньше, до допроса. Жила легко, играючись, и смерть должна быть легкой, быстрой, без мучений. А танк все-таки угнали, самый лучший немецкий танк... И Люба была с ними.
Словно издалека Алла услышала свой равнодушный голос:
— Она ничего не могла рассказать. Потому что ничего не было.
— Да? Ничего? — набросился на нее Верк, испытывая тайную радость от усилившейся надежды, что его любовница непричастна к тому, что случилось на базе. — А Люба говорит другое. Она рассказала, что ты специально, да, специально, уговорила меня взять ее на работу на должность кладовщицы, чтобы она могла подсказать пленным эту идею и помогла осуществить ее.
— Ничего не было... — печально повторила Алла, думая о легкой смерти, как о благе. Но постепенно до нее дошел смысл слов Оскара, и она воспрянула духом. Похоже, что ее «повелитель» врет, фантазирует. Если бы имелись такие показания, то вряд ли следователи сразу сообщили бы о них Оскару. Гестаповцы давно бы приехали сюда и арестовали «сообщницу партизанки». Значит, это только догадки Оскара. Значит, Люба ничего не сказала. И не скажет. Да, и не скажет. Потому что Любы уже нет... Что с ней произошло — неизвестно, но ее нет. Иначе все обстояло бы по-другому.
— Ты говоришь глупости, Оскар, и прекрасно сознаешь это. Ты, кажется, хочешь запугать меня, только я не пойму, зачем тебе понадобилось пугать свою девочку. По-твоему, выходит, что я с кем-то связана, ну, с этими партизанами, подпольщиками? Ты приписываешь мне такие благородные качества, каких у меня, к сожалению, нет.
— Перестань! Я тебя раскусил. Ты мне приводила слова восточной мудрости. Я их оценил только сегодня. Помнишь? Того мужчину, которого нельзя тащить даже на железной цепи, можно легко провести на тонком женском волосе.
— Да, помню. Но, кажется, немного иначе: мужчину, способного разорвать железные путы, можно легко связать тонким женским волосом.
— Ага, ты помнишь! Это было сказано тобой недаром.
— Просто мне понравилось и запомнилось. Но чем я связала тебя, Оскар? Какая я героиня, подумай. Жалкая, бесхарактерная, трусливая.
— Это ты скажешь следователю.
— Ты сам, по своей воле, передашь меня в руки следователя? — после короткой паузы тихо и удивленно спросила Алла.
— Я сделаю это с великим удовольствием, моя очаровательная козочка. Ты сомневаешься?
Настроение Верка начало меняться, положение казалось не таким уж катастрофическим, как вначале. Он продолжал разговор в прежнем ключе по инерции, готовый перейти на шутливый тон. Однако Алла восприняла его слова как злорадство подлеца. Обида, чисто женская обида ожесточила ее.
— Напрасно... — сказала она спокойно и враждебно. — Напрасно радуешься, Оскар. Следователю я могу сказать больше, нежели ты предполагаешь.
— Именно этого я и желаю, — сказал Верк. Он собирался сказать другое, что-нибудь нейтральное, примирительное, вроде: «Ну, ладно, приготовь мне кофе. Я смертельно устал». Но он уловил враждебность в тоне Аллы, и у него вырвались эти дурацкие слова.
Алла пристально, не мигая, смотрела ему в глаза.
— А что будет, — произнесла она размеренно, с придыханием, — если я, например, скажу, что ты убежденный антифашист или коммунист даже, был с нами в сговоре, сам подсказал мне мысль о возможности побега пленных на танке?
Побледневший Верк влепил Алле пощечину.
— Я тебя убью!
Он оглянулся, схватил с буфета тяжелый хрустальный графин.
— Не ори, — спокойно и безбоязненно сказала Алла. — Поставь графин на место. Если ты еще раз тронешь меня хотя бы пальцем... Кстати, это будет против тебя — скажу, что ты хотел меня уничтожить, чтобы скрыть следы.
Алла сама изумлялась своим словам. Это был откровеннейший шантаж. Где и когда научилась она таким вещам? Очевидно, это всегда было в ней, но пробудилось сейчас как женская месть. Она злорадствовала, торжествовала.
— Да, да, Оскарик, они будут рады, все твои друзья — найден виновный, на которого можно свалить все. Так ведь? Я поступлю подло, знаю. А что мне остается делать, если ты хочешь принести меня, ни в чем неповинного человека, в жертву? Н-нет, я не такая уж дурочка, как ты представляешь. Ты подлый, и я буду подлая. Ну, что? Что решил? Лучше всего сразу разделаться со мной? Боишься? Да, ты ведь не только подлец, но и трус. А я тебя все-таки... Да, я тебя любила и ревновала даже.
Она была восхитительна в этот момент. Верк кипел от бессильной ярости, но должен был признать, что Алла ведет себя, если учитывать сложившиеся обстоятельства, прямо-таки блестяще. А он-то полагал, что хорошо знает примитивное духовное устройство русской красотки. Ведь женщины такого типа созданы на один манер. Он ошибся, Алла, очевидно, только играла такой тип, ей ведь нетрудно, она и раньше, по ее же словам, тяготела к сценическому искусству.
— Вот так, Оскарик, — более спокойно продолжала она. — Дай мне платок, я вытру кровь на лице. Я хочу быть привлекательной до последнего момента. И сигарету, пожалуйста. Благодарю. Ничего особенного: от удара лопнул маленький сосудик, только и всего. Нос слегка припух, покраснел, я припудрю, и ничего не будет заметно. Чепуха! Милые бранятся — только тешатся.
Алла отложила зеркальце и, щуря глаз от сигаретного дыма, посмотрела на Верка, который молча, сосредоточенно наблюдал за ней.
— Вернемся к прежней неприятной теме... Ты говоришь, что с удовольствием передашь меня в руки следователей. Допустим. А что в таком случае грозит гауптману Верку, связавшемуся при помощи своей коварной любовницы с действующими в тылу у немцев советскими бандитами — подпольщиками, партизанами? Точно ответить затрудняюсь. Я ведь такими вопросами не занималась, не интересовалась даже. Но можно предположить — смертная казнь через повешение. Впрочем, я слышала, кто-то из твоих приятелей говорил, что палачи в ваших тюрьмах более охотно орудуют топором. Ж-ж-ж-ах! И — готово... Есть чудные стихи какого-то французского поэта, жившего чуть ли не в пятнадцатом веке. Стихи, даже гениальные, не приносили в те времена дохода, и он, чтобы заработать себе прожиточный минимум, примкнул к шайке разбойников, грабивших купцов на большой дороге. Вспомнила — Франсуа Вийон. Вот что он написал, обращаясь к своей возлюбленной, рисуя перед ней картину своей казни: «И голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет...» Ужасно, не правда ли? Мне жалко тебя, Оскарик. Ведь, придумав наш с Любой заговор, ты сам надеваешь себе петлю на шею.
— Ладно, Алка, — устало сказал Верк. — Не надо демонстрировать передо мной свои актерские способности. Отложим на минутку этот разговор. Я хочу помыться, и ты приготовь мне кофе. Пожалуйста!
Алла на несколько мгновений замерла, недоверчиво и враждебно глядя на Верка, но тут же с подчеркнутой иронической рабской готовностью сорвалась с места.
— Сию минуту, мой повелитель...
Верк хорошенько помылся под рукомойником (Алла приучила его мыть руки и лицо не в тазу, а под рукомойником, доказав, что такое умывание более гигиенично) и, повесив мундир на спинку стула, начал отхлебывать из чашки горячий кофе. Он был мрачен, задумчив и все время поглядывал на лежавшую на столе раскрытую книгу. Наконец сказал, не оглядываясь:
— Все хорошо, очаровательная Сарра Бернар, черт бы тебя побрал. Но как ты объяснишь, если не следователю, то хотя бы мне исчезновение шестнадцати листов из книги?
— Почему именно я должна объяснять? — вызывающе скрестила руки на груди Алла.
— Потому что вырванные листы оказались у тех русских пленных, какие пытались удрать на танке, — солгал Верк. — Можешь не сомневаться, я листы этим людям не передавал.
— Значит, их передал кто-то другой.
— Логично. Листы из книги, лежавшей на моем столе, могли вырвать трое: я, ты, твоя подруга, которая три Дня назад заходила к тебе в гости.
— По твоей просьбе, Оскар.
— Да, но это не меняет существа дела. Три человека. Согласна?
— Да.
— Я не вырывал. Один человек отпадает. Ты?
— Не вырывала! Да и как я могла передать им? Я ведь ни разу не приходила к вам в мастерскую.
— Ты могла передать Любе.
— Повторяю: не вырывала и не передавала.
— Прекрасно! Остается Люба. Ты оставляла ее в горнице одну?
— Не помню.
— А ты вспомни, вспомни, черт возьми! — снова вскипел Верк. — Я убедился, у тебя совсем неплохая память.
— Если и оставляла, то на очень короткое время. Вряд ли она смогла бы.
Верк резко повернулся к любовнице:
— Слушай, Алла. Это для тебя вопрос жизни и смерти. Понимаешь? После всего случившегося меня пошлют на фронт. Ты останешься одна. Я ничем не смогу помочь тебе. Однако, если ты все свалишь на Любу... Кстати, она погибла, но при очень загадочных обстоятельствах. Если ты все свалишь на мертвую, ты сможешь выпутаться.
— Нет, Оскар, — печально покачала головой Алла. — Ты меня утешаешь, обманываешь. Я не выпутаюсь.
— Зачем так мрачно.
— Ты боишься не за меня, а за себя. Боишься, что я тебя оговорю. Зачем ты принес и держал дома эту чертову книгу? Люба погибла, она ничего не может сказать в свое оправдание. Ее убили, замучили?
— Нет, откуда ты взяла?
— Я ничего не знаю. Ты ведь не рассказываешь мне.
— Она погибла в первый же момент под гусеницами танка, вернее в развалинах дома, через который танк пробился на улицу.
— Погибла... Бедная, бедная Люба. — Алла покачала головой, но тут же ее глаза сверкнули яростью: — И ты ее подозреваешь? Ведь если б она знала, что произойдет, она бы вышла из помещения.
— Я тебе сказал — обстоятельства гибели носят загадочный характер.
— Загадочный... — Алла затряслась в рыданиях. — Дурачье, просвистели танк, залезли с этим делом в дерьмо по уши, теперь хотите свалить всю вину на двух русских девчонок? Сволочи паршивые! Вы ставите себя над всеми — самые умные, самые сильные, самые смелые. И хитрые.
Верк вскочил со стула, схватил Аллу за руки.
— Алка! Прекрати. Прекрати сейчас же!
— Я правду говорю, — горячо, со слезами на глазах зашептала девушка. — Вы наших пленных не только голодом морите, вы их презираете — низшая раса, полудикари, иваны. Вот и допрезирались — умней вас, арийцев, иваны оказались! Поэтому-то вы так и злитесь, из себя выходите.
Верк тихонько оттолкнул ее от себя.
— Алла, я не верю, что ты была как-либо причастна к подготовке побега или что-либо знала о нем.
— Спасибо, — откровенно насмешливо поклонилась Алла. — Наконец-то ты...
— Вот и покончим на этом.
Алла достала сигарету и, прикурив от лампы, зашагала по комнате. Ее, видимо, озарила какая-то новая мысль.
— Подожди, Оскар. Несколько вопросов. Эта книга, она что, одна-единственная в мире? Существует только один экземпляр?
— Нет, конечно.
— У кого еще была такая книга у вас на базе или здесь, в городе?
Ай да Алка, вот она как повернула! Повернула, да не совсем.
— Один или два экземпляра могли быть у танкистов или мастеров. Но это ничего не меняет. Листы ведь вырваны из этого экземпляра, что находился у меня на столе.
— И я должна ломать голову с этими листками, мое это дело, да? — набросилась она на Верка. — Где ты взял книгу, у кого? Ты уверен, что тогда все листы были на месте? Может быть, их вырвали раньше.
Верк молчал. Он обдумывал новую, предложенную Аллой версию. Конечно, лично ему версия эта казалась далекой от правды, но она была спасительной, так как могла показаться убедительной для других. Кто знает, что один из экземпляров книги находился у начальника ремонтной базы? Только полицай Тышля и трое тех мальчишек, каких он приводил в кабинет Верка. Но никто из них не знает, куда дел книгу начальник ремонтной базы. Он мог отдать ее танкистам, допустим, их командиру, лейтенанту Бегнеру. Все члены экипажа «тигра» погибли...
— Почему ты молчишь? — не отставала, теребила его Алла. — Где нашли листки? У кого? Ты можешь показать их мне?
Если бы такие вопросы Алла задала в начале их разговора, Верк счел бы, что она пытается выяснить у него, имеются ли улики против Любы или все построено на предположениях. Однако сейчас вопросы Аллы были естественным, логическим продолжением ее версии.
— Проклятая книга! Грязная, растрепанная... Я несколько раз хотела использовать ее как подставку под горячие кастрюли и сковородки. Могла порвать, выбросить... Могла сжечь.
Верк опустился на стул, закрыл глаза.
— Еще не поздно. Ты можешь сделать это сейчас, — сказал он равнодушно.
— Что сделать?
— Уничтожить книгу. Можешь ставить на нее что угодно, можешь разорвать и выбросить в уборную. Я разрешаю. Лучше всего сжечь.
— Но...
— Никаких но. Ее не было у меня. Ты ее во всяком случае никогда не видела в нашей квартире.
— А как же листки?
— Листов тоже не было. Было трое танкистов. Трое очень смелых русских танкистов.
— Тогда ты сам должен сжечь книгу. Я боюсь к ней прикасаться.
— Ты все-таки эгоистка, Алла. И тебе ни капельки не жалко меня. Поверь, я смертельно устал и должен хотя бы часок поспать, хотя бы так, сидя на стуле. Ты разорви книгу и брось ее в печку, приготовь мне омлет, поджарь картошки. Если огня от книги будет недостаточно, подбрось немного дров. И не забудь хорошенько помешать пепел...
Алла протянула было руку к книге, но тут же одернула ее.
— Я боюсь. Ты скажешь, что это я сама...
— Не прикидывайся такой наивной и трусливой. Как будто ты не знаешь, как отвести от себя такое обвинение. Скажешь — Верк меня заставил.
Верк продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула, размягчив мускулы, закрыв глаза. Его пошлют на фронт... Наверняка. Куда денется Алла? Это не его забота. Судьба таких женщин известна. Она должна была знать...
— Алка, ты меня слышишь? Меня отправят на фронт. Что будешь делать ты? Найдешь другого «повелителя»?
— Нет, — донеслось из кухни. — Я зарегистрируюсь на бирже и уеду в Германию.
— Не завидую.
— У меня нет другого выхода. Здесь в городе меня все ненавидят.
Да, ей в городе оставаться нельзя. Ей будет трудно. Особенно, когда придут русские. Они придут...
Верк снова вспомнил ту ужасную картину, какую он увидел, вернувшись вечером на базу. Три уцелевщих мастера выстроили пленных ремонтников в одну шеренгу и, проходя один за другим вдоль строя, лупили их палками по лицу, приговаривая: «Это тебе за беднягу Фридриха!», «За моего друга Иоганна!», «Получай, свиньи, за Карла!», «За их несчастных жен, детей!», «Получай, получай, получай...». Конвоиры стояли, вскинув автоматы. Верк вмешался, по ему стоило большого труда приостановить бессмысленное зверское избиение. Мастера оставили свои жертвы в покое только тогда, когда он Сказал, что пленные ремонтники потребуются для следствия.
Потом мысль Верка перебросилась на тех, кто угнал танк. Он установил номера их жетонов и фамилии, но как ни силился, не мот припомнить их лиц. Жетон № 13, жетон № 17, жетон № 28 — Петухов, Шевелев, Полудневый. Вместо лиц — жетоны, фамилии. Почему так случилось? Он не обращал внимания на внешность пленных. Старался не обращать. Он видел не их, а танки, детали, моторы, руки и инструменты. Только одно лицо хорошо запомнилось ему — лицо того пленного, что сделал надписи и чуть было не был повешен оберштурмфюрером как саботажник. В общем-то, физиономия этого пленного была вполне симпатичной и чем-то располагала к себе. Как же выглядели те, кто осуществил тот дерзкий побег? Это были, несомненно, умные, находчивые и удивительно храбрые люди. Он видел только одного на мосту. Тело его упало в воду, когда раскаленный «тигр», проломив настил и горящие балки моста, рухнул в реку. Феерическая картина. Вода в реке закипела, поднялось облако пара. Ничего подобного он раньше никогда не видал.
Мост сгорел, вряд ли его восстановят за сутки.
Лицо Алки надвинулось, закрыло все. Красивое, нежное, почти детское, такое, каким он увидал его впервые.
— Алла, ты знаешь, в чем твое несчастье? — спросил он, еле шевеля губами. — Ты слишком красивая. И то, что является счастьем для женщин, стало твоим несчастьем.
Ему показалось, что он услышал ответ:
— Я знаю...
Лицо кладовщицы. Умненькое. Лица этих троих. Фамилии, вместо глаз — жетоны — № 13, № 17, № 28...
Жалко, обидно, что он не запомнил лиц этих людей. Ведь он должен был запомнить, видел их сотни раз. Видел и не заметил. Что еще видел и не заметил, не понял в своей жизни гауптман Оскар Верк? Очевидно, многое, очень многое, как и большинство немцев его поколения... Это звучало как оправдание. И сон, тревожный сон пришел к Верку...
Что дальше, Чарли?
Два дня продолжался их праздник, начавшийся в тот момент, когда лейтенант Полудневый протаранил двухэтажный домик рембазы и вывел грозную машину на улицы города. Он был необычен, этот праздник, наполненный ликованием и незаметный, скрытый от чужого взгляда, радостный и трагический.
Советские военнопленные Каменнолужского лагеря платили, за него страданиями, кровью, жизнями товарищей, попадавших под пули озлобленных, разъяренных конвоиров, и все же торжествовали. К тому же, как и подобает на праздники, они еще и бездельничали на протяжении этих двух дней, наблюдая, как суетятся, рвут криками глотки гитлеровские командиры. Это было восхитительное зрелище!
В первые минуты и даже часы чрезвычайного происшествия никто из пленных не пострадал. О них словно забыли — ни стрельбы, ни «поощрительных» ударов палками, прикладами, ни злобных окликов. Все внимание ошеломленных, перепуганных гитлеровцев было приковано к «тигру», который где-то там, на шоссе, вытворял нечто страшное, чудовищное, невообразимое. Даже после того, когда пылающий танк обрушился в воду между сваями моста и стало понятным, что никакой опасности попасть под его гусеницы не существует, гитлеровцы еще долго не могли прийти в себя. Они галдели, отдавали поспешные, противоречивые приказы, которые тут же отменялись, орали друг на друга, впадали в истерику от взаимных обвинений и оскорблений.
А праздник разгорался в душах пленных, хотя они ни в чем не выражали своей радости, стояли молча, с равнодушными лицами, как будто не понимали, что происходит вокруг, или полагали, что это их совершенно не касается. Им тоже многое было неясным вначале. Но капля за каплей просачивались сведения о случившемся, одно-два слова пронизывали их массу, словно электрический заряд: «Танк...» — «Наши?» — «Не может быть...» — «Наши, наши. Точно!» — «Тигра взяли.» — «Дают концерт!» — «Кто же это?» — «Партизаны». — «Это ремонтники». — «Вот тебе и чесночники...»
Потом их торопливо построили в несколько колонн, погнали из каменоломен к мосту. Сперва они увидели несколько опрокинутых, растерзанных грузовиков, возле которых бродили и собирали что-то немецкие солдаты, аккуратно сложенные, укрытые шинелями трупы на обочине, затем свежие воронки от бомб и снарядов по обе стороны шоссе и, наконец, сожженный посредине, еще слегка дымящийся мост, у которого собралось не менее двух сотен гитлеровских офицеров и солдат, прибывших сюда на машинах.
Все, что открывалось глазам, не требовало комментариев, все было понятно как пленным, так и солдатам-конвоирам: «тигр», прежде чем запылать на мосту, погулял на славу. Особенно сильные впечатления, хотя и совершенно различного характера, произвели выложенные в ряд на обочине трупы, покрытые грязно-зелеными шинелями. Немцы пришли в ярость — столько жертв! Тут-то и застучали первые короткие очереди автоматов. При малейшем нарушении правил движения конвоиры без предупреждения стреляли по колонне — пуля виноватого найдет — «Равнение в пятерках!», «Шире шаг!», «Не глазеть по сторонам, не переговариваться!» Те, кто упал, пятная брусчатку кровью, уже не поднялся, таких безжалостно добивали, заставляли оттаскивать на обочину: «Мы вам покажем, как бунтовать! Подождите, мы еще вам не такое покажем...»
Но праздник продолжался. Трагическое переплеталось в нем с комическим. Одна сцена сменялась другой, и выходило так, что основная масса пленных присутствовала на этих маленьких спектаклях в качестве специально приглашенных зрителей. Давно они так не бездельничали и не развлекались. Требовалось только одно — тщательно скрывать свою радость и глумление над растерявшимися немцами.
Кто-то из гитлеровских командиров подал идею вытащить танк на берег. Когда пленных пригнали к реке, сюда уже были подвезены два длиннейших троса, и немцы устанавливали приспособление с треногами-распорками и вращающимися на валах шкивами. Пленные, стоя по команде «вольно!», наблюдали за этой работой. Потом был отдан приказ выстроиться двумя плотными цепочками, и две огромных группы пленных под крики, улюлюканье гитлеровцев начали тянуть тросы, загудевшие точно басовые струны какого-то гигантского музыкального инструмента. Пленных нельзя было упрекнуть в отсутствии старания — один трос лопнул на первой же минуте, и несколько сот человек одновременно повалились на землю, кувыркаясь, наваливаясь друг на друга. Снова вынужденное ожидание — на счалку троса ушло около часа, и эту сложную работу, конечно, побоялись поручить кому-нибудь из пленных, ее выполняли немецкие саперы. Потянули снова — лопнул второй трос, а многотонная стальная коробка еще сильнее заклинилась между обгоревших сверху свай. Тогда решили выстроить рядом новый мост, привезли тачки, чтобы насыпать ответвление от шоссе. Готовились работать круглосуточно при свете костров. Тут какой-то наиболее здравомыслящий инженер предложил сделать временный настил на обгоревшем мосту, используя коробку танка как один из самых прочных устоев. Плотничали немецкие саперы — пленные не годились для такой срочной работы, и все же их держали эти два дня тут же, у реки, на тот случай, если потребуется их помощь. Нужно перетащить поближе к плотникам десяток досок, и начинается кутерьма: каждую доску хватают четверо и галопом пробегают с ней каких-нибудь сорок метров. Десяток досок — трехминутная разминка для сорока человек. И снова бездействие, созерцание, шорох слов, пробегающих по застывшей толпе: «Полудневый...» — «Трое — Полудневый, Шевелев, Петухов». — «Кто бы подумал на Петуха!» — «А он кукарекнул...» — «А на кого подумал бы? Полудневый после карцера, доходяга». — «Базу, хлопцы, видели? Погром». — «На станции больше». — «Они в офицерскую школу тоже заглянули...» — «Чесночников под ноготь. Изуродовали так, что и мама не узнает». — «Спешат, стараются с мостом». — «Полудневый знал, где последнюю свечку поставить». — «Как кость им поперек горла сунул». — «Долго, суки, будут помнить».
Праздник продолжался — глухой, скрытый, не видимый для постороннего глаза. Пленные торжествовали, ликовали, глумились над гитлеровцами. Заметить это по их лицам было невозможно. Однако их внешнее всеобщее тупое равнодушие наводило немцев на мысль, что все они до одного человека принимали участие в заговоре или по крайней мере знали о нем и теперь излишне старательно играют роль непричастных к случившемуся. Конвоиры вели себя свирепо. Несколько человек было убито ни за что ни про что, избитым, изувеченным без какой-либо причины не было счета. И никто не останавливал озверевших конвоиров, офицеры просто не замечали таких сцен — гитлеровцы мстили русским пленным. В глазах каждого пленного они угадывали скрытые радость и торжество.
На третий день с утра почти всех пленных погнали и каменоломни на общие работы.
Впервые за эти дни Годун и Ключевский оказались в одной пятерке, рядом, и смогли переброситься несколькими словами.
— Спасибо, Чарли, — прочувствованно сказал Петр.
— Что я? Хлопцев нужно благодарить, — вздохнул Юрий.
— Хлопцев само собой. Только на твоем журавле полетели... Хорош журавель оказался. Высоко поднялись.
— Высоко, — согласился Юрий печально. — И погибли.
— Так ведь в бою. Такую смерть готов принять. Видел остальных из ремонтной команды?
— Страшно.
— Куда страшнее, мама родная и та не узнает. Ни один из них не выживет. Базу прикроют.
— Похоже.
— Точно. Теперь никого пайкой не купишь. Омишулились фрицы. За все время две машины залатали — Т-3 и Т-4. Только и всего. Так это сами немецкие мастера давно могли бы сделать. Молодец Роман. Завидую. Такого натворил.
— Неужели никто из них не спасся?
— Веришь в чудеса?
— А все, что случилось, разве не чудо?
— Нет, все они погибли. Если кому-нибудь удалось спастись, — немцы бы искали. А так нет. Видимо, убедились, что все сгорели в танке или на мосту.
Колонна спускалась в карьер. Ключевский шел, глядя под ноги, задумчивый и грустный. Годун с надеждой посмотрел на него.
— Что дальше, Чарли?
Юрий вздрогнул, поняв, о чем спрашивает товарищ. Он сам думал об этом не раз и не находил ничего утешительного. Им выпал редкий, золотой шанс, они использовали его, но надеяться, что такой шанс повторится, было бы глупо. Это противоречило бы теории вероятности.
— Две удачи подряд? Вряд ли следует надеяться, Петя.
— Не придуривайся, — сурово покосился на него Петр. — На то тебе такая башка дадена. Ну, поднатужься, Чарли, придумай еще чего-нибудь. Что тебе стоит?
Да, отказываться от мысли о побеге нельзя. Это была бы их смерть. Нужна надежда. И Ключевский сказал товарищу:
— Хорошо, Петр, подумаю...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Дополнительное сообщение
Особо секретно
Оберштурмбанфюреру Кремпу
Рапорт
По поводу известного Вам трагического эпизода станком «тигр» дополнительно сообщаю:
1. Фатальные события развивались следующим образом. В 15.30 танк Т-6 («тигр») после капитального ремонта и прошедших в полевых условиях испытаний был установлен на площадке готовности, находящейся на территории рембазы, окруженной кирпичной стеной и двумя рядами гранитных надолбов. Командир танка лейтенант Бегнер, чтобы отметить возвращение своей боевой машины в строй, пригласил в контору всех немецких мастеров и организовал там выпивку. Возле танка оставались два члена экипажа — механик и водитель, при этом, как утверждают стоявшие у ворот часовые, водитель находился в танке на своем месте.
15.45. Три советских военнопленных — Шевелев, Петухом, Полудневый — совершили внезапное нападение на танкистов, зверски умертвили их и захватили танк. Тот-час же ими были предпринята первая попытка вырваться из рембазы, пробив танком стены дома конторы. Это не удалось, но под гусеницами танка и обломками погибли успевшие выбежать в коридор и на крыльцо 5 мастеров, одни из членов экипажа «тигра», а также русская девушка-кладовщица, находившаяся у себя в кладовой. Лей-нт Бегнер спасся, успев отскочить в сторону. Сделав разворот, танк нанес повторный удар. Оказалось, что стены дома конторы были сложены из глыб сырой, смешанной с соломой глины и лишь облицованы настоящим кирпичом. «Тигр» пробил дом насквозь и вышел на улицу.
Раздавив по дороге одну легковую и 2 грузовых машины, «тигр» ворвался во двор офицерского училища, находящегося по ул. Бисмарка, № 11, и мгновенно разрушил летнюю столовую. К счастью, обед в школе уже закончился и из курсантов пострадало всего 8 человек.
16.00. «Тигр» появился на стратегическом шоссе в районе ж.-д. станции. В этот момент на танке находился притаившийся у башни лей-нт Бегнер, ранее преследовавший танк на мотоцикле. Какую цель ставил перед собой Бегнер, неизвестно, но можно предположить, что он надеялся каким-то образом уничтожить сидевших в танке русских и завладеть машиной. Это ему не удалось.
Танк разгромил колонну из шести стоявших на обочине шоссе автомашин и повернул назад, к городу.
Вскоре «тигр» появился на станционных путях, обстрелял из пулемета и поджег три цистерны с горючим, раздавил гусеницами несколько минометов, пулемет.
Взяв на себя полную ответственность, я связался с находившимся на станции командиром прибывших войск подполковником Гизлингом и в категорической форме предложил ему принять все меры, чтобы повредить или совершенно уничтожить танк «тигр». Подполковник ответил, что он откроет по танку огонь из уцелевших пушек и вызовет по радио самолет-бомбардировщик.
16.15. «Тигр», покинув ж.-д. станцию и направившись по шоссе в восточном направлении, раздавил встречную штабную машину, опрокинул и повредил броневик и затем, свернув с шоссе, скрылся за остатками грузовиков разгромленной автоколонны.
По «тигру», вновь появившемуся на шоссе, открыт артиллерийский огонь. Прямых попаданий нет.
16.20. Артиллерийская стрельба прекращена. На шоссе на небольшой высоте пролетает бомбардировщик и сбрасывает на движущийся в восточном направлении танк первую бомбу. Цель не поражена. Второй заход еще более неудачен — бомбы ложатся в значительном отдалении. Бомбардировщик улетает.
Возобновляется артиллерийский обстрел. Отмечено первое прямое попадание снаряда в корму танка. «Тигр» полным ходом продолжает свое движение в восточном направлении.
Несколько прямых попаданий. Над моторным отделением танка показалась струйка дыма. «Тигр» скрывается с глаз, окутанный дымом.
16.25. Горящий танк останавливается на деревянном мосту через реку Сож. Выскочивший из люка пленный подвергнут интенсивному пулеметному огню со стороны отряда, заминировавшего шоссе за поймой реки.
16.30. Одним из первых к мосту прибыл я. Танк полыхал, огнем был охвачен также настил моста. В огне можно было различить лежавший у перил наполовину обгоревший труп.
Ветер способствовал пожару, и все предпринятые нами попытки обуздать огонь не привели к желаемым результатам.
16.35. Танк «тигр», проломив наполовину сгоревшие балки моста, рухнул в воду.
Таким образом, танк «тигр» находился в руках русских пленных всего 40 минут, из которых только 35 минут относятся к его активным действиям, что следует объяснить крайне ограниченными запасами имевшихся в танке горючего и боеприпасов.
Однако то, что занявший место водителя пленный не покинул горящий танк, пока не вывел его на мост, указывает, что он преследовал две цели: сжечь мост и хотя бы временно остановить движение на стратегическом шоссе, а также полностью вывести мощный танк из строя.
Вначале были высказаны предположения, что кто-либо из пленных успел выскочить из танка и остался жив.
Нами были проведены поиски: по реке пущены надувные лодки с солдатами, вновь вызванный по радио бомбардировщик совершил несколько облетов поймы. Так как обнаружить кого-либо в воде и на берегу не удалось, мы пришли к единодушному мнению, что все трое пленных, находившиеся в танке, погибли.
По окончательным данным число наших жертв составляет:
Убитыми:
подполковников . . . . . . . . . 1
майоров . . . . . . . . . . . 1
обер-лейтенантов . . . . . . . . 2
лейтенантов (в том числе злополучный
командир Т-6 лей-нт Бегнер,
покончивший жизнь самоубийством) . . . 5
унтер-офицеров . . . . . . . . . 12
курсантов офицерской школы . . . . . 8
рядовых . . . . . . . . . . . 43
немецких мастеров, работавших на рембазе . 5
Итого: 72 чел.
Ранеными:
офицеров . . . . . . . . . . . 7
рядовых . . . . . . . . . . . 28
Итого: 35 чел.
Такое удручающе большое количество жертв можно объяснить только той полной неожиданностью для наших офицеров и солдат, какой явились для них действия танка. Они гибли под гусеницами, не успев догадаться, что прославленным «тигром» управляют руки врага.
Виновники. Считаю нужным подчеркнуть, что, по существующему положению, лагерь военнопленных, к сожалению, не выходит в сферу деятельности полиции безопасности. За все, что происходит с пленными в лагере и на работах вне лагеря, несет ответственность комендант. Что касается охраны рембазы в ночное время, возложенной мною на специальную группу вспомогательной полиции, то она велась образцово, и никаких претензий в мой адрес не поступало.
Главным виновником прискорбного события считаю покойного лей-та Бегнера, допустившего преступную оплошность, состоящую в том, что он оставил танк без надлежащей охраны.
Вина оберштурмфюрера Брюгеля также несомненна: как комендант лагеря, он не сумел через свою, находящуюся среди пленных агентуру, заблаговременно узнать о планах похищения танка. Однако оберштурмфюрер решительно отвергает такое обвинение, утверждая, что захват танка состоялся не в результате длительной и тщательной подготовки, а экспромтом, под влиянием внезапных импульсов, вызванных мыслью о возможности вырваться на свободу. Этим-то и объясняется, по мнению оберштурмфюрера, что его агенты не смогли что-либо узнать и своевременно донести о назревающей опасности. Учитывая неспособность и нелюбовь русских к тщательной, всесторонней подготовке, упование их на знаменитое русское «авось», суждение оберштурмфюрера можно счесть близким к истине. Однако, чтобы проверить это, следует, на мой взгляд, расширить сеть агентуры среди пленных, подбросив в лагерь хорошо подготовленных людей, какие у нас имеются.
Начальник базы гауптман Верк не исключал возможности попытки со стороны кого-либо из пленных захватить отремонтированный танк, о чем свидетельствует его рапорт, поданный им за 8 дней до чрезвычайного происшествия, а также те меры, какие он принял, чтобы исключить успех такой попытки. К этому следует добавить, что Верк в момент захвата танка находился вне территории базы, и все произошло во время его отсутствия. Тем не менее, следует указать, что ни кто иной, а именно гауптман Верк, выдвинул и проводил в жизнь идею использования русских пленных на работах по ремонту танков. Идея эта, как показывает случай с «тигром», оказалась порочной.
К рапорту прилагаю:
1.Схематический план рембазы.
2.Карту-двухкилометровку, на которой нанесен путь, проделанный «тигром» после того, как он был захвачен русскими.
3.Копию рапорта нач. рембазы гауптмана Верка.
Хайль Гитлер!
Начальник городской полиции безопасности оберштурмфюрер Швейгерт.
Воскресный день
Выбитая, вытоптанная ногами, мертвая лагерная земля. Пленные небольшими группами и в одиночку сидели, лежали на ней. Одни спали, другие чинили одежду и обувь, тихо переговаривались с соседями. Некоторые лежали на спине, подложив под голову сомкнутые руки, и бессмысленно глядели на чистое голубое небо. Юрий Ключевский перебрался между тех, кто занял место невдалеке от барака, выбрал свободную плешину и, предвкушая блаженство, начал медленно опускаться на колени, чтобы затем улечься поудобней. Можно было не спешить, в распоряжении каждого пленного имелось четыре часа свободного, так называемого «личного» времени.
Воскресенье. Спасательный островок отдыха в конце недели. Тут даже гитлеровцы не стали ничего менять: воскресенье есть воскресенье, и создано оно для отдыха и молитвы. Как там сказано в святом писании: шесть дней подряд, не зная сна и отдыха, трудился господь, создавая небо, воду, земную твердь, фауну и флору, а на седьмой решил отдохнуть, присел на удобную горку, опустил ноги в теплое синее море и смахнул ребром ладони обильный пот с морщинистого чела. Умаялся старик... Откровенно говоря, эта начальная библейская легенда, поведанная Юрию бабкой, с детских лет нравилась ему: как-никак бог занимался доброй, созидательной работой, лепил горы, выравнивал степи и долины, прокладывал русла рек, сажал леса, придумывал разных диковинных зверюшек. В воображении Юрия бог был похож на тех мальчишек, которые, закатав штаны выше колен, бродят после теплого летнего дождя по мутным лужам и ручьям, лепят песчаные домики, сооружают запруды с мельницами, тычут в песок ветки и травинки, изображающие рощи, дубравы, лесные чащобы. Сам Юрий в детстве частенько играл в такого бога, сотворяющего и украшающего землю. Это была великолепная увлекательная игра, он попридумывал множество удивительных, невиданных животных и растений, например павлина, на перьях хвоста которого, даже легкое дуновение ветерка вызванивало, как на арфе, различные мелодии, или сосну с крупными апельсинами на ветвях. Были в этих играх реки, берущие начало из источников, бьющих из земли газированной водой, подкрашенной яблочным, лимонным или малиновым (по желанию) сиропом, города, над которыми дожди шли и солнце светило строго по расписанию, очень удобному для жителей города, гора со сползавшим в долину ледником сливочного мороженого, радуга, по какой можно было бегать босиком, как по мосту. Была еще таинственная пещера, где жил тысячелетний старик — вместо бороды у этого старца отрастала свертывающаяся в рулон полоса бумаги, на какой он записывал гусиным пером свои летописи. Было много других чудес в сказочном мире детства. Только для столбов с колючей проволокой не нашлось места на этой сотворенной, придуманной мальчиком земле.
Ну, а если бы ему вернули детство, построил бы он, играясь во всесильного бога, хотя бы один такой колючий лагерь, гиблое место, придуманное людьми для людей? Нет, пожалуй. Впрочем, крохотный лагерь, лагерь-символ, он, возможно, построил бы, и в нем томился бы один человек — навечно заключенный туда новый комендант, унтерштурмфюрер Витцель, как две капли воды похожий на русского пленного Юрия Ключевского. Шесть дней в неделю молодой эсэсовец ворочал бы тяжелые камни, его обмундирование изорвалось бы и висело клочьями на худом грязном теле, и только ремень с портупеей и фуражкой с высокой тульей вечно оставались бы новенькими. Чтобы все знали, кто это...
Не так уже много времени понадобилось Юрию, чтобы совершить путешествие в детство — те несколько секунд, пока его тело клонилось к слегка нагретой солнцем земле. Вон он улегся, положил голову на локоть, вытянул ноги. Не успел сомкнуть веки, как у лица закружил, запорхал кленовый листочек, тот самый, маленький, похожий по цвету на кровь. Сейчас этот беспокойный, тревожащий душу листок исчезнет, и появится грустное лицо девушки-кладовщицы, а затем лица Ивана Степановича, Полудневого, Петухова.
Последние дни так было всегда. Стоило только закрыть глаза...
Он все еще жил недавним прошлым, таким невероятным и прекрасным — ведь все от начала до конца было разыграно по его сценарию. История с «тигром» как бы опустошила Юрия, и у него не было сил думать о будущем. А Петр Году и не сомневался, что башка Чарли сварит какой-нибудь новый, исключительно удачный вариант побега. Петр все эти дни уважительно-вопрошающе поглядывал на него и, не заметив какого-либо обнадеживающего знака, понимающе кивал головой, вздыхал, ничего, мол, торопить не будем, подождем день-два, дело ведь не из легких.
Сейчас Петр придет сюда, ляжет рядом. Что ему сказать? Вариант с переодеванием... Самым честным будет предупредить Петра, что план есть, но он нереален и может привести только к массовой кровавой расправе.
Шаги. Тень упала на спину. Петр. Присел возле него. Молчит. Но разговора на главную тему не избежать.
— Заснул?
Юрий дернул головой.
— Лежи, лежи, будто спишь. Я посижу в головах. Так удобней. Выкладывай тихонечко, что придумал.
— Нечего выкладывать.
— Ты, Чарли, не дури, — обиженно произнес Петр. — Времени у нас не так уж много. Нужно обсудить, обдумать. Давай!
После эпопеи с «тигром» Годун твердо уверовал в талант Ключевского предугадывать события и находить выход из, казалось бы, безнадежного положения и не допускал мысли, что их Чарли на этот раз не сможет предложить какой-нибудь новой идеи.
— Слушай, Петр, я ничего не придумал. Ничего стоящего. Обманывать, сказки рассказывать не буду.
— Чудак! С танком что, разве не сказка получилась?
«Петр прав — сказка, сказка. Прекрасная», — мысленно согласился Юрий, но сказал другое:
— Нет. Просто мы сумели использовать реальную возможность. Такое уже не повторится.
— Что, по-твоему, нам делать? Не трать, куме, силы... Так, что ли?
Юрий не ответил.
— Ты что, Чарли, захандрил? — В голосе Годуна звучали удивление и злость. — Так имей в виду: мы приведем тебя в чувство. Дурака валяешь...
«Как все это похоже на сцену, разыгравшуюся всего десять дней назад здесь же, когда я разговаривал с Романом Полудневым, потерявшим веру в себя и своих друзей, — подумал Юрий. — Роли переменились. Сейчас на месте Полудневрго оказался я, а Петр Годун тормошит меня, пугает, будет упрашивать. Он верит в чудодейственную силу выдумки Чарли. Но ведь нельзя же шаманить, вести людей на верную гибель, очаровав их своим планом массового побега, не веря в этот план, заведомо зная, что их постигнет неудача. Вариант с переодеванием... Такие вещи годятся для водевиля, оперетки, но только не для реальной жизни».
— Давай твою сказку, — нарушил молчание Годун.
— Петр, эта сказка имеет трагический конец.
— Как это — трагический? Смертельный? Нашел чем пугать. Иван Степанович, Полудневый смерти не побоялисъ. Даже придурок этот, Петух, на смертельную опасность наплевал.
— Я не о нас с тобой говорю. Часовые на вышках искосят пулеметными очередями сотни взбунтовавшихся пленных, завалят лагерь горами трупов.
— Мы в долгу не останемся, — неуверенно возразил Петр.
— Мы погибнем прежде, чем сумеем что-либо сделать.
Годун молчал долго, ерзал, сопел сердито. Наконец произнес рассудительно.
— Ладно... Не глядя на товар, цену не назначают. Давай твою сказку. Поглядим на нее, пощупаем...
Ключевский повернулся на бок, лицом к товарищу, облизал губы.
— Начнем с нового коменданта, унтерштурмфюрера Витцеля. Ты черты его лица и весь облик помнишь?
— Еще бы! Я эту суку до конца своих дней буду помнить, среди тысячи других его личность определю.
— Хорошо. Теперь поставь меня рядом с ним.
— Как это?
— В воображении. Вообрази, что мы стоим рядышком — унтерштурмфюрер и я. Похожи?
Годун удивленно смотрел на Юрия. Он хотел что-то сказать, по тут раздался мощный голос старосты Баглая: Четвертый барак, слушай! Проверка барака на чистоту и порядок. Всем стать на свои места!!
Крик старосты, словно сигнал тревоги, поднял пленных с земли, и они устремились к широким дверям барака.
Этого следовало ожидать. Новый комендант Каменнолужского лагеря проявляет особое внимание к четвертому бараку: здесь, несомненно здесь, родилась идея совершить побег на танке. Ведь те, кто сумел осуществить дерзкий план, были из четвертого барака. Все трое! Держись, четвертый барак, это воскресенье не обойдется без крови, жертв.
Юрий Ключевский подбежал к своим нарам, окинул взглядом постель, пригладил хорошо заправленный кусок брезента, служивший ему одеялом, и замер возле столба лицом к проходу. По обе стороны прохода уже протянулись живые цепочки — запыхавшиеся пленные стали на свои места. Слава богу, опоздавших, кажется, нет.
— Ахтунг! — орет на весь барак староста Баглай, ожидающий начальства у порога. — Снять головные уборы! Смирно!
Шорохи, вздохи, покашливание сменяет полная тишина — все знают, что команда «Снять головные уборы» подается Баглаем, когда комендант со своей свитой уже на пороге. Там происходит нелепая церемония встречи начальства — староста вскидывает перед собой руку с дубинкой, точно салютует обнаженным клинком, щелкает каблуками и, сделав шаг в сторону, пропускает в барак коменданта и его сопровождающих.
Главный проход широк — метра три, боковые поуже, но и в них могут свободно пройти три человека рядом. Комендант начинает обход с бокового, обозначенного на специальной табличке проходом № 1. Нары Ключевского на этом проходе. Юрий скосил глаза.
Сперва из-за угла показывается фигура солдата с автоматом на груди, затем крупная овчарка. Собаку ведет на коротком поводке унтерштурмфюрер Витцель. За комендантом не спеша, поглядывая на нары, шагают незнакомый фельдфебель, очевидно, назначенный заместителем Витцеля, и лагерный врач. За ними, соблюдая дистанцию в четыре-пять шагов, идет второй автоматчик. Староста Баглай замыкающий. Помахивая дубинкой, он со свирепым видом оглядывает выстроившихся возле нар пленных.
Шесть человек...
Солдат как солдат. В глазах настороженность, руки лежат на автомате — достаточно какой-нибудь доли секунды, чтобы нажать спусковой крючок. Из широкого голенища торчит запасной магазин-рожок для автомата.
Овчарка Бетси. Отвратительное создание — грудью, одним ударом может сбить пленного с ног. Твердые, точно из жести вырезанные уши, острозубая пасть открыта, красный влажный язык свесился набок, красивый кожаный ошейник, украшенный медными и какими-то светлыми, очевидно серебряными, жетонами, бляшками.
Витцель. Вид у него стал еще более надменным, его прямо-таки распирает от сознания своей значительности. Но лицо не изменилось, тот же овал, те же брови, нос, подбородок. Похож, похож, сукин сын. Лоб скрыт под козырьком фуражки. Значит, не имеет значения, какой он — такой же высокий, как у Юрия, или низенький, узкий. Наверно, узкий...
Прошел, оставив в воздухе легкий запах лаванды. Брюгель душился шипром.
Низенький врач неинтересен. Вид у него болезненный, губы капризно морщатся. Такой слабак свалится от одного удара в темя.
Солдат и Баглай. Этих оглушить будет нелегко.
Шесть человек... Иногда их бывает больше. Стоит только промазать или запоздать с ударом, и все полетит к черту. В самом начале. Вариант заманчивый, но он все больше и больше кажется Юрию невыполнимым — афера, водевиль.
В конце прохода раздается крик, рычание и хриплый лай овчарки. Кого-то бьют. Витцель, видимо, к чему-то придрался, и Баглай, выслуживаясь перед новым комендантом, лупит проштрафившегося пленного дубинкой по голове. Удар, удар, удар... Наконец пленный, защищавший голову руками, падает на пол, и Баглай пинает несчастного в живот.
Уходит. Избитый пленный остался на полу недвижим. Убили.
Баглай тотчас же возвращается в сопровождении двух пленных. Убитого бросают на носилки и уносят куда-то, видимо, ко второму выходу из барака.
Три или четыре удара дубинкой потребовалось, чтобы свалить истощенного человека на землю. Он успел крикнуть... А как свалить немцев, чтобы обошлось без криков и стрельбы? Юрий был подавлен: он убедился, что вариант с переодеванием в немецкую форму — бред сумасшедшего, глупейшая авантюра. Не следовало бы и заикаться о своем сходстве с эсэсовцем. Но другого варианта у него нет. А может быть, пойти на этот огромный риск? Удача сопутствует не трусам, а смелым.
Вольно! Разойдись! — кричит староста.
Проверка закончена. Пленные спешат к дверям. Скорее из барака, где только что на глазах у них был замордован их товарищ.
Ключевский вышел одним из последних. Годун ждал его на прежнем месте.
— Ну, что скажешь? — спросил Юрий, усаживаясь рядом.
— Злобствуют. Ведь ни к чему придрался. Теперь они четвертому бараку веселую жизнь устроят.
— Я не об этом... Ты обратил внимание на сходство?
— Личностей? Какое там может быть сходство! На нем все блестит, а ты на урку похож.
— Хорошо, одень меня в такой же мундир, на голову такую же фуражку и поставь нас рядом... Неужели ты не можешь мысленно представить?
Годун, хмуря лоб и часто хлопая ресницами, долго оглядывал Ключевского и наконец заявил с глуповато-растерянной улыбкой:
— А ведь в самом деле похож. Ей-богу! И рост, и фигура соответствуют. Только ты скелет, а он как раз при спортивном теле.
— Под мундиром не будет заметно...
— А как мундир ты достанешь? Да и достанешь, нарядишься, что из того?
«Интересно все-таки, что он скажет, когда я раскрою ему свой план? — подумал Юрий, чувствуя, как его охватывает озноб. — Все-таки это мое детище — вариант с переодеванием».
— Приляг, будто спишь, и слушай внимательно.
И Ключевский без иронии в голосе, а так, будто он твердо верил в свою «сказку», изложил довольно подробно свой грандиозный план истребления всей охраны лагеря и массового побега освобожденных пленных.
Юрий снова увлекся и многие сцены передавал так, точно видел их перед собой и не сомневался в их правдоподобности.
Годун слушал его, широко раскрыв глаза, то и дело затаивая дыхание.
— Вот так, — заключил свой рассказ Юрий. — Если все пройдет удачно, мы освобождаем весь лагерь, почти без потерь с нашей стороны. Что будет потом, кому удастся добраться к своим, к партизанам, кого поймают, расстреляют, повесят, — это уже вторая сказка, и не мне ее сочинять. Что обо всем этом ты скажешь?
Петр вздрогнул, произнес восторженно:
— Здорово! Как в кино. Неужели сам придумал?
— В том-то и беда, что как в кино, — уныло согласился Юрий.
— Конечно, все не спасутся, — рассудительно произнес. Петр, — многих поймают, не без этого, но все-таки половина уйдет. Даже пусть десятая часть.
Удивительное дело — трезво мыслящий Годун рассуждает так, будто главные трудности возникнут после того, как охрана лагеря будет перебита и все пленные вырвутся на свободу. Неужели авантюра с переодеванием не вызывает у него сомнения?
— Слушай, Петр, ты делишь шкуру неубитого медведя. Неужели ты веришь, что все может произойти так, как я рассказал? Думаешь, мы сможем в одно мгновение расправиться с комендантом и его свитой? А тот момент, когда мы будем подходить к воротам? Стоит хотя бы одному часовому заподозрить неладное — и все пропало.
— Ты не веришь в свой план? — удивился Годун. — Я другого мнения. Если все хорошо подготовить... И главное: сходство двух ваших личностей налицо.
— Хорошо, они меня примут за Витцеля, — продолжал испытывать товарища Юрий, — а врач, фельдфебель, автоматчики?
— Можно подобрать подходящих...
Юрий не удержался, тихонечко свистнул от изумления: Петр Годун принял всерьез то, что он, Юрий, считает своей красивой, но невыполнимой, вздорной выдумкой, Загорелся... А что удивительного? Ведь не так уже давно этот план и ему, Юрию, казался восхитительной находкой. Сейчас он выльет на голову Петра ведро воды, охладит его.
— Начнем сначала. Сколько человек потребуется нам, чтобы в один миг, без шума отправить на тот свет или хотя бы оглушить коменданта и его сопровождающих, ты об этом подумал? Можешь не подсчитывать — человек десять, а если серьезно говорить, то и пятнадцать не помешало бы.
— Зачем столько? Шестерых хватит. Баш на баш. Все-таки внезапность на нашей стороне.
— Могут быть различные сюрпризы: одного убьют или посадят в карцер за день до события, другой заболеет, третьего пошлют куда-нибудь, и его в нужный момент не будет в бараке. Нужны, как говорится, запасные игроки. Допустим, кто-то промажет или удар окажется слабым, тут-то кто-то должен немедленно нанести второй удар.
Чтобы никто из немцев пискнуть не успел. Иначе все пропало.
— Когда ты, Чарли, таким пугливым стал? — насмешливо прищурился Годун. — Пусть заорет какой-нибудь немец, не страшно. Сегодня бедняга Новиков как орал, когда его убивали. Ну, и что? Никто из часовых не прибежал в барак на помощь коменданту. Они привыкли к таким крикам: кого бьют? — пленного, кто орет, прощаясь с жизнью? — пленный.
Этот довод был убедительным, но он касался частности, детали, а не всего плана.
— Считаю, — продолжал Петр, — что восьмерых вместе с запасными предостаточно. Если потребуется, и второй раз тюкнут. Злость силы прибавит.
— Хорошо, пусть будет по-твоему — восемь человек. Нас двое. Шестерых нужно искать.
— Найдем. Неужели в нашем бараке настоящих людей нет, одни трусы и доносчики? Кто бы подумал на Петуха — дуролом, мозги набекрень, а Роман его посвятил, и вышло хорошо.
— Я не об этом. Не сомневаюсь, найдем людей, но ты знаешь, что не каждый, к кому мы обратимся, согласится активно поддерживать нас. Не поверят в реальность плана, скажут: афера, бред. У каждого есть дружки, и пойдет «под самым строгим секретом» шумок по бараку, пока не дойдет до уха доносчика.
Скуластое лицо Петра стало свирепым:
— Предупредим каждого: болтнет если — убьем.
— Петр, тайна перестает быть тайной, когда ее знают больше трех человек.
— А с танком как было? Шесть! Тоже немало.
— Не равняй. Мы были уверены друг в друге. Петухов, надо полагать, был посвящен Романом всего лишь за несколько часов до начала...
— А кладовщица? — не сдавался Петр. — Все знала, стены измерила, инструкцию достала.
Кленовый листок затрепетал перед глазами Юрия и тут же исчез. Юрий слышал: девушка погибла в момент, когда «тигр» таранил дом. Она находилась в кладовой. Почему за несколько секунд до этого она не вышла во двор? Ведь можно было обо всем догадаться, особенно, когда ее попросили достать несколько страниц из военного учебника, посвященных описанию рычагов управления «тигра». Почему, наконец, Иван Степанович не предупредил ее об опасности? Видать, не успел. Кроме того, если бы девушка хотя бы в самый последний момент бросилась бы к стеллажам, это наверняка спасло бы ее.
— Да, кладовщица шестая, — грустно согласился Юрий. — Но у меня были основания считать, что она верный человек.
— Все равно — шесть, — упорствовал Годун. — И тайну сохранили.
— Ладно. — Голос Ключевского звучал устало. Он уселся па земле рядом с Годуном. — Ответь мне, как все восемь окажутся во время проверки в одном месте, почти что рядом?
— Ну, это плевое дело, — уверенно заявил Годун. — Сколько раз я стоял на чужом месте — не успел к своему добежать. Да и поменяться можно... Что с тобой, Чарли, я тебя не узнаю.
— А я тебя, Петр. Ты не понимаешь, какую ответственность взвалим мы себе на плечи, решив осуществить этот нелепый план.
— Без риску нельзя, — возразил Годун. — В лес ходить...
— Да не об этом я, — досадливо перебил его Юрий. — Пойми, я случае неудачи с захватом танка пострадали бы три, ну, самое большее, пять человек: я, ты, Иван Степанович, Роман и Петух этот. Кладовщицу мы бы спасли — никто бы не назвал ее при допросах. Ну, допустим крайность — ее бы тоже заподозрили и казнили. Шесть человек, шесть жертв неудачной попытки. И все!
— Шухер... — торопливо шепнул Годун, предупреждая блатным словечком об опасности.
Послышались шаги, кто-то медленно прошел мимо.
— Отбой. Говори, выкладывай свои доказательства.
Повторяю, могло быть шесть жертв. Что же, мы знали, на что шли. А теперь подумай, что произойдет, если наш маскарад обнаружат при подходе к воротам или даже когда мы свалим часовых и овладеем их оружием. Завяжется перестрелка, изо всех бараков высыпят пленные, и тут-то начнется побоище. Пять вышек, пять пулеметов... Находящиеся в караульном помещении немцы тоже откроют огонь... Нет, всему есть предел. Я не какой-то ослепленный идеей побега маньяк, чтобы повести за собой на верную гибель сотни людей.
— Что такое — маньяк? — угрюмо спросил Годун.
— Полусумасшедший, чокнутый, или дуролом, как ты говоришь, — выбирай, что тебе больше нравится.
Петр обиженно поджал губы — Чарли грамотей, умник, даст словами по морде, оскорбит, высмеет, а сам вроде в стороне, ни при чем. Вот и сейчас... Вроде обозвал дуроломом, но не прямо, а как-то в обход, намекнул только... Нет, не дуролом он, Петр Годун, а просто смелый человек. И Годун сказал не без мстительного злорадства:
— Понятно... Ты просто сдрейфил. Боишься, что не сумеешь сыграть эсэсовского офицера. Кишка тонка. Так бы сразу и сказал.
Юрий не сдержался, улыбнулся — Петр использует наивные приемы, бьет на самолюбие.
— Нет, не боюсь, — сказал он . — Людей жалко. Сотни погибнут по моей вине, бесполезно. Одна эта мысль давит, сковывает.
— Людей, видишь ты, ему жалко... — презрительно скривил губы Годун. Возникшее у него враждебное чувство к Ключевскому усилилось. — Неженка какая! Тебе людей жалко, а то, что половина пленных, а может быть все до одного, так или иначе загнутся в этом лагере, так тебе не жалко? Уж если погибать, то с музыкой... Роман вон как...
Да, об этом Юрий думал, и не раз: если умирать, так красиво, с поднятой головой, а не на коленях, не под ногами у этих мерзавцев. И все же разыгрывать «оперетку», за которую надо платить многими жизнями, он не решался.
Когда впервые в голове Юрия возник план — «вариант, с переодеванием», как он его, не без скрытой иронии, именовал, — он увлекся, все в этом варианте казалось легким, удивительно слаженным, и мысль о моральной ответственности не тяготила его. Сейчас все было по-другому. Повести людей на бойню... Что он, новоявленный поп Гапон какой-то, что ли? Однако Петр правильно говорит — большинство пленных обречено на тяжелую, мучительную смерть. Что лучше: погибнуть от пули часового во время безнадежной, отчаянной, безрассудной попытки вырваться из лагеря или умереть от истощения, побоев, непосильного труда? Конечно, каждый мужественный человек должен выбрать первое, тем более, что имеется, все-таки, пусть крохотный, пусть совсем ничтожный, шанс на успех.
— Смотри, Чарли, мы тебя упрашивать не будем, — угрожающе произнес Петр. — На тебе свет клином не сошелся. Найдем другого, хоть чуть похожего на эту суку эсэсовскую, и обойдемся без твоей помощи. Какой с тебя спрос — Чарли он Чарли и есть...
— Ты говоришь — мы... — не обращая внимания на явную враждебность и оскорбительный тон товарища, спросил Юрий, настораживаясь. — У тебя есть на примете верные люди или ты именуешь себя во множественном числе, как когда-то царь-батюшка: «Мы, божьей милостью...»?
— Есть, нет... Тебе не все равно? — У Годуна был вид человека отчужденного, вынужденного вести скучнейший разговор.
— Не все равно. Это меняет кое-что. Ты должен мне сказать. Не доверяешь?
Годун поковырял пальцем сухую землю. Обвел взглядом вокруг.
— Есть двое. Надежные.
— Ты им о танке говорил? Они знали?
— Нет, что ты! Они и сейчас не знают, что я к этому делу касательство имел. Вроде как презирают. За то, что я в ремонтники пошел.
— Эт0 хорошо, — сдержанно одобрил Юрий и умолк, о чем-то задумавшись.
— Кроме того, Роман указал мне на одного человека из второго барака, — после короткого молчания продолжил Годун. — Сказал, если будете затевать что-то большое, обязательно скажите ему, он вам поможет. Скажете только — «Малый привет от Романа Южного», на что он должен ответить: «Я такого не знаю, я родом с Севера».
Это сообщение было совершенно неожиданным для Ключевского и, видимо, произвело на него сильнейшее впечатление.
— Когда это Полудневый сказал?
— За день до побега.
— Это был не побег, это был бой, — сердито бросил Юрий. Он чувствовал, как возбуждение сменяет в нем недавнюю апатию.
— Не цепляйся к слову, грамотей, — сердито поморщился Годун, — Значит, как получается у нас? Ты, выходит, по слабости нервной системы отходишь в сторонку, становишься вроде американского наблюдателя, а мы твой отчаянный план самостоятельно выполняем. Ну что ж! Как говорят — спасибо этому Дому, пойдем к другому.
— Не надо, Петр, так... — Юрий грустно посмотрел куда-то в сторону. — Давай лучше помолчим, подумаем.
Ключевский снова улегся на землю, уткнувшись лицом в положенную на руку пилотку. Но не прошло и полминуты, как он рывком поднялся, сел рядом с Годуном и впился в него горящим взглядом.
— Скажи, Петр, правду: ты действительно веришь, что такой план можно осуществить?
— А то как же! — не задумываясь, ответил Годун. — На девяносто процентов. А если бы ты согласился сыграть коменданта — на все девяносто девять.
Юрий долго и напряженно смотрел в глаза товарища, видимо, искал в них совсем не то, что было выражено словами, — сомнение, неуверенность или же фанатическую ослепленность. Не нашел. Обмяк, сказал тихо и печально, как бы про себя:
— Ничтожный шанс. Ничтожнейший... Эта история с танком свела нас всех с ума.
— Не то говоришь, Чарли, — покачал головой Годун . — Совсем не то. Благодаря твоей выдумке и геройству наших — ты знаешь, о ком слово, — благодаря им мы все как родились снова, почувствовали себя людьми. Вот издеваются, мучают на работе нас, убивают, а настроение у пленных с прежним не сравнить. Сила, надежда появилась.
Петра вдруг точно прорвало. То наклоняясь к Ключевскому, то озираясь по сторонам, он горячо зашептал:
— Я воевал неплохо, поверь, Чарли. Битых, давленных фрицев на моем счету достаточно. Не для похвальбы говорю, потому понимаю, особого геройства нет — в танке, броней укрытый сидел. Но если я сейчас, в лагере, какого-нибудь эсэсовца голыми руками прикончу, удушу, к примеру, это будет моя самая большая победа. Вот почему мне твой план нравится. Сам говорил — не побег, а бой. Ну, а если все удастся и будет наша победа... Тогда, тогда...
От волнения Годун не находил слов.
— Значит, ты все-таки сомневаешься... — Глаза Юрия стили сухими, острыми.
— Все от нас зависит. И от случая, конечно. Но главное, как мы сработаем. Уж больно ты на коменданта похож...
Хитрый Петр, улещивает. Так хитрил и он, Юрий, когда «поднимал» Полудневого. Юрий покосился на товарища — скуластое лицо, угрюмый взгляд, широко поставленные серые глаза. Он ведь никогда не испытывал особой симпатии к Петру, да и Петр относился к нему равнодушно, если не сказать — холодно. Разные они люди. Связывал их Шевелев. Иван Степанович, по природе человек мягкий, интеллигентный, относился с большим уважением к людям ученым, тянулся к ним и в то же время был своим человеком для людей физического труда, мастеровых, трудяг, таких же «не шибко грамотных», как и он. Годун — несколько примитивен, грубоват но он верный человек, и на него можно положиться. После истории с танком их связывало многое. Как бы там ни было, Годун вошел в жизнь Юрия как преданнейший друг и таким останется в его памяти до конца, как Иван Степанович, Полудневый и тот Петух, какого он почти совсем не знал.
Юрий лег на спину. Теперь в глаза ему не лезли тоскливо-однообразные серые бараки, столбы с колючей проволокой, вышки — все, что напоминало ему о неволе; он видел небо — голубое, чистое, и оно рождало у него иллюзию невесомости, легкого птичьего полета, бескрайней свободы. Пойти на головокружительный риск, увлечь за собой массы пленных, толкнуть их на самоубийство? Нет, при единодушном рывке то не будет самоуничтожением. Пусть многие погибнут, пусть упадет большинство, все же немало счастливчиков вырвется отсюда, уйдет, пробьется к своим, отомстит. Пленные подымутся все — они увидят впереди себя танк Полудневого, прокладывающий нм дорогу...
— Ладно, Петр. Я согласен. Делаем.
— Молодец, Чарли! — воскликнул Годун прочувствованно.
— Во-первых, выбрось из головы эту дурацкую кличку, — раздраженно сказал Юрий.
— Что ж тут такого? — удивился Годун. — Я думал...
— Иван Степанович никогда не называл меня так.
— Все. Ясно. Извиняюсь.
— Во-вторых, раз взялись, не будем терять времени даром. Давай обсудим, стоит ли связываться сейчас с этим человеком из второго барака. Если стоит, то что ты должен будешь сказать ему?
Годун замялся, смущенно посмотрел на Юрия.
— Может, ты пойдешь? Обрисуешь все. Я ведь не умею так художественно, как ты.
— Никаких рисунков! — торопливо сказал Ключевский. — Нужно установить, знает ли он каких-либо людей в нашем бараке, которым можно полностью довериться. Для начала этого хватит. Пойдешь к нему ты, мне он может не поверить, на мне пятно, я один из первых согласился пойти в ремонтную бригаду. Помнишь, как пленные зашумели, когда я вышел из строя? Кроме того, не исключено, что Роман дал ему твои приметы.
Годун слушал и кивал головой. Он вынужден был согласиться с доводами Юрия.
— Это правда. Значит, пойду я. Ну, а если он спросит, что мы такое задумали, как отвечать?
— Разговор короткий: у нас намечается серьезное дело, нужны люди. Роман Полудневый говорил, что вы можете помочь.
— Сразу не скажет. Спросит: какое дело?
— Никаких подробностей, — обеспокоился Юрий. — Серьезное дело — и все. Можешь добавить, что Полудневый доверял тебе полностью и ты помогал ему. Намекни, что дело срочное, не терпит проволочек. В разговоре, пожалуйста, употребляй не множественное, а единственное число — я, мне, меня. Посмотрим, кого он нам порекомендует.
Решили не откладывать, и Годун, оставив Чарли «спящим», ленивым шагом отправился к себе в барак, прошел его насквозь и через вторую дверь вышел на двор. Земля была усеяна лежащими и сидящими пленными, но многие медленно сновали по двору, встречались, перекидывались словом-другим и тут же расходились — собираться в большие кружки, обсуждать что-либо не разрешалось. Годун, шагавший ко второму бараку, никак не выделялся среди этих серых фигур.
Вернулся Годун скоро. Ключевский ждал его у дверей барака. По огорчению, появившемуся в глазах товарища, Юрий понял — неудача.
— Видел?
— Видел... Я ему насчет «малого привета» вполголоса толкую, а он поглядел на меня коровьими глазами и говорит: «Ты чего по чужим баракам тыняешься? Потянуть что-нибудь захотелось? Иди, пока я тебя дрином не огладил».
— И громко это сказал? — нахмурился Юрий.
— Чуть ли не на весь барак заорал.
— А ты уверен, что по адресу попал? Может, спутал?
— Он! Кличка — Язь. Конопатый, на левой два пальца изуродованы, мизинец и тот, что рядом. Роман мне по показывал. Правда, издали.
Ключевский задумался.
— Ничего страшного, — сказал он, встряхивая головой. Но больше ходить туда ненадо. Встретишься случайно — делай вид, что не узнаешь. Подождем день-два. Возможно, он сам к тебе подойдет. Да, да, он сам подойдет. А ты подумай хорошенько над началом, как все в бараке у нас должно произойти. Без дела не встречаемся...
...Эсесман Эрих Пельцер сидел за пулеметом на сторожевой вышке №3 и с унылым видом наблюдал за тем, что делается на территории лагеря в секторе обстрела, установленном для его поста. Пленные вели себя, как сонные осенние мухи, лежали па земле, сидели, сновали по двору. Некоторые собирались по два-три человека, переговаривались. Вот двое встретились у дверей барака, лениво перебросились несколькими фразами, затем один поплелся к уборной, а другой скрылся в бараке. Не служба, а отдых. Правда, скука смертная, но тут уж ничего не поделаешь. Эрих Пельцер сладко зевнул, прикрывая рот кулаком.
Пароль Полудневого
Совершенно секретно
Коменданту Каменнолужского
лагеря военнопленных
унтерштурмфюреру Витцелю
§1
Вашей главной задачей является добыча и погрузка на ж.-д. транспорт гранита как в больших кусках, так и в виде щебенки, потребность в котором увеличилась. Необходимо хорошо продумать и организовать процесс работы в каменоломнях на всех ее этапах с целью увеличения добычи ценного камня. Вы должны создать такие условия для пленных, при которых они вынуждены будут работать без простоев, с полной отдачей сил. Между тем в связи с продовольственными и транспортными затруднениями мы вынуждены снизить нормы выдачи продуктов для пленных. Единственно разумный выход из создавшегося положения — решительно избавиться от человеческого балласта. Как установлено проверкой, больные, крайне истощенные, лентяи и симулянты составляют большую часть пленных. Польза, Какую они приносят, ничтожна, между тем эти лишние рты поглощают значительную часть продуктов.
Приказываю: 1) дать указание врачу облегчить смерть безнадежно больным, находящимся в лагерной больнице, а саму больницу за ненадобностью упразднить; 2) решительно подвергать специальной обработке тех пленных, какие не в состоянии выполнить трудовую норму, плетутся во время переходов в хвосте колонны; 3) пленных, проявляющих даже самую мелкую недисциплинированность, помещать в карцер, установив для них голодную диету — пол-литра воды в сутки; 4) сэкономленные благодаря этим мероприятиям продукты распределять среди здоровых, что должно будет способствовать повышению их работоспособности.
§2
Распространившееся среди некоторых офицеров мнение, что захват танка «тигр» состоялся стихийно, без какой-либо подготовки, и к этому делу были причастны только трое пленных, ошибочно и вредно, так как располагает к самоуспокоению и безответственности. Факты говорят о другом: 1) все трое злоумышленников жили в одном бараке, что облегчало им общение друг с другом, вылившееся затем в преступный сговор; 2) все трое, являясь опытными и искусными танкистами, с определенной целью скрывали свою военную специальность; 3) злоумышленники, видимо, каким-то образом узнали, что стены дома конторы сложены из глины, и точно рассчитали, что тяжелый танк несколькими ударами может пробить стены. Все это свидетельствует о серьезной и длительной подготовке и не исключает, что у злоумышленников имелись тайные друзья, советчики, помощники, оставшиеся целыми и невредимыми. Выявление, хотя бы с опозданием, этих тайных сообщников — дело очень важное и касается Вашего престижа. Поэтому мной решено помочь Вам усилить агентурную сеть новыми, специально подготовленными людьми.
Приказываю: 1) все вопросы, касающиеся техники заброски новой агентуры, срочно обсудить с начальником городской полиции безопасности оберштурмфюрером Швейгертом; 2) большую часть агентов поместить в барак № 4; 3) приложить максимум стараний, чтобы работа агентов и ваша связь с ними сохранились в глубокой тайне.
§3
Ваше решение предпринять ряд мер, направленных на сокращение бесполезной траты сил пленными, — одобряю. Свои силы пленные должны тратить на работе, а не во время ненужных длительных переходов. Это не касается воскресных дней. В такие дни для пленных необходимо найти какое-то занятие, чтобы заполнить их свободное время.
§4
Имею удовольствие сообщить Вам, что мной подано ходатайство о повышении Вас в чине.
Хайль Гитлер!
Оберштурмбанфюрер Кремп.
Вот они идут — остроглазый солдат с автоматом, Нитцель, плюгавый лагерный врач и фельдфебель, еще один автоматчик и замыкающий — староста Баглай. Они проходят так близко, что у Юрия спирает в груди. Ему кажется: стоит кому-либо из этих шестерых глянуть ему и лицо, и все будет раскрыто, его схватят и с криками: «Это он! Это он!» — начнут бить палками по голове, пинать ногами.
Но никто ничего не заметил, хоть все они зорко, настороженно поглядывают по сторонам.
Проходят.
И снова, снова они... Юрий открывает глаза. Проходы коменданта со свитой могут повторяться в его воображении бесконечно, один за другим. Они в общем-то однообразны, эти повторяющиеся картины, разве что меняется дистанция между немцами — на шаг-два ближе или дальше друг от друга. Это похоже на отбор кинорежиссером дублей: одна и та же сценка снята несколько раз, и режиссер по нескольку раз просматривает на экране варианты-дубли, чтобы выбрать наиболее удачный. Но выбрать не так-то легко, каждый дубль имеет свои достоинства и недостатки, режиссер прокручивает дубли до тех пор, пока его восприятие не притупляется, и он уже не в состоянии определить, что хорошо, что плохо. Кончается тем, что сцена снимается еще несколько раз и после этого оказывается, что самым лучшим дублем, бесспорно, является тот, что снят первым, его-то и включают в фильм, а остальные, потребовавшие от съемочной: группы так много труда, летят в корзину. Корзины в монтажной наполнены блестящими, скрученными в спирали полосками пленки — забракованными дублями. «Посторонним вход воспрещается». «Не курить!» Воспоминания... Непрошеные, ненужные, они врываются в сознание Юрия, чтобы тотчас же исчезнуть как далекий сполох молнии, как след падающей звезды.
Юрия уже не преследовал кленовый листок, его участие в «афере» было делом решенным, и он гонял, прокручивал свои однообразные «дубли», выискивая таящиеся в них неожиданности. Удивительно, даже в воображении он не решался поднять руку, чтобы стукнуть по голове своего «двойника»; близость проходившего мимо унтерштурмфюрера точно парализовала его. Однажды он увидел в одном из «дублей» на головах солдат-автоматчиков не пилотки, а стальные шлемы... Его даже бросило в пот — таких не свалишь, тюкнув камушком по темени. Но это была ложная тревога: охранявшие лагерь эсэсовцам шлемы не надевали — зачем они перед безоружными, обессиленными людьми? Страшнее оказалась другая неучтенная деталь. По какому-то легкомыслию, или скорее ослеплению, он не брал в расчет овчарку Бетси, словно забывал о ее существований, а справиться с той сильной острозубой тварью будет трудней, чем с любым двуногим.
Сколько же потребуется им верных, решительных, сохранивших физическую силу людей, чтобы нападение было успешным? Группа коменданта может состоять не из шести, а из семи-восьми человек. Если даже без запасных, «баш на баш», как говорит Петр, все равно потребуется восемь нападающих. И еще двое нужны, чтобы сразу прикончить Бетси, самых смелых и ловких — зубы овчарки сами по себе способны внушить панический страх. Десять человек надежных, отборных, бесстрашных. Как их найти, когда прошедшие горькую, смертельную науку пленные боятся раскрыть друг перед другом душу? Авантюра, афера, их всех выловят раньше, чем будет произведена проверка барака на чистоту и порядок. Он очень надеялся на человека из второго барака, но прошло два дня с тех пор, как Петр ходил туда передавать «привет от Южного», а все без изменений. Несомненно, Полудневый дал «адрес» верного человека, возможно даже, что это член какой-то подпольной группы, ведь Роман говорил о помощи, а один человек помочь не в силах. Группа... Стоит ли раскрывать свои планы? Он, Юрий, всегда боялся такого варианта, когда в дело пришлось бы посвящать многих людей. Но на ЭТОТ раз иного выхода нет.
До вечерней проверки оставалось — в лагере, где строго придерживались распорядка, Юрий научился чувствовать время — не менее чем полчаса, и эти полчаса следовало бодрствовать, противясь искушению заснуть. Юрий лежал на нарах, тело отдыхало, хотя натруженные руки и ноги ломило в суставах. И вдруг он почувствовал прикосновение, кто-то крепко сжал пальцами его руну у локтя, погладил ее. Петр... Просит выйти из барака. Есть какая-то новость. Юрий на всякий случай полежал на нарах еще минут пять и лишь тогда спрыгнул на землю и пошел к двери.
Небо было темным, лишь на западе виднелось неясное розоватое пятно, «где от заката памятка одна», — вспомнилась строчка сонета — это угасала одинокая тучка, еще недавно светившаяся, как только что вынутый из горна уголек. Петр ждал Юрия на дорожке к уборной. Слабенький прожектор, установленный на вышке, шарил по земле, освещая столбы, густо переплетенные колючей проволокой, ровную белою полосу возле них.
— Не пойдем, не пойдем мы туда, не бойся, — сердито-насмешливо пробормотал Петр, имея в виду часового на вышке. — Ученые...
Прожектор погас, но тут же снова зажегся, поймал Годуна и Ключевского и подержал их несколько секунд в своем голубоватом луче.
— Вот гад, — испуганно зашипел Петр. — Как услышал...
— Спокойно, — сказал Юрий, — не останавливайся и не прибавляй шага. Что у тебя?
— Не ошибся я. Тот это человек. Эти дни он, видать, обнюхивал меня, собирал сведения. А сегодня, можно сказать только что, привет от Южного мне возвратили. А кто бы ты думал? Ивашин. Это тот, что вместе с Петухом по приказу Романа должен был утопить тебя в сортире. Понял, какой человек? Его-то, да еще одного я держал в мыслях, когда говорил, что у меня есть на примете двое...
— Что Ивашин сказал?
— Подошел и говорит: «Извиняется второй барак, просил еще раз привет от Южного передать и отзыв получить. Нужен если — я в твоем распоряжении».
Что-то в этой новости особенно обрадовало и успокоило Юрия. Он быстро разложил все по полочкам, Петр попал по адресу, какой дал ему Роман Полудневый, — хорошо; человек из второго барака сразу не откликнулся на пароль и, надо полагать, навел через своих людей справки о Годуне — очень хорошо, так как это свидетельствует о соблюдении необходимой осторожности и умело налаженной конспирации; на Ивашина, который выполнял роль связного, тоже можно положиться — ведь и Годун держал Ивашина «в мыслях», когда говорил, что у него есть двое верных пленных в четвертом бараке. На Ивашине круг замкнулся — он — Юрий Ключевский, — Годун — человек из второго барака — Ивашин и снова — Годун. Юрия обрадовало, что круг охватил только четырех верных людей. Однако эта радость отдавала трусостью. Ивашин и так никуда не убежал бы от них, но если бы связным оказался какой-либо новый человек, то это был бы пятый. К черту! Нужно расширять круг. Нельзя прятаться от своих, время не ждет. Второй барак сможет помочь им в тот момент, когда они будут подходить к воротам — поднимут шум и отвлекут внимание часовых на себя. Пусть на какую-то долю секунды — и то хорошо.
— Петр, завтра ты встретишься с этим Язем. Слушай, и запоминай... Вот что ты должен сказать ему. Впрочем... Да, да, будет лучше, если к нему пойду я. Ты думал над тем, сколько человек нам потребуется?
— Думал. — Вид у Годуна сразу стал угрюмым. — На одного больше получается, овчарка ведь с ними...
— Один не справится.
— Самого ловкого наставим, он ее поводком удушит.
Загудел подвешенный на проволоке кусок рельса — пять ударов, сигнал выходить на вечернюю поверку.
Зажглись прожекторы на всех вышках и осветили аппельплац, к которому уже бежали со всех сторон пленные.
Ключевский и Годун также устремились туда и смешались с толпой.
На следующий день пленных ждал сюрприз. Им приказали взять котелки с собой и заставили тащить к карьеру десятка два полевых кухонь. На машине привезли продукты, дрова и вскоре по карьеру начал распространятся запах горячей баланды.
В обеденный перерыв пленных не погнали в лагерь, они получили тут же, в карьере, свои порции — черпак баланды и две ложки овсяной каши, наполовину состоящей из остюков и семян сорняков. Пленные расположились на отдых где попало, Пользуясь этим, Юрий Ключевский как бы случайно оказался рядом с пленным из второго барака по кличке Язь. Их разговор продолжался минуты две, не больше.
Вечером того же дня, как только стемнело, Язь встретился у дверей второго барака с невысоким, коренастым пленным. Они тотчас же отошли в сторону и остановились, прижавшись друг к другу спинами. Даже вблизи могло показаться, что это стоит один человек. Молчали долго, вглядываясь в темноту, прислушиваясь. Наконец товарищ Язя, по кличке Корень, заговорил, поворачивая голову и бросая через плечо едва слышные короткие фразы.
— Семен сообщил только что: всем, кто лежит в больницах, сделан укол. Они умрут этой ночью. Больницу закроют. Лечить никого не будут. Заболел — получай укол Или конвоиры пристрелят в дороге. Коменданту нужны только здоровые.
— В больнице наши — Братовой, Камень...
— Погибли. Семен ничего не мог сделать. Узнал поздно. Что у тебя?
— По паролю Южного пришел второй. Знаешь, кто он? Чарли из четвертого...
— Чарли? Он связан с Годуном или самостоятельно?
— Связан.
— Что он тебе сказал?
— Попросил хорошенько продумать поведение Полудневого...
— Южного!
— Да, да... Чарли просил меня задуматься над такими вопросами: не следует ли предположить, что план, выполненный Южным, был разработан другими, но они не могли осуществить его, так как их отчислили из ремонтной бригады? Может быть, именно это заставило их поделиться своей тайной с Южным и уговорить его пойти в ремонтную бригаду?
— Вопросики... Хитер Чарли. Знал, что ты отнесешься к нему с недоверием.
— Тем не менее получается убедительно.
— Что ему от тебя нужно? Есть какой-нибудь план?
— О плане он не распространялся. Сказал, что грандиозный, но подробности может сообщить только за два-три дня до начала. Ему нужны люди, абсолютно надежные, готовые на все. И он спросил, могу ли я порекомендовать ему кого-либо из четвертого барака.
— Обязательно из четвертого?
— Да.
— Сколько человек ему нужно?
— Сказал, желательно восемь человек, но если найдется больше — тоже не помешает. Я ему ничего не обещал, но об одном — Ивашине — они уже знают.
— Сколько у тебя в четвертом?
— С Ивашиным трое.
— Не густо. Давай погуляем. Я должен подумать. Уж очень это на тонкую провокацию похоже.
— Пароль точный. Южный не мог ошибиться. Знал толк в людях.
— Вроде... И все-таки как бы нам не попасться.
Они разошлись и через несколько минут встретились снова, на этот раз у раскрытых дверей барака. Коренастый сказал на ходу:
— Семен должен проверить этого. На рентгене.
— Думаешь...
— Для успокоения души. Цыган говорил: «Усе може буть».
— Только без...
— Цел будет. Если чистенький — на твою совесть и ответственность. Без дела не встречаемся.
— Добро.
Разошлись не попрощавшись, не взглянув друг на друга.
Требуется месячный срок
Коменданту Каменнолужского лагеря
унтерштурмфюреру Витцелю
Донесение
Спешу уведомить Вас, что человек из четвертого барака, по тайной кличке Блоха, обратился ко мне с просьбой. Он ходатайствует о том, чтобы его на несколько дней посадили в карцер. Он жалуется, что не сможет долго состоять на общих работах при граните в карьере по состоянию ухудшившегося слабого здоровья, а также пленные подозревают в нем стукача. Это создает для него большие трудности выполнять обязанности осведомителя, и для поднятия его авторитета в бараке было бы хорошо ему отдохнуть в карцере, если он и там будет получать паек и надбавку.
Прошу вас разрешить провести такую акцию по отношению указанного ценного агента Блохи.
Имею честь поставить свою подпись на вышеизложенном.
Староста барака № 4 Владимир Баглай.
Резолюция
Мысль заслуживает внимания, но с ее реализацией следует повременить.
Унтерштурмфюрер Витцель.
В опустевшей лагерной больнице начали делать побелку, чтобы хоть как-нибудь перебить ужасающий запах карболки, каким были пропитаны все стены. Этот маленький барак полностью отводился под жилье для внутрилагерного начальства — переводчиков, старост, поваров.
Ключевский, к немалому своему удивлению, был зачислен в бригаду маляров. Возможно, это была чистая случайность, возможно, старший переводчик запомнил пленного с жетоном № 13, который малевал на кирпичных стенах рембазы придуманные гауптманом уроки, и включил его в список. Между тем работой маляров руководил не Цапля, а его помощник — переводчик Нестеренко, молодой чубатый украинец с мутными, веселыми, будто пьяными глазами. Он следил, чтобы маляры не бездельничали, вкладывали, как он говорил, в работу всю душу. Иногда Нестеренко добавлял с похабнейшей улыбкой: «Всю душу, потому что тела у вас, гы-гы-гы, нет, одни скелетины». Он был довольно жизнерадостен, этот сукин сын, любил грубые шуточки, заковыристо ругался, но рукам воли все же не давал. И все поглядывал, поглядывал на Юрия Ключевского, а в обеденный перерыв заявил, что все могут идти к котлу, а халтурщик Чарли останется до тех пор, пока заново не побелит стену.
Маляры ушли, Юрий принялся за работу, стараясь, чтобы меловая жижа покрывала стену равномерно и щетка не оставляла следов. Нестеренко, насвистывая немецкую песенку, стоял позади, очевидно, следил за каждым его движением. Ну и гад. Чего это он прицепился? Стена, как стена, белая. Конечно, отсутствие навыков... Какой он маляр. Спокойно, только не делать ошибок, движение руки должно быть экономным, точным. Кисть в банку, ни капли лишнего, осторожный и быстрый взмах руки и уверенный плавный книзу. Между прочим, есть какой-то секрет в этих однообразных движениях, они успокаивают. И белый цвет тоже. Милый Том Сойер, ты знал эти секреты. Может быть, пан Нестеренко соблазнится, даст ему яблоко, чтобы получить взамен эту кисть. Вверх — вниз, быстро и плавно. Он идет по заснеженной равнине — чистый, нетронутый снег. Нет, это белый утренний туман лег на землю... Нет, это молоко струится по стене... Нет, это цветение вишневого сада...
— Ладно, Чарли, — сказал вдруг Нестеренко. — Кидай ту мороку. Все равно Айвазовский из тебя не получится. Кидай, кидай, у меня разговор с тобой.
Юрий оглянулся, удивленно взглянул на переводчика.
— Чего испугался? Не пропадет твоя баланда. Сейчас мы выясним некоторые вопросы, и пойдешь себе. Куришь?
Нестеренко щелкнул портсигаром.
— Нет, не курю. Слушаю вас, пан переводчик.
Туман ушел из глаз Нестеренко, темно-карие, теплые, они весело смотрели на Юрия.
— Давай без панов, Юрий Николаевич. Так, кажется, тебя величают? А то придумали какую-то кличку, точно для собаки... Так вот, Юрий Николаевич, хочу сделать тебе предложение. Ты ведь культурный, образованный человек, без предрассудков, надеюсь, и должен правильно понять меня. Немцам нужна информация. Мне приказано убедить тебя... Ну, конечно, будут льготы, работа полегче, дополнительное питание.
Всего мог ожидать Юрий, но только не этого — его вербуют в осведомители. Вот так задача. Во рту сразу стало сухо.
— Вы неудачно сделали выбор, пан переводчик.
— Я знал, что вы испугаетесь, Юрий Николаевич, начнете отказываться, — переходя на вы и как-то грустно улыбаясь, сказал Нестеренко. — Над вами все еще довлеют старые понятия — родина, честь, солдатский долг, измена. Смею вас уверить, все это только слова, пустые слова. Я на своем горьком опыте убедился.
— Дело не в словах, пан переводчик. Я просто не гожусь для такой роли.
Нестеренко не поверил, он слушал, иронически кивая головой.
— Это действительно так, — прижимая руки к груди, продолжал Юрий. — Я индивидуалист, неисправимый индивидуалист по натуре. У меня нет друзей среди пленных, никто не откровенничает со мной, не посвящает... Я вообще избегаю вступать в разговоры, диспуты.
— Ага! — обрадовался переводчик, и его лицо приобрело хищное выражение. — Значит, в бараке возникают и разговоры, и даже диспуты. Очень интересное сообщение. Вот вы и начали, Юрий Николаевич, информировать нас. Поздравляю!
Юрий почувствовал, что краснеет. Обозлился. Нет, не так-то просто будет этому негодяю загнать его в угол.
— Вы неправильно меня поняли. Устная речь не имеет кавычек. Я произнес слово диспуты в ироническом смысле, вы ведь знаете, что среди пленных бывают ссоры из-за какой-нибудь мелочи, чепухи, пуговицы например. Именно такие диспуты я имел в виду.
Нестеренко широко развел руки, точно хотел заключить Юрия в объятия.
— Как приятно беседовать с интеллигентным человеком. Мы понимаем друг друга с полуслова. Тем более желательно ваше сотрудничество — вы можете сообщать нам не только голые факты, но и комментировать их, анализировать.
Он совсем не был таким примитивным, как казался, этот Нестеренко. И от него не так-то просто будет отделаться. Юрий сделал вид, будто он всерьез задумался над предложением переводчика. Придя к выводу, шумно вздохнул, отрицательно покачал головой.
— Я не гожусь на эту работу.
— Не спешите, Юрий Николаевич. Вы опять попадаете во власть слов, являющихся всего лишь сотрясением воздуха, — доносчик, агент, стукач, шпион. На вопрос стоит иначе — жизнь или смерть. Вы умный, талантливый человек, и вас окружают тупые, ограниченные люди. Поверьте, все это навоз истории. Они погибнут. Все. До одного! Вы это понимаете? Вы знаете, что произошло три дня назад здесь, в больнице? Тридцать семь человек одновременно отдали богу душу. Сам врач отправил их на тот свет. Укольчики. Между прочим, это даже гуманно — легкая смерть. А сколько погибает вашего брата по дороге к карьеру и в самом карьере! Их стреляют, как шелудивых собак. Говорю вам, все пленные в лагере обречены. А вам за не столь уж обременительные услуги будет выдаваться дополнительный паек. Это спасет вас.
— Вы так думаете, пан переводчик? — с недоумевающим видом спросил Юрий.
— Уверен. Кроме того, мы ведь не будем особенно загружать вас заданиями.
— Хорошо, пан переводчик, — рассудительно, как бы решая какую-то абстрактно-логическую, не имеющую прямого отношения к нему, задачу, произнес Юрий. — Вы говорите, все пленные лагеря погибнут... Зачем тогда немцам содержать безработных старост, осведомителей или, допустим, тех же переводчиков? Немцы уничтожат и их — укольчики или что-либо новенькое придумают.
Выступать с такими рассуждениями было неразумно, опрометчиво. Юрий не мог рассчитывать на то, что Нестеренко сочтет его простаком, и все же не смог удержаться от желания хоть как-либо поддеть за живое этого негодяя.
Нестеренко не обиделся, с какой-то веселой легкомысленной улыбкой — видать, был он человек шалый, забубенный — посмотрел на Ключевского.
— Не беспокойтесь, Юрий Николаевич, мы без работы не останемся. И вообще, это отдаленная перспектива... Вернемся к сегодняшнему дню. Как говаривал этот самый принц датский — быть или не быть? Жить или умереть? Да или нет?
Юрий молчал.
— Да или нет? — повторил Нестеренко, с любопытством глядя на Ключевского.
— Я не гожусь для этого. Просто не гожусь. Меня сразу заподозрят и как-нибудь подстерегут ночью, прибьют, удушат.
— Вы отказываетесь из-за страха, или есть еще какая-нибудь причина?
— Из-за страха. Вернее, из-за своей неспособности к этому делу.
— Вы преувеличиваете опасность. Мы с вами будем работать очень осторожно, комар носа не подточит.
— Вам легко так говорить, пан переводчик, вам ничто не угрожает, а я уже испытал... Меня уже пытались удушить и утопить в сортире, когда я одним из первых записался в ремонтники.
Переводчик впился взглядом в лицо Юрия.
— Ты знаешь, кто это хотел сделать?
— Нет.
— Кого-нибудь подозреваешь, догадываешься?
— Нет.
— Врешь! Откуда тебе известно, что у кого-то было такое намеренье?
— Душили ночью на нарах, насилу отбился. Горло так намяли, исцарапали, что слово сказать трудно было.
Нестеренко казался разочарованным. Он критически оглядел фигуру Юрия, посвистел, посвистел, раздумывая над чем-то, и заявил твердо, жестко выговаривая каждое слово:
— Я полагал, Чарли, что разговариваю с умным человеком, и поэтому не прибегал к угрозам. Но ты хитришь, обманываешь меня. Так вот, знай правило нашего коменданта: если кому-нибудь из пленных предлагают сотрудничать с немцами, а он, дурак такой, отказывается, то его без задержки отправляют на тот свет.
— Укольчики? — почтительно осведомился Юрий. И побледнел — он переступил грань.
Нестеренко даже ахнул от изумления.
— По роже захотел? Свинья! С ним как с человеком, а он... ехидничает. Не обязательно укол. У старост есть дубинки, конвойные пристрелят по дороге в карьер или в самом карьере. А то посадят тебя, раба божьего, в карцер. Сейчас стало строже: пол-литра воды в сутки — и все. Подержат дней пять — и труп. Не думай, что это моя воля. Я должен доложить коменданту, каков результат нашего с тобой разговора, а уж он решит, каким способом тебя отблагодарить. Можешь слово отблагодарить взять в кавычки.
Ключевский улавливал в поведении Нестеренко что-то странное, ненатуральное, но никак не мог определить, что именно вызывает у него такое ощущение. Наконец понял: Нестеренко сам по себе насквозь фальшив, это и есть его сущность. Как же поступить, чтобы отделаться от этого опасного человека?
— Так что ты должен понять...
Тут Нестеренко заметил, что Чарли, этот жалкий Чарли, не слушает его, смотрит куда-то в сторону, думает о чем-то своем — глаза стали пустыми, прикрывающие их пушистые ресницы вздрагивают.
Действительно, Юрий решал для себя важный вопрос — не следует ли ему для пользы дела дать согласие Нестеренко и в качестве вновь завербованного агента поводить его за нос. Ведь не побоялся же он принять на себя позорное клеймо, когда одним из первых согласился пойти в ремонтники. Нет, тогда все же было легче... Какой гад этот Нестеренко.
— Ну так что, Чарли? — Голос переводчика звучал как бы издалека. — Быть или не быть?
Юрий очнулся от своих мыслей, тяжело вздохнул, поднял глаза на переводчика.
— Вы можете дать мне месячный испытательный срок?
— Другой разговор, Юрий Николаевич! Я рад, что здравый смысл победил предрассудки. Но месяца многовато. Хватит вам и двух недель.
— Месячный! — уперся Ключевский.
— Месяц, две недели... Что это меняет? Почему такой срок?
— Я не хочу, чтобы меня сразу же разоблачили, мне нужно втереться в доверие, обзавестись приятелями.
— Хорошо — месяц... Но вы должны будете зафиксировать на бумаге свое согласие сотрудничать с нами. Чистая формальность, но так заведено. Я уже заготовил текст, вам нужно переписать и поставить свою подпись. Фамилию и свою новую, известную только нам, кличку. Пожалуйста.
Нестеренко протянул Юрию сложенный вчетверо листок. Ключевский, стиснув зубы, с тоской и страхом смотрел на бумагу, у скул резко обозначились желваки. И вдруг он просиял своей мягкой, беззащитной улыбкой.
— Не надо. Я думаю, это будет преждевременным, господин Нестеренко. Понимаете, это будет висеть надо мной, как дамоклов меч. Мне нужен месяц. Через месяц мы устраиваем свиданне, и я уверен, что явлюсь к вам не с пустыми руками. Тогда-то и подпишем обязательство. Да, да, господин Нестеренко, я буду хорошим информатором для вас. Не сомневайтесь. Только не надо меня торопить.
— А дополнительный паек, гонорар, так сказать? — спросил переводчик и щелкнул пальцем по листику. — Если не будет соблюдена эта формальность, я не могу зачислить вас на дополнительное питание. Вы же знаете, какие немцы педанты.
— Ничего, потерплю... — после непродолжительного колебания сказал Юрий. — Вы только, если это в ваших силах, чаще посылайте меня на легкие работы. Там пленные чувствуют себя свободней, и можно будет вызвать кого-нибудь на откровенность.
Нестеренко слушал, не спуская глаз с Ключевского.
— Мне кажется, вы лукавите, Юрий Николаевич.
— Нет.
— Смотрите, если задумали что... Такие номера у нас не проходят.
— Вы будете мной довольны, господин Нестеренко, — устало и грустно произнес Юрий. — Раз я решился... Я сумею влезть в душу многим. Только не подгоняйте. Месячный срок. Если у меня появится что-нибудь раньше, я подам вам знак.
— Хорошо. Я верю вам, Юрий Николаевич, — прочувствованно сказал переводчик. — Это вам маленький подарок лично от меня, в виде аванса. Гонорар так сказать.
Нестеренко вынул из кармана несколько серых галет и сунул их в руку Ключевскому. Юрий смутился, покраснел, но тут же его лицо стало строгим, он осторожно завернул галеты в тряпку.
— Спасибо.
— Бегите и получайте ваш обед.
Повар обругал Чарли за опоздание и, наклонив бак, шаркая по днищу черпаком, наполнил котелок жиденькой баландой почти доверху, добавил туда две ложки пшенной каши — лопай, доходяга, рой веселым копытом землю...
Язь и Корень встретились снова. Почти одновременно вышли из уборной и оказались рядом у умывальника.
— Чарли чист. Но, видимо, склонен к наивным авантюрам.
— Я знаю. Приходил он ко мне. Все рассказал...
— Возможно, игра, все-таки? Тонкая, ажурная...
— Нет. Полностью доверяю.
— Сказал что-нибудь? Раскрылся?
— Да. Отчаянное дело. Даже голова кружится.
— Чувствую по тебе... А конкретней?
— Не могу, Корень.
— Ты что, спятил? Мне не доверяешь?
— Слово дал.
— Тогда, тогда... Тогда пошел ты с этим авантюристом, знаешь, куда?
— Пойду. Только вы передадите под мою команду Семена. Полностью. Чтобы никто другой его не касался.
— Копеечные заговорщики. Себя угробить решили, и Семена им подавай. Нет, этого не будет, брат.
— Дашь.
— Ты знаешь, это не я один решаю.
— Докажи им. Чего мы ждем, на что надеемся? Какие у нас планы? Конспирация, пароли, своей тени боимся. А каждый день люди гибнут.
— Не шуми, Язь.
— Передай комитету мою просьбу, требование, условие: я действую самостоятельно, Семен с завтрашнего дня полностью и беспрекословно подчиняется мне, в каждом бараке создается небольшая боевая группа из особо надежных людей, план Чарли раскрою тебе через две-три недели, когда все будет подготовлено. Чарли — нет, есть — Сокол.
— Тогда уж лучше — Соловей. Заворожил тебя своей песней...
— Пусть будет Соловей. Завтра жду решения комитета. Не согласитесь с моим требованием — уйду в секту к баптистам, тут есть такая, действует... У меня все.
— Не знал я, что ты, Язь, такой рисковый. Осторожничал...
— Ну, и трусом не был. Всему — время и мера.
— Добро. Завтра будешь знать наше решение. Я — за.
— Тогда разбежались. Я первый.
В барак вошли через разные двери. Их редко видели вместе.
Записи в дневнике
Секретно
Оберштурмбанфюреру
Донесение
Сообщаю, что ваше приказание о ликвидации лагерной больницы выполнено (37 чел.). Лентяи и симулянты по мере их выявления подвергаются специальной обработке. Карцер начал работать с полной нагрузкой, все камеры заполнены. (Смертельный исход невелик — 2 — 3 чел. в день). С момента назначения меня комендантом лагеря число пленных сократилось на 187 чел.
Занятые на добыче гранита пленные получают обед непосредственно на месте работы в каменоломне, что дало возможность на целый час сократить обеденный перерыв и соответственно продлить полезное рабочее время. Выработка на каждого пленного увеличилась и достигает нормы. Общая продукция каменоломни возрастает с каждым днем, несмотря на задержку ж.-д. платформ и пульманов.
В лагерь прибыла новая партия пленных, состоявшая из 63 чел. Этих людей разместили по баракам с соблюдением всех предосторожностей и с учетом рекомендаций оберштурмфюрера Швейгерта.
Хайль Гитлер!
Комендант Каменнолужского лагеря
унтерштурмфюрер Витцель.
«Живу под девизом «Пусть свершится чудо!». Иду по острию ножа, как лунатик, и не верю, что когда-нибудь смогу приблизиться к цели. Этот мой план — сплошное сновидение, упоительный самообман. Упрекнуть себя в чем-либо не могу: все делаю так, будто не сомневаюсь в успехе. А дел много, и трудности, как я все больше убеждаюсь, непреодолимы.
Пять дней томительного ожидания, взаимного осторожничанья, проверки друг друга привели к тому, что наконец-то Язь и его товарищи перестали видеть в нас провокаторов. Сегодня утром, еще при выходе из лагеря, Язь подал мне знак: «Есть срочное сообщение». Встретиться удалось только часов в одиннадцать. Язь тащил два лома, лопату, кирку, молот; тяжелый инструмент разъезжался под его рукой, и, думаю, никто не удивился, когда все это свалилось на землю, и другой оказавшийся невдалеке пленный помог Язю собрать и хорошенько уложить на плече его «хозяйство». Мы не задержались и секунды лишней, но Язь успел дважды повторить: «Полное доверие и одобрение. Устанавливаем дополнительные клички: Язь — Крот, Чарли — Соловей, Годун — Сокол. Кроме Ивашина, рекомендуем двух — Коваля, Скворцова. Остальных ищите сами. Общей поддержкой в критический момент обеспечиваем. Действуйте! Встречаться только при крайней нужде. Крот».
Итак, нас всего лишь шестеро (у Петра есть на примете еще один верный хлопец — Татаринов), даже в основной группе не хватает двух человек. А я по-прежнему считаю, что у каждого из нас обязательно должен быть дублер, иначе все заранее обречено на провал. Следовательно, нужны еще десять человек. Однако трудности заключаются не только в поисках абсолютно надежных людей. Куда более трудная задача, не вызывая подозрений у старосты, разместить их всех в одном месте, почти рядом друг с другом на коротком, в 15—18 метров, участке прохода № 1. За это дело взялся Петр. Одного — Ивашина — он уже устроил на месте убитого конвоирами Сидорчука, другого — Коваля, получившего кличку Молоток, к счастью, перемещать не потребуется, постель этого мрачного, замкнутого в себе пленного находится почти рядом с моей. Трое на месте. А как будет с остальными. Тринадцать человек все-таки... Петр хорохорится: «Все будет в порядке», но я вижу, телячьего оптимизма у него за последние дни поубавилось. Ну а я? Мне хода назад нет, после разговора с переводчиком я сжег за гобой мосты, поставил на карту жизнь и честь. Я делаю все, чтобы «вариант с переодеванием» удался — да свершится чудо!»
«Все рушится и никаких надежд. Мой славный товарищ Петр Годун на краю гибели, и помочь ему ничем нельзя.
Вот что произошло.
Вечером, когда мы вернулись с работы, оказалось, что во время нашего отсутствия в лагерь пригнали новую партию пленных - человек 60—70. Их разбили на четыре группы и разместили в бараках, предоставив на нарах места тех, кто отбыл в «бессрочную командировку». Несколько мест на нашем участке прохода № 1 пустовавших еще прошлой ночью, оказались заняты новенькими. Это было для меня и Петра тяжелым ударом — как раз в этот вечер Петр намеревался передислоцировать сюда еще двух наших товарищей и перебраться сам. Он даже успел положить на нары свою брезентовую куртку. Но это место было также занято, его облюбовал не новенький, а пленный Горобец, о котором поговаривали, что он доносчик и выступает у немцев под кличкой Блоха. Имелись все основания для того, чтобы под каким-нибудь удобным предлогом, спокойно, без шума избавиться от такого опасного соседства, тем более, что Горобец еще не успел перенести сюда свои вещи, но Петр, огорченный неудачей с переселением двух наших товарищей, сразу завелся и потерял чувство бдительности. После короткого обмена взаимными оскорблениями он стащил Горобца с нар и трахнул кулаком по его жалкой физиономии. Горобец поднял крик, полез в драку. На беду нашу, Баглай находился где-то невдалеке, он тотчас же появился в нашем проходе. «Драка? Силу некуда девать? Выбрыкиваете? В карцер! Обоих! На трое суток!» Их сразу же увели. Петр успел бросить на меня горестный, виноватый взгляд. Мне кажется, я слышал, как он скрипнул зубами. Три дня в карцере, пол-литра сырой воды в день... Погиб Петр. Первая жертва моей легкомысленной придумки. Ужасно».
«Почти всю ночь не спал — приходил Петр, толкал, будил, шептал горячо, с надеждой: «Придумай, Чарли, что-нибудь, выпусти меня из карцера. Что тебе стоит? У тебя же башка варит будь здоров!» Сварила... Убедился: история с «тигром» — счастливое стечение обстоятельств и моей заслуги там никакой, а если и есть, то крохотная. В остальном я беспочвенный фантазер, сюжетник или, как говорил Полудневый, — комик несчастный».
«Начались загадочные картинки. После утренней поверки нас почти полчаса держали на аппельплацу. Что-то произошло, немцы и их прихлебатели обеспокоены, мечутся. Ничего понять нельзя. Мне, правда, показалось, что все это связано с Баглаем — в это утро наш староста не появлялся ни в бараке, ни на аппельплацу. И вдруг ошеломляющая новость. «Баглай исчез... — умер... — покончил с собой... — удавился», — катится едва слышное над рядами. И последняя, окончательная, очевидно, самая близкая к истине редакция: «Убит...» Коллективный разум не делает ошибок. Баглай убит, несомненно. Для меня сейчас не столь уже важно, кто его убил. Важно то, что незадолго до своей собачьей смерти Баглай погубил Петра Годуна, отправив его в карцер. Этого уже нельзя изменить».
«Ничего не понимаю. Как только нас пригнали в карьер, мимо меня прошел Язь-Крот и бросил на ходу: «О Соколе знаю... Не паникуй. Продолжайте начатое». Не паникуй... Продолжайте... На что надеется сверхосторожный Крот? Что я могу сделать без Петра? Видимо, все мы теряем чувство реального, сходим с ума...»
Приведенные выше записи Юрий Ключевский сделал в течение суток. В тайне от всех Юрий вел дневник и педантично заносил в него все события минувшего дня, свои сокровенные мысли и планы. Он не боялся, что его «заветная тетрадь» попадает на глаза кому-либо другому — дневник был воображаемым. Это было очень удобным и совершенно безопасным — никаких следов, улик; но иногда Юрию казалось, что не только дневник его, но и сам он нереален и существует лишь в чьем-то болезненном воображении.
Новый староста
Баглая хватились утром: через несколько минут после сигнала побудки он не явился в свой четвертый барак. Его помощник Баранов, полагая, что староста проспал, послал в больницу (маленький барак, где после ремонта разместилось внутрилагерное начальство, называли по-прежнему больницей) одного из блоковых, и тот, вернувшись, доложил, что дверь комнаты Баглая заперта изнутри на ключ, но на стук никто не отвечает. Время, отведенное по тщательно выполнявшемуся распорядку дня на утренний туалет пленных, истекло, и Баранов сам побежал выручать Баглая — за несвоевременную явку на поверки наказывали и старост бараков.
От того грохота, какой поднял колотивший каблуками в дверь Баранов, мог бы проснуться и мертвый, но в комнате молчали — ни звука, ни храпа, ни шороха. Тогда Баранов выбежал из помещения и заглянул в окно. Он увидел на накрытом белой клеенкой столике пустую бутылку, мензурку, огрызки яблок. Железная кровать была аккуратно застлана, к спинке привязан сплетенный вдвое кусок провода в желтой изоляции, из-под столика выглядывали ноги в ботинках — развернутые носками вверх и в стороны.
Через несколько минут дверь была взломана, и вошедший и комнату первым комендант, унтерштурмфюрер Витцель, увидел у спинки кровати в нескольких сантиметрах от пола синее, с выпученными глазами и прикушенным языком лицо Баглая.
Самоубийцы проявляют удивительную находчивость, когда нм не терпится побыстрей отправить себя в мир иной. Криминалистам известны многочисленные приемы, к каким прибегают люди, решившие покончить, с собой при помощи петли, в том числе и тот, для которого достаточно табуретки и четырех связанных друг с другом носовых платков. Баглай повесился на спинке железной кровати, используя для петли кусок провода полевого телефона. Он сделал это, будучи пьяным, — в бутылке сохранилось несколько капель самогона-первача, и в комнате стоял тошнотворный запах сивушного перегара.
Брезгливо морщась, Витцель подошел к окну и, вытащив из гнезда нижний шпингалет (верхний оказался незакрытым), распахнул обе створки, открывая доступ свежему воздуху.
Провод успели отвязать, доктор склонился над трупом, в коридоре толпились старосты, переводчики, солдаты.
— Доктор, каково ваше мнение? — спросил Витцель.
— Полагаю, типичное самоубийство.
— Что же побудило его?
Доктор пожал узкими плечами.
— Трудно сказать. Загадочная славянская душа. Ну и состояние сильного опьянения...
— Где он мог взять водку? — сверкнул недобрым взглядом комендант в сторону тех, кто стоял в коридоре.
Все молчали, крепко сжав губы. Только Цапля подал голос:
— О, они ухитряются...
— Та-а-ак... — Витцель сердито покосился на труп. — Пусть пока лежит это дерьмо. Закройте окно. Пусть все остается, как есть. Всем на свои места. Сейчас надо отправить пленных на работу. Временно исполнять обязанности старосты четвертого барака будет помощник... Как его?
— Баранов, — торопливо подсказал переводчик Нестеренко, бросившийся закрывать окно.
— Да, — кивнул головой Витцель. — Этот Баранов.
Унтерштурмфюрер хотел выйти из комнаты, но Нестеренко задержал его:
— Господин комендант, удостойте чести, окажите мне внимание на две минуты.
— Что? — повернулся к нему Витцель. — Говори.
— Не здесь. Конфиденциальный разговор.
— Зайдешь ко мне в кабинет, — недовольно сказал Витцель. И торопливо вышел в коридор.
В кабинете коменданта все было по-старому — Витцелю тоже нравилось, что Гитлер на портрете как бы выглядывает из-за его спины, и он ничего не стал менять — при желании кого-либо из начальства упрекнуть его в нескромности и свободном обращении с фотоизображением фюрера все можно было свалить на предшественника.
— Ну? — спросил комендант переводчика, как только тот закрыл за собой дверь и остановился у порога.
— Господин комендант, несмотря на мнение врача, я имею смелость усомниться в том, что Баглай покончил с собой, — тихо, с придыханием произнес Нестеренко, оглядываясь на дверь. — Не исключено, что бывшего старосту четвертого барака умертвили...
— Каким образом?
— Насильственным.
— Но ведь двери и окно были заперты изнутри.
— Это ничего не значит. Вы обратили внимание, что верхний шпингалет не был закрыт?
Витцель должен был признаться себе, что он действительно не обратил особого внимания на такую мелочь. Дверь была закрыта изнутри и ключ торчал в скважине замка — это он помнил хорошо. Нижний шпингалет прикрывающей створки окна находился в гнезде, а верхний... Да, верхний не был закрыт. Все-таки он наблюдателен, этот Нестеренко.
— Значит, вы полагаете, что кто-то, вылезший из комнаты через окно и затем закрывший раму снаружи, сумел каким-то хитроумным способом опустить нижний шпингалет в гнездо? — недоверчиво покосился на переводчика комендант. — Кто, по-вашему, мог совершить убийство?
— Я не столь самоуверен, чтобы утверждать что-либо. Нужно тщательно исследовать все обстоятельства, пригласить специалистов, чтобы они осмотрели труп, комнату, находящиеся в ней предметы.
«Почему же я не сделал этого? — подумал Витцель. — Ага, я был твердо уверен, что имею дело с самоубийством».
— Откуда вам известна техника следовательской работы?
— Техника? Я не сказал бы... Я, правда, читал всякие детективы и, кроме того, знаю, что милиционеры, полицейские не разрешают подходить к трупу до приезда следователя с собакой. Следы, отпечатки...
«Да... — с досадой подумал комендант. — Следов там, если они и были, конечно, не осталось, все затоптали. Собственно, это не стоило бы выеденного яйца, если бы Баглай не был старостой проклятого четвертого барака. Все, что связано с этим бараком, не должно ускользать от моего внимания».
— Какие, по-вашему, причины, побудившие убийцу решиться на такой шаг?
Нестеренко снова тяжело вздохнул и оглянулся на закрытую дверь.
— Самые различные — сведения личных счетов, желание занять будущее вакантное место, боязнь разглашения какой-либо тайны и, наконец, — грабеж.
Последнее предположение удивило Витцеля.
— Грабеж? Вы думаете, у него было что-нибудь ценное?
— У старост водится золото, я имею в виду золотые коронки... Они выменивают на них у эсэсманов охраны самогонку.
— Вы можете это доказать?
— Нет. Я никогда не рискну высказывать что-то порочащее представителя высшей расы, приводить доказательства. Но с вами я должен быть совершенно откровенен. Не то, что наш старший переводчик Лукашевич, которого пленные прозвали Цаплей.
— А что он?
— Хитрейшая бестия. За взятки покрывает предосудительные действия старост.
Витцель прошелся по комнате. Боже — золото, взятки, водка, загадочные убийства... И где все это происходит? В подчиненном ему лагере военнопленных.
— Скажите, Нестеренко, вы кого-нибудь подозреваете в убийстве?
— Но ведь подозрение — это еще не доказательство.
— Не крутите! Отвечайте на вопрос.
Переводчик закусил губу, переступил с ноги на ногу. Лицо его приняло страдальческое выражение.
— Ну, Нестеренко?
— Я считал бы нужным проверить... — Глаза переводчика забегали, он явно не желал брать на себя ответственность.
— Кого? — нетерпеливо притопнул ногой комендант.
— Ну, хотя бы... — вяло начал Нестеренко. И вдруг решительно тряхнул головой — эх, была не была. — Унтерштурмфюрер, зачем гадать, предполагать... Хотите знать, что происходит в четвертом бараке, — назначьте меня туда старостой. Через три недели, максимум через четыре, вы будете знать все.
— А вы справитесь с обязанностями старосты? — прищурился Витцель. — Нужно, много энергии и полное отсутствие каких-либо сентиментов. А я что-то не помню, господин Нестеренко, чтобы вы лично избили до смерти кого-либо из своих соплеменников. Вы, к сожалению, мягкий человек.
Переводчик с разочарованным, скучающим видом смотрел мимо коменданта: его не поняли, его предложение отвергается. Ну что ж, он попытался открыть коменданту глаза, предложил свои услуги, сделал все, что мог...
— Почему вы молчите, Нестеренко?
Переводчик вздрогнул.
— Я понял, что мое предложение отвергается.
— Нет. Все зависит от того, сумеете ли вы в новом качестве проявить максимум твердости и жестокости.
— Излишняя жестокость может помешать выполнению основной задачи. Баглай был жесток, но разве он с мог пронюхать, что трое пленных из его барака замышляют удрать на танке? У меня совсем другие приемы. Если вы назначите меня старостой — я буду добрым старостой. В результате у вас будет полная картина тайной жизни в четвертом бараке и во всем лагере. Вот тогда-то я сам, лично, с удовольствием расправлюсь с некоторыми своими соплеменниками.
Витцель слушал не перебивая. Здравый смысл подсказывал ему, что худа не будет, если проверить на практике приемы Нестеренко. Четвертый барак, четвертый барак...
— Хорошо, с этой минуты вы староста. Можете приступать.
Нестеренко не тронулся с места. Он стоял, смущенно улыбаясь, точно ожидал еще какого-то заверения коменданта.
— В чем дело?
— Мне нужны будут ежедневно три-четыре пайки с приварком. Не для меня, нет, для поощрения наиболее активных и способных агентов.
— У нас есть агенты в четвертом. Мы передадим их под ваше руководство.
Новоиспеченный староста четвертого барака поморщился.
— Баглай подбирал их по своему образу и подобию. Какие-нибудь тупорылые сявки, от которых на километр разит предательством. Пленные наверняка знают, что это за люди, и остерегаются их пуще огня.
— Нет, многие им не известны. Например, те, которые прибыли в составе новой партии.
— Смею вас уверить, что к этим-то будут относиться с особой осторожностью.
— Мы поможем им заслужить доверие. Для отвода глаз посадим кого-либо в карцер.
— Это хороший прием, — кивнул головой Нестеренко. — Но я предпочту другое — не десять-двадцать примитивных доносчиков, а человека два-три образованных, пользующихся у пленных авторитетом и доверием, и уже как-либо связанных с тайными группами. Карцер и пайка помогут мне сломить и таких патриотов.
— Пайки будут выделены, — кивнул головой Витцель. И, видя, что Нестеренко не собирается уходить, удивленно спросил: — У вас есть что-то еще?
— Да, унтерштурмфюрер, — торопливо и несколько смущенно заговорил Нестеренко. — Я надеюсь... я хотел бы быть уверенным, что моя преданность будет оценена вами, и в случае выполнения возложенной на меня задачи я смогу рассчитывать на место старшего переводчика.
Витцель усмехнулся: вот чего добивается Нестеренко, везде свои интриги, тонкие ходы.
— Поживем — увидим, господин Нестеренко. А пока делайте свое дело.
Нестеренко готов был покинуть кабинет коменданта, но у самого порога остановился.
— Осмелюсь высказать еще одну мысль. Не следует ли использовать Бетси? Возможно, она смогла бы взять след...
У Витцеля это предложение не вызвало энтузиазма. Версия о самоубийстве Баглая казалась ему более вероятной и устраивала его во всех отношениях.
— Вы по-прежнему считаете, что кто-то помог Баглаю отправиться на тот свет?
— Убежден, — после короткого колебания решительно заявил Нестеренко.
— А что вы скажете, если Бетси, взяв след, приведет к вам? Ведь вы ходили по комнате, открывали окно?
Нестеренко, не проявляя какого-либо замешательства, кивал головой в знак согласия.
— К сожалению, по комнате ходили многие, — раздумчиво сказал он. — И если не ошибаюсь, первым, кто прикасался к дверям и окну, был помощник Баглая — этот самый Баранов? Затем... А вторым... да, вторым были вы, унтерштурмфюрер.
Витцель молча смотрел на переводчика. Странные глаза у этого украинца, какой-то туман гуляет в них, как будто Нестеренко все время пьян. А может, он тоже меняет неведомо как добытые коронки на самодельный шнапс?
Нестеренко перевел взгляд на начищенные до глянца сапоги коменданта, произнес с сожалением:
— Конечно, чепуха. Собаку нужно было использовать и самом начале. Сейчас это ничего не даст.
Новый староста четвертого барака тряхнул головой, вытянулся, щелкнул каблуками и вышел из кабинета.
Стоявший у крыльца эсэсман проводил его до ворот лагеря — из всего внутрилагерного начальства, навербованного из пленных, правом выходить из лагеря без конвоя пользовался только один человек — старший переводчик Цапля.
Чья очередь умирать?
Побудка. Барак ожил, наполнился тяжелыми вздохами, кашлем, стонами, короткими невнятными ругательствами. «Так, наверно, просыпаются грешники в аду. Нет, мы не грешники, мы праведники, грешники сторожат нас», — подумалось Юрию. Он вспомнил, что сегодня — понедельник и в 24.00 Петра должны выпустить из карцера, что вчера Язь через Ивашина повторил телеграмму: «Не паниковать! Продолжать подготовку», что вчера же новый староста барака господин Нестеренко через своего помощника Баранова громогласно, на весь барак, потребовал Чарли к себе в канцелярию и, когда Юрий явился, передал ему с глазу на глаз десяток галет и сказал с подлой, покровительственной улыбочкой: «Я вас не тороплю, не подгоняю, Юрий Николаевич. Я только напоминаю — уговор дороже денег. Напоминаю только... Так что получайте второй авансик и отдыхайте благодаря воскресному дню».
Все это вспомнилось, обрушилось на Юрия пестрой лавиной, но сейчас же унеслось в сторону, и он, заправляя постель, уже расставлял мысленно своих «оловянных солдатиков».
На проходе № 1 появляются: солдат-автоматчик, комендант с Бетси, фельдфебель и врач, второй солдат-автоматчик и староста — тут ничего не изменилось, фигурки расположены по-прежнему, только гориллоподобного Баглая заменил более изящный Нестеренко.
Годун — первое место слева, задача — оглушить поравнявшегося с ним первого солдата-автоматчика (упала фигурка Годуна, и вместо нее вырастает большой черный траурный вопросительный знак. Ладно... Увидим, как оно будет). Через три-четыре человека от Годуна стоят по обе стороны прохода друг против друга Коваль и Ивашин —задача этих двоих удушить Бетси. Третье место слева через одного человека от Коваля занимает фигура Ключевского, задача — тюкнуть булыжником по темени коменданта; почти рядом с Юрием находится Татаринов, он должен успокоить фельдфебеля, а напротив Татаринова сторожит врача Скворцов, такой же низенький, как и гитлеровский эскулап. Места тех, кто должен будет свалить второго солдата-автоматчика и старшину, оставались пустыми. И место Годуна... Юрий увидел картину, преследовавшую его третий день: открывается узкая, зарешеченная вверху дверь одной из одиночных камер карцера, где человек может поместиться только стоя, и на зацементированный пол вываливается скрюченное тело Петра, не выдержавшего пытки голодом. У Юрия перехватывает дыхание. Ужасно, лучше об этом не думать.
Торопливое посещение уборной, перекличка, пайка в руки и черпак желудевого кофе в котелок. И в 07.50 команда: «На выход, строиться!» У ворот стоят комендант, его заместитель и старший переводчик Цапля. Сегодня обошлось без «чепе», комендант смотрит на часы, солдаты открывают ворота, в 07.55 колонна первого барака покидает лагерь, за ней — вторая, третья, четвертая. Часовые закрывают ворота, комендант «орлиным» взглядом провожает колонны, смотрит на часы — ровно 08.00. Порядок.
Колонна движется, кряхтит, кашляет, гудит, словно телеграфный столб на ветру — сдержанно, скрыто. К Юрию доносятся, как тихие всплески, отдельные слова — колонна мыслит, обсуждает, строит предположения, комментирует: «Чья сегодня очередь умирать?» — «Подчищают «мусульман», доходяг». — «Морда не понравится — тоже». — «Ешь пирог с грибами...» — «Осторожно с новенькими, хлопцы сладенькие, липкие». — «Учи ученого...» — «Баглай... не ясно... Сам или оформили?» — «У коменданта спрашивай». — «Почил в бозе — и все...»
Утром, подкрепившись кружкой кофе и половинкой пайки, большинство пленных чувствует себя если не бодро, то терпимо, их хватает даже на юмор. По отрывкам фраз, отдельным словам Юрий безошибочно определяет, о чем думают, говорят в колонне, но он-то думает о своем. Возникает масса чисто технических проблем, крупных и мелких.
Люди. Нужны еще хотя бы восемь человек. Отбирать придется с превеликой осторожностью. Малейшая ошибка — и провал. Как избежать проникновения в группу предателя?
Размещение. Даже если сократить число дублеров до четырех, все равно необходимо разместить в проходе № 1 еще семь-восемь человек... Утопия!
Оружие. Когда лучше всего принести в лагерь камни, где их прятать? Что говорить, если чей-нибудь камень будет найден при обыске на воротах или в бараке? Кому следует вручить оружие, взятое при удачном нападении на коменданта и его свиту, и какие цели нужно поразить в первую очередь? Ведь каждая пуля будет на счету.
Неожиданности. Их появится много, но все-таки некоторые можно будет предусмотреть: кто-то из немцев увернется от удара, побежал по проходу... Стрелять? Овчарка вырвалась из петли... Что делать? В бараке доносчиков предостаточно. Увидев, что пленные расправляются с немцами, кто-нибудь из них может выскочить из барака и начать звать на помощь. Что нужно для того, чтобы сделать невозможной или вовремя пресечь такую попытку? По каким целям будет самым разумным открывать огонь, если их маскарад будет разоблачен на том или ином этапе после выхода из барака? Все это нужно было обсудить и разработать на каждый случай наиболее правильный план действия.
А может, отказаться, пока еще не поздно? Убедить Язя что замысел невыполним, что это бессмыслица, самоубийство. Как легко бы стало ему дышать, какое облегчение было бы его напряженным до отказа нервам. Нет, нет, отступать нельзя. Плевать на то, что он не верит в успех, видит всю вздорность своего плана — в его план поверили другие, и он должен сделать все, что в его силах. И никаких мыслей о том, что он ведет людей на самоубийство. Иначе самое страшное — предательство. Нужно заставить себя поверить в успех и действовать упорно, планомерно, не огорчаясь неудачами, какие неизбежно встретятся на пути к цели.
И Юрий начал действовать. Как только их колонна ·вошла в карьер и пятерки рассыпались, смешались, он сумел до начала работы переброситься несколькими словами с Ивашиным и Скворцовым, задав им один и тот же вопрос: за кого из своих знакомых пленных четвертого барака они могли бы поручиться, как за самих себя? Ивашин назвал двоих, Скворцов троих. Немного позже удалось встретиться с Татариновым. Этот назвал одного — Суханова. С Ковалем Ключевский решил поговорить в бараке. Юрий был готов к тому, что Коваль может отказаться порекомендовать кого-либо, но и так набралось прилично, если даже исключить Годуна — одиннадцать человек, три из которых будут запасными. Это воодушевило его.
В обеденный перерыв Язь-Крот сам подошел к Юрию. Он подсел рядом, приказал снять левый, начавший просить каши ботинок, и точно у них уже был уговор об этом, стал чинить его. Их разговор состоял из нескольких коротких фраз. «Доложи. Люди?» — «Ориентировочно одиннадцать, Сокола не считаю...» — «Хватит. Ваша задача свалить передних четырех и овчарку». — «А солдат, а старшина?» — «Не твоя забота. Это сделают другие». — «Кто? Я должен быть уверен». — «Будешь. Не вздумай таскать камни в лагерь — засыпетесь. Где взять — скажу. Никого не посвящать в суть плана. Староста?» — «Вызывал, напоминал, галеты сунул». — «Дай ему расписку». — «Никогда...» — «Не горячись. Тебе пайка не помешает». — «Никогда!» — «Приказываю. Подкормишь других. Понял?» — «Ему дай мизинец...» — «Мизинец отдай, а остальные сложи в дулю... Носи на здоровье, доходяга, а мне обещанное».
Ключевский сунул ногу в ботинок и расплатился за услугу, отдал Язю-Кроту щербатую расческу.
Почти в конце рабочего дня на глазах большинства пленных разыгралась трагедия. На линии узкоколейки сошла с рельсов груженная камнем вагонетка. Ее разгрузили, поставили на рельсы и снова загрузили. Тут-то и произошло несчастье. То ли тормозные клинья, подкладываемые под колеса, отслужили свой срок и оказались негодными, то ли кто-то из пленных допустил небрежность, но оставленная на несколько мгновений без присмотра тяжелая вагонетка начала вдруг двигаться назад по уклону, с каждой секундой ускоряя ход.
Вцепившиеся руками в борта, пленные только мешали друг другу, — вагонетка поволокла их за собой. А внизу, у забоя, шла погрузка, там толпились пленные — настоящий человеческий муравейник... Положение спас Татаринов: забегая вперед, он начал совать под колеса клинья, и вагонетка снова сошла с рельсов.
Явившийся на место происшествия взбешенный начальник карьера — высокий, толстый немец, схватил лом и ударил им по спине Татаринова, полагая, видимо, что во всем повинен именно этот пленный. Татаринов свалился па каменистую землю и не поднялся. Его оттащили и сторонку.
«Чья сегодня очередь помирать?»
Юрий был потрясен: Годун, Татаринов... Нужно быть готовым к тому, что в любую минуту неожиданная, нелепая смерть может поразить кого-либо из их небольшой группы. В том числе и его самого. Впрочем, с ним нечто подобное уже было, он уже стоял с веревкой на шее... Не надо об этом думать. Нужно продолжать подготовку. Но кого приготовил Язь для того, чтобы свалить солдата-автоматчика и Нестеренко? Загадка...
После возвращения в лагерь Ключевский пошел к старосте. В канцелярии, кроме Нестеренко, находился его помощник Баранов. Нестеренко подал едва заметный знак, и помощник, с интересом взглянув на Юрия, тот час же вышел из комнаты.
— Что вы так являетесь? — недовольно сказал староста. — Без всяких предосторожностей. Мы ведь договорились...
— Когда такие свидания устраиваются днем, в открытую, они не могут вызвать особых подозрений.
— Подозрений не должно возникать ни особых, ни мало-мальских. Что у вас?
— Подпишу. Если можно — задним числом.
— Задним числом, задним умом... — пробормотал Нестеренко, хмурясь. — Надо было думать раньше. Можете порадовать чем-нибудь интересненьким?
— Пока нет.
— Ну вот... Прошлые дни пропадают, за сегодняшний могу выдать полпайки, а с завтрашнего надбавка будет выдаваться регулярно. Я не могу обманывать коменданта.
Спрятав хлеб, Ключевский вышел из канцелярии.
Полпайки! Да еще почти полпайки оставил он сегодня для Петра, оторвал, все-таки были у него галеты, а Петр сидел там на воде. Насилу дождался полночи. Лежать на нарах, когда у тебя за пазухой в тряпице два больших куска хлеба, — испытание воли, ежеминутная борьба с самим собой, мука мученическая.
Но вот захлопали двери. Кто-то плакал, материл слабым голосом Баглая — повели Горобца по центральному проходу. А вот и Годун. Идет сам, песенку мурлычет: «...Много в ней лесов, полей и рек...» Это для того, чтобы Юрий услышал. Поравнялся с нарами Ключевского, сунул ему в руку комочек и, не останавливаясь, прошел к спорному месту, проверил, лежит ли его куртка.
— Спите, хлопцы? А я к вам с того света. Никому не советую туда заглядывать.
Юрий осторожно поднес руку к лицу, осмотрел, понюхал комок, переданный ему Петром, и изумился: на ладони у него лежало не что иное, как обкусанный кусочек лагерного хлеба.
Дубинка Нестеренко
Коменданту Каменнолужского
лагеря военнопленных
унтерштурмфюреру Витцелю
Объяснение
Считаю необходимым дать письменное объяснение по поводу прискорбной ошибки, допущенной мною в первый же день после назначения меня на должность старосты барака № 4. Баранов, нынешний мой помощник и бывший помощник Баглая, сообщил мне, что одному из двух пленных четвертого барака, находившихся в то время в карцере, необходимо выдавать суточный пищевой рацион полностью. В бумагах Баглая этот пленный был означен буквой «Г» и словом «Блоха», что оказалось его секретной кличкой. Был указан также номер одиночной камеры карцера, где содержался Блоха, — камера № 5. Поскольку в камере № 5 находился пленный, чья фамилия начиналась с буквы «Г» — Годун, я предположил, что это и есть один из наших агентов — Блоха, и приказал тайно и течение трех дней передавать ему суточный рацион. И действительности же Блоха (пленный Горобец) находился в камере № 3 и на протяжении трех суток получал только воду. Как оказалось, меня ввели в заблуждение не только начальная буква фамилии, но и отвратительный почерк моего предшественника, изображавшего цифру «3» так, что она была похожа на «5».
Не желая хотя бы в какой-то мере умалять свою вину, и все же должен подчеркнуть два важных обстоятельства, имеющих прямое отношение к указанному выше неприятному инциденту. Во-первых, Блоха-Горобец не пользуется доверием ни у кого из пленных, и польза от него, как нищего агента, ничтожна. Во-вторых, появилась возможность завербовать пленного Годуна, который может оказаться весьма ценным и продуктивным агентом. Соображения на этот счет изложу устно.
Преданный Вам староста барака № 4 Нестеренко.
После гибели Титаринова наступила полоса везения: Годун вышел из карцера далеко не в плачевном состоянии — оказывается, лопал там паек, предназначенный для кого-то другого, и даже приберег для Юрия кусочек хлеба, не зная, что тот, в свою очередь, припас для него почти целую пайку; новый староста начал проводить в бараке реформы, для лучшего надзора назначил на каждый проход по два блоковых, поменял места на нарах у множества пленных, тасуя их, как карты в колоде, и это привело к неожиданному, великолепному результату — соседями Ключевского оказались еще четыре человека из их группы — Суханов, Колесник, осетин Валиев и Смирнов. Образовалось ядро. Остается перетянуть сюда еще хотя бы пять человек. Что ж, время есть: в будни проверка на чистоту и порядок не производится, очередное воскресенье вряд ли изберется комендантом для этой акции, ведь после последней проверки пройдет не месяц, а всего лишь две недели. Тем не менее нужно быть готовым.
Настроение Юрия Заметно улучшилось — «вариант с переодеванием» начал превращаться из химеры в реальность. И вдруг поразительная новость — Ивашин приносит «срочную» Язя: «Смирнов исключительно опасен. Обрубить все концы. Берегитесь новеньких. Крот».
Обрубить все концы... Темно стало в глазах Юрия. Ночь, сверкнула молния на фоне высоченной иссиня-черной тучи, стеной поднимающейся из вспененной пучины вод, корабль вздыбился на гигантской волне, трещит и падает мачта, натягивая канаты как струны, и хриплый голос капитана покрывает рев бури: «Рубить концы!»
И большая картина в сверкающей золоченной раме, в которую, кажется, как в открытое окно, врывается морской ветер и летят сорванные с гребней волн соленые брызги, — «Девятый вал»... Сложное ассоциативное мышление, трансформация образов, эстетический багаж, вспышки воспоминаний. Черт бы все это забрал!
Есть Смирнов, пленный лет тридцати с постным лицом церковного служки, новый сосед Юрия, за которого поручился Скворцов. Видать, страшен этот Смирнов, если концы-канаты надо не отдавать, а рубить, как это делают моряки лишь в момент крайней опасности. А он, Юрий, как раз сегодня собирался вручить этому Смирнову пол пайки из своего секретного дополнительного пайка. И опоздай «срочная» Язя на час-другой, Смирнов вместе с куском хлеба получил бы неоспоримое доказательство, что Чарли собирается втянуть его в какое-то тайное, опасное дело.
На Годуна «срочная» Язя произвела менее удручающее впечатление, но и он серьезно обеспокоился.
— Кого знает Скворцов? — торопливо спросил он.
— Язя и меня.
— А что он знает?
— Только то, что в случае необходимости он должен будет выполнить мое чрезвычайно опасное поручение.
— Что он должен был сказать Смирнову?
— Ничего. Он только поручился за него.
— А может быть, Язь ошибся? Мало ли что... Тебя Нестеренко в стукачи кантовал, меня тоже начинает... Может, и со Смирновым так?
— Полагаю, Нестеренко неспроста его к нам подкинул.
— Нестер тут ни при чем, — насупился Годун. — Это я Смирнова перетащил под шумок. Сказал: здесь тебе лучше будет, соседи — хлопцы хорошие. Теперь назад не переселишь. А впрочем...
— Нельзя, Петр, он догадается. Пусть торчит, глядит, слушает. Никаких особых разговоров с ним, но и без бойкота.
— Чего?
— Он не должен заметить, что его сторонятся.
— Ну это само собой. Скворцову надо бы морду расковырять: кого подсовывает? Сколько нас тут собралось?
— Семь человек.
— Еще двух-трех перетянем — и все.
— Мало.
— Все Чарли! Извини — Юра... Пускай каждый засекет, что он сам отвечает за то, что ему поручили, а не надеется на дядю.
Вечером, когда возвращались с работы, конвоиры пристрелили Горобца-Блоху. Никто не стал его поднимать, и автомат конвойного отстучал три выстрела по лежащему на дороге маленькому, тощему человеку. Еще одна короткая автоматная очередь оборвала жизнь второму пленному, когда колонна была уже невдалеке от лагеря. Недотянул...
Оказавшись у своих нар, Юрий посмотрел на копошившегося невдалеке Смирнова — пленный как пленный, от усталости едва волочит ноги, на лице скорбное выражение, хоть малюй с него святого великомученика. Вместе со всеми вкалывал в карьере. Неужели способен предать товарищей?
Тут помощник старосты Баранов прокричал на весь Барак, и блочные повторили: «Смирнов! Смирнов! Немедленно и канцелярию к старосте!»
Смирнов вздрогнул, затравленно взглянул на подходившего к своим нарам Годуна.
Не робей! — одобрительно сказал Годун. — Какую-нибудь работу даст, и все.
Смирнов, смущенно хмыкая, одернул гимнастерку, торопливо засеменил по проходу.
Нестеренко ждал его. Староста был один в комнате. Оглядел Смирнова мутно-веселыми глазами, пока тот закрывал дверь, показал рукой, чтобы подошел поближе. Спросил, хмуря лоб:
— Вроде знак мне подавал насчет встречи.
— Не одни раз, господин староста, но вы не заметили, не обратили внимания, должно быть. Только ведь надо бы в другой обстановке, а так все глазели...
— Вот и хорошо, брат, что в открытую и все заметили, значит, никому в голову не придет, что мы тут с тобой секретничаем. Ты портной, кажется?
— Так точно, в мастерской индивидуального пошива Военторга до войны работал.
— Прекрасно. Мне френч немного сузить сможешь?
— Ну как же! Только я...
— Догадался, что не с пустыми руками. Выкладывай.
Смирнов оглянулся, вздохнул, лицо его приняло какое-то благостное выражение.
— Я еще Баглаю об этом хотел сообщить, но не успел. По-моему, пленные Годун и Ивашин затевают что-то. Возможно, и Скворцов с ними в компании.
Нестеренко смотрел на Смирнова, широко раскрыв глаза, не скрывая того большого интереса, какой вызвало у него это сообщение.
— Что же они затевают, и какие у тебя основания так считать?
— Наблюдения и заключения хода мысли. Что затевают — не скажу, но к чему-то готовятся.
— Э-э, брат... Это вилами на воде.
— Хочу обратить ваше внимание на то, про что после долгих раздумий собирался довести до сведения Баглая. Годун был в дружбе с Шевелевым — неразлейвода, хотя они это прятали, выражаясь военно-тактическим языком, под дымовой завесой равнодушного отношения. Но шептались часто. Теперь, кто такой Шевелев, вы знаете.
— Знаю.
— А как говорится — яблоко от яблока далеко не упадет...
— От яблони.
— Вот, вот, вы меня поняли.
— Ну а все-таки, в чем ты заподозрил Годуна и Ивашина?
— Они тоже: вроде как и не знают друг друга, а сойдутся вдвоем и шепчутся. Замечал не раз. Теперь дальше. Подходит ко мне на днях Скворцов, оглядел меня так, будто приценивается, купить хочет, и спрашивает: «Как ты себя ощущаешь в смысле боевого духа? В покойники определиться не собираешься?» — «Нет, — говорю. — Пока что нет такого намерения». Поговорили мы так и разошлись. А вчера, когда шум с переселением поднялся, подходит ко мне Годун и агитирует меня переселятъся на второй проход, к себе рядышком, говорит, там ребята что надо подобрались.
— И ты перешел туда?
— Перешел. Годун, он ловок, головы блоковым заморочил, и попал я с его помощью беспрепятственно на новое место.
— Ну а Скворцов при чем тут?
— Скворцов узнал, что я на новом месте, обрадовался, поздравил даже с новосельем.
— А чего у Скворцова к тебе такое отношение?
— Так вроде друзья мы с ним. Так он думает. То целая запутанная история. Расскажу, если потребуется. Я его однажды спас от верной гибели. Вообще-то я себя спасал, а вышло так, будто жизнью рисковал ради товарища. Так и пошло — друзья. Но он мне никакой не товарищ. Он насквозь советским духом пропитан, а я — кулацкий сын, я имени и адреса своего настоящего боялся, моего отца колхозники до нитки обобрали. Скворцова немцы на поле боя раненого взяли, а я в плен с пропуском пришел. Конечно, немцы того обещания, что в пропуске, не придерживаются. Но ведь если бы все так поступили, как я, то вся война, страдания наши давно бы кончились и жили бы мы под немецким строгим, но справедливым порядком. Потому что наш народ своего порядка установить не может. Так я понимаю, господин староста?
— Правильно понимаешь, — сказал Нестеренко, открывая ключом ящик стола и доставая четвертушку пайки. — Возьми, больше пока что не заработал — одни догадки, предположения. Ты, брат, конкретное что-то дай. Там Чарли от тебя недалеко.
— Рядом почти.
— Как он? Ничего не замечал?
— Чарли что? Он, можно сказать, не от мира сего человек, Иванушка-дурачок, одним словом. Ходит как лунатик, глаза прикрывает, губами шевелит.
— Ладно. Твои наблюдения и предположения могут оказаться очень ценными для нас. Продолжай. Только веди себя осторожно, не зарывайся, не лезь в душу. Заподозрят— могут утопить в уборной. Такой случай уже был... А нам потерять ценного агента не хотелось бы. Понял?
— Благодарю, господин староста, за сочувствие и моральную поддержку. А френчик я вам ушью в талии, на немецкий манер. как влитой будет.
Смирнов вернулся к своим нарам, не скрывая того, что разговор со старостой не сулил ему неприятностей. Сказал Годуну со слабой, насмешливой улыбкой:
— Френч ему сузить в талии потребовалось. На немецкий манер. Сузим... Может, ниток моток раздобуду.
Перед вечерней поверкой Ивашин принес Ключевскому еще одну «срочную»: «Проверка возможна ближайшее воскресенье. Готовьтесь. Замыкающего автоматчика и старосту берем на себя. Удачи. Крот».
Судя по тому, какую бурную деятельность развил Нестеренко в четвертом бараке, Язь не ошибся — в воскресенье следовало ожидать проверку. Староста носился по проходам с полученной в наследство от Баглая дубинкой в руке, требовал по нескольку раз перестилать постели, мыть полы, вытирать несуществующую пыль. Однако главным предметом гордости нового старосты были таблички, прикрепленные к каждому постельному месту на нарах — порядковый номер, фамилия, инициалы. Изготовлять такие таблицы в вечернее время было приказано нескольким пленным, в том числе и Ключевскому.
На второй день староста потребовал Юрия к себе.
В канцелярии стоял едкий чад, от которого слезились глаза, но Нестеренко был в отличнейшем настроении. С помощью одного из блоковых он заливал в отверстие, просверленное в утолщенной части своей дубинки, расплавленный свинец.
— Ровно триста пятьдесят граммов, а какой эффект!— хвастливо заявил староста, ожидая, пока свинец застынет. — Допустим, Чарли проштрафился — огрел Чарли по кумполу и гарантирую: от одного удара он сразу полетит с копыт... Да что Чарли-доходяга, такая дубинка в умелых руках любого с одного удара уложить может.
Кажется, Нестеренко радовался модернизированной дубинке, как дитя новой игрушке, но Юрий снова уловил в его голосе, суетливых жестах что-то ненатуральное, нервное, тревожное. Может быть, такое впечатление возникло у Юрия потому, что сам он находится в состоянии крайнего нервного напряжения — до момента, когда может начаться проверка, оставалось менее двух суток, а людей по-прежнему не хватало, Язь-Крот запретил приносить в лагерь камни, но где их взять — не указывал, соседство с соглядатаем Смирновым становилось совершенно невыносимым. Но, пожалуй, больше всего вызывало волнения туманное обещание Язя-Крота взять на себя устранение второго солдата-автоматчика и старосты. Кто с ними расправится, каким образом будет достигнута необходимая синхронность действий? На эти вопросы не было ответов. Юрий не раз задерживал свой пытливый взгляд на лицах соседей, которые не числились в его будущих активных помощниках, и не мог заметить ни у кого в глазах ответной искры — тупые лица смертельно уставших, измученных голодом людей. С ним самим происходило что-то странное, несколько раз за последние дни он внезапно погружался в тьму, терял сознание, но, к счастью, обморочное состояние продолжалось, видимо, всего лишь какую-то долю секунды, и он успевал очнуться, как только ноги сгибались в коленях. Вот и сейчас он испытал что-то похожее на обморок. Блоковый ушел, Нестеренко любовался дубинкой и что-то говорил, обращаясь к Юрию, но Юрий ничего не замечал и не слышал, чувствовал только, как ноют, немеют готовые согнуться в коленях ноги.
— Юрий Николаевич, вы спите? — послышался удивленный и чуточку насмешливый голос Нестеренко.
— Нет, — встрепенулся Юрий.
— Говорят, вы быстро соображаете и чрезвычайно догадливы.
— Злые языки... — попробовал отшутиться Юрий, не понимавший, куда гнет Нестеренко.
— Проверим. Угадайте, для чьей башки предназначается эта улучшенная мною дубинка? Даю десять секунд, счет про себя. Начали!
Ключевский во все глаза глядел на старосту. Дурачится господин Нестеренко, или же в его словах есть какой-то особый смысл? А вдруг... Эта загадочная история с выдачей пайки Годуну в карцере... неожиданное переселение троих из их группы на проход № 1... странные для старосты разговоры... Нет, нет, случайность. Конечно же, случайность! Этот негодяй куражится, готовится лупить пленных модернизированной дубинкой на глазах у коменданта, желает выслужиться перед ним.
— Десять! — шумно выдохнул Нестеренко. — Не угадали? Э-э, Чарли, я был лучшего мнения о вас. Берите эту дощечку, на ней нужно изобразить четкими строгими буквами надпись: «Староста барака № 4». Фамилии не надо — старосты приходят и уходят... Это дело, а между делом предлагается еще одна загадка. Вот этот предмет в каком смысле можно употребить?
Нестеренко вынул из-за печки очищенный от золы колосник и, смеясь глазами, подбросил его на ладони.
— Чугунный, кило двести. Вполне может заменить любой камушек такого веса... Вы меня поняли, Соловей? Я — Семен. Получайте заслуженную пайку, рисуйте табличку, готовьте людей. Принесу шесть колосников. Ваша задача свалить четырех немцев и Бетси. Я беру на себя второго солдата. Первым наносит удар Сокол. Вопросы есть? Предложения?
— Пожалуйста, стукни меня кулаком, — тихо сказал изумленный Ключевский, опускаясь на скамью, — Покрепче.
— Эх, Юра, Юра, я понимаю... — Нестеренко тревожно взглянул на дверь и дружески потрепал Ключевского рукой по плечу. — У меня тоже нервы на пределе. Только бы нам удалось. Ничего, все будет хорошо. Бог не выдаст, свинья не съест...
И он загремел начальственно:
— Чего копаешься, Чарли? Иди и выполняй! И чтобы мне таблица художественной была!
Минуты. Мгновения...
Коменданту Каменнолужского лагеря
унтерштурмфюреру господину Витцелю
от помощника старосты четвертого барака
Донесение
С уважением обращаю Ваше внимание на тот факт, о котором до сегодняшнего дня молчал, в чем признаюсь и сожалею, поскольку самогонку для Баглая достал переводчик Нестеренко, который сейчас является моим прямым начальством и назначен Вами старостой барака. Как доставал самогонку указанный мной Нестеренко и какой между ними был разговор, того не скажу, то мне не ведомо, а брехать не имею обыкновения, только та водка и отправила Баглая в могилу, а может быть, что и похуже, а что случилось с Блохой (Горобцом по фамилии) — тоже не ясно, покрыто, как говорится, мраком, только погиб преданный человек и все из-за обозначенного Нестеренко. Теперь как ведет себя старшина: все шуточки, оскорбления, а сам втихую пайки скрывает и на коронки у пленных обменивает. Про те коронки поясню, где они взялись так как некоторые пленные золото на зубах имели, а в плен попавши начали то золото срывать, а не срывается так вместе с зубом у себя вырывали потому как вырванный зуб легче утаить, а если на месте то глянут блестит пиши пропало. Теперь мною замечено за означенным Нестеренко что он тайник какой-то в печке канцелярии готовит где несколько колосников потревожил видать коронки там держать будет куда лучше никто не подумает, а коронки те между прочим имею подозрение у таких пленных выменял как Чарли, Смирнов, Годун и прочие за которых при личной встрече с вами с глазу на глаз и в подробном порядке изложу. Донесение это стараюсь передать через руки старшего переводчика поскольку не желаю обращать на себя внимание других а Цапле доверяю полностью.
С многим уважением и бесприкословным
повиновением помощник старосты четвертого
барака своей личной подписью заверяю.
Баранов.
И наступил этот день.
Вплотную приблизились эти минуты.
Эти мгновения...
Юрий стоит на проходе у своих нар, сжимая в руке пилотку, в которой спрятал обернутый тряпьем колосник. Уже раздалась команда старосты: «Ахтунг! Снять головные уборы! Смирно!» Юрию чудится — ударил гонг, запела труба, фанфары и едва слышная мелкая дробь барабанов, как в притихшем цирке, когда свет погас и под куполом цирка «работают» свой смертельный номер освещенные голубым пучком прожектора воздушные акробаты.
Нет, это начинается съемка ответственного эпизода потрясающего документального фильма, и голос режиссера торжественно и тревожно возвещает: «Внимание! Начинаем съемку! Тишина! Свет! Начали! Камера!..»
А что звучит в ушах других, какие чувства они испытывают в эти секунды?
Юрий успевает пробежать глазами по лицам товарищей. Петр сжал зубы так, что желваки на щеках выдались буграми, в случае удачи он должен будет изображать солдата. Рядом с ним дублер — волоокий осетин Валиев с синим подбородком и глубоко запавшими глазами. Коваль и Ивашин стоят друг против друга, у одного в руке под пилоткой петля из провода, у другого — тонкий брючный пояс. Они удушат Бетси. Напротив Юрия его дублер Гусаков — молодой парень с растерянной, какой-то отрешенной улыбкой на белобрысом лице. Через два человека слева от Юрия — Колесник, Суханов, Прокопенко. Эти предназначены для фельдфебеля и врача.
Все они кажутся побритыми, все благоухают карболовым мылом — с утра пять лагерных парикмахеров скоблили машинками-нулевками подбородки пленных четвертого барака. Нестеренко все предусмотрел: отправил своего помощника Баранова наблюдать, как идет вывозка нечистот, благо в это воскресенье выпала очередь четвертому бараку, усадил Смирнова в барачной канцелярии портняжничать, дав для перелицовки свои брюки, а на его место у нар поставил Гусакова.
Где же они ? Неужели на этот раз начали с прохода № 3? Нет, идут, идут. Идут...
Юрию хочется рвануть ворот гимнастерки — не хватает воздуха, — и вдруг он с ужасом замечает, что грязного полотенца, свисавшего с нар Коваля, и изношенного ботинка, торчавшего там же из-за подушки, этой специально устроенной приманки для коменданта, не видно, так как кто-то из стоящих невдалеке пленных, спасая товарища, рванулся и в последний момент все прикрыл одеялом. Годун тоже заметил, отчаянно замахал руками, зашипел: «Не трогай, оставь, как было...» Хотел сам бросится туда, исправить положение.
Но поздно. Они идут... Солдат, овчарка, Витцель... Черт! За Витцелем, приотстав от коменданта на полкорпуса, шагает Цапля... Где он взялся?.. А у Витцеля, у Витцеля на всю щеку прихваченный двумя белыми полосками пластырь — чирий выскочил. Они что-то уловили, какое-то особое беспокойство среди пленных, движение — даже Бетси подняла голову, навострила уши — но не могут понять причины. Вытянулись по проходу все. Позади — играющий дубинкой Нестеренко — «солдата и старшину берем на себя». Он не знает, что постель на нарах приведена в порядок и комендант может пройти мимо не останавливаясь. А пластырь надо налепить себе на щеку... А Гусаков... Неужели Гусаков не понял и не поймет, что на его долю выпадает Цапля?
Шаги. Размеренные, неторопливые. Острые, настороженные взгляды. Солдат поравнялся с Юрием, оглядывается на коменданта — здесь, кажется, что-то произошло? Но он не уверен и, оглянувшись на коменданта, проходит, не сбавляя шага. Перед глазами Юрия проплывают овчарка, натянувшая поводок, гордо поднятая голова эсэсовца в фуражке с серебристым черепом и костями вместо кокарды, крест на крест перехваченный полосками лейкопластыря тампон из марли и ваты на хорошо выбритой щеке. Ну? Медлить нельзя...
— А-а-ап! — вырывается из груди Юрия короткое энергичное восклицание. Перехватив пилотку с вкладышем в правую руку, он бьет изо всей силы по выгнутой тулье офицерской фуражки.
Нет, он не поспешил и не опоздал. Вовремя!
Он успевает ударить коменданта еще раз, прежде чем накинувший проволочную петлю на голову Бетси Коваль оттаскивает от него бросившуюся защищать своего хозяина овчарку.
Кругом все смешалось, слышатся удары, оборвавшаяся на втором выстреле автоматная очередь, сопенье, глухие стуки падающих на землю тел, хрип собаки. Все немцы на земле, длинные ноги Цапли дергаются в судороге. Только фельдфебель все еще сопротивляется, извивается всем телом, хватает за ноги тех, кто его окружил, увертывается, пока подбежавший Нестеренко не наносит ему удар дубинкой.
Лежат, успокоились. Бьется в конвульсиях удушенная двумя петлями Бетси. Одна рука Коваля в крови — цапнула, все-таки...
— Всем оставаться на местах! — кричит Нестеренко. — Тишина и порядок! На дверях! Слышите? Никого не выпускать.
И тут неожиданно вскакивает врач, без фуражки, но с удержавшимися на носу очками, и, пригнувшись, втянув голову в плечи, пускается бежать по проходу.
Это воскрешение из мертвых производит ошеломляющее впечатление.
— Держите! — кричит Годун, стягивающий сапоги с убитого солдата.
Но пленные стоят рядами по обе стороны прохода, смотрят на пробегающего мимо них жалкого, с залитым кровью лицом, врача и не двигаются. Оцепенели.
Годун хватает автомат. Однако кто-то там очнулся, сообразил, подставил ногу, и врач кувырком падает на землю. Навалились на него...
— Спокойно, товарищи! Освобождаем всех. Желающие нам помочь — два шага вперед!
Начали выходить. Сперва стремительно шагнули вперед человек десять, за ними почти все. Столпились на проходе.
— Занять свои места! На дверях! Эй, там на дверях! Смотрите в оба!
Те, что должны были выступить в роли немцев, торопливо переодевались. Юрий облачился в костюм коменданта. Он был брезглив и испытывал приступы тошноты, натягивая на себя одежду убитого им человека, еще сохранившую тепло тела. Юрию помогали — поддерживали за локти, когда он совал ноги в брюки, подавали сапоги, застегивали пуговицы, отряхивали пыль с мундира. Никто ничего не спрашивал, не комментировал. В этом не было нужды, все понимали, что произошло и что может, должно произойти через несколько минут.
Сапоги жали в подъеме, фуражка оказалась малой, не лезла на голову, и Юрий разорвал околыш сзади. Перчатки, хлыст. Он готов. Нет, нужно взять пластырь — великолепная деталь гримировки. Он наклонился и сорвал пластырь со щеки коменданта. Вспомнил — часы.
— Часы? У кого часы?
Часы оставались на руке коменданта, никто не позарился в эти минуты на ценную вещицу. Их сняли и подали Юрию — большие, со светящимися цифрами и стрелками на черном циферблате, противоударные, влагонепроницаемые, изготовленные швейцарской фирмой по спецзаказу вермахта. Бежит тоненькая красная секундная стрелка... С того момента, как комендант и его сопровождающие скрылись в бараке, прошло не менее восьми минут. Но все одеты, готовы.
— Пошли! Петр, возьми на руки собаку.
Идут. Пленные с восхищением и ужасом смотрят на шагающих по проходу «немцев». Точь-в-точь, как глазеют на приехавших «фотографировать» фильм киношников в каком-нибудь маленьком провинциальном городе. Съемки продолжаются. Документальный фильм потрясающей силы. Роли исполняют действительные участники событий. Сценарий бывшего узника гитлеровского концлагеря Юрия Ключевского...
Каждый шаг отдает болью — ужасно жмут сапоги.
— Я ничего не вижу в очках, — слышится позади. Это Коваль, он в мундире врача, очень похож. — Можно снять?
— Нет! Разбей, выдави стекла.
Идут быстро, на ходу отряхивают пыль с мундиров, проверяют оружие, переступают, как полено, лежащий на проходе труп врача в голубоватом трикотажном белье.
У западных дверей заканчивает приготовления Нестеренко. Он снарядил двое носилок. На одних лежит бездыханный старший переводчик Цапля — длинные ноги в крагах торчат из-под куска брезента, каким прикрыто его тело. На вторых — якобы раненый пленный, которого взяли на допрос. Их будут нести восемь пленных — по одному на ручку носилок. Среди них Ивашин. У него пистолет, второй пистолет у Нестеренко, третий у Ключевского. Автоматы у «солдат» — Годуна и Прокопенко. Последние уточнения порядка шествия.
— Сперва впереди идешь ты, унтерштурмфюрер, — скороговоркой сыплет Нестеренко, — шагов сорок, треть пути. Затем выхожу вперед я с носилками. Немцы сзади. В случае задержки автоматчики открывают огонь по часовым. Приготовились. Спокойно... Юра, выходи.
— Сейчас. Приклею… — Юрий развернул тампон.
Тут дверь открылась, и на пороге появился Баранов.
От помощника старосты несло фекалиями, он растерянно смотрел на Ключевского, узнавая и не узнавая в нем коменданта. Сомнения Баранова рассеял удар дубинки. Успев вскрикнуть, он рухнул под ноги Ключевскому.
Юрий, брезгливо морщась, приклеивал тампон к щеке, он вдруг вспомнил, что видел на марле следы крови и гноя, его замутило и, едва он отскочил в сторонку, как началась сильная рвота. Что может быть ужаснее для голодного человека, чем эти мучительные судороги, заставляющие исторгнуть из желудка то, что было съедено за день. И это в тот момент, когда одна-две потерянных секунды могли стоить жизни не только ему, но и сотням его товарищей, в тот момент, когда успех наполовину был завоеван. Какая ирония судьбы, ничего злее не придумаешь...
Бежала по кругу красная секундная стрелка на черном циферблате. Пленные стояли на своих местах. Барак, весь барак, весь лагерь ждал. Кругом слышались голоса, испуганные, требовательные, угрожающие, просящие.
— Что с ним?
— Чарли, кончай.
— Юра, Юрка, Юрочка, время бежит.
Чьи-то руки хлопали его по спине, подбадривали, а он ничего не мог поделать с собой, его выворачивало наизнанку, он терял сознание от мучительной боли.
Смирнов стоял в толпе. Он выскочил из канцелярии, когда в бараке поднялся шум, и постепенно до него дошел смысл происходящего. Бледный, парализованный страхом и мыслью о близкой, неизбежной расправе над ним, он очнулся: «Действовать, пока не поздно!» И неожиданно для всех проскользнул к двери. Его схватили, но он успел высунуться наполовину из приоткрытой двери и закричать диким голосом:
— Карр-раул!
Юрий превозмог себя, стер с губ сгустки слизи и крови и, пошатнувшись, шагнул к двери, сказал хрипло, задыхаясь:
— Извините... Ждите здесь. Я сейчас.
Он знал, что кто-нибудь из немцев, обеспокоенных криком Смирнова, уже бежит к бараку. Так и есть. К бараку от ворот устремился часовой, держащий автомат наготове. Юрий, подражая Витцелю, дважды небрежно-запрещающе махнул рукой в перчатке. Эти неторопливые повелительные жесты должны были означать: «Стой! Назад!» И часовой остановился, выжидательно глядя на коменданта. Юрий еще раз махнул рукой: «Ступай на место!» — и, убедившись, что часовой возвращается к воротам, открыл двери барака, сказал слабым голосом:
— Пошли, товарищи...
Часовой Эрих Пельцер всего лишь час назад занял свое место на вышке № 3. Ветер гнал по небу кучные, словно подрезанные снизу, облака, и плотная траурная тень то накрывала весь лагерь, то уступала место яркому, веселому солнечному сиянию. От этого частого чередования света и тени у Эриха Пельцера болели глаза и слегка шумело в голове, он чувствовал себя усталым, сонным и начал подумывать о смене. Отчаянный крик какого-то пленного, появившегося было в дверях четвертого барака, обеспокоил Пельцера, тем более что комендант почему-то задержался в этом бараке. Но вот унтерштурмфюрер вышел, помахал рукой, показывая часовым у ворот, что он жив, невредим и ничего особенного не случилось, и та настороженность, какая было охватила Эриха, сменилась обычной скукой. Он широко зевнул, да так и застыл с открытым ртом. Он увидел, как из барака вышли комендант и староста, а за ними восемь пленных вынесли двое носилок не то с ранеными, не то с убитыми.
Лучи солнца, выглянувшего из-за облака, ударили в глаза Пельцера, но он различил среди тех, кто шел за носилками, солдата, несшего на руках Бетси, не подававшую никаких признаков жизни. О, там, в бараке, произошло что-то серьезное... Эрих скользнул взглядом по другим вышкам и увидел, что его товарищи застыли у пулеметов, напряженно вглядываясь в группу, приближающуюся к воротам. Конечно, их тоже поразило то, что овчарка мертва и комендант идет молча, прижимая ко рту руку с платком.
В отличие от унтерштурмфюрера староста барака, этот переводчик Нестеренко, вел себя суетливо, подгонял дубинкой пленных, тащивших носилки, беспокойно оглядывался, кричал что-то.
Носилки пропустили вперед, вот первые уже миновали открытую часовым калитку. Комендант и сопровождающие его немцы столпились позади. Когда там, у ворот, почти одновременно прозвучали два выстрела, Пельцер в первые мгновения не сообразил, кто в кого стреляет. Кто же? Конечно, немцы, у них оружие. Нет... Неслыханно — несшие носилки пленные Напали на часовых. Точно! Унтерштурмфюрер бросился со всех ног к ближайшей вышке, видать, их новый комендант наложил от страха полные штаны и хочет спастись у пулемета. Никто из часовых на вышке не стреляет. Еще бы, старательно вычерченные на схемах сектора обстрела для каждого поста захватывают только ту территорию лагеря, какая окружена столбами с колючей проволокой. Угрозы нападения извне никто не ожидал. Да и как решиться пустить очередь туда, где все смешались — пленные, немцы?
Боже, они готовятся напасть на караульное помещение, перестрелка. Комендант уже на вышке, бросается к пулемету. А где Альберт? Часового Альберта Хюгеля нет... Сбежал? Убит?.. Что происходит? Куда целится этот обезумевший унтерштурмфюрер?
Короткая очередь с вышки № 1, три удара — в пах, бедро, плечо, и Эрих, зажимая руками раны, валится на настил. А все бараки взорвались победными криками, и из дверей высыпали пленные. Стрельба.
...Вышка № 3 была первой, какую вывел из строя Юрий. Затем он расстрелял часовых на четвертой и пятой, успевших открыть огонь по толпе пленных. Вторую «потушили» те, которые после удачного броска гранаты ворвались в караульное помещение и захватили находившиеся там пулеметы.
Юрий дал себе несколько секунд отдыха, ему нужно было отдышаться, оглядеться.
Лагерь ликовал.
Еще слышались редкие выстрелы возле казармы, домиков, в которых жили офицеры, — там кто-то убегал, прятался, отстреливался — у бараков на земле лежали убитые, стонали тяжелораненые, но лагерь радостно шумел, вопил, ликовал, мгновенно появившиеся командиры отдавали приказания, организовывали толпу, разбивая ее на отряды, — там, не теряя времени, начали действовать Язь и его друзья.
Невозможное свершилось, «вариант с переодеванием» стал реальностью, воплотился в жизнь. Юрий всхлипнул и закрыл глаза, у него болело все тело, щеку бил нервный тик. Он был близок к обмороку.
Почти до последней минуты Юрий не верил, что их попытка поднять восстание окончится победой. Он был готов ко всему, он все время ждал крика «Хальт!», автоматной или пулеметной очереди, какая изрешетит тело лжекоменданта прежде, чем перед ним откроются ворота лагеря. Он считал секунды, считал свои шаги — сейчас, сейчас, еще одно дарованное судьбой мгновение, еще один шаг разрешено сделать — и удивлялся, что трагический момент никак не наступит, будто кто-то игрался с ним, как кошка с мышкой, и для своего удовольствия все откладывал, оттягивал кровавую развязку.
Психологический перелом наступил в нем внезапно, когда он увидел, как бежавший от ворот часовой, повинуясь взмаху его руки, остановился, а затем пошел на свое место. Тогда-то Юрий уверовал, что и все дальнейшее будет происходить так, как он задумал, по его сценарию, и уже не сомневался, что эсэсманы на воротах подпустят их к себе, что он сможет уничтожить часового на вышке № 1 и, заняв место у пулемета, откроет огонь по другим вышкам, а Годун, Нестеренко в это время захватят караульное помещение. Да, все происходило по его сценарию, только приступ рвоты да то, что сапоги окажутся тесными в подъеме, он не предусмотрел.
Сапоги сжимали ступни ног, как деревянные колодки, злополучный тампон болтался на щеке, удерживаясь на одной полоске лейкопластыря. Юрий, как бы опомнившись, торопливо сорвал тампон и с омерзением швырнул его подальше от себя. Он снял фуражку, смахнул обеими руками крупные капли пота, выступившие на коротко остриженной голове, рванул с ноги правый сапог. Блаженство... Скорей туда, к товарищам. Там еще много дел. Он слышал, как внизу кричали удивленно, восторженно: «Чарли! Это Чарли! Это его голова такое смараковала!»
Оставалось снять второй сапог... И вдруг Юрий заметь и чердачном окне домика, где помещалась главная канцелярия, какой-то темный силуэт, блеснувший на солнце металл, понял, что это такое, и, мгновенно припав к пулемету, послал туда две коротких очереди.
...Эрих Пельцер был еще жив. Истекая кровью, он лежал возле своего пулемета и, слегка приподняв голову, затуманенными глазами наблюдал за тем, что делалось в лагере. Он понимал, что скоро умрет — если даже его раны несмертельны, то кто-либо из взбунтовавшихся Иванов явится сюда за пулеметом и добьет его. Живыми они никого не оставят. Он ненавидел их, этих жалких, тощих, трусливых, по его мнению, людей, одетых в тряпье, загнанных за колючую проволоку, сбитых в одно грязное, голодное человеческое стадо. Что же случилось, как полуобезьяны могли вырваться из клетки? Почему комендант обстрелял его пост? Случайность или он рехнулся, этот самовлюбленный, щеголеватый унтерштурмфюрер? Пельцер взглянул на вышку № 1. Комендант Витцель был там, у пулемета, вот он снял фуражку. Короткая нулевая стрижка пленного... Это не Витцель! Это русский в мундире коменданта... Теперь все ясно. Вот он стреляет... Очевидно, в кого-то из спрятавшихся немцев.
Эрих Пельцер, сцепив зубы, подтянулся на руках поближе к пулемету, оперся грудью на стульчик и, поймав в прицел фигуру в мундире унтерштурмфюрера, нажал спусковой крючок.
...Пули ударили в грудь Юрия. В первое мгновение он не поверил, удивился и возмутился всем своим естеством — кто-то вмешался, делает поправки в его сценарии, бесцеремонно перечеркивает целые страницы. Что за произвол? Не смейте, уберите руки. Камера, стоп! Начинаем снова! Нет, нет... Он ведь знал, знает, что в этом фильме не может быть «дублей», каждый кадр разрешается снять только один раз. Жизнь — главный, гениальный сценарист, вносила поправки в последнюю минуту, и их нельзя было опротестовать.
Юрий упал рядом с убитым им часовым. Он еще мог мыслить и испытывал не только физическую боль, но и жалость к себе. Погибнуть таким молодым, не успев что-либо сделать, совершить... Уйти из жизни, не оставив следа... Обидно. Нет, какой-то след останется. Семя не мертво, оно таит в себе росток. Все, что сделал он сегодня, это семя, брошенное в душу кому-то, в чью-то память. Росток зеленый, нежный, но сильный. Чарли... Юрий, Юрка, Юрочка... Затемнение. Кадр — крупным планом его лицо, худое, с запавшими, полуприкрытыми ресницами глазами, искривленным страданием ртом — уходит в затемнение, и на угольно-черном экране появляются искрящиеся буквы — «Конец». И исчезают.
Чрезвычайно срочно. Особо секретно
Штандартенфюреру Фогелю
Рапорт
Нахожусь в Каменнолужске. Прибыл сюда на самолете, чтобы лично руководить операцией по преследованию и обезвреживанию бежавших из лагеря советских военнопленных. Подробный отчет о событиях будет прислан мною после того, как будут собраны более полные сведения о случившемся.
Предварительно могу сообщить следующее.
Бунт в лагере начался сегодня, в 15.10. В течение двух минут бунтовщикам удалось уничтожить всю охрану лагеря, несмотря на героическое сопротивление часовых на вышках. Остается загадкой, каким образом пленные смогли в считанные секунды овладеть караульным помещением и оружием. Есть основание считать, что некоторые из них использовали для этой цели немецкую военную форму, снятую с тайно убитых ими наших офицеров и солдат.
Следует предположить, что бунту предшествовала длительная подготовка, в которой участвовало несколько десятков человек, искусно владевших конспирацией. Они разработали план действий, не только относящийся непосредственно к восстанию, но и на последующее время. Они организованно ограбили склады, захватили с собой не только оружие и боеприпасы, но и продовольствие, медикаменты. У них имеется не менее десяти ручных пулеметов, около сорока винтовок и автоматов, несколько пистолетов, большое количество боеприпасов и гранат. Ими захвачены с собой также три грузовика, две пароконных подводы и даже несколько походных кухонь.
На территории лагеря осталось 86 трупов бунтовщиков, кроме того, нами подобрано для допросов 12 тяжелораненых. Гарнизон охраны лагеря, включая коменданта, состоял из 51 человека. Все погибли. Во время преследования на 20.00, по имеющимся у меня сведениям, убито 23 бунтовщика. Наши потери 13 человек.
Трудности преследования заключаются в том, что бунтовщики применили коварный прием: чтобы хотя на время запугать свои следы, они разбились не менее чем на четыре группы, и эти самостоятельные группы удаляются от Каменнолужска в различных направлениях, но, очевидно, по заранее намеченным маршрутам. Кроме того, бунтовщики оставляют позади себя небольшие засады, состоящие из двух-трех обессиленных раненых, добровольно взявших на себя роль смертников, вооруженных пистолетами и гранатами.
С завтрашнего дня в преследовании бунтовщиков примут участие два бомбардировщика. Смею Вас уверить, что я прилагаю все свои силы и умение к тому, чтобы ни один из этих мерзавцев не ушел от наказания.
Хайль Гитлер!
Искренне Ваш оберштурмбанфюрер Кремп.
Р.S. Мне только что доложили, что одна группа бунтовщиков, состоящая примерно из двухсот человек и пытавшаяся пересечь стратегическое шоссе, была окружена, но оказала отчаянное сопротивление, вырвалась из кольца. Чтобы не увеличивать потери и с нашей стороны, я приказал прекратить преследование этой группы до наступления утра.
Кремп
Письмо другу
Дорогой Иван Степанович!
Премного сожалею, что Вы из-за своей болезни не смогли приехать в Каменнолужск на встречу нашего праздника 9 мая — Дня победы. А я там побывал.
И хотя тяжело для моих нервов было вспоминать наше страшное прошлое, а все же эту поездку не жалею. Приехало согласно приглашению нас четверо, я лично, Петров Семен Гаврилович из первого барака, может помните, низенький такой, сейчас конечно седой старик, как и мы с Вами, но еще не на пенсии, уходить не хочет, бухгалтер, Лучко Василий Михайлович из того же первого барака и мать нашего Чарли — Юрия Николаевича Ключевского, симпатичная такая, очень культурная женщина, Юлия Петровна, но такая старенькая, что аж светится. Я за ней как за родной матерью ухаживал. Встретили нас хорошо, гостиница новая, хоть и на скорую нитку, но красивая, уютная. Машину «Волгу» за нами прикрепили, провожатых дали. В общем, все чин чином. На митинге нас всех народу показали, объяснили, кто мы такие, и так же нас попросили сказать с трибуны пару слов. Ну конечно, букеты, оркестр и прочее.
Потом поехали смотреть город — он очень изменился, много новых домов, даже районов выстроено. Вы бы его не узнали, пожалуй. Однако Дворец пионеров на том же месте, на ремонтной базе по старому «Заготскот» расположился. А вот от нашего проклятого лагеря даже следа не осталось, на том месте молодой сосновый лес шумит, и ребята, говорили, туда за маслятами ходят.
Побывали мы также на реке Сож, где Вы «тигра» утопили, там мост такой же деревянный, только новый стоит, а «тигра» еще в 60-м году автогеном порезали и по кускам на металлолом спровадили. Так что Вашего трофея там уже нет. Нет и могилы Ромки Полудневого и Петухова. Как Вы в своем письме предполагали, так оно и было, тела их сгорели, Петухова в танке, а Ромки на мосту. Ну, мы, конечно, почтили память дорогих товарищей, сняли головные уборы и постояли молча торжественно на мосту. Я стоял, глядел вниз на течение реки, в которую Вы прыгали с моста, и думал: бог ты мой, сколько же воды с тех пор утекло, вот помрем мы, и никто не будет знать, как все было, а узнают, то могут и не поверить.
После моста поехали мы к тому месту, где наша группа после восстания решила пробиваться на север к партизанам и должна была пересечь шоссе у деревни Заболотье. Нарвались мы тогда на колонну с немцами, и нас окружили. Был сильный бой до глубокой ночи, и не один гитлеряга от нашей пули на тот свет был отправлен, но наши потери, предполагаю, были больше, потому как у нас оружие было редко у кого и боеприпаса мало, а у них и пулеметы, и минометы. Вот тогда, когда думалось, что все погибнем, мы составили список, кто тут бился насмерть, вложили его в футляр немецкого противогаза и спрятали в дупло молодой сосенки. И что Вы думаете, Иван Степанович, нашел я ту сосну, и то дупло, и тот футляр с нашим списком. 182 фамилии. Тот список вместе с футляром передал в музей Дворца пионеров, где у нас после обеда встреча с пионерами была.
Про ту встречу надо особо рассказать, так она мое сердце растревожила. Собралось так много, что пришли не только пионеры, но и постарше, и даже человек сто взрослых. Внутри помещения не хватило, пришлось устраиваться во дворе под открытым небом.
Слушали нас при полной тишине и внимании, слово боялись пропустить. Выступали все мы. Петров и Лучко рассказывали про Язя — Иванов Сергей Васильевич его фамилия, учитель в гражданке был, политрук на войне. А также рассказывали про подпольную организацию и как они Нестеренко, по кличке Семен, приказали идти в переводчики, чтобы своего человека там иметь. Потом Юлия Петровна рассказывала тихим голосом за детские годы сына Юрия. Не расхваливала его, а говорила только, что сильно любил книжки читать и был большой мечтатель. А о чем он мечтал, ее спрашивают. Она на это говорит, мечтал стать моряком, летчиком, героем, а больше всего чтобы люди жили красиво и справедливо.
Теперь наступает моя очередь. Поскольку я всех знал и во всех наших планах лично участвовал или очевидцем был, то мне было что рассказать. Говорил я и за вас, за Полудневого, за Нестеренко и за кладовщицу, которая погибла. Когда сказал, как я в карцере благодаря Нестеренко паек предателя Блохи съел, всех развеселил, прямо-таки качались со смеха. Но больше всего я посвятил нашему Чарли, так и сказал Ваши слова, что, если бы не его журавли в небе, так мы погибли бы все в этом лагере без какой пользы, а так все-таки мы, голодные, безоружные, хорошо гитлеровцев пощипали. Гляжу, Юлия Петровна наклонилась, в платочек сморкается, тут и я слезу пустил. Последнее время нервы подводят, чуть что — и плачу.
Между прочим, вопрос мне задали, получил ли я орден за восстание. Я на это говорю, будь я на месте правительства, то ни ордена, ни медали никому из пленных не дал бы, потому за плен, по моему твердому мнению, орденов не полагается. Ну, а если проявил ты в плену геройство и удалось оттуда выскочить, — молодец, догоняй своих, становись на свое место в строй.
Нам сильно хлопали, благодарили, а в конце самые молодые поднялись и запели «Пусть всегда будет солнце», что мы все присутствующие активно поддержали. Вышло так трогательно, что у меня сердце защемило. Ну, а на следующий день приехали из области те, что снимают киножурнал, подняли шум и снова повезли меня на то место к сосне с дуплом и заставили снова вынимать футляр, а сами всё крутили на пленку. Говорят, будет в киножурнале. Так я на старости лет попал в киноартисты.
Посылаю Вам адреса тех наших товарищей по лагерю, каких удалось разыскать и какие живы еще, а также фотографии, какие сделаны на месте. О своих домашних делах напишу в следующий раз. Есть хорошее, есть и такое, что хотелось бы лучше.
Обнимаю Вас, Иван Степанович, и желаю крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. Не поддавайтесь хвори.
Приветствую Ваше семейство.
Ваш вечный друг Петр Годун».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
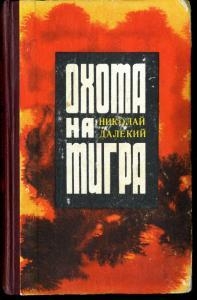




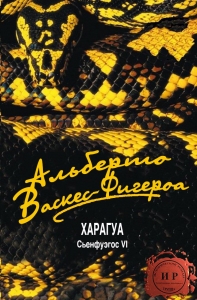
Комментарии к книге «Охота на тигра», Николай Александрович Далекий
Всего 0 комментариев