Луи Буссенар СЕКРЕТ ЖЕРМЕНЫ
Часть первая ЖЕРТВА
ГЛАВА 1
— До свидания, мадемуазель Артемиз![1]
— Не лучше ли пожелать доброго утра, ведь скоро уже час пополуночи. О Господи! Как быстро бежит время!
— Вам кажется быстро, мадемуазель? — сказала Жермена, подавляя зевоту. — Однако день был очень долгим, мы работали восемнадцать часов.
— Вы недовольны? Два франка пятьдесят сантимов[2] в день и полтора за сверхурочные — четыре франка! Где вам столько заплатят?
— Я не жалуюсь, — еле слышно произнесла Жермена.
Она представила, как далеко идти от авеню Оперы до пересечения улицы Поше с кольцевым бульваром, а ведь в восемь надо быть снова здесь… Не выспаться…
— Вот, возьмите сорок су на извозчика. Надеюсь, мадам Лион не побранит меня.
— Благодарю и до свиданья, мадемуазель.
— До свиданья, Жермена.
В то время как работница, несмотря на усталость, быстро спускалась по лестнице со второго этажа, где располагались портнихи мадам Лион, старшая мастерица, мадемуазель Артемиз, думала об этой девушке.
Мадемуазель Артемиз, претенциозная тридцатилетняя девица, худая и плоскогрудая, он пыталась исправлять недостатки фигуры с помощью толщинок из ваты, шила себе экстравагантные платья, нещадно злоупотребляла косметикой — напрасные усилия. Было легко представить, как через десять лет она иссохнет, превратится в типичную продавщицу где-нибудь в лавке поношенной одежды.
«Как она глупа, эта Жермена, — в какой уж раз думала Артемиз, поглядев той вслед, — будь я на ее месте, у меня… Лошади, экипажи, бриллианты, тысячи франков на расходы… А девчонка предпочитает жить в мансарде[3], таскаться через весь город в мастерскую при любой погоде, завтракать порцией жареной картошки на два су, гнуть спину до полуночи, не знать никаких развлечений. А ведь в эту Золушку взаправду, кажется, влюблен граф Мондье. Не далее как вчера он говорил, что не пожалел бы миллиона ради обладания ею. В самом деле, непростительно быть такой красавицей и в то же время дурой! Скажите на милость, экая добродетель!»
А Жермена быстрой, легкой походкой шла по асфальту пустынных улиц, думая о том, как ждет мать, как встретит ласковым словом и нежным поцелуем. Думала о младших сестрах Берте и Марии, те, наверное, уже спят, умаявшись. А завтра восьмое октября, срок уплаты за квартиру, тяжелый день для бедных людей. Собрала ли мама эти жалкие монеты?
Бедная мама! Зимой она разносит по квартирам горячий хлеб, весной торгует с тележки овощами и еще ведет все домашнее хозяйство — стряпает, стирает, чинит одежду, чистит платья и обувь, в каких ее девочки ходят в школу или на работу. Хорошо, что она, Жермена, может приносить в дом хоть что-то, несмотря на то, что ей бывает очень трудно. Вот и сейчас она старается идти побыстрее и сэкономит гроши, данные ей на извозчика. Целых четыре франка, да еще сорок су. Как будет им рада бедная мама!
Запоздалые прохожие смотрели в лицо, оглядывались, отпускали пошлые остроты. Пусть. Да, ей восемнадцать, и она красива, и сколько она слышала предложений… Правда, почему-то не о замужестве, нет, а о другом, постыдном и циничном. Она противопоставляет равнодушие и не демонстрирует оскорбленной невинности, подобно богатым, прикрывающимся личиной высокомерия и приличия, сидя в гнездышке, устланном пухом из крыльев ангела-хранителя.
Целомудренность, так же как и порочность, иногда бывает врожденным качеством души, и тогда она непобедима.
Но одного из ее поклонников, кажется, ничто не могло заставить лишиться надежды на успех — графа Мондье.
Очень богатый, пожилой, сорокапятилетний вдовец, отец прелестной девушки, любимой заказчицы мадам Лион, был, как он уверял, без ума от Жермены. Она уже боялась порывов его страсти, его преследований. Его настойчивые взгляды, то умоляющие, то дерзкие, пугали ее, щедрые обещания оставляли равнодушной. Хотя нет, все-таки льстили, но ведь это не любовь, это вовсе другое, грязное, омерзительное.
Слава Богу, сегодня она избавилась от старого ловеласа[4], он каждый день поджидал на выходе из мастерской, чтобы выразить восхищение, пригласить куда-то. Но в такой поздний час граф изволит почивать, смешливо подумала она и почти сейчас же услышала его низкий, слегка дрожащий от возбуждения голос:
— Жермена!
Девушка обернулась, увидев в отчаянии, что на улице ни души. Граф властно взял ее за руку.
— Жермена, выслушайте меня! — сказал он, отбрасывая сигару. — Надо ли тысячный раз повторять, как я люблю вас? Еще и еще говорить, что я положу мое состояние к вашим ногам, обеспечу счастливую жизнь вам и близким?
— Оставьте меня в покое!
— Хорошо! — все более возбужденно продолжал граф. — Есть еще одно, чего я пока не предлагал — моего имени! Жермена, хотите ли стать графиней Мондье? Хотите быть моей женой?
— Но, месье, почему бы вам не начать с этого, — сказала она спокойно, хотя что-то дрогнуло в ней.
— Вы меня победили, Жермена. Я не могу жить без вас!
Девушка инстинктивно почувствовала фальшь в тоне поклонника и холодно ответила:
— Я… Быть графиней?.. Такое случается только в романах.
— Жермена! Я говорю искренне, клянусь вам!
— Если вы любите настолько, что хотите жениться, то почему же делали столько бесчестных предложений?.. Почему пытались купить меня как продажную девку?
Взбешенный тем, что его разгадали, Мондье резко сменил тон:
— Коли так, прощайте! Вернее, до свиданья и пеняйте на себя за то, что может случиться.
Он повернулся и пошел к легкой двухместной карете, ждавшей на углу.
Перепуганная Жермена бросилась бежать по улице Клиши и, задохнувшись, вся в поту, остановилась около улицы Лакруа. Через десять минут она могла быть уже в безопасности. Девушка уже добежала до улицы Поше, пустынной и грязной, застроенной серыми домами. Оставалось пересечь улицу Эпинет, и ночное путешествие по Парижу закончено.
Метрах в двухстах от своего дома она встретила крытую повозку, что потихоньку двигалась вдоль улицы. Возница, казалось, дремал на козлах.
Когда девушка поравнялась с экипажем, кучер остановил лошадь, спрыгнул на землю и открыл дверцу, будто приехав по назначению. С ошеломляющей быстротой он втолкнул Жермену в экипаж.
Вырываясь, она закричала:
— Помогите!.. Убивают!..
В этот момент бедняжка увидала вдали огонек велосипеда, подскакивающий по неровной мостовой, и услышала позвякивание велосипедного звонка.
Жермена снова отчаянно крикнула:
— Помогите!
Кучер грязно выругался, захлопнул дверцу, тронул вожжами, бормоча:
— Проклятая девка! С такой нелегко справиться. Желаю удовольствия хозяину.
ГЛАВА 2
Крик девушки услышал одинокий велосипедист.
«Да ведь это голос Жермены! — мгновенно сообразил он. — Скорее в погоню!»
Экипаж с грохотом несся по улице и уже приближался к бульварному шоссе.
Что есть мочи нажимая на педали, владелец двухколесной машины мчался за ним, но крупную породистую лошадь догнать не удавалось, все время оставалась дистанция в сто пятьдесят — двести метров.
Так и мелькали старинные ворота, мосты, редкие фонари, особняки богачей, темные витрины магазинов, фонтаны… Карета сворачивала в переулки, снова оказывалась на широких улицах, случайные прохожие шарахались, не обращая внимания на призывы велосипедиста:
— На помощь!.. Спасите!.. Остановите экипаж!..
Напрасная надежда. Экипаж вихрем пронесся мимо стражи, призванной задерживать выезжающих из города. Стражник даже протянул было руку, чтобы остановить велосипедиста, кричавшего что-то невразумительное, но и тут поленился.
Было уже два часа ночи.
Когда миновали мост, молодой человек опять хотел позвать на помощь, но возница направил экипаж по окраине и оставил в стороне последние строения.
Выехали на проселочную дорогу, здесь никаких прохожих вообще не предвиделось.
Кучер придержал лошадь, вынул револьвер и стал ждать. Затем хладнокровно прицелился в фигуру, едва освещенную фонариком, и выстрелил. Велосипедист не смог удержаться и вскрикнул. В ответ раздался жалобный вопль из кареты.
— Получил свое, — сказал возница с отвратительным смехом. — Патрон, может быть, его прикончить?
— Поезжай! — приказал из экипажа повелительный голос.
Отважный велосипедист, раненный в левое плечо, не упал и продолжал следовать за экипажем.
«Пусть я умру, — твердил он себе, — но узнаю, куда повезли Жермену эти бандиты. Я хочу непременно выжить, чтобы спасти ее или отомстить».
Ему казалось, что гонка продолжалась очень долго, когда он почувствовал: по левую сторону течет река, вероятно, Сена, тянуло влагой и запахами береговой растительности.
С каким удовольствием погрузился бы он сейчас в прохладную воду, чтобы снять усталость и обмыть рану. Но надо было во что бы то ни стало ехать, дабы не потерять негодяев из виду.
Наконец экипаж остановился у низких строений, сгруппированных около высокого дома на косогоре.
Молодой человек слез с велосипеда, прислонил его к кусту и сам в полном изнеможении прилег. Со скрежетом отворились решетчатые ворота, и похитители въехали на просторный двор. Раздался бешеный лай собак. Кучер спрыгнул с козел и позвал:
— Бамбош!
— Тута, — ответил дурашливым голосом парень, стоявший у ограды.
— Малый, за нами кто-то увязался от самого Парижа. Возьми-ка Турка и Сибиллу и пройдись посмотреть, не скрывается ли он поблизости.
— Ладно, папаша, а если найду, что с ним сделать?
— Сделай, чтоб не отсвечивал. Лезет не в свое дело, хозяин этого не любит.
Тот, кого назвали Бамбошем, свистнул и позвал:
— Турка, Сибилла, ко мне! Взы… Взы… Ищите, собачки мои, ищите.
Огромные псы с колючими ошейниками ринулись вдоль реки. Скоро они учуяли посторонний запах и рыча побежали к кусту, где спрятался обессиленный велосипедист.
— Пиль, Турок!.. Пиль, Сибилла!
Молодой человек не мог отбиваться от злобных собак. Он упал и напоролся на шипы ошейника. Собаки принялись рвать на нем одежду, клыками терзать тело. Слабо вскрикнув, несчастный потерял сознание.
Бамбош, решив, что тот умер, нагнулся и проговорил своим противным голосом: «Ты готов… А?.. Так тебе следует исчезнуть, любезный». При этих словах парень взвалил неизвестного себе на плечо и спокойно бросил тело в Сену — глубина ее в этом месте доходила до четырех метров.
Кучер, отдав жестокое приказание Бамбошу, сказал в открытую дверцу экипажа веселым и подобострастным тоном:
— Осмелюсь, хозяин, предложить передать девицу мне на руки, она, должно быть, сейчас в очень растрепанных чувствах.
Ответа не последовало, зато показалась Жермена. Неподвижную, обмотанную пледом, девушку вынес на вытянутых руках тот, кого Бамбош и кучер называли хозяином Он направился к темному большому зданию среди маленьких домиков.
Миновав прихожую, коридор, вошел в комнату, убранную с известной роскошью, посередине был богато накрытый стол с яствами и винами.
Навстречу поднялась со стула мерзкого вида старуха, низко поклонилась и принялась расточать похвалы красоте девушки.
— Выйдите, мадам Башю, — приказал хозяин, — если вы мне понадобитесь, я позову.
— Всегда к вашим услугам, граф, — сказала та, изобразив на физиономии улыбочку.
Мондье положил добычу на диван и принялся торопливо расстегивать на ней одежду. Потом долго, с жадностью разглядывал прекрасное тело, лежавшее совершенно обнаженным.
Граф сказал прерывающимся от желания шепотом:
— Наконец она здесь. Когда очнется, уже будет моей и ей волей-неволей придется покориться.
Он схватил Жермену в объятия, прижался к бесчувственным губам жадным ртом и унес в альков[5], закрытый плотными занавесями.
ГЛАВА 3
В октябре 1888 года вдова Роллен, мать Жермены, Берты и Марии, жила в пятом этаже в квартирке из двух комнат и кухонки в старом доме на улице Поше.
Четыре года назад семья потеряла мужа и отца, мастера на фабрике пианино фирмы «Вольф и Плейель»
Жермене было тогда четырнадцать. Берте — двенадцать и Марии — десять лет. За время болезни кормильца истратили все скромные сбережения, вдова осталась без средств к существованию. Ценой неусыпных трудов она сумела поднять на ноги трех дочерей. Теперь плохие дни остались позади и семья могла, не терпя больших лишений, сводить концы с концами.
Жермена работала в ателье, Берта занималась швейной работой дома, Мария ей помогала. Трудились очень усердно и не жаловались, считая, что такова участь всех бедных людей.
И чувствовали себя счастливыми, как может быть счастливой та семья непритязательных тружеников, где царят мир и любовь.
Минувшей зимой в мансарде над квартирой мадам Роллен поселился восемнадцатилетний юноша — Жан Робер, хорошо сложенный; с приятным выразительным лицом, весьма порядочный и всегда веселый.
Он был найденышем. Морозным вечером его обнаружили полуживым на ступенях театра «Бобино», и впоследствии товарищи дали ему прозвище Бобино, что мальчику понравилось. Подружившись с семьей мадам Роллен, он постоянно по-соседски оказывал вдове услуги. Встретив ее около дома, идущую с ведром к водопроводной колонке, выхватывал ведро из рук и мигом приносил полное на пятый этаж. Поднимал туда же вязанку дров или корзину с высушенным бельем. Ставил под навес ручную тележку, увидав, что мадам Роллен совершенно без ног возвращается после распродажи овощей. Учил девочек милым песенкам, показывая мелодию верным и приятным голосом, рассказывал интересные новости, иногда угощал фунтиком жареных каштанов, дарил дешевый журнальчик или букетик цветов. При этом не отказывался от заботы со стороны семьи Роллен: от мелкой починки рабочей куртки, от небольшой уборки в мансарде, от чистки бензином воротника.
Он любил трех девушек как сестер, но шутя иногда называл Берту будущей женой и с явной нежностью смотрел на милое личико. При этом и мадам Роллен снисходительно улыбалась и думала: «А почему бы и нет! Через три-четыре года он станет очень хорошей партией для дочки, честный, работящий, совсем не гуляка и владеет прекрасным ремеслом».
Жан Робер, по прозванию Бобино, работал в типографии «Молодая республика». Мастер высокой квалификации, он занимался версткой газетного листа и по праву гордился этой специальностью, приличным заработком, часть которого откладывалась для исполнения заветной мечты — покупки велосипеда. Ради этого Бобино отказывал себе в маленьких удовольствиях — рюмочке перед завтраком, хорошем табаке, в покупке книг, в обновлении одежды. И как же он радовался, когда наконец мечта осуществилась. Молодой человек как гонщик летел в типографию на новенькой машине! Он так гордился приобретением, что, кажется, сам президент Франции и все монархи мира уже не возвышались над ним. Было необыкновенно приятно нестись с ветерком, и Жан даже жалел, что типография находится не на другом конце города и он не успевает достаточно насладиться быстрой ездой за время пути.
ГЛАВА 4
Ночь на восьмое октября, такая долгая для Жермены, тянулась еще более томительно для ее матери, с нетерпением ожидавшей возвращения дочки. Мадам Роллен не ложилась, она все время прислушивалась, ожидая услышать звонок в дверь, голос Жермены, отвечающей консьержке, а потом ее легкие шаги по лестнице. После двух часов беспокойство начало расти с каждой минутой, и, когда будильник пробил три часа, тревога дошла до предела.
— Еще не вернулась? — послышался сонный голос Берты из соседней комнаты, где она спала вместе с Марией.
— Нет, девочка, — ответила ей мать, чуть не заплакав.
— Я не слышала, чтобы вернулся Жан.
— Да, ведь правда, — равнодушно сказала женщина, всецело поглощенная мыслью о дочери.
И в самом деле, почему надо беспокоиться о Бобино, ведь он мужчина! А Жермена — восемнадцатилетняя девушка и такая красивая… Идет так поздно и так издалека по Парижу, полному опасных ночных прохожих.
У мадам Роллен оставалась последняя надежда, что Жермену до утра задержали на работе. Есть у нее совесть, у мадам Лион, так изводить молоденьких трудолюбивых бедняжек? И несчастная мать дала себе слово запретить Жермене сверхурочные часы.
Решив пойти рано утром в мастерскую, мадам Роллен легла, но заснуть не смогла ни на минуту. В половине седьмого встала и, как всегда, постучала Бобино, чтобы разбудить, однако против обыкновения молодого человека не оказалось дома. Она очень удивилась. Поцеловала девочек и сказала:
— Больше не могу ждать… Побегу к мадам Лион. Если Жермена придет раньше меня, скажите, что я скоро вернусь.
Берта и Мария сделали все необходимое по хозяйству и с тяжелым сердцем сели за работу.
Пробило десять, потом одиннадцать, наконец, полдень. Скромный завтрак семьи остыл. Девушки даже не решались говорить между собой, боясь разрыдаться.
Раздался звонок в дверь.
— Это они! — Берта бросилась открывать.
Но вошла консьержка спросить плату за квартиру. Берта достала семьдесят франков мелкой монетой, дала их ей и вежливо сказала:
— Мадам Жозеф, напрасно вы трудились подниматься за ними, я бы принесла чуть позже.
Консьержку, разумеется, распирало желание поговорить, но Берта учтиво проводила ее до дверей.
И снова они сидели в тяжелом ожидании, когда в дверь опять постучали, появился мужчина в черной форменной одежде с золотыми пуговицами, на околыше фуражки сияли буквы: О. и Б., что означало, — и это знали все парижане, — «Общественная благотворительность».
Пришелец поклонился с печальным и смущенным видом, отказался присесть и нерешительно спросил:
— Я не ошибся?.. Мадам Роллен… Это здесь?
— Да, месье. Что вам угодно?
— Я — служащий «Общественной благотворительности», послан по поручению директора госпиталя Ларибуазьер.
— Госпиталя Ларибуазьер… — в недоумении и страхе повторила Берта.
— Да, мои девочки, — сказал незнакомец, испытывая искреннее сострадание. — Я должен вам… Будьте мужественны, милые… Известие тяжелое.
— Сестра!.. Жермена!.. — вскричали в один голос обе. — Поскорее, что с ней?!
— Весть не о сестре, — сказал служащий, он уже догадывался о цепочке несчастий, — а о вашей маме.
— Мама! — Берта пошатнулась.
— Мужайтесь, дети мои, — повторил служащий, поддерживая Берту. — Маму сбила лошадь. Директор госпиталя послал меня сообщить об этом несчастье и разрешит вам повидаться с ней.
— Но она не умрет?! Мама!.. Нет, это невозможно… Она не умрет! Скажите, ведь она ранена не серьезно?..
Человек сказал просто:
— Едем скорее!
В ателье мадам Роллен заставили долго ждать, наконец вышла старшая мастерица мадемуазель Артемиз. Она показалась в дверях, словно министр, одолеваемый просителями.
— Здравствуйте, мадам, — сказала девица обычным неприятным голосом. — Что случилось? В чем дело?
— Мадемуазель, моя дочь не вернулась домой… Я подумала, ее задержали здесь… Я пришла…
— Жермена ушла в час ночи, — прервала ее Артемиз. — Я ей дала два франка на извозчика.
— Ушла! В час ночи, — проговорила совершенно ошеломленная женщина. — Вы точно уверены?
— Да за кого вы меня принимаете? — ответила первая мастерица и зло добавила: — Она, наверное, кого-нибудь встретила по дороге… Этого давно следовало ожидать, такая хорошенькая девушка. Не беспокойтесь, найдется.
— Вы лжете! — возмущенно воскликнула мадам Роллен. — Моя дочь не такая, и, если она не вернулась домой, значит, произошло несчастье.
— Я лгу! — чуть ли не взвизгнула первая мастерица. — Сделайте милость уйти отсюда, и поскорее. Больше ноги Жермены не будет в нашем ателье, к тому же она наверняка нашла работу, которая лучше оплачивается.
Вдова, вся в слезах, вышла. У вокзала Сен-Лазар она не успела посторониться от тяжелого фургона, ее сшибло грудью лошади. Возчик не мог остановить тройку, и упавшей переехало колесами ноги, раздробив бедренные кости. Несчастная только и кричала:
— Мои дети! Мои бедные дети!
Ее тут же отвезли на «скорой помощи» в госпиталь Ларибуазьер, находящийся поблизости, сразу положили на стол. Обе ноги пришлось отнять. Операция прошла благополучно, но доктор считал положение пострадавшей безнадежным. Больную поместили в одноместной палате. Она тяжело страдала, чувствуя, что умирает, и только просила, чтобы ей дали попрощаться с детьми.
Директор госпиталя, уважая последнее желание умирающей, послал на улицу Поше служащего «Общественной благотворительности».
Спустя два часа вдова Роллен скончалась, призывая надрывающим душу криком Жермену и глядя с невыразимым страданием и любовью на двух сироток, оставшихся без всякой опоры в жизни и без средств к существованию.
ГЛАВА 5
Жермена медленно очнулась с чувством разбитости во всем теле и сильнейшей головной болью.
Она смутно припоминала, как вышла из ателье, как ее преследовали, как грубо схватили и похитили…
Потом ей неотчетливо представилось: при каждом ударе сердца в ушах отдавался колесный стук: чьи-то сильные руки держали ее в неподвижности, а рот заткнули так, что она едва могла дышать. Постепенно тарахтенье экипажа затихло, а может быть, девушка перестала слышать, потому что ей вдруг показалось, что она задохнулась. Бедняжка почувствовала, будто умирает…
Эти обрывки пронеслись в памяти мгновенно, и теперь она видела себя в постели обнаженною и с распущенными волосами. Комната заполнена ярким светом, и почти рядом, на низком диване, сидел мужчина и смотрел на нее с восхищением и страстью, но вместе с тем с явной насмешливостью и сытым чувством удовлетворенности. Мужчина был хорошо и тщательно одет, ростом, вероятно, выше среднего, широкий в плечах, с красивыми тонкими руками. Лоб блестел едва приметной залысиной, под густыми бровями светились серые глаза, лицо украшал горбатый нос, похожий на клюв хищной птицы, мелкие острые зубы, расставленные чуть редковато, были приоткрыты в полуулыбке. Физиономию, в общем, следовало охарактеризовать как выразительную и подвижную. Мужчине перевалило за сорок, хотя на смуглом лице почти не встречались морщины и седина едва пробивалась в густой короткой бородке. Крепкая худощавая фигура словно излучала незаурядную физическую силу.
Придя окончательно в себя и тщательно разглядев его, Жермена с гневом воскликнула:
— Граф де Мондье… Подлец!
Граф, видимо, ожидал бурных слез, попреков, угроз, а быть может, просьб — словом, всего, чего можно услышать от девицы, лишенной невинности. Ему не впервой, он держал себя спокойно: расчесывал густую бородку перламутровой гребеночкой и приготовлял банальные утешения, какие обычно говорят в подобных обстоятельствах.
Но эта девчонка оказалась забавной штучкой. Как была, голышом, она встала и подошла к графу. В замешательстве он поднялся с дивана.
«Преступник, похитивший мою честь! Опозоривший меня на всю жизнь!» — примерно это ожидал услышать он и приготовился ответить нечто вроде: «Ну что же! Пусть так. Но я люблю вас, люблю так, что готов на преступление! Люблю так, как вас еще никто не любил и никогда не полюбит! Безумная страсть уже сама по себе извиняет мой поступок»
Но его жертва сказала тихо и почти спокойно:
— Я не из того дерева, из какого делают мучениц[6], и я отомщу. Берегитесь, граф Мондье!
— Бейте меня! Презирайте! — неожиданно для себя заговорил он. — Но выслушайте!
Все еще стоя лицом к нему — прекрасная грудь, великолепно сформированный живот, ослепительно золотистый треугольник ниже, — она поглядела с презрением, повернулась, спокойно пошла туда, где осталась одежда.
Граф все-таки продолжал:
— Моя молодость была бурной, я много увлекался и думал, что любовь мне известна, но, увидев вас, был поражен в самое сердце, я полюбил так сильно, как может только уже стареющий мужчина, любовью, не знающей границ, любовью, потрясающей душу. Я стал вашим рабом! Должен ли я еще добавить о том, как подействовало на меня ваше упорное сопротивление, упорный отказ принять все мое состояние, которое я готов был положить к вашим ногам. Знаю, вы бедны, но вы оставались гордой и тем еще сильнее распаляли мое желание. Я забыл о своем достоинстве, я, как мальчишка, униженно следил за каждым вашим шагом, молил вас о любви…
Кажется, она совсем не слушала эти банальные речи. Словно каждое утро ей приходилось проделывать это перед мужчиной, натянула и закрепила круглыми резинками чулки, надела панталоны, нижнюю юбку, платье, застегнулась на все пуговицы.
Граф смотрел жадными глазами, но с места не тронулся.
Затем Жермена привела в порядок густые длинные волосы, приблизилась к накрытому столу, попробовала что-то… и вдруг, быстро схватив нож, как дикий зверек бросилась к графу и вонзила клинок в грудь насильнику.
К ее великому удивлению, граф не упал, а рассмеялся.
— Черт побери, малютка, да вы, оказывается, героиня! Имейте в виду, в случае неудачи подобные действия становятся смешными. Должен вам сказать, я принял меры предосторожности: лезвия серебряные и закруглены на концах. В похвалу вам скажу только: удар был мастерский.
Жермена, видя, как ее предают здесь даже предметы, швырнула согнутый в дугу нож и упала на диван.
Как человек опытный, граф знал, что время лечит даже самое глубокое отчаяние и усмиряет любую непримиримую ненависть. Он тихонько вышел и запер за собой дверь.
В соседней комнате Мондье застал мамашу Башю, дремлющую на стуле. При появлении хозяина толстуха поднялась.
— Мамаша Башю, вы отвечаете головой за эту особу, — сказал он повелительно.
— Господину графу хорошо известно, как мы ему преданы: я сама, Бамбош и мой муж, этот старый пьяница Лишамор[7].
— Помните, одного моего слова достаточно, чтобы Бамбош и твой муж были гильотинированы, а ты пожизненно окажешься в тюрьме.
— Мы будем хорошо наблюдать, господин граф. Кроме того, наши собаки — настоящие звери. Решетки на окнах прочны, а замки на дверях надежны.
— Ладно! Будете относиться к девушке с самым глубоким почтением, выполнять все желания, но только ни в коем случае не давайте возможности выходить из дому и вообще всякое сношение с внешним миром ей воспрещено категорически.
— Все сделаем, как приказываете, господин граф.
— Приду завтра вечером. Прощайте. Да, забыл сказать еще об одном важном: не спускайте с нее глаз. Как бы она чего-нибудь над собой не сделала. Бамбош и ваш муж пусть по очереди сидят в соседней комнате, чтобы в случае надобности помочь вам с ней справиться. Повторяю: не спускайте с нее глаз!
— Все поняла, господин граф, будем начеку, и даю честное слово — птичка полюбит вас как безумная! Как все те, кого вы привозили сюда.
…Жермена долго рыдала, оставшись наконец одна в запертой комнате, горько оплакивала свою утраченную честь, свою погубленную, как ей казалось, жизнь, с ужасом представляла себе, в каком смертельном беспокойстве находятся сейчас мать и сестры; плакала от ненависти к графу, строила планы побега и мести обидчику — все они оказывались неосуществимыми…
Очнулась несчастная от тяжких дум, услышав жирное покашливание и сонное дыхание мадам Башю. Подняла глаза и сквозь слезы увидела одутловатую и красную харю пьяницы с губастым лиловым ртом, от которого несло перегаром, и с пучком сальных от старой помады полуседых волос, покрытых перхотью. Безобразная голова сидела на морщинистой шее, а ниже шло бесформенное тело с огромным животом и ноги, похожие на столбы, а толстопалые руки сверкали перстнями с разноцветными драгоценными камнями.
При виде пакостной твари, обнажившей в мерзкой улыбочке зеленоватые пеньки зубов, Жермена почувствовала отвращение и новый ужас.
Это чудовище сочло нужным обратиться к ней со словами ободрения.
— Не горюйте так, моя милочка, — сказала мамаша Башю, стараясь сделать понежнее тембр пропитого голоса. — К чему лить слезы молоденькой девушке! Вы испортите ваши глазки, расстроите здоровье. Лучше покушайте и выпейте что-нибудь.
— Я ничего не хочу! — резко оборвала пленница.
— Будьте же благоразумны! Посмотрите, совсем светло, и вы, должно быть, очень проголодались, — продолжала та, раздвигая шторы и обнажив при этом решетки на окнах.
Жермена действительно совсем обессилела. Старуха права, следовало хоть что-нибудь съесть, чтобы подкрепиться, хотя бы для того, чтобы в случае необходимости суметь оказать сопротивление, а оно вполне может потребоваться. Бедняжка взяла грушу и кусочек хлеба, а к мясным яствам не прикоснулась. Налила стакан воды, но пить не стала: побоялась, что туда подсыпано снотворное.
Старуха поняла это движение и сказала все с той же подленькой улыбочкой:
— Не бойтесь, в воду ничего не добавили, хотите попробую? Но лучше отведайте винца. Прямо бархатное!
Откупорив бутылку, она наполнила стакан и выпила залпом. Тогда Жермена отхлебнула несколько глотков, вино придало ей бодрости. Уступая неодолимой потребности в отдыхе, всегда наступающей после тяжелых переживаний, девушка села на диван. Она долго оставалась в мучительном полусне, потом сразу очнулась и снова, с ясностью осознав случившееся, принялась упорно обдумывать побег.
Вид мамаши Башю, развалившейся как свинья на одном из диванов, напомнил пленнице о том, что ее сторожат. Но Жермена не очень боялась и побороться с мегерой, лишь бы убежать.
Она сложила в несколько слоев салфетку, накинула на рот старухе и завязала сзади крепким узлом. Опешившая, полузадохнувшаяся мамаша Башю сопротивлялась. Но нежные руки работящей девушки имели крепкие мускулы. Схватив лапы старухи, она скрутила их и связала жгутом из другой салфетки, затем порылась в кармане фартука экономки, достала ключи и очутилась в другой комнате. Ободренная успехом, Жермена открыла вторую дверь в коридор. Но она не знала о предосторожностях, предпринятых графом, и вскрикнула от удивления и гнева, встретив на пути молодого человека среднего роста, внушительного вида и настроенного явно решительно. На столе перед ним возвышалась бутыль, опорожненная на три четверти. Он вскочил и проговорил хриплым голосом городского подонка:
— Видно, деточка решила сбежать. За это господин граф перерезал бы нам шею, потому что он очень дорожит девочкой. Пошли, красотка, надо вернуться домой.
Не унижая себя мольбами, Жермена схватила за горлышко увесистую бутылку и изо всех сил ударила стража по лбу. Тот упал, почти потеряв сознание, однако успел нажать на кнопку, и по всему дому раздался трезвон. Залаяли собаки. Послышались быстрые шаги, вбежал человек, красный от выпитого, но вполне понимающий, что произошло, и, как это бывает с привычными пьяницами, готовый к решительному действию.
— Что случилось, Бамбош? — спросил он, задвигая дверной засов. И, видя, что у малого по лицу течет кровь, добавил: — Ты ранен?
Бамбош глубоко вздохнул и сказал притворно жалобно:
— Да, папаша Лишамор. Оглоушен дамочкой, у нее тяжелая ручка. Прямо искры полетели из глаз!
— А моя женушка?
Лишамор, услышав астматический хрип, кинулся в другую комнату. Он увидел полузадушенную старуху с посиневшим лицом и сорвал с нее повязку. Все трое настолько беспрекословно подчинились воле графа, что и в его отсутствие никто не посмел даже выразить возмущение Жермене.
Разве что Бамбош пробормотал, подмигнув:
— Сильна девка! Когда граф от нее откажется, мне будет нелегко с ней справиться.
— Мадемуазель, будьте благоразумны, — мрачно сказал Лишамор. — Знайте, что бегство совершенно невозможно.
— Да, моя детка, — заключила, уже оправившись от нападения, мамаша Башю. — Раз господин граф желает вам добра, не надо душить нас. Между нами говоря, вы уж не так несчастны, и многие хотели бы очутиться на вашем месте. Примиритесь с обстоятельствами.
— Никогда! — отрезала Жермена.
ГЛАВА 6
Терзаемая мыслью о матери и сестрах, под постоянным надзором сторожей, Жермена провела ужасный день.
Мамаша Башю, не получая ни слова в ответ на сладкие речи, в конце концов умолкла, занялась приготовлением изысканной трапезы и, когда пришло время еды, сказала девушке:
— Милочка, если вы не желаете раскрыть рта, чтобы поговорить со мной, то, может быть, сделаете это ради обеда.
Стыдясь, что не в силах выдержать голодовку, Жермена все-таки перекусила, но от питья окончательно отказалась.
— Красавица моя, вижу, вы продолжаете относиться с недоверием к напиткам, — сладенько уговаривала мамаша Башю. — Честное слово, вино совершенно безвредное. Чтобы вас успокоить, я опять первой его отведаю.
Жермена неуверенно кивнула и, видя, что старуха выпила полный стакан, немножко налила себе. Сотерн[8] показался слегка горьковатым, но ей редко приходилось пить и только самое дешевое, она подумала, что дорогие напитки непременно имеют определенный привкус.
Примерно через час ее непреодолимо повлекло ко сну.
Мамаша Башю уже вовсю храпела в соседней комнате.
В момент, когда Жермена задремывала, ей вспомнилась неудержимая хитрая улыбочка мамаши Башю, смотревшей, как Жермена пила. И она в страхе подумала, что мерзавка опять подсыпала наркотик и выпила сама, чтобы ее обмануть. Ей-то ничего не грозит, если она проспит часок-другой. А мне…
— Господи! Спаси! Помоги мне!
Но Бог не внял. Через какое-то время вошел граф. Напрягая душевные силы, она старалась вырваться из каталепсии[9], закричать, хотя бы застонать. Как часто бывает в подобном состоянии, бедняжка чувствовала и понимала происходящее, но тело оставалось недвижимым.
Страстные поцелуи, нежные слова, объятия графа она восприняла без сопротивления, как мертвая.
Кончив насиловать беззащитное тело, Мондье удалился, испытывая садистское наслаждение от вида слез неподвижной жертвы.
— Еще несколько таких сеансов, и я приручу тебя, красавица, — сказал он напоследок.
Жермена вновь погрузилась в сон. Когда она очнулась, свечи уже догорели, и в комнате было бы темно, если бы через щели в плотных шторах снаружи не пробивался свет: солнце уже встало. Из соседней комнаты по-прежнему доносился храп старухи.
«Лучше умереть, чем терпеть такое существование, — решила пленница, вспоминая последние слова графа. — Бежать! Спастись хотя бы ценой жизни! Господи! Чем я прегрешила пред тобой…»
Пользуясь тем, что старуха спит, девушка открыла окно и хорошенько осмотрела пустой тихий двор.
Она заметила, что решетчатые ворота заперты лишь на задвижку и что высота подоконника над землей не столь велика, прыгнуть не страшно, но снаружи оконные проемы заделаны решетками из пяти прутьев немалой толщины. Конечно, их ни погнуть, ни выломать. Терпеливо и внимательно она принялась обследовать стержни на всех пяти окнах, пробуя раскачать их или хотя бы повернуть в гнезде. Ей посчастливилось. Одна железяка чуть пошатывалась. Видимо, разрушился цемент, укреплявший ее. Жермена взяла один из серебряных ножей, предавших ее, когда пыталась убить графа, и терпеливо начала скрести у основания решетки. Почти сразу отвалился большой кусок цемента и обнажился конец прута: по всей вероятности, каменщики небрежно зацементировали треснувшую кладку. Казалось, что стержень закреплен прочно, хотя на самом деле его держала только штукатурка. Удалось сдвинуть железяку в сторону, теперь можно было пролезть. Вместо веревки она воспользовалась классическим приспособлением — жгутом из простыни, закрепленным за соседний прут.
К несчастью, она не подумала о собаках. Два огромных пса ходили вокруг дома, по временам останавливаясь и принюхиваясь.
Увидав Жермену, они принялись рычать и царапать стену под окном. Беглянка, однако, не растерялась. Схватив со стола блюдо с жареным мясом, она выкинула лакомство за окно. Собаки смолкли.
Воспользовавшись моментом затишья, Жермена сотворила крестное знамение и выпрыгнула.
Собаки, с жадностью накинувшиеся на брошенную им приманку, зарычали и оскалили зубы. Колеблясь между долгом и соблазном, они поспешно глотали куски мяса.
Девушка понеслась к воротам в надежде успеть пробежать эти сто метров. Она преодолевала заросли сорняков и кучи камней запущенного двора, до ворот, кажется приоткрытых, оставалось не более половины расстояния. Она уже думала, что побег удался, как вдруг, оскользнувшись на мокрой траве, упала с разбега. Собаки бросились, готовые ее разорвать. Беглянка вскочила, псы настигли ее. Не помня себя Жермена успела-таки выбежать наружу и помчалась к близкой реке. Зверюги вцепились в несчастную, она почувствовала сильнейшую боль.
Собрав все силы, судорожным движением девушка освободилась на мгновение от зверей и, обезумев от боли и страха, кинулась в Сену.
ГЛАВА 7
Прекрасным октябрьским утром, ясным и лучезарным, но уже напоминающим о приближении печальных зимних дней, легкая лодочка тихо плыла по Сене между селом Фретт и местечком Д’Эрбле.
В суденышке сидели двое любителей ранних прогулок. Один греб, другой лениво шевелил рулем.
Пройдя мимо длинного острова, заросшего ивами и тополями, лодка остановилась.
Гребец легко выпрыгнул на берег, привязал лодчонку к стволу ивы, поросшему мхом, и сказал товарищу:
— Приехали.
Он вытащил из лодки мольберт, холст на подрамнике, упакованный в бумагу, ящик с красками и складной стульчик. Прошел шагов двадцать прочь от воды и минут через пять уже выдавливал краски на палитру.
— А ты, князь, что же, останешься торчать там? — спросил он весело. — Нечего киснуть! Вылезай и иди ко мне.
Спутник, зевая, потянулся, достал из рундука[10] свернутый и стянутый ремнями мех и побрел по мокрой траве, делая смешные движения, словно кошка, что боится намочить лапки.
Художник смеялся, глядя, как его приятель расстилает огромную шкуру бурого медведя и укладывается с таким видом, будто устал до изнеможения.
— Ох! Я больше не в состоянии двинуться, — сказал он нежным приятным голосом, совершенно не соответствовавшим могучему телосложению. — Право, Морис, ты делаешь со мной все, что вздумается. Вот заставил в шесть утра выехать на прогулку, разве не глупость?
Художник рассмеялся в ответ.
— Дорогой мой, ты говоришь как пресыщенный или как дикарь. Лучше открой глаза, посмотри, какая красота вокруг! Солнце так чудесно освещает рыжие стволы деревьев, сверкают бриллианты росы на травах, а какое богатство красок, смягченных воздушной перспективой. Ну как, князь Мишель? Тебе это ничего не говорит?
Молодой человек рассеянно глянул на пейзаж, потом на картину, набросанную на холсте друга, чиркнул зажигалкой, закурил и сказал:
— Решительно, твоя картина мне нравится больше.
— Ты льстишь и сам не понимаешь, что говоришь. Все же твои слова приятны, хотя ты ничего не смыслишь в живописи. Завтра я закончу работу и подарю тебе.
— Благодарю, дорогой Морис.
— Ты принимаешь?
— Нет. Твоя картина стоит пять тысяч франков как одна копейка — я ведь знаю, — и мне нечем заплатить. А дорогие подарки не принимаю, я не женщина. Будут деньги — другое дело, с удовольствием.
— Ты что, на мели?
— Совершенно. Когда ты меня сегодня встретил в четыре утра, я только что купил штаны за двести тысяч франков.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Проиграл в карты двести тысяч франков и еще четыреста под честное слово графу Мондье.
— Четыреста тысяч!
— На это не потребовалось много времени. Мондье пришел в клуб в два часа утра с лицом счастливого человека. Я подумал, что отыграюсь на нем, и продулся…
— И это все твои долги?
— А! Еще есть тысяч на двенадцать или на пятнадцать разным поставщикам, это мелочи…
— Итак, ты оказался при пиковом интересе.
— Не беда! Найду какого-нибудь еврея, тот одолжит мне любую сумму. Только придется из-за этого съездить в Россию, чтобы достать поручительство. На все это уйдет несколько недель.
— У тебя там должно быть большое состояние.
— Миллионов двадцать, наверное, еще осталось.
— Черт возьми! Изрядно! И ты все промотаешь.
— Возможно. Если бы только это меня забавляло…
— Значит, ты всегда скучаешь?
— Так скучаю, что хочется покончить с собой.
— Честное слово, ты меня поражаешь. Красив как Антиной[11], могуч как Милон Кротонский[12]. Господь знает как богат. Все женщины готовы тебя любить, все мужчины тебе завидуют, тебе двадцать три года, ты свободен как ветер… Ты — князь Михаил Березов — известнейший род… И ты скучаешь?
— Неизлечимо! И умру от этого. Я был всегда таким. Вспомни годы, которые мы провели в училище Святой Варвары.
— Правду говоришь, тебя там называли медведем.
— Так вот, с тех пор мое душевное состояние только ухудшилось.
— Это потому, что ты ничем не занят Отдайся чему-нибудь. Попробуй! Стань художником. Военным. Исследователем-путешественником.
— Слишком поздно.
— Займись чем угодно, только уйди от этой идиотской жизни, называемой светской, где полно распутниц, проходимцев, молодых бездельников, проматывающих состояния своих жен.
— Ты прав, Морис. Но для этого мне нужно было бы иметь цель в жизни, а у меня ее нет. Я думаю, это потому, что все на свете продается, а мне нечего желать.
При этих словах русский, будто устав от долгой речи, растянулся на медвежьей шкуре и начал следить за колечками дыма от папиросы, в то время как его друг ловил краткий момент, когда краски пейзажа загорелись под лучами солнца, выглянувшего из тумана на горизонте.
Молодые люди были совершенно не похожи друг на друга, разве только возрастом: они были одногодки.
Сыну офицера, погибшего под Седаном, Морису Вандолю пришлось пережить бедность в годы детства, а затем и молодости, подобно многим юношам так называемых свободных профессий.
Несмотря на то, что вдове Вандоль пришлось растить сына на скудную пенсию за мужа, она не решилась сделать из него ремесленника или торговца. Его приняли стипендиатом в знаменитое училище Святой Варвары как сына бывшего выпускника. Он проявил там большие способности и продолжил образование в Школе изящных искусств; рано отступил от академической рутины и пошел по собственному творческому пути, отчего его талант быстро развился; Морис стал почти знаменитым, в то время как его сокурсники все еще занимались писанием устаревших академических картин на древнегреческие, древнеримские и библейские сюжеты.
Начало его творческого пути было трудным, но потом пришел успех. Морис нашел свой путь в искусстве, но не почил на лаврах, как часто бывает с художниками, рано достигшими известности. Он работал со страстью.
Среднего роста, хорошо сложенный, сильный и ловкий, Морис любил заниматься разными видами спорта; красивый лицом, с каштановыми волосами и бородкой и с живыми серыми глазами, всегда веселый и очень остроумный, он был, как говорится, душой общества и притом весьма любящим сыном.
Совсем другим был Мишель Березов, его товарищ по училищу Святой Варвары. Они сохранили дружбу, несмотря на полное несходство характеров и образа жизни.
Князь был одним из тех великанов славянского племени с белой кожей, темными волосами, черными глазами и прекрасными чертами лица, у кого под наружной апатичностью скрываются железная воля и неукротимая энергия, хотя проявляются они только под воздействием сильного удара судьбы.
Мишель вел в Париже пустую жизнь богатого, ничем не занятого иностранца, принадлежа к тому исключительному кругу людей, что бывают на посольских приемах, на ужинах известных камелий[13], в великосветских клубах, на театральных премьерах, на бегах, но кому малодоступны гостиные здешней старой аристократии…
Морис, выйдя из дома ночью, чтобы ехать писать восход солнца на Сене около местечка Д’Эрбле, встретился с Мишелем около клуба, где тот убивал время за карточной игрой. Как все ничем не занятые люди, князь боялся одиночества, Морис позвал его с собой, и тот согласился под предлогом, что ему рано еще возвращаться домой. Экипаж Березова довез их к домику рыбака, здесь Морис держал свою лодку.
ГЛАВА 8
Князь, утомленный ночью за карточной игрой, уже засыпал, растянувшись на медвежьей шкуре, когда послышался остервенелый лай собак на другом берегу и вслед за ним отчаянный крик женщины. Одновременно друзья увидели девушку, всю растрепанную, с трудом отбивавшуюся от двух огромных псов.
Князь Мишель вскочил, Морис оставил палитру, оба помчались туда.
Женщина, обезумев от боли и страха, кинулась в реку, а собаки с диким рычанием бросились вслед. Не скинув одежды, князь мигом очутился в воде, крикнув Морису:
— Плыви на лодке, я поспею раньше тебя.
Мишель Березов плыл с необычайной быстротой.
Атлетическое тело неслось вперед при каждом взмахе могучих рук. Пока Морис успел сесть в лодку, князь был уже в пятидесяти метрах от берега.
Несчастная женщина уже начала тонуть, но собаки, не желая упустить жертву, вытащили ее на поверхность. Они норовили кусаться, но вода, вливаясь в пасти, не давала разжать челюсти. Псы старались подтолкнуть добычу к берегу, чтобы там растерзать. Напуганные окриками князя, звери отпустили девушку и, увидав врага, нацелились на него.
Мишель выхватил из ножен, носимых на поясе брюк, черкесский кинжал — это оружие сокрушает железо, — и одним взмахом перерезал шею ближайшему от него животному. Двумя взмахами рук он подплыл ко второй собаке и вспорол ей брюхо.
Расправа заняла не больше двадцати секунд, но женщина за это время исчезла под водой. Спасатель спрятал кинжал, набрал воздух в легкие и нырнул в окровавленную воду. Через некоторое время, — Морис, успевший подплыть в лодке, дрожал за его жизнь, — князь выплыл метрах в тридцати ниже по течению. Но руки его были пусты…
— Ты устал, давай я нырну вместо тебя, — предложил Морис.
— Нет, я сам, — сказал князь, он ничего не мог делать наполовину. Мишель опять нырнул и почти тут же выскочил на поверхность, держа в руках неподвижное тело.
Морис принял его из рук Березова, положил на дно лодки, помог другу перелезть через борт и взялся за весла.
Причалили к острову. Князь моментально завернул девушку в медвежью шкуру, а Морис собрал свои рисовальные принадлежности.
Оба не умели делать искусственное дыхание, оставалось поспешить к людям и уповать на волю Божию.
— Как она красива! — сказал Мишель.
— В самом деле, я, кажется, еще не видел подобного совершенства.
— И по одежде видно, что она бедна.
— Вот для тебя и нашлась цель в жизни — заняться этой девушкой. Она бедна, красива, несчастна…
— Ты все шутишь, друг мой…
Видя, что Мишель дрожит, Морис сказал:
— С тебя течет вода, как с морского бога, бедная девушка промокла и без сознания, надо поскорее что-то предпринять. Как полагаешь? А? Мы не можем ведь обратиться за помощью в подозрительный дом, откуда она убежала.
— Лучше поплыли к твоему рыбаку. Мы там будем через десять минут.
— Это мысль! Папаша Моген даст тебе во что переодеться, а его жена уложит в постель незнакомку.
— Поехали!
— Садись на весла и жми вовсю!
ГЛАВА 9
Князь Мишель заработал веслами так, что через считанные минуты они добрались до жилища знакомого рыбака.
Жермена не пришла в сознание, однако на щеках появился слабый румянец, с лица исчезла мертвенная бледность. Было понятно, что искусственное дыхание не понадобится.
Супруги Моген, хлебосольные и добросердечные, какими часто бывают обитатели речных и морских берегов, в момент перевернули весь дом, чтобы помочь гостям. Жена взбила тюфяк, согрела простыни и одеяла и уложила девушку, а муж принял двух друзей, сказав им:
— Предоставьте девушку заботам моей старухи. Она лучше всех врачей знает, как надо выхаживать утонувших. Скольких она уже оживила с тех пор, как мы здесь живем!.. Вот… Не дальше, как запрошлой ночью я закинул сеть и знаете, что выловил?.. Христианскую душу! Парень был очень плох. Весь искусан собаками этого негодяя Лишамора!
— Две огромных псины в ошейниках с шипами… Те самые, что едва не разорвали нашу бедняжку.
— Да, господа, честное слово Могена, хорошо сделает тот, кто пристрелит зверюг…
— Они больше никого не укусят, папаша Моген, — смеясь сказал Морис. — Мой друг, что находится перед вами, сейчас саданул их кинжалом. Они послужат прекрасной кормежкой для сомов.
— Тут что-то подозрительное: двое утонувших в одном и том же месте за сорок восемь часов, и оба искусаны собаками Лишамора, — сказал папаша Моген. — Ну, полиция разберется. А пока я вам расскажу про того, кто попал в мою сеть. Привез его к себе, старуха привела мальчика в чувство. С большим трудом удалось, семь потов спустила, пока его растирала. Наконец очнулся и начал бормотать какие-то слова, о каком-то своем велосипеде, который ему было жалко, звал женщину или девушку по имени Жермена. В конце концов я завернул его в одеяло и отвез в Пуасси, где сдал в госпиталь. Вот какая история.
Увидев наконец, что двое гостей дрожат от холода, рыбак сказал:
— Пока старуха занимается там с барышней, разрешите предложить своего лекарства. Бутылочку винца, сахарок в кастрюлечку, быстро вскипятить на огоньке, нет лучшего снадобья. У меня как раз есть бутылочка аржантейльского, и вы мне скажете, каково оно. А потом и позавтракаем. Я приготовлю отменный матлот[14]. — И старик, который ни о чем не забывал, крикнул громким голосом: — Жена! Как там больная?
— Ей полегче, стала согреваться, но у нее началась лихорадка.
— Спасите ее; милая женщина! Спасите! И жизнь ваша будет обеспечена… — крикнул князь с такой горячностью, что даже сам удивился.
— Вы очень великодушны, месье, но мы и из сострадания, как велит Господь, сделаем все, что в наших силах, — сказал Моген.
— Мне можно на нее взглянуть?
— Немного погодя, когда я ее приодену, — ответила хозяйка.
Пока готовился матлот, друзья расспрашивали рыбака о подозрительном доме, вблизи которого за двое суток оказались утонувшие и откуда, судя по всему, бежала несчастная женщина.
— Вот все, что я о нем знаю, — сказал рыбак. — Мужа прозвали Лишамор, не просыхает все двадцать четыре часа в сутки. Настоящее его имя Кастане, говорят, он гасконец, вроде бы образованный, учился на адвоката или на кюре[15], точно не знаю. Лет пятнадцать назад связался с мамашей Башю, со стервой, каких мало, простите за выражение. Содержат кабачок, чтоб не сказать притончик, куда приходят разные темные личности со всей округи. Местные из каменоломни тоже их навещают, потому что Лишамор охотно дает вино в кредит. У этой парочки с шестилетнего возраста живет мальчишка, они его неизвестно где подобрали. Зовут Бамбош. Пройдоха вырос первостатейный.
— Надо будет нам с тобой как-нибудь заглянуть туда, — сказал Морис другу.
— Я как раз хотел это предложить.
— Только будьте осторожны, место подозрительное, — сказал рыбак. — Хоть иногда и заглядывают хорошо одетые господа.
— Вот как!
— Да, подкатывают с шиком на собственных, видно, лошадях, в богатых экипажах и останавливаются около старого дома, вроде замка, который выстроен на косогоре. Говорят, что внутри там все шикарно: ковры, мебель, посуда. Как во дворце. Но это только говорят, потому что никто из местных туда и носа не может сунуть. Лишамор, мамаша Башю и Бамбош никому о том ни слова не рассказывают и подходить к тому дому опасно. Иногда оттуда люди слышали крики о помощи, жалобы или, наоборот, песни, звуки кутежа.
— Все очень странно, — в задумчивости сказал князь. — И мне еще больше захотелось заглянуть в этот дом.
— А что вы́ думаете об этом, папаша Моген? — спросил рыбака Морис, зная, что старик никогда не соврет.
— Похоже, что кабачок внизу служит местом сборищ для всяких подонков, а замок — притоном для богатых бездельников.
— Они могут быть сообщниками.
— Похоже, гнездо бандитов. Особенно судя по тому, что произошло в последние двое суток!
Разговор прервался, вошла запыхавшаяся от работы мамаша Моген и сказала:
— Сударь, мне кажется, что опасности от утопления больше нет, дамочка пришла в себя, но принялась бредить и ведет себя как сумасшедшая. Посмотрите, у нее такой вид, что страшно делается…
Действительно, лицо больной временами сильно краснело и рот сводило судорогой, она размахивала руками, прекрасные голубые глаза темнели, и порой расширялись как от ужаса, взгляд блуждал, с полураскрытых губ слетали нечленораздельные звуки.
Князь тихонько взял ее руку и, почувствовав, какая она горячая, сказал другу:
— Нельзя оставлять ее здесь, она очень сильно больна.
— Что же делать? — спросил Морис.
— Перевезти ко мне, где ее будут лечить лучшие доктора Парижа.
— А как мы это сделаем?
— Сейчас увидишь. Папаша Моген, где ближайшая телеграфная станция?
— В Эрбле.
— Вы можете туда сходить?
— Побегу со всех ног.
— Дайте мне, пожалуйста, бумагу, перо и чернила.
— У нас это есть, как у городских.
Князь быстро набросал:
«Владиславу, дом Березова, авеню Ош, Париж. Запряги в ландо Баяра и Мазепу, поезжай как можно скорее по авеню Гранд-Арме, через перекресток Курбвуа, дальше Безон, Лафретти. Прибыв в Валь, спроси дом рыбака Могена. Привези для меня сменную одежду. Торопись. Жду.
Князь Березов».— Мы точно по этому пути ехали с тобой утром? — спросил он Мориса.
— Точно. Но почему ты не велишь прислать экипаж с тем кучером, который привез нас сюда? Он же знает дорогу.
— Друг мой, тот малый — парижанин, болтун и любопытный. Он захочет все высмотреть и разузнать, а Владислав — мужик… Мой верный и преданный раб и, если я прикажу, будет глух и нем, он человек долга, а кроме того, он меня любит, что для слуги редко.
— Прекрасно! Случившееся требует соблюдения тайны и в отношении супругов Моген.
Прошло четыре часа тревожного ожидания, состояние Жермены все ухудшалось. Князь и Морис не отходили от нее в надежде, что она проронит хоть какое-нибудь разборчивое слово, по какому можно узнать хотя бы ее имя и где ее дом.
Ничего не удавалось. Больная в бреду как будто отбивалась от кого-то, ее мучило непонятное страшное видение, с ее губ срывались неразборчивые жалобы, и все это усиливало ее лихорадочное состояние.
Наконец послышался бешеный топот лошадей и громкий стук колес. Друзья выбежали на дорогу как раз в тот момент, когда роскошный экипаж остановился около домика рыбака. Человек на козлах, среднего роста, но необыкновенно широкоплечий и мускулистый, улыбнулся князю с ласковой простотой давнего слуги. На нем была красная шелковая рубаха, схваченная пояском, черные бархатные штаны, заправленные в сапоги, и небольшая фетровая шляпа с загнутыми полями. Он был по типу внешности казак — маленькие живые глаза, широкий вздернутый нос и высокие скулы, длинные волосы и огромная борода, что веером спускалась на грудь.
— Ты что-то поздно приехал, Владислав.
— Батюшка барин, час с четвертью, как получил депешу… Мигом собрался, а уж гнал не жалеючи.
— Хорошо! Хоть вовсе загони их, а через три четверти часа мы должны быть возле дома.
— Слушаю, батюшка барин. Загоню, коли велишь, но поспеем.
Моген с женой быстро постелили в ландо матрас и одеяло, а князь принес на руках Жермену и осторожно положил ее в экипаж. И, прощаясь с добрыми людьми, спросил Мориса:
— Есть при тебе деньги?
— Не очень много, четыре или пять стофранковых.
— Давай сюда.
Потом, обращаясь к папаше Могену, сказал:
— Примите как благодарность за все ваши хлопоты, это только аванс, потом будет еще.
Рыбак не хотел брать, но князь, крепко пожав загрубелую руку, сказал:
— Сделайте одолжение, не отказывайтесь, мы скоро увидимся.
Морис сел рядом с кучером, князь — в кузов около Жермены. Владислав щелкнул языком, и пара чистокровных понеслась в Париж. Когда экипаж выехал на проезжую дорогу, из-за куста выскочил какой-то человек, погнался за ним, вцепился руками сзади в рессоры, нырнул под днище, прочно ухватившись там за скобы.
Через три четверти часа кони, роняя хлопья пены, тяжело дыша — бока вздымались и опадали, — остановились у подъезда дома князя на улице Ош. Бешеная езда стоила хозяину двух отменных лошадей, но выиграл он двадцать пять минут, что могли спасти жизнь неизвестной ему девушки. Мишель послал гонцов за врачами, а Морис простился, сказав, что придет завтра.
Князь, взволнованный и совершенно преображенный, признался другу:
— Теперь, Морис, я не буду плыть по течению, снедаемый скукой, у меня есть в жизни цель — вылечить это дитя, такое прекрасное и такое, судя по всему, несчастное, спасти его, быть может, отомстить за него…
Человек, что прицепился к экипажу и выдержал под ним весь путь до Парижа, незаметно выскочил в нескольких шагах от конечного пункта. Он потянулся, потопал ногами, чтобы размяться и, обратившись к груму[16], — тот вышел из ближних ворот, — спросил об имени хозяина особняка по соседству.
— Князь Березов, русский, известный богач, — ответил грум.
— А… Очень хорошо, благодарю вас. — И проворный соглядатай неспешно удалился, словно гуляя.
«Теперь я знаю, где она и как имя того, кто ею интересуется, — думал Бамбош, сын кабатчика. — Доложу обо всем графу насчет бегства. Он крепко обозлится, видать, малютка его здорово прихватила. Лишамору, мамаше Башю и мне, понятно, не поздоровится. Но я теперь знаю средство, чтоб его умилостивить».
ГЛАВА 10
Состояние Жермены ухудшалось. За первыми симптомами, что так напугали князя и заставили его как можно скорее перевезти больную к себе, последовали другие, еще более серьезные.
Два врача, спешно вызванные, качали головами и ничего определенного не говорили, что у медиков обычно равносильно признанию в бессилии.
Оба доктора — профессора Медицинской академии, один — крупный специалист по внутренним болезням, а другой хотя и молодой, но уже известный научными трудами в области клинической медицины — сразу определили, какой жестокий недуг поразил пациентку. Доктор Ригаль прошептал слово менингит[17], доктор Перрье согласился, а князь, не зная, что это слово почти равносильно смертному приговору, все спрашивал и спрашивал дрожащим голосом:
— Вы ведь спасете ее, господа?! Спасете? Не правда ли?
— Мы сделаем все, что может медицина. Согласны с этим, Перрье?
— Разумеется. Но врачебный долг обязывает предупредить вас, что болезнь очень серьезна, князь, и состояние больной почти безнадежно.
Мишель побледнел.
— Она вам близкий человек, не так ли? — спросил Ригаль.
— Вчера я совсем не знал ее, но сегодня кажется: если она умрет, я тоже умру.
— Можете ли вы хотя бы сказать, каково ее положение в обществе, основная профессия, образ жизни?.. Может быть, вам известно, при каких обстоятельствах, вероятно трагичных, начался у нее тяжкий недуг? Все это имеет большое значение, вы, конечно, понимаете не хуже нас.
Князь в коротких словах рассказал о встрече с Жерменой и добавил:
— Больше я о ней ничего не знаю. Ничего решительно!
— Вы сказали, ее платье хорошо сшито, но из дешевой ткани, — заметил профессор Перрье. — Можно предположить, что она работает в каком-нибудь ателье. На такую же мысль наводят многочисленные уколы иголкой на пальцах.
— У нее следы собачьих укусов на теле, — заметил доктор Ригаль, — но самое большее, что могло произойти от них, — это сильный испуг и, как следствие, сжатие сосудов головного мозга.
— Следует учесть, что она тонула, — добавил коллега. — Важно было бы знать, как задолго перед утоплением она поела.
Поскольку любой врач всегда в какой-то степени бывает криминалистом, профессор с живостью сказал:
— Кто знает, не стала ли она жертвой преступления? Князь, могу я попросить вас выйти на минутку, нам необходимо остаться одним.
Мишель покорно повиновался.
— Можете войти, — позвал Перрье через короткое время. — Бедная девушка подверглась бесчестью, — печально сказал профессор. — Следы совсем недавно совершенного насилия.
— Какая подлость!.. — вскричал с гневом русский.
— И один этот факт насилия уже может быть причиной ее болезни, — сказал Ригаль.
Врачи предписали режим и удалились, сказав, что станут по очереди навещать больную, сколько потребуется.
Для князя, что стал участником драмы, началась новая жизнь. Он замкнул двери для всех, кроме своего друга и поверенного Мориса Вандоля. Отказался от всех развлечений: клубов, театра, бегов и других удовольствий. Заняв под большие проценты крупную сумму, расплатился с долгами, в том числе и с карточным долгом графу Мондье. Мишель поселился в комнате рядом с той, где лежала Жермена. Сто раз на дню он отрывался от книги, которую рассеянно читал, и, тихонько ступая по ковру, подходил к постели больной.
Монахиня, что дежурила возле нее, — девушка с бледным лицом, кроткими глазами, полными милосердия и веры, — со словами сострадания на устах поднимала голову Проникнутый великим почтением к ее неиссякаемому терпению и самоотверженности, князь тихонько спрашивал:
— Ничего нового, матушка?
— Ничего нового, месье.
Расстроенный, он подходил, иногда осторожно брал горячую руку, щупал беспорядочное биение пульса и отправлялся к себе, не в силах видеть блуждающий взгляд Жермены и слышать ее неразборчивые слова. Молодой человек испытывал почти физические страдания, когда слышал, как девушка иногда стонет от нестерпимой боли в мозгу.
Морис Вандоль приходил каждый день и подолгу сидел с другом. Князь Березов совершенно переродился. События внешнего мира его не интересовали, он всей душой сосредоточился на Жермене.
Продолжительность болей в мозге при менингите бывает разной. Иногда они длятся несколько дней или даже всего несколько часов, но порой продолжаются очень долго, от их продолжительности не зависит возможность и срок выздоровления.
Жермена все время находилась между жизнью и смертью и невыносимо страдала.
Так продолжалось восемнадцать дней. На девятнадцатый случился приступ, от которого она чуть не умерла. Но зато в первый раз можно было понять ее слова.
— Пощадите!.. Сжальтесь!.. Я вам ничего плохого не сделала!.. Мама!.. Пощадите… Моя бедная мамочка!.. Граф… Подлец!.. Это он!.. Мондье!.. Сжальтесь!.. Сжальтесь над бедной Жерменой!..
Наклонясь над изголовьем умирающей, Мишель Березов с болью прислушивался. Он узнал наконец, что девушку зовут Жерменой… Уловив проблеск сознания в ее взгляде, тихо спросил:
— Граф… Какой?
— Мондье[18]… Мондье… Он… Ох…
Мишель подумал, что она воскликнула: «Мой Бог!» — и подумал: она не поняла, жестоко было бы продолжать спрашивать.
Это он не понял ее слов… Скольких несчастий не произошло бы, догадайся он тогда.
Ночью Жермене стало еще хуже, если только это было возможно, и князь в страхе послал Владислава за докторами. Едва дворецкий удалился, у Жермены началось сильнейшее кровотечение из носа. Больная слабела с каждой минутой, и Мишель с ужасом ждал последнего вздоха.
Доктор Перрье вошел в тот момент, когда князь в отчаянии воскликнул:
— Она погибла!
— Она спасена, — радостно сказал доктор. — Если не будет непредвиденных осложнений, я отвечаю за ее жизнь.
ГЛАВА 11
Бамбош — тот, кто встречал графа с похищенной Жерменой возле кабачка Лишамора, дежурил затем возле ее комнаты и, наконец, под кузовом ландо добрался к дому князя Березова, — был вполне законченным мерзавцем. Не играя пока никаких крупных ролей, он вполне мог бы не уступить самым закоренелым и знаменитым преступникам в жестокости, хитрости, ловкости и полном отсутствии любых нравственных устоев.
— Ему всего восемнадцать, а он уже законченный бандит, — с гордостью говорили между собой мамаша Башю и Лишамор, радуясь и за себя: ведь это они выработали и развили в приблудном ребенке, их приемном сыне, самые преступные инстинкты.
Бамбош возрастал во зле, как другие возрастают в добре, и редко дурные примеры, подаваемые постоянно, и дурные принципы, внушаемые старательно и последовательно, не находили столь благодатной почвы.
Кастане, прозванный Лишамором, желая подготовить ребенка, в ком он заметил редкие способности, к жестоким битвам жизни, начал с того, что дал ему довольно основательное образование. Когда мальчишка восставал против учения, отлынивал и ворчал, что ему надоело, — «папаша» отвешивал подопечному несколько здоровенных тумаков, неизменно повторяя:
— Сынок! Я мечтаю о твоей блестящей карьере. Ты станешь работать в большом свете и сделаешься важным господином, почти по-настоящему важным. Для этого надо уметь влезать в разные шкуры: иногда понадобится быть и биржевиком, и атташе при посольстве, и офицером иностранной армии и при всех обстоятельствах держаться джентльменом. Уменье себя вести в обществе и образование необходимы для этого, и я тебя всему обучу.
Смышленый Бамбош вник и перестал отлынивать от учения. Бывший преподаватель Императорского лицея, хоть и весьма образованный, но подверженный многим грязным порокам, Кастане очутился за порогом университета, скатился на дно, сделался содержателем подозрительного заведения и сообщником шайки разбойников. Но Бамбоша обучил английскому, немецкому и итальянскому, немного греческому и латыни, чтобы понимать и уметь вставить, где надо, цитату, дал достаточные знания из физики и химии. Бамбош усваивал все с необычайной легкостью. Также по настоянию учителя старательно работал он над почерком: требовалось уметь подделывать любой чужой. Часто бумажка с фальшивой подписью дает гораздо больше, чем удар ножом или доза яда.
Это еще не все. Бамбош, ловкий и проворный как обезьяна, сильный как атлет, настойчиво тренировал свое тело. Бывший учитель фехтования, опустившийся до уровня каменотеса из-за пьянства, обучил его искусству владения шпагой и стрельбе, сделав воспитанника опасным противником.
Подонки, посещавшие кабачок Лишамора, научили мальчишку драке ногами, карманному воровству, передергиванию в картах и разговору на арго[19].
Когда Бамбош подрос, он самостоятельно занялся стрельбой из пистолета и достиг исключительной меткости.
— Этот чертов мальчишка далеко пойдет! — с восхищением говорил Лишамор.
— Да, папаша, вы меня богато воспитали, — соглашался Бамбош. Он правильно писал по-французски, но говорить предпочитал на жаргоне. — Благодаря вам я буду шикарным вором. Вором-аристократом. Пусть только случай подвернется, и вы увидите, на что способен ваш приемыш и ученик.
Вот краткий портрет этого героя. Роста выше среднего, недурен, хотя черты лица не отличались выразительностью. Светлый шатен, круглолицый, небольшой рот с хорошими зубами, прямой нос, карие глаза. А в общем, внешность была какой-то стертой, неприметной. Это оказалось очень удобным для гримирования и переодевания. За обычным телосложением скрывалась большая мускульная сила, а за невыразительной физиономией — весьма тонкий ум, рано развившиеся дурные наклонности и огромное честолюбие. Он был незаметен и потому особенно опасен.
…Узнав, что Жермена, наверное, умирающая, находится в доме князя Березова, Бамбош решил, как уже сказано, предупредить графа Мондье. Это было лучшим из того, что он мог теперь сделать, учитывая, что строгий приказ графа семейство Лишамора не сумело исполнить.
Граф жил близ площади Карусель в маленьком уединенном особнячке, перед ним находился двор, а сзади — сад. Дом имел два выхода: один, главный, на площадь, а второй, низкий и незаметный, на бульвар. У этого выхода и позвонил Бамбош.
Ему открыл слуга без ливреи и, обменявшись с ним условным знаком, пропустил. Они миновали садик, обнесенный высокими стенами, и вошли в холл. Бамбош, как человек хорошо знакомый с расположением комнат, остановился здесь.
Граф уже позавтракал и, затянувшись утренней сигарой, особенно приятной для настоящих любителей-курильщиков, просматривал газеты.
Бамбош вошел в комнату без доклада, почтительно поклонился графу; тот приветствовал слугу такими словами:
— А! Это ты, мошенник.
— К вашим услугам, месье.
— Почему явился без приказания?
— Я пришел известить, что малютка сбежала…
Граф вскочил и бросился с кулаками. Бамбош спокойно выдержал удар, холодно посмотрел на хозяина.
— Не бейте, это ничего не даст. А потом, должен сказать, я решил больше не ходить у вас на поводу! Можете командовать Лишамором и старухой Башю. Но не мной.
Граф сдержался, услышав такую дерзость.
— Не играй в подобные игры, мальчуган. Другие пробовали и обожглись.
— Я не играю, а лишь говорю, что со мной надо обходиться достойно и оценивать мои услуги тоже по достоинству.
— Как ты смеешь, негодяй, говорить о вознаграждении, когда Жермена сбежала! — заорал граф, приходя в бешенство.
— Хозяин, поверьте мне, никто в этом не виноват, — сказал Бамбош с удивительным спокойствием. — Мы все предусмотрели, только не знали, что один прут в решетке держался непрочно; кстати, окна вы сами проверяли.
— И Жермена убежала во двор через окно… А собаки?
— Они сделали все как надо и умерли.
— А она? Что с ней дальше?..
— Она бросилась в воду, и ее спасли двое мужчин и отвезли в Париж в экипаже, запряженном парой чистокровных лошадей. Вот все, что я могу пока сказать.
— Значит, она для меня потеряна… И она разболтает…
Бамбош молчал, как будто обдумывая ответ. Наконец он проговорил с расстановкой:
— А если я ее найду для вас?
— Ты! Ты сможешь это сделать?
— Да, но при одном условии…
Граф презрительно ответил:
— Повторяю, не играй в эти игры!
— Патрон, если играть, то с открытыми картами. Что касается Жермены, в ней мое спасение, мой успех, потому что вы очень за нее держитесь, а вернуть девчонку в ваши руки могу только я. Я вам необходим. Но я скромен в моих требованиях. Вытащите меня из Эрбле, где я прозябаю, возьмите служить вашим тайным делам, о которых я подозреваю. Будете иметь во мне преданного помощника, поскольку я честолюбив и жаден до удовольствий, какими наслаждаются люди, меня не стоящие. Для начала я верну Жермену, и по тому, как буду действовать, вы сможете судить, действительно ли я на что-то способен… Если хотите, это будет экзамен.
Граф посмотрел на Бамбоша гораздо внимательнее, чем прежде, и, удивленный умом, правильностью речи, умением выражать мысли, ответил:
— Согласен. Верни Жермену, и я открою тебе путь к богатству. Где она сейчас?
— Вы узнаете, но сначала прошу написать под мою диктовку письмо, оно даст возможность приступить к делу.
— Не понимаю.
— И все-таки пишите и постепенно все узнаете. Это развлечет вас.
Бамбош диктовал:
«Дорогой князь, весьма рекомендую подателя сего, в том случае, если вам нужен честный, усердный и сообразительный слуга, умеющий грамотно и толково писать по-французски. Немного меньше чем секретарь и немного больше чем лакей. Он прибыл из моих бургундских земель, я желаю ему добра и рассчитываю на вашу любезную помощь в подыскании для него местечка. Примите, дорогой князь, уверения в моей сердечной преданности вам.
Граф де Мондье».— Датируйте, пожалуйста, это письмо позавчерашним числом, и вот адрес: «Его сиятельству[20] князю Березову в собственный дом. Париж».
— Князь Березов!.. Почему?.. — спросил заинтригованный граф.
— Потому что он вспорол животы моим прекрасным собакам, выловил из реки Жермену, привез в свой дом, где она сейчас и находится.
— Проклятье!.. Он… Князь Мишель!.. Но как, черт возьми, ты об этом узнал?!
— Это мой маленький секрет. Я был в какой-то мере виноват в недосмотре и считал себя обязанным исправить дело, — скромно сказал Бамбош.
— Это хорошо, мой мальчик. Добейся успеха и ты будешь хорошо вознагражден.
— Я на это рассчитываю, патрон!
— Нужны тебе деньги?
— Тысяча франков, чтобы прилично одеться, подкупить слугу в доме князя или устроить так, чтобы его выгнали, освободив для меня место, — сказал Бамбош, дивясь собственному нахальству: сумму запросил изрядную.
— Отлично! Вот тебе десять луидоров[21].
— Благодарю, патрон, вы скоро будете иметь от меня известия.
Бамбош переоделся во все новое в одном из магазинов и отправился в район, где жил Березов. По дороге он заглянул в питейное заведение, куда ходили слуги князя поиграть в бильярд или в карты. Бамбош выдал себя за слугу, ищущего место, и намекнул, что имеет рекомендации к Березову.
— А, это русский, чей дом недалеко отсюда, — сказал кучер, красный от выпивки. — Там было хорошо служить, только он, случалось, бил свою челядь.
— Вы говорите о нем в прошедшем времени, он что, умер?
— Хуже того. Разорился. Дотла. Сидит без сантима, гол как сокол. Вот как раз идет помощник его камердинера[22]. Что нового в доме, Жозеф?
— Не спрашивайте! Никого не принимает, сам никуда не выходит… Нищета, полная нищета! Вот получу жалованье за месяц, и до свидания!
Бамбош заплатил за общую выпивку, потом предложил кинуть карты. Разумеется, он проиграл. Короче, сделал все, что следовало, и под конец напоил месье Жозефа в лоск. Когда после бессонной ночи Жозеф, еле волоча ноги, явился в дом Березова, управитель Владислав его немедленно рассчитал и выгнал вон.
Через некоторое время Бамбош представился князю, был сразу принят на службу благодаря рекомендации Мондье.
Теперь он мог оповещать графа обо всем, что касалось Жермены, о ее болезни, о том, каким вниманием и уходом она окружена, и о сердечном участии, что проявлял князь к ее судьбе. Каждое донесение заканчивалось обещанием начать действовать в нужный момент.
Момент настал, когда Бамбош известил Мондье, что против ожидания Жермена спасена.
«Ага, князь Березов, — ликовал граф, — теперь девица досталась нам обоим, и ты даже не подозреваешь, какой опасный подарочек поднесла тебе судьба».
ГЛАВА 12
Жермена, бледная, исхудавшая, несколько часов лежала неподвижно, не в силах произнести хотя бы слово или сделать малейший жест. Недуг, мучивший ее несколько недель, наконец был побежден кризисом, чуть не убившим больную. Теперь голова ее как будто опустела, а тело совершенно обессилело. Она казалась бы мертвой, если бы не тревожное выражение глаз, они одни оставались живыми. Понемногу мысли ее начали проясняться при виде окружающей обстановки.
Открыв глаза, Жермена увидела, что лежит на широкой постели с богатыми драпировками; на стенах висят прекрасные картины в золотых рамах; в комнате расставлена дорогая мебель. На какой-то момент это ее испугало, потому что напомнило ту поддельную роскошь, среди какой она очнулась там, в проклятом доме. Но приветливое лицо и ласковая улыбка монахини рассеяли ее тревогу. Медленно подняв слабую руку, больная коснулась пальцами сиделки и сказала еле слышно:
— Спасибо!
— Не говорите, дитя мое. Вы были очень плохи, но теперь спасены… Ни о чем не беспокойтесь, берегите силы, чтобы жить.
Жермена поняла, но все-таки сказала:
— Мама!
— Вы ее скоро увидите, а пока слушайтесь меня, дорогая, — остановила девушку монахиня с мягкой повелительностью.
Тотчас Жермена канула в тот глубокий целительный сон, что приходит к больным после тяжелого кризиса. Она проспала десять часов и вновь пробудилась. Монахини не было, у изголовья сидел высокий мужчина и смотрел на нее с невыразимой нежностью. Бледное лицо с тонкими, но мужественными чертами, тревожный взгляд больших черных глаз поражали ее во время кратких моментов просветления сознания в ее бредовом состоянии. Она поняла, что этот человек, так же как и монахиня, не отходили от ее постели в часы страданий, и почувствовала себя в безопасности.
— Дитя мое, — сказал незнакомец необыкновенно приятным, каким-то музыкальным голосом, — в состоянии ли вы слушать меня и ответить на некоторые касающиеся вас вопросы? Я ваш преданный друг, и позднее вы узнаете, при каких обстоятельствах я им стал.
Жермена думала совсем о другом, она спросила дрожащим от слабости голосом:
— Мама… сестры… Берта… Мария…
— Меня зовут Мишель Березов, — вновь заговорил неизвестный. — Вас лечили в моем доме, я не знал ни как вас зовут, ни где ваш дом и не мог ничего сообщить вашим близким.
— Я была очень больна? И долго?
— Три недели.
— Три недели!.. О Господи!.. Бедная мама! Месье, умоляю вас, дайте ей знать. Беспокойство убьет ее. Мадам Роллен, улица Поше, номер… Мое имя Жермена.
— Я хочу лично известить ее о вашем выздоровлении.
— О! Благодарю вас… Моя признательность вам…
— Успокойтесь, ради Бога, — прервал ее князь. — Вы еще слишком слабы. Берегите силы для свидания с родными. Надеюсь, вы скоро увидитесь.
Мишель позвонил, велел подавать экипаж и вышел, а на его место дежурить около больной села монахиня.
Когда князь собирался выйти из дому, помощник камердинера, нанятый по рекомендации графа Мондье, подал на подносе конверт с надписью «срочно». Молодой человек пробежал глазами письмо, чуть побледнел, смял листок и сунул в карман. Там было всего несколько строчек, но они испугали бы всякого менее мужественного человека.
«Князь!
Неизвестный, который пока еще не враг вам, советует не заниматься больше Жерменочкой. Ему она очень дорога, а вам безразлична. Не старайтесь проникнуть в тайны ее жизни. В противном случае с вами, с ней и с ее близкими произойдут большие несчастья. Автор этих строк обладает огромной властью. Для него не существует никаких предрассудков, а жизнь человека он ценит в сантим и ни перед чем не останавливается.
Понявшему привет!»
Спускаясь по лестнице, Мишель размышлял: «Этот мерзавец не знает меня, я тоже ни перед чем не остановлюсь. Спасение Жермены и отмщение за нее для меня не прихоть, а исполнение долга. Посмотрим, кто окажется сильнее».
Молодой человек сел в ландо, камердинер посмотрел вслед безразличным взглядом и услышал, как тот сказал кучеру: «Улица Поше!»
Когда князь выехал за ворота, новый камердинер не спеша удалился из дому, направился в тот ресторанчик, где неделю назад накачал допьяна слугу, на чье место и был принят. Судя по тому, с каким вниманием хозяин кабачка относился к вошедшему, месье Жан, — Бамбош назвался этим именем, распространенным среди людей его званья, — числился уважаемым клиентом. Молодой человек примерно его возраста, одетый в форму служащего беговых конюшен, с заколкой в форме подковы на галстуке и с двумя лихими начесами на висках сидел за столиком перед недопитой бутылкой.
— Привет Бам… Жан! — сказал он вошедшему.
— Привет, Брадесанду[23].
— Выпьешь стаканчик?
— Пожалуй.
Чокнулись, и Бамбош быстро сказал парню в форме:
— Беги к хозяину, и быстро! Я должен с ним встретиться сегодня вечером, непременно… Девчонка говорила с князем… Он поехал на улицу Поше. Точно! Скоро будет взрыв.
— Не бойся, — ответил малый по кличке Брадесанду, — хозяин принял меры.
— Тем лучше, а ты поторапливайся!
— Бегу. Однако, знаешь, мне надоело сидеть здесь на посту.
— Ты что, жалуешься, ты, кто больше всего любит безделье!
— Я не отказываюсь, но мне скучно и не хватает удовольствий.
— Ба! Как только дело будет сделано, патрон тебя сделает букмекером[24] на скачках. Действуй быстро.
На улице Поше, чтобы побыстрее расположить к себе консьержку, князь сунул ей в руку несколько монет и сразу спросил:
— Мадам Роллен живет здесь, не так ли?
— Вы хотели сказать, покойная мадам Роллен, месье.
— Как! Она умерла? — воскликнул русский, у него прямо в глазах потемнело.
— Вот уже три недели, в госпитале Ларибуазьер, как раз в тот день, когда пропала ее дочь Жермена. — И консьержка во всех подробностях рассказала гостю о гибели квартирантки.
Мишель с ужасом думал, какой удар нанесет это известие Жермене. Он поспешил спросить:
— А могу ли я видеть сестер Жермены, девиц Берту и Марию?
— Бог мой, дорогой месье, вам решительно не везет! Как раз сегодня утром за ними приехали, чтобы отвезти их к Жермене, она ведь, бедняжка, нашлась.
— За ними приехали? А кто приехал? — спросил князь, побледнев.
— Симпатичный старый священник, похожий на деревенского кюре.
— Можете ли вы хотя бы сказать, когда они вернутся?
— К сожалению…
— Он сказал, куда их везет, сообщил свой адрес?
— Не говорил. Малютки были так счастливы, а он так торопил…
У князя возникло смутное подозрение, он вспомнил сегодняшнее письмо и подумал, что оно имеет отношение к случившемуся, и отъезд девушек похож на похищение.
А что, если этот священник просто-напросто участник банды?
— Как только девицы Роллен вернутся или вы о них узнаете что-нибудь, известите, пожалуйста, меня. Вот мой адрес.
Консьержка рассыпалась в благодарностях, сказала, что исполнит все в точности, и даже сочла нужным добавить:
— Одновременно с Жерменой исчез еще один жилец. Порядочный молодой человек по имени Бобино, рабочий типографии. Об этом в квартале немного посплетничали, но совершенно зря. Между ним и Жерменой ничего не было. Скорее он был неравнодушен к Берте, ее сестре.
— Вы говорите, что молодой человек не вернулся с тех же пор?
— Даже не прислал никаких известий о себе, что меня очень удивляет.
Князь, еще более озадаченный, медленно поехал домой, с ужасом думая о том, как скажет Жермене о смерти матери, отъезде сестер и странном исчезновении скромного друга Бобино, кого решил непременно отыскать.
Бамбош, чье отсутствие дома не заметили, вернулся, прошел на чердак и наладил там подслушивающее устройство. Слова князя доносились совершенно отчетливо, и, хотя Жермена говорила очень слабым голосом, Бамбош вполне улавливал и ее речь. А ведь механизм этого домашнего прибора был чрезвычайно простым, даже примитивным. Отверстие трубочки выходило в комнату Жермены, его маскировала штофная[25] обивка комнаты, звук проходил свободно.
Жермена, увидав Мишеля, сразу заметила, что он расстроен, хотя тот изо всех сил старался казаться спокойным.
— Прошу вас, расскажите!
Хотя она говорила слабым голосом, Бамбош улавливал все.
— Я не мог повидать вашу мать… Она больна. Только не волнуйтесь, пожалуйста.
— Больна! О Боже! Бедная мама! Кто же ухаживает за ней?
— Она в приюте для выздоравливающих, — говорил молодой человек, стараясь оттянуть время, чтобы постепенно подготовить больную к тяжелому известию.
— Больна, и меня нет около нее! — рыдая сказала Жермена. — А сестры? Вы их видели? Дорогие мои, бедненькие, они-то как?
— Мне действительно не повезло. Представьте себе, их увезли, чтобы они побыли около матери. Думаю, вернутся дня через два. Консьержка ничего не могла мне сказать.
— В нашем доме у нас был друг, милый молодой человек Жан Робер, по прозванию Бобино… Юноша неравнодушен к Берте, он-то наверное знает.
— Его как раз нет сейчас в Париже, — пробормотал князь, совсем растерявшись.
— Как, и его тоже? Месье, вы от меня что-то скрываете! Мама больна, сестры уехали, Бобино нет, я похищена… Что все это значит, Господи? Говорите, умоляю вас! Вы такой добрый, так преданно обо мне заботитесь… Я, кажется, узнаю руку негодяя, который… От него всего можно ждать.
— Кто он, назовите его имя!
Не решаясь и не имея сил ответить, бедняжка разрыдалась.
«Если она сейчас заговорит, патрон погорел», — подумал подслушивающий Бамбош.
Но Жермена молчала. Князь, опасаясь повторного приступа болезни, не настаивал. К тому же он был даже рад прекращению разговора, ведь ему пришлось бы придумывать новые объяснения и, совсем запутавшись, он мог сказать неосторожное слово. Совершенно разбитая происшедшим разговором, Жермена сказала тихонько:
— Завтра я вам все скажу.
И впала в сонное оцепененье.
«А ты, мой князь, должен завтра быть мертв, — сказал себе Бамбош, бросая трубку акустического устройства. — В твоей смерти наше спасение, и ты приговорен».
ГЛАВА 13
Легко догадаться, что Брадесанду тоже состоял в услужении у графа Мондье. В его обязанности входило сидеть то в том, то в другом кабачке поблизости от дома Березова и ждать Бамбоша, который передавал ему для графа сведения обо всем происходившем у русского князя. Брадесанду быстро исполнил поручение Бамбоша. Тот ночью, наняв экипаж, понесся на площадь Карусель, где его с нетерпением ждал патрон.
Войдя в комнату графа, Бамбош крайне удивился, увидев пожилого священника в потертой сутане[26], по виду скромного и доброго. На вид ему было лет шестьдесят, руки у него дрожали, он то и дело нюхал табак и громко сморкался в большой носовой платок.
На минуту нахальный малый растерялся при виде почтенной особы. Старческим, немного дрожащим голосом священник предложил ему сесть, поправил очки в роговой оправе и спросил, зачем он пришел.
— Прошу прощенья, но у меня дело не к вам, господин кюре. Мне необходимо видеть графа Мондье.
— Я пользуюсь его полным доверием, говорите со мной как с ним самим.
— Извините, господин кюре, — решительно сказал Бамбош. — Раз его нет, я подожду.
— Вы же видите, я занимаю его комнату, у меня ключи от всех ящиков. Я его заменяю во всем и для всех. Я принимаю всех, кто его посещает по делу.
— Я еще раз говорю: нет! — забыв о вежливости, заговорил Бамбош. — Будь вы его брат, отец или дедушка, черт меня забери, если я скажу хоть слово!
Тут священник расхохотался и выпрямился. Руки его перестали дрожать, он стянул с головы седой парик, сорвал очки, скинул сутану, и Бамбош, совершенно ошеломленный, захлопал в ладоши.
— Провалиться мне! Это вы, патрон! Ну и ловки же!
— А ты молодец, Бамбош, — ответил граф, надевая халат. — Ты верен и умеешь молчать, я вознагражу за это.
— Здо́рово вы маскируетесь, патрон. И так естественно.
— Да, это один из моих маленьких фокусов. Благодаря ему сегодня удалось увезти сестер Жермены. Двух заложниц. Я воспользуюсь ими, когда потребуется укротить князя и заманить Жермену куда мне заблагорассудится. Теперь расскажи, что нового там?
— Дела плохи, патрон.
— Рассказывай.
— Так вот, малютка заговорила. Простак князь делает все, что она захочет. Сегодня он ездил на улицу Поше.
— Слишком поздно, раз клетка уже пуста.
— Вы приняли правильные меры предосторожности.
— Жермена все сказала князю?
— Нет. Даже не назвала вашего имени.
— Прекрасно!
— Но завтра она должна дополнить признания. Сказать, кто ее похитил и все прочее.
— Ни к чему, чтобы он это знал.
— Я того же мнения.
— Для этого есть только одно средство…
— Убрать князя.
— Прекрасно! Мы хорошо понимаем друг друга. Берешься сделать это?
— Да!
— Не побоишься, не поколеблешься?
— Вы же знаете, что я не постеснялся с Бобино, типографом, пропавшим в один день с Жерменой.
— Верно говоришь.
При этих словах Мондье открыл сейф, взял из него пригоршню золотых и дал Бамбошу.
— Это тебе на развлечения.
— Спасибо, патрон! Одна радость работать на вас!
Затем граф достал флакон с притертой пробкой. Там содержалась жидкость, прозрачная, как дистиллированная вода. Мондье сказал:
— Здесь достаточно, чтобы отправить на тот свет четверых, таких же здоровых, как князь, причем смерть наступит без конвульсий, без агонии. Жидкость не имеет ни вкуса, ни запаха, никаких признаков, по коим можно заподозрить, что это сильнейший яд. Человек засыпает и больше не просыпается, и нет никакого противоядия.
— Да, но существует вскрытие, экспертиза судебной медицины, химический анализ. Все они занимаются исследованием внутренностей покойного, и в результате виновника смерти гильотинируют, — возразил Бамбош.
Граф пожал плечами.
— Это относится к ядам, изобретенным в цивилизованном обществе, они обязательно оставляют какие-то следы. А дикари в этом смысле посильнее ученых. Вот, например, южноамериканские индейцы используют кураре и мауак. Укол иглой, колючкой или древесной щепкой, смазанной кураре, и человек умирает мгновенно, как от пули, попавшей в самое сердце. Капля мауака в стакане воды убивает как полный стакан раствора мышьяка! Притом в теле, в крови — решительно никаких признаков отравления, анализы ничего не показывают.
Бамбош смотрел на флакон с восхищением и страхом. Граф продолжал:
— Этот сосуд содержит уйму смертельных доз, разведенных в дистиллированной воде. Ты добавишь сегодня вечером, самое позднее завтра утром, всю эту жидкость в питье, какое обычно употребляет князь, и через пять минут после того, как он выпьет, мы от Мишеля Березова избавимся навсегда.
— Сделаю все, как вы приказали, — без колебаний сказал Бамбош.
Он возвращался в дом князя, размышляя, как добиться, чтобы враг непременно выпил отраву.
«Не могу же я насильно влить ему питье в рот, как собачонке, — думал он. — Надо сделать так, чтобы у него не возникло подозрения».
Мысль о преступности замысла нисколько не смущала мерзавца. Бамбош принадлежал к новому поколению негодяев, чьи жестокость и развращенность намного превосходили злодейские качества прежних преступников. Для нынешних молодых преступность — как бы естественное состояние. Они действуют совершенно спокойно. Убить человека для них почти то же, что раздавить насекомое или свернуть шею птенцу. Бамбош уничтожил бы князя не задумываясь, если бы при этом не рисковал собой. Он был по натуре трусом, этот наглец.
Дойдя до улицы Ош, он прищелкнул пальцами, сказав себе: «Самые простые средства всегда оказываются самыми лучшими… Я, кажется, придумал…»
Развлекаясь в обществе богатых бездельников, князь выпивал много шампанского и изысканных вин, без конца курил дорогие сигары. После этого у него все горело внутри и мучила жажда, дома он заглушал ее водой, не прикасаясь к спиртному. С тех пор, как под его попечением оказалась больная Жермена, молодой человек почти никуда не выходил, вел жизнь едва ли не аскета, но привычка потреблять много воды его не оставляла. Днем он почти все время проводил в курительной. Навещая больную, Мишель шел через комнату, служившую библиотекой и гостиной. Там, посередине, на столике, покрытом дорогой восточной тканью, на большом хрустальном подносе всегда стоял питьевой прибор: графин, полный прозрачной воды, стакан, сахарница, ложечка и бутылочки с разными сиропами. Воду предварительно пропускали через фарфоровые фильтры, чтобы туда не попала не только соринка, но и никакие микробы, или, по-иному, бактерии[27], которых все так боятся с тех пор, как их открыли; при этом большинство не догадывается, что этих крохотных убийц невозможно «выловить» никакими фильтрами, что доказал великий ученый Луи Пастер.
Бамбош по обязанностям своей службы имел сюда доступ. Парень сказал себе: «Вот куда я налью яд». И вот он заявился, чтоб якобы помешать дрова в камине; без малейшего колебания влил в графин смертельный яд и спокойно удалился, бормоча себе под нос: «Как только князь захочет пить, ему придет каюк».
Не миновало и пяти минут, как Мишель, выйдя из курительной, стал на цыпочках пробираться через гостиную, чтобы узнать у монахини, спит ли Жермена. Проходя мимо графина, он почти машинально протянул руку, чтобы налить в стакан воды…
ГЛАВА 14
В поезде, что прибывает в двенадцать часов пятьдесят минут на парижский вокзал Сен-Лазар, находился человек, по-видимому, жаждавший поскорее доехать. Ему казалось, будто кондуктор слишком долго держит состав на остановках, что вообще состав двигается медленнее, чем следовало, хотя все это совершенно не соответствовало действительности. Пассажир прямо кипел от нетерпения, сидя между двумя тучными скотопромышленниками, — те мирно беседовали о делах своей профессии.
Спешивший выделялся привлекательной внешностью. У него было одно из тех лиц, какие сразу располагают к себе. Взгляд широко открытых серых глаз был прям и честен, в них светился живой ум, а порой загорался огонь решительности. Прямой тонкий нос с нервно вздрагивающими ноздрями, хорошо очерченные улыбчивые губы, оттененные тоненькими юношескими усиками, концы их он в нетерпении теребил рукой, светло-каштановые, почти белокурые, волосы крутыми завитками спускались на мускулистую шею. Незнакомец выглядел очень молодо, лет двадцати, то есть находился в возрасте, когда голова полна счастливыми мечтаниями, а сердце готово к беспредельной любви и преданности. Одет он был очень скромно, чтоб не сказать бедно. Костюм из синей ткани, очень чистенький, но поношенный и в нескольких местах порванный, однако тщательно заштукованный. На лице и руках молодого человека виднелись шрамы, зажившие, похоже, совсем недавно.
Миновав Батиньольский тоннель, поезд дал оглушительный свисток и наконец остановился под стеклянными сводами вокзала.
Молодой человек бросился к выходу, в один момент открыл дверь и выскочил на платформу. Расталкивая всех, пробежал сквозь толпу, сунул контролеру билет и заторопился дальше по улице Амстердам, но мысль, пришедшая в голову, заставила его умерить скорость. Он подумал: «Чего доброго, любой полицейский примет меня за вора или за сумасшедшего и обязательно задержит».
Ясно, что юноша был коренным парижанином и хорошо знал обычаи столичных стражей порядка. И он, совладав с собой, пошел дальше спокойным шагом.
То, что перед нами настоящий парижанин, замечалось и по тому, как он ловко лавировал между движущимися экипажами, переходя площадь, и по тому, какой уверенной походкой шел по улицам родного города. Прибывший двигался упругим гимнастическим шагом, высоко неся голову, развернув плечи и расправив грудь. И с нежностью смотрел на окружающее: на газовые фонари, на ручейки у тротуаров, уносившие всякий мусор, на вывески и витрины магазинов, на знакомые серые дома, на уличных разносчиков.
Идя по направлению к бульвару Батиньоль, он думал: «Как глупо! Трех недель не прошло, пока меня здесь не было, а кажется, будто возвращаюсь из кругосветного путешествия. Право, никогда не думал, что можно так любить родной город! Париж, конечно, прекрасен, ему нет равного… Притом здесь живут те, кто так мне дорог. Поспешим к ним!»
Незнакомец быстро пересек улицу Клиши и вышел на улицу Поше. Вдруг он остановился и с веселой усмешкой подумал: «И впрямь не могу унять волнения в сердце, и ноги стали как ватные. Я превратился в актера реальной мелодрамы. Я должен действовать. А почему бы и нет? Ведь это жизнь».
Юноша прошел мимо табачной лавки и ступил в коридор, где пахло простой, но вкуснейшей пищей — мясом, тушенным с луком.
— Здравствуйте, мадам Жозеф!
Консьержка, что готовила на печурке аппетитнейшее блюдо, подняла голову и воскликнула, протягивая руки:
— Бобино! Милый мой мальчик! Это вы!..
— Я самый, собственной персоной, мам Жозеф…
Они расцеловались, ведь мадам Жозеф была в том возрасте, когда ей можно было без стеснения по-матерински облобызать молодого человека. И она заговорила, не переводя духу:
— Бог мой, откуда вы явились, мой мальчик? Так долго не давали о себе знать. Я уже думала, Господи, прости, что вы умерли. У вас шрамы на лице, как будто следы укусов. Но вид у вас прекрасный. Однако вы, должно быть, голодны. Садитесь сюда, мы сейчас вместе позавтракаем, правда, мой мальчик? Не смущайтесь. Я вас и винцом угощу, красненьким… за двадцать пять су. Вы как будто одеревенели, рассказывайте же скорее.
Бобино не удавалось и слова вставить, наконец он сказал:
— Из Пуасси.
— Из Пуасси! Но там ведь тюрьма, неужели?.. О! Я уверена, что вы ни в чем не виноваты.
— Но там есть и госпиталь…
— Ах, мой Бог!
— И я из него вышел…
— Боже мой, несчастный случай… и эти шрамы…
— Да, мадам Жозеф, несчастный случай, от него я чуть не испустил дух…
— Кушайте и рассказывайте все, как было, мое бедное дитя.
Добрая женщина в один миг поставила два прибора, щедро наполнила тарелки едой, налила вино в стаканы и первой принялась с аппетитом есть, ожидая в то же время с нетерпеливым любопытством рассказа.
Бобино, конечно, был голоден, он с удовольствием жадно проглотил несколько кусков рагу, запив изрядным стаканом вина, и не в силах больше выносить терзающее беспокойство, не очень вежливо ответил вопросом на вопрос:
— Только одно позвольте спросить, мам Жозеф.
— Да, конечно, мой мальчик.
— Как поживает мадам Роллен? И Жермена… Есть ли о ней известия? И Мария? И Берта?
— Ах! Мой милый. Вы ничего не знаете… Конечно, вы не можете ничего знать… Большие несчастья… Очень большие несчастья.
Бобино напряг все силы, чтобы выдержать еще неведомый удар. Консьержка вновь заговорила:
— Ох… Ох… Ох… бедненький! Мадам Роллен… скончалась… В госпитале… Обе ноги раздробило… Отнять пришлось… А потом она, несчастная мученица, отдала Богу душу…
— Боже мой, — почти прохрипел Бобино, — какой ужас… А Жермена?..
— Уехала… ее увезли… исчезла… той же ночью, что и вы, и не отыскалась с тех пор… У нас в квартале болтали, но я руку дам на отсечение, все одно вранье.
— Вранье, конечно… Жермена не виновна, и те, кто говорил про нее гадости, — дрянные людишки. Но вы ничего не сказали о Берте и Марии. Малышки, в какой растерянности они, наверное, сейчас. Одни, без матери! Без старшей сестры… И меня с ними не было.
— Как? Вы не знаете?
— Что? Что… Прошу вас!.. Да скажите же мне все, дорогая мадам Жозеф!
— Так вот: бедную мадам Роллен похоронили, Жермена исчезла, бедняжки кое-как жили одни, грустные. Все время ждали известий от старшей сестры или от вас. Так прошло недели две, а может, три, и вдруг за ними приехал старый священник. Наверное, его послали какие-то сердобольные люди, чтобы позаботиться о них, устроить куда-нибудь, найти работу…
— А после?.. — спросил Бобино, задыхаясь от волнения.
— Так вот… они уехали со священником в его повозке.
Слезы стояли в глазах Бобино, когда он слушал это повествование; юноша воскликнул:
— Уехали! Вот так просто… не сказав куда…
— Дорогие малютки ведь сами не знали, куда их везут. Обещали написать, сообщить адрес. Ничего не потеряно, ведь они отбыли совсем недавно. Да вы кушайте! Кушайте! Выпейте… Вы же мужчина. Рано приходить в отчаяние, не надо портить себе кровь!
— Вы правы, мам Жозеф. Надо решить, как действовать. Но есть я уже не могу, всякий аппетит пропал. Умерла!.. Дорогая мадам Роллен умерла! Знаете, надо быть таким сиротой, не знать родителей, как я, чтобы оценить доброе отношение к тебе. Его мне всю жизнь недоставало. Я привязался к мадам Роллен, полюбил добрую женщину, она меня называла сыном, а я ее — мамой… Я нашел у нее семейный уголок, меня обласкали и пригрели, я встретил бескорыстную дружбу, какую не купишь за любые деньги. О! Мадам Роллен. О! Моя дорогая мадам Роллен, — повторял юноша, с каждой минутой все острее понимая свою утрату.
И мадам Жозеф утирала фартуком глаза, вздыхала и, полная сочувствия, свойственного простым женщинам, искала, чем бы утешить гостя.
— И это все, что вам известно, мам?
— Да! То есть нет!.. Боже мой, безмозглая моя голова! Не в упрек вам, но вы так меня взволновали, что я забыла о самом главном. Не далее как позавчера приезжал господин из высокого общества, из настоящего высшего света. Уж я-то в этом разбираюсь. Князь. Настоящий князь.
— Князь? — спросил Бобино с недоверием.
— Да, совершенно доподлинный. Вот его визитная карточка. Князь Мишель Березов, авеню Ош.
— Русский, — сказал типограф.
— Вы правильно догадались, я-то об этом и не подумала. Он мне дал много луидоров, чтобы я ему поведала о мадам Роллен, о Жермене, о ее сестрах. Похоже, он очень интересовался всей семьей и был очень опечален моим рассказом…
— Русский… Князь… — повторял Бобино в совершенном недоумении.
— Да. Сбруя на его лошадях блестела, как витрина ювелира, а карета… такую только в музее Тюильри можно увидеть. Еще я забыла сказать. Он спрашивал меня о вас, о том, есть ли о вас известия.
— Известия?.. Обо мне?..
— Да. Похоже, он вас знает, он сказал: «Честный молодой человек по прозвищу Бобино». Но вас не было, и я не могла ему объяснить, где вы. Тогда он дал визитную карточку и сказал, уезжая, дескать, как только я хоть малость узнаю о вас или о девочках, чтобы сейчас же бежала к нему.
— Значит, он нам друг!
— О! Я в этом уверена так же, как в том, что в один прекрасный день умру.
— Все это, право, очень странно. Богатые бездельники не имеют обыкновения интересоваться судьбой бедняков, таких, как мы. Но, может быть, это исключение, которое, как известно, только подтверждает правило! Мам, я бегу сейчас же на авеню Ош, узнать, зачем мы потребовались этому князю, да еще русскому.
— Прежде чем идти к князю, вам следовало бы приодеться. Поднимитесь к себе, наденьте свой выходной костюм.
— Я и так хорош, милая мам Жозеф. Это моя рабочая одежда, и я ее нисколько не стыжусь.
— Подождите, выпейте хоть кофейку, я мигом приготовлю.
— Нет, мам, благодарю вас, но я бегу немедленно.
— Ну, как вам угодно. Вернетесь, расскажете обо всем, что там произойдет, — сказала консьержка. Доброе сердце не мешало ей быть любопытной: качество вполне профессиональное.
Бобино добрался до авеню Ош самым коротким путем скорее, чем можно было доехать на извозчике. Швейцар остановил его у порога аристократического жилища. Но Бобино был не из тех, кто легко приходит в замешательство, и на него не производили впечатление лакеи с галунами. И, к счастью, он прихватил визитную карточку князя. Самоуверенно посмотрев на швейцара, от чего тот даже несколько смутился, Бобино сунул карточку князя ему под нос и сказал тоном, не терпящим возражений:
— У меня срочное дело, касающееся князя лично.
Окинув презрительным взглядом одежду пришедшего, швейцар молча указал на маленькую служебную дверь: мол, не велика персона, чтобы проходить через парадные двери. Во дворе юноша столкнулся с бегущим навстречу человеком с длинными волосами и огромной бородой, одетым в длинную розовую шелковую рубаху и черные плисовые штаны, заправленные в мягкие сапоги. Человек спросил:
— Что вам надо?
— Я пришел с улицы Поше, меня зовут Бобино, у меня дело к князю.
Человек радостно улыбнулся и сказал:
— Вы желанный гость. Идите скорее туда, — и, показав на парадную дверь, сам побежал дальше.
Видя, в каком волнении находился бородатый, Бобино подумал, что в доме, наверное, произошло какое-то несчастье, и поспешил в указанном направлении.
Рабочий парень не имел даже малейшего представления о роскоши, с какой пришлось встретиться в хоромах князя: пушистые ковры, роскошные драпировки, бронзовые статуи со светильниками, экзотические растения, великолепные цветы в вазах… Типограф нисколько, однако, не оробел. Когда он поднимался по парадной лестнице, с ним столкнулся бежавший опрометью к выходу лакей в ливрее и тоже спросил, зачем он идет, но, не ожидая ответа, поспешил дальше. Интонация голоса лакея показалась Бобино почему-то знакомой.
Уже поднявшись наверх, к распахнутой настежь двустворчатой двери, Бобино услышал, как в дальней комнате передвинули мебель, потом кто-то застонал и вслед за тем раздались взволнованные голоса.
ГЛАВА 15
Князь Березов налил воды из графина, куда Бамбош влил яд. Он уже поднес стакан к губам, но тут вошла монахиня, три недели находившаяся около Жермены; ей хотелось хоть малость освежиться после душного тепла в комнате больной.
Князь чувствовал к сиделке огромную благодарность и относился к ней с большой почтительностью. Увидев, что та протянула руку к графину, он моментально поставил свой стакан на поднос и подал ей.
— Там, вероятно, слишком жарко натоплено, сестра. Мне думается, достаточно было бы калорифера, а огонь в камине надо велеть погасить.
— Я того же мнения, — сказала сиделка, принимая стакан из рук князя.
Она быстро опустошила стакан.
Едва женщина успела допить последний глоток, как на ее лице, всегда таком спокойном, появилось странное выражение, точно его свело судорогой. К бледным щекам прихлынула кровь, яблоки глаз широко раскрылись и начали вращаться.
На лице появился ужас, она несколько раз глубоко вздохнула, потом покачнулась и выдавила прерывающимся голосом:
— Я умираю!.. Господи, сжалься над рабой Твоей!
Перепуганный князь бросился к ней, поддержал, усадил в кресло, думая, что это обморок или спазм сосудов, постарался успокоить, бессвязно произнося обычные бессмысленные слова:
— Все будет хорошо… все пройдет… успокойтесь, сестра! Вода, наверно, была слишком холодной…
Она вскрикнула, попыталась подняться и вновь упала в кресло.
Теряя голову, князь стал звать на помощь и нажимать на разные электрические звонки, отчего по дому начался трезвон.
Первым прибежал Владислав, за ним Бамбош и другие слуги.
— Доктора!.. Скорее доктора!.. Все равно какого, — приказывал князь. — Беги, Владислав! Зови быстрее… за любую цену!.. И вы, Жан, тоже бегите! Ищите врача!
Владислав опрометью понесся с лестницы, за ним побежал Бамбош, в совершенном бешенстве твердя про себя: «Точно! У него есть веревка повешенного…[28] Это он должен был скопытиться, а вместо него монашка выпила зелье. Промах!.. Надо смываться».
Как раз тут и появился в доме Бобино.
Увидев явно умирающую монахиню с лицом белее ее головного платка, не менее бледного князя и за полуоткрытой дверью следующей комнаты, на постели, Жермену, что звала на помощь слабым голосом, парень осмелился-таки сказать князю:
— Я тот, кого вы разыскиваете, Жан Робер по прозванию Бобино, друг Жермены и ее сестер…
Мишель протянул руку.
— Спасибо, что пришли. Помогите… Я совсем потерял голову…
Жермена услышала знакомый голос человека и позвала:
— Бобино… Жан… Дорогой Жан…
— Жермена!.. Дорогая мадемуазель Жермена!..
— Что у нас?.. Что с мамой?.. Где сестры?.. И здесь — что случилось?..
— Жермена, крепитесь! Я вынужден… Дело в том, что все несчастья сразу!.. Мадам Роллен…
— Мама больна?.. Да говорите же скорей!..
Князь, поддерживая голову умирающей монахини, сделал Бобино незаметный знак; боясь, что тот неосторожно скажет о смерти мадам Роллен и желая помешать ему, Мишель сказал:
— И с бедной милой сестрицей сделался обморок. Только ради Бога! Успокойтесь, Жермена! — И еле слышно попросил Бобино: — А вы подойдите к ней, успокойте, только ни в коем случае не говорите, что мать ее умерла.
Как ни тихо сказал он это, Жермена, с обостренной чуткостью больного человека, все-таки услышала. И закричала так, что мужчины испугались:
— Мама! Мама умерла!.. У меня больше нет мамы! Ни у сестренок… Берта!.. Мария!.. С кем они теперь?! О! Бог несправедлив, за что он так карает невинных?! Мама!.. Мамочка моя!..
В этот момент пришел Владислав с доктором, первым попавшимся, кого дворецкий застал дома.
Пока вконец перепуганный князь суетился у постели Жермены, опасаясь, что у бедняжки снова начнется обострение болезни, врач увидел, как сестра-монахиня содрогнулась в последний раз и замерла, вытянувшись в кресле.
— Она скончалась, — сказал он, посмотрев на помутневшие глаза.
Жермена услышала, что сказал лекарь, и закричала:
— Умерла!.. И она умерла!.. Я, наверное, проклята Богом!..
В нескольких словах князь, по-прежнему не подозревавший отравления, рассказал доктору о том, как все произошло.
Медик, пожилой, небольшого роста, с крючковатым носом и с маленькими глазами за толстыми стеклами очков, тонкими губами и аккуратной седой бородкой, с огромным выпуклым лбом и лысой головой, внимательно выслушал князя.
Когда хозяин дома закончил наконец бессвязные объяснения, то и дело прерываемые горестными возгласами Жермены, врач приподнял веки покойницы, сжал губы и проговорил:
— Вы не могли бы предположить, отчего погибла эта молодая особа?
— Нет. Может быть, кровоизлияние в мозг?
— Она отравлена, — заключил доктор.
— Отравлена! — воскликнул Мишель.
Услышав эти слова, Жермена снова разрыдалась.
— Отравлена!.. Она… святая женщина…
— Но это невозможно!.. Она ничего не пила, кроме воды из этого… как его, да, графина… из стакана, я ей подал…
— Значит, кто-то влил сюда смертельный яд…
— Я один пью из этого графина, и несчастная лишь по совершенной случайности…
— Значит, яд предназначался вам.
— Доктор, простите, вы не могли ошибиться?
— Посмотрите, — ответил врач, — как расширены зрачки. И еще более странное обстоятельство обращает на себя внимание: она умерла только что, тело еще теплое, но уже совершенно окостенело.
Врач взял графин, налил в горсть немного воды, понюхал, попробовал кончиком языка и заключил:
— Никакого запаха, вкус чуть-чуть сладковатый, но вы бы этого не заметили и приняли бы смертельную дозу, как эта жертва.
Князь покачал головой, все еще сомневаясь.
Чтобы убедить его, доктор спросил:
— Есть ли у вас в доме животное, которым вы не очень дорожите, чтобы произвести решающий опыт?
— Да, есть, собака.
— Большая?
— Огромный дог.
— Если можно, прикажите доставить его сюда.
— Владислав, приведи Стронга.
Мужик, до смерти напуганный тем, что любимому барину угрожала такая опасность, побежал и вскоре вернулся, ведя за ошейник очень крупную собаку грозного вида.
Доктор сказал князю:
— Возьмите три кусочка сахара и пропитайте водой из этого вашего сосуда. Так, а теперь угостите, пожалуйста, ими вашего пса.
Князь сделал, как велел доктор. Дог обнюхал лакомство, завилял хвостом и с наслаждением сгрыз все три куска.
Не прошло и десяти секунд, как псина раскрыла пасть, словно почувствовав нечто неприятное внутри, глубоко вздохнула, отрывисто и придушенно взлаяла, сделала несколько неверных шагов и упала на ковер в судорогах, очень скоро вытянувшись мертвой.
Вопреки своему бесстрашию, Мишель вскрикнул в удивлении и ужасе. Разом издали вопли Жермена, Владислав и Бобино, они видели из других комнат страшную сцену.
— Теперь вы убедились? — спокойно спросил доктор. — Но ветеринар, если бы его позвали, наверняка констатировал бы кровоизлияние в мозг, да и доктор, на чьей обязанности лежит удостоверение смерти, поставил бы монахине тот же диагноз.
— А вы сами, почему вы подумали о другой причине?..
— Я — иное дело, я всю жизнь интересовался токсикологией и, увидав умершую, сразу заподозрил преступление. Что касается до природы яда, то он, пожалуй, похож на тот, каким пользуются индейцы бассейна Амазонки[29], где я бывал во дни моей молодости. Я не предполагал, что в Париже кто-либо может иметь сей страшный яд. Теперь мне остается только покинуть вас, сожалея, что не смог ничем помочь.
— Но вы оказали огромную услугу тем, что с удивительной прозорливостью открыли подлое покушение на мою жизнь, — сказал князь.
Он достал бумажник и, вынув тысячефранковую купюру, вручил врачу, совершенно ошарашенному столь щедрым вознаграждением. Поблагодарив, тот сказал:
— Мой визит даже при хорошей оплате стоит не больше луидора, но я принимаю с благодарностью, я беден.
И, привычный исследовать тайны человеческих судеб, добавил:
— Прежде чем уйти, разрешите дать совет… Мне уже скоро шестьдесят, поэтому, полагаю, мне это дозволительно. Не доверяйте никому и ничему… Люди, хотевшие вас убить, несомненно могущественны, если сумели безнаказанно проникнуть сюда. Теперь о жертве преступления. Советую вызвать врача, удостоверяющего смерть, он поставит диагноз «инсульт» и не заподозрит отравления. Иначе начнутся вскрытие, дознание, следствие, примутся вызывать вас в суд, влезать в вашу личную жизнь и, вдобавок, все это может очень навредить общине, где состояла покойная.
— Вы правы, доктор, совершенно правы. Премного вам благодарен и надеюсь увидеться с вами при менее трагических обстоятельствах.
— Всегда к вашим услугам, — сказал тот, откланиваясь.
Пока князь говорил с доктором, Бобино рассказывал Жермене все, что узнал о смерти ее матери, и о том, как увезли ее сестер.
Девушка долго плакала, но слезы облегчили страдание, она постепенно успокоилась и стала думать, как найти сестер, как отомстить обидчику, принесшему столько несчастий.
Березов, радуясь, что видит ее так решительно настроенной после пережитых событий, какие любую, менее стойкую, женщину могли бы сломить, попросил Бобино не оставлять Жермену, пока он сам будет заниматься делами, связанными с несчастной жертвой.
Вместе с Владиславом князь перенес покойную на кровать, накрыл простыней и вложил в ее руки крест; велел прибрать в комнате, как наводят порядок там, где лежит усопший, и хотел отправиться известить настоятельницу монастыря, но, вспомнив о зловещем письме, полученном два дня назад, не решился оставить Жермену без своего присмотра или на попечении Бобино и Владислава.
Он написал настоятельнице, сообщая о трагедии, однако не упомянул об отравлении. Потом позвонил.
Явился камердинер, и, несмотря на выдержанность хорошо обученного слуги, отскочил при виде дога: тот лежал с разинутой пастью, из нее вытекала слюна.
— Пришлите двух рабочих с конюшни убрать собаку и вызовите ко мне Жана.
— Ваше сиятельство, Жан убежал из дому и не возвратился.
У Мишеля сразу закралось подозрение, он сказал себе: «Похоже, этот Жан — сообщник… Все-таки какие мы идиоты, что принимаем на службу первого попавшегося… и допускаем их до личных услуг!..»
И русский холодно сказал первому камердинеру:
— Возьмите извозчика и отвезите письмо.
ГЛАВА 16
Судя по содержанию письма, полученного князем Березовым два дня назад, враги не собирались успокаиваться на содеянном. Следовало принять меры против нападения, что он немедленно и сделал: закрыл дом для посетителей и строго-настрого приказал швейцару не впускать никого без его разрешения; опасаясь отравы, заставил слуг пробовать в его присутствии пищу и напитки, подаваемые к столу.
Челядь не чувствовала за собой вины и без обиды восприняла приказание, сочтя его пустой прихотью хозяина, тем более что никто из них, кроме Владислава, не знал о причине смерти монахини.
Приняв пока что меры против отравления, Мишель по рекомендации профессоров медицины рассчитывал увезти Жермену на юг Франции или даже в Италию, как только она достаточно окрепнет.
Гроб с телом монахини на катафалке доставили в ее обитель, где и предали земле. Церемония была тихой и скромной, как подобало положению и соответствовало духовному облику простой, преданной служению Богу и ближним девушки.
Князь покрыл гроб цветами, Жермена горячо молилась об упокоении чистой души, а Бобино, никому не известный, бросил горсть земли на могильный холмик той, что с добротой и преданностью ухаживала за его другом — Жерменой.
В одной из газет появилось коротенькое извещение о внезапной кончине никому не ведомой служительницы Бога, она не привлекла ничьего, в том числе полиции, внимания.
Обычная жизнь в доме Березова стала понемногу налаживаться.
Тяжелые переживания, посыпавшиеся одно за другим на едва окрепший организм, не свалили Жермену с ног. Как бывает с сильными натурами, они способствовали пробуждению энергии девушки.
По ее же словам, с жестокой откровенностью высказанным графу Мондье, она была сделана не из того дерева, из которого творят изображения святых.
Теперь она неотступно думала о мерзавце, что подло обесчестил ее, стал причиной смерти ее матери, похитил ее сестер, покушался на жизнь человека, спасшего ее от гибели, и, несомненно, убил невинную. Он должен получить воздаяние за преступления, и месть непременно станет ужасной!
До сих пор стыд и душевная боль замыкали ее уста, и у нее не было сил назвать даже имя негодяя.
Но князь, оставаясь с нею наедине, проявлял дружескую нежность и врожденный такт и незаметно подвел ее к этому разговору. Жермена, чувствуя неодолимое желание излить душу в исповеди, еще усиливаемое лихорадочным состоянием, наконец дрогнула.
Она поведала о том, как ее преследовал богатый человек, с какой страстью домогался, угрожал ей, был взбешен сопротивлением и наконец совершил гнусное насилие.
Потрясенный, негодующий Мишель молча слушал, сжимая кулаки, пока наконец, не в состоянии дольше сдерживаться, не проговорил сдавленным от гнева голосом:
— Имя этого мерзавца!.. Его имя… назовите, Жермена… прошу вас!
— Граф де Мондье, — ответила она чуть слышно. Казалось, ненавистное имя жгло ей язык.
Мишель встал во весь свой гигантский рост, дрожа от негодования. Это был страшный гнев человека Севера, того, кто распаляется нескоро, но, дойдя до накала, становится ужасен.
— Человек из этого милейшего света, к которому и я принадлежу. Один из тех, чьей руки я касался… Если бы вы знали, как я его презираю и как ненавижу этот гнусный свет, из которого исходят грязь, бесстыдство и преступление… Значит, ваш палач — Мондье… Граф де Мондье!.. Так я клянусь, Жермена, что не узнаю покоя, пока не отомщу. Мне нужна жизнь этого человека!.. Это так же верно, как то, что я люблю вас!
Жермена слегка вскрикнула, отчего пыл молодого человека угас.
— Ах! Вот чего я боялась! — сказала она с горечью. — Вы будете говорить мне о любви… Мне!
— Но почему же я не смею сказать вам об этом?
— Умоляю вас…
— Позвольте мне сказать, как и почему я люблю вас… а после… да, после вы будете судить… вы увидите…
— Но я… Разве могу вам ответить взаимностью… Смеет ли любить та, кого преступник лишил чести… Разве я не погибла навеки?!
— Кто посмеет упрекнуть вас за то, что вы стали жертвой злодейства! Моя несчастная, моя дорогая невинная мученица! Разве для всякого человека, имеющего сердце, вы не самое невинное, не самое чистое существо на свете?
Жермена горько улыбнулась.
Несколько успокоившись при мысли о мщении, Мишель продолжал говорить, глядя на Жермену с нежностью и состраданием.
— До встречи с вами у меня не было цели в жизни, я прозябал. Сознавая свою бесполезность, я смертельно скучал в компании кутил, прохвостов, развратников и распутных женщин. Я не хочу знакомить вас с моментами разгульной жизни, даже самыми невинными. Достаточно признаться, что я не раз хладнокровно обдумывал, как покончить с собой, развязаться с жизнью, от которой тупеет ум, опустошается душа, сердце умирает и человеческое достоинство гибнет. А мне ведь нет и двадцати четырех лет!
— Покончить с собой… когда ваша жизнь так легка… когда вы можете любоваться, пользоваться всем, что несет в себе добро, красоту, массу удовольствий! Когда не угнетает, как нас, бедняков, нужда… — прервала Жермена.
— Позднее вы поймете, когда узнаете меня лучше. Но послушайте: моя жизнь перевернулась, когда я вас увидел. Этот момент определил мое будущее, пробудил душу, заставил биться мое сердце… Я увидел вас, и я вас полюбил! Может быть, трагические обстоятельства нашей встречи стали причиной мгновенного возникновения страстного чувства, что завладело мной навсегда.
— И вы их упорно от меня скрывали… Я вам обязана не только тем, что вы с такой заботой, вниманием и преданностью вы́ходили меня, избавили от ужасной болезни, но ведь до этого вы спасли меня от чудовищных собак, чуть не растерзавших меня… я это точно знаю… вырвали из лап неминуемой смерти в реке, куда я бросилась…
— Мой друг, который стал мне особенно дорог с того дня, помогал мне выручить вас, — скромно заметил князь, — и он скоро расскажет вам историю во всех подробностях.
— Все равно большую часть дела и самую опасную совершили вы! Это мне хорошо известно… Так будьте добры ко мне и дальше — не говорите мне о любви… Согласны вы на это? Если бы вы только знали, как я страдаю! Как болит у меня душа! Я, кажется, никогда не смогу перестать оплакивать маму! Мне представляется, что сердце мое умерло и пережитое оскорбление убило во мне способность любить… Простите, что я говорю вам это… Вам, кто был моим единственным другом в мои горькие дни… но я должна сказать всю правду… я не могу… не имею права подавать вам надежду.
— Скажите мне, по крайней мере, что вы никого другого не любите и у меня есть надежда разбудить, вернуть к жизни ваше сердце.
— О! В этом я могу вам поклясться! Я не люблю и никогда никого не любила! Я стану любить вас как сестра… и это чувство я отдаю вам безусловно так же, как и мою безграничную преданность вам. Знаете, в моем сердце не могут жить одновременно ненависть и любовь. Позднее… когда я отомщу… когда заживет рана, нанесенная обидой… когда я забуду… Тогда я, может быть, смогу любить.
— Пусть свершится все по вашей воле, Жермена.
— Вы будете для меня как брат?
Князь тяжело вздохнул и сказал:
— Я сделаюсь вашим братом и стану ждать. Моя любовь возникла, увы! между двух могил, и она останется единственной в моей жизни. Она никогда не угаснет.
— Благодарю!.. О, благодарю вас! — воскликнула девушка, взяв обе руки князя в свои и горячо их сжимая.
Молодой человек долго смотрел на нее с обожанием, и, может быть, никогда еще подобное чувство не обращалось на столь достойный предмет. Охваченная сильным душевным порывом, Жермена была в этот момент воистину прекрасна.
Глаза ее, большие, бархатистые, темно-синие, бездонные, смотрели с необычайной добротой и ласковостью, а порой в них мерцал огонь, и тогда приветливость и нежность уступали место выражению неукротимой энергии, почти жестокости.
Волосы, тонкие как шелк, слегка вьющиеся и густые, иссиня-черные, доходили почти до колен. Они прекрасно оттеняли лилейную белизну нежной и чистой кожи. Рот с молочно-белыми зубами красиво сочетался с прямым и тонким носом и округлым волевым подбородком, украшенным очаровательной ямочкой.
Красоту ее нельзя было назвать классической. Она не была ни греческой, ни римской, ни андалузской. Это была красота парижанки. Такое определение как будто бы ни о чем не говорит, но в действительности оно означает многое. Парижанка никогда не бывает похожа на тех величавых, торжественных, безупречно-правильно сложенных кукол, кого американцы и англичане называют «записными красавицами».
Жермена, парижанка до кончиков ее розовых ногтей, обладала качеством, какого совершенно лишены эти богини, чья жизнь проходит в нудном соблюдении установленных правил.
Девушка обладала очарованием, чудным даром, что нельзя приобрести ни за какие сокровища, а парижанка обладает им от природы в высшей степени. Она очаровательно смеется, плачет, танцует, поет, ходит, оживляется или грустит; очаровательно одевается как в хлопчатые ткани, так и в дорогие шелка, равно очаровательна, когда ее украшает скромный букетик фиалок и когда на ней бриллиантовое ожерелье; всегда остается женщиной, по преимуществу единственной, настоящей! Простая работница и светская дама равно наделены этой национальной чертой, ее безуспешно пытаются приобрести иностранки.
Жермена не только являла это очарование, у нее было еще и большое природное изящество — в поведении, в манерах, в беседе, в линиях фигуры… И вполне понятно, почему она с первого взгляда произвела на князя Березова ошеломляющее впечатление.
После решительного разговора они оба долго молчали. Жермена заговорила первая.
— Месье… мой друг, — начала она, не зная, как обратиться к русскому.
— Я вас зову Жермена. Называйте меня Мишелем. Хотите?
— Мишель… Хорошее имя… Я попробую.
— Ведь я — ваш брат.
— Так вот, Мишель, не считаете ли вы, что надо что-то предпринять, чтобы найти моих сестер?
— Да, разумеется. И я жду возвращения Бобино, чтобы начать действовать.
— А где он, этот добрый друг?
— Он отправился покупать у лучшего фабриканта велосипед.
— Он с ума сошел! Он думает ехать сейчас на велосипеде?
— Не смейтесь. Мы с ним поговорили о том, где могут находиться ваши сестры, после того, как их увез священник… несомненно ложный священник.
— И вы считаете, что это место…
— То, где были заперты вы сами, — тихо сказал князь.
Жермена проговорила:
— Вы правы, это возможно. Но этот… этот человек мог найти для них и другое укрытие.
— Это и надо узнать. Во-первых, граф думает, что Бобино мертв. Во-вторых, считает, что вы не знаете, в каком месте находится его дом.
— И я действительно понятия не имею, но вам и вашему другу художнику, конечно, это известно.
— Разумеется, но Мондье вряд ли придет в голову, что мы будем искать именно там. Наконец, если граф надеется меня уничтожить, хотя я думаю лишить его такого удовольствия, он может воображать, будто я не предприму никаких шагов.
— А Бобино?
— Как раз к этому мы сейчас подходим. Он силен, ловок, хитер и, к тому же, несомненно храбр. Он поедет по дороге, ему уже известной по столь горестной причине. И устроится жить у рыбака Могена.
— Но почему на велосипеде?
— В экипаже у него оказался бы нескромный свидетель — кучер, а идти пешком слишком долго и он может не успеть.
— Это правда.
— Вот почему я предложил ему купить велосипед и дал взаймы; наш друг очень горд и просто взять деньги не соглашался. Он поехал покупать…
Раздался звонок у входной двери.
— Вот, наверное, и он… Я ведь для всех закрыл свои двери, кроме как для ваших врачей, Мориса Вандоля и Бобино.
Князь приоткрыл окно, чтобы посмотреть во двор, действительно ли приехал друг на стальном коне.
Как раз в этот момент из окна нижнего этажа дома напротив, находившегося метрах в ста от жилища князя раздался выстрел, и князь Мишель, глухо вскрикнув, отпрянул и упал около постели смертельно испуганной Жермены.
ГЛАВА 17
Убедившись, что смерть миновала князя и поразила монахиню, Бамбош выбежал из дома минутой позже Владислава.
Но, вместо того чтобы мчаться за врачом, как Владислав, он бросился в лавочку, где Брадесанду, попивая винцо, раскладывал бесконечные пасьянсы.
— Плати быстро, и бежим! — без предисловий выпалил Бамбош.
— Что случилось?
— Вместо того, кого надо было убрать, убрал другого.
— Промахнулся, что ли?
— И хозяин мой лопнет от злости. Ну, пошли… быстро!..
Брадесанду расплатился.
— Я готов, — сказал он. — Но ты без шапки. Схватишь насморк, и, что хуже, будут обращать внимание прохожие. Необходим какой-нибудь колпак…
— Одолжу у кого-нибудь из посетителей, на вешалке полно шляп, а ты давай свой плащ, а то я в ливрее, меня сразу засекут.
— Плащ мне самому нужен, вечером иду в гости.
— Куда это?
— На улицу Элер. Там справляет новоселье Регина Фейдартишо[30], и я приглашен.
— Ты хорошо одеваешься, и у тебя хорошие знакомства.
— Регина дружит с Андреа, и Андреа меня ей представила… Там будут крупно играть, а я никогда не проигрываю, ты ведь знаешь.
— Значит, у тебя все по-прежнему с Андреа… с прекрасной дочкой мамаши Башю…
— Ее барон де Мальтаверн совершенно на мели и не стесняется водить дружбу со мной. Кроме того, ведь я букмекер, бываю всюду, и господа из большого света мною не брезгуют.
— Хватит болтать, быстрее давай накидку, и уж раз ты ею дорожишь, то проводи меня до патрона, там что-нибудь найдется из верхней одежды.
Оба проходимца переоделись тут же, в питейном зале. Бамбош облачился в плащ дружка, схватил с вешалки чью-то фетровую шляпу, и они отправились на площадь Карусель.
У потайного входа в дом графа Бамбош вернул дружку одежду, они распрощались, и верный слуга предстал перед хозяином, человеком темным, хотя и всем известным в кругу бездельников, называемом «большим светом».
Граф де Мондье и в сорок пять лет еще оставался весьма привлекательным мужчиной. Он выглядел скорее усталым, чем постаревшим. Глаза не утратили блеска, волосы не поредели, и зубы хорошо сохранились. Благодаря постоянным физическим упражнениям у него не было брюшка, щеки не обвисли и под подбородком не образовалось складок. Он еще сохранил и спортивную форму, мог хорошо ездить верхом, фехтовать, быстро ходить, во всем этом не уступая многим, тем, кто был на десять лет моложе.
Он был непременным участником великосветских праздников, увеселительных прогулок и даже оргий; когда требовалось, мог кутить до утра. Он изрядно пил и переходил от одного любовного свидания к другому, не вредя своему здоровью и с полным успехом.
Соучастники всех забав говорили про него:
«Этот Мондье поразителен! Мы все более или менее сдали, а ему хоть бы что!.. Свеж и силен, как тридцатилетний».
Наследник знатной фамилии и большого состояния, Мондье не отказывал себе в любых прихотях и пользовался уважением у людей своего сословия.
Ему ничего не стоило истратить на пустяки или проиграть пятьдесят луидоров, и он никогда не требовал возвратить долг, хотя сам щепетильно возвращал в срок куда как меньшие суммы. Он интересовался красивыми безделушками и лошадьми, понимая в них толк, и охотно выступал свидетелем или судьею в спорах чести.
Граф Мондье — вдовец, но так давно, что никто не помнил графиню, как говорили, умершую родами за границей через десять месяцев после свадьбы, шестнадцать или семнадцать лет назад.
Было также известно, что у него прелестная дочь, мадемуазель Сюзанна, которую граф боготворил. В скором времени девице предстояло выйти в свет, а пока она жила очень уединенно, под присмотром дальней родственницы, во флигеле возле отцовского дома, и ее время от времени видели на прогулке с графом Мондье, но он никогда никого ей не представлял.
Зато сам граф уходил из дому и возвращался когда ему вздумается, иногда вдруг надолго исчезал. В подобных случаях дом его запирали, а мадемуазель с родственницей отправлялись погостить в монастырь Визитации[31], где девица воспитывалась до пятнадцати лет.
В такие дни графу не доставляли почту. Письма, книги, газеты, журналы скапливались у привратницы, которая на все вопросы неизменно отвечала: «Граф путешествует».
Вернувшись из отлучки, что обычно продолжалась не менее шести недель, но редко больше трех месяцев, Мондье неожиданно появлялся в чьем-нибудь салоне слегка загоревший, слегка изголодавшийся по наслаждениям и счастливый, как человек, радующийся возвращению в привычную жизнь большого света, от которой был на время оторван.
Мадемуазель Сюзанна и ее воспитательница и родственница мадам Шарме возвращались из монастыря; жизнь дома входила в обычную колею, столь разную для каждого из его обитателей.
Граф с нетерпением ждал Бамбоша.
По выражению лица он сразу понял, что произошла неудача.
— Ты промахнулся.
— Увы! Да, хозяин. Правда, напиток был высшего качества, доказательство тому — смерть монахини, которая его выпила.
Граф в бешенстве выругался и закричал:
— Бесполезный труп!.. Полиция поднята на ноги… Князь предупрежден об опасности… И Жермена все ему скажет!..
— Уж в этом можете быть уверены. Потому я и прибежал сразу после катастрофы…
— Правильно сделал. Через каких-нибудь четверть часа проклятый Березов может свалиться мне на голову… Надо торопиться. Подожди меня пять минут.
Князь подошел к флигелю, откуда неслись звуки прекрасно исполняемой музыки.
Когда он переступил порог, мелодия смолкла. Девушка, одетая в белое и розовое, с радостной приветливостью поспешно встала.
Она была скорее миловидной, чем красивой: рыжеватая блондинка, среднего, даже небольшого роста, пропорционально и изящно сложенная. Выражение лица было нежным и добрым, но немного робким, как у людей, которые редко бывают в обществе.
— Ах! Какая неожиданная радость! — воскликнула мадемуазель. — Добрый день, папа!
Сюзанна подставила лоб, отец нежно поцеловал, и она спросила ласково:
— Вы пришли, чтобы пригласить меня обедать? И проведете со мной вечер? Сегодня дают оперу Сегюра[32] с участием Селье, Гросс, Розон, Карон… О!.. Это будет великолепно!.. Я мечтала, что вы меня на нее сведете.
Лицо графа расцвело от проявления детской нежности прелестного создания, но тут же он нахмурился, помрачнел и, стараясь как только мог смягчить интонацию голоса, обычно жесткую и повелительную, проговорил:
— Увы, дорогая моя девочка! Мечты почти всегда обманчивы.
— Так я вас не увижу сегодня вечером? — спросила она чуть не плача.
— Ни сегодня вечером, ни завтра, к сожалению.
— Вы уезжаете?
— Да, через три минуты.
— Ах, Боже мой!.. Опять…
— У меня в жизни ведь часто случаются неотложные дела, тем более неприятные, что они разлучают меня с тобой.
— Не надолго? Правда?
— Не знаю. Зависит от обстоятельств. А ты, как я уеду, тут же отправляйся погостить в монастырь.
— Что ж делать, раз так надо.
— Может быть, тебе там не нравится? — вдруг спросил граф.
— Да нет… Иногда скучно бывает, и затворничество меня тяготит больше всего потому, что я не вижу вас.
Граф опять нежно улыбнулся, тронутый словами дочери, и проговорил слегка дрогнувшим голосом:
— Значит, ты очень любишь своего отца?
— Просто обожаю, потому что он — лучший из отцов! — воскликнула Сюзанна. — Самый лучший! Но у него есть один большой недостаток.
— Какой?
— Он редко со мной бывает.
Это было сказано принужденно веселым тоном, но граф услышал нотки огорчения. Мондье подумал, что надо как-то утешить дочь, однако, посмотрев на часы, тут же вспомнил: Березов!.. Жермена!.. Бамбош!.. Неудавшееся преступление… Надо готовиться к другому!.. Бежать…
И любящий отец, трепетавший за свою дочь, искавший для нее самого надежного убежища за стенами монастыря, этот нежный отец, считавший совершенно обычным делом обесчестить любую девушку, вздохнул, взял в обе руки очаровательную головку Сюзанны, поцеловал и удалился, сказав:
— Ты ведь тотчас же поедешь в монастырь, не правда ли? Слышишь? Сейчас. Прощай, дорогая!
— Прощай, дорогой, любимый папа!
Ровно через пять минут граф был уже в комнате. Он быстро сложил в чемодан заранее подготовленные и упакованные бумаги, дал чемодан в руки Бамбошу и позвонил.
Явился слуга и вопросительно посмотрел на хозяина. Граф сказал, не вдаваясь в объяснения:
— Я уезжаю, стереги дом.
— Месье может быть спокоен и положиться на меня, — ответил слуга.
На площади граф с Бамбошем взяли извозчика.
— На Северный вокзал!
Пробыв некоторое время там, они покинули помещение, возле бульвара сели на другого извозчика и отправились на шоссе д’Антен к тем домам, что отделяют улицу Прованс от улицы Жубер. Там граф вышел первым и сказал Бамбошу:
— Пусть этот извозчик отвезет тебя до улицы Трините, там его отпустишь и доберешься пешком с чемоданом до улицы Прованс, дом два, спросишь месье Тьери.
— Понял, патрон.
Затем граф, как бы прогуливаясь по улице Жубер, добрался до ее середины, позвонил в дом весьма скромного вида и поднялся на четвертый этаж, как человек, хорошо знакомый с местом.
Пятнадцать минут спустя Бамбош спрашивал у консьержки в доме два по улице Прованс:
— Скажите, я могу увидеть месье Тьери?
— Третий этаж, дверь направо.
Молодой человек быстро поднялся и позвонил. Открыл довольно тучный человек, ни о чем не спрашивая, сказал:
— Прошу вас.
Они миновали две комнаты, обставленные во вкусе зажиточного буржуа, и остановились в третьей, служившем одновременно рабочим кабинетом и гостиной.
Бамбош с острым любопытством уставился на неизвестного, одетого в просторный кашемировый[33] халат. Парень несомненно никогда не видал раньше этого крепко сложенного полноватого господина в очках с золотой оправой, со спокойным благодушным лицом, обрамленным пышными седеющими бакенбардами и густыми седыми волосами, зачесанными хохолком, как у покойного месье Тьера[34]. Перстень и запонки с крупными бриллиантами, высокий воротничок и белый галстук вокруг шеи… в общем, вид старого провинциального нотариуса или рантье[35] образца 1860 года.
Бамбош стоял в замешательстве, не зная, как следует ему себя вести, как заговорить, поскольку хозяин к нему не обращался. И вдруг он услышал два слова, поразившие его словно выстрел из пистолета над самым ухом:
— Садись, Бамбош.
Эти слова незнакомец произнес голосом графа.
Полное преображение, совершившееся за каких-нибудь пятнадцать минут, совершенно потрясло графского прихвостня.
Изумление Бамбоша понравилось графу Мондье, польстило его самолюбию, и он сказал добродушным тоном:
— Да, это я.
— Черт возьми!.. Это потрясающе… Право, вы сильны, патрон!
— Хотя бы для того, чтобы исправлять ошибки учеников.
— Вы насчет князя… Я старался как только мог… Мы его еще подловим!..
— Непременно. Только думаю, что в его лице мы имеем дело с сильным противником. Вот почему я так постарался замести свой след и заставить думать, будто уехал надолго.
— Я получил хороший урок и не забуду его!
— Необходимо, чтобы через два дня проклятый русский был мертв!
— Каким образом, патрон?.. Скажите… Я исполню.
— Что ты делаешь сегодня вечером, Бамбош?
— Ничего особенного… Жду ваших приказаний. Если бы я был свободен, то пошел бы с моим приятелем Брадесанду на празднование новоселья к одной дамочке высокого полета — к Регине Фейдартишо.
— Сливки полусвета… Модная кокотка… Он хорошо устроился, твой приятель. Андреа — по кличке Рыжая, его подруга, парня ведет куда следует. Насколько мне известно, Андреа содержит барон Ги де Мальтаверн… а он живет на авеню Бокур, позади дома Березова, фасад княжеского особняка украшает улицу Ош.
— Черт!.. Мне пришла мысль!
— Надо узнать, не выходят ли окна дома Ги в сад дома Березова?
— Точно знаю, что выходят, — сказал Бамбош. — Все лакеи дома Березова потешаются, слушая сцены, какие закатывает барону Андреа — достойная дочь дражайшей мамаши Башю, которую она покинула там… в грязной питейной Лишамора, моего приемного отца.
Ответ Бамбоша тотчас зародил в мозгу графа, столь способном ко всякого рода комбинациям, смелый план действий. Подумав еще немного, он сказал:
— У тебя еще есть время, чтобы достать парадный костюм вместо ливреи, она, должно быть, очень тебе неудобна.
— Это правда. Быть лакеем — не мое призвание.
— Когда оденешься как джентльмен, возвращайся сюда, я сам отведу тебя в дом Регины и представлю дамам… Кстати, ты пойдешь к Андреа и скажешь ей, что она должна при любых условиях, живая или мертвая, быть на этой вечеринке у Регины и непременно привести туда Ги де Мальтаверна. Если она станет колебаться, скажи ей просто: «Это приказ!»
ГЛАВА 18
Барон Ги де Мальтаверн был совершенно разорившимся дворянином.
Достигнув тридцатипятилетнего возраста, он уже успел промотать состояния двух дядьев и одного двоюродного брата, в общей сложности около трех миллионов. По смерти родителей барон унаследовал родовой замок, окруженный зарослями вереска и дрока к югу от устья Луары. Не найдя серьезного покупателя на имение, он его заложил, перезаложил и в конце концов промотал и остался гол как сокол.
Веселый транжир, преследуемый кредиторами, он делал все возможное и невозможное, чтобы сохранить видимость былого богатства, и уже чувствовал себя на краю пропасти, которая вместе с состоянием готова была поглотить и его личное достоинство. Он скатился на дно общества, был совершенно не способен удержать копейку в кармане, всегда обуреваемый неодолимой потребностью сейчас же все истратить, совершенно безразлично на что.
Он терял тысячи и тысячи на бегах, где разные жульнические компании его постоянно обставляли.
Кроме азартных игр, где Мальтаверн пустил на ветер бо́льшую часть состояния, он тратил крупные деньги на самые безрассудные причуды, среди коих на первом месте были любовные похождения с женщинами полусвета.
Наконец, уже на склоне лет, он влюбился в модную кокотку, красавицу Андреа, и пустил на нее остатки своего состояния. Она вертела поклонником как хотела, изменяла ему, презирая барона в глубине души и ненавидя.
Обогатившись за его счет, Рыжая вела свободный образ жизни и, не стесняясь, открыто унижала разоренного любовника, уже несколько месяцев жившего неизвестно на что и готового прибегнуть к любому нечистоплотному способу добывания средств.
Поговаривали, что он вытягивал звонкую монету у богатых иностранцев, водя их по увеселительным местам, и не брезговал нечистой игрой в карты.
Но говорить об этом открыто все побаивались, поскольку барон был записным дуэлистом[36] и в совершенстве владел шпагой и пистолетом.
У него состоялось много поединков, и все окончились плохо для его соперников.
Грехи барона были вполне обычными для людей его общества, поэтому даже наиболее строгие судьи относились к Ги де Мальтаверну снисходительно и сочувствовали его бедственному положению.
При всем этом гуляка и мот был весьма представителен и недурен собой: горбатый нос хищной птицы, холодные глаза игрока и дуэлиста, маленькие черные усики, загнутые кверху, остренькие зубы, открытый лоб, хорошо вылепленная, гордо посаженная голова, стройная мускулистая фигура, широкая в плечах, узкая в бедрах, с выпуклой грудью; он был весьма неглуп, умел удачно сострить, в глубине души наивный, как ребенок, и одновременно развращенный, словно каторжник.
Андреа быстро раскусила его до конца и помыкала им как хотела. От былой роскоши барону оставался дом, записанный на имя камердинера; пара лошадей с экипажем, а также верховая лошадь числились у кучера. Это было все, что он не продавал, не закладывал и оплачивал наличными за счет долгов, полагая не без основания, что иметь собственных лошадей чрезвычайно важно для престижа в обществе.
Андреа жила неподалеку на улице Курсель, являясь на холостяцкую квартиру Мальтаверна когда ей вздумается, и широко пользовалась его упряжкой.
В тот вечер, когда дама из полусвета, по прозвищу Фейдартишо, праздновала новоселье, погода стояла ужасная.
Ги де Мальтаверн позавтракал дома и пребывал в обществе трех щеголей. Двое из них были уже немолодыми, потрепанными физически и утратившими свежесть души, но сохранившими элегантность. Имена их еще появлялись в репортажах модных журналов. Это были: виконт[37] де Франкорвиль и неразлучный с ним Жан де Бежен, которого называли «маленький маркиз», хотя он и не имел никакого титула.
Третьим был юнец из провинции, совсем еще глупенький, неожиданно получивший большое состояние в наследство, служа перед тем мелким чиновником в префектуре[38].
Носил он совсем обыкновенное имя — Дезире Мутон, стыдился его и своей некрасивой фамилии, старался заставить забыть о своей простонародности, вытворяя разные великосветские глупости.
Он приехал в столицу поучиться хорошим манерам и попал в руки Мальтаверна.
Ги щипал его как гуся и, несмотря на то, что Мутон оказался скуп, как старый прокурор, тот не смел пикнуть и совершал по указанию наставника нелепейшие траты, ибо барон уверял, что нувориш[39] создаст этим себе положение в свете.
— Вы глупы, как провинциал, толсты, как уездный буржуа, совершенно незнакомы с хорошими манерами, — говорил Ги серьезным тоном. — Надо похудеть, мой дружок, приобрести оригинальность, быть как мы!..
Под предлогом заставить Мутона похудеть его снова и снова толкали на всякие дурацкие поступки, и он безропотно, с полной серьезностью покорялся, думая, что таким путем приобретет шик и репутацию эксцентричного человека…
Чтобы убить оставшееся до вечера время, сели после завтрака за игру в карты, разумеется, с большими ставками.
Потом пришло время выпить и Ги постарался как следует накачать Мутона, чтобы сделать его вполне послушным на предстоящей вечеринке.
Было решено, что они вчетвером отправятся к знаменитой даме полусвета и Мутон оставит часть перышек из своих крыльев в ее салоне, где собирается шикарное общество.
Но было еще неизвестно, останутся ли они там обедать. Ги и двое друзей получили приглашения, а Мутона, который еще пребывал в нижних слоях общества, звали только на вечеринку, однако барон рассчитывал пристроить и своего подопечного, хотя число мест за столом было очень ограниченно, и предназначались они лишь для нескольких крупных финансистов, политиков и самых близких из светских кутил.
Обдумывая это дело, друзья продолжали выпивать.
На улице шел мелкий дождик со снегом, и тротуар покрывался ледяной корочкой. Уже давно стемнело.
Явилась горничная от Андреа и сказала: хозяйка велела передать барону, что она готова и просит его распорядиться запрягать лошадей.
Ги заворчал: пусть, мол, мадам сама наймет извозчика, но горничная запротестовала, говоря, что, если сказать это мадам, она закатит такую сцену… такую сцену!..
Приходя все в большее замешательство, Ги забормотал, дескать, лошади его больны, и закончил так:
— Передай мадам, что Баяр кашляет, а Принц хромает и по такой погоде их совершенно невозможно запрячь.
Через несколько минут Андреа в вечернем туалете явилась сама, и Ги совсем растерялся.
Рыжая была совершенно великолепна, ее глаза цвета морской воды пылали гневом, огненные волосы были взлохмачены, полные губы сжались, и грудь античной богини высоко вздымалась.
Выставляя напоказ прелесть обнаженных бело-розовых плеч, мадам надвигалась на Ги, ступая по полу, усеянному окурками, среди луж пролитого вина, не обращая внимания на то, что может попортить свой туалет, стоивший не одну тысячу, а барон пятился от нее и чувствовал себя очень неудобно.
Вдруг она крикнула голосом, задрожавшим от злости:
— Ты прикажешь сейчас же запрягать. Да!
— Но я ведь сказал твоей служанке, что они нездоровы.
— Что? Боишься, твои клячи сдохнут!
— Но… моя дорогая…
— Твоя дорогая… которой ты предпочитаешь пару дрянных лошадей! Да мне стоит только знак подать, и первый же идиот целую конюшню предоставит в мое распоряжение… Хотя бы вот этот! — сказала она, указав на Дезире Мутона, смотревшего на нее с восхищением. — Ведь правда, ты не стал бы торговаться, как этот нищий Ги?
Виконт де Франкорвиль и маркиз де Бежен потешались вовсю.
Дезире Мутон, которому красивая девка не стесняясь дала кличку Бычьей Мухи, не смел слова проронить. С одной стороны, он был в восхищении от Андреа, а с другой, очень боялся своего грозного друга, барона де Мальтаверна.
Ги продолжал самым нежным тоном уговаривать:
— Клянусь тебе, деточка, я совершенно не виноват.
— Кончай трепаться!.. Звони!
Ги покорно нажал кнопку. Появился лакей.
— Идите на конюшню и положите в карету мех и грелку, — приказала Андреа. Лакей молча вышел.
Рыжая подошла, еще вся пылая, к подносу, налила себе немного абсента[40], чуть разбавила водой, закурила папиросу и стала ждать, понемногу потягивая зеленоватый напиток.
Через пять минут лакей доложил:
— Мадам, ваше приказание исполнено, все готово.
— Благодарю, господин, как вас там… Теперь возьмите зонтик и проводите меня до конюшни, на дворе идет дождь. А ты, Ги, распорядись, чтобы запрягали, ты слышал и понял?.. А?.. И не заставляй меня повторять, иначе… ты знаешь, что я хочу сказать…
При этих словах она удалилась в сопровождении лакея, затем в окна было видно, как лакей, держа над госпожой зонт, подвел Андреа к карете, раскрыл дверцу. Мадам уселась, поставила ноги на грелку, завернулась в мех и принялась ждать.
Ги де Мальтаверн тоже покинул комнату в сопровождении друзей, в беспокойстве ворча себе под нос:
— Чертова баба, будто не знает, что кучер по такой погоде ни за что не выведет лошадей из конюшни, потому что лошади — это мой залог ему за мои долги.
Стоя у кареты, барон снова попытался убедить Андреа. На его уговоры та ответила непристойной бранью.
Подумав, она вдруг радостно выпалила, как будто ее только что озарила счастливая мысль:
— Уж если ты так жалеешь своих кляч, впрягайся в карету сам вместе с твоими лакированными бычками, вот этими, которые лупятся на меня глазами вареной рыбы. Быстро!.. Беритесь за оглобли, толкайте сзади колымагу… и рысью!.. Много найдется сто́ящих дороже вас, которым приходится и потяжелее тащить.
Маркизик и виконт, сильно подвыпившие, закричали:
— Браво!.. Хорошо придумано!
Ги тоже принял предложение с восторгом. Он был рад умилостивить таким способом красотку и одновременно поберечь своих лошадок, да еще и совершить нечто такое, о чем наверняка напишут в модных парижских газетах: «Эко Де Пари», «Фигаро», «Голуа» и «Жиль Блаз».
Обратясь к Дезире Мутону, барон сказал:
— Я думал, каким манером привести вас к обеду в доме Регины, вот путь и найден.
Рыжая крикнула из кареты:
— А ну! Везите, аристократы, знаете, ведь я жду! Быстро!.. На рысях!..
— Она уморительна!.. — прокудахтали маркизик и виконт.
— Мутон, дорогой, берись за оглобли, — скомандовал барон, включаясь в игру.
Чувство достоинства провинциала было задето, он смутно понимал, что бабенка заставляет их делать что-то унизительное. Дезире глупо высказался:
— Изображать из себя лошадь!.. О!.. Нет! Я бы предпочел что-нибудь другое.
Ги насмешливо ответил:
— Вы доверили нам свое воспитание и не имеете права рассуждать. Слушайтесь!
— Но разве так принято поступать? — спросил провинциальный увалень, которого Андреа так непочтительно назвала Бычьей Мухой.
— Милорд д’Арсуй и распутники конца Империи[41] не такое еще проделывали… Не сомневайтесь! Уверяю вас, это очень элегантный поступок.
Андреа теряла терпение, она высунулась из дверки и крикнула голосом уличной торговки:
— Ну! Живо! Вас стегануть, что ли?..
Мутон встал меж оглобель, маркиз взялся за левую, виконт за правую постромки, Ги толкал сзади, и экипаж тронулся, а лакеи хохотали и злорадствовали, глядя из окон на то, как унижают их хозяев.
Выехали на авеню. Четыре богача, закутанные в меховые пальто, согнувши спины, тащили экипаж, и полы их шуб волочились по грязи.
Цилиндры аристократов поливал дождь, они бежали по лужам, со смехом обдавая друг друга с ног до головы грязной водой.
Мальтаверн, Франкорвиль, Бежен и Мутон веселились как блаженненькие, шутили и смеялись, называли себя именами лошадей, пощелкивали языками, как бы поощряя друг друга, выкрикивали разные кучерские словечки и в то же время испытывая какое-то извращенное наслаждение от непристойных окриков Рыжей, — та поносила их с увлечением и уменьем, как настоящая уличная девка.
В понуканиях и окриках дочь мамаши Башю вымещала на богачах все обиды и унижения, перенесенные от них и им подобных девушками, которых они развратили и унизили.
— Удивительная!.. Поразительная… С огоньком женщина!.. — задыхаясь от усилий, бормотали четыре лакированных бычка, слушая, как их поносит Андреа.
Миновав авеню Ош, экипаж поехал по улице Бальзака, с немалой скоростью спускаясь под гору; он немного замедлил ход на Елисейских полях[42], а потом снова ускорил его на улице Галилея.
Когда экипаж выбрался на улицу Элер, люди-лошади были с ног до головы покрыты грязью, и все извозчики, стоявшие в ожидании пассажиров, встретили их потоком издевательств. Наконец они прибыли к дому Регины и свернули в подворотню.
Но, вместо того чтобы остановиться у стеклянной двери, в которую входили первые приглашенные, друзья двинулись дальше и вкатили в зимний сад. Четверо, наверное сговорившись во время пути, изо всех сил побежали вперед.
Купе[43] въехало в огромный холл со стеклянной крышей, уставленный экзотическими растениями и цветущим кустарником, где прогуливались, разговаривали и флиртовали мужчины и женщины в нарядных туалетах, ожидая часа обеда.
Без сомнения, слон, ворвавшийся в посудную лавку, не произвел бы такого ошеломляющего впечатления, как этот экипаж с зажженными фонарями, весь покрытый грязью, пронесшийся мимо кресел, диванов, кадок с цветами и статуй и остановившийся посреди холла.
О! Честное слово, это был великолепный выход на сцену, совершенно великолепный!
Он всех удивил, взволновал, наделал много шума и вызвал зависть. Многие искренне пожалели, что не им пришла в голову столь блестящая мысль.
Один известный политический деятель, любезно открыв дверцу экипажа, подал руку Андреа, и на нее обратились взоры ста пар восхищенных глаз.
Привлеченная шумом, появилась хозяйка дома и скорчилась от смеха, изо всех сил стараясь его сдержать.
Она сердечно пожимала руку Андреа, и та, великолепная как никогда прежде, указала кончиком веера на четверку мужчин и горделиво заявила:
— Моя конюшня…
ГЛАВА 19
В этом обществе, состоявшем из политиков сомнительной репутации, темных финансистов, распутников, прохвостов и женщин легкого поведения, душевное состояние было у всех более или менее развинченным и неврастеничным. Наверное, это способствовало шумному успеху Ги, виконта Франкорвиля, псевдомаркиза Бежена, Дезире Мутона и особенно Андреа.
Этот успех был необычайным, доходившим до абсурда.
Дезире Мутона приняли с распростертыми объятьями. Все женщины нашли его очень симпатичным, а когда под сурдинку распространили сведения о размерах его состояния, и все мужчины прониклись к нему уважением.
Нет смысла подробно рассказывать про обед, данный по случаю новоселья в доме, подаренном стареющей куртизанке ее идиотом-любовником.
В начале пир был чрезмерно чопорным, как всегда бывает у такого рода женщин, ни в чем не знающих меры, все доводящих до крайности.
Но под действием крепких вин, лившихся рекой, началось шумное веселье, постепенно перешедшее во всеобщий разгул, и торжественная трапеза начала походить на попойку в кабаке.
Когда прием, на котором присутствовали только избранные приглашенные, окончился, в дом повалили гости второго разбора.
Объявив сначала о нескольких незначительных лицах, выездной лакей назвал подряд два имени:
— Месье Тьери!.. Месье де Шамбое!..
И граф Мондье, неузнаваемый под личиной рантье с улицы Жубер, вошел вместе с Бамбошем, — граф придумал называть своего наперсника — Бернаром де Шамбое.
Граф, вернее в данном случае месье Тьери, потому что никто не узнал его в новом облике блистательного кутилы из высшего общества, подошел, сопровождаемый Бамбошем, засвидетельствовать почтение хозяйке дома.
— Вот неожиданность! Дядюшка! — воскликнула та, подавая ему руку, затянутую в перчатку до самого плеча… — Как поживаете? Очень мило с вашей стороны прийти ко мне…
— Мое почтение прекрасной даме! Ваш праздник поистине великолепен… Разрешите представить вам моего племянника Бернара де Шамбое… этого милого молодого человека, впервые увидевшего свет. Маленького дикаря, приехавшего с севера Франции.
— Ну конечно… рада видеть вас у себя, месье!
Бамбош низко поклонился, покраснел и пробормотал:
— Мадам!..
Он побоялся произнести какую-нибудь неловкую любезность и благоразумно замолчал.
К ним подошла Андреа, она сделала Бамбошу незаметный знак, подала месье Тьери руку и, так же как Регина, сказала:
— Здравствуйте, дядюшка!
Затем еще семь-восемь дам полусвета самого высокого полета, бесцеремонно оставив своих собеседников, поспешно подошли с радостными лицами и с разнообразными интонациями произнесли сладкими голосами:
— Это дядюшка!.. Здравствуйте, дядюшка!..
И месье Тьери ласково пожимал ручки, затянутые в перчатки, и заглядывал исподтишка за широкие декольте горящим глазом петуха, озирающего своих курочек. Он без сомнения играл в этом обществе какую-то темную роль, о которой не знал даже Бамбош.
Многие мужчины, иные весьма заметные здесь, носящие разные звания и титулы, называли графа дядюшкой, совершенно непонятно почему, и он принимал это как должное.
Пока дядюшка свободно, словно по улице, расхаживал среди гостей, Бамбоша охватило необычайное волнение.
Перенесенный вдруг, без подготовки, из грязного кабачка, где жила чета Лишамора и мамаши Башю, он попал в свет, о котором имел представление только по копеечным романам.
Молодой человек бросал горящие и острые как кинжалы взгляды на женщин, этих пожирательниц состояний и чести, вампиров, ради кого мужчины разоряют семьи, пятнают доброе имя, теряют голову, идут на преступление, кончают самоубийством.
Смелые декольте, волнующий запах духов, несущийся от их волос и разгоряченной кожи, блеск драгоценных камней в прическах, на руках и на обнаженных шеях, шелка, подчеркивающие безупречные формы тел, безумная роскошь ковров и драпировок, картин, статуй и тысяч дорогих безделушек — все, о чем он не имел никакого понятия в своей нищей юности, давало теперь яркое представление о жизни, совершенно неизвестной ему прежде. Он не видел ее темной стороны и был погружен душой и телом в ее радости, в вихрь ее удовольствий.
«Эта роскошь будет у меня! Я буду иметь этих женщин. Я заставлю вертеться вокруг меня этих мужчин… Этот свет станет теперь моим!..»
Чья-то рука легла на плечо, он обернулся и увидел Брадесанду, великолепно выглядевшего во фраке. Тот спокойно держал себя среди гостей, как букмекер на работе.
— Ты называешься Бернар де Шамбое… Хорошее имя… Меня зовут Петер Фог… Английское имя… Оно мне очень подходит… Ты понимаешь, я становлюсь известным на бегах.
Бамбош опомнился при виде товарища. Тому был непонятен охвативший друга огонь желаний. Бамбош ответил равнодушным тоном, чтобы скрыть волнение, решавшее всю его дальнейшую судьбу:
— Здесь очень шикарно… Знаешь, я бы охотно всегда так жил.
— Да, какой-то торговец шерстью, не знаю откудова приехавший, подарил все это Регине. Она добрая девка, не гордячка и хорошо устроилась.
— Все эти женщины так на меня действуют, у меня прямо темно в глазах, я бы хотел всех их иметь.
— А! Тебя влечет к женщинам… Это твое дело… Я люблю только даму пик и лошадок… На других мне наплевать!
Дядюшка, освободившись наконец от приветствий дам полусвета и от лакированных бычков, подошел к Бамбошу, того только что покинул Брадесанду, он же Петер Фог.
— Ну, мой мальчик, как тебе все здесь нравится?
— Клянусь! Патрон…
— Зови меня дядюшкой, как все эти одурелые потаскухи и лакированные бычки.
— Я нахожу все ослепительным, сказочным, чудесным…
— Не обольщайся, малыш! Знаешь, драгоценности здесь фальшивые и протухшее мясо скрыто под кружевами, а за роскошью прячется нищета. Ты воображаешь, будто все эти ручки, которые ко мне тянулись, все рожицы, что мне улыбались, все умильные взоры, обращенные ко мне, объясняются расположением дамочек к моей особе…
— По крайней мере, они все были вам так рады, что я подумал…
— Все это ради денег, которые я им одалживаю под сто процентов в месяц с правом пользоваться их особами, когда мне захочется. Да, мой мальчик, все знают здесь, что дядюшка большой сластолюбец, известный развратник, который зарится только на самых хорошеньких, самых шикарных. Дядюшка, месье Тьери, собирает со всех этих дамочек гораздо больше того, что тратит на них граф Мондье, и должен тебе признаться, что из графа и дядюшки большинство девиц предпочитает вовсе не щедрого дворянина. Двойная жизнь и есть моя настоящая жизнь, кроме той ее части, о которой ты не знаешь.
Бамбош был совершенно потрясен новым воплощением своего учителя. Он безгранично восхищался изобретательностью загадочного человека, его обдуманной, изощренной развратностью, способностью в разных обличиях удовлетворять свою ненасытную похоть.
Дядюшка, в свою очередь, позволил Бамбошу еще три часа наслаждаться собственным новым положением, представив его разным женщинам и призывая их в недвусмысленных выражениях к благосклонности к нему. После чего сказал:
— Мы ведь пришли сюда, чтобы работать. Не правда ли, мой мальчик? Так начнем же.
Посмотрев на отошедшего от игорного стола джентльмена после того как тот совершенно продулся, граф позвал:
— Месье де Мальтаверн!
— Что вам угодно, дядюшка?
— Не будете ли вы так добры уделить мне пять минут для частного разговора? При этом мы сделаем исключение для моего племянника Бернара де Шамбое, которого я вам представлял. Побеседуем втроем.
— К вашим услугам, дядюшка.
— Так как дело очень серьезное, давайте поищем уединенное местечко.
Они поднялись в комнату, куда никто наверняка не зашел бы: в ней были свалены разные старые стулья, ненужные занавеси и другой хлам.
Граф Мондье в обличии месье Тьери без всяких предисловий сказал:
— Господин барон де Мальтаверн, один человек мне очень мешает.
— Смею надеяться, это не я.
— Нет, разумеется, не вы. Зато вот он мешает мне до такой степени, что я рассчитываю именно на вас, чтобы от него избавиться.
Ги отшатнулся и воскликнул:
— Вы хотите заставить меня убить кого-то?!
— Да, и очень скоро.
— Вы с ума сошли.
— Совсем нет. Тот, кого я приговорил к смерти и которого должны убить вы, — князь Березов. Надо, чтобы он умер завтра или послезавтра самое по́зднее. Вам известно, что вчера у него в доме скоропостижно скончалась монахиня… выпила яд, предназначенный для него. Это мой племянник, который здесь перед вами, дал маху…
— И вы спокойно рассказываете… Значит вы мерзавец… бандит… убийца…
— Да! А вы станете моим сообщником… Нашим сообщником.
— Довольно, месье!.. Если это шутка, то очень дурного вкуса и вы слишком ее затянули!
— Я никогда не шучу, когда речь идет о серьезных вещах.
— Итак, вы говорите серьезно?
— Совершенно серьезно.
— Тогда разрешите мне удалиться… присутствие убийц…
Дядюшка прервал смехом возмущенную тираду:
— Мальчик мой, вы глупы…
— Вы называете меня «мой мальчик»… меня?..
— Месье де Мальтаверн, может быть, вам хочется отдохнуть в Гвиане?[44]
— Что вы хотите этим сказать?
— Да, там есть очень хороший пляж, его часто посещают каторжане, когда судьи посылают их жить в этот благодатный край для поправки здоровья… Для безопасности так называемого общества… Публика довольно разнообразная… Вы будете там представителем высшего общества…
Ги де Мальтаверн почувствовал себя не совсем комфортно: совесть его трудно было назвать безупречно чистой, а чертов дядюшка смотрел на него весьма проницательными глазами через очки в золотой оправе.
Все же барон гордо выпрямился и проговорил:
— А если я откажусь от вашего предложения?
— Скажите правильнее, от приказания, — проговорил дядюшка голосом, какого Мальтаверн до сих пор у него не знал.
— Пусть приказания, я не стану препираться из-за выражений.
— Тогда, к великому сожалению, я вынужден буду послать прокурору Республики гербовые бумаги, называемые ордерами, подписанные бароном Мальтаверном и адресованные господину Тьери, которого здешние дамы называют дядюшкой.
— А затем? — спросил барон бледнея.
— Бумаги, переданные вами господину Тьери…
— Они фальшивые!
— Совершенно верно. И подлог совершили вы… мой мальчик. А учинивших подлог отправляют на каторгу.
— Обязательства были оплачены в срок.
— Деньгами, нечестно выигранными в карты. Это, конечно, не имеет значения, но я принял меры предосторожности и сфотографировал бумаги, и если у вас остались оригиналы, то у меня имеются фотокопии, которые любое должностное лицо признает равнозначными оригиналу. Это еще не все; я располагаю кучей документов, которые, если их обнародовать, окажутся весьма опасны для вас. Поэтому не протестуйте и слушайтесь. Ваша судьба у меня в руках.
Бамбош, очень заинтересованный, не пропустил ни одного слова из разговора. Он восхищался своим хозяином, о двойственности персоны которого знал, может быть, только он один. «Каков человек!.. С таким учителем я далеко пойду!»
Ги де Мальтаверн проговорил голосом, дрожавшим от бессильного гнева:
— Так что я должен делать?
— Рад, что вы образумились, вы послужите мне не без пользы для себя.
— Еще раз спрашиваю, что я должен делать? — спросил Ги, для него этот разговор, да еще в присутствии третьего лица, был настоящей пыткой.
— А вот что: когда кончится это празднество, вы пойдете с моим племянником Бернаром де Шамбое к вам домой и поселите его у себя. Будете его кормить, поить и снабжать папиросами. Устроите его в удобной комнатке с окнами, выходящими на дом Березова. Остальное будет его делом.
— Это все?
— Может быть. Если же мой племянник снова промахнется — надо и это предусмотреть, — тогда вы придете на помощь. Ведь вы не боитесь дуэли со шпагой или с пистолетами? Решительно ни с кем не боитесь драться?
— Ни с кем, — мрачно подтвердил барон.
— Тогда дело обстоит просто: спровоцируйте Березова на поединок и уложите его.
— Я должен ему пятьсот луидоров, проигранных в карты под честное слово. Он не станет со мной драться.
Дядюшка достал бумажник, вынул из него десять купюр по тысяче франков и протянул их барону.
— Вот вам, чтобы уплатить долг, — сказал он холодно. — Если ухлопаете князя, столько же будет и для вас.
Понимая, что деваться ему некуда, Мальтаверн взял ассигнации, положил в карман и склонил голову, то ли в знак согласия, то ли чтобы скрыть выражение стыда на лице.
— Вот и прекрасно! — сказал дядюшка насмешливо.
После чего он встал, показав этим, что разговор окончен, и спустился в гостиную, где играли в карты, а вскоре совсем исчез из виду Бамбоша и барона, им-то предстояло не расставаться до конца праздника.
В три часа утра они вместе пришли пешком на авеню Бокур, и Ги разместил нового знакомца, покорный неколебимой воле Дядюшки.
Бамбош лег, проспал непробудно до девяти, позавтракал изрядным куском холодной говядины, запив бутылкой шабли и решил, что такая жизнь — очень приятная штука.
Вскоре к нему явился хозяин дома, завернутый в мягкий кашемировый халат, и два злоумышленника, поладившие между собой как два вора на ярмарке, пожали друг другу руки, словно старые друзья.
Как спортсмен, Ги был большим любителем оружия. Бамбош тоже знал в нем толк. Он внимательно осмотрел имевшуюся у барона коллекцию и выбрал себе очень удобный короткоствольный карабин; приложил к плечу, попробовал затвор, удовлетворенно пощелкал языком и сказал:
— Калибр девять с половиной миллиметров, немного слабовато.
Ги возразил:
— При длинном патроне поражает цель на расстоянии полутора сотен метров и пробивает насквозь двух человек, стоящих один в затылок другому. Оценили? Вы стрелок?
— Довольно неплохой.
— Тогда вы должны попасть в десятисантимовую монету с расстояния ста шагов.
— Возможно, но надо попробовать — карабин-то незнакомый.
— Разумеется! У меня есть глухой коридорчик, не очень длинный, метров сорок…
— Это все, что надо, сведите меня, пожалуйста, туда.
— Охотно.
Барон ничего не приукрасил, расхваливая карабин. А Бамбош действительно показал себя превосходным стрелком. Он с первого выстрела всадил пулю в середину белого кружка. Чтобы доказать, что удача не случайна, он раз за разом трижды попал в пробитое отверстие.
— Превосходно! — сказал Ги. — А теперь что вы будете делать?
— Почищу карабин, заряжу его и сяду подстерегать.
— Кого подстерегать… откуда?
— Князя Березова. Он частенько открывает окно… вон то, третье налево… Как только высунется… Бац… И черт меня забери, если я с первого же выстрела не заработаю обещанную премию в десять тысяч.
— А если промахнетесь или только раните?
— Промахнуться не могу, вы в этом убедились, а если раню… Тогда вам придется ждать, когда он выздоровеет, чтобы устроить с ним дуэль и убить его шпагой или из пистолета. Но не бойтесь, мне достаточно увидеть кончик его носа, и князь готов!
При этих словах Бамбош открыл окно и уселся подстерегать. А Ги, вооружившись великолепным биноклем, решил понаблюдать, как все произойдет.
Прошло три четверти часа, и князь выглянул во двор, загородив мощной фигурой весь оконный проем. Бамбош прицелился туда, а Ги увидел князя в бинокль так четко, как будто был рядом с ним. В кармашке домашней куртки Березова торчал белый платок, уголок его четко вырисовывался на месте чуть выше сердца.
В тот момент, когда раздался выстрел, Ги увидел, что князь конвульсивно схватился за сердце и упал.
ГЛАВА 20
Жермена думала, что князь, поглядев в окно, скажет: «Бобино приехал на новом велосипеде».
Звук выстрела едва дошел до ее слуха, он был ослаблен расстоянием и его легко можно было принять за хлопок двери или падение на пол какого-то предмета. Поэтому никакой мысли о преступлении у девушки сначала не возникло.
Она испугалась, лишь услышав, как хрипло вскрикнул Мишель, и пришла в совершенный ужас, увидав, что он зашатался и рухнул на ковер.
Жермена громко закричала и попыталась вскочить с постели, но она была еще слишком слаба и, бессильно опрокинувшись на подушки, принялась звать на помощь и окликать упавшего.
— Мишель!.. Что с вами?.. Ответьте мне!.. Мишель! Друг мой! Это я, Жермена! — И девушка снова закричала сколько было сил. Во дворе откликнулись мужские голоса, послышались быстрые шаги, к ней спешили на помощь.
Первым прибежал Владислав и завыл, как водится у русских:
— Убили моего хозяина!.. Будь я проклят, что не уберег его!..
Дворецкий[45] бросился к князю, охватил его руками, поднял, увидал отверстие в его одежде и заплакал, причитая:
— Очнись, батюшка мой! Открой свои глазыньки!.. Ведь ты не умер!.. Не хочу, чтобы ты умирал!..
Жермена, рыдая и заливаясь слезами, повторяла одно и то же:
— Мишель!.. Мой Мишель… Мой друг!..
Вбежал Бобино, он задыхался, был бледен и в совершенном расстройстве. Юноша воскликнул:
— Боже мой!.. Еще один покойник!.. И это он! Жермена, что случилось?! Как это произошло?! Отвечайте скорей!..
Но Жермена задыхалась от рыданий и не могла вымолвить ни слова. Бобино старался привести ее в чувство, а Владислав укладывал поудобнее на ковре князя. Мишель очнулся после того, как ему полили на лицо холодной воды.
— Он жив! — заревел дворецкий.
— Он жив! — как эхо повторил Бобино, мечась между находившейся в обмороке Жерменой и князем, которого считал уже мертвым.
Князь вздохнул и посмотрел наконец вокруг себя, не в состоянии ничего понять: почему он лежит на полу, Жермена в таком ужасном состоянии, а Владислав весь в слезах.
Мишель дышал, но прерывисто, что-то мешало ему. Он сорвал с себя жилет и пластрон[46] рубашки. На груди, как раз против сердца, виднелось лиловатое пятнышко, просто синяк размером с монетку.
Владислав осмотрел накрахмаленный пластрон, он был совершенно цел, а из нагрудного кармашка куртки вывалился простреленный насквозь, туго набитый бумажник, в золотой застежке которого застряла расплющенная пуля. Она выпала на ковер как раз в тот момент, когда князь пришел в себя и смог заговорить.
Его первая мысль, первое слово были обращены к Жермене:
— Детка моя… Сестра моя дорогая… Со мной ничего не случилось… Очнитесь!
— Она вас слышит, князь. Скажите ей еще что-нибудь, ей от этого лучше делается.
— Жермена, узнаете меня?.. Это я, Мишель… а это Бобино, наш друг, а это Владислав.
С помощью дворецкого Мишель наконец встал на ноги. Затем, еще совсем слабый, слегка пошатываясь, сел на край постели Жермены, взял ее руки в свои и заговорил ласково, будто с ребенком. Девушка постепенно пришла в себя и конечно захотела узнать, что произошло.
Он рассказал ей, по крайней мере, то, что сам знал или предполагал.
Его пытались убить, выстрел был очень метким, в самое сердце, но, откуда была пущена пуля, точно определить невозможно: в домах напротив пятьдесят или шестьдесят окон.
Если бы не бумажник, Мишель был бы сражен наповал, но и контузия от удара пули была так сильна, что он упал замертво. Все обошлось, слава Богу, хотя он еще чувствует боль в груди, но это скоро пройдет.
— Вы говорите, скоро пройдет… Я тоже на это надеюсь и от всей души этого желаю, — сказала Жермена. — Но это уже второе покушение… Враги не сложили оружия. Нам надо уезжать… Друг мой, умоляю вас, давайте поскорее уберемся отсюда. Я уже достаточно окрепла.
— Вы же знаете, что прежде мы должны найти ваших сестер.
— Боже мой! Простите, я на минуту о них забыла, я как с ума сошла…
— Успокойтесь, Жермена. Мы будем бдительны, как никогда прежде, а Бобино отправится на поиски.
— Сейчас и поеду, я готов приняться за дело.
— Подождите минутку. — И князь направился в свою комнату, достал из сейфа пачку банкнотов, положил кинжал и пистолет. — Возьмите, — сказал он, подавая типографу деньги, — это главное орудие войны. Я их не считал, тратьте все, если не хватит, попросите еще.
Бобино спокойно принял ассигнации и, тоже не считая, положил во внутренний карман.
Затем князь передал ему револьвер и кинжал и сказал:
— Этот кинжал из крепчайшей стали, им можно перерубить любое английское оружие. Он верный друг, который не изменит своему хозяину. А теперь, мой дорогой, попрощаемся. Вы идете на трудное дело, на пути встретится много преград, но ведь вы из тех, кто не останавливается ни перед чем, когда ему светит впереди счастье выполнения долга.
— Вы хорошо сказали, князь Мишель! Да, я сделаю все, что будет в моих силах, а что касается опасностей, ну… буду держать ухо востро. Я попался один раз… теперь буду умнее. До свидания, Жермена!
— До свидания, дорогой Жан, до свидания, мой Бобино.
— До скорого, мой храбрый друг.
Юноша пересек двор, ведя за руль своего нового железного коня. Он проходил через ворота, когда увидел, что к ним подошел какой-то человек и спорит со швейцаром.
— …Я вам говорю, что у меня дело к князю, он меня сейчас ждет.
— Должен вам заметить, месье, что князь никого не принимает, решительно никого.
— Но вы меня хорошо знаете…
— Мне известно, что месье — барон де Мальтаверн.
— Один из друзей вашего хозяина.
— Я знаю, но у меня приказ…
— Вы говорите как на военной службе.
— Да, месье, я служил верно и честно, — ответил швейцар, поглядев на свидетельство о награждении воинской медалью, висевшее на стене сторожевой будки в рамке черного дерева.
— Так вот, мой приход касается дела чести…
— Князь должен драться на дуэли?..
— Может быть!.. Я его секундант. Повторяю: он меня ждет и точность, с которой вы исполняете приказ, может причинить ему большое несчастье. Поэтому пропустите меня.
Бобино тихо вышел на мостовую и сел на велосипед. Дальше слушать разговор он считал неделикатным; да и швейцар лучше знает, как надо поступить.
Прыгнув в седло, юноша быстро покатил кратчайшим путем к Аньерским воротам. В это время швейцар звонил в дом князя, чтобы спросить, можно ли впустить посетителя.
ГЛАВА 21
Бобино отправился на поиски Берты и Марии по той дороге, где он проезжал больше месяца назад, когда мерзавец похитил Жермену и скрыл ее в мрачном доме на берегу Сены.
Сколько драматических событий прошло с тех пор! Сколько страшных, невероятных и тем не менее вполне реальных приключений пришлось пережить!
Его, Бобино, истерзанного собаками, бросили в реку, и он был чудесным образом спасен добрым рыбаком Могеном, с которым скоро должен увидеться.
После исчезновения Жермены трагически скончалась милая мамаша Роллен, ее он любил как родную мать. Увезли неизвестно куда двух девушек; чудесным образом была спасена Жермена. Участие в ее судьбе князя, покушение на него; выздоровление Жермены…
Можно было потерять голову. И за всем этим скрывалась, видимо, преступная рука какого-то одного могущественного врага.
Бобино, с ранних лет напичканный грошовой литературой, чувствовал себя действующим лицом драмы, подобной тем, какие он читал у любимых авторов и начинал думать, что в жизни все может случиться, даже невероятное… особенно невероятное.
В его кармане лежал черкесский кинжал, что мог среза́ть гвозди, как бритва — волосы; крупнокалиберный револьвер «бульдог», стрелявший как пушка; пачка банкнот на сумму, какую он не мог бы заработать и за четыре года; он ехал на новом велосипеде, ценою в восемьсот франков.
Наконец, он стал другом князя… настоящего князя! Красивого, высокого и сильного, как герой из романа… великодушного… такого великодушного, каких уже не бывает в наш мелочный торгашеский век.
Как истинное дитя Парижа, Бобино не преклонялся перед титулами, расшитыми мундирами, орденами и прочими знаками величия и знатности, и восхищался князем не потому, что Мишель Березов принадлежал к высшей аристократии России. На жалованные грамоты, на княжеские короны и всякие гербы типографскому рабочему французской столицы, независимому, скептическому, склонному к насмешке и знающему себе цену, было в достаточной мере наплевать. Но в лице князя Березова он встретил такого простого, обходительного и сердечного человека, противника светских условностей, что типограф сказал себе: «Это — брат!.. У него на копейку нет ничего из аристо́… Такой человек мне по душе: что он любит Жермену… это совсем не глупо… Она его достойна. Если и она его любит… еще лучше! Из них выйдет прекрасная пара, когда господин кюре их обвенчает…»
Так размышляя о бурных событиях, оторвавших его от работы в типографии, он в опьянении скоростью езды катил на велосипеде.
Как и в первый раз, обогнув Аржантейль, юноша свернул налево и поехал по дороге к ля Фретт.
Впереди него не спеша двигался экипаж, возница дремал на козлах.
Бобино делал примерно двадцать пять километров в час, он быстро нагнал упряжку и некоторое время ехал следом за ней.
Несмотря на холод, дверцы там были открыты и оттуда слышались взрывы смеха и, похоже, звуки поцелуев.
Бобино весело улыбнулся. Красивому малому были не чужды такие радости, и ему захотелось взглянуть на счастливчиков.
Он обошел карету слева и некоторое время двигался вровень с ней.
Повозка была просторная. В ней действительно разместилась явно влюбленная парочка.
Она была великолепна: рыжеволосая, пышнотелая, очень соблазнительная, огромные глаза цвета моря, странные, покоряющие; маленький алый ротик, чуть подкрашенный, прямо созданный для поцелуев, для веселья и для порочных наслаждений! Одета шикарно, не только по моде, но даже впереди моды, женщина казалась одной из тех, кому подражают в туалетах.
Он был менее интересен. Наряжен уж слишком броско. Красивый малый, но вульгарный. Толстощекий, толстогубый, с широкими бровями. Кольца на обеих руках, руки широкие, короткопалые, ногти холеные. На груди увесистая цепочка от часов, какую носят люди без вкуса, меж бровей на нос спускался локон, выбившийся из-под шляпы.
В момент, когда Бобино проезжал мимо, молодые люди взасос целовались. Они подняли глаза при звуке звонка велосипеда, но не разъяли губы. Их взгляды встретились, Бобино понимающе улыбнулся влюбленным, и парочка принялась лобызаться с еще большим увлечением, как люди, которые для того и поехали кататься и кому незачем зря терять время.
Они веселым хохотом приветствовали велосипедиста, а он, нажав на педали, поскорее проехал вперед. Через двадцать минут Жан Робер прибыл к рыбаку Могену.
Супруги как раз садились за стол есть чудесный матлот, его так хорошо умела готовить жена Могена, что традиционное блюдо никогда не надоедало мужу.
— Здравствуйте, месье и мадам, — сказал Бобино, входя и ведя за собой велосипед.
— Здравствуйте, месье, — ответили супруги, подняв вилки и глядя на пришедшего удивленными глазами.
— Вы меня не узнаете?
— Честное слово, нет.
— Я вас тоже не узнаю́, — сказал Бобино, прислоняя велосипед к стене. — Но это ничего не значит, потому что я вас люблю как своих отца и мать.
Хозяева совсем опешили.
— Да, как моих родителей, потому что вам я обязан жизнью. Я тот, кого вы выловили из реки в одиннадцать часов вечера в прошлом месяце и кого своими стараниями мадам Моген привела в чувство и выходила. Я друг Жермены и также друг князя Березова, о чем говорю вам не без гордости.
Супруги вскочили и начали его обнимать и целовать, восклицая:
— Милое наше дитя, мы так рады тебя видеть!.. Садитесь с нами, ешьте, пейте! Будьте как у себя дома!
Обрадованный такой сердечной встречей, Бобино расчувствовался до слез, как бывает с людьми, никогда не видавшими родителей, когда они встречают столь сердечное гостеприимство. Он сел за стол, не зная с чего начать разговор, он, парижанин, который, кажется, никогда не лез за словом в карман.
Мадам Моген закидала его вопросами с такой поспешностью, что слова летели у нее изо рта одно через другое, путаясь между собой.
— А там как идут дела? Князь нам писал… Какой хороший человек, совсем не гордый, такой же простой, как мы с вами… Он зовет нас друзьями… присылает всякие вещи… совсем новую лодку… такие снасти, что прямо не знаешь, куда их положить! Правду я говорю, Моген?
— Такие подарки, что я до сих пор в изумлении.
— И всякие драгоценности… часы, ожерелья, браслеты… для моих толстых рук… Я никогда не решусь надеть все это золото и украшения… Но скажи, сынок… мадемуазель Жермена… как она?..
Бобино наконец смог прорваться сквозь поток восторженных слов.
— Она поправилась. Очень сильно болела. Князь несколько раз думал, что бедняжка вот-вот умрет. Но слава Богу, всё обошлось.
— Вот и хорошо! Мы так рады, так рады! Как будто она — наше родное дитя.
— Жермена, князь Мишель и я, мы все — ваши искренние друзья.
— Видишь, наши чувства взаимны, сынок. Но скажи нам, какому счастливому случаю мы обязаны твоим сегодняшним посещением?
— Прежде всего мне хотелось высказать вам свою горячую благодарность. Вы меня спасли!.. Я по гроб жизни буду вам признателен!
Глубоко тронутые, рыбак и его жена крепко пожали руки юноши.
— А еще, возможно, что мне придется просить вас о помощи в одном очень сложном деле, страшном деле, оно касается князя, Жермены, ее сестер и меня.
— Будем рады помочь вам.
— Спасибо вам от всего сердца! Но прежде, чтобы вы знали, о какой помощи я буду просить, надо рассказать все, что мне известно об этой жестокой истории. Князь просил об этом, так что, пожалуйста, выслушайте.
И парижанин, успевший хорошо подкрепиться за гостеприимным столом, поведал как мог все, что произошло с того дня, когда он, совершенно бессильный и безоружный, наблюдал, как похищали Жермену.
Когда он сказал рыбакам, что приехал выручать сестер Жермены, Моген ответил:
— Возможно, что они их спрятали в каком-нибудь закоулке этого проклятого бандитского притона. Может быть, и где-нибудь в другом месте. Это трудно узнать. Во всяком случае, мы будем делать все, что в наших силах. Правильно я сказал, мать?
— Правильно, муженек!
— Сделаем все, что сможем, немного, наверное, потому что нас недолюбливают в том доме.
— Раз там торгуют вином, у меня есть все основания туда войти, — сказал Бобино. — Наверное, туда шляется одна шпана.
— Да нет, заглядывают и хорошие парни, они работяги, но им постоянно хочется выпить из-за тяжелой работы — обжигают известь, от которой у них всегда горит внутри. Мы пойдем вместе, как будто ты рыбак-любитель, которого я учу. К вам отнесутся с доверием, если вы приедете с человеком из здешних мест, и нам, может быть, удастся разговориться с кем-нибудь из посетителей.
В этот момент экипаж с двумя влюбленными, обогнавший Бобино на дороге между Аржантейлем и ля Фретт, подъехал к дому рыбака и как будто собрался остановиться.
Сидевшая в повозке женщина выглянула из дверцы и сказала кучеру несколько вульгарным голосом:
— Кати дальше!
Она увидала Могена, помахала ему ручкой и снова откинулась на сиденье.
— Красивая девка! — оценивающе заметил Бобино. — Я видел, как она по дороге целовалась со своим любезным.
— Красивая… Но гулящая! — ответил Моген. — Ее мать — мамаша Башю, жена Лишамора. Мерзавка, продавшая дочь старым богачам, которые ее развратили, когда ей было двенадцать или тринадцать лет… Так-то вот… Теперь девица, кажется, живет в роскоши… кокотка высокого полета… Похоже, она здорово мстит за себя… разоряет дураков, бьет их по морде, наставляет им рога… в общем, радостно видеть! Там ее зовут Андреа Рыжая.
— Слышал это имя, — заметил Бобино. — Что касается ее спутника, он мне показался… — И парень сделал выразительный жест, как будто приглаживая завитки на висках[47].
— Вы угадали, — смеясь ответил Моген. — Он иногда появляется здесь вместе с Андреа, когда она приезжает в кабачок Лишамора, чтобы позлить маменьку. Его зовут Альфред, красавчик Альфред. Ему дали здесь прозвище Брадесанду, потому что малый любит выпить на дармовщинку.
— Давайте пойдем сегодня вечерком в это милое общество, отец.
— Пойдем, если нужно.
ГЛАВА 22
В экипаже действительно были возлюбленная разорившегося барона Мальтаверна и ее сердечный друг букмекер Петер Фог, более известный под именем Брадесанду.
После вечера, где ее появление имело такой шумный успех, Андреа не захотела возвращаться домой. Она была перевозбуждена большим количеством выпитого шампанского, и ее потянуло прогуляться куда-нибудь за город. Поехать далеко-далеко… чтобы вырваться из Парижа, повидать поля, деревья, проселочные дороги; удрать подальше от уличного шума и от людей так называемого шикарного общества. Она сказала о своем желании красавчику Альфреду и, поскольку в этот день на ипподроме не было никаких спортивных соревнований, он охотно согласился сопровождать подружку.
Они позавтракали в ресторанчике, наняли двухместную легкую карету и решили проехаться к родителям Андреа.
О! В этом не было ничего сентиментального. Даже простыми родственными чувствами нельзя было бы объяснить этот вояж[48] к поэтическим берегам Сены, где Морис Вандоль нашел мотив одной из лучших своих картин.
Скорее всего Андреа повлекло туда чувство, подобное тому, что заставляет перелетных птиц возвращаться каждый год издалека к своему гнезду.
С Рыжей плохо обращался отчим, родная мать торговала ею, но она любила уголок, где родилась и росла, как будто встречаясь там со своим ранним, еще неисковерканным детством. Еще по дороге даже пустяки напоминали ей о тех счастливых днях детства и многие обычные уголки казались красивыми, а зимний холод несказанно приятным.
Они доехали до заржавленной решетки, возле нее огромные собаки чуть не разорвали Жермену.
Альфред вышел первым, подал руку спутнице, и, разодетая как на бал, она явилась в грязный кабак, темный от копоти, провонявший испарениями алкоголя и заплеванный курящими и жующими табак.
Старикашка с лицом, которое хотелось назвать мордой, багровый от неумеренного потребления спиртного, сидел за прилавком цвета винного осадка или засохшей крови, тупо помаргивая глазами в мелких красных прожилках, то и дело вытирая слюнявый рот и щеки, заросшие полуседой щетиной, дрожащими от пьянства руками, неожиданно белыми и довольно ухоженными.
Хмельной клиент рассчитывался с хозяином, причиталось пятнадцать су. Выпивоха сказал:
— Денег нет ни сантима, запиши на доску, старина Лишамор, дня через два получка, тогда расплачусь.
— Как хочешь, Горжю, ты всегда аккуратно платишь, я тебе верю.
Лишамор мелком на доске вывел сумму и фамилию греческими буквами! И все прочие записи были на том же языке, от тех, кто не имел университетского образования, какого удостоился Лишамор, это было надежно зашифровано.
— Вот неожиданность!.. Андреа… — проговорил кабатчик пропитым голосом.
— Здравствуй, Лиш! — ответила красавица.
Видя, что она без отвращения подставляет ему тугие соблазнительные щеки, старый пьяница дважды со смаком их поцеловал, потом с игривой улыбочкой подмигнул красавчику Альфреду и пожал ему руку. Владелец заведения был рад неожиданному появлению таких гостей, оно произвело должное впечатление на тридцать или сорок пропойц, сидевших за столами.
Андреа заговорила на языке своего детства:
— Как дела, старик? Где мать?
— Кормит малюток.
— Каких еще малюток?
Лишамор моментально прикусил язык, поняв, что проболтался.
— Я спрашиваю, что за малютки? — повторила Андреа. Ей бы и в голову не пришло настаивать, если бы Лишамор не замолчал, вместо того чтобы сразу ответить.
— Козочек… Хорошеньких беленьких козляточек… Она их поит из соски.
— Ну и прекрасно, ты почему-то вечно из всего делаешь секреты.
Минуты через две-три пришла мамаша Башю с корзинкой, где лежали глиняный горшок и две тарелки. Увидав дочь, она шумно залотошила:
— Наконец-то ты приехала, моя рыженькая, моя дорогая!.. Так долго не навещала мамочку!..
— И не приносила ей денежек… хочешь сказать, старая выжига. Нечего нежничать…
— Бог мой! Что такое?.. Какую сцену ты собираешься мне устроить?!
— Никакой! Приготовь-ка нам матлот, да поживей.
— Мигом, мигом, моя девочка, сейчас пошлю старика к рыбаку Могену.
— А вот и он сам идет с каким-то типом, который обогнал нас по дороге на велосипеде. Да, скажи-ка, мам, а где твоя соска?
— Какая соска?
— Да та, из какой ты поишь маленьких белых козочек…
Тут в зал вошли Моген и Бобино. Их удивило, как Лишамор старается заставить Андреа замолчать и одновременно подает знаки жене, чтобы та не отвечала дочери.
Андреа нарочно, наперекор Лишамору, продолжала спрашивать.
— Старик Лиш сказал, что ты кормила из соски маленьких козочек, а ты как будто ничего не понимаешь. У тебя в корзине горшок, две тарелки. Что же, здесь теперь кормят скотину с вилок?
Моген, услышав это, многозначительно посмотрел в глаза Бобино, и тот еле сдерживал волнение. Они сели за столик, делая вид, что разговор этот вроде пустой и их никак не касается, но у обоих сердце так и билось, каждому одновременно подумалось, что они напали на след.
Мамаша Башю увильнула от ответа дочери, благо был повод: заговорила с Могеном насчет рыбы для матлота.
— Удачное совпадение. Я как раз подъехал к вам с товарищем на лодке, и у нас там навалом еще живых щук, карпов и угрей. Я отберу для вас самых лучших, мадам Башю, и лишнего не запрошу.
Андреа знала рыбака с детства, у нее связывались с ним лучшие воспоминания. Когда она была маленькой, Моген часто брал ее в лодку и при ней вытягивал сети и верши, из них вываливалось множество трепещущих рыбин. Ловля рыбы ее очень занимала.
Она подошла поздороваться, пожала руку, улыбнулась Бобино и сказала Лишамору, чтобы он поставил им выпить.
Чокнулись, приветствуя друг друга, потом Моген отдал долг вежливости и в свою очередь угостил. Выпили еще по одной: Брадесанду, увидав, что Бобино не собирается ухаживать за его подружкой, перестал смотреть на него косо.
Сходив к лодке, Моген принес мамаше Башю сетку рыбы. Ее было столько, что хватило бы накормить десять человек, и вся отборная; все присутствующие пришли в восхищение, и мамаша Башю, может быть впервые, не стала спорить о цене и сделала комплимент, сказав, что месье Моген никогда не просил лишнего.
Андреа, любившая посидеть в славной компании, пригласила Могена к обеду, она знала его веселый нрав. Не забыла Рыжая и Бобино, улыбкой и остроумными словечками он ей очень понравился.
Старуха Башю, умевшая великолепно готовить, сделала такой матлот, что от его запаха даже у моряков, избалованных рыбными блюдами, разгорелся аппетит.
Уселись в углу питейного зала, сдвинув несколько столиков. Места и еды хватало человек на двенадцать, и, чтобы добро не пропало, Лишамор вежливо позвал еще нескольких клиентов кабака, самых избранных негодяев, от которых попахивало каторгой. Они не заставили долго упрашивать.
Андреа пришла в восторг, изображая хозяйку дома и чувствуя себя свободно в обстановке грязного кабака, где особенно ослепительно выглядела ее блистательная красота. Она была добрая девка и ничуть не важничала, обходилась со всеми просто, даже чрезмерно просто и была щедра до расточительности. Звала Брадесанду — мой муженек, Могена — мой старик, а Бобино — мой маленький; дружески разговаривала с приглашенными, смотревшими на нее как на существо высшей породы. Ела она с прекрасным аппетитом, не испорченным зваными ужинами, пила вовсю и веселела все больше и больше. Понемножку Рыжая разнежничалась, как бывает с простыми людьми после основательной выпивки, и принялась говорить о птичках, о цветочках, о бабочках, отдавшись сусальным восторгам жительницы городских предместий.
Лишамор напивался старательно. Его лицо и нос стали красными как рубин, глаза окончательно налились кровью. Ему вспомнились обрывки его педагогических знаний, он произносил слова, ученость коих повергала всех в изумление, руки перестали дрожать, язык не заплетался; в общем, он превращался в странное существо, еще более страшное и отвратительное, чем просто пьяный содержатель грязного кабака, ибо в нем проявлялись черты некогда высокообразованного, а теперь совершенно опустившегося человека.
Мамаша Башю вся раскисала, по мере того как накачивалась вином, глаза ее то и дело смежались, и, поднося ложку к усатому рту, она обливалась соусом.
Все говорили враз и уже переставали слушать и понимать друг друга.
Брадесанду, обладавший красивым голосом, предложил спеть и завел нечто патриотическое. Ему дружно аплодировали.
Андреа, делавшаяся все более и более сентиментальной, с надрывом, покачивая в такт головой, пролепетала куплет какой-то до невозможности глупенькой песенки, и пьяницы слушали, раскрыв рты и роняя слезы. Песенка называлась «Гнездо маленькой птички», и бандюги, которым не раз приходилось спокойно пырнуть ножом своего ближнего, плакали о птенчике, унесенном из гнезда кошкой, о горе несчастных пташек-родителей. Припев начинался так: «Оставьте детей их матери…»
Эти слова подхватывали хором, и мамаша Башю, басистый голос которой ревел словно офиклейд[49], плакала как Магдалина о родителях, нашедших в опустевшем гнезде только несколько перышек.
Андреа, гораздо менее пьяная, чем изображала, украдкой наблюдала за старухой и думала под аплодисменты, последовавшие за песней: «И эта отвратительная старая негодяйка продала меня — свою дочь!.. Она, видите ли, способна расчувствоваться!.. А мне совсем не хотелось блудить! Я мечтала со временем выйти замуж за хорошего работящего парня, я любила бы его и нарожала кучу маленьких. Но я была мила… слишком мила, наверное… и Лишамор, бывший богатый человек, мой отчим, попытался меня развратить, но потом решил, что лучше и выгодней нажиться на моей хорошенькой мордочке!..»
Теперь Бобино отчебучивал что-то смешное, но песенка его не рассеяла тяжелых мыслей женщины, предавшейся горьким воспоминаниям.
Она думала: «Я уверена, что мои, с позволения сказать, родители опять замышляют какое-то грязное дело. Старуха замялась, когда я спросила про маленьких козочек. Что еще за козочки, питающиеся из соски? Кто знает! Может быть, какие-то несчастные девочки, которых готовят для прихоти развратного аристократа…»
Вечеринка закончилась вполне мирно, все разошлись с пожеланиями в скором времени встретиться еще раз.
Бобино и Моген вернулись домой за полночь, довольные тем, что так легко проникли в центр событий. Они на все лады истолковывали темные словечки, вырвавшиеся у двух пьяниц-хозяев. Бобино был почти убежден, что «маленькие» — это Берта и Мария… Веришь всегда тому, чему хочется верить.
Моген тоже надеялся, что их ждет удача. Он всей душой включился в происшествие: старик всегда стремился помочь находящемуся в беде и был готов идти на любое действие ради этого.
Андреа отважно продолжала пить в компании отчима.
Мамаша Башю уже давно совсем осоловела и храпела в закоулочке, а дочь зорко наблюдала за ней, желая во что бы то ни стало проникнуть в затеянную здесь махинацию.
Едва забрезжил свет, Андреа встала из-за стола, как следует ополоснула лицо холодной водой и, почувствовав себя совершенно освеженной, решила: «Вместо того чтобы возвращаться в Париж, останусь здесь и все выслежу… Мне не доверяют, и потому я еще сильнее хочу знать, что же они скрывают».
ГЛАВА 23
В то время, когда в кабаке Лишамора все, кроме Андреа, были погружены в сон после ночной гульбы, две хорошенькие девушки, почти еще дети, сидя в глубоком подземелье, горько плакали и по временам вскрикивали в испуге.
Огромный подвал с очень высокими сводами, подпертыми толстыми столбами, ряды которых терялись в отдалении, был, вероятно, заброшенной каменоломней. Местами через узкие пробоины днем сюда проникал жалкий свет. Стены источали сырость, а с потолка падали холодные капли, монотонно шлепаясь в лужи.
Одну из неглубоких ниш занимало нечто вроде убогого жилища: кое-как сколоченный топчан, на нем солома, тоненький матрасик и два одеяла; рядом две табуретки и глиняная ночная посуда. Горела свеча. Вот и все.
Даже сильному духом взрослому человеку было бы тяжело здесь находиться. А совсем юные девушки в постоянном страхе, возраставшем с каждым днем, пребывали тут уже вторую неделю.
Чисто одетые и хорошенькие, несмотря на запуганное выражение лиц, они сидели на краю постели обнявшись.
— Берта! — иногда вскрикивала меньшая. — Берта!.. Там… Еще одна… Она бежит к нам… Я вижу ее глаза, гляди… Там…
— Мария! Миленькая моя!.. Умоляю!.. Не пугайся так… Будь мужественнее!
— Мне страшно! Я никогда не смогу…
— Мне ведь тоже страшно… О, Боже мой!
Бедняжки вскакивали и бежали в полумраке по лужам, но, испугавшись тьмы, возвращались на прежнее место.
Огромные крысы вылезали изо всех щелей, жадные и смелые, они бегали по нищенской постели, искали остатки пищи и грызли их рядом с девочками.
И более смелому человеку было бы тяжко переносить постоянное соприкосновение с отвратительными животными, так что легко понять, в каком неодолимом ужасе пребывали молоденькие сестры. Они горячо молили Бога о помощи, но спасение не приходило.
Время тянулось невероятно долго… О наступлении ночи они узнавали по тому, что исчезали последние отблески света, проникавшие через щели в стенах.
Сальная свеча сгорала быстро — огарок тут же пожирали крысы — наступала полная тьма, и девушки уже не могли спасаться от прикосновений отвратительных животных, что бегали прямо по ним и иногда кусали их.
Когда настало утро, к обычным мучениям добавилось еще испытание голодом. Отвратительная женщина обычно приносила им пищу дважды в день, рано утром и вечером, когда начинало темнеть.
Старуха уже давно должна была бы прийти, но ее все еще не было. Крысы, не получая пищи, которую им давали девушки, хоть на короткое время как бы откупаясь, становились все нахальнее, и бедняжкам еле удавалось их отгонять.
Чтобы заглушить пустоту в желудке, узницы попили воды и снова в тревоге стали ждать.
Может быть, их решили уморить голодом?
За что такие несчастья выпали на долю сирот, у которых умерла мать, исчезла старшая сестра, и они, покинутые всеми, почти погибают в подземелье?
Кто подумает о них? Кто встревожится оттого, что они пропали?
Если бы они принадлежали к правящему классу, к семье богачей, какой бы шум подняли политические деятели, всполошилась бы пресса, была бы поднята на ноги полиция.
Но ведь пропали всего-навсего две девушки из народа, из того самого народа, что поставляет трудовые руки, пушечное мясо и плоть для наслаждений.
Кто думает о солдате, упавшем ничком за кустом?
Кто подумает о двух девчоночках, уехавших из дома восемь дней назад и не вернувшихся?
Послышался астматический кашель, затем хрипящее дыхание и звук ключа, поворачиваемого в замке. Дверь медленно открылась, скрежеща заржавленными петлями, и показалась расплывшаяся туша, одетая в юбку, покрытую жирными пятнами.
Мамаша Башю, еле очухавшаяся ото сна после большой выпивки, еще более отвратительная, чем всегда, предстала перед пленницами, кашляя, отплевываясь и произнося всякие угрозы и ругательства, вооруженная острым кухонным ножом на случай, если девушки попытаются силой вырваться из подвала.
Она об этом предупредила их с первого же дня: «Кошечки мои, если попробуете сбежать, я вас прирежу как цыплят, а мой муженек привяжет камни к ногам и бросит вас в Сену. Так и знайте!»
Берта и Мария вполне верили и не пытались бежать.
Но в этот день их терпение оказалось на пределе, они думали: лучше смерть, чем такая жизнь, и надо постараться вырваться из этого ада. Сестры готовились броситься на Башю, не обращая внимания на ее нож, скрутить негодяйку и бежать куда Бог выведет, как вдруг увидели в проеме двери прекрасную даму, смотревшую на них с бесконечным состраданием.
Первым их побуждением было кинуться к незнакомке, умоляя о помощи, но та из-за спины ведьмы сделала выразительный знак, чтобы они молчали, и поспешно отодвинулась в сторону.
Дама успела сделать это вовремя, потому что Башю обернулась, заметив, как девочки на что-то смотрят и выражение их лиц меняется.
Старуха проворчала:
— Чудно́, как будто кто-то есть сзади меня. Да и мне померещилось вроде. Пили целую ночь, голова совсем в тумане, все время что-то кажется. — И тетка, поскорее поставив около постели еду, пошла к дверям; ей повсюду мерещились странные образы, как бывает после перепоя. Захлопнув за собой дверь, она повернула в замке ключ на два оборота.
Взволнованные видением, сестры бросились в объятия друг к другу.
— Ты видела, Мария?..
— Да!.. Прекрасную даму!..
— Значит, и ты… А я думала, мне почудилось…
— Как она красива!
— И какое у нее доброе лицо!
— Она подала нам знак…
— Она вернется!.. Как хочется снова ее увидеть!.. Говорить с ней… Просить освободить нас.
— Но дверь заперта, и она очень крепкая.
— Мне кажется, что дама найдет способ проникнуть сюда.
— Да! Ведь она пришла ради нас, если спряталась, чтобы старуха не увидала.
Девочки принялись за еду, полные надежды на чудесную помощь неизвестной, чутко прислушиваясь и вздрагивая при малейшем звуке.
Наконец свершилось! Дверь отворилась, и в проеме как сверхъестественное видение явилась прекрасная дама.
— Вот она! — воскликнула Берта.
— Не снится ли это нам…
— Нет, мои девочки, не снится! — ответил приятный голос. — Объясните, мои милые, кто вы и почему вас здесь заперли? Ответь ты, старшая, но сначала скажите, как вас зовут.
— Меня зовут Берта Роллен, а это моя сестра Мария.
«Здесь в окру́ге нет никого с такой фамилией», — подумала Андреа.
— Продолжай, милая.
— Месяц назад исчезла наша старшая сестра Жермена, на другой день после этого попала под колеса фургона мама… Ей раздробило ноги… Их ампутировали в госпитале… И она умерла.
Рыдания, вызванные тяжелым воспоминанием, заставили Берту замолчать, Мария тоже заплакала.
Сердце Андреа было глубоко тронуто печальным рассказом, у нее потекли слезы.
Положив руки на плечи девочек, чтобы ободрить их, она спросила:
— А после что было?
— После мы одни жили дома и ждали Жермену. Она не возвращалась, а к нам приехал старый священник и объявил, что наша сестричка в деревне, где поправляется после болезни и хочет нас повидать. Сказал, что может нас к ней отвезти, и мы доверились одежде кюре, его благодушному виду, поехали. Он привез нас в дом на берегу реки, где нас накормили, а потом мы уснули и очнулись в этом подвале.
— И давно это случилось?
— Восемь дней тому назад, мадам, — сказала Мария.
Андреа слушала, и вместе с глубокой жалостью к девочкам в ней зрели возмущение и злоба против мерзавцев. Да, мерзавец Лишамор и негодяйка Башю способны на любые подлости. Ради кого они действовали? Может быть, опять в интересах старого распутника Мондье!.. Я ничего не смогу сделать для этих несчастных… Граф видит все… Знает все… Он все может. Он убьет меня без всякой жалости…
Ее молчание сначала удивило сестер, потом напугало; они подумали: наверное, незнакомка ничего не может сделать, чтобы нас спасти.
Андреа долго смотрела на них. Взгляд ее был так нежен, будто она вкладывала в него все тепло души. «Прекрасная дама» думала: «Из этих милых созданий сделают гулящих девок, как сделали из меня… Они такие хорошенькие… Но этому не бывать!.. Если даже меня убьют…»
Девушки, ободренные ласковостью взгляда, сжали ее руки, умоляя:
— О мадам, вы поможете нам выбраться отсюда?! Ведь мы умрем здесь!.. Мы никому не сделали зла…
— Да, я уведу вас отсюда. К сожалению, у меня нет другой власти, кроме силы моего желания. И если там наверху есть сообщники здешних негодяев — мы пропали. Но я все-таки попытаюсь найти какой-нибудь способ… В кабак к этим мерзавцам заходят и порядочные работяги, они защитят нас. Пошли! Следуйте за мной — и чтобы бесшумно.
— Мадам! — остановила ее Берта. — Одно слово, одно только слово. Я догадываюсь, что вы подвергаете себя большой опасности ради нас… Скажите ваше имя, чтобы мы знали, кого благословлять каждый день за благодеяние.
— Может быть, опасность для меня даже больше, чем ты думаешь. Позднее ты это поймешь. А мое имя… Ты хочешь знать его?
— Да, мадам, и сестра тоже.
— Я не могу им гордиться, право. Меня зовут Андреа, а в кругу, который тебе не должен быть знаком, — Андреа Рыжая.
Красавица помолчала немного, потом добавила:
— Вы, наверное, подумаете, что я не заслуживаю такого презрительного прозвища, раз я способна делать добро несчастным. Нет, я кличку получила не зря, но только от людей, глубоко мною презираемых… А теперь пошли!
Лишамор и старуха Башю своим шушуканьем и неловкими хитростями разожгли любопытство и подозрительность Андреа до такой степени, что ей захотелось любой ценой проникнуть в их тайну.
Когда все повалились после многочасового пьянства, она только притворилась спящей и проследила, как старуха, еле очухавшись, пошла за провизией к подвалу. Прокравшись следом за ней, дочь видела, что мать спустилась затем ко входу в старую каменоломню.
Ребенком Андреа играла там в прятки, поэтому смогла без труда проследовать за старухой до того места, где, как оказалось, были спрятаны девушки.
Когда через приоткрытую дверь Рыжая увидала молоденьких, трогательных, хорошеньких девочек, ее охватила неистовая злоба против мерзавцев, похитивших несчастных. Она тут же решила непременно спасти их. Тогда-то она и подала знак, чтобы девочки не показали виду, что заметили ее. Те, кажется, поняли.
Андреа очень ловко уложила камешек под низ двери, и, когда старуха, уходя, закрывала ее и повернула ключ, она не заметила, что дверь затворилась не совсем плотно и язычок замка не вошел в паз. Идя по лестнице, Башю ворчала:
— Они опять на запоре… А этой стерве, моей дочери, хотелось сунуть нос в наши дела, она что-то заподозрила…
Андреа слышала эти слова и думала: «Не будь ты мне матерью, я бы сейчас тебе такое устроила! Но хоть ты и мразь последняя и никому ничего, кроме зла, не делала и мною торговала, ты все-таки моя мать, и я не могу… Ну все равно!.. Хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним».
Не желая ничем рисковать, Андреа поднялась вслед за матерью, убедилась что та ничего не заметила, посмотрела, что делается в кабаке.
Там собрались четверо или пятеро. Лишамор спал, старуха принялась готовить завтрак.
За столиками уже сидели Бобино и Моген, как люди, жаждавшие опохмелиться после вчерашней выпивки.
Андреа подумала, что они помогут, если понадобится защитить бедняжек.
И она пошла за Бертой и Марией, совершенно не зная о том, какое участие уже принимает в их судьбе Бобино.
Пока Андреа спускалась за девочками и вела их к кабаку, прошло минут пятнадцать.
Первым, кого увидела Берта, входя в питейный зал, был Бобино, сидевший за столиком перед глиняной кружкой с вином.
Совершенно обезумев, девочка бросилась к старшему другу, восклицая:
— Жан!.. Это я, Берта… Это Мария со мной…
Бобино вскочил, как будто мина разорвалась под его стулом.
— Берта! Друг мой… Дорогая моя…
— А Жермена? — перебила она.
— Спасена… Все хорошо… пошли со мной.
— Да, благодарю, мой друг, но прежде мы должны поблагодарить мадам, она была так добра и выручила нас…
Андреа, радуясь, что сделала доброе дело, подошла, счастливо улыбаясь.
— Хорошо, мои детки, хорошо… мы еще увидимся, а сейчас скорее уходите с вашим другом, нужно торопиться.
— Надо, чтобы я дал им разрешение, — послышался грубый голос из-за спины пораженной Андреа.
Она обернулась и воскликнула в ужасе:
— Бамбош! Это ты, мерзавец!
— Хорошими делами ты занимаешься, милая моя!.. Хозяин будет очень доволен!.. Но я не дал бы и двух су за твою голову, хоть она и очень красива.
Бамбош, придя в отсутствие Андреа, сидел за столиком с Брадесанду; он подозревал, что Рыжая узнала, где спрятаны сестры Жермены, и занята их освобождением. Он выпивал, играя в карты с дружком, и встал в тот момент, когда Бобино встретился с Бертой и они благодарили Андреа.
Бобино и Моген старались поскорее увести девушек, предвидя, что сейчас начнется заваруха.
Они уже были у выхода, когда Бамбош закричал:
— Ко мне, Брадесанду!.. Ко мне… Это приказ…
Два негодяя бросились к двери, и Бамбош, вытаскивая из кармана длинный нож, крикнул:
— Дурачье, я пущу вам кровь, если вы не оставите девчонок!
— Мы еще посмотрим!.. — сказали Бобино и Моген, решительно заслоняя Берту и Марию.
ГЛАВА 24
Ги де Мальтаверн, уговорив швейцара пропустить его, пересек двор, намереваясь войти в пышные покои князя Березова.
На его звонок к двери спустился Владислав, чтобы спровадить посетителя, нарушившего запрет.
Но Ги был не из тех, кто повинуется прислуге. К тому же у него был свой план, он как раз и рассчитывал воспользоваться запретами подчиненных, чтобы вызвать князя на дуэль.
Владислав очень вежливо, но решительно сказал, что князь никого не принимает и настаивать бесполезно.
Ги, напротив, принялся действовать все решительнее, говоря, что уважаемый… э-э… уважаемое доверенное лицо доставит хозяину большие неприятности своим отказом пропустить к нему.
— Его сиятельство велели никого не допускать, — настойчиво повторял слуга очень мягким тоном славянина, но тем не менее с определенной решительностью.
— Может быть, он нездоров? — спросил барон. — Я не утомлю князя долгим визитом.
— Нет, сударь, он здоров, но занят очень серьезным делом.
— Во всяком случае, надеюсь, у него найдутся несколько минут, чтобы получить деньги, которые я ему должен, десять тысяч франков.
— Вы можете, господин барон, передать их его сиятельству через мое посредство.
— Не могу, ваш господин вправе счесть такой поступок невежливым, и будет трудно возразить.
— И все-таки, господин…
— Друг мой, пойми меня правильно, ты же не хочешь, чтобы князь был оскорблен.
— Разумеется, не хочу.
— Так вот, ты оскорбишь князя таким поступком и заставишь также меня оскорбить его.
В общем, он так запутал своими словами Владислава, что тот его пропустил. Барон пошел через холл как человек, хорошо знающий дом. Выездной лакей ограничился лишь тем, что нажал звонок, предупреждая камердинера о посетителе, и Мальтаверн свободно ступил во внутренние апартаменты, сказав встретившему его слуге:
— Доложите его сиятельству о моем приходе, князь ждет меня.
Слуга открыл последнюю дверь и объявил:
— Господин барон де Мальтаверн!
Мишель Березов слышал все звонки, понял, что его запрет на посещение нарушен, и был совершенно взбешен. Как раз на это и рассчитывал барон, проявляя настойчивость.
— Дорогой мой! К вам, оказывается, очень трудно проникнуть, — сказал он без всяких предисловий.
— Я об этом хорошо знаю, поскольку сам отдал категорическое распоряжение никого не принимать.
— Даже близких друзей… Таких как я… кто всегда имел к вам свободный доступ!
— Да!
— Распоряжение касается и лично меня?
— Дорогой Ги, вы становитесь нескромным! — сказал князь спокойным тоном, но при этом даже губы его побелели.
— Ваши слова довольно невежливы, дорогой.
— А нескромных я беру за какую-нибудь часть их особы и…
При этих словах князь схватил барона за кисть руки, повернул его, подвел к лестнице и добавил:
— Я все еще поступаю с вами как с другом, иначе я спустил бы вас с лестницы. Надеюсь, вы сойдете с нее сами.
— Князь Березов, вы ответите мне за оскорбление, которого я никак не заслужил своим поведением.
— Убирайтесь, или я вас сейчас убью! — закричал Мишель совершенно вне себя.
— Осторожнее, князь, осторожнее! — насмешливо произнес Ги, — вы забываете, что мы живем во Франции и принадлежим к одному кругу людей. Так вы можете обращаться только с вашими слугами… Через два часа я пришлю к вам секундантов, они переговорят с вашими, и мы встретимся в другом месте.
— Черт подери! Где хотите, когда хотите и с каким угодно оружием, а пока убирайтесь вон!
Добившись своего, Ги насмешливо поклонился и сказал со злобной усмешкой:
— До скорой приятной встречи!
Князь не ответил и пошел к Жермене, заставив себя улыбаться, чтобы у нее не возникло и тени тревоги.
Жермена, ничего не заподозрив, как обычно ласково встретила его.
В это время барон, спускаясь по лестнице, думал: «Он забыл о десяти тысячах франков!.. Он будет со мной драться, я убью его и получу еще столько же. Выгодное дельце!»
Князь, со своей стороны, думал: «Теперь мне придется драться. Месяц тому назад это меня позабавило бы… Может быть, я даже позволил бы ему убить меня… Но теперь я должен жить, я горячо, страстно люблю самую красивую, самую честную и самую совершенную из женщин. Я буду защищаться! Необходимо скрыть от Жермены все и позаботиться об обеспечении ее жизни на случай, если произойдет несчастье».
Князь пошел в свои комнаты и позвал к себе Владислава.
Дворецкий хотел объяснить хозяину, как все произошло, и попросить прощения, но тот остановил его, сказав:
— Незачем толковать об этом… Произошло, что должно было произойти. Завтра после полудня я, вероятно, буду драться с бароном на дуэли.
— Господи! Это я во всем виноват.
— Молчи и не перебивай меня. Ты поедешь сейчас к Морису Вандолю и привезешь его сюда.
— Это все? Барин…
— Это все, но привези его непременно.
По счастью, Морис Вандоль оказался у себя. Он тут же приехал к другу, и тот сразу ему объяснил:
— У меня вышла дурацкая история с этим кретином Мальтаверном, и я рассчитываю иметь тебя своим секундантом.
— И правильно делаешь, — сказал Морис, крепко пожимая руку. — А кто будет вторым секундантом?
— Мой соотечественник, атташе при посольстве, которого ты наверняка встречал у меня, Серж Роксиков.
— Отлично. А условия дуэли?
— Я оскорбил барона, и право предлагать условия — за ним. Я приму все, что он предложит.
— Значит, дело серьезное?
— Пустяк. Ги ворвался ко мне, несмотря на запрет, и я выпроводил его не совсем вежливо.
— И это все?
— Все! Тебе понятно — я хочу, чтобы Жермену не тревожили. Ее здоровью необходимо спокойствие. Нельзя, чтобы ко мне как прежде заявлялись кому вздумается и в любое время дня и ночи, отчего мой дом превращался в проходной двор… Кстати, для тебя исключение: хочешь повидать мою дорогую больную?
— Благодарю, но только не сегодня. Я должен поскорее встретиться с твоим вторым секундантом.
— Ты прав, ступай, и спасибо тебе от всего сердца, мой друг!
Не прошло и двух часов, как лакей подал князю на подносе две визитные карточки: на одной стояло имя виконта де Франкорвиля, на другой — маркиза де Бежена.
(Ввиду сложившихся обстоятельств князь отменил приказ никого не пропускать.)
Мишель тут же принял двух хлыщей, явившихся с серьезными, подобающими случаю выражениями лиц.
Князь приветствовал их со слегка надменной вежливостью и сказал:
— Господа, догадываюсь о цели вашего визита. Ведь вы прибыли по поручению барона де Мальтаверна?
— Да, князь, — ответил псевдомаркиз. — Наш друг поручил просить у вас сатисфакции[50] в связи с печальной неприятностью, произошедшей между вами.
— Действительно весьма печальной, по крайней мере, в том, что касается меня… — заметил Мишель.
— Этими словами вы подтверждаете согласие на дуэль? — с поспешностью спросил маркиз де Бежен.
Князь добавил:
— Я предоставил все полномочия моим друзьям, господам Морису Вандолю и Сержу Роксикову. Господин Роксиков живет при Русском посольстве на улице Гренобль, семьдесят девять, и вы сейчас застанете его у себя вместе с господином Вандолем. Желаю успеха.
Франкорвиль и Бежен поднялись и, церемонно откланявшись, с важностью удалились.
Когда они уселись в экипаж, торжественное выражение слетело с их лиц.
— Ты видел, как этот северный медведь себя держал? — сказал Бежен.
— Посмотрим, что получится у него. Он вроде неважно стреляет.
— Тогда Ги собьет с него спесь!
— И хорошо сделает! Я буду очень рад, когда один из этих иностранцев, кичащихся своим богатством, знатностью и успехом у женщин, получит хороший урок.
Встреча в Русском посольстве заняла не более пяти минут. Секунданты расстались, договорившись об условиях дуэли.
Художник и секретарь посольства отправились к Березову.
— Так вы договорились? — спросил Мишель.
— Да. Встречаетесь завтра в три часа в Багателль, — ответил Морис.
— Очень хорошо.
— Деретесь на шпагах.
— Правильно! Чуть не забыл спросить тебя о выбранном оружии. А теперь, друзья, если хотите сделать мне большое удовольствие, отобедайте со мной.
— Вы непременно хотите этого, мой друг? — спросил секретарь посольства.
— Совершенно обязательно! Мы пообедаем очень легко, как полагается накануне сражения, и вы рано уйдете. Я буду счастлив, мой милый Серж, представить тебя особе, с которой Морис уже знаком, и прошу позаботиться о ней в случае, если со мной произойдет несчастье.
— Хорошо! Но зачем эти черные мысли! — остановил его Вандоль.
— Это не черные мысли, а нормальная предусмотрительность трезвомыслящего человека. Всегда надо предвидеть худшее.
— Правильно, я с тобой вполне согласен. Истинная храбрость не исключает трезвость учета обстоятельств, — сказал Серж.
У Жермены и Мориса с момента ее спасения установились дружеские отношения. Кроме того, художник постоянно навещал ее во время болезни, и она видела его у своей постели с тех пор, как стала приходить в себя. Девушка встретила его очень сердечно и также с большой приветливостью отнеслась к Сержу Роксикову, как к соотечественнику и другу Мишеля.
Обед был таким, каким и следовало быть: очень хорошо приготовленным и беззаботным.
Жермена ела с большим аппетитом, как водится у выздоравливающих, а трое друзей изощрялись в остроумии и сумели развеселить ее.
Разошлись рано, предварительно договорившись в комнате Мишеля о завтрашнем дне во всех подробностях.
В девять Мишель пожелал Жермене покойной ночи. Она ласково погладила его руку и сказала:
— Желаю и вам покоя, дорогой мой большой брат Мишель! Спасибо за все ваши заботы… Я чувствую себя лучше… гораздо лучше и благодаря вам счастлива…
— Доброй ночи, моя дорогая сестра Жермена, — говорил князь, целуя исхудавшую белую руку. — Вам не за что меня благодарить, это я вам всем обязан. Будьте счастливы, как вы того заслуживаете. До завтра, Жермена!
В своей комнате князь некоторое время ходил взад и вперед, закурил папиросу, сел и задумался.
Подумав с четверть часа, он открыл секретер, где хранил ценные документы, взял чистый лист и начал писать красивым твердым почерком, очень разборчивым, каким российский император повелел составлять бумаги всем дипломатам, военным и гражданским чиновникам.
«Мое завещание
Последняя воля напрасно прожившего свою жизнь человека, которому, может быть, вскоре придется расстаться с земным существованием.
Завтра мне предстоит драться на дуэли с одним из моих бывших соучастников в развлечениях и, признаюсь честно, дуэль, последствием коей может стать смерть одного из нас, имеет совершенно ничтожный повод, в возникновении которого виновен только я.
Если я умру, я получу заслуженную расплату за мою несдержанность и пожалею о жизни, хотя она и кажется мне тяжелой, ненавистной и в высшей степени скучной.
Так как я богат, очень богат, я буду иметь счастье обеспечить жизнь единственного во всем мире существа, любимого мною.
Я говорю о Жермене Роллен, живущей в настоящее время в моем доме, о той, кого моя смерть может сделать совершенно беззащитной и нищей.
Молодая особа, заслуживающая всяческого уважения своей добродетельностью, мужеством и пережитыми несчастьями, не связана со мной никакими формальными узами. Но я люблю ее безмерно, хотя она не испытывает ко мне ничего, кроме дружеского расположения.
У меня нет наследников, кроме совсем далеких родных, которые к тому же все очень богаты. Они унаследуют в России то, что принадлежит мне там и что я не имею права по нашим законам завещать иностранцу. Поэтому я не могу завещать Жермене Роллен свои российские владения, деньги, сокровища.
Но меня утешает, что я имею полное право оставить ей мой дом в Париже на авеню Ош со всем находящимся в нем имуществом: мебелью, произведениями искусства, украшениями, богатой конюшней, экипажами и т. д.
Четыреста тысяч франков во французской валюте, находящихся в моем домашнем сейфе, и еще девяносто четыре тысячи франков золотом и ассигнациями.
Сумма в размере четырехсот девяносто четырех тысяч франков получена мною в результате займа в банке «Апервейер и Кº», законно гарантированного моим имуществом в России.
Эти деньги я также завещаю Жермене Роллен, что позволит ей дать приданое ее сестрам Берте и Марии и помочь основать собственное дело Жану Роберу Бобино.
Я хочу, чтобы последний сочетался браком с Бертой Роллен и назвал своего первенца в мою память Мишелем.
Мои два друга, Морис Вандоль и Серж Роксиков, будут моими душеприказчиками.
Прошу их принять на память обо мне мое оружие и мои драгоценности и разделить их между собой.
Моему верному слуге Владиславу завещаю подмосковное имение на р. Клязьме. Владислав сумеет сделать его более ценным, хотя оно и теперь приносит доход больше шестидесяти тысяч рублей серебром в год.
Ведя бесполезную жизнь, я поощрял к безделью других. Это я понял, к сожалению, очень поздно, чтобы иметь время исправиться; понял, что человек не создан для того, чтобы бессмысленно тратить деньги, заработанные тяжелым трудом других.
Но сейчас не время философствовать и строить теории, и я кончаю мое завещание следующими словами:
Я умираю, исповедуя православную христианскую веру, которой всю жизнь был привержен. Прошу прощения у людей, для которых не сделал ничего полезного, и молю Господа простить мне, что я так бессмысленно прожил жизнь, дарованную Создателем.
Написано в Париже 6/18 ноября одна тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.
Мишель Березов».Он спокойно перечитал написанное, нашел, что слишком холодно сказал обо всем, касающемся Жермены, подумал было переделать, потом решил, что все главное выразил. «Завещание обеспечивает независимость женщине, которую я люблю, — размышлял Мишель. — И это самое важное. А теперь надо употребить остаток ночи, чтобы как следует выспаться. Кто знает! Может быть, это моя последняя ночь».
Князь позвонил камердинеру, тщательно совершил свой туалет, лег, взял книжку, прочел страниц пятьдесят и спокойно уснул, так, как будто ему не предстояла завтра схватка с опаснейшим дуэлистом Парижа.
Русский встал бодрым и свежим, когда было уже светло.
С аппетитом позавтракав, он велел заложить ландо, сказал, что уезжает часа на два по делам, позвал Владислава и просил быть особенно внимательным к Жермене.
У мужика глаза были заплаканы и лицо осунулось. Дворецкий плакал всю ночь, считая себя виноватым в предстоящей дуэли.
Князь утешал его с бесконечной добротой и на прощание пожал руку как равному.
Увидав, что секунданты стоят у его подъезда, Мишель пошел навстречу, предложил сесть с ним в ландо, так, словно им предстояла прогулка в Булонский лес[51].
Поехали медленно, впереди было достаточно времени, чтобы не опоздать.
— А как Жермена? — спросил Морис.
— Она ничего не подозревает. Кстати, вот мое завещание, вы с Сержем его исполните в случае моей смерти.
— Принимаю конверт со всем, что в нем содержится, но с надеждой вернуть его тебе нераспечатанным.
— Почему нет с нами врача? — заметил Серж.
— Доктор Перрье должен быть на месте встречи одновременно с нами, — отвечал Морис.
Без четверти три они подошли к постоянно полуоткрытой калитке двора пустующего богатого особняка сэра Ричарда Уоллеса; в эту калитку часто входят маленькие группы мужчин, одетых в черные костюмы, чтобы обменяться ударами шпаг или пистолетными выстрелами. Привратник пускает их за умеренную плату во двор, окруженный высокими стенами, где они могут свободно убивать друг друга, не опасаясь досадного вмешательства полиции, всегда готовой сорвать мзду с нарушителей закона.
Друзья приехали первыми. Вслед за ними в экипаже, запряженном взмыленной лошадью, примчался доктор Перрье и потом явился Ги де Мальтаверн со своими секундантами и своим доктором.
Сторож проводил восьмерых на укромную площадку, посыпанную песком, здесь Ги в прошлом году убил молодого человека — наследника знатной и богатой семьи.
Сторож, бывший сержант гвардии с медалями за службу, глазами знатока смотрел на поединки, испытывая истинное наслаждение, когда видел, как один из дерущихся ловким ударом шпаги повергает противника на песок. Отставной сержант видел Ги на поединках уже раза три и подумал, что противнику его туго придется с таким бойцом.
Секунданты поручили бывшему гвардейцу нести на место дуэли оружие князя и барона, и тот, гордо подняв голову, исполнил ответственное дело. Затем он вынул шпаги из ножен и держал их попарно под правой и под левой рукой как человек, хорошо знакомый с дуэльными правилами.
Морис и Франкорвиль разыграли в орел или решку, кому руководить схваткой. Жребий выпал на Мориса.
Кинули жребий во второй раз: кому выбирать оружие. Досталось Франкорвилю. Следовательно, соперники должны были драться на шпагах Мальтаверна. Это давало ему большое преимущество, ибо таким образом барон получал оружие, с которым его рука свыклась.
Пока шли приготовления к дуэли, Ги де Мальтаверн и Мишель Березов спокойно курили. Первый — гаванскую сигару, второй, как всегда, — русскую папироску.
Оба держались совершенно спокойно, так, как будто бы их не касалась предстоящая драма.
Вандоль сравнил длину шпаг, и, поскольку они оказались совершенно одинаковой длины, Морис был готов отдать Мишелю свою, а Франкорвиль свою барону.
Соперники сбросили верхнюю одежду и собирались принять оружие, но тут вмешался доктор Перрье. Он открыл пузырек с карболовой кислотой.
— Минуточку, господа, подождите, пожалуйста, — сказал он секундантам. — Разрешите мне продезинфицировать оружие.
Доктор смочил карболкой пучок корпии[52] и тщательно протер им лезвия.
— Теперь они обеззаражены, и раны, нанесенные ими, будут чистыми и скорее заживут.
Тогда вот Мишель и Ги почувствовали волнение, которое испытывают все готовящиеся к сражению, даже самые храбрые.
Морис развел соперников на должное расстояние и, быстро отойдя в сторону, скомандовал:
— Начинайте, господа!
ГЛАВА 25
А в кабачке Лишамора развертывалась другая драма.
Андреа, не ожидавшая, что Бобино встанет на защиту девочек, и, видя, что завязывается поножовщина, старалась заставить своего ухажера, красавчика Альфреда, не подчиниться команде Бамбоша. Она крикнула, подбежав к группе, где стояли Бобино, Моген и девочки:
— Альфред, не вмешивайся не в свое дело! Выпусти девочек! Слышишь, что я говорю!
Брадесанду заколебался, но взбешенный Бамбош злобно потрясал оружием и кричал:
— Шеф скрутит тебя в веревочку… слушайся… черт тебя подери! А с тобой, Рыжая, будут другие счеты… отойди, а то я тебя пырну!
Моген был безоружен, Бобино подал ему пистолет князя, сказав:
— Стреляйте, только если положение станет безнадежным. Тут шесть зарядов, они могут нас спасти.
Бобино — с черкесским кинжалом у пояса — держался спокойно, как будто ему предстояла забавная игра. Он сказал Андреа:
— Вам угрожают, мадам, идите сюда, к нам.
— Мадам, пожалуйста, наши друзья вас защитят, ведь правда, Жан? — звала и Берта.
Вне себя от злости Андреа кричала:
— Благодарю вас, мои милые, но я не боюсь этой падали! У вас оружие… Ударьте по ним смело! Я тоже буду действовать!
Она схватила бутылку и бросила в лицо Бамбоша. Тот увернулся, посудина разбилась о стену. Полетели вторая, третья литровки; одна ударила Бамбошу в руку, выбив нож. Бобино, великодушный до наивности, видя противника беспомощным, спрятал свой кинжал в ножны и сказал:
— Знаешь, парень, не дури, пропусти нас, и чтобы без подвоха, а то я тебя сломаю как спичку! А вы, папаша Моген, глядите в оба и первому, кто полезет к нам, размозжите башку.
Брадесанду, увидав у рыбака револьвер, пробормотал:
— Ножичек — куда ни шло, но пистолетик — это похуже…
— Смелей, Брадесанду!.. Смелей, Лишамор, и ты, мамаша Башю… действуйте!.. — подзадоривал Бамбош.
Он, уверенный в своей силе, ловкости и умении драться, приготовился к страшному бою ногами. Наклониться, чтобы поднять нож, он боялся, зная, что может получить башмаком в морду.
Подготовка к схватке завершалась. Лишамор вооружился вилами, Башю — резаком, Андреа — опять бутылкой. Парни явно собирались обойтись без ножей.
Бобино — среднего роста, худощавый, с тонкими чертами лица и маленькими усиками, выглядел восемнадцатилетним юнцом. Но руки и ноги его казались стальными, плечи были широки, бедра узки. Необычайно подвижный и горячий он был одновременно и очень сильным — мог свободно нести груз в пятьсот фунтов.
Бамбош, более коренастый, казался крепче его, был очень уверен в своей мощи и ловкости; он отличался жестокостью, для него убить человека было все равно, что раздавить жука.
Драка между такими противниками обещала стать беспощадной.
Начал ее Бобино, зная, что первый удар всегда сильно действует на противника, дает ему почувствовать, с кем имеет дело.
Крепким точным движением он саданул Бамбоша ногой в бок. Тот взвыл, но тотчас оправился и весомо ответил; Бобино парировал.
Удар следовал за ударом. Бамбош норовил использовать какой-нибудь предательский воровской прием, такой, что сразу калечит противника или убивает его.
Но Бобино в это утро был ловок как бес, упреждал все хитрости и сам жестоко разил противника, чьи силы начали истощаться. Стало казаться, что обыкновенный парижский парень вот-вот измотает врага вконец и, возможно, добьет.
Видя, что скоро его одолеют, Бамбош отскочил и крикнул глазевшим из-за столиков пьяницам:
— Сто франков каждому, кто поможет мне хотя бы вышвырнуть вон этих типов.
— Как, заплатишь, Лишамор?
— Да заплачу… Надо их выкинуть… Бамбош прав.
Пятеро пропойц переглянулись между собой, договорились и встали на подмогу.
Андреа попробовала оттащить Брадесанду в сторону, но тот заорал:
— Катись ты к… Не мешай… Я не хочу, чтобы шеф меня изничтожил, я за Бамбоша, и смерть чужакам!
— Подлецы! Трусы! Семеро против двоих! — кричала в негодовании Андреа. — Хоть я только женщина, но сделаю что смогу!
Она бросилась к Лишамору, выхватила у него вилы и держаком так хватила старика, что тот упал, заливаясь кровью.
Затем вернулась к красавчику Альфреду и, направив вилы ему в лицо, сказала:
— Дрянь, паршивец, я с тобой спала, а ты на моих друзей прешь, да еще с ножом!.. Вот я сейчас причешу твою морду!
Брадесанду, боясь, что она сейчас и впрямь выколет ему глаза, поскорее отступил. Вдогонку Андреа саданула бывшего любовника вилами в зад. Потрясая своим оружием, она кричала:
— Еще один выбыл… Кто следующий?!
Но дверь все еще оставалась недоступной для Бобино и девушек.
Бамбош сплотил возле выхода нанятых пьяниц и сам, подняв наконец свой нож, встал у порога, измученный и обозленный, с твердым намерением покончить дело.
Наемники его, за неимением ножей, хватали бутылки и швыряли в Могена и Бобино.
Могену угодило в голову, он пошатнулся и чуть не упал. В ответ он пальнул из пистолета, но, не умея толком пользоваться им, слишком резко спустил курок, отчего ствол вскинуло кверху и пуля лишь разбила стекло скверно намалеванной картины на стене. Однако выстрел с дымом и огненной вспышкой испугал пьяниц, они попятились. Такие типы охотно хватаются за ножи, но боятся огнестрельного оружия.
Бобино воспользовался их замешательством и, выхватив из ножен кинжал, подскочил к двери. Один из пропойц подставил ему предательскую подножку. Но типограф не растерялся, упав на одно колено, он оперся о землю рукой, развернулся и наотмашь полоснул негодяя кинжалом. Тот рухнул с распоротым брюхом. Кишки вывалились.
Берта и Мария закричали при виде такого ужасного зрелища.
— Браво, малыш! Здорово вдарил… Ты настоящий мужчина! — крикнула Андреа.
Рыбак снова выстрелил, случилась осечка, и он в досаде заворчал:
— Черт побери! Точно меня околдовали.
Бобино едва успел подсказать:
— Стреляй понизу… по коленкам! — как к ним обоим с поднятым ножом и с табуреткой вместо щита подскочил Бамбош. Его поддерживали четверо наемников, и храбрецы чуть было не оказались подавленными численным превосходством противника.
Берта, видя, что друзья в опасности, забыла о страхе и принялась кидать во врагов осколки бутылок, не думая о том, что может порезать себе руки. Она крикнула сестре:
— Делай как я, а то мы пропали!
И Мария повиновалась.
В кабаке творилось нечто неописуемое: раненный вилами в зад Альфред орал громче всех, пьяница с распоротым животом хрипел, старуха Башю клохтала над Лишамором, стараясь привести его в чувство, летели бутылочные осколки, грохотали опрокидываемые столы. Рассвирепевшая Андреа, восхищенная и растроганная храбростью девушек, кричала им:
— Браво! Мои миленькие, вы прямо душки!..
Моген снова выстрелил два раза подряд и произвел великий грохот. Совет Бобино оказался правильным. Пуля попала в одного из пьяниц, и он взвыл, тряся окровавленной рукой.
Осколком бутылки Бамбоша ударило в глаз, он выронил табуретку, Бобино подхватил ее и со всей силы треснул противника — тот повалился.
Вот тогда Андреа, воспользовавшись замешательством врагов, подбежала к двери, открыла настежь и крикнула девочкам, Бобино и Могену:
— Бегите скорее!
К радости своей, они увидели, что на улице уже совсем светло.
— Ты права, дочь моя, — сказал рыбак. — Скорее к лодке!
— А как же вы, мадам? — спросил Бобино у Андреа.
— Обо мне не беспокойтесь! Со мной здесь не сладят. Торопитесь!
Переговариваясь, Бобино, Моген, Берта, Мария и Андреа выбежали на дорогу, а затем, перейдя через нее, — и к берегу, где покачивалась привязанная лодка.
Побежденный Бамбош в бешенстве утирал кровь, лившуюся по лицу, ругался последними словами и, сжимая кулаки, грозил:
— Мы еще встретимся! Я тогда по кускам сорву все мясо с костей этого гада! А с проклятыми девчонками сделаю еще похуже! Клянусь! Слово Бамбоша!
Пока Моген отвязывал лодку, Бобино уговаривал Андреа ехать с ними.
— Спасибо, месье, но, уверяю вас, они ничего не могут мне сделать.
— Скажите, по крайней мере, где мы сможем с вами встретиться. Подобная услуга достойна бесконечной благодарности, и мы всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, мадам.
— Спасибо! Понимаю, вы из тех, кто не забывает добро. Если хотите сделать мне приятное, так пусть девочки меня поцелуют. И я буду вознаграждена даже больше, чем следует.
— О мадам! — И девушки бросились обнимать и целовать грешницу. Она заключила их в объятия, и лицо ее просияло. Женщина прошептала:
— Все-таки хорошо, когда делаешь что-то порядочное.
Прощаясь с обоими мужчинами, Андреа сказала:
— А живу я на улице Курсель… Если понадобится, смело приходите. Я пользуюсь некоторым влиянием, и, если вам будут досаждать, я помогу… С Богом…
Рыжая смотрела, как поплыла по тихой реке лодка, и видела, как улыбались друг другу Берта и Бобино, держась за руки, и была счастлива их счастьем. Она думала: «Сегодня же вечером уеду в Париж, вернусь к обычной жизни, — увы! — единственно возможной для меня. Я не могу делать ничего другого… И у меня, наверное, не хватит мужества захотеть научиться… Ах!.. Если бы кто-нибудь меня любил!»
Два часа спустя Бобино, Берта и Мария сели в поезд, сдав в багаж дорогой велосипед.
В Париже они наняли извозчика и поехали в дом князя Березова. Они приблизились к воротам, когда лошади тихим шагом ввозили во двор ландо.
Хотя Бобино ничего не знал о дуэли князя с бароном де Мальтаверном, его охватило предчувствие несчастья.
Как только Вандоль сказал: «Начинайте, господа», противники сделали выпад.
Мишель Березов произвел его очень элегантно, в классическом стиле, не горячась, но уверенно, и опытный сторож подумал: «Молодой человек знает приемы, а огромный рост дает ему определенное преимущество».
Старый дуэлист, искушенный в хитростях боя, Ги де Мальтаверн начал, отступив и вытянув вперед руку, и бывший инструктор фехтования удивился: «Черт возьми! Какой странный маневр».
Князь увидел, что барон поставил себя вне досягаемости, и, еще не горячась, стал атаковать противника.
Ги, тоже совершенно спокойно, словно они тренировались в спортивном зале, отразил атаку прямым ударом.
Мишель направил шпагу прямо в лицо противнику, тот отклонился всем корпусом.
«Странная у барона мето́да», — подумал сторож.
Как человек предусмотрительный, Мальтаверн почти никогда не фехтовал со знакомыми, чтобы не открывать своих секретов, поэтому они оставались никому не известными. Но он был истинным фанатиком и ежедневно занимался дома со старым армейским инструктором, а после уроков упражнялся один в разных хитрых приемах подобно тому, как скрипач-виртуоз ежедневно играет упражнения на скрипке. Ги стал настоящим виртуозом боя холодным оружием.
Князь Березов, годами гораздо моложе Мальтаверна, разумеется, не мог иметь его опыта. Он фехтовал хорошо только потому, что, как все люди его общества, занимался разными видами спорта.
С первого взгляда можно было бы подумать, что сошлись бойцы равной силы, какое-то время и секунданты и доктор так и полагали.
Ги скрывал свою игру, действуя как бы очень просто, для того чтобы в решительный момент нанести смертельный удар. Надо сказать, что он был необычайно вынослив и двигался с большой скоростью и легкостью благодаря своей худобе и натренированности.
А очень высокий, атлетически сложенный, с мощной мускулатурой князь утомлялся быстрее, чем его противник, у которого каждая мышца была как пучок скрипичных струн.
Сначала Мишелю не приходило в голову, что с ним ведут хитрую игру, стараются ослабить его внимание, чтобы уловить удобный момент для последнего удара. Березов обманывался хитрыми маневрами барона и раз за разом, безрезультатно нанося мощные удары, разгорячался, несмотря на свежесть воздуха, и лоб его покрылся крупными каплями пота.
По условиям дуэли непрерывный бой продолжался не более пяти минут. В конце этого срока Морис объявил остановку, подняв палку. Бойцы опустили шпаги в ожидании команды о возобновлении борьбы. Через две минуты Вандоль скомандовал:
— Продолжайте, господа!
Видя неуязвимость барона, Мишель стал действовать осмотрительнее, тем более что чувствовал, как начал всерьез утомляться.
Пять минут — в общем, небольшой срок, но он долог, если в течение всего этого отрезка времени человек непрерывно с силой атакует; особенно если действовать приходится в городской обуви и на площадке, покрытой песком, а не на дощатом полу.
За двухминутный перерыв Мишель почти не отдохнул, а Ги начал лишь чуть-чуть быстрее дышать. Но оба оставались пока без единой царапины.
Барон начал атаковать, но очень осторожно, все время обманывая противника и секундантов как бы нечаянными промахами.
Только старый солдат, наблюдая за боем, замечал неладное и думал: «Странно, этот атакует как ученик, а отражает удары на уровне самого опытного фехтовальщика, а другой теряет силы в атаках и не замечает, что все его удары немедленно парируются. Честное слово, надо быть очень искусным бойцом, чтобы действовать по видимости неумело, а на самом деле так опасно. Но чего он добивается? Похоже, что хочет вконец измотать противника, чтобы потом убить».
Князь все больше выдыхался, его атаки замедлились и движения стали тяжелее. Может быть, он уже понимал, что барон ведет с ним хитрую игру.
Морис Вандоль и Серж Роксиков нервничали. Первый был хорошим фехтовальщиком; не понимая всех хитростей барона, он чувствовал неладное и очень волновался за друга.
Вскоре взгляд барона стал пристальным и неподвижным, он сжал брови, стиснул зубы, и на лице мелькала иногда нехорошая улыбка.
Кончалась четвертая минута боя. Вандоль смотрел на часы, и сердце его сжималось от страха за друга, но до перерыва оставалось еще шестьдесят секунд.
Мишель думал. «Этот человек спровоцировал меня на дуэль, хотя формально виноват, конечно, я. Да, но люди нашего круга не ведут себя столь бесцеремонно, он ведь буквально вломился ко мне в дом… А фехтует бесподобно… Он сейчас играет со мной… с намерением убить. Но кому он служит этим? Мондье… Это рука графа Мондье, а этот лишь шпага… Жермена!.. Возлюбленная моя!..»
Мысли, которые здесь так пространно изложены, проносились с невероятной быстротою и с необычайной ясностью.
Князь вспомнил монахиню, отравленную вместо него, вспомнил выстрел в окно, когда был в комнате Жермены, и сейчас видел перед собой Ги де Мальтаверна, человека бесчестного, способного на любую подлость. Видел его сатанинскую улыбку за гардой[53] его шпаги.
Чувство усталости охватывало князя сильнее по мере того, как правда яснее вставала перед его мысленным взором.
Душа Мишеля как бы раздвоилась. Ему представилось, что он около своей возлюбленной, она смотрит ясными глазами и говорит мелодичным голосом, звук коего приятнее самой сладостной музыки. И в то же время русский видел перед собой лицо великосветского убийцы, намеренного покончить с ним по всем правилам дуэльного кодекса.
Вдруг Березов ощутил сильный холод в груди около сердца, заметил Мальтаверна совсем близко, увидел взъерошенные усики обозленного кота, руку, сжимающую эфес, в нескольких сантиметрах от его собственной груди, почувствовал, как острие шпаги входит в легкое, минуя ребра, и касается сердца.
Морис Вандоль, Роксиков и доктор Перрье бросились к Мишелю и поддержали его, а сторож ворчал втихомолку:
— Вот вам чисто обделанное убийство! Будь я на месте этого бандита, я ранил хотя бы в плечо, в руку…
Мишель не падал, но чувствовал, как постепенно, потихоньку все в нем замирает; он думал, что это конец, и он больше не увидит Жермену. Горячая сладковатая жидкость наполнила ему рот, и он сплюнул кровью. У него еще хватило силы взять за руки Мориса и Сержа и сказать:
— Завещание!.. Жермена!.. Прощай!..
Затем он побледнел, вздрогнул и замер в неподвижности.
Тогда Ги, который хладнокровно, с дьявольской хитростью подготовил убийство и нанес смертельный удар обессилевшему сопернику, зная, что действует наверняка, подошел к доктору Перрье. Разбойник изобразил на лице огорчение. Он пробормотал тихо, как будто впал в большое горе:
— Господа… Ведь все произошло в установленных правилах…
— Да, месье, — сказал с горьким чувством Морис.
Ги продолжал:
— Я страшно огорчен… Прямо в отчаянии… Бедный Мишель… Друг… Никогда не можешь быть хозяином своей шпаги… Доктор, я надеюсь, он выздоровеет?..
Никому не пришло в голову, что под видом сочувствия и сожаления по поводу нечаянного удара скрывается злобное торжество наемного убийцы.
— Я еще не знаю, месье, но надеюсь и, во всяком случае, сделаю все, что будет в моих возможностях, — сказал врач.
Ги поклонился, его секунданты тоже раскланялись, и они направились к экипажу.
Граф Франкорвиль и маркиз Бежен торжествовали. Едва сели в ландо и лошади побежали, оба кинулись поздравлять барона. Как все светские люди, охочие до скандала, они предвкушали, что за шум поднимется в газетах и создастся лично для них реклама по поводу сенсационной дуэли.
А там, на поле боя, два врача старались помочь раненому, состояние его казалось безнадежным. Князь был без сознания и бел как мрамор.
Мишеля тихонько положили на землю навзничь, и доктор Перрье осторожно извлек из раны шпагу, она пронзила грудь насквозь и вышла сзади на десять сантиметров. Спереди виднелось отверстие размером раза в два больше укуса пиявки, оттуда вытекло немного розоватых капель. Такая рана гораздо опаснее страшных на вид широких кровавых полос от сабельных ударов. В таком случае, как у Березова, могло произойти мгновенное смертельное внутреннее кровоизлияние.
Перрье пощупал пульс, нахмурился и сказал коллеге:
— Надо немедленно сделать подкожное впрыскивание эфира.
Он достал из походной аптечки шприц и пузырек с притертой пробкой, наполнил цилиндр эфиром и, быстро воткнув иглу в верхнюю часть бедра, сделал впрыскивание.
Почти сразу князь приоткрыл глаза, и в них промелькнул проблеск сознания. Он хотел что-то сказать, но кровь потекла изо рта.
Вандолю, совершенно подавленному и не менее бледному, чем его друг, показалось, что Мишель произнес имя Жермены и одновременно из последних сил пожал руку Мориса, как бы напоминая, чтобы он не оставил девушку.
— Не говорите! Не напрягайтесь! — решительно приказал доктор. — Сейчас отвезем вас домой…
— Дайте мне силы, чтобы увидеть ее, — прошептал раненый доктору Перрье.
— Не только чтобы увидать, но чтобы жить с нею долгие годы, — сказал доктор, показывая жестом, чтобы князь молчал.
Мишель грустно улыбнулся, будто хотел сказать, что не верит надежде доктора. Он думал: «Через пять минут я умру».
Оба секунданта предположили то же самое, и привратник сада в подобном не сомневался. Ему было жаль красивого молодого человека, но он считал, что такая смерть для мужчины прекрасна.
Предотвратив с помощью инъекции мгновенную смерть, часто наступающую после такой травмы, доктор приступил к перевязке.
Сделав два тампона из ваты, пропитанной раствором карболки, доктор приложил их к входному и выходному отверстиям раны, сверху сделал компрессы и закрепил все бинтом. Потом Мишеля одели и осторожно положили на сиденье в ландо. Доктора́ сели на противоположную скамейку, а секунданты поехали на упряжке врача, и оба экипажа тихонько двинулись к дому князя Березова.
По дороге медик все время держал руку на пульсе Мишеля и, почувствовав его ослабление, сделал вторую инъекцию, заменив эфир кофеином, сказав:
— Если опять случится обморок, придется снова ввести эфир. Исключительно крепкий организм больного позволяет применять большие дозы.
Мишель снова как бы ожил, порозовел, глаза заблестели, и он даже захотел сесть, но доктор решительно удержал его и сказал строго:
— Хотите умереть, тогда делайте то, что я запрещаю.
— Вы даете мне жизнь, — еле слышно прошептал князь и прибавил умоляюще: — Перрье… Друг мой… Еще раз… Укол…
— Нет, князь, мой дорогой большой ребенок, погодите! — строго сказал врач.
— Обещаете вы… довезти меня… еще живого…
— Клянусь в этом! — сказал доктор, очень взволнованный, несмотря на видимое спокойствие.
— Спасибо!.. Увидеть ее в последний раз… и умереть…
— Как можно позже!.. А теперь молчите! Иначе я ни за что не отвечаю.
Впрыскивание кофеина сразу после инъекции эфира возымело гораздо более сильное и длительное действие. Во время переезда пульс оставался хорошим и, несмотря на большую слабость, больной дышал свободнее. Жизнь висела на ниточке, но все-таки он жил.
Ландо, ехавшее теперь по приказанию доктора быстро, снова замедлило ход и свернуло в ворота дома Березова именно в ту минуту, когда к ним подъехал экипаж, где сидели Бобино и сестры Жермены. Их извозчик остановился одновременно с ландо и с экипажем секундантов Мишеля.
Бобино быстро соскочил наземь и, подойдя к ландо, увидел князя, совершенно бледного, неподвижно лежащего на сиденье, и напротив него двух незнакомых ему людей.
Подавив невольный крик ужаса, юноша обратился к старшему из спутников, на чьей груди он увидел ленточку ордена Почетного легиона, сказав:
— Месье, князь удостоил меня своей дружбой… Я везу ему приятное известие… Я так спешил…
— Мой друг, — сказал Перрье, — если известие хорошее, так сообщите его князю. Он ранен, и приятная новость поможет ему лучше всяких лекарств.
Тогда Бобино сказал:
— Князь, месье Мишель, вы узнаете меня?
При звуке этого голоса, такого молодого, звонкого, с чисто парижской интонацией, Березов слабо улыбнулся и прошептал:
— Бобино!.. А девочки… Где они?..
— Спасены… Свободны… Я их привез… Они здесь, в экипаже…
Огромная радость осветила лицо русского, и, несмотря на запрет доктора, он сказал:
— Спасибо, друг! Жермена будет счастлива, и я смогу умереть спокойно.
— Умереть!.. Это мы еще посмотрим!.. Мы вас выходим… Правду я говорю? — обратился Бобино к доктору, предлагая помощь, чтобы перенести раненого в дом.
Увидав Берту и Марию, таких миленьких, таких испуганных и смущенных, князь снова улыбнулся.
Девушки, видя столь красивого, доброго и как будто умирающего человека, совершенно онемели и готовы были расплакаться.
Прибежали слуги, людей собралось более чем достаточно, чтобы доставить князя в его покои.
С присущим ему тактом Бобино понял, что надо пойти вперед и повести девушек поскорее к Жермене, чтобы смягчить неожиданным счастливым свиданием предстоящий тотчас тяжелый удар.
Бобино в двух словах объяснил это князю, и тот счастливо улыбнулся, несмотря на то, что ему казалось, будто он умирает, и в знак согласия кивнул.
Ведя за собой девушек, Бобино поднялся в первый этаж и направился через анфиладу прямо к спальне Жермены. Тихонько приоткрыв дверь, он увидел больную сидящей на постели и сказал:
— Жермена! Приготовьтесь к большой радости и одновременно к трудному известию! Берта!.. Мария… обнимите вашу сестру!
ГЛАВА 26
При виде сестер Жермена так обрадовалась, что даже не обратила внимания на слова Бобино о скверном известии. Радость настолько потрясла ее сердце, что это было похоже на страдание. Она заключила в объятия сестренок и зарыдала, не в силах вымолвить слова.
Первое, что смогла выговорить Жермена, было:
— О мама!.. Наша бедная мама!..
И теперь уже все трое заплакали.
У Бобино тоже текли слезы, он не стыдился их. Юноша, не имевший родной семьи, понимал, какую утрату понесли девушки со смертью чудесной женщины, любящей и мужественной. Прожив несколько месяцев в близкой дружбе с девочками, он видел, как хорошо мадам Роллен воспитывает дочерей, уча их труду — главной добродетели человека, и какие сокровища любви кроются в ее сердце. Он искренне оплакивал ее, проявлявшую к нему материнскую заботу и нежность.
Несколько минут прошло в этих общих излияниях души, одновременно и горьких и сладостных.
— Мы никогда больше не расстанемся с тобой, правда, Жермена? — говорила Мария, нежно обнимая старшую сестру.
А Берта, держа руку Бобино, благодарила:
— Ты дал нам счастье… Мы этого никогда не забудем!
— Нет, моя дорогая, — сказала Жермена, — нет, мы никогда не расстанемся, князь мне сказал…
Жермена вдруг осеклась и спросила:
— Но где же он, почему его нет с нами?.. Он должен быть здесь… Это ему мы всем обязаны… Ведь правда, Жан?
— Да, да! Мы ему всем обязаны, и я тоже каждый день благословляю его!
— Где он?.. Он уходил из дома… А теперь слышно, как подъехал экипаж, наверное, он вернулся, — наперебой говорили сестры.
Бобино опустил голову, мучительно думая, как ему поосторожнее рассказать о случившемся. Наконец, не выдержав, он, как говорится, зажал сердце в кулак и выпалил:
— С ним произошел несчастный случай…
— Ох, Господи!..
— К счастью, не очень серьезный…
— Что с ним?! Он умер?..
— Нет!
— Поклянитесь мне в этом! Поклянитесь! — воскликнула Жермена совершенно вне себя.
— Я только что говорил с ним.
— Так он ранен?!
Послышались шаги. Это несли князя.
Жермена, конечно, хотела немедленно узнать правду и, поверив в свои силы, попросила Бобино:
— Друг мой, выйдите на минутку, я должна одеться, чтобы идти к нему.
— Что вы задумали? Разве вы в состоянии?!
— Да, в состоянии. Мое место там… около него. Это его сейчас пронесли… раненого… может быть умирающего!.. Я буду за ним ухаживать, я его выхожу… спасу. Пожалуйста, делайте, что я вам сказала.
Бобино послушался и пошел к двери, где едва не столкнулся с доктором.
Жермена чувствовала к врачу бесконечную благодарность, очень его любила и доверяла ему, но она не оставила своего намерения и сказала Перрье:
— Я узнала, что с князем произошло несчастье…
— Дитя мое, успокойтесь, прошу вас! — сказал врач, встревоженный видом ее горящих глаз и покрасневшего лица.
— Но я хочу за ним ухаживать!
— Вы будете за ним ухаживать, вы его увидите.
— Сейчас, сию минуту!
— Не сию минуту, а после перевязки.
— Вы мне позволяете?
— Даю в этом слово! Позволяю. Он и сам то и дело просит о встрече с вами, и лучшее, что я могу сделать, — это позволить вам увидеться, но только на минуту.
— Но я ни на сколько не хочу его оставлять, ни днем, ни ночью.
— Вы будете делать то, что я вам скажу, что велит здравый рассудок.
— Но мой долг требует…
— Вы ведь верите мне?
— О да! Вполне верю и благодарна вам за все!
— Так вот, вы сможете видеть его когда захотите, но при условии… Не переутомляться самой и не утомлять его. Кроме того, ему вообще можно видеть только самых близких, нужен полный покой. Эти милые крошки помогут ухаживать за ним.
— …Мои сестры, доктор…
— Я знаю их историю… Они останутся с вами.
— Доктор! Ради Бога! Скажите только!..
— Спрашивайте, дитя мое.
— Что с ним?
Перрье, видя, что Жермене можно сказать правду, не счел нужным скрывать ее.
— Он получил ранение шпагой.
— Он дрался на дуэли?.. С кем? — спросила она, и сердце ее сжалось.
— С бароном де Мальтаверном. Светский человек, вам не известный.
С проницательностью, свойственной женщинам, Жермена подумала: «Может быть, через него действовал тот бандит!»
— Так вы будете меня слушаться?
— Да, доктор.
— Итак, через час вы увидите князя.
Доктор возвратился к больному, напомнил, как он должен себя вести, и взял обещание слушаться.
Когда прошел час, показавшийся обоим молодым людям нескончаемым, Жермена поднялась с постели и, опираясь на сестер, добралась в спальню Мишеля.
При виде той, кого он так любил, Мишель вдруг покрылся румянцем. Князю хотелось протянуть руку, поговорить… Но доктор не напрасно остался при встрече. Он сделал повелительный знак и сказал:
— Князь Мишель! Я велю вам не делать ни малейшего жеста и не произносить ни одного слова! Если хотите жить — слушайтесь!
Князь вздохнул и показал глазами, что покоряется.
Жермена сказала:
— Мне хотелось поскорее показать этих девочек их благодетелю… Они вместе со мной будут вашими сиделками, внимательными, преданными и… любящими. Вы увидите… мы будем хорошо за вами ухаживать… Хоть вы и богаты, но не знаете радости семейного очага… Мы постараемся создать хотя бы его подобие…
Больной чувствовал блаженный покой, часто наступающий после сильных физических потрясений, и ему казалось, что он слышит какую-то далекую нежную мелодию.
Мишель ощущал себя как бы в том почти неуловимом состоянии, когда человек уже не спит, но еще и не совсем проснулся. Он знал, что рядом его возлюбленная и она дает его душе ровную и тихую радость… Доктор с обычной мягкостью прекратил их свидание.
— Мы договорились, мадемуазель, что вы будете как можно чаще видеть князя, но не забывайте о том, что сами вы еще не вполне здоровы. Следует соблюдать все предосторожности, потому что ваша болезнь может повториться и сделаться смертельной. Вы это понимаете?
— Да, доктор, да, мой дорогой спаситель!
— Что же касается режима больного, то он очень прост: стакан сухого шампанского через каждый час.
Мишель улыбнулся.
— Вам кажется смешным, что в качестве лекарства я прописываю наш национальный напиток? Это лучшее средство против вашего недуга.
Затем доктор направился к своему коллеге и к секундантам — те скромно удалились в другие комнаты, когда пришла Жермена.
Морис Вандоль и Серж Роксиков, испуганные и опечаленные, едва решились расспрашивать доктора, боясь услышать, что их друг безнадежен. Перрье успокоил их:
— Видите, мои дорогие, шпаги были абсолютно обеззаражены, рана чиста и, наверное, заживет без осложнений. Может быть, начнется легкое воспаление плевры[54] с образованием экссудата[55] с кровью, но с этой болезнью я в состоянии справиться. Итак, у вашего друга восемьдесят шансов из ста на излечение. Но необходимо, чтобы князь сам твердо верил, что выздоровеет, иначе он может наделать глупостей.
Удивленные и чрезвычайно обрадованные тем, что сказал доктор, молодые люди сердечно поблагодарили его и, конечно, спросили, можно ли будет видеться с другом каждый день.
— Да, но при непременном условии — чтобы он не говорил. Ваши посещения должны быть кратки, и вы не будете передавать ему разные светские сплетни. Душевный покой нужен князю не меньше, чем покой физический. Я сам буду навещать пациента два раза в день.
Затем доктор вернулся к раненому, проверил пульс, убедился, что жа́ра нет, сказал Жермене, чтобы она дала больному первую порцию шампанского, и еще раз настоятельно предписал молчание и полную неподвижность.
Жизнь в доме Березова пошла совсем по-новому.
Владислав, совершенно напрасно считавший себя виноватым в случившемся, пользуясь своим правом дворецкого, превратил особняк в неприступную крепость.
Уже давно получив от хозяина полномочия по управлению слугами, он уволил разом тех, кто не внушал ему доверия. Оставил только одного русского кучера. Камердинеру и выездному лакею выдал расчет за два месяца и приказал немедленно выехать. Владислав совершенно резонно считал, что все эти люди могут быть подкуплены.
Он призвал слесаря и велел укрепить решетки на окнах. К ночи во двор спускали собак и сажали огромного дога на цепь в прихожей.
Условились, что ночью Владислав и Бобино начнут по очереди дежурить возле больного и оказывать все необходимые услуги.
Была также решена проблема снабжения осажденной крепости: Владислав и Бобино будут — также поочередно — ходить за провизией. Оба, в соответствии с умением каждого, станут готовить простую пищу для здоровых, что же касается князя, то его питание не доставляло забот: пока доктор не изменит диеты, требовалось только шампанское с добавками разных тонизирующих средств, смотря по обстоятельствам: кола, кока, хинин и тому подобное.
Кучера посадили на место швейцара, строго приказав не впускать в дом никого, кроме доктора Перрье, Мориса Вандоля и Сержа Роксикова.
Теперь князю и его близким, по рассуждению верного слуги, не грозили ни покушения, ни вызовы на дуэль. И в доме, похожем чуть ли не на крепость, добрый мужик с надеждой и нетерпением ждал выздоровления хозяина.
Во внешнем мире никто не знал, что происходит за стенами у Березова. Дуэль наделала много шума в светском обществе, о ней писали в газетах и журналах, ее передавали со слов секундантов Мальтаверна, очень охочих до интервью.
Поскольку поединок происходил с соблюдением всех правил и князь, хотя и тяжело раненный, не умер, государственные органы в дело не вмешивались.
Репортеры, осаждавшие ворота, неизменно уходили с пустыми блокнотами, так как русский, сидя в будке швейцара, не отпирал калитку и отвечал всем назойливым посетителям на своем языке нечто совсем непонятное, но весьма выразительное.
Барон де Мальтаверн очень вежливо пришел справиться о здоровье соперника и на этот раз не попытался прорваться к нему, а только оставил визитную карточку.
Уже на другой день после дуэли состояние князя оставалось ровным, температура не поднялась.
Прошло двое суток, и благодаря умелому лечению доктора Перрье, благодаря полному покою и нежным заботам окружающих князю сделалось заметно лучше. Его очень укрепляли шампанское и настойка колы, она влияла просто чудодейственно.
Не случилось даже того, чего особенно боялся доктор — проникновения крови в плевру. Короче говоря, страшная рана — шпага прошла насквозь через всю грудную клетку — через пятнадцать дней зажила без всяких осложнений.
И Жермена, ее сестры, Бобино и Мишель Березов, над кем так долго тяготели несчастья, начинали надеяться на благополучие в будущем.
ГЛАВА 27
Граф де Мондье вдруг исчез: великосветский бандит принял обличье прозаичного месье Тьери, Дядюшки, как его называли дамы полусвета, но он вовсе не утих, не сошел со сцены.
Преступное обладание Жерменой, похищенной и изнасилованной им, решительно свело графа с ума.
Насильственное, да еще вдобавок наспех, кое-как обладание ею не только не успокоило страстного желания, а, напротив, еще больше его разожгло.
Похитив девушку, Мондье не оценил силы характера Жермены. Он рассчитывал, что та постепенно привыкнет, смирится со своим положением, как это происходило уже не с одной.
Но Жермене удалось убежать, а, настигаемая погоней, она предпочла броситься в Сену, с риском утонуть, чем остаться во власти палачей.
Чудесным образом спасенная князем Березовым и его другом Морисом Вандолем, она обрела покровителя — молодого, красивого, богатого и сильного, и по всем меркам могла не бояться прежнего преследователя.
Но граф де Мондье был не из тех, кто легко отступает. Захваченный любовной страстью сильнее прежнего, мучаясь ревностью, он был готов на любые преступления ради того, чтобы вновь завладеть девушкой.
Прежде всего требовалось устранить главное препятствие — князя Березова.
Обладая властью тем более страшной, что о ней никто не подозревал, тайный бандит, скрывавшийся под маской светского человека, Мондье действовал решительно и жестоко.
Он похитил двух младших сестренок, сделал их своими заложницами в расчете, что Жермена сдастся ради спасения девочек; правда, еще при условии, если она лишится могущественного и мужественного защитника — князя Березова.
Мондье ловко и, казалось ему, беспроигрышно организовал отравление князя, но вместо того случайным образом оказалась убита монахиня, ухаживавшая за больной Жерменой.
Второе покушение также не удалось. Меткая пуля Бамбоша, попав в грудь князя, была амортизирована толстым бумажником с металлическим запором, лежавшим в кармане обреченного на гибель.
Не теряя времени граф принудил барона Мальтаверна — безнравственного кутилу и непобедимого бретера[56], попавшего к нему в кабалу, драться с Березовым на дуэли и убить его. Барон добросовестно сделал все, что мог, но князь остался жив благодаря искусству врача.
Едва узнав, что князь Мишель согласился на дуэль, граф тут же послал Бамбоша наблюдать за кабаком Лишамора, где были спрятаны сестры Жермены.
Мондье намеревался затем сам поехать в Валь, чтобы воздействовать на девчонок, заставить их написать старшей сестре отчаянное письмо с просьбой поскорее приехать за ними. Таким манером граф рассчитывал очень просто захватить Жермену снова в плен. Мерзавец правильно предполагал, что она сдастся, когда князя не станет, а ее сестрам будет грозить опасность бесчестья, а может быть, даже смерть.
Можно себе представить, в какую граф пришел ярость, когда Бамбош явился к нему на улицу Прованс с завязанной щекой, разбитой во время драки в кабачке Лишамора.
Негодяй не рассчитывал на хороший прием у графа, приполз с видом собаки, которая знает, что будет бита хозяином за провинность.
Скрывая злобу, хозяин велел ему сесть и спокойно сказал:
— Говори, ничего не боясь.
— Дела плохи, очень плохи, патрон, — проговорил верный слуга с усилием.
— Поэтому ты и должен говорить, ничего не скрывая.
— Патрон, сестры Жермены уехали оттуда.
Граф позеленел:
— Мои заложницы! Мы разбиты, черт тебя подери, Бамбош. Но как это произошло? У вас там были люди, а проклятых девчонок прочно заперли в подземелье.
— Во всем виновата Андреа. Это она устроила все или почти все.
— Не может быть!
— Да, она. Она открыла подземелье, чуть не до смерти оглушила Лишамора, проткнула вилами зад Брадесанду и вообще орудовала не хуже мужика.
— Но ты… парни, сидевшие в кабаке… вы-то что делали?
— Старались изо всех сил. Но в зале очутились двое очень решительных и хорошо вооруженных. Один из них Моген, рыбак, другой какой-то неизвестный мне парнишка… Его несомненно послал князь, посмотреть, что делается у Лишамора, вот так же, как вы меня отправили. Парнишка не калека. Исколотил меня ногами, одним махом распорол кинжалом живот одному из моих дружков и в конце концов с помощью стервы Андреа увел девчонок. Они теперь, должно быть, в доме Березова. Вот и все, кроме незначительных подробностей.
Бамбош, ожидавший сильной взбучки, был удивлен тем, что граф молчал, о чем-то думал, опустив голову.
— Ничего не бойся, мой мальчик, — неожиданно сказал Мондье, вернее месье Тьери. — Я знаю, ты сделал все, что мог, и я тебя вознагражу так, словно тебе все удалось. Не всегда все получается, даже при хороших возможностях. Не хватает еще того, чтобы проклятый русский выжил. Всякое бывает на этом свете…
— А теперь что же делать?
— Ждать, как будут развертываться события, и пользоваться ими в своих интересах, умело их направляя… Бамбош!
— Слушаю, патрон.
— Тебе нравится общество, куда я тебя приводил однажды?
— О да! Как бы мне хотелось жить такой жизнью! — сказал прохвост, и глаза его загорелись алчностью.
— Однако это общество лишь карикатура на настоящее. Мужчины, может быть, еще ничего, но женщины… бывшие пасту́шки, прислуги, прачки, гувернантки или кухарки, которым повезло и они попали в мир содержанок. Я тебя введу в свет, где бывает настоящая женщина!.. Ты увидишь, какова она. Она может быть не лучше кокотки, часто выглядит и поступает даже хуже, но через нее ты сможешь сделать карьеру, стать богатым… если будешь меня слушаться.
— О патрон!.. От ваших слов у меня все внутри загорается и в глазах темнеет.
— Ты быстро пресытишься.
— Но пока это меня очень прельщает.
— Вполне естественно, и я помогу тебе удовлетворить желание. Истинный Бог, парнишка, ты мне нравишься! Ты хитер как обезьяна, испорчен как целый исправительный дом, недурен собой, очень умен. С моей помощью ты достигнешь успеха, ручаюсь. Ты будешь моей правой рукой, а когда я устранюсь от дел, ты их унаследуешь.
— Вы слишком добры ко мне! А пока… какие вы даете приказания?
— Сидеть на месте и, я тебе уже сказал, ждать, как будут разворачиваться события.
— Как! Вы даже не хотите отомстить рыбаку Могену и этой стерве Андреа, из-за которой мы погорели?
— Делать это сейчас было бы верхом глупости. Надо дать им всем подышать спокойно после всех происшествий.
— По крайней мере, надеюсь, вы позволите мне разделаться с мразью, что лупил меня ногами; кажется, он ухажер старшей из сестер Жермены и сейчас живет, наверное, в доме Березова.
— Не трогай его пока! Слышишь, что я говорю! Пусть все они перестанут что-либо подозревать. А насчет ме́сти, то это блюдо надо всегда есть только холодным. Увидишь сам…
— Так что́ я должен делать в точности?
— Наблюдать за домом Березова. Смотреть, кто в него входит, кто выходит, знать, как чувствует себя князь, лучше ему или хуже, выздоравливает или умирает. И действовать по обстоятельствам. Пока будешь жить здесь в ожидании новых приказаний. Не очень долго, потому что я намерен увезти тебя в путешествие.
— Далеко?
— Отучись от привычки спрашивать! Пока я не научу тебя некоторым приемам гримирования, способам быстро менять свое лицо.
— Всегда и во всем к вашим услугам, патрон!
…Березов быстро поправлялся. Ему уже позволили говорить и есть более питательные кушанья, силы возвращались к русскому князю.
Живя так, будто дом находился за сто миль от Парижа, вдали от мерзких сплетен, от шума и дикой злобы так называемого света, что так долго держал его в плену, Мишель чувствовал себя родившимся заново, тем более что рядом постоянно была любимая женщина, первая, кого он любил.
Отсутствие посторонних, которое прежде его угнетало, теперь казалось очень приятным, и он вполне одобрял действия Владислава, сделавшего особняк похожим на осажденную крепость. Спокойствие и безопасность всех обитателей дома были обеспечены, и эти условия способствовали быстрому выздоровлению князя.
На двенадцатый день он уже смог встать и пройтись по своей комнате, а на семнадцатый доктор сказал, что пациент почти здоров, рана полностью зарубцевалась.
Период выздоровления прошел для Мишеля как сладостный сон.
Если бы не ранение, от которого он чуть не умер, молодой русский, возможно, не узнал бы радости духовного сближения с любимой, позволяющей надеяться на полное супружеское единение в будущем. То, что прежде казалось ему невозможным и пугающим, теперь представлялось главной целью человеческого существования.
Жермена выздоровела, сестры ее были спасены, сам он был молод, красив, богат и совершенно свободен в своих действиях и мог надеяться, что Жермена полюбит его не только благодарной сестринской любовью.
Представляя себе будущее, Мишель думал: «О! Как она будет меня любить!»
Конец первой части
Часть вторая НЕНАВИСТЬ
ГЛАВА 1
К середине января князь поправился, но еще испытывал некоторое недомогание и слабость, и доктор считал, что не худо бы поехать в страну, где воздух теплее и суше, чем в это время в Париже. Для Жермены это было бы тоже полезно после стольких перенесенных тревог и тяжелой болезни. Наконец, Мишель чувствовал себя неспокойно в столице, где он и близкие пережили не одно покушение на его жизнь, и опасался, что враги не остановятся на этом. Хотелось дать отдых душе, не ожидать поминутно новых нападений и преследований жестокого и сильного врага, не запираться в четырех стенах из страха перед каким-нибудь новым злодеянием.
Березов поделился намерениями и планами с Жерменой, та возражала, говоря, что ей и сестрам пора бы найти работу и не сидеть на чужой шее, но Мишель только рукой махнул и с широтой русской натуры сказал ласково, но решительно:
— Незачем об этом сейчас толковать, всем троим надо сперва поправиться как следует, а потом уж будет видно, что делать дальше.
Решили отправиться в Неаполь.
Мишель хотел пригласить и Бобино, он мог быть весьма полезен в путешествии, к тому же князь очень полюбил смышленого, изворотливого и вместе с тем доброго и великодушного юношу, уже не раз проявившего себя с самой лучшей стороны. Князь сказал:
— Мой дорогой, мы едем в Италию.
Бобино подумал, что под словом «мы» подразумеваются сам хозяин дома и Жермена с сестрами; мысль эта его огорчила, что сразу уловил Березов и добавил:
— Я имею в виду, конечно, и вас, Бобино.
— Очень вам признателен, князь, но я не вижу, чем теперь, когда вы вместе и в общем здоровы, смогу быть полезен. Негоже жить за чужой счет, пусть даже очень богатого человека, я привык зарабатывать на жизнь своим трудом. Мне пора вернуться в типографию, где товарищи, наверное, уже думают, что я загулял, — говорил Бобино.
Березов стал его прямо-таки умолять, юноша продолжал отказываться и, только когда начала упрашивать Жермена, сдался.
— Ладно, я согласен, но с условием — не больше чем на год. Если за это время ничего не случится, я возвращаюсь к своей работе.
— Слава Богу, договорились. Только и я ставлю условие: не называть меня князем. Пускай обращаются так светские люди, для кого чины и звания превыше всего. В чем тут моя заслуга? Разве я сделал что-нибудь, чтобы оказаться князем? Не больше, чем вы для положения найденыша. И в чем, по сути, разница между вами и мной? Ведь не титулами, не богатством определяются качества человека. Вы умный, работящий, благородный, порядочный, мы почти одного возраста, так будем жить как два добрых товарища.
Бобино выглядел бесконечно растроганным.
— Наш писатель граф Толстой считает, — продолжал Березов, — что люди равны, каждый должен сам себя обслуживать, и подтверждал теорию практикой. Наш князь Кропоткин[57] пожертвовал титулом, состоянием и почестями за идею демократии: за проповедь этого учения он терпел бедность, тюрьму и ссылку. Я, конечно, не чета им, я не в силах переменить образ жизни. Но хотя бы в малом… Договоримся: будем говорить друг другу ты, обращаться только по имени.
Бобино воскликнул:
— Господи! Если бы все были такими, как вы, насколько меньше горя осталось бы на несчастной земле!
С этого дня безродный, бедный парижский типограф и русский князь — архимиллионер стали побратимами.
Мишель сказал Бобино:
— Неизвестно, что может случиться за год, когда мы будем жить вместе, и надо, чтобы мы внешне не отличались друг от друга, чтобы и ты выглядел…
— Как князь?
— Вот ты опять… — остановил его Березов.
— Мишель, это в последний раз; я вам… тебе обещаю.
— Пойди, пожалуйста, к моему портному и закажи все необходимое, потом — к моему сапожнику, к моему перчаточнику. А через три дня мы без всякого шума отправимся в путь.
— Значит, я должен нарядиться аристократом… еще одна уступка…
Через три дня Бобино вошел в комнату Березова, одетый с иголочки. Он выглядел настоящим джентльменом.
Берта пришла в полный восторг и если не полюбила его еще сильнее, то все-таки очень им любовалась. Березов был весьма удивлен и доволен тем, как свободно, с изяществом держится молодой человек в новом обличии, и похвалил его.
Но Бобино было все-таки неудобно и почти стыдно участвовать в маскараде, это казалось почти изменой рабочему званию, которым он очень дорожил.
И юноша сказал серьезно и даже с некой суровостью:
— Но ты помнишь, Мишель, о чем уговорились: через триста шестьдесят пять дней я снимаю этот и ему подобные наряды и надеваю свою рабочую блузу.
— Нет, днем позже, — сказал русский.
— Торгуешься? Да еще из-за пустяка.
— Ты забываешь, что этот год високосный, а договоры надо соблюдать со всей точностью, — улыбаясь, заметил Мишель.
На другой день пятеро уехали, сторожить дом остался верный дворецкий Владислав. Приняли все предосторожности: тайное присутствие врагов князь все время чувствовал.
Багаж отправили заранее, а сами отбыли ночью.
Из любви к комфорту и чтобы избежать нежелательного соседства, Березов взял билеты на все места в купе.
Он не напрасно позаботился об этом: в момент отправления поезда некий чуть не опоздавший пассажир настойчиво пытался устроиться у них. Потребовалось вмешательство кондуктора, чтобы помешать постороннему сесть в купе, где оставалось три свободных, но заранее оплаченных места.
Березов и Бобино почувствовали беспокойство, хотя вторгавшегося совершенно не знали.
Инцидент не имел последствий, и они ехали с большой приятностью. Через три дня, без всяких приключений, прибыли в Неаполь. Все успокоились и не подозревали о том, какие новые катастрофы их ожидают.
ГЛАВА 2
Березов тратил деньги не считая. Разместились в прекрасных меблированных комнатах с окнами на площадь Умберто, с видом на Национальный парк, Неаполитанский залив и Везувий[58].
Чтобы всех развлечь и заставить позабыть прошлые неприятности, Мишель возил своих близких по всем достопримечательным местам города и окрестностей. В его планы входило путешествие по древним, красивейшим городам Италии. Заодно князь рассчитывал таким образом отвязаться от врагов, запутать след, если к дружной пятерке парижан приставят соглядатаев.
Впрочем, Березов уже почти не беспокоился. После неприятного, но незначительного и, быть может, случайного инцидента на железной дороге ничто больше не вызывало подозрений. Каждый день они куда-нибудь ездили, иногда довольно далеко за город, нередко возвращаясь за полночь.
За короткий срок в Неаполе завелись кое-какие знакомства.
За табльдотом[59], где чаще всего обедали, разговорились с молодым французом, неким месье де Шамбое, он тоже путешествовал по Италии для собственного удовольствия и хорошо знал страну. В частности, по его советам они побывали в Сорренто[60], в Лазурном гроте, в Помпеях и на Везувии.
Тот же месье Шамбое предложил показать им монастырь Камальдолей[61], чрезвычайно интересное, по его словам, место. Князь согласился, но не назначил дня поездки.
Однажды, когда они сидели у себя в одной из комнат за утренним чаем, к ним позвонили, и, так как слуги по обыкновению не было на месте, Бобино пошел открыть дверь и увидел долговязого худого бритого детину с синеватыми щеками; несмотря на то, что пришедший был тщательно выбрит, корни волос просвечивали сквозь кожу. На темном лице сверкали мрачные глаза. Вообще выглядел он настоящим бандитом. Это был слуга месье Шамбое, про него хозяин как-то говорил, что, несмотря на страшный вид, человек это очень честный, преданный и верный. «Он как бульдог перегрызет горло всякому, кто попытается тронуть меня, — похвастался Шамбое. — Не зря же я заказал ему столь изящную ливрейную форму».
Войдя, лакей как заведенный выпалил:
— Месье послал меня к месье, чтобы спросить месье, не желает ли месье зайти поговорить с месье.
Бобино и в образе джентльмена не утратил любви к юмору, он сунул большие пальцы в жилетные кармашки, с уморительным видом присвистнул, глядя на посланца, и сказал:
— Выражаетесь вы очень изысканно, но немного непонятно. Я совсем запутался во всех этих «месье». Давай-ка почистим фразу и попробуем оба понять, о чем речь; наверное, так: месье, твой хозяин, просит месье, то есть меня, чтобы месье, опять-таки я, сказал тебе, что месье, значит, снова я, изволил пойти с тобой к месье, твоему хозяину… Уф-ф…
— Месье понял, — сказал лакей с прежним невозмутимым видом.
— Не без труда, даже вспотел, — со вздохом сказал Бобино. — А ведь можно было выразиться просто: «Месье хочет вас видеть». Где же он сейчас?
— Внизу, в своем экипаже.
Бобино спустился и увидал месье де Шамбое в роскошном ландо, запряженном парой прекрасных гнедых лошадей.
Читатель, наверное, помнит, что Шамбое — это не кто иной как Бамбош, правая рука графа Мондье. Но ни Березов, ни Бобино не узнали бандита в его новом обличье: перед Мишелем этот безупречно элегантный человек, лакей Жан, едва мелькнул в день, когда отравили несчастную монахиню, а Бобино видел его только во время драки в пивной Лишамора, драка же — не самое лучшее место для запоминания.
Бамбош действительно стал неузнаваем: одетый с безупречным вкусом, говорящий как образованный человек из общества, он держал себя с некоторой мягкой застенчивостью, но очень естественно и был изысканно вежлив. Мерзавец успел хорошо усвоить уроки своего страшного учителя.
Де Шамбое выскочил из экипажа и, дружески пожимая руку Бобино, сказал:
— Извините, пожалуйста, за беспокойство, но не угодно ли вам, князю и девицам проехаться со мной в монастырь Камальдолей? Погода, как видите, прекрасная, воздух такой легкий, экскурсия получится очаровательная. Отправимся когда вы пожелаете, я отошлю кучера и буду править сам. И для всех вас в экипаже при этом хватит места. Посоветуйтесь с князем и постарайтесь убедить, чтобы он согласился ехать сейчас, без приготовлений. Импровизированные удовольствия всегда бывают самыми приятными.
В этот день, несмотря на зимнее время, погода была действительно великолепна.
Но общей экскурсии не суждено было состояться: Берта простудилась на легком морозце. Мария не хотела оставлять сестру. После ласковых препирательств — Жермена и мужчины считали неделикатным отправиться без младших, тем более поездку вполне можно было перенести, — все-таки сошлись на том, что не следует во что бы то ни стало держаться всегда впятером, каждый волен поступать по своему усмотрению и не лишать себя удовольствия, если это не причиняет неудобств другим.
Вскоре князь и Жермена сидели в ландо, напротив них разместились Бобино и де Шамбое, а лакей устроился на козлах рядом с кучером. Лошади побежали шибко, и девушки помахали из окна, прощаясь с путешественниками.
До монастыря Камальдолей от Неаполя на лошади два часа езды. Дорога идет все время в гору, сначала меж красивых загородных вилл, потом густым лесом.
Осмотрели храм с красивой живописью, потом три ряда келий, большинство их пустовало; полюбовались из обширного сада чудесной панорамой гор, холмов, долины, селений и видом на Везувий.
Месье де Шамбое давал пространные пояснения обо всем, что они осматривали.
В монастыре находилось много посетителей, большинство уже собирались в обратный путь, а Шамбое так увлекся достопримечательностями, что возвращался то к одной, то к другой, еще раз приглашая рассмотреть и полюбоваться их красотой.
Наконец князь сказал:
— Пора бы возвращаться, чтобы успеть приехать засветло.
— Не беспокойтесь, лошади у меня хорошие, дорога пойдет теперь все время под гору, и через полтора часа будем в Неаполе.
Между тем все посетители уже отбыли, наши герои оставались последними.
— Надо скорее ехать, — сказал Мишель, уже не на шутку обеспокоенный.
Начали искать ландо, но оно куда-то исчезло. Шамбое обозлился и принялся во весь голос звать своих слуг.
— Негодяи, наверное, где-то выпивают, — говорил он, все более распаляясь. — Презренная порода эти лакеи!
Наконец какой-то монах сказал, что слуги ускакали в ближайшее селенье подковать лошадь, уехали довольно давно и вот-вот должны бы вернуться.
Ночь быстро надвигалась, на горизонте показались облака и свет над кратером Везувия становился все ярче на темном фоне неба.
Жермена говорила с беспокойством:
— Как это неприятно… Мы вернемся поздно… Сестры будут очень встревожены… Нам предстоит ехать в темноте… Через лес… Говорят, в этих местах встречаются разбойники… Я очень волнуюсь.
— Разбойники! Да вы изволите шутить, мадемуазель! Разбойники существуют в наше время только в романах, здешние места очень спокойны, а кроме того, господа, вероятно, имеют при себе оружие, — сказал Шамбое, как бы спрашивая об этом.
— Разумеется, я вооружен! — сказал Мишель.
— Пусть попробуют напасть! — добавил Бобино.
Наконец возвратилось ландо.
Шамбое разругал слуг, пригрозил уменьшить жалованье, если они еще раз сыграют подобную шуточку. Те униженно извинялись, говорили, что кузнец не мог скорее подковать лошадь, как нарочно, у него было много клиентов, пришлось дожидаться…
Но время шло, и Шамбое оборвал длинное объяснение. К вечеру сильно посвежело, в ландо подняли верх, зажгли фонари.
Шамбое приказал кучеру ехать кратчайшим путем и поскорее.
Дорога шла большим лесом, сделалось совсем темно, только изредка показывалась луна, пробираясь сквозь быстро движущиеся облака. Огромные деревья отбрасывали длинные тени, похожие на груды сцепившихся скелетов.
Жермена прижималась к Мишелю, изредка взглядывая в окошко. Шамбое не умолкая говорил, стараясь развлечь спутников; рассказывал о своих путешествиях, спрашивал Мишеля о России, допытывался у Жермены, понравился ли ей Неаполь.
Они ехали минут сорок, когда кучер вдруг несколько раз щелкнул кнутом на какой-то странный манер. Лошади побежали зигзагом, экипаж накренился у края откоса. Произошел толчок, кучер выругался, и дверца ландо задребезжала от сотрясения. Экипаж, перевернувшись, полетел в овраг вместе с лошадьми, отчаянно брыкавшими ногами, пассажиров сильно встряхнуло, однако не ранило, рытвина оказалась неглубокой.
Мишель старался защитить от ударов Жермену, а Бобино попытался выскочить, чтобы им помочь. Он уже вылезал из кузова, когда почувствовал, что его схватили сзади за ворот, и увидел, что упряжка окружена дюжиной людей в масках. Он услыхал, как Жермена закричала:
— Разбойники!.. Боже!.. На нас напали разбойники!
Действительно, это были они, подоспевшие к тому моменту, когда случилась авария; похоже, бандиты подстерегали на дороге. На некоторых были костюмы неаполитанцев, другие одеты во французское платье. На всех — черные маски и много оружия: за поясом ножи и револьверы, за плечом карабины.
Жермена продолжала кричать:
— Помогите!.. Помогите!.. Мы погибли!..
Мишель заслонил ее своей гигантской фигурой и зарядил пистолет. Бобино вырвался из рук схватившего его разбойника и отчаянно и умело бил того ногами. Затем вывернулся наконец и изо всей силы ударил головой в живот негодяя, тот повалился и остался лежать. Наконец отважному типографу удалось выхватить револьвер и выстрелами в упор уложить двоих. Такой же результат получился от стрельбы Мишеля.
Из двенадцати нападавших осталось семеро — отличный результат! Эти оставшиеся в живых, обозленные до крайней степени, орали:
— Убить их!.. Всех убить! — и целились в отважную группу, где стояли Жермена, Мишель и Бобино.
— Брать живыми! Живыми, черт подери! — скомандовал по-французски сильный повелительный голос.
Березов снова поднял пистолет. В тот миг, когда он собирался спустить курок в третий раз, над головой взвилось нечто вроде черного облака, и Мишель вмиг оказался с макушки до ступней опутанным сетью.
Тщетно он пытался вырваться из прочных тонких веревок, оказать сопротивление: сеть бросила опытная рука. Оставалось только кричать, и князь взывал:
— Бобино, спасай Жермену!.. Спасай! Бегите!..
Жермена продолжала отчаянно взывать о помощи, а бандиты не решались подойти, видя, что ее защищает смелый Бобино.
— О Мишель! Все кончено!.. Мой спаситель!.. Мой друг!..
— Бегите оба! Бегите скорей! — кричал Мишель.
Бобино метко расправился еще с двоими, попытавшимися приблизиться к Жермене.
Пользуясь возней уцелевших налетчиков — они поднимали и ставили на колеса ландо, укладывали в него опутанного Мишеля, — Бобино схватил Жермену в охапку, перескочил через овраг, бросился в густую заросль, сделал несколько шагов наугад и затаился за кустом. Луна, к счастью, скрылась, что уберегло их на какое-то время от преследования.
Жермена тихо плакала, бессвязно говорила, что лучше умереть, раз ее повсюду преследуют несчастья. Бобино просил ее замолчать. Он очень волновался, начав понимать, что нападение произошло не случайно, припоминая, как странно вел себя Шамбое, который со своими слугами исчез именно в минуту опасности.
У Бобино оставался в револьвере единственный патрон, было страшно думать, как сопротивляться, если бандиты их обнаружат.
Вдвоем ощупью сделали несколько шагов, чтобы забраться поглубже в чащу, но сухие ветки трещали под ногами, пришлось остановиться, чтобы этот звук их не выдал.
Увидев углубление в земле, укрытое кустарником, Бобино забрался туда вместе с Жерменой, надеясь, что бандиты не смогут их найти.
А разбойники шарили по лесу, громко и скверно ругаясь. По звукам и крикам стало понятно, что подняли ландо и впрягли лошадей. Наконец послышался стук колес и топот копыт. Экипаж, как обоим показалось, покатил в сторону монастыря. Несомненно, увозили Мишеля.
После этого какой-то тип и с ним еще трое прошли совсем близко от их укрытия. Один сказал на чистом французском:
— Ну, вы и храбрецы-молодцы, чтоб вам пусто было! Вот это побоище! Упустили двоих, а нас было двенадцать против двух мужчин и одной женщины. Хорошо же вы работаете! Двоих надо найти, они не могли уйти далеко. А ну! Быстро! Обыщите весь этот угол. Только чтобы женщина не получила ни единой царапины! Поняли? А мужика можете убить как собаку.
Бобино почувствовал, что разбойники совсем рядом. Он положил палец на курок револьвера, а левой рукой зажал рот Жермене, которая не могла подавить еле слышные рыдания.
ГЛАВА 3
Уезжая, Мишель обещал оставшимся девушкам вернуться к пяти. До назначенного срока оставалось еще полчаса, а сестры, соскучившись сидеть одни, уже смотрели в окно, поджидая путешественников.
В половине шестого барышни начали беспокоиться, тревога росла с каждой минутой, они начали думать, что со старшими случилось несчастье. Вскоре наступило отчаяние.
Нет сомнения! Экипаж свалился в пропасть, или напали разбойники и всех убили. Они плакали, не зная, что им делать, и не смея выйти из комнат, посоветоваться хоть с кем-нибудь. Одни, в чужой стране!.. Что с ними теперь будет?! И какая беда произошла с остальными?
Наконец в восемь часов возвратились Жермена и Бобино.
— А где Мишель?!
У Бобино щека была в крови, на шее большая царапина, у Жермены глаза заплаканы. Оба мокрые, в грязи, платье изорвано, в волосах запутались сухие листья и колючки.
Жермена упала в кресло, восклицая:
— Боже мой! Боже мой!.. Этому не будет конца… Рок нас преследует!
— Что случилось?.. Какое новое несчастье?.. Где Мишель? — спрашивали сестры.
— Схвачен бандитами… Увезен… Мы все чуть не погибли!
Все три сестры зарыдали, а Бобино старался ободрить их, говорил, что не надо впадать в отчаяние, он все сделает, чтобы выручить Мишеля.
— Друг мой! — говорила Жермена типографу. — Надо его непременно найти, любой ценой выручить, а то они убьют его!
О страшном событии уже узнал весь отель. Пришел хозяин в сопровождении нескольких постояльцев, всем не терпелось услышать, что и как произошло.
Бобино рассказал с самого начала, завершив тем, как они с Жерменой крались по придорожной канаве, пока не добрались до чьей-то виллы, просили о помощи, но их не пустили и даже пригрозили, что будут стрелять будто в воров. Пошли дальше, и наконец один кузнец на повозке доставил французов в Неаполь.
Пока Бобино говорил, Жермена не раз прерывала:
— Спасите князя! Спасите! Умоляю вас!.. Может быть, его сейчас мучают… Убивают!..
Она обращалась сразу ко всем, кто находился в комнате, а быть может, к Богу, или же твердила почти бессознательно.
Бобино сказал:
— Я иду во французское консульство.
— Оно открыто для посетителей только с десяти до четырех, — сказал владелец отеля.
— Тут особый случай, найдется же там хоть кто-нибудь, не оставят соотечественника в беде, до утра так далеко, — отвечал юноша.
Кто-то догадался спросить:
— А как же месье Шамбое и его слуга, что с ними?
— Ничего не знаю! Их, наверное, схватили разбойники с самого начала. В темноте ничего не было видно, а потом мы с князем больше всего думали о том, как защитить Жермену.
Наконец любопытствующие ушли. Бобино заказал обед для сестер, настояв, чтобы они хоть немного подкрепились; сам же наспех отхлебнул немного бульона, выпил стакан бордо[62] и побежал в консульство.
Над роскошным зданием развевался трехцветный флаг, все окна ярко светились, и сквозь стекла долетали звуки вальса.
«Идет бал, тем лучше, — подумал Бобино, — значит, я наверняка застану консула».
Швейцар в парадной ливрее встретил посетителя очень вежливо, решив, что он из числа приглашенных, но, когда Бобино сказал о необходимости сейчас же повидаться с консулом по весьма важному делу, служитель принял надменный вид и сухо заявил:
— Господина консула сейчас нельзя видеть, он не может оставить гостей.
— А секретарь?
— Господин секретарь занят тем же.
— Но есть же здесь хоть какой-нибудь дежурный чиновник, с кем можно поговорить?
— Все находятся на официальном вечере, приказано никого не беспокоить. И вообще, в неприемные часы консульство закрыто для посетителей. Приходите завтра к десяти.
— Но завтра может быть поздно. Пока господин консул танцует, бандиты с большой дороги нападают на французов.
В продолжение разговора Бобино слышал звуки музыки, смех и даже — или ему показалось? — шарканье бальных туфель по паркету. Швейцар же принимал все более и более начальственный вид и надвигался на нежданного просителя с намерением выпроводить, повторяя:
— Я ничего не могу поделать… Завтра в десять… Завтра в десять…
Бобино хотелось смазать по бритой физиономии, но он понимал, что не сделает этого, здесь не кабак папаши Лишамора. Все-таки задор парижского гамена[63] в нем взыграл, и он, встав перед швейцаром, выпалил:
— Ты всего-навсего хам в ливрее и можешь передать своему хозяину, что он ничем не отличается от тебя!
Пока швейцар приходил в себя от неслыханной наглости, Бобино попросту удрал. У него уже созрел другой план: обратиться в Российское консульство, поскольку Березов был русским.
У прохожего он спросил адрес и через несколько минут звонил в нужную дверь, и служащий, выслушав краткое объяснение, очень любезно ответил:
— Господин консул сейчас на торжественном приеме у французского коллеги, но дело очень серьезное, я сейчас пошлю туда, а вы пока посидите, пожалуйста, здесь.
Через четверть часа консул прибыл.
Выслушав рассказ, он, как человек серьезно заинтересованный делом и готовый помочь, озабоченно сказал:
— Вот незадача! В столь поздний час неудобно беспокоить начальника городской полиции. Однако надо действовать немедленно.
Подумав, он спросил:
— Вы точно помните место, где на вас напали?
— Прекрасно помню!
— Я сейчас же снаряжу группу хорошо вооруженных людей, и вы поедете вместе с ними. Они отправятся туда под видом обыкновенных путешественников. Весьма возможно, что разбойники еще там, поджидают новые жертвы. Вас будет много, и вы сумеете захватить кого-нибудь из бандитов. По-моему, это лучшее, что мы сейчас можем сделать, а завтра начнем действовать в зависимости от результатов. Подготовьтесь, пожалуйста, я сейчас отдам распоряжение собрать отряд.
Бобино побежал в гостиницу, наскоро поведал девушкам о своих визитах, добавил, что вернется не раньше утра, зарядил револьвер, взял запас патронов.
Прощаясь, Жермена говорила плача:
— Привезите, ради Бога, его и берегите себя!
Перед подъездом консульства уже стояла фура, запряженная тройкой лошадей, под дугой коренника[64] громко зазвенел колокольчик. На крышу фуры[65] в качестве приманки для грабителей уложили всякие сундуки и чемоданы. Внутри сидел отряд добровольцев из работников посольства, они смотрели на экспедицию как на интересное развлечение. Бобино поместился с ними.
Представитель царского правительства, накинув поверх вечернего костюма меховую шубу — а русские, похоже, не расстаются с нею даже на юге — отдавал последние распоряжения.
Фура тронулась, и тут консул вдруг решил тоже поехать туда. Все удивились и начали почтительно отговаривать. Бобино присоединился:
— Нет, нет, господин консул! Это невозможно! С вами может произойти несчастье.
— Не в большей мере, чем с вами, — возразил храбрый русский, улыбаясь. — И мне очень хочется дать взбучку бандитам…
Он послал одного из служителей за ружьем, когда тот принес, консул сел со всеми в фуру и крикнул:
— Поезжай! И быстро!
Фура с грохотом понеслась, и никому не пришло бы в голову, что в ней сидел вооруженный отряд, готовый сражаться за своего соотечественника.
Часа через полтора Бобино, все время наблюдавший за дорогой, доложил:
— Вот мы подъехали к месту, оно метрах в ста отсюда.
Дали знать кучеру, тот остановил упряжку. Лошади звенели бубенчиками; таким образом разбойники могли услышать, что едут путешественники.
ГЛАВА 4
Тем временем князь Березов был уже гораздо ближе к Неаполю, чем предполагал Бобино.
Сняв сеть, русского крепко связали, всунули кляп в рот, затянули сложенный в несколько слоев платок на глазах и везли неведомо куда.
Он почувствовал, что повозка поднималась в гору, потом свернула налево на проселочную дорогу, стук колес и копыт стал глуше на мягком грунте. Затем опять изменили направление и двигались, вероятно, лесом — ветки деревьев то и дело стучали по верху возка. Задыхаясь на подъеме, кони тянулись шагом и наконец остановились.
Мишель ощутил, как чьи-то сильные руки подняли его за плечи и за ноги. Несли сначала через кусты, потом по канаве, устланной опавшей листвой, от нее тянуло сыростью и прелью. Остановились, открылась железная дверь и стукнула со звоном о стену. После долго шли по каменным плитам какого-то коридора, открыли еще одну массивную, похоже, деревянную дверь, за ней каменный пол сменился паркетным. Еще дверь, и звук шагов разбойников приглушило толстым ковром.
Сквозь повязку на глазах Березов ощутил яркий свет. Мягкий диван принял измученное тело. Руки и ноги оставили связанными, но вынули кляп изо рта и сняли с глаз повязку.
Мишель увидел, что находится в большой комнате, обитой красивыми тканями и обставленной прекрасной мебелью по последней парижской моде. В камине жарко пылали приятно пахнущие поленья.
На большом открытом рояле, казалось, только что кто-то играл.
Блестели зеркала с изысканными украшениями, стояли ширмы черного дерева, инкрустированные медью и перламутром. Под потолком висела хрустальная люстра, в углу стоял торшер с подставкой из малахита, и к стенам были прикреплены причудливые бра[66] изысканной формы в виде маленьких тюльпанов.
Чего-то не хватало в этом великолепном помещении. Чего? Князь напрягся и понял: окон.
Если это был притон разбойников, то, несомненно, самый современный.
Не у кого было спросить, куда его привезли, да и вряд ли последовал бы ответ.
Через некоторое время вошел высокий лакей в полумаске. Он церемонно спросил:
— Месье просит спросить месье, не желает ли месье, чтобы ему развязали ноги и руки?
Березов удивился такому обилию «месье», запутавшему в свое время и Бобино, но без труда понял смысл: ему предлагают снять путы. И ответил:
— Ничего, естественно, не имею против.
Тогда слуга добавил:
— При условии, что месье не произведет никаких насильственных действий.
— О! Это я вам обещаю, поскольку они были бы совершенно бесполезны.
Слуга перерезал веревки, от них уже давно затекли и посинели руки и ноги. Мишель вздохнул с облегчением и спросил:
— Можешь ли сказать, кто этот месье, пославший тебя? Вероятно, твой хозяин и предводитель шайки бандитов?
Но лакей в ливрее удалился, ничего не ответив, вслед за ним снова поднялась портьера, явился человек без маски и твердым голосом произнес:
— Это я! Граф Мондье!
Мишель даже привскочил от удивления, не в состоянии поверить глазам.
— Вы?! Это вы — Мондье? Решительно, Италия страна неожиданностей… Не всегда приятных. Но я еще сомневаюсь… Ведь могут же существовать и два мерзавца так похожих друг на друга.
С презрительной усмешкой граф подошел ближе и сказал:
— Я действительно граф Мондье собственной персоной. Князь Березов, посмотрите на меня… Теперь вы узнаете?
— Узнаю… — медленно произнес Мишель. — Негодяй, что изнасиловал юную девушку, вполне может быть и разбойником с большой дороги. Это отлично дополняет характеристику подлеца, с которым я встречался в Париже. Так вы и грабитель? Не так ли?
— Надо жить! — с лукавством ответил Мондье, сев на некотором расстоянии от князя.
— При случае и убиваете?
— При случае… как, например, с вами. Вообще, я довожу любое дело до конца и за все расплачиваюсь собственной персоной. Знаете ли, в обществе столько убийц и воров, о чьем существовании не подозревают и кто даже не рискует своей шкурой.
Слушая эти слова, произносимые жестоким и насмешливым тоном, Березов почувствовал, как сердце сжимается; он понимал, что погиб. Но молодой человек был храбр и, глядя большими честными и добрыми глазами прямо в глаза противника, отозвался просто:
— Я знаю, что меня ждет… Ладно, убивайте… Я не боюсь смерти.
— Это самое я и намерен сделать через несколько минут, потому что вы мне очень мешаете. Однако вы слишком торопитесь; дайте мне насладиться победой.
В этот страшный миг, когда уже ничего не могло спасти, когда чудо казалось невозможным, милый облик Жермены предстал перед князем. Он подумал, что никогда больше ее не увидит, и воспринял это как мужественный человек, но хотелось знать, удалось ли ей убежать от разбойников, и князь спросил:
— А Жермена?.. — И в голосе его невольно прозвучала мольба.
— Жермена сейчас в отеле с сестрами и Бобино. Да, нам не удалось ее захватить, но, по зрелому размышлению, я решил, что это даже к лучшему. Мне было бы неудобно предстать перед ней в качестве разбойника. Она никогда мне этого не простила бы. А то, что я некогда овладел ею отчасти насильственным манером… Это лишь доказательство любви, такое женщины всегда прощают… Она будет моей, когда я этого захочу… Да, князь Мишель, вы нарвались на того, кто сильнее вас! Помните вы человека, что ворвался в ваше купе, когда вы уезжали из Парижа?.. Это был я, изменивший наружность до неузнаваемости. Я следил за вами до Марселя и там, как и вы, сел на пароход, отплывающий в Неаполь. Я бы следовал за вами до края света, но, на мое счастье, вы остановились в этом городе… Поскольку вам предстоит умереть, я могу рассказать. Я каждый год приезжаю сюда на два-три зимних месяца, чтобы совершать дела, о которых вы теперь знаете. Мы сейчас в недоступном подземелье — как видите, оно прекрасно устроено. Никто не сможет найти вход в него. Это разбойничье гнездо графа Мондье, синьора Гаэтано, как меня именуют в здешнем обществе. Наверху, в нескольких метрах отсюда, стоит моя вилла, одна из тех, какими вы любовались по дороге в монастырь. Я принимаю тут все высшее общество, всех богачей, титулованных особ и тех, кто, как говорится, в моде. Никому из них в страшном сне не привидится, что я предводитель бандитов, о чьих подвигах население округи рассказывает с ужасом и восхищением столько страшных историй…
Мишель, видя перед собой столь преступную сильную личность, был в изумлении. Оно сочеталось с ужасом при мысли о судьбе Жермены, ее сестер и Бобино. Князь со страхом думал о том, как они будут спасаться от этого человека, соединившего в себе невероятную хитрость с нечеловеческой жестокостью.
А Мондье продолжал с холодной насмешливостью:
— Когда я увидел, в каком отеле вы остановились, я поместил рядом с вами своего подручного Бамбоша, известного в обществе под именем месье де Шамбое. Он хорошо сыграл свою роль, если благодаря ему вы попали мне в когти… Я устроил в отеле еще двух своих слуг, и потому всякий час вашей жизни сделался мне известен. Я буду всегда знать и о том, что делает Жермена. Будет легко захватить ее, когда мне станет угодно, но прежде я хочу управиться с Бобино и с вами. С мальчишкой я разделаюсь завтра, а вас убью сейчас.
Вынув пистолет, Мондье прицелился в князя.
Тот не шевельнулся.
Мондье опустил револьвер и спросил:
— Может быть, вы хотите помолиться перед смертью?
— Нисколько! — с презрением ответил Березов. — Я никому не сделал зла, и, если существует справедливость Божья, я буду прощен, как все, кто не совершил вольного греха. Но позвольте заметить, что, убив меня, вы совершите глупость, от которой сами же и пострадаете.
— Каким это образом? — спросил бандит.
— Жермена меня любит, — сказал князь, хотя был твердо убежден, что это не так. — Она любит одного меня, и, если я умру, она будет всю жизнь носить по мне траур и никогда не выйдет замуж; она почти наверняка умрет с горя. Убив меня, вы убьете и ее.
Мондье счел, что князь сказал правду, и задумался.
«Это вполне возможно, — размышлял он. — Она может отравиться, утопиться, вскрыть себе вены, и тогда… к чему все, что я сделал?.. Но я хочу ее!.. Она будет, должна быть моей!.. Но как этого достигнуть?.. Каким путем?..»
Видя, что Мондье в нерешительности, Мишель решил, что граф сдается, что ему представилось глупым бессмысленное убийство двоих. Березов воспользовался этими действительными или воображаемыми колебаниями противника, чтобы предложить своего рода сделку. Он сказал:
— Если вы согласились со мной, зачем тогда вам надо мучить, постоянно пугать ее преследованиями? Этим вы только усиливаете ее ненависть… Предлагаю вам деловое решение. Вы явно нуждаетесь в деньгах… иначе зачем вам заниматься разбоем? Я дам любую сумму, какую вы назначите, только оставьте в покое Жермену, откажитесь от нее. Вы знаете, что я богат. По моему требованию, заверенному консулом его величества царя, Петербургский банк переведет мне телеграфно столько, сколько я укажу, в банк Неаполя. Вы получите целое состояние, вам не придется заниматься разбоем, что и опасно и тяжело. Вы сможете жить широко… Но повторяю: перестаньте преследовать Жермену!
Мондье молча бросал на Березова злобные взгляды. Любовь князя к Жермене разжигала страсть графа с еще большей силой и мучила жестокой ревностью. Но Мондье все отчетливее понимал, что, если между ним и Жерменой встанет убийство, особенно убийство князя, он навсегда ее потеряет. И граф искал другого пути к достижению цели.
Предложение откупиться ему понравилось. Деньги, конечно, приятная вещь, особенно когда сами идут в руки. Но ему непременно нужна была и Жермена, счастливая, улыбающаяся, забывшая князя.
Мондье почувствовал, что главное для него — убить ее любовь к Березову. Хорошо бы при этом еще и получить от богача кругленькую сумму, минуя при этом участие правительственных учреждений. Но как добиться и того и другого?
Вдруг лицо его засияло: кажется, он нашел некий адский способ, вполне его достойный и беспроигрышный.
Подумав еще немного, он почти приятельски сказал:
— Вы правы, Жермена никогда меня не полюбит… Это приводит меня в отчаяние, но тут я бессилен. В самом деле, зачем становиться виновником ее смерти? Я слишком ее люблю и поэтому предпочту знать, что она счастлива с другим, нежели причинить ей хотя бы малейшее зло. Но я вправе ожидать большого, очень большого вознаграждения. Вы сами это предложили. Однако я предлагаю иной способ передачи денег, минуя консульство, — зачем нам впутывать власти в это сугубо личное дело? Вы мне даете миллион. Много, но я знаю, что вам это под силу. Вы приготовите телеграмму, а я немедленно отправлю ее в Петербург, с тем чтобы ваш банкир известил своего коллегу в Неаполе о выдаче указанной суммы по чеку на предъявителя с вашего здешнего счета. Вот и все, очень просто, зачем тут вмешательство консула? Сделка совершится между нами двоими, без посредников. Деньги получу лично я. А взамен через шесть дней вы окажетесь на свободе. Я оговариваю этот срок, потому что мне надо принять некоторые меры, чтобы обеспечить собственную безопасность. Затем вас отвезут ночью на то самое место, где вы были схвачены, вы увидитесь с Жерменой, и я перестану вас обоих беспокоить. Согласны с таким планом?
Березов не стал спорить о сумме. Он был готов отдать все, что имел, и зарабатывать на жизнь собственным трудом, лишь бы обеспечить спокойствие Жермене. Миллион — это не слишком дорогая плата за счастье любимой. И притом он сам освободится, встретится с нею, и — князь чувствовал — рано или поздно ее сердце будет принадлежать ему. И для всего этого надо всего лишь много денег и немного терпения!
— Клянетесь ли вы мне честью, что все будет так, как вы обещаете?
Мондье ответил резким высокомерным тоном:
— Я клянусь в этом… Даю честное слово джентльмена и бандита… Да, именно так. Ведь у нарушителей законов тоже имеются свои правила чести…
Березов вынул из кармана чековую книжку, сел и подписал чек на один миллион. Потом заготовил текст телеграммы своему петербургскому банкиру и передал то и другое Мондье, сказав:
— Я уступил вам во всем, но всегда помните, на каких условиях. Если вы нарушите клятву, то имейте в виду, что, как я ни бессилен сейчас, всегда найдется тот, кто отомстит за меня.
— Ничего не опасайтесь, — ответил Мондье со странной улыбкой. — О чем договорились, о том договорились, через восемь дней вы будете с Жерменой.
И мошенник оставил князя одного.
Поднимаясь по лестнице, Мондье с торжеством думал о том, сколь блестящая мысль пришла ему в голову.
«Да!.. Мысль превосходная… Все получится, как я задумал… Я в этом уверен… Я освобожусь от Березова и получу Жермену и ее сердце… Жермену и ее любовь!»
ГЛАВА 5
Покинув пленника, Мондье зашел в соседнюю комнату, где находился Пьер, приставленный сторожить Мишеля.
Это был тот самый человек, что приходил передать приглашение совершить экскурсию в монастырь Камальдолей, а затем сидел на козлах рядом с кучером ландо Шамбое, вернее Бамбоша. Он состоял кем-то вроде нижнего чина в разбойничьей организации, испытывал безграничное уважение к своему прямому начальнику и был ему абсолютно, фанатически предан, а по отношению к Мондье это был тот верный раб-слуга прежних времен, каких уже нет ныне.
После того как дверь комнаты, где находился Березов, крепко заперли, Мондье позвал Пьера с собой. Миновав несколько роскошных подземных помещений, соединенных потайными дверями, они оказались в прекрасном зимнем саду, полном редких экзотических растений.
Отсюда был вход в несекретный жилой дом. Вилла Мондье отличалась небывалой роскошью.
В двухэтажном с мансардой строении, кроме спальных, были большая и малая гостиные, столовая, комната для карточной игры, курительная, библиотека, рабочий кабинет и просторная кухня. Словом, все, что мог бы желать иметь самый требовательный богатый человек.
На конюшне стояли шесть чистокровных лошадей и в каретном сарае три экипажа с гербами графа Мондье.
В мансарде и в помещениях для слуг разместилась многочисленная прислуга, она составляла ядро разбойничьей шайки, руководимой Мондье, остальная ее часть жила в лесах или даже в городе под видом нищих, рабочих и буржуа, в зависимости от распоряжения хозяина, а также от их способностей и знаний. Шайка была организована по образу настоящей воинской части: в ней были лейтенанты, капралы[67] и рядовые. Все они подчинялись строгим требованиям дисциплины и признавали неограниченную власть своего предводителя, имевшего над ними право жизни и смерти. В зависимости от звания и успехов по службе бандиты получали соответственное жалованье и долю из награбленного. Их связывали между собой общие преступления, нерушимое правило: один за всех, все за одного, готовность по первому знаку предводителя убить не только ослушника, но даже проявившего нерешительность в действиях.
Все это делало бандитов безупречно преданными и храбрыми. Они обожали своего главаря, не прощавшего малейшего нарушения и одновременно проявлявшего истинно разбойничью щедрость в вознаграждении за службу.
Когда Мондье уезжал, негодяи отдыхали, рассеиваясь по разным местам, или «работали» на себя. При возвращении хозяина на зимний сезон по первому сигналу члены банды собирались и занимали положенные им места, зная, что в эти месяцы под началом патрона они больше всего заработают, а после всех прибыльных операций их ждут великолепные пирушки. Разбойники восхищались умом и ловкостью предводителя, умевшего сочетать грабеж с принадлежностью к высшему обществу. Это позволяло Мондье организовывать самые выгодные операции, заманивать в ловушки богачей, с кем он общался и был осведомлен об их средствах, привычках и характерах. Первыми попадались в сети ближайшие его друзья.
Наиболее преданными графу, хотя и не самыми ловкими и сообразительными, были лакей Пьер и кучер Лоран, они служили уже больше пятнадцати лет, знали часть тайн хозяина, никогда их не выдавали, оставаясь немы как евнухи гаремов и готовы на все по первому знаку патрона — даже на доброе дело.
С этого года Мондье присоединил к ним Бамбоша, образовалось очень опасное трио, ведь слуги графа имели возможность проникать во все слои общества.
Бамбош достиг наконец вершины своих желаний: он участвовал в роскошных пиршествах, встречался с очаровательными женщинами, кошелек его никогда не пустовал. Правда, иногда приходилось «работать» — рисковать своей шкурой, но нельзя же все обрести, ничем не жертвуя. К тому же Бамбош ничего не имел против участия в рискованных авантюрах. Он был по природе бойцом.
Рабочий кабинет Мондье являл собой прекрасную комнату, где соблюдался строгий порядок, такой, что совершенно невозможно было догадаться о роде занятий хозяина.
Наряду с прочим, в ящиках стола и в шкафах хранились тщательно разложенные по карточным папкам точные планы города и окрестностей и подробные сведения о состояниях и образе жизни многих жителей.
Мондье развалился в кресле и сказал Пьеру:
— Позови Бамбоша и приходи обратно.
— Всех убитых убрали? — спросил граф, когда приближенный явился.
— Да, патрон. Я их перевез в подземелье, там и похоронят этой ночью.
— А раненые?
— Хирург прибыл и скоро начнет штопать их шкуры… Парням лихо досталось, не очень приятно иметь дело с типами, подобными моему неприятелю Бобино.
— Все будет хорошо оплачено и с процентами… Бедным ребятам придется с месяц проваляться в больнице… Но они не останутся внакладе, получат свою долю и от всех дел, которые проведем во время их болезни.
Да, весьма недурно наладил свою деятельность знатный парижанин — великосветский кутила, ставший еще и грабителем. Его банда имела подземный дворец, собственную больницу с хирургом и даже особое тайное кладбище, где убитых убийц хоронили рядом с их жертвами.
— Дорого же обошлась нам эта экспедиция, — сказал Мондье.
— Надеюсь, вы заставите князя хорошо расплатиться, — ответил Бамбош.
— Я потребовал и, по сути, уже получил от него миллион, — сказал граф.
— Великолепно! А он заплатит? Не надует?
— В этом я уверен. Кроме того, я принял все меры к тому, чтобы не допустить обмана.
Бамбош, пришедший сначала в восторг, вдруг задумался и замолк.
— Почему ты вдруг приуныл? — спросил Мондье. — О чем ты задумался?
— Мне пришло в голову, патрон, что, получив миллион, вы перестанете заниматься «делами», и тогда прощай хорошие экспедиции на большой дороге! Прощай легкая добыча счастливых бандитов! Прощай красивая жизнь, которую я едва успел отведать!
Граф рассмеялся.
— Успокойся, малыш! Миллион — немалый кусок, но его не надолго хватит при большом аппетите! Мне надо пополнить свою казну, уже почти пустую… Оплатить сполна услуги наших парней и обеспечить твою особу, мой милый негодяй. Подумаешь… миллион! Да мы еще много их получим, если черт, наш покровитель, нам поможет!
— В добрый час! А то я уже вправду боялся… Выходит, миллион только начало, и мы еще не один такой вытянем из милейшего князя Березова! Ведь вы его не выпустите?
— Через восемь дней он будет свободен.
— Патрон! Вы смеетесь надо мной… Лишиться такого баснословно богатого пленника, не вытряхнув из него целую гору золота?! А Жермена?.. Вы возвратите ей своего соперника… такого опасного? Разве вы больше не любите эту прекрасную особу?
— Люблю больше прежнего.
— Тогда я ничего не понимаю!
— Я хочу вернуть князя к ней именно потому, что люблю ее. Или я непростительно ошибаюсь, или Березов сделает все для того, чтобы Жермена полюбила меня. Сначала он к ней охладеет, а потом возненавидит.
— Вот это здорово. Только, извините, а это в самом деле возможно, вы уверены?
— Да, Бамбош. Князь даже вдалеке останется в моем полном повиновении, будет думать, говорить, желать, действовать так, как захочу я, станет марионеткой, управляемой моими руками.
— Патрон!.. Скажи такое кто другой, я бы подумал, что надо мной смеются!
— Известно ли тебе о гипнотизме, Бамбош?
— Очень мало… только понаслышке.
— В наше время о нем почти не знают, но в древности им занимались много, и я последовал примеру далеких предшественников. Тем более что кое-кто из современных ученых его как бы заново открыл, и не только сами они этим воспользовались. Гипнотизмом объясняется много странных вещей, а позднее он, несомненно, откроет людям секрет жизни… секрет любви… Твердо верю в силу внушения. Я не новичок в этом деле и вообще не берусь за то, чего не умею. Проведя много испытаний, я убедился в своих способностях, которые теперь хочу испробовать на князе Мишеле. Уверен, что опыт удастся. Сегодня же вечером попробую Березова усыпить.
— И вы думаете, он вам позволит добровольно?
— О! — воскликнул Мондье. — Я знаю способы… Способы безошибочные… Вот увидишь!
— Ничего большего сейчас не желаю, мне это представляется очень занимательным!
— Покорение воли одного человека другому — зрелище поинтереснее любого спектакля. Когда мой подопытный будет усыплен и не чувствителен ни к чему — ни к физической боли, ни к душевным потрясениям, станет игрушкой в моих руках и моим рабом душой, тогда я сделаю все, что мне будет угодно. Я заставлю его разлюбить Жермену, сделаю своим другом, твоим другом…
— Тысяча чертей!
— И все это только силой моей воли…
— Но если он не поддастся внушению? — спросил Бамбош, восхищенный услышанным, но не вполне доверяющий ему.
— Я сначала попробую, поработаю над ним семь дней, сделаю подвластным гипнозу, послушным, вполне покорным. Ты будешь присутствовать при всех опытах и сам все увидишь.
— Черт подери! Это было бы очень выгодно уметь так покорять людей. Я бы тогда внушал хорошеньким дамочкам отдаваться мне, а богатым старикам — подписывать на мое имя дарственные и завещания.
Слуга пришел доложить, что господину графу подано кушать. Мондье приказал Пьеру отнести еду и князю и прошел с Бамбошем в столовую, где их ждал изысканный ужин.
В десять часов они еще сидели за ликерами и курили сигары, когда кто-то попросил разрешения поговорить с графом.
Это был один из его людей, прибежавший доложить, что русский посол собственной персоной вместе с Бобино и отрядом вооруженных людей направился туда, где был совершен налет на князя, — в надежде напасть на группу разбойников.
Мондье рассмеялся.
— Как наивны эти добрые люди! Вообразили, будто мы станем их там дожидаться! Пусть позабавятся, разыскивая нас, а у меня сейчас дело более важное, чем обезвреживать дураков-мстителей. Приказываю, чтобы, начиная с этого часа, повсюду было полное спокойствие семь дней.
Посланец почтительно поклонился и вышел.
Через несколько минут вернулся Пьер.
— Господин граф, пленник не пожелал есть, он, наверное, боится, что его отравят.
— Он отказывается от пищи, тем хуже для него. Когда очень проголодается, сам попросит. К тому же мне совсем не надо, чтобы он слишком насыщался. Чем меньше он будет есть, тем более раздражимым станет и, следовательно, легче поддастся моему опыту. Пойди к нему, Пьер, прихвати смирительную рубашку и веревку, мы явимся вслед за тобой.
Мондье предложил Бамбошу еще по стаканчику, сказав:
— Мне надо еще поднять тонус.
Выпили с удовольствием.
— А теперь идем, Бамбош. Я в прекрасном состоянии, из меня просто исходят флюиды![68] Или я самонадеянно ошибаюсь, или ты увидишь нечто совершенно удивительное.
Сказав это, он повел Бамбоша к пленнику.
Березов действительно имел основания опасаться, что Мондье, получив чек и телеграмму, захочет дать ему яду, и поэтому решительно отказался от весьма изысканных блюд.
— Князь, неужели вы мне не доверяете до такой степени? — спросил граф, войдя. — Но это просто нелепо, извините! Теперь, когда мы с вами поладили, вы мой гость и с вами будут обходиться в соответствии с этим положением и вашим высоким достоинством. Если бы не вынужденная необходимость принять некоторые меры предосторожности до получения выкупа, вы были бы уже свободны. Забудьте, пожалуйста, о том, что я работаю на большой дороге, и смотрите на меня как на старого друга, который пришел вас поразвлечь, ведь мы принадлежим к одному кругу, и вам не в чем меня упрекнуть, кроме маленьких грешков.
Березов не смог спокойно принять слова Мондье и ответить в соответствующем духе. Он сказал:
— Ваша шутка весьма сомнительного вкуса, месье, и если в вас еще осталось что-нибудь от воспитанного человека, какого я встречал в обществе, то прошу не говорить со мной в подобном тоне.
Мондье улыбнулся, но видно было, что он с трудом сдержал гнев.
В свою очередь Бамбош тоже захотел вступить в разговор:
— Нет, дорогой князь, над вами никто не смеется. Доказательством тому служит, что мы с графом пришли сюда как ваши истинные, хорошо воспитанные друзья.
Мишель сейчас впервые внимательно рассмотрел этого бойкого малого и нашел его вульгарным, увидел, что это едва отесанный выскочка, и горько пожалел о том, с какой легкостью иногда принимают в порядочное общество подобных авантюристов, неизвестно откуда явившихся.
Князь смерил нахала презрительным взглядом и сказал:
— Мальчик, я могу ошибиться, принять фальшивую монету за подлинную, на время счесть равным себе лакея-выскочку, каким вы, мне кажется, являетесь, но для меня сейчас нет сомнения: вы просто обыкновенный мерзавец, почему и прошу избавить меня от вашего общества.
Спокойно-оскорбительные слова задели Бамбоша сильнее, чем если бы он получил пощечину. Он разразился безудержным словесным потоком.
— Что у меня нет свидетельства о благородном происхождении… пусть так!.. Что меня не воспитывали в аристократическом пансионате мадам де Бассанвилль, верно… что я мерзавец… ладно, охотно признаю и это… но что я обыкновенный негодяй… с этим я никак не согласен и докажу почему. Думаете, было легко топить Бобино против кабачка Лишамора, проследить вас от дома рыбака Могена до вашего особняка в Париже, войти к вам и жить под видом лакея, отравить воду, которую вы должны были выпить и спаслись только чудом, выстрелить вам в грудь из карабина и, наконец, примазаться к вашей компании здесь, заманить вас как дурака в ловушку, привезти в монастырь Камальдолей и отдать в руки наших людей, чтобы здесь из вас выкачали миллион, и, наверное, не последний? Если все это вы считаете обыкновенным делом, вы дьявольски требовательны.
— Молодец, Бамбош! У тебя развито профессиональное честолюбие, ты далеко пойдешь! — одобрительно произнес Мондье.
Бесчестные слова бандита, хвастающегося своими преступлениями как подвигами, вывели князя из состояния презрительного спокойствия. Его охватило страшное бешенство славянина, заставившее забыть о том, что он один против трех сильных людей, наверняка хорошо вооруженных и безусловно способных спокойно убить любого.
Мишель видел перед собой только палача Жермены, виновника смерти бедной монахини, подлеца, причинившего многим столько горя.
Князь глухо вскрикнул, вскочил, бросился на оторопевшего Бамбоша, схватил за горло, швырнул под ноги и воскликнул:
— Будь что будет, пусть другие меня убьют, но тебя-то я прикончу, скотина!
Все произошло так быстро, что опешившие Мондье и Пьер не успели его остановить. Бамбош уже хрипел, весь посинев, но тут двое опамятовались и пришли подельнику на помощь.
Когда Бамбош уже бился в судорогах, а Березов, сдавив ему горло, нажимал на грудь коленом и оказался обращенным спиной к Пьеру, тот выхватил нож и нацелился всадить его князю между лопатками, Мондье крикнул:
— Не убивать! Не увечить!
Тогда бандит навалился на Мишеля и крепко придавил к полу. Князь, отпустив при этом Бамбоша, моментально схватился с Пьером, пытаясь выбраться из-под него, но тот, чрезвычайно сильный, не поддался. В это время Бамбош успел вздохнуть и зубами впился князю в икры, а Мондье, мигом сделав петлю из шелкового шнура от портьеры, связал пленнику ноги.
Русский богатырь отбивался от троих, но не мог сладить. В это время Пьер вскочил и отработанным приемом набросил на противника смирительную рубашку.
Когда Березова связали, Мондье, все время сохранявший спокойствие и хладнокровие, приказал посадить князя в кресло. Из предосторожности Пьер привязал спеленатого к высокой деревянной спинке веревкой так, что пленник лишился возможности двигаться.
Граф прервал мрачное молчание, сопровождавшее эти приготовления, сказав:
— А теперь начнем забавляться.
Бамбош хрипел и отплевывался, ругаясь:
— Проклятый казак, ты мне заплатишь за это и подороже, чем на рынке!
Видя мрачное спокойствие графа, глаза Бамбоша, полные ненависти, и зверскую физиономию слуги, Мишель думал: «Они сейчас начнут как-нибудь особенно жестоко меня мучить, может быть, на всю жизнь изуродуют».
Он как молитву повторял про себя милое имя Жермены и ждал, прямо глядя на графа.
К его великому удивлению, граф воскликнул:
— Отлично! Вот то, что нам надо. Спокойно, не шевелитесь, как говорят фотографы.
Он сел против Мишеля, почти касаясь его колен своими. Потом уставился в глаза князя острым, каким-то проникающим вглубь взором. Естественно, молодой человек не понял намерений негодяя и нарочно не отводил взгляда, как бы скрещивая незримые шпаги.
Так продолжалось минут пять: ни один, ни другой, казалось, не брал верх в этой то ли странной дуэли, то ли детской игре в гляделки.
Мишель начал слегка розоветь, а Мондье, наоборот, — бледнеть. Но вот князь почувствовал некую смутную неловкость, еще не понимая ее причины.
— Что вы от меня хотите? — наконец спросил он бандита, продолжавшего спокойно, уверенно смотреть русскому в глаза.
— Усыпить вас.
Березов засмеялся.
— А!.. Сеанс гипноза, — сказал он. — Предупреждаю, вы зря тратите время… Меня уже пытались усыплять, но безуспешно. Я совершенно не поддаюсь так называемым флюидам… А потом… зачем это вам?
— Чтобы позабавиться.
— Значит, вам это не удастся.
— Ошибаетесь, ваши глаза уже начали блуждать… Веки тяжелеют… Вас скоро охватит сон… Вы заснете… Спите!.. Спите… Спите… Я так хочу!
С большим усилием Мишель перебарывал уже одолевавший его сон. «Нет, я не засну, — подумал он, — я не хочу засыпать, я не засну».
Он напряг все душевные силы, чтобы не поддаться упорному, властному взгляду.
Мондье продолжал настойчиво повторять:
— Спите… Спите… Спите… Я этого хочу!
Березов мучительно сопротивлялся, хотел представиться невосприимчивым, но чувствовал, что его осиливает дремота, и с ужасом думал: если я засну, я стану послушным инструментом в руках мерзавца, и он воспользуется этим и злоупотребит моей волей, вернее, безволием.
— Можете продолжать так до бесконечности, ничего у вас не выйдет, — говорил князь, лишь бы не молчать, не поддаться этому властному сильному взору, непонятному воздействию; говорил, отгоняя дрему, говорил, чтобы говорить, и понимал: кажется, этот негодяй его уже одолел. — Можете забавляться, как балаганный фокусник, на меня это не действует.
А сам думал: «Неужели я впаду в этот таинственный сон, я же видел, как Мондье погружал в забытье своих карточных партнеров, и в беспомощном состоянии те проигрывали ему крупные суммы… Неужели Мондье действительно обладает такой безграничной гипнотической силой, что она распространяется не только на частные случаи вроде игры в покер[69], но и на многое другое…»
Чувствуя, что упорно повторяемый призыв Мондье «спите» действует на него все сильнее, Березов подумал, что резкая физическая боль может его отрезвить, закусил язык и плюнул графу в лицо набравшейся во рту кровью. Мондье отшатнулся и на какое-то время отвел глаза.
Мишель вздохнул свободнее и подумал: да, с помощью боли он сможет устранить действие гипноза.
Мондье не горячась вытер лицо, сказал Пьеру:
— Завяжи ему рот, — и продолжал воздействовать на своего врага со все возрастающей энергией.
«Не дурак ли я, — подумал Мишель, — ведь мне только стоит закрыть глаза, и я избегну его змеиного взгляда, который меня мучает».
Видя, что Мишель опустил веки, Мондье прошептал:
— Вот теперь он в моей воле!
Граф стал тихонько нажимать на глазные яблоки князя, все время повторяя:
— Вы спите… Вы спите…
Так продолжалось минут пять. Потом Мондье знаком показал Пьеру, чтобы тот снял со рта князя платок, и спросил:
— Вы спите, князь?
К удивлению молчаливых зрителей Пьера и Бамбоша, князь глухим голосом ответил:
— Да.
— Теперь он в моих руках! — с торжествующей улыбкой воскликнул бандит. — Дело было трудным, это животное меня измучило. Пьер! Подай бордо и бисквит! Твое здоровье, Бамбош!
— За ваше, патрон! — сказал Бамбош, чокаясь. — А теперь что вы будете делать?
— Увидишь! И будь готов к самым ошеломляющим неожиданностям.
Распив бутылку вина, негодяи подошли к связанному Березову.
— Вы продолжаете спать? — спросил Мондье.
— Да, — ответил князь невнятно.
— Вы будете меня слушаться?
Князь не откликнулся, тогда Мондье настойчиво проговорил:
— Вы будете меня слушаться, или я вас прожгу насквозь раскаленным железом.
Пленник все молчал, граф положил ему на руку палец. Князь застонал, как будто его действительно обожгли нагретым добела металлом.
— Вы делаете мне больно, вы меня мучаете…
— Будете вы слушаться?
— Да!..
— Пьер, развяжите его.
Когда Мишеля освободили от пут, он принялся тереть здоровой рукой ту, которую считал обожженной, со лба текли крупные капли пота, и на лице выражалось страдание.
Бандит сказал просто:
— Все прошло, ожог зажил… Вы больше не чувствуете боли.
И в тот же миг лицо князя успокоилось, он вздохнул с облегчением и замер в неподвижности.
— А теперь откройте глаза, встаньте и подойдите к камину, — резко приказал Мондье.
Князь повиновался; взгляд его был сумрачен и, казалось, ни на что не смотрел. Пошатываясь, нерешительным шагом, он приблизился к камину…
Мондье приказал повернуться, князь покорно сделал это и оказался лицом к лицу с Бамбошем.
— Вы знаете этого молодого человека? — спросил гипнотизер.
— Да… Это Бамбош… мерзавец… месье де Шамбое… плут из шайки… хорошего общества… — ответил русский, глухо и нерешительно.
— Правильно… Негодяй, который отравил монахиню, хотел убить вас… ваш близкий друг… вы его любите… уважаете… — говорил Мондье.
— Нет!..
— Да… Так надо… Я хочу, чтобы он был вашим другом… Чтобы вы его уважали… Я хочу, чтобы вы о нем отзывались наилучшим образом, когда вернетесь в свет, и относились к нему с большой симпатией… Так надо…
— Я согласен… Месье де Шамбое — мой друг…
— Пожмите ему руку.
Неожиданно князь запротестовал, заявив:
— Я не желаю!
— Слушайтесь, черт возьми!.. Раскаленное железо!.. Дайте раскаленное железо! — резко выкрикнул Мондье и легонько коснулся кисти Березова.
Застонав от боли, Мишель стал умолять о пощаде.
Совсем укрощенный, он ответил на рукопожатие Бамбоша и проговорил:
— Вы молодец… Я вас люблю… и очень уважаю…
— Не правда ли, было очень забавно, когда я отравил монахиню? — спросил обнаглевший негодяй.
— Да, очень забавно, — ответил как эхо князь, теперь уже абсолютно лишенный своей воли и подчиненный воздействию жестокого, страшного врага.
— На сегодня довольно, — сказал Мондье, — завтра продолжим упражнения. Князь Березов! Когда проснетесь, вы вспомните о моих приказаниях и будете их выполнять, при этом вы забудете о том, что получили их от меня. Вы не станете пытаться бежать, и вам предстоит засыпать по первому моему распоряжению.
С удручающей покорностью Мишель согласился:
— Да, я буду слушаться.
— Вы проснетесь, когда пробьет полночь.
— Да.
— Пьер, останешься сторожить до утра. Я еще не вполне уверен в князе, чтобы оставить его одного. Пошли, Бамбош.
ГЛАВА 6
На другой день, после полудня, «упражнения», по циничному выражению Мондье, возобновились.
К великому удивлению Бамбоша, князь встретил его и Мондье почти дружески, хотя и произвел для этого видимое усилие над собой.
Казалось, он, как ему приказал Мондье, забыл то, что делали с ним накануне, примирился с обществом людей, тех, о ком хорошо знал, что они бандиты.
Но Мондье было отлично известно, что после одного сеанса действие гипноза не может быть сильным и длительным. При этом он видел и другое: вчерашнего воздействия вполне достаточно, чтобы легко усыпить князя снова. Он приказал Березову сесть, и тот без возражений занял кресло. Еще не глядя гипнотизируемому в глаза, граф заговорил о том, как приятно вздремнуть, и почти дружески сказал:
— Князь, я вижу вам очень хочется спать, вы зеваете во весь рот! Не стесняйтесь, дорогой… спите! Спите, говорю вам!
Мишель бессознательно воспротивился приказанию. Может быть, ему смутно вспомнилось происходившее накануне, но Мондье одним пронзительным взглядом пригвоздил его к месту.
— Спите! — сказал он повелительно. — Спите!.. Я так хочу!
— Я сплю, — покорно ответил князь.
— Как?.. Уже застрелен? — цинично спросил Бамбош.
— Ты же видишь, мой мальчик. Этот силач, что мог бы выпустить кишки нам обоим и как спичку переломить Пьера, стал теперь в моих руках слаб, точно ребенок, и я могу заставить его быть слепым, глухим, немым и нечувствительным к боли. Можешь попробовать.
Бамбош со злобным смехом взял острый стилет[70] и собирался воткнуть его в подушечку пальца князя, зная, что это одно из чувствительных мест.
— Подожди, — остановил его Мондье и сказал: — Князь, вы нечувствительны к физической боли…
Бамбош проткнул палец насквозь, и Березов никак не отреагировал.
— Совершенно необычайно… удивительно!.. — сказал негодяй, не веря своим глазам.
Потекла кровь, Мондье приказал Пьеру перевязать рану и сказал Мишелю:
— Когда проснетесь, вы ничего не почувствуете, это простой укол… — Помолчав, граф пояснил своим: — А теперь, когда он уснул достаточно глубоко, чтобы подчиниться всем моим внушениям, займемся серьезными делами… Березов, садитесь за стол и пишите то, что я вам буду диктовать.
Распоряжение было выполнено беспрекословно и точно.
— «Моя дорогая Жермена», — начал граф.
При этих словах князь встрепенулся и лицо его осветилось улыбкой. Он зашептал как во сне:
— Жермена!.. О! Жермена…
— Пишите! — приказал Мондье. — «Моя дорогая Жермена… я долгое время думал, что люблю вас…»
— Да, я люблю ее, — сказал Мишель. — О да!..
— Нет, вы ее не любите… Это неправда… — жестоко прервал преступник. — Вы не можете ее любить, я этого не желаю… Это невозможно…
Он продолжал диктовать, а князь покорно писал:
«Но чувство, которое я к вам питаю, на самом деле — чисто братское. Другой человек вас любит истинно и верно: он достоин вас, он очень богат и имеет все, чтобы сделать вас счастливой. Любите же и вы его, выходите замуж и забудьте меня.
Ваш преданный друг, Мишель Березов».
Когда это весьма странное письмо было закончено, бандит продиктовал несчастному завещание, по которому тот оставлял в наследство графу Мондье все свое имущество и обеспечивал Бамбошу ренту в пятнадцать тысяч в год, а все прежние распоряжения аннулировал.
— Совершенно чудесно! — воскликнул Бамбош в полном восторге.
— Да, это уже сильно, но скоро ты увидишь еще кое-что покрепче!
Обратившись к Мишелю, граф распорядился:
— Когда я вас разбужу, вы скажете, что не любите Жермену, что вы будете просить ее примириться со мной и выйти за меня замуж. Потом, поскольку ваша жизнь станет совершенно бесполезной и бессмысленной, возьмете из этого вот шкафа револьвер и застрелитесь. Слушайтесь меня, я так хочу, так надо. Когда проснетесь, вы забудете, что это я приказал, вы все сделаете так, как будто это ваши собственные мысли. А теперь — проснитесь!
Но князь почему-то не очнулся сразу, Мондье сильно подул ему в глаза и тот вздрогнул, потянулся, удивленно посмотрел вокруг.
Бамбош и Мондье отошли на другой конец комнаты и шепотом переговаривались.
— Значит, он сейчас застрелится? — спросил Бамбош, по-детски радовавшийся тому, что получит по завещанию такое богатство.
— Нет, потому что револьвер не заряжен. Надо, чтобы самоубийство выглядело как добровольный акт, он покончит с жизнью в тот час, когда я назначу, а сейчас будет только репетиция.
В это время Мишель тер себе глаза, проводил рукой по лбу и смотрел вокруг с измученным видом.
Он был словно в раздумье, несколько раз вставал, опять садился, наконец принял какое-то решение, стоившее ему душевной борьбы, пошатываясь направился к Мондье. Князь двигался очень медленно, как бы нехотя повинуясь чьему-то приказу.
Бандиты с тревогой наблюдали. Мондье был не вполне уверен в полноценном действии гипноза и со второго сеанса.
Когда Мишель встал перед Мондье, на лице молодого человека изобразилось мучительное колебание… Чувствовалось, что он хочет что-то сказать, но не может решиться. Наконец он заговорил спотыкаясь и будто подыскивая слова:
— Граф де Мондье, это правда… Я не люблю Жермену… Я обещаю… Да, обещаю склонить ее выйти за вас замуж…
— Хорошо! Очень хорошо, князь, меньшего я от вас и не ожидал. Мы всегда были друзьями, и между нами не должно быть никаких недоразумений. И я рассчитываю на вашу помощь в моей женитьбе на Жермене.
Но несчастный молодой человек уже не слушал его, он весь был поглощен мыслью о самоубийстве и шел к шкафу, где на фоне гранатового бархата висело разнообразное оружие. Осмотрев коллекцию, он взял револьвер, повертел в руках, уронил, поднял и, тяжело вздохнув, сел в кресло. Какое-то время он смотрел на кольт[71], как бы не зная, что с ним делать, потом решительно приложил дуло к груди и нажал курок, тот щелкнул, и князь потерял сознание. Он был столь измучен насилием над чувствами, мыслями и волей, что воспринял холостой выстрел как настоящий. Оружие выпало из руки, и Березов погрузился в глубокий, как после тяжелого труда, сон.
Когда долгое время спустя Мишель очнулся, он был в комнате один: электрические лампочки ярко горели, и на столе красовалась даже на вид вкусная пища и бутылка выдержанного вина.
Голодный князь с удовольствием принялся за еду, ничего уже не опасаясь, потому что в его сознании реальное причудливо смешалось с воображаемым, внушенным Мондье.
Сила внушения подействовала так, что молодой человек уже не удивлялся отсутствию ненависти и презрения к Мондье и Бамбошу.
Он совершенно не понимал, отчего произошла перемена и сумятица в его мыслях, ведь Мондье каждый раз с напором твердил: «Вы не будете помнить, что эти мысли внушены мною». Увидав на столе письмо к Жермене, намеренно оставленное графом на виду, Мишель его прочел и нашел совершенно естественным. Несколько раз проглядев строки, от которых три дня назад он подскочил бы в удивлении, князь прошептал:
— Как странно… Значит, я любил Жермену… Да нет… она моя сестра, мой друг… Я всегда звал ее сестричкой… Это Мондье в нее влюблен… Раз он любит, так пусть женится…
В тот же день Березова оставили в покое, лишь назавтра в то же время пришли Мондье и Бамбош. Графу достаточно было провести перед лицом князя рукой и сказать: «Спите!», чтобы тот немедленно впал в забытье. И гипнотизер повторил в прежнем порядке все ранее данные приказания:
— Напишите, что не любите Жермену… Напишите завещание на мое имя… Застрелитесь… Клянитесь расположить ко мне Жермену. Запомните: ваш друг Бобино — дрянь, он обворовывает вас и смеется над вами, его надо прогнать… Наконец вы совершите бессмысленные поступки и будете считать себя сумасшедшим… Потому что вы и есть умалишенный, дорогой князь, да, умалишенный, и в припадке безумия вы застрёлитесь, когда я вам прикажу. Если кто-либо усыпит вас, я приказываю не говорить в беспамятстве того, что вы знаете обо мне… Вы никогда не сболтнете о том, какие приказания я вам давал… Вы об этом ничего не будете знать!.. Я так хочу!.. Так надо! Вы поняли, князь?.. Вы ничего не будете знать! Клянитесь!
Березов, совершенно подчинившийся гипнотическому воздействию, покорно повторил:
— Да, я убью себя, когда вы прикажете… Зачем мне жить?.. Я убью себя… убью!
Чтобы окончательно закрепить в сознании Мишеля действие гипноза, Мондье повторял сеансы по нескольку раз в день. На четвертые сутки князь начал ощущать действие воли Мондье на расстоянии.
Шестым утром, уезжая по делам, Мондье сказал Бамбошу, что усыпит Березова, находясь сам в городе и, к великому удивлению графского любимчика, князь лег и закрыл глаза в назначенный час.
Во время каждого сеанса граф настойчиво повторял:
— Вы не скажете, что это именно я вам внушил… Находясь под гипнозом другого лица, вы ничего не сообщите обо мне ни в состоянии сна, ни после пробуждения. Не реже двух раз в неделю будете извещать меня, где находитесь, что делаете, и явитесь ко мне по первому приказанию. Вы клянетесь в этом?
— Клянусь! — поспешно отвечал Березов.
— Вы всегда будете моим другом, не так ли?
— Да, я ваш друг и всегда буду им.
— Очень хорошо, дорогой князь! Завтра вы встретитесь с Жерменой и с ее сестрами. Для них и для Бобино вы будете лишенным рассудка.
— Да.
— А теперь проснитесь.
Князь Березов тут же встрепенулся, дружески пожал руки обоим бандитам и заговорил самым сердечным тоном с людьми, подчинившими себе его волю, превратившими красивого, мужественного и умного человека в род машины, не способной мыслить, чувствовать, совершать осознанные поступки!
На другой день, когда стемнело, Мондье распорядился, чтобы князя отвезли к первым домам Неаполя. Предварительно граф внушил: идти оттуда прямо в свой отель.
ГЛАВА 7
Экспедиция русского консула, с которой ездил Бобино, как уже известно, не дала никаких результатов, но консул сказал, что назавтра встретится с начальником неаполитанской полиции и заставит его мобилизовать на это дело своих карабинеров[72].
Верный данному слову, в особенности если оно касалось соотечественника, консул с Бобино в качестве основного свидетеля были у главного городского полицейского чуть не спозаранок.
Пока он говорил, а затем Бобино рассказывал, как исчезли князь Березов, месье де Шамбое и его слуги, полицейский не к месту улыбался. Походило на то, будто страж порядка испытывал некую странную гордость, точно и сам разбой, и ловкость бандитов составляли частицу славы его страны.
А выслушав, он сказал, что не может поверить в похищение ландо злоумышленниками.
— Разбойниками? А вы точно уверены, что это были разбойники? — вопрошал он. — У нас много толкуют о такого рода преступниках, но говорят больше всего об этом иностранцы. Лично мне бандиты встречались очень редко… Иногда бывает, что группы нищих зарабатывают на пропитание, запугивая прохожих. А некоторые называют это грабежом.
Удивленный таким объяснением, консул возразил довольно резко:
— Мне кажется, что те, кто останавливает экипажи, стреляет в путешественников, захватывает их, чтобы потребовать кошелька или жизни, это и есть настоящие разбойники, но отнюдь не безобидные попрошайки.
— Согласен с вами, — ответил начальник полиции. — Но я располагаю статистическими данными о происшествиях, подобных тому, о каком вы рассказываете, и доложу вам, что они случаются не чаще, нежели крушения на железной дороге или встречи с бешеной собакой.
— Будь по-вашему. Однако я веду речь не о положении с разбоем вообще, а о конкретном случае: четыре человека, в числе которых один русский подданный, были захвачены настоящими бандитами, и я требую, чтобы вы немедленно организовали розыск пропавших и поимку преступников.
— Вы позволите дать вам хороший совет? — посмеиваясь спросил начальник полиции.
— Что ж, пожалуйста, — ответил представитель русского государства.
— Не беспокойтесь об исчезнувших господах… Они скоро вернутся сами целыми и невредимыми… А разбойники… вернее те, кого вы зовете разбойниками… люди не злые… я в этом уверен… они лишь стребуют маленький выкуп… несколько серебряных лир[73]… сущие пустяки… и пленники вернутся здоровыми и веселыми, довольные тем, что смогут без конца рассказывать о своем приключении в опереточном стиле.
— Похоже, он получает свою долю от преступников и смеется над нами, — шепнул Бобино консулу.
— Нет, я этого так не оставлю, — твердо сказал представитель России. — Я требую немедленных мер, иначе мне придется доложить правительству его императорского величества.
Начальник полиции нахмурился и завилял. Он сказал:
— Не стоит, господин консул, разжигать из рядового дела дипломатический конфликт. Я сейчас же займусь этим и сделаю все от меня зависящее.
И попросил Бобино снова изложить показания и собственноручно их записал, благодарил, давал заверения и обещания.
В результате карабинеры обыскали неаполитанские леса километров на сорок в окру́ге, но, разумеется, никого не поймали и не нашли. Что было, впрочем, в порядке вещей.
Тем временем три сестры с ума сходили от беспокойства.
Особенно, конечно, пребывала в смертельном страхе за судьбу князя и несказанно страдала Жермена. Она целыми днями плакала, а по ночам не могла спать.
Зато Бобино все-таки надеялся, что разбойники, вопреки тому, что говорил этот пройдоха начальник полиции, возьмут с князя большой выкуп и — тут уже подтверждал и полицейский — отпустят его, как только получат деньги.
Утром, на восьмой день после исчезновения Мишеля, в коридоре отеля раздался шум и громкие голоса. Кто-то произнес имя князя Березова, потом в их прихожей затрещал звонок, и Жермена в радости закричала:
— Это он!.. Это он!.. Это Мишель!
Она сама побежала открывать и упала в его объятия. Он говорил, обнимая ее:
— Да, это я… Это я, Жермена! Друзья! Не беспокойтесь обо мне больше! Я вернулся живым и здоровым!
Жермена, плача от радости, допытывалась, как он себя чувствует, не ранен ли. Она смотрела страстным взглядом, засыпая вопросами:
— Что с вами делали?.. Вам не причиняли боль?.. Где вы находились столько дней? Я умирала от страха за вас! Мы должны скорее уехать из этого противного места!
Сестры тоже допытывались, только более робко, а Бобино, светясь милой улыбкой, порывался, в свою очередь, вставить слово в общий хор радостных и тревожных слов.
А князь, здороваясь со всеми, рассеянно пожал Бобино руку и не выказывал к нему прежнего братского отношения, всегда так радовавшего типографского рабочего, хотя ведь юноша не навязывался в дружбу знатному барину. Мишель сам почти насильно заставил относиться к себе как к близкому и звать на «ты».
Сейчас парень прямо застыл от холодного рукопожатия князя и от его обращения на «вы».
Бобино просто не знал, как теперь себя вести, когда князь устало и равнодушно сказал:
— А! Это вы… Рад вас видеть, право, очень рад, — и, повернувшись к нему спиной, стал обнимать Берту и Марию, любовь к ним не была искалечена внушениями Мондье, и князь говорил нежные, ласковые слова. — Милые мои детки! Дорогие мои сестрички! — твердил он, обнимая и целуя их. При этом Мишель даже весь преобразился от радости. — Как долго тянулось время вдали от вас, как я тревожился… Я уже терял надежду вернуться к вам… Думал, как вы будете жить без меня? А вы, я уверен, тоже скучали о старшем брате?
При словах старший брат русский осекся, будто сказал нечто недозволенное.
Он по-прежнему испытывал братскую любовь к сестрам, такую же сильную, как тогда, когда был переполнен нежной страстью к Жермене. Но сейчас это потускнело, почти погасло под воздействием гипноза, и молодой человек спрашивал себя: откуда, почему возникло в уме название старший брат, ничего, собственно, не означавшее для него.
Только один Бобино, которого удивили вид и странное поведение князя, отметил его замешательство.
Обеспокоенный переменой в облике и манерах Березова, человека столь выдержанного, и желая разобраться в происходящем, Бобино начал задавать вопросы.
— Скажите, пожалуйста, что с вами там происходило?
Князь ответил спокойно, будто с ним не случилось ничего необычного.:
— Меня увезли люди в масках… очень далеко… с завязанными глазами… часть ночи… с разбойниками… с очень симпатичными людьми!..
— А что они делали с вами эти восемь дней?
— Очень хорошо ухаживали… я жил в подземном дворце… с электрическим освещением… везде пышные ковры, мебель дорогой работы… Предметы, какие бывают в самых богатых домах… прекрасная кухня… дорогие вина… И люди… Люди… благовоспитанные… как в лучшем обществе…
— Но почему же вас захватили в плен?
— Не знаю…
— И они отпустили вас так просто… не потребовав выкупа?
— Честное слово, не знаю… не думаю…
— Зачем же все-таки они позволили убить некоторых из своих, чтобы захватить нас? Ради чего такая жертва с их стороны, если они не хотели выкупа?
— Не знаю… — ответил князь со скучающим усталым выражением в голосе.
— Что касается месье де Шамбое… его слуг… мы ничего о них не знаем, — продолжал Бобино. — Это по меньшей мере подозрительно… Они исчезли вовремя, когда мы начали драться с разбойниками… Здесь что-то нечисто…
— Ничего подозрительного тут нет! Месье де Шамбое — настоящий джентльмен… Он мой друг! Сделайте одолжение, прошу вас не говорить о нем ничего плохого! — неожиданно горячо заступился князь.
Бобино, совершенно озадаченный ответом, расстроенный непривычно сухим и холодным тоном, грустно замолчал и посмотрел на Жермену, та тоже была в недоумении.
Она попыталась продолжать расспросы, надеясь, что Мишель обмолвится каким-нибудь словом, что позволит разгадать некую тайну, почти наверняка страшную.
— Скажите все-таки, эти люди, что вас похитили, эти разбойники, кто же они такие? Знаете ли вы их имена, видели ли их лица, могли бы их узнать? Ведь, быть может, вы помогли бы полиции…
Мишель довольно резко прервал Жермену:
— Повторяю, они очень хорошие люди! Предупредительные, вежливые, обходительные. Почему вы настроены против них? Они не сделали мне ничего плохого… Оставим это, мне надоело. Побеседуем лучше о другом.
Заметили, что на все вопросы князь отвечал либо очень неопределенно, либо с раздражением, удивлявшим и огорчавшим друзей. Его словно подменили: всегда добрый, благожелательный и умный, он стал раздражительным, и его ясная мысль будто затуманилась.
Бобино, Жермена и сестры думали со страхом: не подвергали ли Мишеля каким-нибудь мучениям, что подействовали на его психику…
Всеми способами друзья пытались его развлечь. Распорядились подать в комнату вкусный ужин с бордо, его ценил Мишель, хотя пил очень немного. Застолье в кругу близких князю как будто понравилось. Он выказывал дружеское расположение к Жермене и ее сестрам, но с Бобино обращался холодно, точно затаив что-то против него; это все более огорчало и беспокоило типографа.
Жермена еще сильнее, конечно, страдала, видя, как переменился Мишель. Хотя он говорил с ней приветливо и вежливо, прежней страстной любви больше не чувствовалось, остались только учтивость хорошо воспитанного мужчины и чисто приятельская симпатия. Пальцы уже не касались ее руки с трепетом, и в голосе не звучали привычные ласковые интонации.
Хорошо поев и сказав несколько приветливо-сдержанных фраз, Мишель объявил, что очень устал и хочет спать. Жермена не знала что и подумать, когда он, уходя, лишь пожал ей руку. Она шептала про себя:
«Он меня больше не любит… Я это вижу… Я чувствую это… А я!.. Господи, Боже мой!.. Если бы он знал о моем секрете! О секрете, что мучает меня с первого дня, как я его увидела. Нет! Я буду бороться, я лучше умру!.. Он ничего не узнает… Теперь в особенности!..»
ГЛАВА 8
Проснувшись очень рано, Березов остался в спальне разбирать почту.
Он вскрывал большие пакеты, накопившиеся за неделю, распечатывал письма, бросал в корзину те, что считал ненужными, ставил пометки на требующие ответа, откладывал, чтобы прочесть, послания близких.
Бегло просмотрев несколько газет, позевав над политикой, пожав плечами над светской хроникой и нахмурясь при чтении идиотских сплетен, называемых «бульварными», князь позвонил и попросил подать завтрак.
— Месье будет кушать один? — спросил слуга.
— Да, и в своей комнате.
Не спеша закусив, выпив кофе и ликера, спокойно подымив первой папиросой, столь любимой завзятыми курильщиками, он взял четыре листа, испещренных мелким, убористым почерком.
Прочитав, он снова закурил и, глядя на кольца голубого дыма, задумался:
«Милый Морис! Он, видимо, всерьез… Похоже, что это настоящая любовь с первого взгляда!.. А почему бы и нет? Сколько страсти! Но, может быть, он идеализирует свой предмет со свойственной художнику пылкостью…»
Было уже два часа пополудни, четырнадцать, как говорят в Италии, где циферблаты делятся на двадцать четыре части.
Вместо того чтобы по обыкновению отдохнуть в это время, князь постучал в комнату Жермены.
Девушка, как всегда, протянула руку, и он с привычной вежливостью поцеловал.
— Добрый день, дорогая Жермена.
— Добрый день, Мишель… дорогой друг.
— Хорошо ли почивали?
— Прекрасно!.. А вы, мой милый пленник?
— Вот странность: я и забыл о времени, проведенном в неволе.
— Вы поздно проснулись?
— Нет, но я возился с почтой.
— Было ли в ней что-нибудь для нас?
— Да, много самых нежных приветов от нашего дорогого Вандоля.
— Благодарю. А что он поделывает, наш милый Морис?
— Он влюблен… И, кажется, всерьез. Могу прочесть его письмо, если вас интересует, конечно. А вам не хочется выйти на воздух?
— Нет, лучше побудем здесь. Сестры пошли погулять с Бобино.
— Прекрасно! Значит, мы останемся наедине… как влюбленные… как положено в нашем возрасте и… Но довольно шуток… Как мы договорились в Париже, вы — моя милая сестричка, а я — ваш старший брат.
Жермена, слушая веселую болтовню Мишеля, думала:
«Я, наверное, ошиблась, он все такой же… Вчера он был усталый, больной, просто сдали нервы…»
И она сказала:
— Так прочтите же письмо… Вы мне доставите большое удовольствие.
— Вот, слушайте.
«Дорогой Мишель, не писал так долго не потому, что погрузился в суету парижской жизни, в эту работу бездельников и не из-за лени.
Только событие, которое решает мою судьбу, оказалось причиной долгого молчания.
Кончаю предисловие, можешь счесть его извинением, и приступаю к рассказу.
Суть его проста — я влюблен!
Не смейся, князь Мишель! Ты больше, чем кто-нибудь другой, можешь мне посочувствовать. Тебе я могу излить душу, ведь между нами много общего.
Итак, я влюблен! Вернее, я безумно, страстно, благоговейно люблю прелестное, божественное создание.
Мне не хватает слов, чтобы описать ее тебе. Сто́ит закрыть глаза, как прелестный образ встает передо мной, я вижу ее нежные, полные очарования черты глазами художника и влюбленного и рисую ее по воображению.
Моя возлюбленная — блондинка, но цвет ее волос совершенно особенный, неповторимый. Он не по-флорентийски[74] пепельный, не солнечный, как у спелого колоса. Он словно присущ только ей и создан как будто для одного меня, чтобы я увидел идеал, который так долго искал.
Цвет ее волос дивно сочетается с темными глазами. Я не представлял себе ни брюнеток голубоглазых, как твоя Жермена, ни блондинок с черными очами, как моя Сюзанна.
Да, ее зовут Сюзанной… Это имя звучит как музыка! Мягкий взгляд ее прекрасен, великолепна сдержанная улыбка, она вся восхитительна. Она олицетворяет совершенный образ женщины, здоровой телом и душой!
Вместе с тем она парижанка до ногтей, до завитков на затылке, до носков туфелек, таких маленьких! Парижанка во всех своих движениях, непосредственных, не испорченных современным воспитанием.
В ее наружности нет ничего общего с небьющимися куклами, сделанными по американскому образцу словно для того, чтобы бесить человека.
Моя возлюбленная — настоящая женщина! Ей восемнадцать лет, и она богата. Увы! Слишком богата…
У нее нет матери, она живет под надзором бедной родственницы, очень хорошей женщины.
Отец любит ее до безумия, но — увы! — это человек из высшего общества, еще молодой, он утешается в своем вдовстве, ведя жизнь весьма рассеянную.
Он встречается с дочерью только урывками: иногда за обеденным столом или когда идет с ней в театр, но вообще очень ее балует, а она его обожает.
Но этот неуёмный папенька не может сидеть на месте, все время разъезжает по курортам и мечется повсюду, как будто может быть вездесущим. Он постоянно в отлучках, и бедная Сюзанна живет заброшенной.
Сейчас, например, он где-то в Италии, думаю даже, что в окрестностях Неаполя, где у него роскошная вилла, и он живет там на широкую ногу.
Ты его, наверное, знаешь, но я сейчас не назову его имя. К чему?.. Я его не люблю… Нахожу, что он не выполняет своих обязанностей по отношению к дочери… Оставляет ее то и дело на попечение мадам Шарме, превосходной дамы, и, уезжая, запирает Сюзанну в монастырь Визитации.
И вообще, все эти светские люди, которые все время пристают ко мне из-за моих картин… Я их просто не выношу…
И этот граф де… Я тебе уже сказал, что отец моей возлюбленной — титулованная особа. Так вот, этот граф, захочет ли он иметь зятем простого художника?
Для этого мне надо быть очень состоятельным. Я стану таковым, но я очень тороплюсь и мне некогда ждать, пока я разбогатею.
Я болтаю, болтаю, как пьяный попугай, и до сих пор еще не сказал, как мы познакомились и полюбили друг друга.
Потому что она меня тоже любит, мой дорогой Мишель. Да, она меня любит! Моя дорогая, моя обожаемая Сюзанна! И вера в ее любовь воспламеняет меня, я чувствую себя на небесах от счастья и готов совершать всевозможные безумства! В частности, писать тебе. Ведь тебе должна быть совершенно неинтересна бестолковая болтовня школьника, сбежавшего с уроков…»
Мишель остановился и сказал:
— Разумеется, меня очень забавляет… интересует его рассказ, а вас, Жермена?
— И меня тоже, — ответила девушка. — Все, что касается Мориса, мне важно. Он и мой друг, и я всегда храню о нем благодарное воспоминание.
— Нужно ли, чтобы я читал дальше?
— Если вам хочется… дорогой Мишель.
Князь заколебался, взгляд его стал блуждающим, он с трудом сосредоточился на строчках письма, зажатого в пальцах. В глазах появилось выражение гипнотизируемого, и Жермена испытывала какое-то странное ощущение. Может быть, мерзавец подверг Мишеля действию гипноза на расстоянии? Во всяком случае, воля несчастного молодого человека была явно подавлена и подчинена загадочному влиянию, которого Жермена не могла понять.
Он пробормотал:
— Письмо Мориса в самом деле очень длинное… Такое длинное… Прямо бесконечное… Прочитано четыре страницы… Осталось еще столько же.
— Разве вам не хочется узнать фамилию его возлюбленной? Ее отец из вашего круга, может быть, вы с ним знакомы. Не исключено, Морис назвал это имя в последних страницах.
Она почувствовала, как сердце сжалось от тяжелого предчувствия; такое часто происходит с нервными людьми.
Мишель тяжело дышал, и губы подергивались словно от подавляемой зевоты.
— Давайте не будем читать дальше, хорошо? Тем более, мне надо очень серьезно с вами поговорить. А письмо Мориса… влюбленного Мориса может послужить введением к беседе.
Жермена подумала: «Восемь дней назад одного слова, даже намека было достаточно, он бы немедля сделал то, что я захотела… Мое желание было законом, которому он с радостью повиновался. А теперь едва смотрит на меня, не скажет ни одного ласкового слова, скучает, находясь рядом. Боже мой! Боже мой! Что произошло во время этого необъяснимого отсутствия?»
Поколебавшись немного, Мишель заговорил очень мягким тоном, почти ласково, будто хотел, чтобы Жермена сразу послушалась.
— Вот, Морис пишет, что хочет жениться на любимой. Я его нисколько не осуждаю, но это, естественно, заставляет размышлять о вас, Жермена, о вас, чье будущее меня так заботит. Мой друг, моя дорогая сестра, не пора ли вам подумать о своем будущем?
— О моем будущем? — с удивлением спросила Жермена.
— Да, именно так. Ведь не можете вы постоянно жить под опекой человека моего возраста, кто является вашим братом только из чувства симпатии.
— Я не понимаю.
— Сейчас объясню: я должен это сделать… Это необходимо… Я не могу поступить по-другому.
Говоря так, молодой человек, казалось, делал над собой страшные усилия, поступал против воли, покоряясь какой-то чужой враждебной силе, и очень страдал.
Он продолжал, и голос его стал почти беззвучным, невыразительным:
— Ваши сестры моложе, у вас нет опоры для семьи, жизнь трудна… Вам нужен человек, кому вы могли бы излить душу, опереться на него… Вы из тех женщин, что имеют возможность выбирать мужа среди самых богатых, самых знатных, самых высокопоставленных… Тот, кому вы окажете честь, отдав ему руку, будет счастливейшим из счастливых, ведь вы подарите избраннику не только божественную красоту, но и душу, мужественную и гордую… сердце, которое дороже всех сокровищ на свете… Жермена, вам необходимо выйти замуж!
— Нет! — решительно сказала девушка, и ее большие голубые глаза, всегда такие ласковые, сделались мрачными.
— Так надо! Так надо, Жермена… — твердил Березов все тем же безжизненным голосом, в нем слышались странная покорность и страдание.
— Князь Мишель! — заговорила Жермена твердо и звонко. — Когда мы были еще в Париже, я высказала свои сокровенные мысли в ответ на предложение стать вашей женой. Я объяснила, что не могу испытать сердечной склонности, пока не отомщу негодяю, похитившему меня у меня самой, что душа моя полна ненависти и жажды мести. Сердце мое закрыто для увлечений… Мне нужно отмщение, и оно должно быть ужасным, неумолимым и полным. И когда я смою пятно позора, тогда, может быть, нежная страсть придет ко мне.
Мишель не внял возмущенному протесту и, к удивлению Жермены, продолжал настаивать на своем.
— Дорогой друг… милая сестра, из братской привязанности к вам позвольте убедить… умоляю… я не буду говорить о сердечной склонности, если решено, что мы с вами брат и сестра… мы ведь и в самом деле как брат и сестра…
Ошеломленная Жермена уже ничего не понимала. Она думала: «Где же то неудержимое влечение, ради которого Мишель стольким пожертвовал? Страсть, что освободила от оков бессмысленной светской жизни, возродила душу… Что же… Ничего не осталось? Мишель не любит меня больше?»
Девушка лишалась сил. Ей казалось, что она умирает, настолько глубоко было душевное потрясение.
Князь тоже явно страдал, но он уже совершенно не управлял своей волей и только повторял как фонограф[75], будто подстегивая себя словами: так надо… так надо!
Жермена слушала его, совершенно раздавленная горем, и думала все время: «Он меня не любит… Он меня больше не любит».
Мишель говорил:
— Вы чуть не лишились меня… Я был схвачен… Могли убить… Предположите, что я мертв… Что стало бы тогда с вами? Представьте себе, что скоро меня не будет… Я предчувствую, это случится… Что вам делать, когда я умру?
— Если такое горе постигнет меня, я останусь жить, храня в душе память о тяжкой утрате и вечную благодарность за все ваши благодеяния. Буду вечно оплакивать вас и всю жизнь носить траур в сердце.
Слова Жермены, что прежде восхитили бы Мишеля, теперь лишь усиливали его страдание.
Он говорил:
— Не об этом я спрашиваю… Я для вас единственная опора… Подумайте… что с вами станет без меня?
— Буду жить своим трудом с сестрами, как раньше, пока не случилось ужасное несчастье.
— Нет! Это невозможно! Это не то, что вам надо! Вы должны блистать в свете, он едва приоткрылся перед вами. Там ваше место, причем первое и давно вам предназначенное.
В ответ на протестующий жест Жермены Березов продолжал настаивать быстро и невнятно, будто повторяя затверженный урок, словно неведомая сила заставляла его произносить слова, те, против каких душа князя восставала. Короче говоря, он уже не был самим собой.
Жермена это ясно видела, но не могла понять, почему так происходит.
— То, чего я хочу для вас, дорогая, любимая сестра, — это встретить человека сильного, умного, преданного, кто положит состояние к вашим ногам, будет обожать вас как святую, как мадонну. Богатый, он окружит вас роскошью, достойной вашей красоты. И такой человек существует. Он вас любит, он не раз доказывал вам свою любовь.
Мишель все более возбуждался, и было видно, что он жестоко страдает.
— Он вас любит… Он вас любит!
— Довольно! Замолчите! — воскликнула Жермена.
— Вы будете графиней…
— Замолчите!.. Замолчите!..
— Графиней де Мондье!.. Вот, я все сказал… Графиней де Мондье… Так надо!
Услышав омерзительное имя, Жермена бросилась к князю, совсем уже изнемогавшему, и, глядя ему в глаза, произнесла слова, разрывавшие ей самой сердце:
— Подлец!.. О подлец!.. Будьте навеки прокляты за то, что оскорбляете гнусными предложениями, гадким именем!
Рыдая, задыхаясь и ломая руки, она кричала:
— Подлец!.. Да, подлец!.. Зачем вы меня спасли? Зачем вы лгали?! Меня не было бы в живых… Меня забыли бы… Я не терпела бы этих ужасных мук! Это вы их навязали! Я их не заслужила! По какому праву вы сохранили мне жизнь? А теперь оскорбляете меня!
Березов в изумлении смотрел, не понимая, почему она в таком негодовании.
Теперь, в свою очередь, он горестно восклицал:
— Жермена! Дорогое мое дитя! Простите… Вы же хорошо знаете, я люблю вас всем сердцем, я на все готов, чтобы доказать привязанность к вам. Я совсем не подлец!
Потом он заговорил беззвучным, каким-то потусторонним голосом без интонаций, что так пугал Жермену:
— Я не подлец, я безумен…
— Вы… сумасшедший?!
— Ну да… помешанный. Вы это отлично видите. Из тех, кого сажают в сумасшедший дом, где надевают смирительные рубашки… обливают холодным душем… Понятно вам… У меня поврежден рассудок… Вот почему я вас больше не люблю как возлюбленную… Если бы так не было!.. Если бы… Потому что я совсем недавно перестал вас любить как возлюбленную… то произошло… произошло… Я не помню когда произошло… Честное слово, я ничего не помню… Вот так же у меня с Бобино… Я его еле терплю… Но я с ним остаюсь приветлив…
Жермена чувствовала себя убитой и тихо плакала.
Не в силах остановить почти бессвязного потока слов, Мишель продолжал скороговоркой:
— Я вам сообщу большой секрет, но вы его никому… Я должен покончить с собой… очень скоро, через восемь… через пятнадцать дней. Точно не могу сказать. В общем, скоро.
Жермена, обезумев от ужаса, бросилась к нему, умоляя:
— Не покушайтесь на себя!.. Это безумие!
— Я же сказал, что потерял разум… Я уничтожу себя, чтобы всем доказать это. Раз так надо… Повторяю: когда я умру, вы останетесь без опоры в жизни… Мондье вас обожает… выходите замуж…
При этом имени Жермену снова охватили возмущение и ужас. Будто не понимая ее состояния, князь продолжал повторять как заученный урок:
— Я знаю, Мондье виноват перед вами… Очень виноват. Он поступил как не смеет… порядочный человек… Он намерен загладить вину… Достойным образом… Всякий одобрит его теперешний поступок.
Жермена сидела с расширенными глазами, не зная, что сказать и что думать. Она смутно чувствовала, что Мишель говорит не по своей воле, и в отчаянии спрашивала себя, почему так происходит. Никогда прежде он не упоминал о произошедшем с ней несчастье, не произносил имени ее оскорбителя. Отчего такая перемена? Кто совершил насилие над его рассудком, до тех пор совершенно здравым?
Мишель, бледный, с лицом залитым потом, руками и ногами, сведенными судорогой, совершенно измученный душевной борьбой, все-таки продолжал говорить, совершенно не замечая, какие страдания заставляет терпеть Жермену. Речь убыстрилась, сделалась ровней.
— Да, Мондье именно тот человек, что вам нужен, вы не можете рассчитывать ни на кого другого. После того, что произошло между вами, никто, кроме него, не захочет на вас жениться, бедная моя Жермена… Когда такое случается с девушкой… всякий думает, что она отдалась по своей воле… Вам будет трудно оправдаться.
Оба чувствовали себя совершенно уничтоженными после этой сцены и не могли остановиться, прервать себя и другого.
У Жермены уже не осталось сил для возмущения, просьб, жалоб. Она твердила почти столь же бессвязно, как Мишель:
— О князь!.. Князь Березов… Это плохо… Очень нехорошо!.. Вы обо мне не судили так прежде… когда вы меня…
Она чуть не сказала: когда вы меня любили, но удержалась. Ей уже хотелось забыть об этой любви, которую она начинала проклинать.
— Что я вам сделала? Почему вы так себя ведете со мной? Лучше расстаться тогда навеки… Предоставьте меня и сестер нашей судьбе…
Наконец Бобино и сестры услышали рыдания. Они вбежали, не постучавшись, забыв от испуга о приличиях. Не успели ничего спросить, как Жермена, стараясь говорить твердым голосом, сказала:
— Нам следует возвращаться во Францию… Скорее уехать из этой проклятой страны… Не нужно было сюда приезжать. Мы отправляемся сегодня же, сейчас же… Слышишь, Жан?.. И ты, Берта, и ты, Мария, вы слышите?
— Да, Жермена, мы едем, — отвечали трое, даже не спросив, отчего такая спешка. Они подумали: произошло что-то ужасное. Друзья привыкли повиноваться Мишелю — он ведь был тут и не возразил, значит, Жермена приняла решение с его согласия.
Но старшая сестра говорила нечто странное:
— Мы вернемся к нашей трудовой жизни. Мы не боимся работы… Мы сумеем обеспечить себя собственным трудом… Нельзя дальше существовать на средства князя… Наше достоинство не позволяет!..
Тут с Мишелем сделался нервический припадок, при этом луч ясного сознания блеснул в глазах.
Он бросился на колени перед Жерменой и, задыхаясь, выговорил:
— Прости!.. Прости меня, Жермена… Пожалей несчастного… Это не по моей вине… Если бы вы знали… Я вас… Я себе не принадлежу… Проклятье!.. Я умираю!.. Тем лучше!
Раньше чем Бобино успел подскочить, чтобы поддержать князя, тот замертво упал ничком и остался недвижим.
Бобино положил его на диван, а Жермена и сестры стали звать на помощь. Прибежали люди, и слуга, прикрепленный в пансионате к их номерам, отправился за врачом.
А пока что Бобино растирал Мишеля, Жермена подносила нюхательные соли[76] и, плача, быстро говорила другу:
— Что сделали с ним? Почему, всегда добрый, преданный, он столь переменился?
Бобино, тоже недоумевая, отчего упал в обморок сильный молодой мужчина, отвечал:
— С ним происходит что-то ненормальное, подозреваю, его там чем-то опоили, чтобы одурманить. Он стал неузнаваем после своего таинственного исчезновения. Жермена, моя добрая Жермена, мы ему должны все простить! Что с ним будет без нас, с бедным нашим Мишелем? О каком нашем отъезде может идти речь?
Врач, не зная причины внезапного недуга, прописал обычные в похожих случаях лекарства. Они обычно не вредили и не помогали, лекари полагались на волю Божию. Получив положенный гонорар, доктор приличия ради выждал определенное время, чтобы тем самым подтвердить свой успех в лечении.
Может, и лекарство подействовало или молодой организм взял свое, но Мишель открыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул, посмотрел вокруг и узнал всех собравшихся. Взгляд его оставался мрачным и рассеянным.
Успокоенный и выполнивший долг, врач отправился восвояси.
Мишель почти ничего не помнил о том, что произошло, он молчал, боясь снова обидеть каким-нибудь словом Жермену, смотрел с грустной и немного горькой улыбкой, казалось, говоря ей: прощай! Потому что в глубине его души, под воздействием гипноза Мондье, вызревала мысль о самоубийстве.
Он обдумывал, каким способом покончить с собой, чтобы не испытывать страданий и не дать окружающим повода догадаться, что он сам себя убил.
ГЛАВА 9
На другой день начальник неаполитанской полиции прислал за князем Березовым, чтобы выслушать показания по известному делу.
Мишель не отверг приглашения, написанного в самой учтивой форме. Согласно правилам, иностранец должен являться в полицию вместе с консулом своего государства.
Но французский дипломат пребывал неведомо где, его не могли разыскать. Пришлось обратиться к русскому коллеге.
Бобино — конечно, и он сопровождал Мишеля, — ворчал и злился, пока экипаж с российским флажком вихрем нес их в полицию.
— Решительно, нет ничего неприятнее для француза, чем иметь нужду обратиться за границей к представителю своего правительства, — говорил Бобино.
— Да, хитрецы живут спокойно, себя не утруждают. — Мишель, находясь в абсолютно нормальном состоянии, поддержал спутника и добавил: — И совершенно не стыдятся этого. Будьте еще довольны, что они вас тогда не отправили в кутузку. У них, похоже, в обычае так поступать, если проситель осмеливается возвысить голос. Российские, английские, испанские, голландские, немецкие, американские консулы изо всех сил стараются помогать соотечественникам, а вот представители вашей славной республики или просто отказываются принимать посетителей, или обращаются с ними как с назойливыми попрошайками, а то и вовсе, как я вам сказал, норовят усадить под арест, ссылаясь на грубость, проявленную визитером. Правду ли я говорю, мой дорогой? — сказал князь, обращаясь к высокопоставленному соотечественнику.
Консул вежливо улыбнулся, но дипломатично промолчал, он бы и рад был пооткровенничать с Мишелем, однако смущало присутствие возмущенного француза. К тому же они подъехали к управлению полиции, где их ожидали.
К удивлению всех присутствующих, Березов заявил, что задержавшие его обращались с ним очень хорошо. Он даже не употребил по отношению к налетчикам названия «бандиты» и сказал, что люди эти вовсе не такие плохие, как о них говорят, они очень учтивы, живут отнюдь не в берлогах, а с удобствами, у них прекрасная кухня и отменные вина, и он себя чувствовал там отлично.
Бобино слушал эту явную неправду с огорчением, а российский консул решил, что у молодого князя произошла какая-то любовная история, которую он полагает за благо скрыть.
Относительно месье де Шамбое и его слуг Березов объявил, что ничего не знает о них. Начальник полиции засиял улыбкой, хотя в душе удивился.
— Видите, господин консул, я же был прав, когда утверждал, что их сиятельство вернется целым и невредимым, — говорил он на ужасном французском. — Месье де Шамбое и его слуги тоже никуда не денутся. Их, вероятно, задержал сеньор Гаэтано, а это весьма любезный джентльмен.
Конечно, Бобино и теперь не подозревал, что под этим именем здесь известен граф Мондье, похититель Мишеля.
— Выходит, что вы его знаете, — очень некстати вмешался Бобино, слова начальника полиции начали злить юношу.
Неожиданно представитель власти рассмеялся, чем удивил Бобино, но уж особенно поразил ответом.
— Да, молодой человек, конечно, знаю. Еще бы нет! Однажды он захватил меня и агентов, когда мы вечером прохлаждались у моря. Продержал неделю и отпустил без выкупа, отменно вежливо сказав, что был весьма рад познакомиться. И я был в восторге, не меньше, думаю, чем он, от этой встречи.
— Для чего же все-таки он вас уволок? — не унимался Бобино, его обеспокоило явное сотрудничество городской полиции с бандитами, это вызывало тревогу за Мишеля, Жермену и ее сестер.
Шеф полиции, разумеется, не мог и не хотел признаваться в том, что дерзкий налет синьора Гаэтано на стражей законности и порядка был совершен, во-первых, для того, чтобы их припугнуть, а во-вторых, ради полюбовного уговора о тайном мире и дружбе, как злословили неаполитанцы.
Сделка бандитов и полиции стала взаимовыгодной: люди в мундирах получали свою долю от грабежей и поэтому позволяли совершать их зачастую совсем безнаказанно.
Бобино быстро это сообразил и очень расстроился. Он понял, что не может рассчитывать на помощь ни французского консульства, ни полиции Неаполя в случае, если с тремя девушками произойдет что-нибудь неприятное. Надеяться на Березова вообще было бессмысленно, видя его странное состояние. Парижанин осознал, что остается единственным защитником для них всех.
Он решил, что Жермена рассуждает очень здраво, полагая необходимым уехать как можно скорее во Францию.
Но захочет ли князь покинуть Италию?
Естественно, Жермена, стольким обязанная Мишелю, не могла покинуть его одного, хотя в приступе гнева и сердечной боли она говорила о готовности убраться отсюда, даже не оставив адреса.
Однако Мишель несомненно пребывал в ненормальном состоянии, Жермена уже не сомневалась в этом.
Оскорбление, которое он нанес ей, было, конечно, ужасным, но можно ли держать злобу на человека, не отвечающего за свои слова и поступки… Ее охватывал страх, когда она вспоминала, как князь спокойным голосом, словно в состоянии галлюцинации, твердил: «Я покончу с собой… Скоро… Так надо!» Чувствуя, что он исполнит страшное намерение, девушка решила неусыпно наблюдать за Мишелем с помощью сестер и Бобино. И в то же время исподволь напоминать о необходимости отъезда домой.
Да, это, конечно, правильнее и благороднее, чем то, что она задумала в гневе: бросить несчастного одного, больного, и скрыться в огромном Париже.
Два дня князь как будто не замечал домашней слежки, но оставался мрачным и чем-то озабоченным. При этом он ел с аппетитом, пил довольно много вина, непрерывно курил русские папиросы и ни словом не вспоминал о том, как был захвачен бандитами, и не повторял Жермене чудовищных предложений соединиться навсегда с ее палачом.
Березов охотно прогуливался в экипаже, а иногда и пешком в сопровождении Бобино и Жермены, держа ее под руку.
Вскоре он пожелал пойти на берег моря и отведать фрутти дель маре[77] — излюбленное лакомство неаполитанцев.
Место, куда они пошли, в три часа всегда полно отдыхающих, так что можно было не опасаться нападения.
Друзья гуляли уже около часа, Мишель даже повеселел под воздействием оживленной неаполитанской толпы.
Подошли к группе рыбаков, одетых по здешним обычаям весьма живописно. Один из них, по-видимому старший, разговаривал с тремя англичанами в клетчатых костюмах, с биноклями на длинных ремешках и с бедекерами[78], гости непрерывно их листали, отыскивая слова для объяснений с итальянцами.
Старший из рыбаков посмотрел на Березова пронзительным взглядом, от которого тот весь передернулся, это почувствовала Жермена, они с князем шли рука об руку.
При виде этого рыбака девушка тоже пришла в ужас: их взгляды на мгновение встретились, и она едва удержалась от того, чтобы назвать проклятое имя…
Она совладала с собой, но подумала: неужели это он? Нет, померещилось, разве не встречается удивительное сходство между людьми, совершенно разными по национальности и происхождению? Что общего может быть между этим моряком, одетым в болтающиеся на ногах штаны, грязную белую рубаху, красный колпак — и элегантным великосветским развратным преступником?
Рыбак сказал англичанам несколько слов по-итальянски, смысл их Жермена не поняла.
Иностранцы ответили «йес»[79] и захлопнули бедекеры. Туда, где они стояли, подошла большая группа портовиков, наполовину грузчиков, наполовину лаццарони[80]. Они жестикулировали и пели. На какой-то момент эти люди оказались между рыбаками и Мишелем, Жерменой, ее сестрами и Бобино. Возникла небольшая сутолока, и девушка почувствовала, что князь, вместо того чтобы в толпе крепче держать ее за руку, напротив, выпустил из своей.
Она закричала:
— Мишель… друг мой… куда вы? — и успела мимолетно увидеть его печальный взгляд. И тотчас Березов побежал прочь, расталкивая толпу. Похоже, он действовал, повинуясь все той же таинственной неодолимой силе.
Когда толпа прошла, Мишель уже исчез.
Бесполезно было бы его искать среди шумной гурьбы веселых южан. Вроде промелькнуло, что русский сел в лодку с несколькими рыбаками и англичанами, но это могло лишь показаться.
Страшно расстроенные, все вернулись в отель, решив никому не говорить о новом исчезновении князя, на этот раз, кажется, вполне добровольном.
Правда, Бобино тайком от сестер сбегал в российское представительство, где консул принял его без проволочек, внимательно выслушал и сказал:
— Друг мой, ведь князь — красавец и, наверное, имеет большой успех у женщин, и мне остается лишь посочувствовать прелестной особе, которая живет вместе с ним и с вами в отеле на улице Умберто.
Березов пропадал сутки. Жермена не могла ни есть, ни пить, ни спать, пребывая в страшной тревоге.
Эта семейная драма случилась в воскресенье, а во вторник князь явился на извозчике и вел себя так, будто не произошло ничего страшного. Только выглядел он бледнее и мрачнее прежнего.
Встревоженные друзья пытались расспрашивать, он устало отвечал:
— У меня была куча дел… ходил к нотариусу, к разным чиновникам… обменивался телеграммами с Парижем… с Петербургом… что-то покупал или продавал… не помню точно… слушал скучное чтение гербовых бумаг… подписывал… подписывал… подписывал… Оставьте меня в покое!.. Я хочу смеяться, есть… пить… забавляться… У меня осталось совсем мало времени, чтобы повеселиться… Жермене надо быстрее выходить замуж за графа Мондье… Потому что я покончу с собой… очень скоро… Это решено… Так надо… По-иному невозможно!
Молодой человек сомкнул губы и на все дальнейшие вопросы отвечал молчанием, как упрямый ребенок или как помешанный.
С этого момента друзья начали еще зорче следить за ним, боясь, что он приведет в исполнение фатальное[81] решение.
И все-таки им не удалось предупредить катастрофу, она произошла совершенно неожиданно. Князь все время тайно готовился к самоубийству и сумел всех обмануть.
После того, как он был задержан, а потом отпущен синьором Гаэтано и его бандой, он совершенно запустил все денежные расчеты. Пребывание в отеле на улице Умберто стоило дорого, и хозяин, не получив ничего за три недели, прислал счет.
Выписана была очень большая сумма, поскольку Березов вел роскошную жизнь, удовлетворяя все свои прихоти миллионера и принуждая спутников к такому существованию, хотя они охотно предпочли бы гораздо более скромный быт.
Хозяин гостиницы готов был распластаться во прахе перед князем, получив плату, но если у должника паче чаяния не окажется денег, намеревался не церемониться. В обычное время Мишель достал бы из бумажника пачку банкнот, бросил на серебряный поднос и сказал бы кратко:
«Получите».
Но тут он холодно, с отсутствующим видом заявил, что у него нет ни сантима, ни лиры, неизвестно, когда у него появятся деньги, и это вообще мало его интересует…
Управляющий поднял плечи и величественно пошел доложить хозяину. Жермена, находившаяся в этот момент подле Мишеля, ужаснулась, узнав о его внезапном и необъяснимом обнищании.
Привыкшая жить, соблюдая бережливость, экономя каждую монету, аккуратно за все расплачиваясь, предпочитая отказывать себе во всем, девушка почувствовала непереносимый стыд, так же как и ее сестры и Бобино.
С их понятиями честных бедняков, им казалось, что они совершили кражу, роскошно живя за счет человека, ставшего почти сумасшедшим и оказавшегося теперь на мели.
Из троих только Бобино имел немного денег, оставшихся от той суммы, что князь заставил взять на карманные расходы.
Превозмогая чувство неловкости, Бобино решил действовать дерзко, подумав, что человек, с кем ему придется говорить, только такое поведение и понимает.
Он гордой поступью прошел к хозяину гостиницы, посмотрел на него свысока и объявил тоном, каким говорят с мелким торговцем, что они скоро расплатятся.
Хозяин сказал, что подождет неделю, представитель князя заверил: расплатится дня через четыре.
Немного успокоившись после разговора, Бобино навестил князя и почти потребовал, чтобы тот откровенно сообщил ему о состоянии своих финансов.
И Мишель уже привычно отвечал:
— Говорю тебе, что я без гроша, как выражаются русские.
— Как это получилось?
— Они… Ты мне надоел с твоими вопросами!..
— Что же теперь делать?
— Поскольку граф Мондье женится на Жермене!.. Он за все расплатится, этот мой милый друг. Он расплатится не торгуясь. Он порядочный человек… Жермена станет богатой, графиней… Так надо!.. Так надо!
Бобино рассвирепел и, отбросив церемонии, сказал:
— Послушай, Мишель! Если бы я не любил тебя и не чувствовал огромной благодарности за все хорошее, что ты для нас сделал, я бы не простил гадостей, какие ты последнее время говоришь Жермене, и застрелил бы тебя.
— И оказал бы мне большую услугу, — с грустью сказал князь, к нему на минуту, казалось, вернулось ясное сознание. — Мне бы тогда не пришлось бы самому разбивать собственную башку, постепенно доведенную ими до полной тупости.
— Кто? Скажи мне, ради Бога?
— Они… Вернее, он.
— Кто он?
Князя затрясло, глаза помутнели, губы сжались.
Бобино подумал, что наконец узнает тайну, мучившую их всех вот уже более двух недель.
Несчастный склонил голову, и будто некая сила зажала ему рот и сковала язык. Он еле пробормотал:
— Я… Я не знаю…
Потом ясное сознание, что все-таки не покидало его окончательно, опять засветилось в глазах, и он сказал:
— Мой бедный друг!.. Если бы ты только знал! Я вас всех люблю!.. Но понимаешь?.. Я конченый человек!.. Если бы ты знал, что он со мной сделал!..
Бобино, растроганный, сжимал руки князя и спрашивал, как же им все-таки быть, где взять деньги.
— Деньги… У вас ни у кого их нет… У меня тоже, ну и плевать на эти бумажки…
Видя, что добиться разумного ответа невозможно, Бобино, желая избавить Жермену от ложного и унизительного положения, решил действовать по собственному усмотрению.
Он отправил телеграмму следующего содержания:
«Владиславу, дом Березова, авеню Ош, Париж.
Прошу отправить на имя Жана Робера, площадь Урбино, отель, все деньги, которыми вы располагаете. Князю Березову нужны немедленно самое меньшее десять тысяч. Если их у вас нет в наличии, продайте что сочтете возможным. С дружеским приветом от всех нас Жан Робер, называемый Бобино».
Типограф знал, что дворецкий имеет от князя полномочия распоряжаться в хозяйстве всем, и вернулся в отель полный надежды. Он думал: Владислав все сделает как надо. Самое большое дня через три я получу нужную сумму, чтобы расплатиться с владельцем отеля, и у меня еще наверняка останется на дорогу в милую Францию! С меня довольно Италии с ее туристами. Она меня навсегда избавила от желания путешествовать!
Юноша ждал денежного письма без особого волнения и нетерпения, сказав Жермене и сестрам о том, что он предпринял. Они были уверены, что Владислав знает дела князя лучше, чем тот сам, и справится с несложной в общем задачей.
Все же сердце Бобино забилось, когда слуга подал на подносе утреннюю почту. В ней было несколько писем для князя, в их числе три из России, одно из Франции и одно из Италии. Было и еще — для месье Жана Робера, большой, квадратный, из зеленоватого бристольского картона, украшенный царской короной конверт с адресом, написанным крупным ученическим почерком, очень разборчиво.
— Письмо от Владислава, — объявил Бобино Жермене, сразу послышалось, как зашуршала бумага: Березов вскрывал конверты.
Бобино надеялся найти в адресованном ему пакете переводной вексель, но там оказалось только короткое письмо. Содержание его было очень ясным и трагическим. Бобино читал шепотом, а Жермена с ужасом слушала. Владислав писал:
«Уважаемый месье Жан Робер, в ответ на телеграмму имею честь сообщить, что не могу исполнить Вашу просьбу.
Своих денег у меня нет. Его сиятельство не платил мне жалованья, так же как и его покойный батюшка. Я жил как бы на положении члена семьи.
Я не имею права продать лошадей, карету, дорогие вещи, совершенно ничего. Дом князя Березова больше не принадлежит его сиятельству, моему хозяину.
Согласно нотариальному акту, подписанному в Неаполе в феврале сего года, его сиятельство изволил продать дом со всем имуществом, в нем находящимся, барону де Мальтаверну за наличные деньги в сумме полумиллиона франков.
Я не могу теперь взять ни единого предмета, это будет кражей.
Я оставлен сторожем до того времени, когда его сиятельство князь Березов, мой бывший хозяин, пожелает вернуть меня себе в услужение. Я не осмеливаюсь его об этом просить и буду вам очень признателен, если вы осведомитесь, нужен ли еще ему верный Владислав.
Если он откажется, я покончу с собой, без князя мне жизнь не в жизнь.
Примите, дорогой месье Жан Робер, уверение в моем совершенном к вам почтении и преданности.
Владислав».— Все русские как будто тронутые умом: хозяин продает дом со всем имуществом и не получает ни копейки. Собирается покончить с собой. Его управляющий — тоже. Это какая-то болезнь у них… А покупатель — великосветский негодяй, чуть не убивший бедного князя… Я ничего не могу понять! А вы, Жермена?
— Я чувствую, что сама схожу с ума, — проговорила девушка.
— Сейчас не время терять рассудок, когда мы сидим без сантима в этом несчастном отеле и мы…
Громкий звук выстрела в комнате князя прервал его речь.
Бобино бросился туда. У Жермены подкосились ноги, и она двинулась следом, шатаясь и схватившись за сердце.
Комната была полна едкого дыма. Князь лежал в постели, расстегнув застежку сорочки, правая рука еще сжимала револьвер. Возле подушки вошедшие увидели вскрытое письмо.
ГЛАВА 10
Выстрел услышали и в отеле. Переговариваясь и восклицая, со всех сторон сбежались и полезли в комнату любопытные. Примчались хозяин, управляющий, слуги. Целая толпа заполнила спальню.
Больше всех был возбужден владелец, он горевал о пропавших деньгах и со злостью смотрел на Бобино, тот поддерживал голову князя.
Против всякого ожидания, молодой человек еще дышал, он узнал друга и прошептал:
— Бобино!.. Жермена!..
Услышав его, Бобино воспрянул духом и, строго взглянув на хозяина, попросил его немедленно выйти вон, а когда тот попробовал воспротивиться, сказал тоном, не терпящим возражений:
— Нам нужен врач, а не праздные зеваки. Поторопитесь! Что касается вашего счета, я попросил четыре дня отсрочки, так и приходите за деньгами послезавтра утром, пока же убирайтесь и очистите комнаты от зевак!
Врач, тот, что бывал у князя прежде, подоспел всего через несколько минут после выстрела. Пока доктор осматривал раненого и попросил всех оставить их наедине, Жермена, уходя к себе, взяла письмо, лежавшее на постели Мишеля и пришла в ужас, прочитав его. Строчки прыгали перед глазами. Послание походило на адское наваждение, настолько страшно было его содержание. Ни даты, ни места отправления. Лишь несколько строк, выведенных твердым и очень разборчивым почерком:
«Князь Березов.
Время пришло. Вы совершенно разорены. Жермена вас больше не любит. Вы сумасшедший…
Зачем теперь нужна Вам жизнь?
Князь Березов, надо умереть!
Умрите!.. Так надо!.. Такова моя воля!
Тот, в чьей власти приказывать».И несчастный, совершенно лишенный собственной воли, повиновался странному и чудовищному приказанию с необъяснимой покорностью и решимостью.
Жермена окончательно поняла, что ее друг находится во власти силы, какой не может противостоять, против нее невозможно бороться.
Ужас объял девушку, несмотря на все ее мужество. Ум и сердце заледенели, она постепенно приходила в полное отчаяние.
Пока врач занимался с больным, она думала: кто они, убившие сначала любовь ко мне, а теперь уничтожившие его самого?
Мрачный облик графа де Мондье встал перед глазами, возникло представление о страшной действительности.
Девушка отважилась вернуться, шатаясь подошла к постели, где лежал князь, все так же без сознания.
Врач ощупывал грудь около раны, Бобино сидел в соседней комнате, моля Бога о благоприятном исходе.
Кровь едва текла из раны, черноватой, окруженной большим лиловым пятном, она находилась против сердца и, по-видимому, должна была оказаться смертельной.
На всякий случай врач достал из своего набора зонд и осторожно ввел в рану. К его большому удивлению, наконечник почти тут же наткнулся на что-то твердое. И доктор сразу подумал, что это пуля, расплющившаяся на ребре. Он еще поискал, зонд сдвинулся с гладкой поверхности, и лекарь сказал вслух:
— Зонд пошел вдоль ребра вокруг грудной клетки.
Князь Мишель застонал, губы зашевелились, он как будто почувствовал боль.
— Он жив! Господи, слава тебе! — воскликнула Жермена.
Обрадованный доктор сказал:
— Не только жив, но рана не опасна! Ему повезло, честное слово!
— Пуля… — проговорил Бобино.
— Пуля… Мой дорогой… Помогите-ка мне повернуть раненого.
Когда Мишеля положили на бок, врач осторожно провел рукой вдоль ребра, потом сделал маленький надрез ланцетом, слегка нажал, и пуля выпала на ладонь, как косточка из спелого плода.
— Пуля… вот она!
— Вот чудо! — воскликнул Бобино.
— Чудесно и легко объяснимо. Ваш друг очень хотел умереть. Сдвинув левой рукой рубашку и поискав место, где находится сердце, он придавил дуло револьвера к груди, нажал крепко, ради уверенности, что пуля не пойдет вкось, и спустил курок. Пуля, едва вылетев из дула и еще не набрав скорости, скользнула вдоль ребра, не перебив его, и, потеряв силу, остановилась. Видите, как основательно обожжена рана, сколько крупинок пороха попало в тело.
— Правда! Чистая правда! — воскликнул Бобино, вздохнув с облегчением. — Доктор, а когда он сможет поправиться?
— Дней через десять. Я волью в рану антисептический раствор. Также обработаю снаружи, и заживет быстро.
Мишель постепенно приходил в чувство. Он дышал с трудом, но узнал друзей, смотревших на него любящими глазами с беспокойством и состраданием.
Князь зашептал ласково:
— Жермена!.. Моя дорогая!.. Бобино!.. Друг мой!
— Мишель, Мишель! — говорила Жермена. — Неужели вы не понимаете, что, убивая себя, вы убиваете и меня.
Березов с восхищением слушал и смотрел взглядом, полным любви, как всегда прежде. Надежда вернулась к Жермене, она подумала, что сердце Мишеля снова принадлежит ей.
Сделав перевязку, врач ушел, сказав, что явится завтра.
Раненый заметно успокаивался, а главное, ясность духа вроде бы вернулась к нему.
Жермена сделала Бобино знак, чтоб он оставил их наедине. Молодой человек, понимая, что между ними должен произойти серьезный разговор, поторопился уйти, но задержался в дверях и сказал:
— Мне все-таки надо напомнить, Мишель, что мы без единого франка и что хозяин гостиницы требует с нас больше семи тысяч.
— Это так, — сказал князь, с трудом припоминая. — Надо телеграфировать Владиславу, пусть продаст что-нибудь.
Бобино и Жермена переглянулись в смущении и подумали оба: несчастного обворовали столь хитро, что он даже не помнит об этом.
— Я уже телеграфировал, Владислав ничего… не ответил.
— Тогда надо сообщить Сержу Роксикову, у него должны быть деньги. Я больше не знаю, к кому еще можно обратиться.
Бобино поспешил было послать телеграмму, но тут слуга принес письмо.
— Срочное, — сказал князь, — Жермена, прочтите, пожалуйста.
Жермена вскрыла конверт и нахмурилась.
— Что, плохие новости? — спросил князь.
— Право, в жизни иногда бывают странные совпадения! Как раз когда вы собираетесь попросить у друга денег, он обращается к вам:
«Я в Монако, проигрался до копейки. Мишель, пришли мне, пожалуйста, тысячу франков. Они мне крайне нужны. С дружеским приветом Серж Роксиков».
— Теперь, по крайней мере, все ясно, — сказал Березов с невозмутимым спокойствием. — Но вас это совершенно не должно касаться, дорогая Жермена… ни тебя, мой милый Бобино. Это маленькое недоразумение легко поправимо. Я совсем не потому собирался объявить себя банкротом в жизни и застрелиться.
Жермена снова дала знак Бобино, и он ушел.
— Можете ли вы поговорить со мной? Вас это не слишком утомит? — спросила она тихо и серьезно.
— Да, Жермена! У меня нет жара, и мой ум сейчас совершенно ясен. Но скоро… да, скоро… сознание может снова помутиться.
— Мишель, скажите мне честно, как джентльмен и друг… почему вы хотели умереть?
— Честное слово, Жермена, не знаю. Что-то непреодолимо повлекло к этому. Я почему-то знал: так надо!
— Вас больше ничего не привязывает к жизни, Мишель?
— Ничего, Жермена… Ничего, по-моему.
— Несчастный!.. Проклинать жизнь… Терять надежду!.. Проклинать любовь! Имеете ли вы право так думать, вы, молодой, богатый, красивый, обожаемый…
— Обожаемый? Я-то, Жермена! Да я всю жизнь искал любви и не находил ее! Вы сами, Жермена, как вы ответили на мое признание? В любви, достойной вас, достойной вашей гордости… Я предлагал стать моей женой… Что вы тогда сказали? В моем сердце, говорили вы, не могут жить одновременно любовь и ненависть, и вы меня не любили, когда я умолял… А теперь я больше ни во что не верю, ни на что не надеюсь, ничего не прошу. Ах! Вы не знаете, что это такое — бессмысленная жизнь, жизнь без будущего, даже без надежды на завтрашний день!
Жермена покраснела, потом побледнела, не в состоянии вымолвить слова от стыда. Наконец она не смогла больше скрывать свой секрет и заговорила. Сначала нерешительно, потом все более и более твердо:
— Пока вы были богаты, я не хотела ничего вам объяснять. Я не хотела признаться даже самой себе в моем чувстве… Я не хотела вас любить… Мне это казалось невозможным… Вы — знатный, богатый, я — простая, бедная девушка из трудовой семьи. Непременно скажут, что у меня только корыстные намерения. Я боролась с собой. Изо всех сил! Но теперь, когда вы стали бедны, когда вам надо будет работать, чтобы на что-то жить… теперь я могу сказать все. Мишель, когда я говорила, что в моем сердце не могут жить одновременно ненависть и любовь… я лгала… И вам, и самой себе… Потому что я давно вас люблю… Люблю так, как, может быть, никто не был столь любим… Я открыла глаза там, в доме рыбака Могена… Вы спасли меня, рискуя собственной жизнью… Я увидала двоих у изголовья… вашего друга, художника Мориса, и вас, и вдруг меня словно что-то ударило в сердце. Мне показалось, что я знала вас всегда, что ваше лицо мне знакомо, что ваши глаза, с любовью смотревшие на меня, всегда смотрели так… И я забылась в жару и все время видела вас во сне. Я мучилась в бреду, а ваш образ был передо мной. Вы были рядом дни и ночи, смотрели с состраданием и нежностью, я видела, как в вашем взгляде появляется любовь. Болезнь отступила, завеса бреда растаяла перед моими глазами, я снова увидела ваш взгляд, устремленный на меня, но это был уже не сон, не видение… Все мое существо устремилось к вам… Я поняла, что любима… Да, любима! Я была готова открыть вам сердце и объятия в тот сладкий миг, наступивший после стольких страданий… Но тут передо мной предстал ужас реальности… Я вспомнила, что опозорена, обесчещена тем… бандитом… За один ужасный миг я вновь пережила адские муки, что вытерпела от мерзавца. Стыд, отвращение, отчаяние охватили меня. Да простит меня Бог — я желала себе смерти и была готова проклясть жизнь, спасенную вами. Мне подумалось, что я уже никогда не смогу ни слышать, ни говорить слова любви. Никогда вовек! Ненависть, дикая и упорная, охватила меня, я искренне поверила, что не люблю вас больше, ибо не имею права на любовь. Живя рядом с вами, окруженная нежной заботой и лаской, я поддалась чувству, уже не смела спрашивать сердце, люблю ли я, и все время с терпеливостью краснокожего ждала момента, когда смогу отомстить обидчику и любить вас, не испытывая стыда за прошлое. Ведь вы мне его простили…
— Жермена! Не говорите так! Моя дорогая, благородная мученица! — в волнении воскликнул Мишель. — Прощают только виновным, а вы — жертва!
— Пусть так!.. Но ведь вы даже не хотите помнить о моем позоре, и я всю жизнь останусь благодарной за такое великодушное забвение. Хотя я вас и полюбила с первого взгляда и любовь поразила меня, я скрывала ее до того дня, когда вы стали таким же бедняком. Не случись беды с вами, я бы никогда не сказала…
— Значит, я разорен, Жермена? — спросил князь, чуть улыбнувшись и в то же время поморщившись от боли.
— Разве вы этого не знаете?
— Честное слово! Не знаю. Последнее время у меня что-то неладно с головой. Это началось с тех пор… с тех пор… помогите вспомнить, но сейчас у меня голова совершенно ясная.
«Боже мой! Он ничего не помнит, — подумала Жермена. — Но моя любовь излечит его… клянусь!»
Князь вновь заговорил, стараясь делать вид, что совершенно спокойно к этому относится:
— Да, я разорен… я буду работать. У меня здоровенные плечи и спина, что же, они мне послужат как носильщику.
Молодой человек немного повеселел. Признание Жермены в любви его преобразило.
Мишелю вспомнилось то совсем недавнее время, когда он с такой страстью любил эту прелестную женщину, ему сейчас захотелось говорить о любви. Растроганный, он открыл объятия и промолвил с ласковой насмешкой:
— Выходит, мы оба без копейки… Так будем работать изо всех сил и любить друг друга от всего сердца.
— О, да! И какую чудную жизнь я вам устрою! Ведь вы всегда будете меня любить, как прежде? — спросила Жермена, отдавая ему душу в первом поцелуе, при одной мысли о котором она прежде замирала.
Но вот лицо раненого помрачнело, взгляд стал рассеянным, отсутствующим, каким был после похищения. Улыбка исчезла, руки бессильно упали на постель.
И Жермена вновь увидела лишенного воли и ясного сознания человека, лишь на краткие минуты оживленного ее любовью. Перемена произошла мгновенно, на глазах у несчастной девушки, и так больно поразила ее, что она почувствовала, как сама вот-вот сойдет с ума или оборвет жизнь, в один миг опять ставшую для нее ненавистной.
А Мишель, только что заверявший: «Мы будем любить друг друга от всего сердца», вдруг заговорил таким тоном, словно был не волен в словах и поступках:
— Умоляю тебя… Жермена… Мой друг… сестра… не говори со мной так… Вы знаете, что это невозможно… Мы оба грезили… Ведь это сон… Я грезил, что люблю тебя… Вы сами были в заблуждении… Ваши слова… Вы только что сказали… Я больше не буду о них вспоминать… потому что супруг, вам предназначенный, не я… Вы хорошо это знаете… Это другой… Он вас любит… Граф Мондье!
Произнося это имя, Мишель был как сам не свой, и Жермена даже не возмутилась, зная, что его рассудком владеет чья-то злая воля, жестокая, неумолимая, таинственная.
И ей вновь захотелось жить, чтобы разгадать и победить врага, вернуть любовь князя, вырвать его душу из страшного плена.
Она смотрела долгим нежным взглядом, когда он, совершенно обессилевший, заснул. Девушка думала: «Мишель… Мой Мишель… Несмотря на жестокие слова, которые ты произнес в припадке безумия, я знаю, что ты меня любишь как прежде. Такая любовь не может кончиться, потому что, как и моя, она бессмертна и бесконечна… И я спасу тебя, как ты спас меня!»
С этого времени Жермена твердо решила не придавать значения словам Мишеля; здравым природным умом она поняла, что любимый тяжко болен и, следовательно, к нему надо относиться как к больному. Без колебания, без страха перед тем, сколько огорчений и трудных дней ей придется пережить, она готовилась жертвовать собой и ждала с нетерпением, когда можно будет начать действовать.
Прежде всего следовало уехать из Италии. Путешествие, обещавшее столько приятного и полезного, теперь уже невозможно, да и не имело никакого смысла продолжать. Жермена и Бобино постоянно чувствовали, что вокруг них действуют тайные враждебные силы. Кроме того, совершенно не оставалось денег, и оба не знали, как выйти из затруднительного положения.
Дело еще более осложнялось из-за безумия князя. Не оставалось сомнения в том, что он разорен преступниками, которые воспользовались его ненормальным душевным состоянием.
Бобино, Жермену и ее сестер сам факт финансового краха мало тревожил, их волновало унизительное положение, в какое все они в данный момент попали.
Конечно, по закону никто не мог бы возложить на них четверых ответственность за долги князя Березова: они всюду фигурировали только как его приглашенные, так сказать, его свита.
Но им, разумеется, и в голову не приходило не считать себя в ответе, и поэтому Бобино твердо заявил хозяину:
— Мы все оплатим.
Однако при этом он никак не мог придумать, откуда же взять денег, пока Жермена с ее здравым смыслом не надоумила, сказав:
— Друг мой, когда разоряется такой богатый человек, как князь Березов, от его имущества и драгоценностей всегда что-нибудь да остается. Он не мог сразу потерять все до нитки. Их консул, может быть, даст какую-то сумму соотечественнику, попавшему в неприятное положение, с тем чтобы потом возместить ее из России, либо за счет обломков его состояния, либо просто от царского правительства, которое не захочет оставить в нищете носителя исторической фамилии[82].
— Вы правы, Жермена! — сказал Бобино. — Я бы никогда не догадался так поступить.
Не пролетело и пяти минут после того, как он ушел, и в гостинице поднялся шум вроде того, что был, когда князь Березов вернулся из плена. Хлопали двери, раздавались возгласы и быстрые шаги по коридору. Жермена услышала совсем близко от входа в их переднюю кто-то из служителей произнес:
— Месье де Шамбое… Право… Это точно он… Какой бледный!.. Подумать только… Почти месяц о нем ничего не было известно. Уже думали, его нет в живых!
Раздался звонок в их дверь, слуга доложил:
— Месье де Шамбое!
Молодой прохвост, действительно несколько побледневший, а может быть подгримированный, вошел с извинением за непрошеное вторжение, но, добавил он, дошли слухи о покушении князя на свою жизнь, и, крайне обеспокоенный, он, Шамбое, позволил себе…
Разумеется, поступок вполне соответствовал правилам вежливости и доказывал хорошее отношение к Березову, и все-таки Жермена снова почувствовала недоверие к человеку, так странно исчезнувшему в момент, когда на них напали по дороге из монастыря Камальдолей.
После нескольких приличествующих случаю фраз, слишком коротких, чтобы они придали проходимцу Бамбошу соответствие облику месье де Шамбое, мнимый аристократ осведомился о самочувствии раненого.
— Он себя достаточно хорошо чувствует, месье. Рана совсем не опасна, — ответила Жермена, мельком взглянув на незваного визитера.
Шамбое, сиречь Бамбош, все-таки не вполне усвоил умение владеть собой. Он не сумел скрыть некоторого волнения и разочарования.
Жермена заметила это и еще раз интуитивно поняла: перед ней — враг.
Бамбош тут же взял себя в руки и начал говорить много, как человек, осознавший, что совершил неловкий поступок.
— О! Мой дорогой друг! Я так рад, что все обошлось. Я спешил, чтобы помочь ему… Правда, я в стесненных обстоятельствах, бандиты меня порядком обобрали, но все-таки я от чистого сердца хочу предложить взаймы что могу.
— Почему вы думаете, что князь остался без денег? — холодно спросила Жермена. — Вы лучше меня знаете, в каком состоянии его дела?
Бамбош, опешив от пристального надменного взгляда, какого никогда прежде не видел, несколько растерялся, но тут же решил действовать смело и перевел разговор на другое.
— Я представлен князю недавно, но если бы вы знали, мадемуазель, как он мне по душе! Он с ходу покоряет человека воспитанностью, умом, великодушием! Мне бы так хотелось его повидать! Хоть минутку!
— Это невозможно, месье, — холодно остановила его Жермена.
— Прошу вас! На одну только минуточку!
— Не настаивайте, месье. Ему нужен полный покой, ни вам и никому другому нельзя заходить еще по меньшей мере неделю.
Поняв, что ничего не добьется, Бамбош, кипя от злости, но скрывая досаду под маской вежливости, церемонно поклонился и вышел.
По пути к себе он разразился проклятиями, мысленно произнеся целый монолог:
«Тебе, девка, повезло, что граф так в тебя влюблен, иначе не дальше чем нынешним вечером ты прошла бы чистку у Биби, то есть у меня, у Бамбоша! Хозяин мой сам из богачей и не знает, как укрощать бабенок вроде тебя! Если бы тебя разочка два прочистили с табачком у Биби, ты перестала бы драть нос перед мужиками! Березов раскошелился, мы хорошо поживились его добром, и я не хочу терять свои деньги из-за того, что какая-то сука мешает ими воспользоваться! Твой идиот-князь сам не застрелился, так я его прикончу, и скоро! А тебя мы схватим сегодня же ночью и тогда разбирайся сама с патроном».
Жермена в страшном беспокойстве ждала Бобино.
Теперь она боялась всего и всех: неизвестных ей жильцов, служащих отеля, прохожих за окном — и начинала ненавидеть всю Италию, о которой составила себе из литературы такое поэтическое представление.
У девушки осталась одна главная мысль — скорее бежать отсюда, увезти Мишеля, спасти от врагов, чьи преступные действия она теперь угадывала.
Из консульства Бобино возвращался с совершенно подавленным видом. Проходя мимо комнаты управляющего, он виновато согнул спину, и, когда тот напомнил о расплате, жилец скромно попросил отсрочки еще на двадцать четыре часа. Служака сказал высокомерно:
— Двадцать четыре? Ну ладно, но ни часом позже!
Когда же Бобино оказался у Жермены, он совершенно преобразился и радостно крикнул:
— Спасены! — и даже подпрыгнул, как истинный парижский мальчишка. — Получил монету! Хорошую сумму… Добрый консул дал мне ее просто так… в подарок для князя Березова.
— Я ему очень благодарна! — сказала Жермена с жаром. — Он спас всех, прежде всего Мишеля.
— Консул повел себя совершенно шикарно! Наш, французский, скорее всего послал бы меня к черту, даже если бы я попросил у него хоть сорок су. Но сейчас не время рассуждать о достоинствах дипломатов, надо быстрее бежать из проклятого отеля, из окаянной страны, где земля горит у нас под ногами! Мне хватит, чтобы расплатиться с кабатчиком, купить билеты на пароход и даже на поезд до Парижа.
Жермена, сияя, собиралась уже вызвать управляющего, чтобы рассчитаться, но Бобино удержал, сказав:
— Сперва соберем багаж и, когда все будет готово, тогда выложим денежки.
— Почему, мой друг?
— Надо, чтобы о нашем отъезде, похожем на бегство, не пронюхали шпионы — я их постоянно чувствую вокруг — и не доложили бы самому главному таинственному нашему врагу.
— Вы правы, совершенно правы. А как же с местами на пароходе?
— В этот сезон всегда бывает сколько угодно свободных мест на Марсель. Мы явимся на судно, не приобретая заранее билеты.
— А как перевезем Мишеля?
— Все беру на себя!
— Значит, остается только набраться терпения. Как я счастлива!
Все прошло так, как планировал Бобино.
Вчетвером они поспешно собрали, увязали и снабдили этикетками багаж. Действовали быстро, подгоняемые нетерпением. К двум часам ночи у них уже все было готово. Слуги отеля ничего не заметили.
Немного вздремнули, по очереди дежуря около князя, тот все время спокойно спал.
В шесть утра Бобино, никому ничего не говоря, вышел из гостиницы и вернулся с двумя экипажами, велел остановить их напротив дверей.
Один, большой и просторный, предназначался для людей, другой — грузовой фургон.
Парижанин попросил пригласить для беседы управляющего и хозяина. Первым, позевывая спросонок, явился управляющий.
С важностью вынув счет и банкноты, Бобино сказал:
— Расплатимся, через пять минут мы уезжаем.
— Уезжаете… Но, ваше превосходительство…
— Я не превосходительство, а типографский рабочий, и мне до черта надоела ваша коробка!
— Может быть, вашему превосходительству не оказывалось должное уважение? Или вас плохо обслуживали?.. Или разонравились ваши апартаменты?
— Довольно разглагольствований… многое не понравилось!
И Бобино ушел, зажав в руке оплаченный счет.
Двое из фургона поднялись по лестнице и вскоре вернулись, нагруженные чемоданами и тюками.
В комнате Мишеля Бобино увидел Жермену и ее сестер, совершенно готовыми к отъезду.
— Что случилось? — спросил князь, потревоженный ходьбой людей туда и сюда.
— Ничего. Надевай халат и ложись, понесем на матрасе. Я возьмусь за углы, где твоя голова. А вы, месье, там где ноги, — сказал Бобино, обращаясь к прибежавшему лакею, прикрепленному к их апартаментам и вытаращившему глаза.
— Получите пять луидоров за труды. А ты, князь, спи, пока мы доставим тебя к лифту.
— В чем дело?! Почему вдруг вы меня куда-то тащите в ранний час и столь странным способом?..
— Для твоего блага… чтобы ускорить твое выздоровление…
— Я еще раз спрашиваю…
— Давай же спи! Слышишь? Спи… Я так хочу… Так надо для твоего блага.
И Березов спокойно заснул как ребенок. Ни Бобино, ни Жермена почему-то не обратили внимания на то, как покорно повиновался Мишель команде «спи».
Русский не заметил, как его спустили в лифте, положили в экипаж, как тот понесся по улице и как, наконец, князь оказался в просторной каюте парохода, уже готового к отправлению.
Прошло не больше получаса после того, как Бобино рассчитался с хозяином гостиницы.
Месье де Шамбое крепко спал и ничего не подозревал о ловко организованном побеге.
Граф-бандит, преследовавший ненавистью, равно как и преступной и опасной любовью тех, кому уже сделал столько зла, не мог видеть, как они исчезли.
Мишель продолжал мирно похрапывать, девочки сидели, прижавшись к старшей сестре, а Бобино сиял.
Жермена считала минуты до отплытия, те последние минуты, когда уже грузили багаж.
— Когда же мы отправимся? — шептала она в нетерпении.
Раздался долгий гудок.
— Наконец!
Корабль задрожал и начал медленно отходить от причала.
В тот момент к набережной быстро приближалось ландо, взмыленные кони неслись галопом.
Из коляски выпрыгнул человек, когда пароход уже удалился от берега.
Опоздавший в бешенстве сжал кулаки.
— Они убежали от меня… Но я их все равно найду! Тогда не пощажу никого! — И крикнул кучеру: — Быстро в отель! Взять там месье де Шамбое, а потом — на виллу… Гони, Лоран, гони вовсю, загони лошадей, если надо!
— Слушаюсь, хозяин, — ответил тот самый кучер, что правил лошадьми, когда ландо катило в монастырь Камальдолей.
ГЛАВА 11
Всего несколько минут потребовалось, чтобы возбужденные лошади домчали графа до гостиницы, откуда князя Березова так ловко увезли друзья прямо из-под носа его смертельного врага.
По дороге экипаж сбил нескольких разносчиков, но богач-седок и не подумал хотя бы деньгами вознаградить ушибленных.
Прикатив, Мондье в два прыжка поднялся по широкой лестнице, устланной ковром, к апартаменту месье де Шамбое.
Граф ворвался прямо в спальню, Бамбош спокойно почивал. Мондье в бешенстве тряхнул его изо всей силы. Приспешник главаря банды очнулся и мигом сообразил, что его дело плохо.
— Что-нибудь случилось?
— Скотина несчастная! Случилось то, что они удрали!.. Те, за кем ты, болван, должен был следить.
— Князь Березов?
— Ну да!.. Этот блаженненький и с ним Жермена, ее сестры и проклятый Бобино!
— Не может быть!
— Заткнись! И действуй, чтобы исправить свой идиотский промах! Тебя разыграли как дурачка. Пока ты дрыхнул, скотина, Эмилио, управляющий, доложил мне о бегстве, но оказалось слишком поздно!
— Но, патрон, чтоб отправить телеграмму, все равно нужно время…
— Кретин! Неизвестно тебе, что гостиница имеет телефонную связь с виллой?
— Я об этом не знал.
— Быстро! Одевайся, собирай манатки и наверстывай упущенное! Даю пять минут.
Очень испуганный, Бамбош был готов через четыре.
Мондье спросил:
— Есть у тебя деньги?
— Луидоров пятьдесят… не больше.
Мондье выхватил бумажник, не считая, швырнул несколько банкнот, сказав:
— Трать, не скупясь. Сейчас же поедешь на железную дорогу и отправишься в Марсель с таким расчетом, чтобы оказаться там раньше прибытия парохода и не прозевать их, когда сойдут на берег.
— Это я могу.
— Будешь следить за ними в Марселе и обо всем, что увидишь, сообщай мне.
— По телеграфу?
— Да, пользуясь шифрованным кодом, я сейчас тебе его дам. А теперь быстрее катись отсюда и исправляй свой промах. Твой багаж будет выслан на имя месье Тьери.
— До свиданья, патрон!
— До свиданья.
— Вы сердитесь на меня?
— Да, с некоторых пор ты делаешь промах за промахом, и, если так будет продолжаться, я отошлю тебя обратно к Лишамору, и ты станешь там прозябать среди обыкновенных мошенников.
— Патрон, ей-богу, я нагоню упущенное! Как только вы скажете, я тут же прикончу дурака князя и расправлюсь по-своему с мозгляком Бобино!
— Ты не осмелишься и не сможешь!
— Увидите! Думаете, у меня не хватит духу перепилить глотки этим двум типам?
— Хвастаешься, — сказал граф, чтобы подзадорить напарника.
Бамбош сделал выразительный жест пальцем поперек горла и застегнул чемоданчик, куда положил самые необходимые вещицы.
— Теперь дуй и не забывай делать все, как я тебе велел. Да, еще хочу сказать: приехав следом за ними в Париж, остановишься в бывшем доме Березова. Особняк куплен на имя барона де Мальтаверна, это подставное лицо, он даст тебе жилье и будет кормить и поить. Прощай, негодяй!
— Счастливо оставаться, патрон.
Через три дня Мондье получил от Бамбоша следующую телеграмму:
«Все идет хорошо, наши люди высадились в Марселе, не подозревая, что я уже там. Князь болен, поселились на тихой улочке, где за ними будет легко наблюдать. Посещает доктор, я с ним поговорю».
На другой день снова пришла депеша:
«Ведут себя очень осторожно, видимо, подозревают, что за ними следят. Проникнуть в дом невозможно, продукты и лекарства приносят прямо туда. Врач, очень молодой и старательный, отказался от десяти тысяч, которые я ему предложил за то, чтобы он помог».
Прочитав послание, граф в бешенстве его скомкал, воскликнув:
— Идиот!.. Он все испортит своей поспешностью, надо было предупредить меня. Не хватает только того, чтобы этот несчастный врач оказался честным человеком! Проклятие! Я должен был ехать сам, чтобы освободиться от князя и Бобино. Но не могу же я быть одновременно всюду!
Патрон послал новые инструкции Бамбошу, велел действовать с крайней осторожностью и не трогать ни князя, ни Бобино, требовал не ослаблять слежку за князем, который, вероятно, поедет в Париж, как только поправится после ранения.
Получив такой приказ, Бамбош с облегчением вздохнул. В самом деле, не так легко было убить двоих людей, что вели себя крайне осторожно и кого, может быть, предупредил об опасности доктор после сделанного ему грязного предложения.
Так продолжалось еще десять дней, в продолжение коих Бамбош слал донесения. В одном он сообщал:
«Решительно, врач из тех, кого называют честными, Делает вид, что не понимает, когда я набавляю цену. Я преобразился в коммерсанта, и вы сами бы не узнали. Нанял кое-кого из подходящих себе в помощь, но птички очень недоверчивы, и боюсь, как бы не улетели неожиданно».
Бобино со своей стороны пребывал в постоянном страхе. Правда, на пароходе за ними никто не следил, в этом юноша не сомневался. Но он уже имел достаточный опыт, чтобы заподозрить шпионство в Марселе, так как был убежден: враги не сложили оружия. Вот и доктор, навещавший раненого, известил Бобино о полученном грязном предложении, которое он, врач, с возмущением отверг.
Стало ясно, что преследователи приехали поездом и видели, как беглецы сходили с корабля. Хоть бы князь поскорее поправился, и тогда все немедленно уедут в Париж и скроются в его лабиринтах…
О том, на какие средства они станут жить вместе с больным князем, Бобино старался не думать. А душевное состояние Мишеля все ухудшалось. Под действием гипноза он уже почти не переносил даже вида Жермены. Тупая, бессознательная ненависть вытесняла из больной души прежнюю любовь к прелестной женщине, отдавшей ему сердце.
ГЛАВА 12
Ждать, пока князь совсем поправится, Бобино не мог. В Марселе ни он сам, ни Жермена и сестры не могли бы найти заработка.
Южные французы с удовольствием едут завоевывать Париж, но весьма неохотно сами допускают жить у себя уроженцев столицы, те оказываются на юге как в другой стране, среди иных нравов и обычаев, и даже язык южан им словно чужой.
Жермена верила, что в Париже найдет работу, а Бобино твердо надеялся быть принятым на прежнее место, даже если оно окажется занятым, давние товарищи потеснятся и не позволят остаться на улице.
Разумеется, придется вламывать изо всех сил, но зато жить с гордой уверенностью, что существуешь собственным трудом и никому ничем не обязан, и получать удовлетворение от честно выполненного долга.
Сосчитав содержимое кошелька, Бобино убедился, что денег хватит только на дорогу, и сказал Жермене:
— Нельзя терять время. Если мы проведем тут еще две недели, у нас не останется на билеты, застрянем здесь.
— Так едем, мой друг, — просто ответила девушка. — Мишель чувствует себя немного лучше, и думаю, что в купе второго класса…
— Я все рассчитал, — остановил ее Бобино, — отсюда до Парижа стоимость билета — шестьдесят пять франков двадцать пять сантимов, во втором классе, конечно. Значит, нам надо триста двадцать шесть франков двадцать пять сантимов.
— И у вас осталось достаточно денег?
— Даже с учетом небольших непредвиденных расходов.
Разговор происходил в восемь утра, решили отправиться поездом в час сорок девять, среди дня, как люди, ни от кого не скрывающиеся, не боящиеся шпионов.
Да и чего им опасаться, разве они ехали не в Париж, где смелый парень всегда найдет верных товарищей в борьбе против своры негодяев, тех, от кого до сих пор приходилось отбиваться чаще всего в одиночку.
Бобино уплатил за гостиницу и спросил у врача, сколько должны ему. Но благородный человек, видевший в каком положении они находятся, не захотел брать ничего за лечение князя.
Мишель, когда узнал о переезде, особенно часто ворчал на Жермену, брюзжал на всех и по любому поводу жалобно плакал, словно ребенок.
Отчитав его как следует, Бобино решительно сказал:
— Знаешь что, не морочь нам голову! Или я тебя увезу насильно. Спи, ешь и пей и никому не сообщай, что у тебя голова не в порядке, а не то угодишь в дом умалишенных. Помалкивай и будь умницей.
Несчастный, чья воля была жестоко подавлена Мондье, безропотно повиновался резким словам, подкрепленным выразительными жестами.
Они заняли купе второго класса; вскоре на оставшееся свободное место подсел человек, вежливо раскланявшись. Бобино признал в нем одного из шпионов, что отирались около их гостиницы в Марселе. Тихонько шепнув об этом на ухо Жермене, Бобино прибавил:
— Ничего не бойтесь, все устрою как надо.
В начале пути пассажир попробовал завязать разговор, но Бобино очень вежливо продемонстрировал, что увлечен беседой с тремя своими дамами. Те поняли игру и наперебой болтали. Неизвестный, потеряв надежду наладить знакомство, углубился в чтение газет.
За полночь предстояло ждать пересадку. Семейство, — а они ощущали себя и в самом деле семьей, — отдохнуло в вокзальном буфете.
Когда ранним утром надо было ехать дальше, неприятный незнакомец снова оказался в их купе, выразив радость по поводу счастливого совпадения.
— Вы, конечно, едете в Париж, не так ли? Я тоже туда.
— Действительно неожиданность, — любезно ответил Бобино и на этот раз начал с соседом банальный разговор о дорожных мелочах, о погоде. Жермена, очень обеспокоенная, не могла понять, как может Бобино вести себя столь невозмутимо с почти заведомым наемником их тайного врага.
Мишель угрюмо молчал, куря папиросу за папиросой. У него повысилась температура, он не желал есть ничего, предлагаемого Жерменой, и вообще держался со всеми очень неприязненно.
Путешествие продолжалось без инцидентов; приближались к Парижу, вдали, в тумане уже виднелись очертания его зданий.
Когда оставалось проехать последнюю станцию, Бобино насмешливо сказал неизвестному:
— Честное слово, месье, вы добросовестно зарабатываете ваши деньги. От самого Марселя, где вы к нам навязались… Это похвально…
— Но, месье… я не понимаю…
— А я понимаю, и очень хорошо. Вы следите за князем Березовым и за мной, вашим покорным слугой Жаном Робером, по прозванию Бобино, по поручению человека, которого я не хочу называть. И присматриваете также за барышнями Жерменой, Бертой и Марией Роллен. Мне это очень надоело, и я не знаю, почему до сих пор не вытолкнул вас из вагона на полном ходу.
— Месье! Если вы попытаетесь осуществить угрозу… Я опережу вас и тотчас воспользуюсь стоп-краном!
— Оставьте стоп-кран в покое, это приспособление почти никогда не срабатывает. Вместо того чтобы вышибить вас, я облегчу вам труды по слежке и сам скажу, куда мы направляемся. Оцените мое благородство и воспитанность! Итак, чтобы вы знали, мы сойдем с извозчика на улице Паскаля, девятнадцать… Не стесняйтесь, запишите адрес, чтобы не забыть и отослать его кому следует. Передавайте поклон вашей жене! Ваш покорный слуга!
Человек не нашелся, как ответить на открытую насмешку, молча снял с полки чемоданчик, приготовился выйти. Поезд с шумом остановился у перрона.
— Теперь этот господинчик непременно поедет вслед за нами. На здоровье! — Бобино засмеялся.
Неизвестный подбежал к другому купе, оттуда вышел некто в пальто с воротником, поднятым чуть не до самых бровей, он спросил:
— Ну как?
— Младший из мужчин, Бобино, просто издевается надо мной. Он дал свой адрес.
— Не верь, он хитер, как обезьяна. Следуй за мной до выхода, не теряя их из виду.
Десять минут спустя, как люди, которым некуда спешить, к кондуктору подошли Жермена, Берта, Мария, Мишель и Бобино. Бобино держал под руки младших сестер, Жермена вела Мишеля. Сдав билеты, они наняли небольшой, так называемый семейный омнибус[83], Бобино громко сказал кучеру:
— Улица Паскаля, девятнадцать.
Тот спросил:
— А багаж, месье?
— Его доставит грузовой фургон.
Бобино сделал вид, что не замечает, как следом за ними тронулись два наемных ландо. Они тоже остановились неподалеку от названного дома.
Было десятое марта, солнце закатилось, и на улице, лишенной освещенных витрин, стало темно.
Бобино пришло в голову пошутить и заглянуть в окошко преследовавшего экипажа, в расчете увидеть знакомый профиль их спутника. Приблизившись к оконцу, парень отпрянул в страхе: показалось, что он увидел темный глаз и нос с резкой горбинкой месье де Шамбое и даже почувствовал характерный запах его духов. Остальную часть лица загораживал высокий воротник пальто.
Веселая усмешка слетела с губ Бобино.
Он вошел в аллею перед домом, там ждали молодые мужчина и женщина, хозяева пансионата.
— Здравствуй, Матис! Здравствуй, Жанна! Дорогие мои друзья, рад вас видеть! Вы получили письмо? — сказал Бобино.
— Да! И все готово для вас — три комнаты в мансарде… не очень удобно…
— Это прекрасно! Дорогая Жермена, представляю вам Матиса и его Жанну… моих друзей, я их очень люблю, и они, похоже, платят той же монетой.
Молодые люди с изумлением смотрели на Жермену, пораженные ее красотой.
— Вы будете и моими друзьями, потому что друзья наших друзей — наши друзья! Правду ли я говорю? — спросила Жермена. — Позвольте также представить вам князя Березова, он ранен и плохо себя чувствует.
Мишель в изнеможении сидел на складном стуле, но был в ясном сознании. Князь снова обрел свою обходительность: пожал руку Матиса, с изысканной учтивостью поклонился его жене, извиняясь за то, что потревожили их.
— Да оставьте вы, какое там беспокойство! — ответил Матис. — Если вы товарищ Бобино, значит, хороший человек, а для таких мы всегда рады сделать что можем.
— Друг мой, — сказал Бобино, — прошу, отведи всех в комнаты, а я отпущу омнибус и заодно посмотрю еще на одного типчика, до которого у меня есть дело.
— Если надо его вздуть, скажи, я помогу.
— Спасибо, сегодня не требуется.
Экипажи исчезли, но Бобино был уверен, что они недалеко и в них — шпионы. Он не ошибся, узнав Шамбое — Бамбоша, что следил за ними от самого Марселя и мечтал о мщении.
Юноша вернулся в дом очень озабоченным, но виду не показал и, весело прищелкнув пальцами, сказал всем:
— Виват! Мы в Париже, есть кров над головой, и скоро примемся за работу!
ГЛАВА 13
Помещение, предоставленное Матисом, оказалось более чем скромным, скорее убогим.
В комнатах стояли лишь самые необходимые предметы: на чем спать, на чем сидеть, на чем есть.
В комнате девушек — железная кровать для Берты с Марией и брезентовая раскладная для самой Жермены, три стула, некрашеный дощатый стол и маленькое зеркальце на стене.
По шутливому выражению Бобино, он занимал общие покои с князем — комнатку размером три метра на три, там стояли, соответственно, те же походные кровати, что у Жермены, и стулья.
Бобино, с его небольшим ростом, было вполне удобно улечься на складном ложе между тонким матрасом и одеяльцем, но уместить на таком пространстве гигантское тело Мишеля стало задачей нелегкой. Его голова и ноги оказывались за пределами кровати. Пришлось помудрить, чтобы устроить князя. К счастью, он пребывал в хорошем настроении, смеялся, глядя, как его укладывают; кроме того, Мишель был так утомлен дорогой, что больше всего на свете хотел спать. Бобино положил на стул подушку и подставил вместо изголовья.
— А ноги ты подогни к телу, — сказал он Мишелю, — иначе придется и под них помещать стул. Потерпи, мы здесь не надолго. Скоро переедем в свою квартиру. Она, конечно, будет не такой шикарной, как прежний твой особняк, но все же достаточно удобной.
— Здесь лучше, чем в вагоне, — заявил Мишель, почти засыпая.
— Правильное заключение! Давай-ка спать.
Наутро в третьей комнате, где устроили столовую и кухню, приготовили скромный завтрак.
Несмотря на одолевавшие всех тревожные мысли, за столом случились несколько минут веселья.
Резкая перемена образа жизни никого не удивляла и не беспокоила.
Несмотря на то что Жермена успела привыкнуть к роскоши, живя в доме Березова, и потом во время путешествия в Италию, так трагически закончившегося, она ничуть не жалела о той обстановке и даже не вспоминала о ней.
С каждым днем старшая из сестер все более возвращалась к своему состоянию простой девушки из народа, готовой работать вместе со своими младшими по десять часов в сутки и даже ночами, если потребуется, жить в любой дыре, питаться чем Бог пошлет и бедно одеваться.
Со всем этим добрая мужественная девушка спокойно мирилась. Лишь бы только князь, друг ее тяжких дней, выздоровел и излечился от раны и от странной душевной болезни! Тогда она стала бы счастливейшей женщиной на свете! Ради этого Жермена была готова совершить чудеса любви, преданности и трудолюбия.
Она посвятила Мишелю свою спасенную им жизнь, которую теперь иногда готова была проклясть, ведь с жестокостью безумного князь заявил о своей нелюбви и даже ненависти.
Однако она исцелит его тело, ослабшее от непрерывной лихорадки, и его раненую душу. Вернет его сердце, которое хотят у нее отнять. Станет бороться до конца и восторжествует над врагом, потому что чувствует в душе непобедимую силу и страстную волю к борьбе. Источник этого — в бесконечной любви.
Бобино, преданный Жермене и ее сестренкам, отнесся к внезапному разорению князя и резкому изменению собственной жизни совершенно спокойно.
Он с удовольствием думал о возвращении к любимой работе, и его нисколько не прельщала бездельная жизнь богачей.
— Это очень глупая жизнь, называемая широкой! — говорил юноша.
Так как друзья остались почти без сантима, а Жермена и ее сестры не могли рассчитывать быстро найти надомную работу, решили, что Бобино немедля пойдет на прежнее трудовое место, может быть, его возьмут обратно.
Матис работал в красильне, что находилась в том же доме, где они жили, и Бобино просил приятеля присматривать за князем и ни в коем случае не позволять ему выходить на улицу. Вплоть до применения силы.
— Вплоть до применения силы, — повторил Матис, поглядев на свои руки борца. — Можешь не сомневаться, приказ будет выполнен.
— До свиданья и спасибо тебе, старина!
— Не за что благодарить! Ты знаешь, что мы с женой всегда готовы тебе помочь.
Выйдя на улицу, Бобино сразу почувствовал, что за домом установлен надзор, но кто, где и как следит, не стал выяснять. Сейчас было важнее избавиться от персонального шпика, наверняка к нему приставленного.
Было ясно, что преследователи скоро от них не отвяжутся, будут глазеть и таскаться за каждым, выяснять, кто куда пойдет и, вообще, как они живут.
Надо было, чтобы его поход на работу ни в коем случае не был прослежен.
Как настоящий парижанин, Бобино знал в городе все ходы и выходы и поэтому спокойно отправился пешком. Возле Обсерватории он сел в омнибус и заметил, что сейчас же вослед вошел человек, одетый как зажиточный рабочий, и устроился рядом.
Бобино краешком глаза посмотрел и, убедившись, что сосед нисколько не похож ни на месье де Шамбое, ни на типа, увязавшегося за ними в Марселе, подумал, а почему, собственно, это не может быть обыкновенный житель столицы, никакого отношения не имеющий к тем двум.
Через некоторое время появился еще пассажир, потом третий, постепенно весь империал[84] наполнился.
Когда подъехали к Большому рынку, Бобино сошел и побродил по его рядам, как зевака, что любуется свежей зеленью, фруктами, цветами, разным мясом, рыбой.
Потом он двинулся по улице Монмартр до угла улицы Сен-Жозеф, но не приблизился к дому 142, где находилось издательство «Маленькая республика», а свернул в подворотню и, миновав двор, загроможденный транспортом и тюками, юркнул в незаметную маленькую дверь, через коридор пробрался в пустой сейчас большой зал, откуда знакомыми закоулками попал наконец в свой цех.
Его товарищи начинали разборку вчерашнего набора по кассам[85].
Неожиданное появление Бобино породило всеобщее изумление и радость: парня ждали только через год.
Даже старый метранпаж[86], толстый, сорокалетний, с бритой головой и черными усами, всегда молчаливый, закричал так, что все удивились:
— Бобино!.. Не может быть!
И по всему цеху понеслось на все лады: «Бобино!.. Бобино!.. Бобинар!.. Бобинелли!.. Бобинович!.. Да здравствует великий путешественник!..»
— Выходит, дальняя прогулка закончилась? — спросил метранпаж.
— Лопнуло терпение! Окончательно лопнуло! Хватит с меня Италии!
— Почему?
— Там слишком много итальянцев…
Все засмеялись.
Когда ребята немного успокоились, Бобино продолжал:
— Это еще не все! Я уехал без копейки в кармане… и возвращаюсь богатый… как нищий! Ты ведь знаешь, я всегда был охоч до работы, — сказал он метранпажу.
— Дружище, но мастерская укомплектована… Если только ребята потеснятся и выделят тебе кассу…
Тут закричали:
— Кассу Бобино!.. Кассу!.. Без Бобино цех набора не может существовать! Да здравствует «Маленькая республика!» И большая тоже! Он снова с нами!..
— Договорились! И я, правда, очень рад, — сказал метранпаж. — Время аперитива[87], мы тебе поднесем, а ты расскажешь о путешествии.
— С удовольствием! — сказал Бобино, несказанно довольный тем, что так скоро обрел работу и сможет обеспечить жизнь своих подопечных.
Пришел торговец вином и принес аперитивы всех цветов и на все вкусы: и мятные, и анисовые, и сладкие, и натуральные.
Чокнувшись со всеми и отпив глоток, Бобино встал в позу, чтобы начать.
— Я вам не буду рассказывать про всю Италию, потому что я был только в Неаполе.
— Увидеть Неаполь и умереть…
— Как можно позднее!
— Тогда рассказывай про него!
— Очень просто: Неаполь — это одна длинная улица, куда из домов разом вышли все обитатели… Толпа… толчея… не продерешься! И все принюхиваются и посматривают на котлы, где прямо на улице варятся макароны. Это национальное блюдо, именуемое также спагетти… Вот вам Неаполь!.. Вернее, половина Неаполя.
— Рассказывай про другую половину!
— Она так же проста, как и первая. Наевшись макарон, все мечтают о десерте[88] и начинают посматривать на разносчиков, вопящих на все голоса: «А вот дыни! Дыни! Сладкие, сочные… За один чентизим, то есть, по-нашему, сантим, наешься, напьешься и умоешься!»
— А как это? — спросил парень, стоявший рядом с Бобино.
— Очень просто: дыня такая сладкая, что будешь сыт, съев кусок, такая сочная, что напьешься, а умоешься, потому что, вгрызаясь в нее, станешь до ушей мокрым… Вот и все, точка!
— Что все?
— Все про Неаполь, про мое путешествие и мои впечатления…
— А небо Италии?
— Оно синее.
— А море?..
— Тоже синее… но от него болеешь.
— Чем?
— Морской болезнью.
— Ну, а Везувий-то?
— Печка, которая топится нефтью, с перерывами топится, не хватает горючего, муниципалитет[89] нормирует расход.
— А раскопки городов?.. Геркуланума… Помпеи?
— Подумаешь!.. Старые ямы, вроде заброшенных пустых водоемов, где бродячие торговцы расставили товары… Люди в очках ходят… смотрят… делают вид, что понимают что-то и восхищаются… В общем, я вам все сказал: Неаполь — это макароны и дыни… Вот!
Яркий рассказ, украшенный реалистическими чертами, имел большой успех, хотя некоторые остались и не вполне уверенными в том, что узнали абсолютно все о Неаполе и его окрестностях.
Условились, что с завтрашнего дня Бобино начнет работать. Счастливый, он возвращался на улицу Паскаля. Обратно типограф добирался тем же запутанным путем, каким прибыл в типографию.
Сияя от радости, Бобино объявил:
— Теперь с голода не умрем! Ребята, старые товарищи, сохранили место, и я смогу зашибать в ночь по десять франков.
— И я начну подыскивать работу, как только устроимся с квартирой, — откликнулась Жермена.
— Это вопрос двух-трех дней, и я надеюсь, что нам удастся так хорошо скрыться, что шпионам долго придется нас разыскивать.
ГЛАВА 14
Комнаты в доме на улице Паскаля они считали лишь временным жильем. Бобино обдумал хитрый план, как отыскать постоянное и как с самого начала сделать, чтобы сыщики не узнали, куда они перебрались.
Матис, пользуясь тем, что за ним не следили, развозя в повозке товар заказчикам красильни, в то же время подыскивал для постояльцев квартиру, а когда нашел — на углу улиц Мешен и Санте, — перевез туда постепенно все их вещи, так что наблюдавшие за домом могли думать, будто багаж находится еще на улице Паскаля.
Оставалось только выехать незамеченными и обустроиться в новом месте.
Оказалось, что это довольно трудно осуществить. За домом Матиса велась усиленная слежка. Кроме того, не было денег, чтобы купить для квартиры хотя бы самую необходимую обстановку, а Жермене хотелось создать для больного Мишеля пускай минимальный, но комфорт.
Когда князь был богат, он давал им деньги не считая, а теперь, разоренный и больной физически и душевно, находился под угрозой новых козней, отнявших у него все, — друзья обязаны за доброту и щедрость отплатить, пускай не в полной степени, а по мере своих возможностей. Ради этого придется трудиться дни и ночи, отказывая себе в самом необходимом.
Создать привычные для Мишеля условия оказалось бы нелегко даже зажиточным людям, а каково это двум неопытным девушкам, младшей швее и молодому наборщику… Но они считали себя обязанными выполнить свой долг, хотя больной вел себя так, что мог лишить их мужества. Князь был постоянно всем недоволен, недружелюбно относился к Бобино, холодно и почти враждебно — к Жермене, и только с ее сестрами оставался по-прежнему ласков и всегда радовался их присутствию. Они одни могли его уговорить не выходить из дома и не слоняться по улицам, рискуя оказаться в доме для душевнобольных, а то и похищенным врагами.
Вот каким путем и ценою какой жертвы была решена проблема покупки мебели и домашних вещей.
Когда Жермена лежала больная, князь, надеясь ее развлечь и доставить ей удовольствие, позвал известнейшего в Париже ювелира, велел принести красивейшие драгоценности и разложил их на постели девушки.
Он рассчитывал пробудить в ней любовь к нарядам, свойственную женщинам, и просил выбрать, что понравится, а лучше взять вообще все.
Но Жермена окинула грустным взглядом сверкающие украшения и решилась приобрести только одно скромное колечко с красивым сапфиром, окруженным мелкими бриллиантами, сделав это лишь затем, чтобы не обидеть Мишеля полным отказом.
Князь сказал ювелиру, огорченному такой, на его взгляд, незначительной покупкой:
— Это пока, позднее мы опустошим весь ваш магазин.
Потом Березов вернулся к Жермене и надел ей кольцо на палец, а она сказала благодарно и нежно:
— Я с ним никогда не расстанусь!
И конечно, сдержала бы обещание.
Но теперь, когда от этого зависело сохранение жизни Мишеля, могла ли она не распроститься с его же подарком? И девушка это сделала, когда Бобино спросил, на какие деньги купить обстановку для квартиры.
Жермена молча сняла кольцо с руки, положила в футляр и, передавая Бобино, сказала:
— Заложи или продай, как хочешь.
В ломбарде оценили в четыреста франков, ювелир предложил шестьсот, Бобино согласился и тут же побежал за мебелью, уплатив наличными пятьсот с тем, чтобы остальные сто отдать в рассрочку за год.
Вернувшись, он с торжеством сказал Жермене:
— Все в порядке, можем переезжать, когда нам удобно.
Итак, главное теперь состояло в том, чтобы их перемещение не заметили шпики, несомненно наблюдавшие за домом днем и ночью.
Девушки страшно боялись, что враги узнают их новый адрес, проникнут в отсутствие Бобино и будут продолжать вредить Мишелю, уже и так сделав его совсем больным.
Бобино молча слушал эти разговоры, предвкушая, какой приятный сюрприз преподнесет. Наконец он сказал:
— А если я берусь провести вас так, что никто не заметит?
— Вы можете это сделать?
— И не далее как сегодня ночью.
— Но они увидят, как мы будем выходить на улицу Паскаля.
— А мы окажемся на другой. Только бы Мишель не заупрямился и не принялся бы ставить нам палки в колеса.
— Его мы берем на себя, — сказала Берта. — Буквально: возьмем под руки, и он спокойно пойдет куда надо.
— Итак, друзья мои, в половине первого пополуночи мы уходим отсюда на улицу Мешен.
— Ты, может быть, поведешь через подземелье… Мы ужасно боимся подвалов с тех пор, как нас держали взаперти, с крысами…
— Все будет гораздо проще: вы ничего не имеете против прогулки по берегу реки?
— Ничего, особенно когда такое необходимо.
— Там не очень приятно пахнет, но зато нет ни малейшей опасности.
— Я готова идти вдоль сточной канавы, если это путь к нашему спасению, — сказала Жермена.
В полночь все пятеро спустились в швейцарскую, где их ждал Матис. Он снял со стены ключ на длинном ремешке и сказал, что проводит друзей, и все последовали за ним. Они миновали двор, где сильно пахло из дубильной мастерской, и приблизились к вонючему стоку, идущему к речонке Бьевр.
Мишель находил ночную прогулку забавной, хотя в темноте не было даже видно, куда ставить ногу. Князь оставался спокоен, не объявлял себя сумасшедшим, но сильно страдал от раны. Бедный аристократ покорно шел, куда его вели.
Выходы на набережную из дворов запирались наглухо, только некоторые дома имели ключи от замков. Матис изготовил отмычки, вывел всех к речушке. По другую сторону ее простирался пустырь, отгороженный плотным забором.
Через вонючую воду перекинули доску, по ней перешли на другой берег, а там пустырем — до изгороди. Накануне вечером Матис вынул гвозди из одной широкой планки. Подведя всех к этому месту, он внимательно прислушался, не идет ли кто по улице, открыл проход, выпустил всех на улицу и, быстро поставив планку на место, повернул к себе. Операция проводилась в полной тишине, переговаривались только шепотом.
Теперь они могли надеяться, что скрылись от своих преследователей и смогут наконец спокойно искать работу, спокойно жить.
Не встретив ни души, дошли до улицы Мешен, где находилась новая квартира.
Несмотря на поздний час, консьерж[90], получив авансом хорошие чаевые, дожидался их, провел в жилье и оставил одних.
Жермена, увидав, какую милую обстановку подобрал Бобино, радостно воскликнула:
— Как у нас хорошо! Я даже не смела надеяться, что ты все так славно устроишь; спасибо тебе, дорогой друг!
Обошли четыре комнаты, восхищаясь как дети мебелью из красного дерева, ковриками, швейной машинкой. Только один Мишель молчал и казался ко всему безучастным.
— Ну, мой друг, как вы находите наше убежище? — спросила Жермена. — Оно, может быть, и не очень удобное, но зато мы тут в безопасности.
— Нас не найдут теперь, мы поселились под чужими фамилиями, — добавил Бобино.
— Мне все равно, — сказал князь. — Ведь я теперь не более чем испорченный механизм. Разве я могу о чем-нибудь думать с тех пор, как они убили мою душу.
— Но кто? Кто они?.. Скажите, ради Бога. Умоляю вас! — снова и снова спрашивала Жермена.
— Те, кто убили мою душу и ждут, чтобы я покончил с собой, и это скоро случится.
ГЛАВА 15
На другой день Бобино вывел четким почерком два десятка объявлений. Тех самых записочек величиной с ладонь, какие мы постоянно видим расклеенными на водосточных трубах, на косяках входных дверей, на углах тех домов, которые, кажется, стыдятся, что занимают место на улице. На записках нет разрешительных штампов, они существуют только благодаря снисходительности администрации, делающей вид, что не замечает их, ведь многим нуждающимся эти клочки бумаги помогают найти пропитание.
Жермена не предоставляла работу, а искала ее. Она писала:
«Особа, обученная в лучшем модном ателье Парижа, берется шить платья для дам и девиц, переделывать устаревшие туалеты и реставрировать нарядные платья. Обращаться в дом N… по улице Мешен, 3-й этаж».
Таким образом, девушка взывала к довольно многочисленной клиентуре из небогатых женщин, желающих быть одетыми по моде, не покупая наряды в магазинах, и при этом говорить с гордостью: «у моей портнихи…» — потому что немногие из них могут иметь на самом деле свою портниху.
Бобино расклеил бумажки ночью, когда возвращался из типографии, и Жермена с утра ожидала клиентов.
Берте поручили делать покупки провизии, она очень хорошо понимала в хозяйстве и умела торговаться с продавцами.
Мария сидела дома с Мишелем, а до трех часов дня и Бобино находился с ними.
Состояние здоровья русского опять требовало внимания. Рана открылась, нагноение началось снова, и Мишеля лихорадило. Кроме того, сильно мучила межреберная невралгия, следствие ранения, и настроение у него было убийственное.
Он ворчал на Жермену, не желал ее видеть, терпеть не мог Бобино и успокаивался лишь, когда говорил с Марией или когда она читала вслух.
В голову ему приходили всяческие фантазии, и Березов высказывал их с дьявольской едкостью, совершенно не желая замечать, как огорчает друзей, сидевших на мели после квартирных затрат.
— Хочу клубники, — говорил он Марии. — Да, клубники, в конце марта ее можно найти сколько угодно… Клубники с шампанским и хорошую сигару… Ваши мерзкие папироски набиты просто мокрым сеном… Хочу настоящую гавану[91], какие курят в светском обществе, — так, к примеру, говорил он.
— Господи, Боже мой! Да если бы у нас было хоть немного лишних денег, мы бы купили все, чего он хочет, — шептала Жермена.
— Я возьму аванс, займу у товарища двадцать франков. Ты был нам другом в трудные дни, и мы станем работать изо всех сил, чтобы тебе жилось как можно лучше, — сказал Бобино.
Но князь посмотрел злыми глазами и прервал пораженного Бобино, сказав Жермене:
— Если вы в нищете, только от вас зависит из нее выйти. Ступайте замуж за Мондье, он богат, он вас обожает, а мне дайте покончить с этой собачьей жизнью, раз надо себя убить, раз необоримая сила к этому толкает.
Бобино ничего не мог понять.
Из деликатности, присущей многим парижским простолюдинам, он никогда не касался пережитого Жерменой надругательства. Он подозревал об ужасной драме, произошедшей в мрачном доме, охраняемом Лишамором, но не просил, чтобы Жермена рассказала. Тем более он не знал имени человека, гнусно оскорбившего ее. И все-таки у него отчего-то застыло сердце, когда Мишель назвал имя графа, а Жермена, смертельно побледнев, чуть не упала в обморок.
Но она сдержалась и не заплакала. В это время раздался звонок, прервав тягостный разговор.
Бобино удалился с Мишелем в другую комнату, пока Жермена шла открывать.
На площадке лестницы стояли женщины: одна совсем молоденькая, блондинка, очень хорошенькая и шикарно, с безупречным вкусом одетая; другая — постарше, в платье добротном, но без всяких претензий на моду, была похожа на воспитательницу или на компаньонку.
Ослепительная красота Жермены на фоне скромной обстановки квартиры удивила и восхитила пришедших.
Учтиво поздоровавшись, младшая спросила Жермену:
— Мадам, это вы принимаете заказы на переделку платьев?
— Да, мадемуазель, — ответила наша героиня, сразу поняв, что с ней говорит хорошо воспитанная девушка. — Входите, пожалуйста.
Жермену приятно удивил сдержанный и мягкий тон, каким заговорила с ней явно богатая заказчица. Еще более удивило то странное обстоятельство, что хорошенькая девушка была необычайно похожа лицом на Бобино и даже тембры их голосов как бы совпадали, только голос мужчины был, естественно, погрубее и черты его лица порезче. Те же живые, яркие глаза, те же вьющиеся рыжеватые волосы, тот же прямой коротким нос с тонкими ноздрями. И что совсем невероятно, у обоих в одном и том же месте на лице темнела родинка. Невиданное, поразительное сходство!
Со своей стороны барышня с необычайным интересом разглядывала Жермену, ей казалось, что они уже встречались, только не припомнить, где и когда.
Указав на спутницу, девушка сказала:
— Мы живем в монастыре Визитации, он ведь почти напротив вашего дома. Выйдя погулять, мы увидели ваше объявление, у мадам есть пальто, которое на ней плохо сидит, и мы подумали, не возьметесь ли вы подогнать его по фигуре.
— К вашим услугам, сударыни, — ответила Жермена.
— Дело в том, что мы очень торопимся и поэтому не согласитесь ли вы переделать как можно скорее? Это вас не слишком затруднит? — спросила девушка с милой улыбкой, той, что сразу покорила Жермену.
— Мне хочется вам угодить, я готова начать сегодня же.
— Я пришлю пальто с горничной после полудня, и одновременно мадам придет для примерки.
— Когда вам будет угодно, мадемуазель, я не буду зря терять времени.
Незнакомки простились с Жерменой и вскоре подошли к дому с садом, в глубине которого находился павильон с верандой, крытой матовым стеклом, там росли экзотические растения в вазонах, висели драпировки из дорогих тканей, картины и стояло много скульптур. Все предметы говорили об изысканном вкусе хозяина.
Их встретил мальчик в ливрее и без доклада проводил в комнаты. Они вступили в очень большую мастерскую, где с нетерпением ждал молодой художник.
Поспешно бросив работу, он радостно бросился к гостьям, протягивая обе руки.
— Здравствуйте, Сюзанна! — сказал, волнуясь, хозяин мастерской.
— Здравствуйте, Морис! — так же ответила девушка.
Художник одновременно пожал руки девушки и ее спутницы, при этом молодые люди обменялись долгим красноречивым взглядом.
— Дорогая Сюзанна, как вы добры, что с такой аккуратностью пришли сегодня!
Хорошенькая блондинка, оправившись от смущения, сказала с милой насмешливостью:
— Дорогой мастер, по-моему, я все дни так же аккуратно являлась на сеансы и надеюсь, что и завтра не опоздаю. Вы пишете мой портрет, прелестный портрет, на нем вы делаете меня красивее, чем в действительности, идеализируете, но я имею слабость находить изображение похожим, и мне это приятно, не скрою. Я с нетерпением жду, когда вы закончите, вот почему я исправно хожу на сеансы.
— О! Уверяю, портрет недостоин вас! — с искренней пылкостью ответил Морис. — Чтобы написать вас такой, какая вы на самом деле и какой я себе представляю, надо быть гениальным, а у меня ничего нет, кроме любви и таланта. Увы! Очень небольшого.
Он подвел ее к мольберту[92]. Спутница девушки села на диван и занялась чтением журнала, чтобы не мешать молодым людям поговорить.
Они рассматривали незавершенное полотно.
— Неужели я должна вам говорить, что это прекрасная работа? Неужели вы сами этого не видите и сомневаетесь в своем истинном таланте? Мне кажется, вы были увереннее, когда помещали на выставках свои восхитительные пейзажи, ими я любовалась, еще не будучи с вами знакома, — говорила Сюзанна с такой искренностью, что Мориса прямо-таки распирало от радости и гордости.
— Это было потому, что в ту пору я вас не любил, Сюзанна! Тогда вы еще не позволяли мне вас любить.
— Не хватает только того, чтобы вы меня полюбили еще не увидав, — весело смеясь сказала девушка.
— Я не то хотел сказать…
— Так объясните почему.
— Потому, что, не зная вас, я был уверен в себе, как человек, которому нечего терять.
— Кажется, понимаю, — смеясь еще веселее, сказала девушка, — это вроде как в сказочке Лафонтена[93] «Сапожник и богач». А теперь вы обладаете сокровищем, боитесь его потерять, и оно отнимает у вас уверенность в вашем мастерстве?
— Смейтесь!.. Шутите надо мной… Я вам припомню. Мое сокровище — это вы… молодая, красивая, счастливая, богатая, знатная… Это вас боюсь я потерять… вернее, оказаться недостойным. Надо обладать большим, чем обыкновенный, талантом, чтобы осмелиться просить вашей руки у вашего отца и надеяться на его согласие… чтобы вы стали женой простого художника Мориса Вандоля. У вас самой тоже, может быть, есть предрассудки вашего сословия. Если бы у меня был выдающийся талант, я бы стал богат и знаменит, и тогда, может быть, ваш отец не посмотрел бы на то, что я не знатен. Вот почему, моя любимая, у меня нет уверенности в себе.
Взволнованная и растроганная искренними словами Мориса, девушка с нежной улыбкой говорила ему:
— Надейтесь, друг мой, надейтесь… ведь я вас люблю, всей душой люблю.
— Сюзанна! Как вы добры ко мне, как я обожаю вас! В вашей любви вся моя жизнь… мое будущее… моя гордость…
— Я не знаю, поступаю ли я хорошо, с точки зрения света… Я от него так далека… Я не знала своей матери… Я бы спросила у нее… Она, наверное, была добрая… Я спрашивала у моего сердца, и оно говорило мне, что такая любовь, как наша, — это честное, законное и дозволенное чувство.
— Вы знаете, что моя мать нашу любовь одобряет, ваша достойная родственница мадам Шарме ей сочувствует и помогает нам видеться… О! Как мне хочется, чтобы поскорее вернулся ваш отец… Он все еще в Италии?
— Да.
— И долго еще там будет?
— Ничего не знаю. Обычно его отлучки продолжаются около трех месяцев, иногда дольше. Он прекрасный человек, но весьма и весьма светский, он ни за что на свете не пропустит сезона в Италии. Он очень любит меня, балует, исполняет все мои маленькие желания, относится ко мне как к избалованному ребенку. Он человек высокой культуры, он оценит ваш талант художника, признает как аристократа искусства и мысли… Такая аристократия не ниже аристократии сословной. Он вас полюбит…
Морис, слушая, с увлечением работал над портретом. Голова была уже почти закончена, она не только изумительно походила на оригинал, но и была сработана с таким мастерством, что любой знаменитый живописец не постыдился бы поставить на холсте подпись.
Морис смотрел на девушку нежным взглядом влюбленного и художника, и душа ее волновалась от этого взгляда. Сюзанна становилась более обычного прекрасной. Она отдавалась счастью их ежедневных свиданий, что стали главной, если не единственной радостью ее жизни.
Часы пролетали для них незаметно, и оба не слышали, как на башне Обсерватории пробило двенадцать.
Мадам Шарме, уже успевшая не один раз перелистать иллюстрированный журнал, быстро встала с дивана, покашляла и проговорила:
— Пойдемте, Сюзанна, пора возвращаться в монастырь, завтрак ждет нас. До завтра, месье Морис.
— Как! Уже пора! — воскликнул огорченный художник. — Разве уже двенадцать? Часы Обсерватории, наверное, врут. Но вы сегодня опоздали на четверть часа, значит, вы мне их должны.
— Правда, до прихода к вам мы заходили к портнихе, она живет напротив монастыря Визитации. И я забыла вам сказать об одной вещи, поразившей нас обеих, не правда ли, мадам Шарме? Есть ли у вас здесь копия портрета, что выписали для князя Березова?
— Да, он у меня, дорогая Сюзанна, но почему вы о нем спрашиваете?
— Потому что портниха, у кого мы были в скромной квартире на улице Мешен, похожа на этот портрет до такой степени, что мы обе были несказанно удивлены.
Вандоль принес портрет, который поразил Сюзанну прелестью изображенной женщины, когда она впервые увидела его в мастерской своего поклонника. Тогда Сюзанна почти не поверила, что на свете может существовать такая красавица, спрашивала у Мориса, кто она, и тот рассказал известное ему из истории Жермены. Правда, он не знал прошлой жизни девушки, не знал, почему она бежала топиться, когда ее увидел и спас Березов.
Обе женщины посмотрели на изображение и сошлись на том, что сходство совершенно удивительное, это несомненно женщина, виденная ими на улице Мешен.
— Этого не может быть, — сказал Морис.
— Друг мой, в Париже не может быть двух таких женщин, — заявила Сюзанна. — Уверяю вас, что оригинал живет на улице Мешен.
— А я повторяю вам, дорогая Сюзанна, что этого не может быть, потому что оригинал находится сейчас вместе с князем в Италии.
— Это, конечно, убедительно.
— А если князь Березов уже вернулся бы в Париж, мне первому об этом стало бы известно. Я его лучший друг, мы время от времени переписываемся, что довольно редко в нашем мире, где каждый живет для себя, не интересуясь тем, как существуют другие.
— Тоже убедительный довод, и все же подобное сходство мне кажется странным. Знаете ли, скажу вам, раз вы знакомы с подругой князя Березова, пойдемте на днях вместе со мной к портнихе на улицу Мешен, и вы тогда сами увидите.
— С радостью, дорогая Сюзанна.
ГЛАВА 16
Великосветский лев в Париже и предающийся наслаждениям бандит в Италии, начисто лишенный совести и чести, жестокий, умный, хитрый граф Мондье, покоритель и мучитель женщин, любил за всю жизнь только одну из них — свою дочь, прелестную и скромную Сюзанну, любил до обожания.
При этом она ничего, в сущности, не знала о том, каков на самом деле отец, с нею бесконечно добрый, ласковый, щедрый и, думала она, глубоко порядочный.
На время отлучек в Италию граф оставлял свое дитя под присмотром пожилой бедной родственницы в пансионе столичного монастыря Визитации, где она мирно жила в полной безопасности.
И воспитывалась Сюзанна в этой обители, привыкла к ее укладу, чувствовала себя там очень уютно и спокойно, деля скромную келью с приветливой и доброй мадам Шарме.
Девушку не привлекали светские удовольствия, ей нравилось уединение, она почти ни с кем из мирских знакомых не встречалась, хотя могла свободно уходить из приюта до восьми вечера, принимать гостей, заниматься музыкой, читать, изготовлять изящные рукодельные работы, — словом, полноценно заполнять досуг, а его хватало: в сущности, круглые сутки она была предоставлена самой себе.
Очень хорошенькая, грациозная, отменно воспитанная и образованная, Сюзанна была к тому же весьма добра. Она не могла относиться без сострадания к бедным людям, всегда старалась помогать им и много делала для этого в окру́ге Мануфактуры[94] гобеленов[95] и Обсерватории, где располагался монастырь и жило особенно много бедноты.
Ее благотворительность не имела ничего общего с показным сюсюканьем светских дам, что регулярно раздают безделушки только знакомым несчастненьким, хорошо отмытым и для такого случая навсегда обученным, как себя вести при вручении господских подачек.
Сюзанна же опекала тех, кто не мог или не хотел обращаться со своей нуждой ни к кому из гордости, недоверия или застенчивости.
Она без отвращения и страха входила в грязные, запущенные дома, где ютилась нищета, отдавала несчастным все, что было в кошельке, и как могла утешала добрым словом отчаявшихся.
Девушка словно обладала особым чутьем, чтобы отыскивать именно тех, кто не просит подаяния и прячет свою нищету. Облегчать хоть малостью их судьбу приходилось чуть ли не насильно. Сюзанна была так неутомима в своих походах по трущобам, что мадам Шарме иногда даже просила подопечную не брать ее с собой, зная, что воспитаннице не грозит опасность.
Действительно, трудовой люд, в основном населявший эти кварталы, относился к молодой и хорошо одетой женщине с уважением и, насколько умел, вежливо и приветливо.
Но эти кварталы облюбовали по разным причинам и фабриканты, и зажиточные буржуа, охотники погулять и повеселиться на отшибе, где невелик риск встретиться с нежелательными свидетелями. Кроме того, именно в этих кварталах обрабатывали за выпивкой и гульбой провинциальных клиентов, делая их более податливыми. Сюда прямо-таки тянуло новоявленных дельцов, выскочек, еще не успевших приобрести внешний лоск и презираемых в аристократических салонах. Здесь же эти нувориши ощущали себя в родной среде, хотя демонстрировали простолюдинам такое презрение, с каким не относились к ним прежние владетельные господа, как правило, отменно воспитанные.
Однажды кучка из подобной публики, обильно позавтракав у фабриканта, вышла днем на улицу в сильном подпитии, чтобы поразвлечься. Уселись в одном из больших кафе, чтобы оттуда отправиться в центр города и там закончить веселье ничем не сдерживаемой оргией.
Два господина из этой компании, возрастом лет около сорока, краснорожие, с брюшком, хорошо одетые, с кольцами на толстых волосатых пальцах, прогуливались по улице Санте по направлению к бульвару Араго.
Утирая пот, несмотря на холодную погоду, в цилиндрах, сдвинутых на затылок, они отпускали всяческие сальности встречным женщинам.
Проходя мимо стены тюрьмы Санте, места мрачного и пустынного, они увидали молоденькую девушку, та спешила, — видимо, промерзнув, спрятала руки в муфту, шею закрывал меховой горжет[96], концы его спускались ниже пояса.
В Париже одиноко идущая по улицам женщина никогда не может чувствовать себя в безопасности. Всегда найдется кто-нибудь, чтобы кинуть оскорбительное слово, пошлую шутку, циничное предложение. Как правило, никто из прохожих не вступается, а полицейские только посмеиваются в усы, весело поглядывая на наглеца.
В Америке человека, оскорбляющего таким образом женщину, даже случайные прохожие избили бы тотчас.
Увы, в Париже и порядочный мужчина редко осмеливается поддержать женщину, таким образом становясь невольным союзником нахалов, тогда как было бы достаточно раза два основательно огреть наглеца палкой или врезать несколько хороших зуботычин…
…Два подвыпивших господина сочли очень остроумным загородить девушке дорогу и загоготали. Она отскочила.
Один громко объявил:
— Она миленькая! Я бы с удовольствием переспал с такой!
Другой ответил:
— Э! Толстый распутник, давай на па́ру!
Девушка сошла на мостовую, один из хамов покинул тротуар и опять загородил дорогу.
Бедняжка покраснела, потом побледнела, посмотрела на бесстыдников испуганным и одновременно возмущенным взглядом, но толстокожих животных не тронул ее взор.
Типчик, остававшийся на тротуаре, спросил:
— Малышка моя, один луидор может составить твое счастье?
— Два луидора!.. Два луидора… Но хочу поцеловать вас сию же минуту!
Охальник уцепился за горжетку и потянулся пьяной рожей к девичьему лицу.
Девушка громко закричала, отскочила, чуть не упала и громче позвала на помощь. Нахал не унимался, из развязного он превращался в наглого.
— Подумаешь, какие нежности… Три луидора хочешь? Или…
Сильный пинок в жирный зад заставил его заорать от боли и неожиданности. Одновременно его компаньон получил по цилиндру такой удар кулаком, что высокий головной убор нахлобучился до рта, сделав щеголя небоеспособным.
Получивший ногой в седалище дернулся назад и увидал молодого человека среднего роста с бородкой клинышком, широкого в плечах и очень быстрого в движениях.
Толстяк был трус и вовсе не хотел драться. Он попытался вступить в переговоры и начал:
— По какому праву вы себе позволяете…
В ответ он получил два быстрых удара, отчего у него под глазами появились два основательных синяка и в голове зазвенело. Он пытался бежать, но молодой человек ухватил грубияна за ворот так, что сдавил горло, и тихо, гневно сказал:
— Проси прощения!
Гуляка прохрипел:
— Пощадите… простите…
Молодой человек отпустил ворот и толкнул безобразника так, что тот отлетел на несколько шагов и плюхнулся на свой цилиндр, раздавив его в лепешку.
Другой в это время старался стянуть с себя нахлобученную на лицо трубу такого же головного убора.
На расправу потребовалось не больше двадцати — тридцати секунд.
Победитель улыбнулся девушке, она мило ответила тем же. Он подошел и, почтительно сняв шляпу, проговорил:
— Мадемуазель, окажите честь опереться на мою руку. Я провожу, куда вам угодно. Вы окажетесь в полной безопасности, я буду усердным и почтительным слугой.
Незнакомец смотрел большими добрыми глазами, в них выражались преданность и восхищение.
А она, сразу покоренная честным взглядом и теплым приятным голосом, почувствовала, что вполне может довериться прохожему, и без колебания оперлась на его руку.
Уже собралась толпа, судили всяк по-своему о случившемся, а какая-то простая женщина, посмотрев вслед, сказала:
— Неплохая парочка из них выйдет!
Тот, на кого был нахлобучен цилиндр, стащил его наконец и, решив изобразить храбреца, достал визитную карточку, протянул вдогонку удалявшейся парочке, крикнул:
— Вы меня ударили! Вы за это ответите…
Молодой человек обернулся, посмотрел презрительно и сказал:
— Вы непременно хотите со мной драться?
— Да. Я не позволю меня оскорблять.
— Принимаю вызов, вот моя карточка, но дрянь, оскорбляющая беззащитных девушек, — всегда подлец и трус, и скажу вам, что вы только разыгрываете из себя храбреца, и дуэлянтом никогда не станете.
И трусливый нахал удалился, освистанный собравшимися.
Заступник предложил спасенной от издевательств позвать извозчика, но та сказала, что тут совсем близко до монастыря Визитации, где она живет, но, поблагодарив за защиту, предпочла идти пешком.
В пути они вполне свободно разговаривали, испытывая большую радость от общения.
Провожатый сказал, что и он обитает с матерью неподалеку от монастыря, по профессии художник и зовут его Морис Вандоль.
И она назвала свое имя: Сюзанна Мондье, объяснила, почему находится сейчас в католической[97] обители.
Через десять минут они уже достигли нужного места и удивились, как за такое короткое время успели рассказать друг другу о своей жизни и стать благодаря случайности друзьями, может быть, надолго, если не навсегда.
Оставшись один на пустынной улице, Морис ощутил необыкновенное блаженство. Его душа, до сих пор заполненная любовью к матери и к искусству, словно расширилась, в нее вошло новое, до тех пор неведомое чувство и наполнило радостью, какой прежде он не испытывал.
В мастерской, охваченный сладостным волнением, молодой человек изобразил черты той, кого два часа назад не знал, и, глядя на рисунок, подумал: «Я люблю ее».
Очень скоро мадам Вандоль заметила, что с Морисом что-то происходит. Он не сделался менее любящим сыном. Наоборот, стал относиться к матери с еще большей нежностью, но в нем появились новые черты: сочетание возросшей откровенности с некоторой нервозностью.
Настроение утратило прежнюю ровность, он не веселился по-прежнему, как беспечный ребенок, нападала длительная задумчивость, когда Морис не замечал ничего. Потом его вдруг охватывала неожиданная, непонятно чем вызванная веселость. В таком состоянии он мало и плохо работал, портил начатые холсты. Пробовал заниматься музыкой, беспорядочно наигрывал что-то на фортепьяно и снова впадал в меланхолию.
Все это свидетельствовало о тяжелой болезни молодого человека двадцати трех лет, и мадам Вандоль, конечно, догадалась, какова причина.
Внимательная и любящая мать, всегда бывшая лучшим другом сына, она завела осторожный разговор и скоро услышала признание. Морис был влюблен. Уже три дня.
Он охотно рассказал, при каких обстоятельствах встретил девушку, поразившую его сердце, и мать отчасти успокоилась, подумав, что сын явно не попал в руки авантюристки.
Морис продолжал:
— Мама, если хочешь доставить мне удовольствие… нет, огромную радость, ты пойдешь в монастырь Визитации и попросишь разрешение повидать Сюзанну Мондье…
— И сказать, что мой сын безумно влюблен в нее…
— Мама, не смейся! Спроси ее только, как она себя чувствует… Не сделалась ли она больна после… после того случая на улице. Ради Бога, не откажи мне в просьбе!
— Хорошо, я пойду, — ответила мадам Вандоль, видя волнение сына.
— Когда? Скажи, мамочка!
— Ты хочешь, чтобы я отправилась тотчас, хорошо, я согласна.
— Какая ты добрая! Как я люблю тебя!
Отсутствовала мадам Вандоль целых два часа.
Морис ждал ее с нетерпением, проклиная медлительность часовых стрелок.
Наконец она вернулась в прекрасном настроении.
Морис спросил ее изменившимся голосом:
— Скажи, ты ее видела?
— Разумеется.
— Рассказывай же скорее…
— Я и собираюсь это сделать, только не перебивай.
— Хорошо.
— Мадемуазель Сюзанна де Мондье — прекрасная девушка. Добрая, хорошенькая, изящная, умненькая, но она богата, к сожалению, слишком.
— Мама, я тоже разбогатею!
— Не сомневаюсь, дитя мое.
— Но что она говорила тебе?
— Она встретила меня довольно холодно, ведь я была незнакомкой, вторгшейся в монастырскую тишину. Она приняла меня в маленькой комнатке с побеленными известью стенами, в настоящей монастырской келье, где занималась изучением… угадай чего?
— Не знаю, не томи меня!
— Каталога последнего Салона! Ну, ты ведь знаешь… Книги, где указаны в числе прочего и адреса всех выставлявшихся художников.
Морис густо покраснел, угадывая, к чему его мать ведет речь.
— Она искала имя и адрес, под которыми значилось название твоей картины «Жатва в Босе»[98]. Когда я назвала себя… если бы ты видел, как она обрадовалась! Лед был тут же разбит… И мы стали беседовать, как добрые старые друзья, она долго меня не отпускала и взяла слово, что я опять к ней приду. Вот все, что я смогла для тебя сделать, мой баловень!
На другой день Сюзанна в сопровождении родственницы пришла отдать визит мадам Вандоль.
Разговор шел обо всем понемногу, но, разумеется, больше всего о живописи, и Морис предложил Сюзанне написать ее портрет в рост.
Девушка согласилась. Договорились, что будет позировать каждый день по часу в мастерской на улице Данфер-Рошеро. Мадам Вандоль присутствовала на первых сеансах, потом стала приходить лишь изредка.
Молодые люди вскоре признались друг другу в любви и проводили счастливые часы, оставаясь вдвоем.
Они с нетерпением ждали возвращения графа Мондье, у него Морис собирался с ходу просить руки дочери. При этом художник, смелый по натуре, испытывал страх от вероятности получить отказ. Сюзанна, же, напротив, была уверена, что любящий отец, заботясь о ее счастье, непременно даст согласие на их брак, и она твердила об этом Морису, желая его ободрить.
О своей страстной любви Морис поведал Березову в письме. Князь тогда ничего не ответил, он уже был подавлен тягостным гипнозом.
Увлеченный своей любовью, Морис ничего не знал о происшедшем с Мишелем в Италии. Он ждал ответного письма без особого нетерпения, думая, что князю, наверное, лень писать, находясь с любимой под голубым небом Италии у теплого синего моря. Поэтому он и говорил Сюзанне с полной уверенностью, что друг его сейчас живет за границей вместе с Жерменой и что сходство женщины на портрете и портнихи с улицы Мешен совершенно случайно.
К тому же Сюзанна сказала любимому о скором возвращении своего отца, и мысль о встрече с ним так волновала Мориса, что он больше ни о чем не мог думать.
Если бы молодой человек мог догадаться, что совсем близко скрывается Жермена и что на ее руках находится больной князь, которого он знал таким богатым, красивым и сильным! Скольких несчастий Сюзанна и Морис тогда бы избегли.
Но слепая случайность определила все по-другому, да и бедной Жермене довелось претерпеть еще много тяжкого.
ГЛАВА 17
Пятнадцать дней прошло со времени появления прелестной Сюзанны в квартире на улице Мешен.
Жизнь ее обитателей становилась с каждым днем тяжелее.
Жермена почти не получала заказов. После того как Сюзанна расплатилась за переделку пальто, мастерица выполнила лишь несколько пустяковых работ для скаредных жен буржуа из квартала.
В дом пришла настоящая нужда.
Один лишь Бобино немного зарабатывал. Его жалованья, может быть, хватило бы на относительно нормальное существование маленькой семьи, но жить на эти деньги впятером, да еще и с больным, требующим особого ухода, было невозможно.
Наборщик отказывал себе во всем, даже в маленькой рюмочке аперитива с товарищами по цеху. Он перестал ездить на работу в омнибусе и очень сожалел об утрате велосипеда, оставленного в доме Березова, когда отправлялись в Италию. Горевал не столько потому, что мог бы ездить на нем в типографию, сколько из-за невозможности хоть что-то продать и тем немного поправить их бюджет.
Жермена, Бобино, Берта и Мария пили воду и ели сухую картошку с хлебом. Сардинка в масле или кусочек сыра на долю каждого воспринимались уже как роскошь.
Бобино получал десять с половиной франков за ночь, из них приходилось откладывать на оплату долга за обстановку квартиры и за ее наем, на все про все оставалось лишь семь с половиной франков.
А ведь надо было платить еще за дрова, за уголь, за стирку белья, так что на питание оставалось совсем мало, даже при том что сестры по очереди пользовались прачечной самообслуживания, но и это обходилось по их меркам дорого.
Наконец, эти мужественные люди, связанные взаимной любовью и неизбывной благодарностью к тому, кто так много сделал для них, изо всех сил старались, чтобы князь не замечал нужды, в какой они очутились.
Для Мишеля покупали лакомства, вино, сигары. При всей бедности они пытались исполнять капризы большого ребенка, ставшего насмешливым, сварливым и, наконец, злым.
Жермена, любившая еще крепче, чем прежде, с тех пор как он стал несчастным, силилась вернуть себе его нежные чувства и преданно ухаживала за ним.
Она не могла поверить, что здорового и сильного человека может настолько истощить лихорадка, причиняемая незаживающей раной, что такую гордую, трепетную и сильную душу безвозвратно сломит безумие, что сердце, где она безраздельно царила, закроется для нее навсегда.
Нет! С этим она никогда не примирится. Мишель был ее собственностью, самым главным человеком в ее жизни. Она защитит любимого от всего: от людей, от болезни, от самой смерти!
Ничто не могло истощить ее терпение, основанного на любви и твердости характера. Сколько ни мучил ее Мишель непризнанием, придирками и нелепыми жестокими словами, она все терпела, молча удерживая слезы. Она все прощала ему.
Березов не пытался выходить из дома, вставал очень поздно, целый день сидел в единственном их кресле, непрерывно курил или дремал, и мысли его оставались замкнутыми на внушениях страшного гипнотизера, вбитыми в мозг как гвоздь в дубовую доску.
— Вам не стало лучше, мой друг? — ласково спрашивала Жермена, стараясь заглянуть ему в глаза.
Он ворчливо отвечал:
— Нет. И какое вам до этого дело?
И при этом старался избежать ее взгляда.
— Очень даже большое, Мишель, ведь я хочу вам добра.
— Если бы вы его хотели, как говорите, то сделали бы для меня то, о чем я вас прошу.
— Что же именно, мой друг?
— Вышли замуж за графа Мондье, он вас обожает… Он богат… Сделали это потому что так надо, потому что нельзя иначе.
Жермена чувствовала такую боль в сердце, словно его прокололи.
— Этот человек — негодяй, и вы причиняете мне боль, говоря так.
— Но раз это надо… А я должен застрелиться из револьвера, непременно из револьвера…
— Довольно!.. Перестаньте!.. Вы меня мучаете, Мишель! — И Жермена, не выдержав, зарыдала, побежденная бессознательной жестокостью больного.
Когда наконец ей удалось поймать его взгляд и посмотреть в упор чудесными, полными слез глазами, князя вдруг охватило чувство восторга, он словно пробудился и воскликнул:
— Как вы прекрасны, Жермена! Как вы добры… Как я вас… как я вас люблю!
Жермена вскрикнула от радости. Выдав однажды свой секрет, она уже не скрывала любви к Мишелю.
— И я люблю вас, мой друг! Ради вас я смирила свою ненависть. Умоляю вас, будьте таким как прежде! Не мучайте меня, не говорите мне того, что сейчас произнесли.
Но вскоре взгляд и слова Жермены перестали действовать, и князь опять подпал под влияние жестокого внушения. Будто раскаиваясь в непослушании приказу, он в бешенстве возвысил голос:
— Это неправда!.. Все неправда… Я вас не люблю!.. Слышите? Я вас ненавижу! Да, ненавижу всеми силами души!..
Его лицо искажалось гримасами как у безумного. Он с ужасом выкрикивал чудовищные слова, подобно тому как верующий изрыгает проклятия Богу под действием неодолимой злой силы.
Человек, более знающий, чем Жермена, кому известны симптомы действия гипноза, изученные доктором Шарко[99], понял бы, что Мишель перенес тяжелую душевную травму.
Но несчастной девушке об этом ничего не было известно, и она оплакивала свое разрушенное счастье и боялась за жизнь Мишеля, чье здоровье не поправлялось.
При всем своем мужестве бедняжка теряла надежду, особенно видя, как нищета давит их дом. Они творили чудеса экономии и изобретательности, чтобы противостоять страшной беде трудящегося человека — безработице. Но никто из них не высказал ни единой жалобы. Они терпели не падая духом.
Если оставалась хотя бы надежда на улучшение жизни в будущем! Наоборот, все шло к худшему. Запасы истощались, накапливались долги поставщикам продуктов. Свой заработок Бобино взял за неделю вперед, и занять было негде. Через несколько дней наступит полная нищета.
Напрасно Жермена, Берта и Мария искали хоть какого-нибудь занятия, даже совершенно им непосильного. Они ничего не находили. Решительно ничего!
И если бы приходилось голодать только им троим и Бобино!
Наборщик со своей неистощимой привычкой к шуткам говорил:
— Мы-то привыкли питаться голодом! Но как быть с бедным князем? Как ему терпеть обнищание? Тысяча чертей! Что делать?
Пришлось в конце концов лишить Мишеля лакомств и сигар, он стал невыносимо сварливым и придирчивым, жить с ним становилось невозможно. Нужны были вся любовь и все терпение Жермены, чтобы выдерживать это мучение.
Мишель всерьез считал себя сумасшедшим, и все его поведение было действительно безумным.
Его постоянно преследовали навязчивые идеи: о самоубийстве, о женитьбе Мондье на Жермене и о побеге из дому.
Он настойчиво твердил Жермене, что ей надо выходить замуж за ее палача и просьбы всякий раз постепенно переходили в приказания. Он кричал иногда так, что наверняка слышали соседи, и это могло кончиться публичным скандалом.
Один раз, когда он пребывал в особенно возбужденном состоянии, Жермена даже испугалась. Таким, кажется, она его еще не видела.
Березов сделался беспредельно злым, агрессивным, грубым.
— Порази вас гром! Долго вы еще будете держать меня взаперти?! Я же вам говорю, что вы должны выходить за Мондье! Когда вы станете его женой, я смогу покидать этот ваш постылый дом. Я сделаюсь добрым другом вам обоим. А потом… А потом… Раз вы говорите, что любите меня… Что ж… будете спать и со мной… Это же прекрасно… Что вы молчите? Черт подери! Вы скверная девка… шельма… Я вас отлуплю… как вы того заслуживаете… Потом… потом сам застрелюсь… так надо.
На этот раз девушка окончательно испугалась. Не того, что умрет — зачем нужна такая мучительная беспросветная жизнь? Она боялась, что останется беззащитным несчастный сумасшедший, который так ее любил! Так был ей предан и кого любила она!
Жермена представила князя в одиночестве, запертого в доме для умалишенных, где его будут мучить, о чем она читала в дешевых книжонках.
Мишель в окружении врачей, считающих всех пациентов безнадежными или симулянтами; грубых и невежественных надзирателей, подвергающих пыткам холодным душем или, наоборот, ванной с горячей водой. Никогда этому не быть! Она не отдаст Мишеля на адовы муки!
И в то же время она очень испугалась его возбужденного состояния. Что он ее побьет, этого она не боялась. Разве она не была его собственностью, его вещью, так сильно любя его? Разве он не имел над ней права жизни и смерти? Да. Ее смерти, но ведь надо, чтобы эта гибель спасла его, обеспечила бы ему счастье! А если он ее изувечит и она станет ни на что не годной? Кто тогда будет за ним ухаживать до последнего своего вздоха?..
Жермена была с ним одна. Берта ушла искать работы. Мария — в прачечную, Бобино помогал в кожевенной мастерской за небольшую плату хозяину Матиса, прежде чем пойти на свою смену в наборном цехе.
Итак, они оставались вдвоем. Казалось, ничто не предвещало вспышки. Но без всякой видимой причины или повода, несчастный помешанный бросился к Жермене — то ли чтобы ударить, то ли задушить. Он крикнул бессмысленно и страшно:
— Я хочу уйти!
— Вы не уйдете, — твердо ответила Жермена.
Лицо Мишеля перекосилось, глаза налились кровью, он кричал:
— С дороги! Дай пройти!
Жермена продолжала стоять перед дверью. Тогда он сдавил ее руку своими пальцами атлета. Жермена застонала от боли.
Эта жалоба не только не отрезвила безумца, а, наоборот, еще сильнее распалила. Он закричал совершенно вне себя:
— Ее надо убить, раз она не подчиняется! Я ее задушу!.. Задушу!
Огромные кисти мужских рук охватили ее горло.
Жермена, почти потеряв сознание, спустилась на колени, не подумав или не захотев звать на помощь.
Но раздался стук в дверь, и родной голос позвал:
— Жермена, открой! Что с тобой, Жермена?
Мишель тоже узнал голос Марии, и тотчас возбуждение утихло. Он отпустил Жермену и открыл дверь, уже не помня, что произошло.
Мария уронила тюк с бельем, увидав Жермену, лежавшую на полу еле дыша, не в состоянии вымолвить слова.
Заметив, что дверь открыта, Мишель кинулся бежать, но Мария его удержала:
— Куда вы, Мишель? Останьтесь, я так хочу.
И князь безропотно покорился девочке.
— Что я такое натворил? Жермена, скажите!.. Я ничего не помню… простите меня!..
— Господи, да что же случилось? — спрашивала Мария.
— Ничего, дорогая моя, решительно ничего, — сказала Жермена, тяжело дыша, но не желая тревожить сестру. И чтобы та не задавала новых вопросов, заговорила сама: — А почему ты так скоро пришла? Я не в упрек тебе, а потому что, боюсь, тебе стало дурно, ты слишком много и не по своим силам трудишься.
Марию знобило, она слегка покашливала. Присев на стул, девушка сказала сестре:
— Да, я что-то неважно себя чувствую, мне холодно и болит в боку.
Она показала на правую сторону груди, закашлялась, поднесла платок к губам. Жермена увидала на ткани пятно розоватого цвета. Это очень встревожило, она вспомнила: такие же следы оставались на платках покойного отца, умершего от воспаления легких, его тоже знобило, и он тоже чувствовал боль в груди.
Жермена обняла сестру, ласково шепча:
— Маленькая моя… моя дорогая девочка…
— Знаешь, когда из-за двери я услышала крики Мишеля, я страшно испугалась и опрометью бросилась вверх по лестнице, совсем задохнулась. Может, все от этого? — отвечала младшая, успокаивая сестру.
Жермена взяла ее как ребенка на руки, отнесла в спальню, уложила в постель.
— Мишель! Не оставляйте меня одну! — просила Мария.
— Нет, девочка, я тебя не оставлю, — отвечал тот ласково.
— Обещайте, что вы никуда не уйдете… будете все время около меня.
— Обещаю, — сказал Березов, приступ безумия у него прошел, он успокоился с того момента, как перестал соприкасаться с Жерменой.
— Надо позвать доктора, — сказала Жермена, заметив, что от озноба Мария все еще стучит зубами, не согревшись под одеялом.
— Но у нас нет денег, а визит доктора стоит дорого, — сказала сестренка. — Да ты не беспокойся, мне сейчас станет лучше.
Вернулась Берта, совершенно измученная беготней; Жермена в двух словах рассказала ей, что с сестрой.
— Она, наверное, простудилась, когда мы с ней оказались под дождем и основательно промокли.
Жермена отвела Берту в сторону и показала пятна на платке Марии, тихонько сказав:
— Помнишь… когда заболел наш отец. Я боюсь, Берта, давай скорее за врачом.
Берта кинулась со всех ног и через полчаса вернулась уже не одна.
— Сестра, я застала господина доктора Сенара дома, и он любезно согласился… — сказала Берта.
— Благодарю вас от глубины моего сердца, господин доктор, — сказала Жермена.
— Не за что благодарить, лекарь должен идти к больному, это его святая обязанность.
Жермена хотела предупредить, что они сидят совсем без денег, но постыдилась. Ей было необходимо знать, что с Марией, и она, преодолевая стыд, решила извиниться и сказать, что расплатятся позднее. Девушка подумала: у этого человека такое доброе лицо, и, вероятно, он подождет, пока мы немного соберемся с деньгами.
Внимательно осмотрев девочку, доктор покачал головой и сделал знак Жермене, чтобы та вышла с ним в другую комнату.
— Это ваша сестра, мадам? — спросил он, приняв Мишеля за мужа Жермены.
— Да, месье. Что, она серьезно больна?
— Девушка переживает пору созревания… за ней нужен хороший уход.
— Господин доктор, в необходимом уходе недостатка не будет!
— Я настаиваю на этом потому, что она серьезно больна. Я обязан предупредить вас.
Жермена прошептала:
— О Господи! Мало нам еще было несчастий!
Врач продолжал:
— Вот рецепт, по нему надо заказать лекарство сейчас же. Я приду к вам завтра утром, но, если больной станет хуже ночью, бегите за мной не стесняясь.
— Как я вам благодарна, доктор! — с чувством сказала Жермена.
— Подождите благодарить, пока больная не поправится, — сказал врач.
— А чем она больна?
— У нее двустороннее воспаление легких.
— Этого я и боялась! — проговорила сраженная известием Жермена, вспоминая отца, — он страдал этой болезнью долгие месяцы и в конце концов умер от чахотки.
ГЛАВА 18
Доктора Сенара хорошо знали в квартале Гобеленов не только из-за его странностей, но и по причине глубоких знаний и стремления делать добро.
Человека лет сорока — сорока пяти, широкоплечего и очень живого, доктора постоянно видели на улицах днем и ночью, когда он пешком торопился к больным своего квартала. Все знали его большую голову с шапкой всклокоченных волос, прежде белокурых, а теперь наполовину поседевших, его выразительное лицо, освещенное большими голубыми глазами, глубоким и добрым взглядом. Ему все кланялись с выражением симпатии и благодарности. Правда, расплачивались с ним когда могли и как могли.
Сенар был весьма ученым врачом и, без сомнения, мог бы сделаться профессором, но силой обстоятельств оказался бедным и не смог продолжать научные изыскания. Он так и остался обыкновенным лекарем, живущим довольно скудными гонорарами от пациентов.
Время от времени он усаживался за ученье, пополняя знания как прилежный студент, так что многие коллеги единодушно считали его одним из лучших клиницистов Парижа.
Правда, славился наш эскулап[100] еще и безобидной рассеянностью, с ним происходили разные смешные случаи. Однажды видели, как он шел по бульвару Араго с дощечкой, болтавшейся за спиной на тесемке. На этой деревяшке отчетливо читались цифры 92 ф. 50 с. и название магазина, где была куплена одежда. Другой раз он спешил к больному, забыв накинуть на плечи подтяжки, и они свисали до колен.
Чудачеством считали и то, что он никогда не спал на кровати, а, завернувшись с головой в бурнус[101], ложился прямо на пол…
На другое утро доктор Сенар пришел и снова тщательно прослушал Марию. Убедившись, что его предписания исполнялись правильно, он обещал заглянуть и вечером.
Бобино, опасаясь, что у него не хватит денег, чтобы рассчитаться, сказал от имени семейства:
— Господин доктор, конечно, очень любезно с вашей стороны так часто навещать нашу сестричку, но должен вас предупредить, что мы сидим совершенно на мели. Мы, разумеется, со временем оплатим ваши визиты, но два посещения в день, наверное, будет дорого…
Доктор остановил доброго малого, уже запутавшегося в своей речи, сказав:
— Разве я упоминал о гонораре? Здесь моя больная, и я буду к ней приходить так часто, как сочту нужным. Вы что, принимаете меня за торговца здоровьем? Здоровье, милый мой, дается тем, кто не может его купить.
Бобино и все остальные были глубоко тронуты словами и поступком врача, но молодой наборщик все-таки не удержался, чтобы не сказать какую-то подвернувшуюся на язык нехитрую и безобидную шутку. Она заставила доктора улыбнуться, и он сказал:
— Доброе сердце… остроумный… Парижанин, должно быть?
— С улицы Мадам, господин доктор.
— А я с улицы Асса, — ответил доктор, подавая на прощанье руку. — До свидания, и рассчитывайте на меня. За девочкой будем ухаживать как за княгиней!
Доктор ушел, провожаемый благодарностью всей семьи.
— Какой прекрасный человек! Правда, Мишель? — спросил Бобино, гордый симпатией, проявленной к нему доктором. — Еще не перевелись такие в нашем отечестве.
Князь читал рецепт и, не отвечая Бобино, спросил:
— А почему никто не пошел в аптеку?
— Да, надо позаботиться. Аптекарь уже вчера ворчал, когда мы брали лекарство в долг, и сказал, что больше не будет отпускать, пока мы не расплатимся. А у меня, черт возьми, ни сантима, за неделю вперед забрал.
— Выходит, мы правда бедны, — сказал с удивлением Мишель. — Смешно — нет денег!
— Ты находишь это смешным, а я нисколько! Тебя, кажется, удивляет положение, в которое мы попали. А ты помнишь, как разбазарил свое имение?
— Да, правда… возможно… мне утомительно об этом думать. Если бы ты знал, Бобино, насколько я ослаб и одурел после того, как они подвергли меня процедуре…
— Кто они?.. Какой процедуре?
— Не помню…
— Эх ты, бедняга! Так никогда и не узнаем, что это за негодяи, запустившие тебе рака в солонку, — с искренним состраданием, хотя и грубовато выразился Бобино.
— А мне это безразлично, — кротко ответил князь, возбуждение его утихло, когда он увидел, что маленькая подружка больна. — Не меня, а ее надо теперь лечить. Жермена, вы должны ею заняться.
— Да, мой друг, — сказала Жермена, обрадованная тем, что к любимому вернулись рассудок и нормальные человеческие чувства. — Я сама пойду к аптекарю и уговорю отпустить лекарство еще раз в долг.
— Но ведь у меня есть… хороший мех… он стоил больше тысячи… надо его продать… — сказала Берта, вспомнив о единственной в доме ценности.
— Это мысль! Зима прошла, загоню все шмотки, что не по сезону! — воскликнул Бобино.
Берта принесла чемодан и достала из него меховую накидку, в заботах и бедах к ней давно не прикасались. По комнате разлетелась туча моли; шкурки оказались дотла изъеденными.
И эта неожиданно появившаяся надежда рухнула. Бобино выругался, а Берта заплакала.
Мишель, тоже расстроенный, сказал:
— Остается один выход: пойду к кому-нибудь из старых знакомых и попрошу взаймы.
— Твои друзья! Да они ни франка не дадут, а то даже не захотят с тобой разговаривать! Раз ты стал таким же бедняком, как мы, то знай: ты не встретишь у богачей сочувствия, никто не окажет помощи, кроме простых людей.
С этими словами Бобино сбежал вниз и через три четверти часа, торжествуя, вернулся с медикаментами.
— Я заплатил, и у меня еще осталось семь франков от десяти, что одолжил Матис, — сказал он.
В этот день семья — не впервые! — ела только хлеб и пила одну воду.
Тем не менее Бобино, как всегда весело, пошел в цех, где ему предстояло работать с пустым желудком до часу ночи.
На арестантской пище им пришлось прожить четыре дня.
Наконец Берте повезло найти место на фабричке бисерных украшений, где за двенадцать часов нудной и утомительной работы по нанизыванию крохотных шариков она могла получать от десяти до двенадцати су: на эти монетки им всем и предстояло питаться.
Состояние Марии не улучшалось и не ухудшалось, и доктор, навещая девочку дважды в день, все не решался высказаться определенно о ее выздоровлении. Он не терял надежду спасти ребенка, но не мог сказать Жермене с уверенностью, что ее сестренка поправится.
Бедная Жермена!
Бледной, истощенной бессонными ночами и лишениями, жестоко страдающей из-за непонятного недуга князя, ей пришлось мучиться еще и за сестру, что росла на ее руках и была для нее почти как дочь.
Несчастная Жермена! Видно, беспощадной судьбе казалось, что она еще взвалила на девушку недостаточно бед, и она их умножила: страстно любимого человека, за кем Жермена беззаветно ухаживала, стали все чаще и сильнее охватывать приступы безумия. Видя, что Мария не вылечивается, и слыша по временам ее жалобные стоны, Мишель стал воображать, что в этом повинна Жермена. Он обвинял ее в том, что девочка не идет на поправку потому, что старшая сестра возненавидела ее и решила избавиться от младшей!
И Жермена каплю за каплей пила из чаши страдания. Живя рядом с безумным возлюбленным и тяжело больной сестрой, она доходила порой до мыслей о смерти как об избавлении от страданий.
В тот день она маковой росинки в рот не брала, ее лихорадило от усталости и голода, нервы были напряжены до предела. Берта ушла сдавать работу, надеясь получить приблизительно сорок су. Бобино тоже отправился искать, где бы зашибить хоть малую деньгу, а затем на пустой желудок заступать на смену в типографии.
Он вернулся домой первым, измученный безрезультатными поисками, с нахмуренным лицом, неспособный даже улыбнуться, несмотря на свой веселый нрав. Молча пожал руку Жермене, поцеловал в лоб Марию и сел, храня молчание.
Жермена, поняв, что он ничего не нашел, тоже промолчала. Если и Берта не получит почему-либо свои монетки, на что купить микстуру для Марии?.. И Мишель останется даже без куска хлеба, чем он безропотно удовлетворялся последние дни…
Мария больна… Мишель помешанный… Как им жить дальше?
…На улице, обычно безлюдной, послышался стук колес, и через минуту позвонили.
Усилием воли Жермена придала лицу спокойное выражение. Велико было ее удивление, когда она увидала Сюзанну в сопровождении женщины, несшей два больших свертка. Девушка поняла, что получит заказ.
Сюзанна сказала Жермене:
— Вы работаете чудесно! Вещь, переделанная для моей родственницы, так ей идет, что я решила просить вас шить и для меня.
Слегка поклонившись, Жермена сказала:
— Вы очень любезны, мадемуазель, благодарю, что вспомнили обо мне. Я сделала все что могла и рада, если угодила вам и вашей почтенной тетушке.
— Вот о чем я хотела попросить, — продолжала Сюзанна. — Моя портниха, мадам Лион, чье имя, может быть, вам известно…
— О! Я думаю известно, — неосторожно вмешался Бобино.
Жермена тут же его прервала, сказав:
— Этот молодой человек — жених моей сестры, пожалуйста, извините, что он вмешался в разговор, который его не касается.
Поняв, что совершил бестактность, что Жермена совсем не обязана упоминать о своей работе у мадам Лион и объясняться, почему оттуда ушла, Бобино покраснел, попросил извинения и замолчал.
Сюзанна посмотрела на него внимательно и опять поразилась сходству молодого мужчины — не с нею самой, а с ее портретом, написанным полтора года назад. Она подумала: удивительно! Как будто брат и сестра.
— Что касается мадам Лион, в чьей мастерской я шила, — продолжала Сюзанна, — там сейчас очень много работы, у меня не примут заказ раньше чем через пять недель, а отец скоро должен вернуться из Италии, буду выходить с ним в свет, мне нужен на первый случай хотя бы один новый туалет к сезону. Я принесла вам рисунок и ткань. Сможете ли вы сшить точно по эскизу?
— Без сомнения, — уверенно сказала Жермена.
— Очень рада! Что касается цены, вы назначите какую сочтете нужной.
Понимая, что в доме беспросветная, тщательно скрываемая нужда, заказчица добавила с милой улыбкой:
— Может быть, вам нужен аванс на покупку приклада… Я с удовольствием… скажите лишь, сколько вам необходимо.
Легко было понять, что Жермене в слегка завуалированной форме предлагают подачку, гордость ее взбунтовалась. Мастерица вежливо, но твердо сказала:
— Благодарю вас, мадемуазель, благодарю тысячу раз, но мы сочтемся, когда платье будет готово и понравится вам.
Не обнаружив в квартире большого зеркала, Сюзанна сказала:
— Извините, я думаю, что примерку удобнее делать у меня, вы назначите день и час, какие сочтете для себя удобными. Вас это устраивает?
— Да, мадемуазель; я полагаю, мне достаточно двадцати четырех часов, чтобы раскроить и сметать. Могу явиться к вам послезавтра утром.
— Прекрасно! Вот мой адрес: Сюзанна де Мондье, площадь Перейр… Но что с вами?..
Мондье… Сюзанна де Мондье… Дочь того мерзавца… Жермена с величайшим трудом справилась с гневом и отвращением. Но, видно, на ее лице, таком выразительном, что-то отразилось и напугало Сюзанну, она достала из ридикюля[102] флакончик с нюхательными солями, предложила Жермене, та быстро пришла в себя и, улыбаясь, благодарила за участие ту, кто невзначай ударила ее в самое сердце.
Наконец Сюзанна простилась, попросив не переутомляться из-за ее заказа, она вполне может подождать.
Когда дочь графа Мондье ушла, Жермена почувствовала, что теряет последние силы. Чувства стыда и гнева проснулись в ней, вылились в поток негодующих слов, чему не помешало и присутствие Бобино.
Она говорила в возбуждении, отрывисто:
— У него, видите ли, есть дочь… у этого бандита!.. Дочь, которую все уважают! Ангелочек, кого ревниво охраняют… берегут, лелеют… воспитывают в благочестии… предназначают для прекрасного жениха… Она будет вся покрыта цветами апельсина[103], в белом платье… когда ее поведут к венцу! Ха-ха-ха… Граф Мондье — отец!.. Он… отец! Право, судьба насмехается над людьми слишком жестоко! И никогда не сыщется, чтобы отнять у бандита его дочь-ангелочка… по ее собственному желанию или насильно! Насильно! Чтобы потом швырнуть ее, полумертвую, поруганную, и сказать: вот твоя красавица, надежда, радость… получай ее, разбойник!.. Это возмездие.
— Жермена, вы меня пугаете! Успокойтесь! — умолял Бобино, не понимая, отчего она так вышла из себя.
— Да, простите, мой друг, вас, конечно, удивляет и тревожит, что кроткая овечка вдруг взбесилась. Выслушайте меня, молю вас: если когда-либо встретитесь один на один с мерзавцем по имени Мондье и сможете безнаказанно его убить — сделайте это!.. Без всякой жалости! Вы совершите доброе дело, освободив землю от чудовища… Подумать только, и этот негодяй — отец прелестной доброй девушки, она принесла работу, которая, может быть, спасет от смерти сестру… не даст всем нам умереть от голода!.. Вот уж ирония судьбы…
— Жермена! Дорогая Жермена! Не говорите больше ничего! Вы надсаживаете себе душу!
— Да, и ведь этим именем — Мондье — меня постоянно оскорбляет наш несчастный!
— Мишель? Да, он поминает его во время приступов безумия, говорит, что вам надо выйти за графа замуж…
— Да, друг мой, получается, что князь норовит сделать меня мачехой Сюзанны… хотя, конечно, не подозревает этого, у него другие причины и мысли. Но как бы то ни было, я, естественно, стану только ее портнихой… скромной… старательной… усердной. Надо зарабатывать на хлеб, а бедный не выбирает заказчика. Но в этот раз я испытываю верх унижения! Если бы вы всё знали, Бобино! Но вовсе не хочется рассказывать эту мрачную историю. А теперь вдобавок и время не ждет. Надо работать. Шить туалет для мадемуазель де Мондье, чтобы заработать на лечение Марии. И всем не подохнуть с голоду…
ГЛАВА 19
Вместе с нанятыми помощниками Бамбош старательно наблюдал за домом № 19 по улице Паскаля в продолжение четырех-пяти суток. Не видя, чтобы оттуда кто-нибудь выходил или входил обратно, он начал беспокоиться. Что произошло. Ведь не могли же бесследно исчезнуть двое мужчин и три женщины. Жизнь все-таки заставляет людей хотя бы иногда на время покидать свой кров.
Он попробовал разговориться с женой хозяина квартиры Матиса, но та, женщина очень сообразительная и осторожная, притворилась пугливой простушкой и быстро отвадила сыщика.
Тогда он попробовал подкатиться к Матису и предложил посидеть в кабачке. Тот от выпивки не отказался, но тоже ничего интересного не сболтнул и не согласился пустить собутыльника во двор посмотреть кожевенное производство, поскольку засомневался, зачем шустрику это надо.
Бамбош понял, что его водят за нос, разозлился и попытался завязать драку с другом Бобино, но мускулатура рабочего-кожемяки выглядела очень внушительной, шпик понял, что будет сломан как спичка.
Он сдержался и начал терпеливо искать разгадки. Негодяй был безусловно не дурак. Осмотрев как следует квартал, он понял, что некоторые дома имеют выход на речку Бьевр, а там пустырь, граничащий с бульваром Сен Марсель, и догадался, как могли скрыться незамеченными те, за кем он наблюдал.
«Они меня опять надули, — подумал бандит с бешеной злобой. — Но хорошо смеется тот, кто смеется последним!»
Бамбош написал графу и ждал новых инструкций.
В это время Мондье заканчивал свой сезон в Италии и дал подручному шифрованную телеграмму с приказом пока ничего не предпринимать, закончив словами: «Вернусь через несколько дней. Поскольку ты идиот, придется поручить поиски другим».
Ожидание длилось дольше обещанного, целых две недели, за это время произошли события, о которых уже рассказано. После этого месье де Шамбое, поселившийся в доме с двумя выходами на разные улицы, получил весть уже из Парижа. Его приглашали к графу де Мондье.
За день перед тем молодой прохиндей был взволнован и озадачен неким обстоятельством: в доме с двумя подъездами были, конечно, и две консьержки, пожилые, неразговорчивые женщины, хитрые и на вид порочные, он считал их одинокими и с удивлением приметил, что у каждой были сожители; изумление увеличилось, когда в одном из них он сразу узнал Пьера, того самого мрачного силача-лакея, что в Италии был главным помощником графа-бандита, а во втором — своего бывшего кучера Лорана.
Бамбош обнаружил их у дверей дома, оба держались как незнакомые друг с другом. Одетые в фартуки, недавние разбойники подметали улицу, каждый на своем участке, усердно, как полагается консьержам, дорожащим местом и репутацией.
Прихвостень графа понял, какими ценными и неподкупными помощниками окружил себя патрон, послав в Париж двух едва ли не самых опытных и дельных бандитов, участников разбойничьих операций в Италии.
Конечно, графу требовалась надежная охрана, когда он, чего Бамбош пока не проведал, жил под личиной месье Тьери в этом на вид обычном здании.
Бамбош, не предупрежденный об этом заранее, хорошо почувствовал силу предводителя бандитов, что набирал сообщников во всех слоях общества, пользовался услугами богатых знаменитых кокоток и титулованных особ, таких как Ги де Мальтаверн, и личностей вроде Лишамора и Брадесанду.
Не задумываясь Бамбош подошел к Пьеру и сказал:
— Вот вы и вернулись! Я не ожидал застать вас здесь… Патрон писал мне…
Пьер, оставив тон почтительного слуги, прибавляющего к каждому слову «месье», сказал, глядя парню в глаза:
— Слушай, малый! Ты виконт только по названию, данному тебе тем, кто командует, и если дорожишь шкурой и не хочешь в одно прекрасное утро быть пришитым к постели, заткнись. Будь слепым, глухим и немым, ты здесь никого не знаешь. А я теперь консьерж, месье… я служу, месье, и лакеем, я покорный слуга, месье, — закончил тираду мрачный персонаж и посмотрел на мнимого виконта так, что у того поджилки затряслись.
Выслушав такое поучение, Бамбош, не вымолвив ни слова, пошел одеваться, причесываться и прыскаться духами, а затем отправился к тому, кого фамильярно именовал патроном.
Мондье встретил его так, будто они расстались только вчера, не сделал никаких упреков, даже одобрил догадку о том, что бегство совершено через пустырь, выходящий на бульвар Сан-Марсель.
— Неплохо найдено… Ты делаешь успехи, малыш… Ты далеко пойдешь. Ты не виноват в том, что упустил их, к тому же твоя ошибка исправлена. Я знаю, где они гнездятся, и держу их под надзором.
— Вы, патрон! Но ведь вы всего два дня, как вернулись.
— Ровно сорок восемь часов тому назад.
— Ну! Вы просто дьявол!
— Пфэ! Дьявол — слишком устарелое название… Поговорим о деле: Жермена, ее сестры, Бобино и Березов укрылись в доме на углу улиц Мешен и Санте. Парень работает в наборном цехе издательства «Маленькая республика», он возвращается в два часа утра.
— Вы в этом уверены?
— Я лично проследил этой ночью и, если бы я не держался строгого правила: никогда не действовать самому, я бы его убил. Надо, чтобы он умер. Проклятый парижанин ловок как бес, если бы не он, остальные давно бы находились в моих руках.
— Мы его уберем, патрон.
— Я на это твердо рассчитываю! Слишком долго он в одиночку нас обставляет. Когда типограф исчезнет, прочие разом угодят к нам. Даю тебе три дня, чтобы его устранить.
— Три дня, идет!
— Надо взять помощника. Пожалуй, подойдет твой старый приятель Брадесанду. Вдвоем удобнее действовать, Брадесанду неплохо работает ножичком. Узнаешь у Андреа, где его найти.
— Значит, вы простили этой стерве проделку в доме Лишамора? Я ждал, что вы отомстите как следует.
— Я простил, но не забыл. Человек по-настоящему сильный не мстит.
— А где я найду Рыжую?
— В бывшем доме князя Березова, там подставным владельцем живет барон де Мальтаверн.
— С вашего разрешения сейчас же туда отправлюсь.
— Ступай, малыш, и выпусти кровь из Бобино. Кстати, почему ты не поселился, как я велел, в доме Березова, когда вернулся из Италии?
— Я не хотел вам говорить, боялся настроить вас против Андреа.
— Почему?
— Рыжая стерва так злобно меня встретила, что я побоялся заикнуться о том доме.
— А Ги?
— Он просто чурка в ее руках, слышит ее ушами и видит ее глазами. Меня почти выставили за дверь.
— Иди и ничего не бойся, я им скажу два слова по телефону, они тебя примут с распростертыми объятиями.
— До свиданья, патрон!
— До свиданья, негодяй! — В устах Мондье это звучало как ласкательное имя.
Бамбош направился к роскошному особняку, откуда князя Березова обманным способом выселили.
Посланец графа подъехал скромно, в наемном экипаже. Его встретил тот самый степенный швейцар, что служил при князе, когда Бамбош был там лакеем.
Увидев, что посетитель нанял дешевого извозчика, швейцар не сообщил в дом, а направил несолидного гостя через двор. Бамбош не стал возражать против столь невежливого поступка, зная, что по телефонному звонку графа будет принят с должным почтением, и подумал только, что Андреа, наверное, настроила всех лакеев против него.
Пересекая пешком двор, Бамбош увидел около конюшни человека, привлекшего его внимание.
Он был одет как конюх — в клетчатый костюм и в английскую шапочку, сдвинутую на ухо; рукава были засучены, и он старательно начищал удила, рядом лежали прочие части лошадиной сбруи.
Бамбош, очень элегантно одетый, с моноклем в глазу и с цветком на отвороте жакета, подойдя близко к усердному трудяге, позвал:
— Брадесанду!
Тот обернулся и от удивления уронил железки.
— Бамбош!
— Я едва узнал тебя в обличье конюха. Тебя, кто водил меня в свет, кто под именем Петера Фога был знаменитым букмекером, красой ипподрома! Тебя, сердечного друга Андреа, заставлявшего ревновать барона де Мальтаверна!
— Да, Бамбош, это я.
— С тобой произошла какая-то беда?
— Все беды вместе!
— Рассказывай.
— Некогда, надо скорей кончать чистку сбруи, не то меня выгонят.
— Кто?
— Мой хозяин, скотина барон.
— Плюнь на все, и пойдем поговорим о деле.
— Я бы рад, да у меня не самые нежные отношения с полицией.
— Что-то новое, черт возьми!
— К сожалению, так, мой дружок.
— Я думал, что Андреа по-прежнему неравнодушна к тебе и ты здесь в неподходящем наряде лишь ради того, чтобы находиться поближе к ней.
— С Андреа все полетело к чертям. Нет больше любви! Вот.
— Говорят, это к счастью, в доказательство чего я тебя отсюда уведу.
— А с Петером Фогом получилась такая история, что я теперь нигде не могу показаться. Я уж не знал, как спасти шкуру, хорошо, Рыжая помогла, говорит: «Послушай, малыш, хотя я не люблю тебя больше, но не хочу, чтобы с моим бывшим любовником произошла беда. Безопаснее всего спрятаться в чьем-нибудь богатом доме. Ги нужен работник на конюшне, я тебя устрою, будешь возиться с лошадьми, а через полгода про тебя забудут. Соглашайся, и чтоб без глупостей!» Вот так и сказала. Положение мое было отчаянное: сидел голодный, прятался по ночлежкам. Это после сладкой-то жизни! Ну я и согласился. Здесь и кров, и пища, и одежда, но Андреа на меня и не смотрит, будто я вовсе не существую. С ума схожу, когда вспоминаю, как она меня любила, ласкала, ни в чем не отказывала! Я так и теперь влюблен. Готов после на гильотину[104] лечь, чтобы с ней хоть ночку поспать! А другой раз хочется ее ножом пырнуть.
— Решительно, ты крепко болен. Но от сильной хвори помогают мощные лекарства. Патрон вернулся и вспомнил о тебе… Знаешь ведь, он большой человек, с ним не пропадешь, вытащит хоть из пасти самого дьявола.
— Раз патрон обо мне заговорил, значит, мои дела поправятся. Что я должен буду делать?
— Прежде всего бросить ерунду, какой ты сейчас занимаешься, и приняться за то, к чему у тебя есть способности.
— А потом?
— Прикончить человека.
— Только на пару с тобой.
— Да, каждый сделает свою половину. Тебя позабавит, когда я скажу, что ухлопать надо того шкета, что нас побил у Лишамора.
— Бобино? Тогда я с тобой! Увидишь, мой нож не заржавел!
— Договорились. Теперь надо рассчитаться с этой скотиной бароном. Пойдем вместе, посмеемся.
Брадесанду, видя уверенность дружка, отбросил сбрую, вымыл в ведре руки и в обуви, испачканной навозом, потопал вслед за Бамбошем в господский дом.
Лакеи, видя, что конюх нагло лезет в хозяйские покои, хохотали исподтишка, предвкушая скандал.
— О ком буду иметь честь доложить? — спросил дежурный лакей.
— Месье виконт де Шамбое и месье Петер Фог.
Андреа и Ги де Мальтаверн вдвоем завтракали.
К удивлению лакея, посетителей приняли без возражений и задержки. Более того, барон и кокотка, казалось, были несколько взволнованы их приходом.
Бамбош двинулся к парочке с протянутой рукой и со словами приветствия:
— Здравствуйте, Ги! Здравствуй, Андреа!
Барон де Мальтаверн, будучи едва знаком с ложным виконтом де Шамбое, вытаращил глаза, когда увидал, что его сопровождает один из здешних конюхов, причем держится с виконтом как равный.
— Здравствуй, Бамбош! Здравствуй, негодник! — сказала Андреа, состроив забавную гримасу при виде старого приятеля. — Снова явился!
— Да, как видишь, — отвечал проходимец и повторил: — Здравствуйте, Ги!
— Добрый день, виконт! — ответил барон смущенно и как бы по принуждению.
— О! Вы можете называть меня Бамбошем, это почетное бандитское имя, и я его отнюдь не стыжусь. Но позвольте представить моего друга Петера Фога, я нашел его здесь в положении, его недостойном, и вы окажете ему сейчас любезный прием.
— Я вышвырну его сейчас в окно и тебя следом! — вдруг взорвавшись от злости, крикнул Мальтаверн.
Бамбош, наслаждаясь сценой, пододвинул приятелю стул, сел сам и продолжал:
— Его бандитское имя Брадесанду. Можете спросить у мадам. Не правда ли, Андреа?
Красавица впала в страх и не могла слова вымолвить, хотя обычно бывала остра на язык.
— Видите, барон, он был вашим предшественником в некоторых интимных забавах, и, главное, он ваш совладелец; вы непременно должны что-то для него сделать.
Негодяй был злопамятен и с удовольствием мстил барону и Андреа за тот прием, что ему оказали по возвращении из Италии.
Ги взбесило разоблачение, он искренне любил Андреа. Барон кинулся на Бамбоша, намереваясь влепить пощечину.
Тот вскочил раньше, вынул из кармана острый ножичек и сказал спокойно:
— Руки прочь, барон! Или я проделаю между ваших ребер отверстие, через него без промедления вылетит ваша душонка!
Ги де Мальтаверн отличался храбростью, его не остановила бы угроза оружием, но осадил самоуверенный тон Бамбоша.
Весь кипя, он опустил руку и спросил:
— Чего вам надо от меня?
— Простой вещи; мы намерены убить человека, что нам мешает. Брадесанду и я сделаем это сегодня во втором часу, и я хочу, чтобы в случае надобности вы сказали бы в полиции, что в эту ночь мы ужинали с вами в бывшем доме Березова. Короче, вы и Андреа должны обеспечить нам алиби[105], если оно потребуется.
Барон пришел в еще бо́льшую ярость.
— Чтобы я стал соучастником преступления… покрывал двух бандитов… совершал позорное… гнусное дело… Ни за что! Никогда! Вы сейчас же уберетесь отсюда, и поскорее!
— Не будьте ребенком, барон… Вы уже предоставляли вашу комнату, чтобы я мог выстрелить из нее в князя. Бывший соучастником однажды, может стать им и во второй, и в следующий раз. Кроме того, это приказ. Тот, кто велел вам убить Березова на дуэли, требует, чтобы вы и теперь беспрекословно подчинились. Вы, миленький, такой же преступник, как мы, и Андреа объяснит, что фыркать тут незачем. Правду я говорю, прекрасная блондинка, доченька мамаши Башю?
Андреа наклонила голову, и слезы злости едва не капнули на стол.
— Стервец! — сказала она, вложив в единое слово всю неохватную ненависть.
— Да, мадемуазель, конечно, стервец. Мы все стервецы в этом доме, украденном у дурака, но вы двое — всего лишь сторожевые собаки. Ну хватит! Вы поняли и будете не кочевряжиться, а слушаться. Для начала, барон, отстегните Брадесанду луидоров тридцать, ему нужно прибарахлиться. Сегодня вы пригласите нас обедать, а потом мы явимся ужинать, когда закончим дела. Кстати, Андреа, тот, кого мы должны сегодня ночью кончить, — Бобино, любовник Берты, сестры Жермены.
Андреа заплакала. Ей вспомнилось, как она совершила доброе дело, рискуя собственной жизнью, ей представилось милое личико Берты, она понимала, что теперь ничем не может помочь! Если бы знать, где они сейчас, Рыжая не пожалела бы своей постылой жизни, чтобы их спасти!
Барон де Мальтаверн смирился. Ему ничего не оставалось больше делать, он сознавал, что прижат к стенке и не имеет сил отказаться от роскошной жизни. Он дал луидоры Брадесанду, пожал негодяям руки и сказал на прощанье:
— Жду сегодня к обеду. И затем вечером.
Все произошло строго по плану, намеченному Бамбошем.
Брадесанду переоделся во все новое в магазине «Прекрасная садовница» и приобрел очень недурной вид, превратившись из конюха в джентльмена. Сел с Бамбошем в экипаж и поехал обедать к своему бывшему хозяину. Лакеи дома, ничего не понимая, пялили на него глаза.
Хорошо поев и обеспечив себе алиби, бандиты смылись в полночь так ловко, что никто в доме не заметил их исчезновения.
Они направились к издательству «Маленькая республика» дожидаться своей жертвы.
Бобино вышел из цеха в час и поспешил домой. Был день получки, и он нес половину недельной платы, раздав остальное за долги. Юноша размышлял о том, с каким нетерпением ждут его дома, и торопился, чтобы поскорее принести скромный заработок голодной семье, прихватив для них по дороге еще что-нибудь в ночном кафе.
Бамбош и Брадесанду следовали вблизи, один на пятьдесят шагов впереди, другой чуть подальше сзади.
Один из тех парижан, что ходят по любым кварталам города во всякое время дня и ночи, никогда не сталкиваясь с неприятностями, Бобино шагал уверенно, зная все закоулки на пути и не подозревая о подстерегающей опасности.
Так как путь лежал через Латинский квартал[106], Бамбош и Брадесанду, чтобы безопаснее, не привлекая внимания, приблизиться к Бобино, запаслись студенческими беретами. Перейдя площадь Сен-Мишель, они сплющили шапокляки, спрятали их под пиджаки и надели лихие юношеские головные уборы.
Перед оградой Люксембургского сада Бамбош запел тирольскую песенку. На улице было безлюдно, как в провинциальном городке. Ниоткуда не слышалось характерного топота сапог ночного дозора.
Пение Бамбоша сигнализировало: «Время наступило».
Брадесанду — он был впереди — повернулся в темноте, вынул нож и пошел навстречу Бобино.
Бамбош приготовил кинжал и стал нагонять обреченного, все еще повторяя модную песенку.
Убийцы должны были сомкнуться рядом с наборщиком, который торопился домой, ничего не подозревая, не обратив никакого внимания на студентов, приближавшихся к нему с обеих сторон.
Бобино не испугался, не побежал, не позвал на помощь. Он только почувствовал острую боль ниже плеча и сильный удар.
На часах Люксембургского сада пробило без четверти два.
ГЛАВА 20
На Сюзанну де Мондье произвело впечатление замешательство Жермены, когда заказчица назвала свое имя.
Сидя в экипаже, она думала, что же, собственно, случилось. Может быть, ей просто померещилось самой? Или портниха переутомлена, или взволнована дорогим заказом? Или существует какая-то таинственная связь между прекрасной женщиной, выглядевшей такой доброй и грустной, и именем отца, что, впрочем, маловероятно, слишком далеко стоят граф и швея.
Сюзанна все-таки решила спросить отца об этой девушке.
Она надеялась, что, заговорив о Жермене, о странном сходстве ее с портретом, виденном у Мориса Вандоля, ей будет легче перейти к беседе о самом художнике и о ее отношениях с ним. Несмотря на то что она, как ей казалось, была уверена в родительском согласии на брак и обнадеживала в этом Мориса, в глубине души таилось сомнение, и мысль о встрече с отцом очень тревожила.
Когда отец находился далеко, она полагала: будет совсем просто поведать ему, что она полюбила, избранник во всех отношениях достоин ее и, с позволения графа, он придет просить благословения на брак.
Тогда ей казалось, что отец непременно и сразу даст согласие, и она станет женой Мориса.
Но когда граф вернулся, все представилось ей уже не столь простым.
Хотя Сюзанна считала, что отец воистину обожает ее, ведь он старается удовлетворять любые девичьи желания и капризы избалованного ребенка, она догадывалась, что покупки, прогулки, развлечения серьезно отличаются от разговора о замужестве. Нечто смутное начало тревожить ее.
Но со времени приезда графа прошло два дня и ей пора было увидеться, решиться на этот разговор, чтобы не подвергать Мориса унизительному отказу на его предложение.
Вернувшись от Жермены, она спросила, дома ли отец.
— Господин граф в курительной, — ответил слуга.
— Узнайте, могу ли я войти.
— Господин граф ждет мадемуазель, — сказал лакей, вернувшись через минуту.
Граф что-то писал, куря гавану, вставленную в подобие короткого мундштука из амбры[107].
Он положил перо и сигару, взял обеими руками голову девушки, продолжительно поцеловал в лоб и весело сказал:
— Очень мило, что ты прибежала поздороваться с отцом, не успев даже снять шляпку, вуалетку и перчатки!
Сюзанна слегка покраснела, подумав невпопад, что не только дочерняя любовь заставила ее так торопиться, а отец не пошутил насчет ее поспешливости, но сделал замечание о нарушении этикета… Она растерялась от этой легкой насмешки и попыталась неловко оправдаться:
— Вы так часто уходите из дома.
— Упреки… маленькая семейная сцена… — проговорил Мондье с нежностью.
— Пускай, — снова по-детски некстати сказала она. — Да, сцена… Я вас почти не вижу… Вы меня то и дело оставляете одну… У меня отец, которого я обожаю, но он постоянно лишает меня своего общества… Он поглощен светом, у него заботы…
Она нарочно говорила быстро, чтобы не дать себе время подумать, прежде чем сказать главное.
— Дочь, светские интересы заставляют меня постоянно отлучаться.
— Вот именно… Сигары, и те отвлекают вас от меня, хотя вы свободно можете курить в моих комнатах, мне запах даже приятен… Но вам так редко является мысль навестить свою дочь!
— Я очень виноват перед тобой, дорогая, но, будь уверена, я искуплю прегрешения самым достойным и приятным тебе образом. Ты только что вернулась с прогулки, видела ли ты в магазинах какие-нибудь драгоценности, что тебе понравились? Скажи где, и я куплю их тебе.
— Благодарю, отец, но сегодня меня ничто такое не заинтересовало. Я была в монастыре, где виделась с монахинями, такими добрыми, такими любящими! Потом заходила к совершенно необыкновенной швее, она согласна работать для меня… Отец, по вашей снисходительности вы иногда называете меня хорошенькой.
— Мало сказать хорошенькой — прелестной… восхитительной… божественной…
— Ах уж эта мне родительская любезность, замешенная на снисходительности! Но что сказали бы вы, увидев создание, наверное, красивейшее из всех в Париже!
— И ты встретила ее где-нибудь в мансарде… Швею-принцессу?
— И на полотне в ателье знаменитого художника. Да, Боже мой! Совсем забыла, что хотела сделать вам сюрприз в виде портрета вашей Сюзанны, изображенной во весь рост…
— Ты знакома с художником, который…
— Подождите, папа, прежде я хочу рассказать о швее, что живет на улице Мешен. Она, правда, идеал женской красоты! Неудивительно, что Морис… я хотела сказать, месье Вандоль, сделал такой прекрасный этюд с нее.
Граф насторожился. Пристально глянув в глаза дочери, он спросил:
— Ты знакома с художником и называешь его просто Морисом?
— Да, папа, но прежде дай мне рассказать тебе про Жермену… — При этом имени лицо графа сделалось каменным, но Сюзанна ничего не замечала, захваченная своим.
— Жермена, ты говоришь… а кто она? — проговорил граф нарочито медленно, подбирая слова и стараясь не проявить никаких чувств.
— Та самая швея, женщина изумительной красоты, кого Морис… месье Вандоль изобразил на этюде к портрету, сделанному для князя Березова.
— А, вот оно что!.. — сказал граф, с большим искусством скрывая волнение под маской равнодушия. — Значит, Жермена…
— Да, ее так называли. Она восхитительно работает, и я просила прийти ко мне, чтобы сделать примерку туалета, что заказала ей. Я дала свой адрес и назвала имя. И, знаешь, у нее сделалось странное-престранное выражение лица, меня это неведомо почему тревожит.
— Вы были вдвоем?
— Нет, еще молодой человек, жених ее сестры, у него забавное имя, поэтому я запомнила — Бобино.
Мондье так стиснул зубы, что перекусил мундштук, но самообладание позволило сохранить внешнее спокойствие.
Сюзанна продолжала говорить, не подозревая, как взволнован и встревожен отец, с каким вниманием он ловит каждое слово.
— Дом находится на углу улиц Мешен и Санте, — тараторила Сюзанна, — и я не стала бы вам говорить о мастерице, если бы, извини, я, кажется, повторяюсь, не ее поразительное сходство с портретом, сделанным для князя Березова, вашего близкого друга. Ведь правда, вы с ним друзья?
— Близкие, правда, — ответил граф, мысленно повторяя: «Жермена, Бобино… Слепая судьба снова ставит их на моем пути, когда я уже терял надежду… Улица Мешен, угол Санте… Жермена, красивая как прежде, и она будет моей!.. Бобино исчезнет, достаточно мне приказать… Князь осужден на смерть… Может быть, уже застрелился… Жермена… богатство… будущее… Счастье, какое достанется сильнейшему!»
Он уже не слушал Сюзанну, а ее речь становилась все более нерешительной и менее последовательной.
Торопясь, она рассказывала, как познакомилась с Морисом Вандолем, как его мать навещала ее в монастыре.
Граф же в это время думал только о Жермене. Речь Сюзанны он воспринимал как приятное щебетание птички, как милый лепет. Но одно слово вернуло его к реальности.
— Мы с Морисом любим друг друга…
— Что?.. Ты сказала, что молодой человек осмеливается любить тебя, и ты…
— И я его люблю, — твердо ответила дочь, подняв на отца прекрасные глаза, выражавшие мольбу.
— Ты его любишь, вот как!
— Да!
— Какого-то несчастного мазилу, стремящегося разбогатеть, скомпрометировав девушку из высшего общества!
Сюзанна сделала над собой огромное усилие и, стараясь говорить спокойно, продолжала:
— Отец, вы плохо знаете свою дочь, если думаете, что она способна броситься на шею первому встречному. Вы несправедливы к месье Вандолю, подозревая его в корыстных намерениях. Он честный человек и не способен ни на какой низкий поступок, даже самый пустячный. Он художник в лучшем смысле слова. Он честолюбив, да, очень честолюбив. Он жаждет славы и имеет все данные для ее завоевания — большой талант и сильную волю. Он такой нежный и простой!.. Такой добрый! Так любит свою мать! Так предан своему искусству! И он уже известный художник… почти знаменитый!
— Как ты разгорелась, дочка моя.
По темным, личным причинам графу была очень нежелательна такая любовь, она нарушала его тайные планы.
— Отец! Как вы можете так говорить обо мне! — Сюзанна была оскорблена этим пошлым выражением, увидев в нем осквернение своей любви.
— Моя дорогая, следует называть вещи своими именами… Это вспышка соломы, ее надо потушить… Любовь пансионерки[108], что быстро проходит…
— Отец!.. Вы, всегда такой добрый ко мне… и вы не хотите, чтобы дочь стала женой того, кто ее любит и кого любит она!
— Нет, дочь моя! Моя Сюзанна, о чьем блестящем будущем я мечтал, желал видеть королевой большого света, не станет неприметной мадам Вандоль, женой заурядного живописца!.. Со временем ты выйдешь замуж за равного себе… человека из того общества, с каким еще незнакома. Я богат, и ты будешь жить в роскоши!
— О отец! Вы хотите моего несчастья!
— Пустые слова, дорогая!
— Отец! Дорогой отец! Позвольте мне жить по собственному желанию! По влечению моего сердца! Только в этом может состоять мое счастье!
— Нет, — отрезал граф жестким тоном, какого она никогда не слыхала. — Не умоляй и не пытайся разжалобить. Бесполезно! Я хочу тебе добра, не считаясь с твоим капризом. Позднее ты будешь мне за это благодарна. Думаю, ты больше не станешь встречаться с этим молодым человеком, не вынудишь меня запрещать свидания с ним. А я-то надеялся, что тетушка Шарме смотрит за тобой! Хорошенькое же наблюдение…
— Вы требуете, чтобы я не видалась с Морисом?.. Хорошо, будь по-вашему…
— Вот и прекрасно!
— Я повинуюсь… но…
— Но… что?
— Но раз вы не позволяете мне стать женой того, кого я буду любить всю жизнь, вы будете вынуждены согласиться, чтобы я ушла в монастырь.
— Нет!.. Уж это нет!.. Ты сошла с ума!.. Но ты еще одумаешься.
— Я заранее приняла решение! И я не отступлюсь! — воскликнула девушка, и, задыхаясь от подступивших рыданий, не в силах больше вымолвить слова, убежала к себе.
Сюзанна долго плакала, думая о своем потерянном счастье, и размышляла, почему отец отказал исполнить ее желание, когда прежде делал все, о чем бы ни попросила, и она жила счастливо и беззаботно.
Так, совершенно подавленная горем, девушка провела несколько часов.
Наконец она сообразила, что должна написать Морису, известить о разговоре с отцом.
В глубоком отчаянии Сюзанна села за стол, дрожащей рукой взяла лист бумаги с запахом любимых духов. Первые строки походили на горькие всхлипывания, слезы капали на зеленовато-голубую бумагу. Постепенно перо побежало быстрее. Она писала:
«Морис, друг мой, я страдаю! Страдаю смертельно! Я теперь понимаю людей, кончающих жизнь самоубийством от безысходности!
Я не знала, что человек может переживать такие испытания. До сих пор я не испытала даже физических мучений и не представляла, какие ужасные удары может переносить душа.
Существо мое разбито, я плачу и готова кричать, мне кажется, что от этого стало бы легче. Отец вырвал мое сердце и бросил меня, мертвую, на землю. Я не ожидала такой жестокости.
Он запретил мне любить вас. Он не хочет, чтобы я стала вашей женой. Требует, чтобы я отказалась от вас, чтобы мы стали чужими друг другу! Но это невозможно! Ведь правда, мой друг?
Он всегда говорил, что любит меня, и до сих пор я этому верила, ведь он старался сделать меня во всем счастливой.
А теперь он отказал в моей просьбе, самой главной в жизни. Отказал твердо, сухо, хотя я умоляла принять тебя как сына, когда придешь просить моей руки.
Если он не дает согласия, он этим заставляет меня проклинать отцовскую нежность… убивает мою искреннюю привязанность к нему. Становится чужим, враждебным человеком, какого не трогают мои страдания.
О Морис!.. Морис!.. Как я несчастна!
Но в моей душе поднимается буря протеста. Что худого сделала я отцу! По какому праву он так поступает?..
Морис! Возлюбленный мой! Я уже сама не понимаю, что пишу! Я хочу быть возле вас, дать свободу своим слезам, говорить о любви и слышать ваши уверения в том, что вы любите меня, что вы всегда будете меня любить!
О! Мне надо каждую минуту знать это, иначе я умру!
Он заставил поклясться, что я не буду видеться с тобой. Я повиновалась и должна быть верна своему слову. Прощайте дорогие нам утренние встречи, наши разговоры, где мы открывали друг другу сердца, строили планы будущего, мечтая о том, как вечно будем жить вместе.
Он потребовал, и могла ли я ослушаться отца?
Но я люблю вас и буду любить вечно! Не в его власти помешать этому!
Он сломает мою жизнь, разобьет мне сердце, но не сможет убить мою любовь!
Морис! Я невеста ваша, вы останетесь единственной моей любовью на всю жизнь, ничто не заставит меня разлюбить вас!
Я не из тех, кто изменяет своему чувству. В каждом слове этого письма частица моего сердца.
Навеки ваша Сюзанна».Ей не хватило мужества перечесть письмо. Она вложила его в конверт и позвала свою тетушку-приживалку.
Та уже получила строжайший выговор от графа и потому обо всем знала.
Мадам Шарме поспешила прийти к девушке, той, кого воспринимала как дочь, и, видя в каком она горе, старалась утешить.
Сюзанна, кажется выплакавшая все слезы, зарыдала снова и, передавая доброй женщине пакет, попросила:
— Отнесите ему и скажите, чтобы он ответил. Ступайте, ради Бога, моя милая тетушка.
ГЛАВА 21
Как видим, вся изобретательность Бобино не помогла избежать преследования врагов и надежно укрыть Жермену и князя. Случай, слепая судьба оказались сильнее всех его хитростей. Что поделать… В жизни многие события таинственно связаны между собой, в этом легко убедиться на примере героев нашего повествования; и пока что последним таким совпадением явилась встреча Жермены с дочерью своего злейшего врага.
На улице Мешен семья чуть не умирала с голоду, и, подавив гордость, чтобы спасти своих, Жермена шила туалет для этой девушки, думая о том, что ее отца готова была убить, если бы только могла это сделать.
Состояние Марии не ухудшалось, но и не становилось лучше; врач тем не менее надеялся на благополучный исход. Однако требовались дорогие лекарства и укрепляющие средства. Старшая сестра начинала жалеть, что отказалась от аванса, так любезно предложенного мадемуазель де Мондье.
Поэтому мастерица торопилась сдать заказ и при этом сотворить нечто совершенно великолепное, на что способны лишь немногие парижские модистки.
Теперь она думала о близящейся примерке, решив смирить гордость и попросить немного денег, так необходимых для больной Марии и Мишеля, да и Бобино, работавший как негр и притом постоянно голодный, заметно сдавал, несмотря на свое мужество и физическую стойкость. О себе Жермена не хотела беспокоиться, Берта тоже могла продержаться.
Опорой семьи оставался Бобино, всеми силами он пытался демонстрировать веселость и жизнерадостность. Без него они пропали бы, подавленные врагами, или умерли с голоду.
Сегодня Жермена ждала друга с особым нетерпением. Был день получки, была надежда, что после расплаты с долгами Бобино принесет хоть немного в дом, и тогда вместе с полученным за туалет для мадемуазель Мондье им хватит на то, чтобы продержаться еще какое-то время.
Жермена и Берта, почти ничего не евшие весь день, усталые, с глазами, покрасневшими от ночных бдений, сидели за шитьем при свете спиртовой лампы, мастерица делала основную часть работы, сестра помогала.
Обычно Бобино возвращался не позднее двух часов.
Монастырские часы пробили полночь. Берта машинально посмотрела на будильник, потом зевнула и потянулась.
— Ты устала, моя маленькая? — участливо спросила старшая. — Тебе пора отдохнуть.
— Нет, сестренка, я дождусь моего Жана, нашего Бобино.
— В этом ты права, он всегда так радуется, когда видит тебя, возвращаясь с работы.
— Пойду посмотрю, как там Мария, что-то ее не слышно, наверное, спит. Оторвусь минут на пять от дела и разомнусь.
Действительно, младшая из них забылась неспокойной дремой при свете ночника. Изредка она глухо покашливала, ворочалась, но все-таки спала, не лежала с полузакрытыми глазами, и это уже было хорошо. Берта возвратилась и рассказала старшей.
— Она будет жить, я это чувствую, — уверила Жермена, работая с аккуратной поспешностью, — и если бы можно, я отдала бы свою жизнь ради ее верного выздоровления.
— Что ты говоришь Жермена?! Тебе… умереть!..
— Да, случается, и часто, что жизнь вообще становится мне в тягость. Только подумай, дорогая, в каком ужасном положении я нахожусь. Вот, к примеру, ты можешь хотя бы надеяться на будущее. Ты любишь человека, достойного тебя, и это взаимное чувство.
Берта тихо улыбнулась.
— Мы с ним еще слишком молоды…
— Это не самая большая беда: скоро повзрослеете. И Бобино сделает тебя счастливой; не случайно наша мамочка смотрела на него как на сына… А для меня он любимый брат… Да… Да… Брат!
— Почему ты говоришь так, словно готова заплакать? — спросила Берта.
— Да ведь жизнь поступает с нами так жестоко, что я все время боюсь какого-нибудь нового несчастья. И я всегда думаю: что будет с вами со всеми, если меня не станет?
— Не говори так, ради Бога, Жермена! Ты надрываешь мне сердце.
— Да… Да… Но я обязана тебе об этом говорить, ведь я старшая… защитница… после смерти мамы. Плохая защитница… сказать по правде… Но если меня не будет… если вы лишитесь этой слабой поддержки… ты и Мария?..
— Замолчи, сестра!.. Замолчи!
— У тебя останется Бобино… Поэтому, думаю, вам надо как можно скорее пожениться.
— Мне только семнадцать, а ему двадцать лет.
— Какое это имеет значение, он будет твоей опорой и по закону, а не только по любви. И его постоянное присутствие здесь перестанет вызывать подозрения и злословия.
— Я не возражаю… Но ты, Жермена, почему сама не вышла замуж за Мишеля? Ведь он так тебя просил… до своей болезни.
Жермена ответила в растерянности:
— Нет… Это было невозможно… Если бы ты знала… Прошу! Не говори об этом никогда!.. Никогда!
И, совершенно расстроенная, девушка решительно принялась за работу.
— Я поступлю так, как ты захочешь, сестра, — сказала Берта и, увидев, что будильник показывал уже час пополуночи, добавила: — Как тянется время! Он принесет немного денег, хватит на несколько дней.
— У нас ни единой монетки, сегодня я еще смогла накормить Мишеля обедом.
— К счастью, он сейчас спит.
— Я дала ему лекарства Марии, чтобы он мог немного отдохнуть. А завтра для него нет хотя бы мало-мальски пристойной еды. Представь себе только! Он, проведя всю жизнь в роскоши, теперь сидит нередко на хлебе и воде!
— У Марии кончаются микстуры и пилюли! Какие мы несчастные!
— Да, очень. Не знаю, у кого могли бы мы попросить взаймы.
— Ведь завтра придет мадемуазель Мондье, — сказала Берта, — а потом, мне кажется, что хорошо бы отыскать Владислава. Он предан Мишелю, он бы, возможно, помог.
— Я боюсь сама же всех нас выдать.
— Владислав никому не сболтнет, это не такой человек…
— Ты, вероятно, права, завтра пошлю записку в дом князя, Владислав, скорее всего, живет там.
— Почему бы не поручить разговор Бобино? Мне кажется, это лучше, чем письмо.
— Верно. Я об этом как-то не подумала. Вообще совсем потеряла голову.
Сестры молча работали, время от времени слышался кашель Марии или вздох Мишеля, забывшегося тяжелым сном в комнате, где он помещался вместе с Бобино.
Пробило половину второго, потом — два.
Берта начала тревожиться, так и не услышав на улице знакомых шагов.
Четверть третьего. Уже полчаса прошло с того времени, когда Бобино должен быть дома.
Девушка не знала что подумать, Жермена тоже беспокоилась, хотя старалась не подавать виду. Трудно было понять, почему Бобино так задержался. Ведь он хорошо знал, в каком положении находятся его близкие, и несомненно должен был торопиться домой. Что могло его задержать?
Ничего, кроме несчастного случая!..
Часы отбили четыре. Берта рыдала, не слушая уже утешительных слов Жермены, та и сама находилась в смятении.
Берта собиралась было в типографию, но Жермена отговорила, сказав, что там никого не застанет и только напрасно, рискуя собой, побежит ночью по городу.
Наконец рассвело, и улица постепенно оживилась. Было слышно, как сначала шли рабочие на свои производства, потом загремели повозки, захлопали двери магазинов, зазвякали бидонами торговцы молоком, застучал топором мясник в лавке напротив.
Измученные бессонной ночью, голодом и, главное, страхом за дорогого человека, девушки сидели в полном изнеможении.
Проснулась Мария и стала жалобным голосом звать Бобино, он всегда приходил ее поцеловать, возвращаясь.
Мишель, услышав девочку, оделся и вошел в комнату, где она лежала. Князь был сверх обычного в нервном возбуждении. Жермена предчувствовала очередную сцену и готовилась к ней. Березов смотрел злыми глазами и ворчал. Он удивлялся, почему Марии ничего не дают поесть, и не понимал, что в доме вообще нет провизии.
Мишель напустился на Жермену:
— Вы просто бессердечная! Почему вы оставляете ребенка без всего, что ему нужно? Один я понимаю, в каком она положении… Один я ее люблю… Впрочем, меня не удивляет, что вы так поступаете… Она вам мешает… Хотите от нее избавиться, ведь так? Хотите, чтобы она умерла…
Нелепые, чудовищные упреки возмутили Жермену.
Она подошла к Мишелю вплотную и сказала повелительно:
— Довольно! Я не хочу вас слушать, идите в свою комнату!
Будто укрощенный взглядом девушки, князь сразу утих и покорно отправился к себе.
Девять часов… Берта рыдала, кусая платок, чтобы заглушить звуки и не разбудить Марию и Мишеля, — оба опять заснули.
Послышался стук быстро едущего экипажа, он остановился около их двери. Сестры бросились к окну и успели увидеть лишь край юбки женщины, быстро скрывшейся в подъезде.
Зазвонили в дверь.
Жермена открыла и увидала мадемуазель де Мондье. Она была так бледна, вид у нее был такой убитый, глаза такие заплаканные, что портниха почувствовала сострадание к дочери ненавистного ей человека.
Войдя, гостья не села, а прямо-таки упала на стул.
Вежливо поклонившись, Жермена не решалась ни о чем спросить, а Сюзанна молчала.
Наконец она спросила:
— Вы уже начали?
— Да, мадемуазель, все готово к примерке.
— Оставьте работу, мне не нужен этот туалет, я приехала, чтобы отказаться от заказа.
Жермена, поняв, что теряет последнюю надежду, и сейчас безразличная к чужому горю, не смогла удержаться и воскликнула:
— Какое несчастье!
Это можно было понять по-разному — и как сочувствие заказчице, — но Сюзанна поняла, о чем речь, и, не обидевшись, ответила:
— Но ведь вы трудились, я оплачу работу. — И, видя, что Жермена из гордости намерена отказаться, попросила: — Пожалуйста… Прошу вас… Я так хочу!
При взгляде на прелестный туалет, подготовленный к примерке, в ней пробудилась женщина, она воскликнула:
— Это изумительно красиво! Какой у вас талант! Я бы выглядела неотразимой в таком платье. Но я его не надену… Я не буду больше наряжаться… Никогда…
И Сюзанна горько заплакала.
Несмотря на ненависть к ее отцу, Жермена, тронутая горем девушки, сказала:
— Вы страдаете… скажите, мы не могли бы чем-нибудь вам помочь? Мы сами очень несчастны, но, может быть, все-таки сумели как-нибудь облегчить ваше горе.
Сюзанна совсем пала духом, но все-таки почувствовала искреннее участие этой женщины, участие бедняка, не имеющего ничего, кроме своего доброго сердца, способного сострадать даже богатому виновнику его невзгод.
Мадемуазель судорожно сжала руку Жермены и сказала прерывающимся голосом:
— Благодарю вас!.. Я страдаю… Это правда… Я гораздо… несчастнее вас!
Жермена спокойно спросила:
— Вы так думаете? Ну что ж. Я не скажу вам ничего о своей погибшей юности, о жизни, разбитой ужасным преступлением, какое может заставить возненавидеть все человечество… А сейчас… здесь мой жених, больной… разоренный… безумный; он тоже жертва преступления. В соседней комнате лежит умирающая младшая моя сестра. Берта, третья из нас, плачет о своем возлюбленном, неизвестно куда пропавшем сегодня ночью. И я одна, чтобы их поддерживать, ободрять, помогать им жить, бороться с нуждой, что преследует нас… с безработицей, которая нам угрожает. А теперь скажите, мадемуазель де Мондье, кто из нас двоих несчастнее.
При этих жестоких словах, сказанных ровно и медленно, с чувством собственного достоинства, Сюзанна почувствовала стыд и одновременно глубокое сочувствие, она проговорила тихо:
— Извините меня. Я думала обо всем этом, однако не представляла себе, что можно терпеть и вынести такие страдания, какие достались вам. Я испытываю к вам большую, искреннюю симпатию и прошу принять от меня нечто гораздо меньшее той доброты, что вы мне дали с истинным великодушием. Я богата, так позвольте предложить… нет, нет, не как милостыню, вы же не примете ее, а одолжить сумму, достаточную, чтобы вы могли облегчить судьбу любимых вами… Это все, чем я могу отблагодарить вас за сострадание, и я навсегда останусь вашей должницей.
Жермена, уже смягчившаяся под влиянием невольной взаимной симпатии к Сюзанне, при этих словах вспыхнула, поднялась и почти жестоко сказала:
— От вас… Никогда!.. Лучше нищета… Лучше болезнь!.. Лучше смерть!..
— Вы меня ненавидите?
— Вас — нет. Но если бы вы знали… Нет… Я ничего больше не скажу, только помните, что от вас я никогда не приму того, что вы предлагаете, даже ради спасения моих любимых.
— Я не понимаю, и я хотела бы…
Берта сорвалась с места — открывать на звонок. И как тогда, когда на улице Пуше они ждали мадам Роллен, умиравшую в госпитале, вошел служащий «Общественной благотворительности».
При виде его Берте вспомнился весь ужас того утра, она заговорила словно в бреду:
— Жан. Мой Жан… в госпитале… ранен… умер, может быть… как мама. Скажите, месье, вы из-за него пришли?
Человек, привыкший встречаться с людским горем, спросил тоном вежливого участия:
— Здесь живет месье Жан Робер, по прозванию Бобино?
— Да, здесь, — ответила Жермена. И подумала: «Он сказал: живет, а не жил».
— О Господи!.. Что с ним случилось? — спросила Берта, помертвев.
Посланный ответил:
— Месье Робер этой ночью подвергся нападению бродяг и доставлен в госпиталь Милосердия.
— Раненый? Ради Бога! Что с ним?
— Я не могу знать, мне только поручено уведомить о случившемся и сказать, что вы можете к нему прийти. Когда я уходил, он был жив.
Сказав это, служащий поклонился и ушел.
Когда Берта узнала о своем несчастье, в ней проснулось мужество.
— Жермена! Сестра! Бежим скорее туда! Нельзя терять времени, ведь он сказал, что Жан еще жив!
Послышался страдальческий голос Марии, она звала старшую сестру.
И Жермена, разрываясь между больной и женихом, потерявшим рассудок, сказала Берте:
— Иди одна, ты видишь, я не могу. Кто тогда с ними останется?
— Я ухожу! Господи, помоги! Спаси его!
Сюзанна оглядела несчастных, на кого наваливался груз новых страданий.
— Это ваш жених, тот, о ком вы беспокоились?
— Да, — сказала Берта, идя к выходу.
— Мой экипаж у дверей, я велю кучеру, чтобы он отвез вас, и подожду здесь вашего возвращения, — сказала мадемуазель де Мондье. — Примите мое предложение, не откажите мне хоть в этом. Или лучше я поеду вместе с вами и привезу вас назад. Пожалуйста! Располагайте мной.
Жермена, побежденная и тронутая участием, проговорила тихо:
— Я принимаю… для моей сестры и для него… эту услугу. Благодарю, мадемуазель… Благодарю!
Девушки сошли вниз, сели в экипаж, и Сюзанна, вместо того чтобы назвать кучеру адрес госпиталя, сказала:
— Улица Данфер-Рошеро, двенадцать-бис, и как можно быстрее.
ГЛАВА 22
Когда ему нанесли удар в спину, Бобино не упал и не стал звать на помощь. Он не мог повернуться лицом к тому, кто его ударил, потому что увидел, как спереди, подняв нож, надвигается другой враг.
Легко было догадаться: это сообщники и, несмотря на то, что Бобино был один и, может быть, тяжело раненный, он твердо решил сопротивляться. Чувствуя, что наступающий спереди сейчас ударит его, Бобино стремительно нагнулся и так же мгновенно прижался всем телом к врагу, схватил его обеими руками за глотку и принялся душить.
Это произошло так быстро, что Бамбош не успел нанести второй удар. Брадесанду захрипел и выронил нож. Он пытался схватиться с Бобино, но не ожидал, что противник так силен. Брадесанду сам был не слаб, крепко сбит и отлично знал разные приемы борьбы, поэтому рассчитывал легко справиться с раненым противником. Он придавил плечи Бобино и, почувствовав под пальцами кровь, подумал: «Не уйдет!»
Бамбош, подняв нож для удара, мысленно ругался: «Идиот! Заслонил место, куда надо ударить. Никакой возможности садануть в спину!»
И заорал вслух:
— Убери руки, грязное животное, а то я тебе их оттяпаю!
Но у Брадесанду уже высунулся язык и выкатывались глаза от удушья, он не слышал и не мог ответить.
Бобино чувствовал, что силы сейчас его оставят, но юноша сознавал, что любимая ждет его, он представил себе милый образ Берты и подумал, что им, может быть, уже не придется увидеться. Его ограбят, убьют, отберут те франки, что он нес домой, все близкие останутся голодными, а больная Мария — без лекарства. Из последних сил сжимая глотку врага, он думал: «По крайней мере, тебя-то я уничтожу!»
Они катались по земле втроем, Бамбош никак не мог изловчиться и ударить Бобино, не задев своего сообщника.
Последнее усилие окончательно истощило силы наборщика, он лишился сознания, успев крикнуть:
— На помощь! Убивают!
Его услышал дежурный патруль, и двое полицейских побежали на зов.
Бамбош боялся быть задержанным даже в качестве свидетеля и дал деру. Метрах в ста он замедлил бег, пошел дальше спокойной походкой гуляющего, чтобы не вызывать подозрения у встречных.
Тем временем полицейские подошли к неподвижно лежащим Бобино и Брадесанду. Они попробовали посадить Бобино, прислонив к дереву, но он повалился, не издав ни стона, ни вздоха.
— Он, кажется, сильно пострадал, — сказал один из стражей порядка с грубоватым сочувствием, увидев, как по земле растекалась темная лужа крови. Бобино жалобно застонал и проговорил еле внятно:
— Берта… Моя бедная Берта… Они меня убили…
— Еще жив, хотя ему крепко досталось, — сказал второй патрульный. — Надо отправить их в госпиталь. Иди на пост, скажи, чтоб прислали носилки и людей.
Вскоре Бобино и Брадесанду доставили к врачам, дежурный, бегло осмотрев рану Бобино, тут же отправил его в операционное отделение. Повезло попасть к хорошему хирургу, что не был узким специалистом: ранение в спину под правую лопатку оказалось страшным. Из отверстия текла кровь, по краям пенилась сукровица. Легкое было основательно повреждено. Не исключались серьезные осложнения.
Хирург осторожно обмыл порез, наложил антисептический компресс и толстую повязку, после чего пошел осмотреть Брадесанду. Несмотря на усилия санитаров, делавших искусственное дыхание, тот не приходил в себя и уже начал окоченевать.
Санитар сказал:
— Доктор, у нас ничего не получается.
— Он умер. От задушения. Крепко сдавили!
Потом, взглянув на татуировку с непристойными изображениями, покрывавшую руки и грудь Брадесанду, обычное украшение бандитов, врач добавил:
— Наверное, какой-нибудь грабитель. Тот, другой, здорово с ним управился!
Бобино, как обычно бывает после тяжелой травмы, провел трудную ночь. Только в десять утра он еле слышным голосом сообщил необходимые сведения: имя и фамилию, адрес, обстоятельства нападения.
Его осмотрел главный хирург, одобрил действия дежурного и подтвердил предписания и заключения. Но ввиду тяжелого состояния пострадавшего дал распоряжение ассистенту поскорее вызвать в госпиталь ту особу, о ком больной все время спрашивал, — Берту Роллен, его невесту.
Служащий пришел на улицу Мешен как раз в тот момент, когда там находилась Сюзанна де Мондье.
Берта не слышала, какой адрес дала кучеру мадемуазель де Мондье, и как парижанка, хорошо знающая город, была удивлена, когда экипаж остановился около Обсерватории.
Девушка пребывала в страшном беспокойстве за Бобино, ей казалось, что лошади бегут недостаточно шибко, и очень удивилась, когда Сюзанна поспешно вышла из экипажа.
— Это не здесь! — воскликнула Берта, подумав: вдруг ее заманили в какую-то ловушку. — Мадемуазель, нам нельзя терять времени!
— Не волнуйтесь! Здесь живет друг, он по моей просьбе поможет вашим близким, может быть, спасет их. Ваша сестра не отвергнет его помощи. Этот человек предан мне всей душой, я верю ему больше, чем самой себе. Ничего не бойтесь, Берта, милая! Я вам хочу только добра, вам и всей семье.
Мадемуазель Мондье побежала к павильону, где жил Морис Вандоль с матерью.
Застигла она Мориса бледным и совершенно убитым горем. Но, увидев Сюзанну, тот сразу просиял.
— Возлюбленная моя!.. Вы пришли… После того ужасного письма я уже не надеялся вас увидеть! Оно меня совершенно уничтожило… И вот вы здесь… Так ваш отец понял все-таки, что он делает нас несчастными… Вам удалось получить его согласие?..
— Нет, мне решительно запрещено с вами видеться… Я обещала… Но сейчас такой случай… Я встретила очень несчастных людей, и это заставило меня нарушить и родительский запрет, и свою клятву и просить вас…
— Сюзанна! Скажите все-таки, как мог ваш отец…
— Морис, друг мой! Я должна торопиться, на улице ждет девушка, которой надо помочь… Позвольте надеяться на вас… Вы согласны?
— Сделаю все, что вы хотите, возлюбленная моя! — сказал Морис.
— Возьмите денег… все что у вас в доме, и поезжайте на улицу Мешен, угол улицы Санте и передайте эту сумму от моего имени в долг той, кто там живет. Действуйте тактично, чтобы она не отказалась. Семья совершенно погибает от нищеты, но они горды и скрывают свою крайнюю бедность. Мы должны им помочь… спасти их. Идите, мой друг, немедля!
— Да, да, Сюзанна! Но, ради Бога, скажите, когда я вас снова увижу!
— Не знаю. Ведь, говорю же вам, отец взял с меня обещание не видеться с вами. Но, буду ли я близко или далеко, я всегда и везде буду любить вас.
— Любимая моя! — воскликнул молодой человек. — Как обрадовали вы меня своим появлением!.. Я плакал все эти дни, терял веру в себя, в будущее, уже ни на что не надеялся в жизни!
— Напрасно, Морис… Вы меня любите, я люблю вас, а вы теряете веру в наше будущее!
— Но ведь ваше письмо надорвало мое сердце.
— А я, Морис, сколько перестрадала… Но любовь помогла мне все вытерпеть и помогла прийти к вам.
Слушая, художник преобразился. Он внимал, будто слышал самую дивную музыку. Морис медленно привлек девушку, и она уступила пьянящему объятию. Не в силах противиться порыву, овладевшему ее душой, Сюзанна тихо положила голову на плечо возлюбленного. Тонкие шелковистые волосы касались щеки молодого человека, и сердце ее билось в восторге, граничившем со страданием. Он прижал губы к ее губам — такого счастья оба до тех пор не знали.
Сюзанна первая вышла из этого сладкого забытья. Она еще ощущала трепет во всем теле, но с чувством уверенности в себе и с гордостью посмотрела на друга, еще крепче обняла его и сказала:
— Теперь, Морис, сомневаешься ли ты еще в своей Сюзанне? Будешь ли верить в ее любовь и в наше будущее?
— Сюзанна!.. Любовь моя!.. Вы ангел! Я всю жизнь буду вас любить! Самоотверженно… преданно… верно… Я ваш навеки, и вы навек моя! Ничто не разъединит нас!
— Ничто и никогда! А теперь, Морис, делайте то, о чем я вас просила, не теряйте ни минуты. Прощайте.
— Нет, до свиданья!
— Пустите меня, я тороплюсь.
— Почему же?
— Я провожаю в госпиталь несчастную девушку, там ее умирающий жених, она в горе, и я не прощу себе, если эгоизм моей… нашей любви заставит меня задержаться.
Радостная, девушка вернулась к Берте и сказала:
— Моя милая подружка, только что я была почти такой же несчастной, как вы, а теперь я счастлива. Не теряйте надежды! Ваш друг выздоровеет, я это чувствую.
— Услышь вас Господь и помоги нам! Но я так привыкла ждать горьких событий, что успокоюсь, только увидев его.
Через десять минут повозка, запряженная тяжело дышавшей от быстрого бега лошадью, подкатила к госпиталю.
С уверенностью, какой раньше Сюзанна в себе не знала, она провела туда плачущую Берту.
Увидев нарядно одетую девушку, вышедшую из щегольского экипажа, швейцар снял шляпу, проводил в справочную, где им сказали, в какой палате лежит Бобино. Через пять минут они уже стояли около раненого.
Юноша сразу узнал возлюбленную и тихо проговорил:
— Берта… моя Берта… какое счастье…
— Жан! Милый Жан… Вам, наверное, очень плохо…
— Ничего… со мной все обойдется… если я вас увидел. Но они… там…
— Месье, — сказала Сюзанна, — я друг вам не известный, но верный, не беспокойтесь о ваших.
— Спасибо, — прошептал типограф, не понимая, отчего проникся доверием и симпатией к милой девушке. Казалось, будто они давно знакомы, он чувствовал бесконечную благодарность за ее доброе отношение к Берте.
В свою очередь Сюзанна смотрела на него с ласковостью и любопытством. Ее влекло какое-то родственное чувство, точно он был братом, никогда не виденным прежде.
Берта тоже впервые заметила удивительное сходство между ними. Однако ей и в голову не пришло сказать об этом, все мысли были поглощены тревогой за Бобино, а с ним говорить не полагалось. И все-таки они нарушили врачебные правила.
В очень коротких словах Жан рассказал, как на него напали, как он боролся и попал в госпиталь. Юноша утешал Берту, говорил, что непременно выздоровеет, посвятит ей жизнь и будет любить всегда… всегда.
Он поблагодарил Сюзанну, зная из кратких слов Берты о том, как мадемуазель помогла семейству.
Потом, почувствовав усталость, типограф опустил голову на подушку.
Сиделка сказала, что посетительницам пора уходить, так велит врач, ведь пациент еще очень слаб и ему вредно всякое волнение и утомление.
Берта послушно встала, наклонилась над Бобино, нежно поцеловала и шепнула на ухо:
— Жан, друг мой, не бойся ничего, тебя вылечат.
Сюзанна как брату пожала ему руку, сказала несколько слов утешения и добавила:
— Мы будем приходить еще!
Бобино с чувством благодарной нежности посмотрел ей вслед.
Уходя, Сюзанна сунула луидор в руку сиделки и попросила позаботиться о больном.
Не привыкшая к таким щедрым вознаграждениям, женщина поклонилась и, конечно, пообещала.
Сюзанна спросила ее так, чтобы не слышала Берта:
— Вы думаете, он поправится? Что говорит хирург?
— Ранение очень серьезное, — ответила служительница потихоньку.
Экипаж довез девушек до улицы Мешен. Как ни просила Берта, Сюзанна отказалась подняться в комнаты: хотела избежать новых слов благодарности.
Она уехала, счастливая исполненным долгом, уверенная, что Морис сделал все, как она велела, и на прощанье сказала Берте:
— Я не знаю, когда мы еще увидимся, но, если у вас случится какая-нибудь неприятность или нужда, непременно известите меня.
Морис собрал все деньги, какие имел в наличности, и поспешил исполнить желание Сюзанны.
Никто не дает так не скупясь, как влюбленные: а художник был щедр вдвойне — он любил, и он был человеком искусства.
Молодой человек еще не знал, кому именно должен оказать помощь, но душа его заранее была распахнута для сочувствия и добра.
Он шел крупными, уверенными шагами, и улицы казались ему шире, небо яснее и солнце ярче, чем были. Он думал о том, как любит его Сюзанна и как он любит ее. Он еще чувствовал ее поцелуй на губах, вспоминал, как их бросило в объятия друг друга, и был полон надежды, пробудившейся после дней отчаяния.
Он радовался, готовясь сделать доброе дело, Сюзанна будет его соучастницей, и союз их сердец станет еще крепче.
Художник взбежал на третий этаж дома, указанного Сюзанной, и позвонил. Открыла Жермена. И Морис сразу узнал прекрасную девушку, ту, кого он и князь Березов некогда вытащили из реки, а Мишель чуть ли не с первого взгляда влюбился в бедняжку.
Вандоль расстался с Жерменой, когда она, поправившись, собиралась в Италию, и Мишель окружал ее роскошью со щедростью миллионера. Теперь же Морис увидел возлюбленную друга в бедной квартирке за швейной машиной, чей шум прекратился, когда он позвонил.
Да, перед ним несомненно стояла Жермена, по-прежнему прекрасная, но такая бледная и слабая, что, казалось, вот-вот упадет.
Морис снял шляпу и почтительно поклонился, растроганный и сострадающий. Девушка стояла как живое олицетворение скорби.
— Жермена! Вы здесь… на этом чердаке!.. Разве такой я ждал вас встретить!
Ослабевшая от лишений, от тяжелой работы и от всех пережитых несчастий, швея, увидев давнего друга, проговорила устало:
— Морис… как я рада, что наконец вас снова вижу…
Художник безмерно огорчился, видя ее такой слабой и печальной.
— Вы страдаете, Жермена! — сказал он горестно.
— Да, Морис, страдаю, как только можно страдать.
— Вы сейчас одна здесь? Ваша сестра Берта?..
— В госпитале, где лежит Бобино, раненый, может быть, уже мертвый…
— Ох!.. А Мария… ваша младшая?..
— Там… в постели… и, не исключено, тоже умирает…
— Вы знаете, как я вам предан… простите, если я проявлю нескромность.
— Вы помогали меня спасать, вы один из тех друзей, кому можно говорить все.
— Хорошо, а Мишель, что с ним-то случилось? Он поступает бессовестно, оставив вас в таком положении! Это подло! Мне стыдно за него!
— Если бы вы знали все!
— Говорите, Жермена! Говорите все, я вас умоляю!
— Об этом страшно… Я могу рассказать вам о всех несчастьях, что произошли с нами… Но что касается Мишеля… Уверяю вас, это хуже всего.
— Скажите, прошу вас, скажите, ведь я не из любопытства спрашиваю вас.
— Так вот, — продолжала Жермена с усилием, — Мишель разорен… лишился всего… не имеет ни франка, даже сантима.
— Он?! Что вы такое говорите?!
— И Мишель меня ненавидит… Он выказывает ко мне ненависть ужасную, бессмысленную, не имеющую никакой причины… И это меня убивает…
— Ненавидит вас!.. Но это сущее безумие!..
— Увы! Да. Настоящее, подлинное.
— Что же такое с ним?
— Он хотел застрелиться, ранил себя, я делала ему перевязки… Он умирал от голода… Мы его приютили… Он меня возненавидел, я его полюбила… Теперь он еще сильнее ненавидит меня и готов убить!
— Он чудовище!
— Нет, просто несчастный умалишенный!
— Он! Безумец? Мишель Березов — сумасшедший?!
— Да, несомненно. Он помешался на том, что ненавидит меня, а все потому, что хочет моего замужества с моим оскорбителем, ради этого Мишель обещает застрелиться. Впрочем, вы сейчас его увидите.
— Как! Он здесь?
— Он был другом в плохие мои дни, спас мне жизнь, любил меня, покровительствовал. Чему удивляться, если по долгу, из любви к нему, мы все сделали для него, что могли.
Мориса все сильнее трогала героическая простота преданности, такой полной, такой совершенной, и он благодарил Сюзанну, пославшую его сюда. Молодой человек просил Жермену располагать им и ласково пенял, что она скрывала свои несчастья.
Дверь отворилась, и вошел Мишель.
— Да, да, Морис, я узнал твой голос, — заговорил князь как-то неестественно быстро, даже не поздоровавшись, — рад тебя видеть! Ты окажешь большую услугу, поможешь вырваться из этой вонючей дыры, где меня держат насильно… Да, мой друг, мне не позволяют выходить под предлогом, что я сумасшедший. Но я это прекрасно знаю без них! Однако какое дело до этого им, этим людям? Кто они мне? И эта Жермена с ее видом святой недотроги. Эта стерва, которую я ненавижу… готов убить ее!.. Она тебе рассказывала всякий вздор… уверен… Продувная баба… шлюха, кого я бью ногами… Изобью и теперь, на твоих глазах…
Жермена пыталась успокоить безумца, но он закричал:
— Довольно! Пустите меня! Я не хочу вас видеть! Давай уйдем отсюда, Морис, помоги мне убежать от людей, которые у меня все украли, а потом, если хочешь, я застрелюсь у тебя; там будет очень удобно…
Морис не мог вставить слова в этот поток. Он смотрел на Мишеля с любопытством, полным нежного сочувствия, и не мог воспринять, осмыслить жалкого состояния души друга. Он безуспешно пытался представить, какая катастрофа могла погубить ясный ум Березова, отчего его любовь перешла в ненависть, и дивился покорной преданности Жермены.
Художник сразу представил, как после роскошной жизни они погрузились в полную нищету, какие жертвы должны были приносить эти великодушные люди, чтобы беспрерывно противостоять валившимся на них бедам.
Хоть бы князь, враз обнищав, по-прежнему любил Жермену! Но нет! Он изо всех сил ненавидел несчастную девушку! Действительно, это было ужасно. Более, чем Морис ожидал.
Художник попытался успокоить Березова. Морис подошел и стал ласково говорить:
— Будь мужчиной, Мишель, будь молодцом, каким я тебя знал всегда. Мы тебя вытянем из беды, мой друг. Ты знаешь, как я тебя люблю.
— Хватит! — резко прервал его Мишель. — Хватит!.. У меня нет больше друзей!
— Я, Мишель, я твой друг, я никогда тебя не забывал!
— Ты? Брось!.. Тебя обвела вокруг пальца эта развратница Жермена!.. Если бы ты был другом, ты увел бы меня к себе, дал ложе и револьвер, и я бы застрелился в постели, очень удобно стреляться, лежа на чистых простынях и подушках… Я уже пробовал и с удовольствием опять это сделаю, потому что так надо!..
— Нет, Мишель, так совсем не надо! И ты не совершишь такой подлости.
Противоречие привело Мишеля в неуемное бешенство, он закричал:
— Ты заодно с моими врагами! Я тебя знать не хочу!.. Уходи!.. Убирайся!.. Говорят тебе, вон отсюда, несчастный мазила!.. Мне стыдно, что я был твоим другом!..
Морис, совершенно ошеломленный, не знал, что делать, и страшился за Жермену, — каково ей будет, когда она останется одна с этим безумцем.
Князь закричал с еще большей яростью:
— Если бы у меня сейчас были лакеи, я бы велел вышвырнуть тебя!.. Если ты не желаешь смотаться, я уйду сам!
Князь хлопнул дверью в комнату.
— Вы не боитесь, что он бросится и действительно начнет бить, попытается убить вас?
— Пусть делает со мной что захочет, я ему принадлежу душой и телом, но все-таки мне хочется дожить до того времени, когда он будет не столь несчастным.
— Скажите, как вам помочь? Располагайте мной, Жермена.
— Я не имею права отказаться от вашей поддержки. Ради него, ради Бобино, ради больной Марии. Приходите, если можно, завтра, мой друг, мы все обсудим.
— Договорились. Я буду здесь утром.
В соседней комнате застонала Мария, и Жермена бросилась туда, Морис, пользуясь тем, что остался один, положил на столик швейной машинки стопочку банкнот, прижал кучкой золотых монет и тихо ушел.
Мария проснулась от крика Мишеля.
Больной стало немного лучше: не то чтобы она была уже вне опасности, но самые серьезные симптомы болезни прошли.
Она спросила:
— Что, Мишель еще злой?
— Немного раздраженный, как всегда, — ответила Жермена.
— У нас сейчас кто-то был?
— Наш друг, месье Вандоль, художник, помнишь?
— Конечно! Мне бы очень хотелось его видеть, и Мишеля тоже. Ты знаешь, какой он спокойный бывает, когда со мной.
— Да, дорогая, я попрошу его пройти к тебе.
Жермена удивилась, что в соседней комнате пустынно, однако увидела пачку денег и, конечно, поняла, что Морис нарочно оставил их украдкой, и мысленно поблагодарила его за деликатность.
Мария, нетерпеливая как все больные, спросила:
— Жермена, почему они ко мне не идут?
Старшая сестра постучала в комнату Мишеля и вошла, не дождавшись ответа.
— Опять вы пришли! — завопил тот злобно и вскочил со стула, где перед тем сидел, согнувшись и охватив голову руками. — Когда вы наконец оставите меня в покое? Когда я буду далеко от вас?.. Совсем далеко!
— Мария вас спрашивает, друг мой, — ответила девушка с привычной невозмутимой покорностью.
Безумец впервые отказался идти, сказав:
— Я не хочу к ней. Вы злоупотребляете моим хорошим отношением к девочке, чтобы заставлять меня делать то, что хочется вам. А я хочу поступать по-своему. Я намерен покинуть навсегда эту берлогу.
— Я прошу вас, пройдите к девочке.
— Отстаньте!
— Но…
— Разве вы не видите, что терпение мое кончилось! Что я больше не могу жить взаперти! Пустите!
— Вы никуда не уйдете.
— Черт возьми! Это мы еще посмотрим!
Мишель с силой оттолкнул Жермену, пытаясь пробиться к выходу. Девушка вцепилась в него, умоляя подождать хотя бы до завтрашнего дня, когда придет Морис и возьмет его с собой.
— Я хочу уйти!.. Я хочу уйти! — кричал Березов со все возрастающим неистовством. Такой настойчивости он еще никогда не проявлял.
Жермена продолжала сопротивляться.
Князь, потеряв всякий контроль над собой, замахнулся кулаком. Лицо исказилось и налилось кровью, он был страшен. Он кричал:
— Я убью вас! Порази вас гром! Я должен вас убить! После будь что будет.
Мария выскочила из-под одеяла и босиком побежала спасать сестру. Она хрипло, то и дело кашляя, кричала:
— Мишель!.. Мой хороший Мишель, не делай больно сестре!.. Пощади!..
Князь был уже готов броситься на девочку, но Жермена заслонила ее, — вся бледная, с растрепанными волосами, с пальцами в крови, опухающими на глазах кистями рук. Она смело подошла к Мишелю, глядя прямо в глаза. Как укротитель и дикий зверь, они стояли секунд двадцать. Мишель постепенно остывал, лицо становилось спокойнее, и вскоре на нем появилось выражение блаженства.
Так продолжалось еще с полминуты. Потом глаза Мишеля сделались будто невидящими, хотя оставались открытыми, он глубоко выдохнул, словно выпустил воздух из мехов.
Жермена в удивлении спросила:
— Что с вами, мои друг.
Он ответил совершенно переменившимся голосом, нежным и ласковым, как прежде:
— Со мной ничего… Все хорошо, Жермена. Я счастлив!.. О, как мне хорошо сейчас!. И почему я не могу всегда быть таким счастливым?
— Но что происходит с вами? Скажите, прошу вас, мой друг.
— Я сплю!
— Вы спите?
— Да. Я усыплен… вами… какое счастье… какая радость, быть рядом с вами… слышать ваш голос… видеть вас… Ведь я вижу вас, моя Жермена, моя дорогая, любимая… да… всегда любимая!
— Боже мой! Что он говорит? — шептала Жермена. — Господи, что?
— Говорю, что обожаю вас и только от вас зависит, чтобы так было всегда… Я больше не сумасшедший… я не хочу кончать самоубийством, я хочу жить, чтобы любить вас…
— Что надо делать для этого?
— Оставить меня спать… Потом вы просто спросите… он запретил отвечать вам… но, может быть, я все-таки смогу… если вы этого захотите… очень захотите… если сможете мной повелевать. Тогда… я надеюсь, вы воскресите мою душу, которую он убил.
Конец второй части
Часть третья ВОЗМЕЗДИЕ
ГЛАВА 1
Было четыре часа ясного августовского дня. Еще не все бездельники, называемые светскими людьми, покинули Париж.
Хотя признаком хорошего тона считалось разъезжаться по курортам и казино во все концы страны, многие закоренелые домоседы еще оставались в столице, где в эту пору собиралась масса иностранцев.
На бульварах как всегда царило веселое оживление, проезжие улицы были полны наемных упряжек.
В этот день, как обычно, много народа толпилось на улице де ла Пе. Роскошные экипажи двигались один за другим непрерывным потоком в направлении улицы Риволи. Иные останавливались около модного ателье мадам Лион, другие быстро от него отъезжали.
Великолепная восьмирессорная карета, запряженная парой вороных, остановилась возле заведения в тот момент, когда старшая мастерица мадемуазель Артемиз провожала со многими поклонами богатую заказчицу.
Выездной лакей ловко соскочил с места и опустил подножку. Не спеша вышла дама, ее движения были полны достоинства, почти величественны.
Высокая, статная, со скульптурными формами, одетая с утонченной скромной элегантностью, она привлекала взоры, ею любовались. Дорогой туалет лишь оттенял очарование ее внешности так же, как и на первый взгляд простые, а в действительности безумно дорогие украшения. В противоположность женщинам, каких только наряды и драгоценности делают привлекательными, она притягивала бы взоры, будь даже в самом обычном платье.
Мадемуазель Артемиз, знавшая наизусть всю клиентуру модных ателье Парижа, с одного взгляда оценила прекрасную гостью. Она подумала: «Наверное, какая-нибудь иностранная герцогиня или жена нефтяного короля».
Потом, окинув ее порочным взором женщины, привыкшей разглядывать обнаженных заказчиц во время примерок, она сказала себе: «Несомненно, незнакомка едва ли не самая красивая женщина в Париже сейчас. Кто же она такая?»
Неизвестная шла через холл, уставленный экзотическими растениями, в глубине начиналась парадная лестница.
Мадемуазель Артемиз, еще более изможденная и худая, чем в прошлом году, готовила на лице приветливую улыбку, чтобы, как полагается первой мастерице, оказать должный прием даме, в коей видела будущую щедрую заказчицу. Артемиз сложила губки бантиком, чтобы скрыть крючки золотых зубных протезов, и вся изогнулась, пытаясь принять изящную позу, но почти тотчас воскликнула с неподдельным изумлением:
— Мой Бог!.. Жермена!.. Жермена Роллен!.. Невероятно!
Дама поднесла к глазам богато украшенный лорнет и, холодно посмотрев на старую деву, ответила со спокойной иронией:
— А! Артемиз!.. Да, дорогая, это я… Что, мадам Лион занята?.. Мне надо с ней поговорить.
Артемиз, все более и более изумляясь при виде того, как естественно соблюдает Жермена образ светской дамы, с какой неподдельной роскошью и хорошим вкусом одета, восклицала:
— Жермена!.. Ах, Боже мой!.. Кто бы мог подумать?! В жизни все случается!..
— Успокойтесь, пожалуйста! И узнайте, может ли мадам Лион принять меня не задерживая. Я спешу.
Движимая жгучим любопытством, смешанным с завистью, первая мастерица, кого удостаивали откровенностью многие клиентки из высших сфер, очень хотела, конечно, все разузнать о бывшей подчиненной; заискивающим тоном, убрав деланную улыбку, она попыталась вызвать посетительницу на откровенность:
— От всей души поздравляю вас, мадемуазель… мадам… Вы не теряли времени даром… и, разумеется, вам помогли счастливые случаи…
— Наверное, больше, чем советы одной известной мне особы; не так ли, милейшая Артемиз? — сказала Жермена тоном, пресекающим подобные разговоры.
Как человек, хорошо знающий расположение комнат, бывшая здешняя швея уверенно прошла прямо в салон, где ожидали клиентки. Она была неизвестна им, дамам большого света и полусвета, и появление Жермены произвело сенсацию.
Молодая женщина позволяла себя откровенно разглядывать, уверенная в своей красоте. В самом деле, ядовитые змеи, с пристрастием взиравшие на нее, не могли обнаружить недостатков ни в лице, ни в фигуре, ни в манере держать себя, ни в туалете. Инстинктивно ее разом все возненавидели.
Она терпеливо дождалась своей очереди и через полчаса ступила в личный салон мадам Лион.
Это была толстая бабенция с простонародными чертами лица, и трудно было представить, что за ее пошловатой наружностью скрывается тонкий мастер с безупречным вкусом. Она была слишком умна и опытна, чтобы показать, как мгновенно узнала свою бывшую мастерицу, и встретила Жермену словно знатную даму, в ком видит заказчицу, способную сделать прекрасную рекламу заведению.
Конечно, владелица дамского салона удивилась тому, сколь свободно и просто ведет себя Жермена, заказывая туалет. В словах, в манере держаться не было ни кривляния, ни вульгарности. Мадам Лион подумала: «Настоящая княгиня! Интересно, где она научилась так себя вести? Ох уж эти маленькие парижские мастерицы!»
Выбрав фасон и ткань, Жермена сказала, что в отношении отделки вполне полагается на тонкий вкус мадам Лион, — та выглядела весьма польщенной.
Когда клиентка заявила, что туалет ей нужен не позднее, чем к пятнице, а был понедельник, мадам Лион попробовала заикнуться, что четыре дня явно маловато, заказчица ответила:
— Если вам неудобно выполнить мою просьбу, вынуждена, к большому огорчению, обратиться в другое ателье.
Мадам Лион привыкла, что в подобных случаях даже самые состоятельные заказчицы — и кокотки, и светские дамы — начинали умолять и даже почти унижаться, и хозяйка ателье наконец соглашалась, при этом назначая цену по своему усмотрению.
Решительный и полный достоинства тон Жермены произвел на мадам впечатление. Она без колебаний обещала, что заставит мастериц работать день и ночь, заказ исполнит к назначенному сроку.
Жермена направилась в Булонский лес.
Ее необыкновенная красота и там привлекла всеобщее внимание.
Экипажи гуляющих старались приблизиться к карете девушки. Всадники норовили проехать мимо несколько раз взад-вперед, иногда нарочито громко строили догадки о том, кто же она, эта прекрасная незнакомка.
Жермена оставалась спокойной и невозмутимой. Ее, казалось, совершенно не трогали откровенно любопытствующие взгляды.
Только раз, проезжая по авеню Пото, она вздрогнула, на мгновение испытав ненависть. Всадник, ловко и красиво сидевший на породистой лошади, приблизился легким галопом в сопровождении ливрейного лакея.
Красивое лицо Жермены тут же приняло спокойное выражение, когда ездок стал приближаться к ней, глядя с удивлением и восхищением.
Поравнявшись с коляской, наездник остановил лошадь так резко, что она поднялась на дыбы, но хозяин легко справился с ней.
Видя, что Жермена смотрит на него, верховой почтительно поклонился, на всякий случай, как знакомой, в ответ она слегка кивнула, сделав над собой огромное усилие, чтобы сохранить спокойное выражение лица.
Всадник приблизился и спросил дрожащим от страсти голосом:
— Вы?! Это вы!.. Невозможно!.. Жермена!..
— Да, это я, и мне странно, чему вы так удивились… ведь мы неизбежно должны были встретиться. Не правда ли, граф де Мондье?
Жермена произнесла ненавистное имя, улыбнувшись загадочно и волнующе.
— Согласитесь, у меня была причина поразиться и… прийти в восторг… Такие встречи редкость.
— В особенности при подобных обстоятельствах, — добавила Жермена тоном светской дамы, приведшим графа в замешательство.
Мондье поскакал рядом с ее экипажем.
Хотя его уже ничего в жизни не должно было ввести в замешательство, он с трудом смог успокоиться.
Как! Та самая Жермена, маленькая швея, кого десять месяцев назад он подстерегал на улице… Прекрасное создание, гордо отвергающее его домогательства, та, в кого он был влюблен страстно и отчаянно, как только может мужчина на склоне лет.
Гордая в своей нищете, не польстившаяся на богатство и место в высшем свете, не сломленная изнасилованием, отчаянно бежавшая из его плена, неведомо куда сгинувшая Жермена…
И вот он встречает недавнюю девчонку окруженной роскошью, гордой, властной, великолепно одетой, встречает… и не где-нибудь, а во время обычной для богатых и знатных людей прогулки в Булонском лесу.
Она теперь не бежит, не скрывается, не боится его, как прежде, но спокойно отвечает на поклон и разговаривает так, будто забыла темное и жестокое прошлое…
Граф испытал острую ревность.
Кому обязана Жермена этой роскошью? Вышла замуж? Или, наоборот, пошла по пути греха и просто отдала богатому, молодому то, в чем отказывала ему с таким упорством?
Мондье не смел об этом спросить, но, кто бы ни был ее муж или любовник, граф этого человека ненавидел, видя в Жермене свою собственность.
И, однако, больше всего приводило в недоумение именно то, что девушка не выказывала прежней ненависти, а говорила с ним пускай кратко, пускай с холодной учтивостью светской дамы, но все-таки — говорила!
В замешательстве, удивлении, радости Мондье думал: «Наверное, она больше не в обиде на меня. Женщины всегда прощают такие поступки».
Жермена держалась даже с некоторой пускай обидно-снисходительной, но все же благосклонностью, и он возымел некоторые надежды.
Граф ехал шагом возле экипажа и от искреннего волнения не находил слов для разговора. Однако он был не из тех, кто останавливается на полпути, и не переносил неопределенности в отношениях, особенно любовных. Не имея больше сил сдерживаться, Мондье сказал:
— Жермена! Я люблю вас как прежде и еще сильнее. Я не стану вас умолять простить прошлое. Каким бы ни был бесчестным мой поступок, он совершен из любви к вам, и страсть служит мне оправданием, потому что не всякий может так любить — до безумия, до преступления! Жермена! Будете вы меня слушать наконец?!
Гуляющие один за другим проезжали мимо них и с интересом и восхищением смотрели на Жермену.
Ги де Мальтаверн на коне, принадлежавшем ранее князю Березову, гарцевал рядом с коляской, которой правила Андреа. Увидев Жермену, женщина воскликнула:
— Какая красавица!
Она и сама была хороша, потому охотно отдала должное достоинствам незнакомки.
— Действительно, только чертов Мондье способен найти такую красотку. И где он ее обнаружил? — ответил Ги.
Виконт де Франкорвиль и его неразлучный Жан де Бежен пялили глаза и всячески старались проведать, кто эта незнакомка, чтобы поддержать свою репутацию всезнающих, когда вечером в свете их станут о ней расспрашивать.
Дезире Мутон, все такой же толстый, как и прежде, ехал на взятой напрокат лошадке, качаясь в седле, как почти все, кому прежде доводилось оседлывать только валик кожаного дивана в своей конторе.
Все поглядывали друг на друга с озадаченным выражением охотничьих собак, сделавших стойку на рябчика и вдруг обнаруживших тигра.
В ответ на страстное признание графа Жермена улыбнулась, как опытная кокетка, и, состроив насмешливую гримаску, проговорила:
— Вы опять все о том же! Но ведь это сюжет из древней истории! Мой милый граф, скажите что-нибудь новенькое, ведь все прошлое было так давно, что с тех пор, боюсь, Триумфальная арка успела обрасти мхом!
Она произнесла «мой милый граф» таким непринужденным тоном, будто преступление Мондье не разделило обоих непереходимой пропастью. Сказала, как говорят с человеком, равным по положению в обществе.
— Жермена! Умоляю вас! Не надо так! Ведь я неимоверно страдаю!
— Разумеется, очень мило, что вы все еще мучаетесь из-за меня, но без конца слушать объяснения в любви… не очень интересно. Вы, господа мужчины, по вашей эгоистичности только и делаете, что говорите нам о пламени, сжигающем вас… Это, право, скучно.
Она произнесла: «пла… мени» с нарочитым пафосом и врастяжку, отчего слово прозвучало насмешливо.
Граф удивился проявлению таланта актрисы и одновременно восхитился, он не мог удержаться от улыбки и подумал: «Она в самом деле необыкновенная! А я-то принимал ее за маленькую плаксу! Какая женщина!»
— Знаете, мой милый, довольно разговоров о любви, на все свое время.
— Но у меня его нет! А вы — дадите ли вы мне свое время?
— Кто знает!
— Позволите ли вы мне увидеть вас еще раз?
— Почему же нет? Я намерена широко открыть двери своей гостиной для известных людей Парижа.
— Вы окажете огромную честь, если позволите быть в числе избранных.
— Это не слишком большая милость, потому что избранных будет много.
— Об иной милости, как быть одним из многих, я и не прошу.
— И прекрасно! Я буду охотно принимать вас с условием, что вы не будете пылать и не устроите пожар.
— Я стану вас беспрекословно слушаться, Жермена, и вы не будете иметь более покорного и преданного слуги, нежели я.
— Золотые слова! И коль скоро вы такой рассудительный, я сейчас предложу вам место в этом экипаже.
— Ах, Жермена!
— А вы не боитесь, что это вас скомпрометирует?
— Такая милость для меня бесценна… У меня сразу появится тысяча завистников и столько же врагов! Мою лошадь слуга поведет за нами в поводу.
— Сидя рядом со мной, вы будете мне называть всех приметных особ обоего пола, кого будем встречать.
— Чрезвычайно польщен! И раз вы поручаете вести хронику всех любующихся вами и завидующих мне, я постараюсь сделать это интересным.
— Чу́дно! Меньшего я от вас и не ожидала. А когда придет время возвращаться, вы проводите меня до дверей. Но только до дверей!
— Вы живете?
— На улице Элер. Мой управляющий узнал, что Регина Фейдартишо обеднела, и купил у нее для меня по дешевке дом вместе с мебелью. Всего за восемьсот или за девятьсот тысяч франков.
«Черт побери! Она широко живет!» — подумал граф, садясь рядом с прелестной женщиной, что более и более заинтриговывала и привлекала его.
Когда восьмирессорная карета тронулась, послышался звоночек. Велосипедист пронесся мимо экипажа. Как ни быстро он катил, он все-таки успел переглянуться с Жерменой понимающим взглядом, а потом скрылся в толчее с ловкостью опытного гонщика, лавируя между ними.
Однако один из всадников, старавшихся пробраться к группе, собравшейся возле барона Мальтаверна, юношу на велосипеде заметил и узнал.
«Бобино!.. Пусть черт меня удавит, если это не он! Ведь я всадил ему нож в спину и в газетах напечатали, что он умер, а я его вижу живым и здоровым! Я готов навсегда потерять свое имя Бамбош, если кто-нибудь объяснит, как это чудо случилось».
ГЛАВА 2
Де Мондье проводил негаданную спутницу до подъезда изящного особнячка, принадлежавшего некогда Регине, а теперь ставшего собственностью Жермены.
Она подала на прощанье руку как будто дружелюбно, но явно холодно, а граф испытывал страстное волнение.
Он уехал, не зная куда и не замечая ничего вокруг, преследуемый образом женщины, любимой и желанной сильнее прежнего; пообедал в модном кабаре, не разбирая, что ест, потом беспокойным шагом побрел по бульварам, выкуривая папиросу за папиросой, и, чтобы как-то убить время, отправился в клуб; сел за карты, играл как новичок, промотал большую сумму, чего раньше с ним никогда не случалось.
— Несчастлив в картах — счастлив в любви, — посмеиваясь, сказал очередную банальность Ги де Мальтаверн.
— Да, граф, вы не случайно продулись! — добавил Франкорвиль. — Но нельзя считать, будто вы слишком дорого заплатили за свидание с прекрасной незнакомкой. Надеюсь, вы меня представите ей при первой возможности?
— Вы мне надоели! — резко оборвал Мондье.
— Может быть, вы ревнуете?
— Вполне естественно, — заметил Жан де Бежен. — Графу наверняка не хочется вводить в окружение своей дамы нашу компанию «лакированных бычков».
Мондье ушел, не ответив ни слова.
Дома он лег и не мог сомкнуть глаз. Мысли о девушке его совершенно захватили.
Наутро он скупил все цветы в ближайшем магазине и отправил Жермене. В два часа он пришел к ее дому, но услышал только лакейское: «Мадам сегодня никого не принимает». Вечер он пребывал в нервном возбуждении, в клубе опять проигрался и снова не мог уснуть, мучимый все теми же терзаниями. Подобное повторилось и на следующий день.
Жермена не показывалась на прогулке в Булонском лесу, а в ее доме был один ответ: «Мадам никого не принимает».
Мондье впал в отчаяние, но пока еще в голову не приходили планы насилия, какие прежде он осуществлял с дерзостью. На какое-то время граф стал таким, как все.
Но иногда страстный деспотический характер все-таки проявлялся, тогда развратник думал: «Она смеется надо мной, что ли?.. Хочет поводить за нос… мстит за прошлое, сводя меня с ума?.. Если так… я снова пойду на преступление, чтобы овладеть ею!» Но тут же одергивал себя: «Нет! Не могу овладеть ею, как тогда… бесчувственное тело… Проклятья… Ненависть… А мне нужна любовь! Хочу, чтобы отдалась добровольно».
Четыре дня прошли в мучениях. На пятый он наконец услышал:
— Мадам просит господина графа, месье может пройти.
От радости Мондье сунул в руку слуги чуть ли не полную горсть луидоров. Лакей, не избалованный столь щедрыми чаевыми, весьма удивился и, конечно, обрадовался. Он преувеличенно любезно проводил щедрого посетителя в гостиную.
Минут через пять туда вышла Жермена, спокойно подала руку, волнующе и загадочно улыбаясь.
Граф открыто, даже подчеркнуто любовался покоряющей красотой хозяйки дома.
— Милая Жермена, почему вы лишили меня счастья видеть вас эти четыре дня?! — спрашивал он.
— Наверное, потому, что не испытывала слишком настойчивого желания встретиться с вами наедине, — ответила она с нескрываемой насмешкой.
— Однако сегодня вы приняли меня сразу и…
— Это упрек?.. Я поступаю как мне хочется. Или вам не нравятся мои маленькие прихоти?
— Жермена! Я просто не узнаю вас!
— Я изменилась… подурнела?..
— Нет, вы хороши… даже слишком! Но вы — не прежняя Жермена!..
— Вы хотите сказать: не прежняя маленькая дурочка. Вы сожалеете? Вам не нравится, что я привыкла к роскоши, красивым туалетам, удобствам? Не нравится, что я приобрела некоторые светские навыки и привычки?
Граф все более недоумевал.
Возможно ли? Скромная швея, настолько гордая и целомудренная, застенчивая и неопытная, что отвергала все его искания, вплоть до предложения законного брака, неожиданно и вдруг сделалась светской дамой, свободно чувствующей себя среди роскоши и разговаривающей с ним, графом, так озадачивающе самоуверенно.
Мондье решил, что, как многие девушки из народа, замученная тяжелой жизнью, Жермена пошла по дорожке порока. Страстное влечение графа нисколько не уменьшилось, он подумал, что теперь легче добиться своего, она сдастся, быть может, вполне добровольно, наконец удовлетворит его неуемную, почти юношескую страсть.
— Напротив, — сказал Мондье, отвечая на вопрос о ее преображении. — Я счастлив видеть вас такой, какова вы теперь. И люблю еще сильнее.
— Ну вот!.. Опять вы за свои глупости, — сказала хозяйка тоном парижского мальчишки, тем тоном, какому мог бы позавидовать Бобино. — Милый друг, вы постоянно играете только на одной струне, это скучно!
— Но если я вас люблю в самом деле и не могу думать ни о чем ином…
— Вы неисправимы! А если я вас не люблю?
— Я заставлю вас меня полюбить! Если вы мне простили то, что было… Ведь я вас любил и тогда!..
— Но что вам дает право думать, что я вас простила?
— Хотя бы то, что я сейчас здесь нахожусь… дружеский тон, каким вы разговариваете…
Посмотрев на него прямо, Жермена сказала:
— А может быть, я притворяюсь?.. Разыгрываю комедию?.. Смеюсь над вами… Дразню, чтобы еще сильнее разжечь вашу страсть, по-видимому упорную, раз она так долго длится?
— Не играйте вот в эту минуту, Жермена! — решительно сказал Мондье, меняя тон.
— Почему же?
— Потому что такая игра опасна, вы можете разбудить человека со звериными инстинктами, что укрывается под личиной светского господина.
— Интересно было бы на это посмотреть! — сказала Жермена с бравадой, что приводила графа в недоумение.
— Да, потому что совершивший однажды преступление ради любви, может его повторить.
Жермена расхохоталась и сказала:
— Это будет уж совсем забавно, видите ли, он поступит со мной, как с Лукрецией![109]
Граф окончательно пришел в замешательство. Он видел, что становится смешным, его попросту дразнят.
Чувствуя окончательный проигрыш, Мондье решил действовать иначе, зная по опыту, что дерзкое наступление часто ведет к победе.
Он бросился к Жермене, молниеносно схватил ее, норовя зажать рот поцелуем и повалить на диван.
Не крикнув, не позвав на помощь, даже не переставая улыбаться, Жермена сильным движением высвободилась из рук графа, отступила и, не смущаясь, приподняла платье, из нижней юбки достала изящный револьвер, драгоценную безделушку.
И, снова весело засмеявшись, прицелилась в насильника, пораженного ее силой и необыкновенным присутствием духа.
— Образумьтесь! — спокойно сказала Жермена. — Не то мне придется подпортить вашу красоту, досадно… такой обаятельный мужчина даже в не слишком юные годы. А эта вот на вид игрушка имеет пробивную силу и точность необыкновенные, притом стреляет беззвучно… Убедитесь. — И Жермена прицелилась в шишечку оконного шпингалета и выстрелила дважды с одинаковым успехом. — Теперь вы поняли? Убедились, что я могу остановить слишком предприимчивого влюбленного? У меня в револьвере остался только один заряд, и, не очень вам доверяя, приберегу его.
Граф улыбнулся, стараясь выглядеть спокойным, и сказал:
— Последняя пуля может не попасть в цель, и тогда…
— Тогда я воспользуюсь вот этим кинжальчиком, очень острым и смазанным смертельным индейским ядом… Вы, кажется, хорошо знаете, каково его действие, граф. Ведь вам известно столь многое! А вот я проведала об этой страшной штуке слишком поздно, в результате одного опыта… Ладно, теперь поболтаем, расскажите мне что-нибудь интересное. Ни слова о любви, если хотите, чтобы мы оставались друзьями.
— И так будет впредь всегда? Вы никогда не позволите надеяться?
— Кто знает?.. Будущее причудливо, а женщины — странные существа.
— Жермена! От вас ли я слышу?..
— Но согласитесь, милый граф, почувствуй я к вам сейчас так называемую любовь, это выглядело бы просто смешно. Считайте еще, что я добра, если позволяю вам надеяться.
Свободный, с очевидной примесью иронии тон совершенно сбивал ухажера с толку. Такая Жермена привлекала его еще сильнее, чем наивная девушка, которой он когда-то насильно овладел. Человек, привыкший к любовным победам, уверенный в себе, ловкий, предприимчивый и дерзкий, он не терял надежды на успех. Он не мог представить, что его может попросту разыграть женщина.
Быстро собравшись с мыслями, Мондье повел себя как принято у светских людей, кого очень занимают пустые разговоры и развлечения. Он спросил:
— Вы идете сегодня на премьеру в театр на Пор-Сен-Мартен?
— Да, я заказала кресло в ложе. Мой управляющий занял для меня еще одно место в ярусе напротив.
— Разрешите ли вы навестить вас там?
— Разумеется! И приводите ко мне своих знакомых, но таких, чтобы с ними было интересно.
— Я представлю вам маленькую компанию «лакированных бычков», они вас посмешат.
— Отлично! Кстати, если не сможете достать билет, я уступлю вам второе кресло возле себя.
— Благодарю вас, оно не понадобится.
— А если ваша дочь, мадемуазель Сюзанна, захочет посмотреть спектакль?
— Моя дочь?.. Вы ее знаете!
— А почему это вас удивляет?
— Она очень редко появляется в свете, предпочитает уединение, не любит театр…
— Но если бы все-таки она захотела пойти сегодня, вы запретили бы?
— Почему?
— Дорогой мой, вы ведете себя словно женщина — отвечаете вопросом на вопрос.
— Вы правы, — сказал граф, удивленный, как легко и свободно она ведет словесную дуэль.
— Ну и как?
— Я посмотрю… не хотелось бы ее ни принуждать… ни удерживать…
— Почему вы мнетесь, граф? Вам неприятно, что мадемуазель Сюзанна увидит вас в обществе дамы, которая может оказаться девицей определенного сорта… Не беспокойтесь об этом, возьмите мой билет и передайте дочери. Я непременно хочу ее видеть… Я требую, чтобы вы исполнили это желание.
— Но почему?
— Причуда… ведь если бы я захотела, я могла быть ее мачехой.
— Но кто пойдет с ней?
— Компаньонка, для того и существующая.
Граф, не имея больше сил противиться требованию, высказанному в столь категорической форме, и боясь вызвать неудовольствие Жермены, смирился.
— Пусть будет по вашей воле… Принимаю ваше место в ложе.
— И ваша дочь займет его?
— Если захочет.
— Вот и отлично! А теперь ступайте, мне нужно подготовиться к выходу в театр. До вечера!
Как только Мондье удалился, Жермена сняла телефонную трубку:
— Алло… мадемуазель, соедините меня, пожалуйста, с месье Вандолем, улица Данфер-Рошеро, двенадцать. Морис, это вы? Добрый день, мой друг!.. Спасибо, все хорошо… Приходите сегодня вечером ко мне в ложу, в каком бы окружении вы меня ни увидели. Ну да… непременно… так надо… надейтесь, Морис… Да… Сюзанна… ваша Сюзанна… Если вы заставите ее решиться… Не благодарите меня… я буду счастлива вашим счастьем. До свиданья, Морис!
Жермена, чье лицо приняло обычное выражение, пока она говорила по телефону с другом, вновь обрело маску насмешливости, когда вошла горничная. Пока девушка распускала роскошные волосы хозяйки, Жермена думала: «Они будут счастливы благодаря мне. Я могла бы выместить свою обиду на невинной. Однако при чем здесь эта славная девушка… Зато настоящим подлецам мы отомстим жестоко!»
ГЛАВА 3
Театр был полон. Все знали, что пьеса «Женская война»[110] — сущая ерунда, но на премьере ожидали увидеть множество галантно одетых, вернее раздетых, дам из полусвета, о них уже две недели печатались в модных журналах красочные статейки; и мужчины в белых пластронах, сидя в партере, принимали горделивую осанку и смеялись в ожидании сногсшибательного аттракциона.
Завсегдатаи подобных парижских зрелищ один за другим входили в партер, тревожа одних, заставляя вставать других, пробирались к своим местам, обмениваясь по пути рукопожатиями и затевая на ходу громкие разговоры, не обращая внимания на замечания: «Тихо», «Сядьте» — тех, кто пришел, чтобы смотреть спектакль, а не дам полусвета.
Смело декольтированная, сверкающая драгоценностями, с шумом появилась Андреа в необыкновенном туалете. Рядом важно выступал, гордо держа лысую голову с кошачьими усами, барон де Мальтаверн, как всегда с видом несколько помятым, но все-таки представительным и надменным.
Дезире Мутон, болван-миллионер, бурно ухаживавший за Андреа и старавшийся подражать своему другу Мальтаверну, выглядел весьма карикатурно.
В восторге от успеха Андреа, малый гордился так, словно она была его любовницей. Казалось, он говорил: «Вот мы каковы! Все прочие дамочки с ней и отдаленно сравниться не могут!»
Внимание рассеянной публики на короткое время привлекла молоденькая актриса. Она мяукала кисленьким голоском:
Да, я посланец, я посланец Божка Купидона…[111]Это звучало идиотски, и шикарная публика партера издевательски аплодировала. Вдруг все смолкло.
Жермена в строгом бархатном платье гранатового цвета вошла в ложу одна и, ничуть не позируя, не кокетничая, села у балюстрады[112].
Роскошную Андреа и молоденькую певичку тотчас забыли, полтысячи лорнетов разом обратились в сторону прекрасного создания, никому, кроме Мондье, не известного.
Дама держала себя так же спокойно, как пять дней назад в Булонском лесу, и смотрела на сцену без жадного интереса, но и без напускного равнодушия. Все в ней было просто и благородно. Казалось, она совсем не помнила о своей ослепительной красоте.
Мужчины в партере перешептывались, расспрашивая друг друга о незнакомке, и вызывали этим раздражение у публики галерки. Репортеры пришли в недоумение при виде неизвестной красавицы, смотрели разинув рот и старались уловить какие-нибудь сведения о ней для своих репортажей.
Кроме Мондье, приберегавшего успех для себя, только месье де Шамбое, Роксиков — секретарь русского посольства и Морис Вандоль одни могли бы ответить на вопросы о Жермене.
Но Бамбош имел вполне серьезные причины помалкивать, Серж находился в России, а Морис с волнением смотрел на левую литерную[113] ложу второго яруса — та оставалась пустой.
Андреа, совершенно неспособная завидовать, очень добрая, хотя и вульгарная, откровенно восхищалась новоприбывшей:
— Право… даже неправдоподобно быть такой красавицей! Погляди, Ги!.. И ты погляди, Бычья Муха!.. Она всех нас забьет без труда, если ей понадобится много денег…
— Восхитительна!.. — сказал Ги, у него глаз заблестел за стеклышком лорнета.
— Красива, конечно… но ей, по-моему, недостает драгоценностей, — изрек Мутон, желая польстить Андреа.
— Ты по провинциальному идиотизму ничего не понимаешь, тебе подавай дамочек вашего захолустья, увешанных прабабушкиными побрякушками… Именно простота ее наряда вызывает восторг у нас… у потаскушек! На ней ни серег, ни колье, ни браслетов, она открывает кожу ровно настолько, чтобы все видели, как она бела и розова. На ней нет драгоценных украшений, но за один только бриллиант на ручке ее веера я отдала бы все, что на мне сейчас понавешено! И при всем том сколько в ней грации и величавости! Честно говорю! Глядя на нее, мне даже стыдно называться женщиной!
В этот момент занавес опустился, и восторженные слова Андреа потонули в шуме рукоплесканий актерам.
Но в антракте все опять сосредоточили внимание на Жермене. Репортеры сновали по коридорам и фойе, расспрашивали билетерш и норовили проникнуть в литерную ложу, однако та оставалась для них недоступной; Жермена ее не покинула.
Многие видели, как таинственная красавица подала руку вошедшему к ней мужчине, он почтительно поклонился.
— Мондье!.. Мондье!.. Не может быть!.. Точно… Это он!
Бежен и Франкорвиль не могли поверить своим глазам и шумно восклицали. Завсегдатаи салонов, театров, прогулочных мест жаждали поскорее расспросить счастливого избранника, когда он вернется на свое место.
Но тот пробыл у незнакомки не больше двух минут, его сменил молодой красивый человек, графу неведомый.
Мондье посмотрел на визитера долгим испытующим взглядом с выражением откровенной инстинктивной ненависти.
Встретившая графа с холодной вежливостью, Жермена очень приветливо улыбнулась вошедшему, что казался весьма грустным.
— Вы по-прежнему печальны, Морис? — спросила она ласково.
— Да, Жермена, все так же. Я не видел ее долгих четыре месяца. Только иногда удавалось стороной узнать что-нибудь…
— Вы совсем скоро увидитесь. Знаете ли вы, кого сейчас встретили в моей ложе?
— Нет, Жермена.
— Это ее отец… граф де Мондье!
— Так вы с ним знакомы?!
— Да, — кратко сказала Жермена.
— Он на меня так глянул…
— Смотрите, Морис… — прервала друга Жермена, — говорила я вам, что не надо терять надежду.
— Бог мой!.. Сюзанна!.. — воскликнул художник и просиял, увидав, что в ложе напротив появилась его любимая. — Спасибо, Жермена! Спасибо… Как вы добры! Позвольте мне поспешить туда.
— Подождите начала действия, не то граф заметит вас со своей дочерью и непременно помешает свиданию. Я задержу Мондье здесь, и в вашем распоряжении окажется по меньшей мере три четверти часа, целый акт этой дрянной пьески.
Едва поднялся занавес и неловкие, перепуганные дебютантки продолжили дурацкое представление, Морис вошел в ложу, к Сюзанне. Компаньонка, мадам Шарме, скромно пересела вглубь, и молодые люди, не обращая никакого внимания на сцену, почувствовали себя в полном уединении.
А граф, расточая свое прославленное остроумие, тоже не следил за спектаклем и старался занять Жермену рассказами о своих знакомых, сидящих в зале. Но вдруг его пыл пропал, и Жермена заметила, что Мондье нервничает, покусывает усы и старается скрыть беспокойство.
В противоположной ложе он увидел Мориса, скрытого в полумраке, позади Сюзанны. Даже отсюда на мужественном красивом лице молодого человека различалась несказанная радость. И можно было не сомневаться, что Сюзанна отвечала ему таким же взглядом.
Сперва граф почувствовал даже облегчение, поняв, что незнакомец был поклонником отнюдь не Жермены. Потом сообразил: это как раз тот, о ком говорила Сюзанна, — художник, пачкун холстов, что осмеливался претендовать на руку дочери. И понял: свидание это устроено Жерменой.
Все свидетельствовало о сговоре.
Поняв, что его обманули, граф немедленно решил жестоко отомстить.
По причинам, о каких никто не подозревал, он хотел, чтобы Сюзанна или вообще осталась бы незамужней, или вышла за того, кого он выберет сам.
Такое желание было настолько связано с его темной судьбой, что являлось для него решающим, ибо обеспечивало его собственную безопасность. Вот почему он пришел в ярость, догадавшись, как его провели, — к подобному он не привык.
«Совершенно не могу понять, зачем Жермене понадобилось устроить этому типчику свидание с Сюзанной», — твердил он себе, вслух же продолжая пустой светский разговор.
Женским инстинктом уловив, какая буря бушует в голове негодяя, видя злые взгляды, что он бросает на влюбленных, Жермена пошла ва-банк.
Поймав на лету один из этих взоров, она сказала:
— Да, это я устроила свидание двоим, так искренне и свято любящим друг друга. Я сделала это не из прихоти. Это — мой друг, талантливый и известный художник, благородное сердце… Я ему обязана бесконечно. Он составит счастье любой девушке, но для него существует лишь одна на всей земле. Граф де Мондье, я имею право просить вас…
— К чему вы клоните, Жермена?
— К тому, чтобы вы благословили их союз. Я прошу об этом без обиняков и без громких фраз, ибо считаю, что у вас нет причин отказывать.
— Откуда вы знаете?
— Не будем выискивать поводы с моей стороны. Вы знаете, что я не умею лгать и никогда не решусь на сомнительный поступок. Дайте же согласие на мою просьбу.
— Но почему все-таки вам этого хочется?
— Очень просто. Чтобы отплатить добром за добро и сделать Мориса Вандоля и Сюзанну счастливыми.
Мондье долго смотрел на Жермену, как будто размышляя. Потом сказал, отчетливо произнося каждое слово:
— Если я соглашусь, будете ли вы по-прежнему противиться любви, которой я одержим? Прямо спрашиваю: будете ли вы моей?
— Вы намерены, назовем вещи своими именами, продать вашего ребенка?.. Сделать его предметом позорного торга?
— Я люблю вас!
— Изнасиловать меня и морально?
— Я люблю вас!
— Запятнать подлым поступком невинное существо, в ком течет ваша кровь?
— Потому что я люблю вас!.. Разве это не причина? — отвечал негодяй, и слова его звучали пугающе.
— Я хочу, чтобы вы прислушались ко мне, не ставя условий. Вы обязаны для меня это сделать, — проговорила Жермена с улыбкой, скрывая за ней ненависть и отвращение. Граф неправильно понял эту улыбку, сочтя ее поощрительной, прощающей, чуть ли не призывной.
— Но если я дам согласие… и я недалек от него… станете ли вы хотя бы с некоторой благосклонностью выслушивать меня?
— Я не даю никаких обещаний. Посмотрим… Прекратите этот постыдный торг, или вы меня никогда, слышите, никогда больше не увидите.
— Пусть будет по-вашему!.. Я согласен.
— Именно, вы согласны на то, что Сюзанна Мондье будет женой Мориса Вандоля?
— Да!
— Я не требую от вас клятв, в ваших устах они ничего не значат. Я просто сейчас возьму и сообщу моему другу и вашей дочери радостную новость. И попробуйте отвертеться!
— Вы, конечно, вполне можете это сделать, Жермена. Хотя я и обладаю множеством пороков, но слова своего я никогда не нарушал. Действие кончается, и позвольте проститься. Сейчас сюда придет мой будущий зять, и, должен признаться откровенно, боюсь, что не смогу скрыть неудовольствия. Вы, конечно, понимаете.
Эти слова, произнесенные серьезным и слегка игривым, в общем естественным, тоном, обманули Жермену. Она в душевной простоте и помыслить не могла, какой страшный замысел созрел в душе бандита.
А Морис Вандоль и в самом деле намеревался идти к Жермене.
Очень застенчивая, Сюзанна сидела в глубине ложи и никого и ничего не видела, кроме Мориса. Не заметила она и Жермену, а если бы и заметила — вряд ли узнала, настолько была погружена в собственные переживания, да и недавняя швея не имела внешне ничего общего с нынешней светской львицей.
Занавес упал, и Мондье окружили приятели и репортеры, наперебой расспрашивая о прекрасной незнакомке, но граф упорно отмалчивался, в лучшем случае ограничиваясь какими-то общими словами или переводя разговор на другое.
Франкорвиль и Бежен приставали с просьбой представить их. Чтобы поскорее отвязаться, Мондье сказал:
— После третьего акта, вас устраивает?
Ги де Мальтаверн, оставя Андреа на попечение Дезире Мутона, направился в буфет.
Мондье остановил его.
— Нужна вам тысяча луидоров? — сказал он без предисловия.
— Всегда нужна! — не задумываясь, ответил старый мот.
— Я так и знал, могу вам дать за услугу.
— Говорите, граф, деньги очень дешевеют, и я на мели. Что я должен для вас сделать?
— Случайно не известен ли вам некто Морис Вандоль?
— Еще бы! Он был секундантом князя Березова, когда я…
— Когда вы промахнулись.
— И он сейчас был в ложе одной прекрасной молодой особы, из которой я бы с удовольствием сделал свою…
— Эта особа — моя дочь.
— Тогда считайте, что я ничего не говорил…
— Вы устроите так, чтобы сегодня вызвать Вандоля на дуэль и послезавтра его убить. Сразу, наверняка, наповал… Поняли?
— Постараюсь. Но ведь вы знаете, граф, в исходе поединка никогда нельзя быть вполне уверенным.
— Вы будете драться, где я вам укажу, и там будут люди, что доведут дело до конца, если не удастся вам.
— Так это попросту убийство.
— Почему бы и не так?
— Но ведь будут секунданты… врачи… могут разгласить… это опасно…
— Я все беру на себя. Этот так называемый художник осужден мною. Он должен умереть, и быть посему! Главное в том, чтобы привести его именно туда… где… где должно совершиться…
— Честное слово, дорогой граф, вы так умно и ловко все устраиваете, что с вами одно удовольствие работать! Считайте, что мазила уже покойник.
— Отлично! За деньгами придете в кассу дядюшки, сейчас же после окончания дуэли. А теперь оставляю вас, чтобы уладили с вызовом.
Граф де Мондье направился к своему креслу, зло улыбаясь, на ходу он бросил «лакированным бычкам»:
— Сейчас представлю вас прекрасной незнакомке.
Морис по знаку Жермены спешил в ее ложу узнать о решении своей судьбы.
В фойе толпились бездельники, обсуждая не столько пьесу, сколько незнакомку. Художник вежливо, но ловко пробирался сквозь толпу.
Ги, все время следивший за Вандолем, пошел почти вплотную впереди него и так резко повернулся, что, столкнувшись, чуть не сшиб с ног молодого человека.
— Грубиян! — вырвалось у Мориса.
Де Мальтаверн, рассчитывавший именно на такую реакцию, кончиками пальцев коснулся щеки Мориса, насмешливо сказав при этом:
— Молодому человеку нужен урок вежливости и хорошего поведения, я его преподам.
Обычно такого ничтожного унижающего жеста бывает вполне достаточно для провоцирования дуэли между светскими людьми.
Но художник не относился к таковым и в ответ на условную пощечину ответил вполне реальным ударом кулака. Орлиный нос джентльмена покраснел, посинел и на пластрон закапала кровь.
Все произошло молниеносно. Ги заорал от злости и хотел уже броситься на Мориса, но их разняли и помешали драке, где Мальтаверн вряд ли оказался бы победителем. Понимая это, дуэлист, естественно, обрадовался, что стычку прервали, и сказал с кривой улыбкой:
— Встретимся в другом месте, и будь я не я, если вы не оставите там свои кости.
— К вашим услугам, — ответил Морис, — и уверяю, вам будет нелегко прихлопнуть меня как цыпленка.
После обмена визитными карточками каждый пошел своей дорогой: Морис в ложу Жермены, а Ги, обмыв нос, к Андреа, та спросила, смеясь:
— Стукнули?..
— Пустяки… не обращай внимания.
— Небось здорово, если выпустили наружу кровь твоих благородных предков. Боже, как ты хорош с расквашенной мордой!
— Тот, кто меня задел, дорого заплатит, — сказал барон мрачно.
Андреа продолжала, смеясь:
— Знаешь, «пошел кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить». Берегись! Бычья Муха! Видал героя? Можешь получить наследство, если с ним случится несчастье — готовь свой денежный сундук, а после я помогу тебе быстро его опустошить.
— Болтай, болтай, дочь моя… только не рассчитывай… Ты ведь знаешь… у меня рука твердая, скольких я уложил, ни один не встал.
В это время Морис чувствовал себя счастливейшим человеком, он узнал от Жермены, что отец Сюзанны наконец решил не противиться их союзу.
Эта новость свалилась совершенно неожиданно. Художник, бесконечно благодарный Жермене, заспешил принести Сюзанне радостную весть. И, подумав о предстоящей дуэли, сказал себе: «Уверен, что победа будет моя, ведь я хочу жить ради Сюзанны, ради нашей любви!»
ГЛАВА 4
Граф де Мондье представил Жермене маленькую компанию «лакированных бычков», в нее входили: виконт де Франкорвиль, маркиз де Бежен, Дезире Мутон и барон де Мальтаверн.
«Бычки» были вовсе не дураки, даже Дезире Мутон был забавен со своими глупостями, когда товарищи умело превращали их в остроумную шутку, поворачивая так, будто он изрекал чепуху нарочно, ради смеха.
Среди них затесался маленький репортер Лера́[114], пронырливый и хитрый как зверек, чье имя носил. Глазки-буравчики высматривали, остренький носик вынюхивал всяческие новости.
Материал репортера должен был завтра произвести большое впечатление на читателей газеты, и Жан Лера торжествовал, первым получив доступ к информации.
Он не задумывался, как бы выразительней рассказать о женщине явно незаурядной, а просто, не утруждая себя мыслью и выбором слов, возносил Жермену на пьедестал недосягаемой высоты и как богине курил ей фимиам[115], пользуясь давно отработанными выражениями.
В трескучих высокопарных фразах он излагал, какой интерес проявил весь парижский большой свет к прекрасной незнакомке, появившейся в литерной ложе на премьере спектакля «Женская война», и как только единственному репортеру из газеты «Эко де Бульвар» удалось узнать, кто она, и даже проникнуть в дом.
Далее шло восторженное описание незнакомки, ее необычайной красоты и разнообразных способностей и талантов, включая владение гипнозом.
Расточались похвалы утонченному вкусу в убранстве дома, изысканности кухни, сервировке стола, поведению прислуги и прочему.
Лера́ упомянул, что многие крупные финансисты, политические деятели и художники, актеры, литераторы жаждали ее приглашения в очаровательный особняк, но только небольшая группа избранных удостоилась этой чести, и в их числе, разумеется, репортер «Эко де Бульвар».
Далее он цитировал разговоры, какие прекрасная дама, носящая нежно звучащее имя Жермена, вела с группой счастливцев (то была обычная, шаблонно остроумная болтовня завсегдатаев парижских Больших Бульваров, интересная только людям, принадлежащим к их кругу), и подчеркивал, что Жермена блистала находчивостью и разнообразием познаний.
Действительно, выпадая из общего тона пустоболтовства и пошлых сплетен, Жермена отличилась в беседе, поразив этим Мондье, ему открывалась совершенно новая женщина, о чьем перевоплощении граф не мог даже пофантазировать в свое время.
То, что Жермена внешне столь быстро превратилась в светскую даму, не особенно удивляло. Парижане, особенно парижанки, обладают невероятной способностью приспосабливаться к среде, изумляя этим иностранцев и провинциалов.
Гораздо большее впечатление на Мондье произвело то, что всего за каких-то пять месяцев бывшая девчонка-швея приобрела такой блеск в речах, причем ее фразы не отдавали заученностью, в них чувствовался оригинальный светлый ум, а также доподлинное знание всех новостей, известных только немногим.
Граф непрестанно спрашивал себя: «Откуда ей это известно? Как она могла усвоить то, сведения о чем накапливаются только в результате долгой жизни в свете? Совершенно непонятно».
В продолжение последнего акта спектакля он оставался около Жермены, больше чем когда-либо очарованный поистине исключительной женщиной.
Он даже почти забыл о том, что Морис находится рядом с Сюзанной, и оба упиваются свиданием. И, изредка бросая на художника злые взгляды, граф тут же успокаивался, вспоминая, что незадачливому жениху недолго осталось наслаждаться счастьем, ибо он приговорен и непременно умрет на дуэли с Ги де Мальтаверном.
Когда художник отправится ко Всевышнему, Сюзанна переживет большое горе, но со временем забудет свою любовь и утешится.
Поэтому Мондье дал молодым людям возможность насладиться уединением и помечтать о близком соединении навек.
Он переводил глаза на Жермену, та, казалось, простила прошлое, говорила удивительно откровенно и позволяла надеяться, что через какое-то время настанет их полная, интимная близость.
До крайности заинтригованный невероятным превращением швеи, совершенно очарованный несравненной, таинственной женщиной, граф пребывал в глубоком волнении и уже ревновал к ней «лакированных бычков», что наперебой бурно ухаживали за красавицей.
После спектакля Жермена пригласила к себе всю компанию на ужин в своем особняке.
Обращаясь к Ги де Мальтаверну, она сказала:
— Я видела вас с дамой, которую вы, кажется, немного забросили.
— Да, это Андреа, моя старая подруга… Мы с ней уже давно живем семейно, не беспокойтесь о ней… Мой товарищ Мутон составит ей компанию, — ответил Ги развязно.
— Вы приедете вместе с ней, не то мне придется быть единственной женщиной среди вас, а подобная исключительность неудобна.
— Мадам, Андреа, конечно, добра, непосредственна, честна, однако совершенно проста и невоспитанна.
— Не имеет значения, я хочу с ней познакомиться, и вы меня очень огорчите, если не передадите приглашения.
— Исполню все по вашему желанию, мадам, но поверьте, она будет вести себя по-свински.
— Передадите также приглашение вашему другу месье Мутону.
На лице графа отчетливо выражалось неудовольствие. Он не мог понять, почему Жермене пришла в голову столь странная фантазия, и спрашивал себя: уж не принимает ли она Андреа за настоящую даму… Нет, это невозможно… Жермена слишком умна…
Когда компания дружно объявилась, хозяйка встретила гостей в домашнем туалете, сделанном с тонким вкусом, и все единодушно выразили восхищение тем, как она преобразила убранство дома, прежде принадлежавшего Регине: все вещи в дешевом вкусе богатого фабриканта исчезли, их заменили подлинно стильными, сделанными истинными мастерами.
Лера́ заранее предвкушал успех будущего репортажа, где опишет совершенно исключительный парижский интерьер, тем более интересный, если учесть, что особняк принадлежал женщине, живущей в одиночестве.
«Лакированные бычки», заинтригованные не меньше, чем граф Мондье, не знали, что им думать о Жермене, к какому слою общества ее отнести. С очаровательной свободой поведения кокетки высокого полета она соединяла нечто такое, что заставляло даже самых смелых поклонников вести себя сдержанно и уважительно.
Андреа совершенно растерялась. Впервые самоуверенность изменила ей и, несмотря на то, что Жермена отнеслась к Рыжей очень внимательно и по-дружески, дама полусвета не знала, как себя держать.
Но хозяйка быстро, умело и деликатно сумела завоевать ее сердце и освободить от скованности.
Воспользовавшись моментом, когда гости любовались ее портретом, писанным Морисом Вандолем, Жермена подошла к Андреа и сказала:
— Благодарю за то, что вы пришли. И если я не могу сейчас отдать вам свой долг, я в состоянии, по крайней мере, высказать сердечную благодарность.
— Мадам, я не понимаю, — сказала Андреа, совершенно смутившись. — Я не имею чести быть с вами знакомой и не могла вам оказать никакой услуги.
— Оказали, и такую большую, что даже не можете себе представить! — сказала Жермена, ласково улыбнувшись. — Помните ли вы молоденьких девушек Берту и Марию, их держали взаперти… там… в ужасном подземелье?
— У Лишамора… в Вале́… недалеко от Эрбле… Милые девочки… что с ними теперь?.. Вы их знаете?
— Это мои сестры.
— Как?.. Не может быть!..
— Да, именно так, и вам легко понять, сколь я благодарна за то, что вы, рискуя жизнью, их спасли.
— Но ведь это было совершенно естественно, я не могла сделать по-иному!
— У вас золотое сердце, и поэтому вы считаете пустяком доброе дело, но от этого оно не менее заслуживает благодарности.
— Они были такими несчастными, такими трогательными, такими милыми, эти крошки! А потом… Ведь очень приятно помогать людям!..
— Кто знает?.. Может быть, мне еще раз придется просить вас о содействии, чтобы исправить одну жестокую несправедливость…
— Мадам, вы сестра моих милых крошек и можете всегда рассчитывать на мою преданность вам!..
— Принимаю ваше предложение с благодарностью от всей души! Но молчите!.. Нигде, пожалуйста, ни слова!.. Пусть никто не знает, что мы союзницы.
Их разговор прервала традиционная фраза метрдотеля[116]:
— Мадам, кушать подано!
ГЛАВА 5
Вступление Жермены в свет понаделало шуму. Вся пустая светская пресса уделила ей большое внимание.
Если бы кому-нибудь пришла охота прочесть все, что о ней писали, он был бы поражен глупостью некоторых своих соотечественников. Но загадочность личности Жермены возросла бы во много раз, если бы кто-либо мог проследить за действиями красавицы спустя сутки после приема в особняке.
Было шесть утра, оставались считанные часы до дуэли Мориса Вандоля с бароном Мальтаверном, устроенной Мондье ради убийства художника.
Жермена, конечно, не знала об этом. Она вышла из дому одна. Встретив на углу экипаж, села в него.
Даже близко знакомый мог усомниться, была ли вправду Жерменой эта странно одетая некрасивая женщина, похожая на проповедницу Армии спасения[117].
Старомодная шляпа с широкими полями и помятым пером имела жалкий и одновременно претенциозный вид; непромокаемое прямого покроя потертое и линялое пальто — типичная вещь, купленная за пятьдесят су в лавке старьевщика, потертая кожаная сумка с ручками, перевязанными тесемкой; стоптанные ботинки.
Лицо, измененное до неузнаваемости. Прекрасные глаза прикрывались большими темными очками с металлическими дужками; волосы, уложенные так, чтобы не было видно, как они длинны и красивы. Старая вуалетка, похожая на накомарник или на сетку для ловли бабочек.
В таком продуманном и искусно сделанном жалком облике Жермена вскоре выехала за пределы Парижа.
На облучке сидели двое, тихо переговариваясь. Занимая в экипаже место лакеев, они не носили ливрей, по которым можно было бы определить, в чьем доме служат. Видимо, парочка заранее получила указание, куда ехать, так как, садясь, Жермена не вымолвила ни слова.
Вскоре ландо с поднятым верхом свернуло на ту дорогу, по какой перепуганную и связанную девушку некогда увозил граф де Мондье.
Как много времени прошло с той проклятой ночи! Сколько несчастий и страданий за ней последовало!
Жермена вспоминала, и ее лицо, скрытое безобразным убором, принимало порой трагическое выражение.
Проделав долгий путь по равнине, подкатили наконец к домику рыбака Могена, куда Мишель и Морис в свое время внесли спасенную ими бесчувственную Жермену.
Хорошие люди, хозяева почтительно и приветливо поклонились, она ответила и смело пошла берегом реки к кабачку Лишамора.
Кучер отвел лошадь в сарай, покрыл попоной и шагнул в дом вслед за хозяином.
Через пять минут он показался с удочками и рыболовными припасами и отправился вместе с приехавшим на облучке товарищем вслед за Жерменой. Они выглядели заправскими рыбаками, что решили заглянуть в кабачок — пропустить стаканчик перед ловлей.
Жермена, опередив их на минуту, уже разговаривала с Лишамором.
— Да, месье, мне надо видеть мамашу Башю.
— Но, моя киска, скажите, зачем она вам нужна.
— Это секрет, что не касается мужчины.
Кабатчик игриво усмехнулся и понимающе ответил:
— Хорошо… хорошо… грешок молодости, и понадобилась помощь мамаши Башю.
Жермена наклонила голову, будто подтверждая догадку, и проговорила:
— Месье, пожалуйста, передайте, что мне сейчас, не медля, надо с ней увидеться.
— Миленькая, не обижайтесь, но по вашему виду можно понять, что вы не богаты, а мамаша Башю любит денежки.
— Я заплачу сколько будет надо.
— А пока вы не дадите ли мне за услуги маленькую фафио[118].
— Фафио?.. Я не понимаю…
— Ну пятисотфранковую купюру, если так вам больше нравится.
— Хорошо.
— Так давайте же! У нас платят вперед.
— Держите! — ответила Жермена, доставая из сумочки синенькую.
— Прекрасно, мой падший ангел! А после операции вы сможете дать столько же? Таков тариф мамаши Башю… маленький приработок.
— Согласна и на это.
— Вы золотко! И если вы так хорошо соображаете, хозяйка немедленно придет… Эй! Мамаша Башю, жена, зайчик мой, мой бурдючок, мой жирный пончик, скорей! Иди сюда.
Несколько выпивох засмеялись, они знали репутацию Башю.
Двое, приехавшие с Жерменой, не спеша попивали винцо, внимательно слушали разговор.
Послышался катаральный[119] кашель «мамаши», затем явилась она сама, заплывшая жиром, бледная, с гноящимися глазами и красным носом.
Лишамор шепнул ей на ходу:
— Девка беременная.
— А деньги у нее есть?
— Есть, она уже заплатила пятьсот франков и обещала еще двадцать пять луидоров.
— Тогда, муженек, поведу ее во дворец.
Опытным глазом старой сводни мамаша Башю сразу заметила, что женщина скрывала под нелепым нарядом прекрасную фигуру; потом оценивающе посмотрела на ноги, кисти рук, затылок, рот, щеки и подумала: «Лакомый кусочек какого-нибудь богача… с удовольствием поработаю над ней, чтобы восстановить красотке девственность…»
И старуха проговорила жирным голосом:
— Пойдем со мной, красавица. Муженек сказал, что вам надо со мной поговорить о деле.
— Да, мадам, притом очень важном.
Они миновали двор, по нему Жермена однажды бежала, преследуемая собаками, и остановились у двери.
Мамаша Башю отыскала в большой связке ключ, сказала:
— Я буду показывать дорогу.
Вскоре они оказались в той комнате, где тогда находился на страже Бамбош. Старуха подвинула кресло.
— Устраивайся, потолкуем.
Сама плюхнулась на другое сиденье в ожидании секретного разговора.
При первых же словах ее жирное тело затряслось, как кусок студня.
— Вы не теперь только начали заниматься подпольными абортами[120], а давно были за это судимы и осуждены; в ту пору вы назывались Бабеттой, не так ли? В первый раз вас присудили к двум годам тюрьмы… и во второй — к пяти… освободили по могущественному ходатайству знатной дамы, потом снова посадили. Все верно?
— Да кто вы такая? — злобно и трусливо спросила старуха. — Я думала, вы пришли, чтобы избавиться от последствий греха…
— Довольно! — прервала ее Жермена сухо. — У меня имелась единственная возможность поговорить с вами наедине, и я ею воспользовалась. А теперь только отвечайте на вопросы.
— Если, конечно, захочу, моя красавица, — ответила мамаша Башю, подумав, что ей легко будет справиться с молоденькой женщиной, да еще такой хрупкой на вид. — Я тяжелая, и у меня обе руки целы, моя милочка!
Жермена засмеялась, и сжав тонкой кистью жирную лапу старухи, сдавила ее как тисками.
— О-ля-ля… О-ля-ля… Отпустите!.. У вас пальцы как из железа… сильнее, чем у мужчины… Вы мне раздавите руку! Отпустите!.. Я скажу все, о чем спросите!
— Я так и думала, — холодно ответила Жермена, — я только хотела показать, что вы не справитесь со мной, если вздумаете бороться. Кроме того, хочу сообщить, что хорошо вас знаю, даже лучше, чем вы предполагаете. Другие ваши преступления меня не касаются, пусть они останутся на вашей совести, если вообще таковая у вас имеется. Предоставим разбираться правосудию, у него вы под наблюдением, и вас опять посадят в тюрьму, если я того захочу.
— Я позову на помощь, я закричу, здесь недалеко люди, с вами запросто справятся, вы полетите в воду с гирей в двадцать кило на лапке! Нечего меня шантажировать!
— Можете кричать и грозить сколько угодно. Я здесь не одна, за кабаком наблюдают мои люди. И если со мной что-нибудь случится, вас немедленно отправят куда следует. Так что прекратите болтать и отвечайте.
— Чего вы, наконец, от меня хотите?
— Знать, что вы сделали с Маркизеттой.
— Ох, Господи! — прохрипела старуха.
— И с ее двумя детьми.
— Ах, Боже мой, Боже мой, — хрипела старая негодяйка и думала: «Кто мог ей рассказать? Ведь никому ничего не известно. И если я признаюсь, тот… убьет меня».
— Я не знаю никакой Маркизетты… Нет, не так… Я не могу сказать… На старости лет мужа на каторгу, а меня навек в тюрьму…
— Если признаетесь, я хорошо заплачу, а отмолчитесь — сегодня же окажетесь за решеткой!
— Боже… Боже… — вдруг старуха перестала хныкать и прислушалась. Потом сказала: — Сюда идут…
— Молчи! Тихо, — сказала Жермена повелительно.
Действительно около двери послышались голоса и топот ног.
Мамаша Башю сидела притихшая, как животное, почуявшее гнев хозяина. Жермена подошла к зарешеченному окошку с дощатой задвижкой, приложила ухо и прислушалась. Некоторые слова доносились отчетливо. Говоривших было не меньше трех. Один сказал:
— То, что вы предлагаете, сделать очень трудно, чтобы не сказать — невозможно… Будут секунданты, доктор…
Другой ответил:
— Дорогой Ги, когда я берусь за дело, то предусматриваю решительно все. Если захотите мне повиноваться, человек умрет без всякой опасности для вас.
Жермена поняла, что в проклятом месте замышляется убийство и о нем не стесняясь договариваются. Она сказала мамаше Башю:
— Пять тысяч франков за полное молчание, или каторга мужу, а вам — пожизненная тюрьма, если сболтнете хоть слово!
— Буду нема как рыба, — ответила напуганная преступница.
Жермена потихоньку открыла заслонку форточки. Около двери действительно стояли трое.
Один из них был неизвестен девушке, но когда она разглядела других, то чуть не вскрикнула. То были Ги де Мальтаверн, которого накануне ей представил в театре Мондье, и виконт де Шамбое, подозрительный тип, не внушавший ей доверия после путешествия в Италию.
Ги де Мальтавер заговорил опять:
— Наконец, дядюшка, объясните, что вы задумали.
— Все очень просто уладится, дорогой Ги.
В голосе, без сомнения измененном, Жермена уловила знакомые интонации Мондье, и это ввергло ее в еще больший ужас. Тот, кого Мальтаверн назвал дядюшкой, по виду совершенно не походил на графа, но голос, голос…
Она вслушивалась, стараясь не пропустить ничего, явно замышлялось что-то подлое и страшное.
Дядюшка продолжал:
— Ваш противник, Ги, через пять минут будет здесь, один. Чтобы не беспокоить мать, он поехал поездом, взяв этюдник, так, будто намерен писать этюд. Секундант и доктор должны прибыть в ландо к двери кабака, но кучер у них — мой человек, и он опрокинет экипаж в версте отсюда. Пока они доберутся пешком, дело будет уже сделано.
— Это, конечно, ловко придумано, но тем не менее дуэль-то состоится.
— Для вас никакой опасности она не представит. Я беру на себя подменить пистолет. Я выбрал именно его, потому что на шпагах художник прекрасно умеет драться. Да со шпагой и не смухлюешь.
Жермена нестерпимо волновалась, продолжая слушать. Она сообразила, что Ги де Мальтаверн, сразу ей очень не понравившийся, был тот, кто ранил Мишеля.
Дядюшка продолжал:
— Пистолеты стану заряжать я. В одном будут и пуля и порох, в другом только порох. Я умею очень ловко убирать пулю в последний момент. Вам я, естественно, подам заряженный, а противнику — холостой, и вы сможете с полной гарантией вышибить мозги тому, кто мне очень мешает. Вот и все.
— Отлично, дядюшка! Вы действительно умнейший и опытный человек.
— Тихо! Сюда идут. Это он.
Молодой человек, скромно одетый в черное, подходил в сопровождении Лишамора, красного от спозаранок выпитого вина.
Приезжий поклонился и казался удивленным, увидав лишь троих, тогда как полагалось быть по меньшей мере шестерым.
Жермена едва не упала в обморок, узнав Мориса Вандоля. Друг, который ее спас… Жених Сюзанны!.. Морис, кому Мондье, в обличье весьма подозрительном, готовил убийство! Этому преступлению не бывать! Она не допустит, даже если придется броситься между ними, чтобы спасти друга.
Лишамор скромно удалился. Дядюшка, видя явное замешательство Вандоля, с любезной улыбкой сказал:
— Поскольку ваши секунданты еще не прибыли, чем поставили нас в неловкое положение, позвольте же мне слегка нарушить дуэльный кодекс[121]. Мы честные противники и не должны оставлять в затруднении хорошо воспитанного человека. Позвольте представиться: месье Тьери, банкир в Париже, с виконтом де Шамбое, мы оба — секунданты месье Мальтаверна.
Обходительность, деликатно-любезное предложение подкупили Мориса.
— Вы, право, весьма предупредительны, месье Тьери. Вероятно, с моими секундантами действительно что-то произошло в пути, иначе они бы не опоздали, прошу за них извинения.
— Не беда, подождем еще полчаса, если надо, а пока можем побеседовать о посторонних предметах. Я даже рад, что благодаря случаю могу пообщаться со знаменитым художником.
«Негодяй! Играет с ним как кошка с мышью, — подумала Жермена. — Что же мне делать?.. Господи! Научи меня! Помоги мне!»
Время шло. Положение Мориса становилось все более двусмысленным, он нервничал, особенно потому, что замечал насмешливую улыбку на губах противника.
Наконец, не выдержав, Вандоль обратился к мнимому Тьери:
— Честное слово, месье, если мы уже нарушили правила, можно, пожалуй, согрешить и во второй раз; я всецело доверяю вашей порядочности и предлагаю: вы будете руководить всем поединком, я, следовательно, обхожусь без секундантов, а месье де Шамбое станет ассистировать месье де Мальтаверну, если, конечно, оба не возражают против этого…
Мальтаверн слегка поклонился в знак согласия, а Мондье незаметно хитро взглянул на него, как бы желая сказать: «Видишь, он сам лезет в петлю».
— Охотно принимаю предложение и постараюсь быть достойным вашего доверия, — ответил будущий убийца.
Жермена видела и слышала все, время шло со страшной быстротой, она не знала, на что решиться, и с ужасом думала: как может Морис проявлять подобное легкомыслие, ведь ему даже при наличии всех свидетелей уготована верная смерть, а он еще облегчает противникам совершение преступления.
Мамаша Башю дремала, сидя в кресле, она прикидывала, что пять тысяч франков — сумма, за какую можно и послужить Жермене, чтобы потом ее же и предать.
Дядюшка, по-видимому, действовал по всем правилам; подготавливая поединок, он подчеркнуто старательно отмерил шагами расстояние; доставая ящик с пистолетами, предложил всем убедиться, что они совершенно новые, не бывшие в употреблении и, следовательно, незнакомые противнику… Но, заряжая, он, как обещал своим, заложил в один ствол настоящую пулю, а в другой — фальшивую, совершенно безопасную. Кроме того, места противников он как положено разыграл, подбросив вверх монетку, и Морису выпало стоять против солнца, что тоже могло быть сделано с помощью ловкости рук.
Молодой человек спокойно ждал, когда подадут оружие. Дядюшка положил оба пистолета рядом и вручил «не выбирая».
Теперь дядюшка и Бамбош отошли в сторону и ждали, когда противники займут места.
Жермена в отчаянии, не зная, что ей делать, следила за приготовлениями к убийству. Спасти Мориса могло только чудо!
Увидев, что противники заняли позиции, дядюшка спросил:
— Господа, вы готовы?
— Да, — ответили Морис и барон де Мальтаверн.
На дуэли старший подает сигнал начала, произнеся: «огонь» и затем отсчитывает — «раз», «два», «три»! Сражающиеся спускают курки после команды и не позднее, чем прозвучит «три».
Удача, следовательно, зависит от быстроты прицеливания.
Жермена знала все это, она подумала в порыве страха и гнева: «Этому не бывать! Поможет только чудо, и его совершу я!»
Она выхватила из сумочки пистолет, судорожно зарядила, просунула дуло между прутьями решетки и прицелилась в голову Ги де Мальтаверна. Его голова четко вырисовывалась на фоне темно-зеленого кустарника.
— Огонь! — скомандовал дядюшка.
Противники враз подняли пистолеты.
— Один!.. — произнес торжествующий «дядюшка» — Мондье, и сердце его билось, он представлял, как через минуту навсегда избавится от того, кого называл пачкуном холстов и мазилой.
Но вдруг граф увидел, что барон де Мальтаверн, вытянув вперед руки, шагнул, потом отступил, пошатнулся и упал навзничь.
Жермена выстрелила, и меткость ей не изменила.
Прежде чем дядюшка и Бамбош успели подбежать к барону, думая, что его хватил апоплексический удар[122], Жермена, мертвенно-бледная под вуалью, мчалась к ошеломленному Морису.
Никто не услыхал беззвучного выстрела из маленького пистолета. Внимание врагов было поглощено происшествием, оно заняло какие-нибудь три секунды.
Ги с пулей в виске дергался в последних судорогах.
Жермена бежала к Морису, думая: «Я убила человека!.. Господи, прости мне!»
Морис стоял в оцепенении, уронив пистолет. Художник окончательно растерялся, услышав голос незнакомой женщины, та говорила торопясь и задыхаясь:
— Я — Жермена!.. Следуй за мной!.. Бежим!.. Эти люди — бандиты!.. Они готовили твое убийство… Я все слышала… Идем!.. Скорей!
Девушка схватила Мориса за руку и почти насильно потащила к кабачку.
В это время Бамбош и дядюшка поднимали Ги и старались понять, что случилось, пока наконец не увидели дырочку на виске, чуть повыше левого глаза.
Прежде чем два бандита успели подумать о преследовании Мориса и неизвестной женщины, те пробежали мимо кабачка на дорогу; двое рыбаков, приехавших с Жерменой, последовали за ними, и все четверо сели в экипаж возле дома Могена. Пара коней понеслась бешеным аллюром.
ГЛАВА 6
— Проклятье! Мы биты! — воскликнул Бамбош в бешенстве, видя, что Морис, неизвестная женщина и с ними двое мужчин скрылись.
— Да, разбиты наголову! — сказал дядюшка, весь бледный от злости. — Все придется начинать сначала, а проклятый мазила наверняка избавился от дурацкой доверчивости. Да еще этот мертвец у нас на руках!
— Лежит и лапками не шевелит, — добавил Бамбош.
— Отдал концы, — подтвердил дядюшка.
— Отдать-то отдал, а куда мы его уберем? — спросил подручный.
— Заявим, что умер от апоплексического удара. Стерва, которая его хлопнула, не пойдет хвастать своим подвигом.
— Гм, это все-таки не очень просто!
— Ладно, увидишь.
Они подняли труп — один за ноги, другой — за голову, и перенесли в комнату, откуда в первый раз убежала Жермена.
Мамаша Башю сидела там в кресле, трясясь от страха.
— Какого черта ты здесь делала, полудохлая ослица, и что это за женщина отсюда выбежала? — заорал дядюшка.
— Господи Иисусе!.. Вовсе не знаю!
— Врешь!
— Умереть на месте, если вру! Она пришла, чтобы я помогла… избавиться… и наговорила такое… что… волосы стали дыбом…
— Ну рассказывай! Да готовь скорей постель, чтоб мертвеца положить!
— О! Если б вы знали… Я чуть не умерла… У меня все внутри перевернулось…
— Будешь ты дело говорить? Черт возьми!
— Вот, она спросила, что я сделала с Маркизеттой и ее двумя малышами.
— Что-о-о-о… — прохрипел дядюшка страшно, и Бамбош содрогнулся. Сказанное мамашей Башю столь взволновало дядюшку, что он даже выпустил из рук голову покойника и она с глухим стуком ударилась об пол.
— Не разбейте мертвеца, не то его будет трудно замаскировать под умершего от апоплексии! — цинично заметил Бамбош.
— Маркизетта… — бормотал дядюшка, стараясь успокоиться. — И ты не пырнула ножом, не позвала на помощь? Мы были здесь и с девкой или бабенкой мигом покончили бы!
— Я пробовала… Куда там… Она такая сильная. Крепче мужика! А потом стерва знает все мои истории, грозила упечь под суд…
— Ладно… Мы ее достанем… И тогда горе ей! Но всему свое время, займемся более срочным делом.
Успокоившись, по крайней мере наружно, Мондье с помощью Бамбоша уложил мертвеца на кровать. Осмотрев более внимательно рану, он воскликнул:
— Да он укокошен из револьвера системы «Флобер» Это оружие необычайной убойной силы.
Обернувшись к мамаше Башю, граф спросил:
— Видела, кто стрелял?
— Женщина! Она глядела в форточку совсем как сумасшедшая… Достала малюсенький пистолетик… игрушка… Он тихонько щелкнул… Я и думать не могла, что из него можно убить человека…
«Револьвер системы «Флобер», женщина сильнее мужчины… Не она ли это?» — подумал дядюшка.
— Скажи-ка, мамаша… безобразно одетая женщина была красива?
— Прямо душка!.. Ручки… ножки… ротик… такие… Кого хочешь разожгут…
— Ты видела ее раньше?
— Не могу сказать… У меня их столько перебывало… Мне показалось, что девчонке было не больше восемнадцати.
— Слышала когда-нибудь прежде ее голос?
— А кто ж знает… Может быть…
Дядюшка продолжал, как будто рассуждая сам с собой:
— Это она!.. Это может быть только она!.. Жермене известна ужасная тайна!.. Она в последнее время принимала меня дружески… Заманивала в сети… Если это правда, горе ей! Я могу быть слабым, как дитя… Но такая тайна в руках женщины… Хочет отомстить за себя… Невозможно… Жермена, я ее обожал… Надо пожертвовать… Она должна исчезнуть!
— В добрый час! — насмешливо прервал Бамбош. — Вы говорите наконец как мужчина. Этой бабенции давно место в яме. Сколько глупостей вы из-за нее уже сделали!
Дядюшка судорожно провел рукой по лбу, стирая капли пота, и подошел к трупу. Обмыл ранку, осушил с помощью платка, влил в отверстие несколько капель со свечи. Стеарин быстро застыл и на поверхности слился по цвету с окраской кожи, так что след пули стал совершенно незаметным.
«Черт побери! — думал Бамбош. — Этого человека ничто не застанет врасплох! Одно несчастье, что так гоняется за юбкой, уверен, он из-за этого еще понаделает глупостей!»
Чтобы совершенно скрыть отверстие в голове мертвеца, дядюшка сдвинул на него маленькую прядь волос с виска и прилепил опять же стеарином.
Теперь можно было быть уверенным, что врач, вызванный для удостоверения факта смерти, даст заключение: умер от апоплексического удара.
Оставив тело барона на попечение мамаши Башю, дядюшка вместе с Бамбошем отправился в Эрбле заявить о несчастном случае, вследствие которого компания «лакированных бычков» лишилась президента.
Хладнокровие вернулось к Мондье. Он известил мэра о несчастье, произошедшем на территории, находящейся под его началом, сказав, что едет хлопотать о перевозке тела и погребении несчастного друга.
Граф вернулся к себе и подсказками Бамбоша составил за пятнадцать минут сообщение для прессы о скоропостижной кончине барона де Мальтаверна. Затем послал отнести это сочинение к Жану Лера́ в собственные руки, чтобы дать тому возможность первому воспользоваться сенсационной новостью: с крысоподобным репортером следовало на всякий случай поддерживать хорошие отношения.
Месье Тьери, банкир, дядюшка, как звали его дамочки из полусвета, вошел в дом на улице Виктуар, а из особнячка на улице Жобер, соединенного потайным ходом с предыдущим, появился вскоре граф де Мондье.
Сев в наемный экипаж, он поехал к себе и подоспел точно к завтраку.
Сюзанна подбежала к отцу, горя́ нетерпением поговорить о Морисе и о их близкой свадьбе.
Граф рассеянно слушал, поглощенный мыслями о произошедшем утром, и торопливо ел.
Наконец, не выдержав милой болтовни дочери, которую обычно с удовольствием слушал, он резким тоном попросил не вести разговоров об этом.
— Отец! От вас ли я слышу такие слова? — воскликнула Сюзанна, глубоко огорченная холодной суровостью в ответ на ее сердечные излияния.
— Чего ты хочешь? Мне неприятен ваш союз, я согласился против своего желания. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.
Мондье совершенно не думал о том, как огорчил дочь. Он второпях завтракал, поглощенный мыслью: «Моя тайна в руках женщины… Она не может быть никем иным, кроме Жермены… Но я должен знать точно… Если она… смогу ли я ею пожертвовать?»
ГЛАВА 7
Несмотря на испытанную храбрость и хладнокровие, Морис панически бежал вслед за незнакомой женщиной. Он почти бессознательно последовал за этой странной особой трагического вида, твердившей хриплым прерывистым голосом:
— Идите, ну идите же!
Молодой человек пытался протестовать, говоря:
— Что обо мне подумают!.. Человек мертв… Я буду считаться соучастником убийства…
И слышал в ответ:
— Считаете, что надо было стать его жертвой?.. Скорее… бежим… время не ждет…
Он повиновался, не веря тому, что его спасительница — Жермена, не узнавал ни ее лица, ни манер, ни голоса.
Уже когда лошади несли их галопом к Парижу, спутница сняла вуаль и темные очки и, все еще волнуясь, спросила:
— Морис! Мой друг! Узнаете ли вы меня наконец?
— Жермена! Сестра моя! Скажите, что произошло… Я совсем потерял голову! Мой противник убит вами…
— Да! Иначе было нельзя. Я подслушивала и подглядывала… Ваш пистолет не был заряжен… Вашим секундантам помешали приехать вовремя… Вас должны были попросту убить. Все было очень хитро подстроено. Только чудо, ниспосланное свыше, могло вас спасти. Я не могла полагаться на случай, когда оставалась минута до вашей гибели.
— Но каким образом вы очутились там?
— Скажу позднее… Сейчас не расспрашивайте… Надо еще кое-что разузнать…
— Но почему все-таки этим людям требовалось меня уничтожить?
— Почему негодяй, что спровоцировал вас на дуэль, чуть не прикончил в свое время моего бедного Мишеля? Этот ваш дуэльный противник действовал всего лишь как наемный убийца, я в этом уверена.
— Но ради чего было лишать жизни меня, незаметного художника, далекого от каких бы то ни было интриг, коммерческих операций, любовных историй?
— Вы любите Сюзанну де Мондье, и она любит вас.
— Но ведь ее отец согласился на наш брак, и я не вижу причины… Какое отношение к этому имеет дуэль?
— Ее спровоцировали по приказу графа Мондье, лицемера и негодяя… Не удивились ли вы, почему мне удалось так быстро получить его благословение? Почему, отказав само́й дочери, он не отверг моей просьбы насчет вашей женитьбы?
— Нет, не пришло в голову.
— Эгоизм счастливого человека не позволил вам удивиться тому, как странно это неожиданное решение. Не вызвало у вас никаких сомнений и то, почему граф Мондье вдруг разрешил брак своей дочери с человеком, которого он терпеть не может, и сделал это всего лишь после двух часов пребывания в театре по просьбе неизвестной ему, чужой женщины?!
— Вы правы, Жермена, доводы, что вы ему приводили, действительно должны были быть неоспоримыми для такой перемены его позиции.
— Да, неоспоримыми, — сказала Жермена, грустно улыбнувшись. — Только с вами, Морис, я могу говорить о страшных днях, воспоминания о которых то и дело всплывают перед моей памятью, как грязная вода в болоте. Вам я так многим обязана!
— Прошу вас! Не говорите! Не надо! Помолчите! — воскликнул Морис, испуганный взволнованностью женщины и боясь услышать о чем-нибудь ужасном.
— Все равно, немногим раньше, немногим позже вы должны об этом узнать. Мерзавец, что обесчестил меня в этом доме преступлений, бандит, от кого я бежала, преследуемая собаками, и бросилась топиться, ища в смерти избавления от позора, этот мерзавец был граф де Мондье, отец вашей Сюзанны! Теперь вам все понятно?
— О! — воскликнул сраженный Морис.
— Но это еще не все… В глазах света это пустяки… всего-навсего немного грубый способ заставить себя любить. Люди воспринимают такую настойчивость снисходительно.
— Жермена, умоляю вас!..
— Я начала, и вы должны узнать — не одна я стала его жертвой… Человек, что столь легко обходится с честью женщин… к жизни мужчин относится с еще большим цинизмом. Это личность совершенно бессовестная, чему я имею достаточно много почти несомненных доказательств.
— Ужасно!.. И Сюзанна… Бедная Сюзанна!.. Дочь такого чудовища!
— Да! Воистину чудовища, и я не уверена, что ей самой ничто не угрожает от него.
— Но даже дикие звери не трогают своих детенышей!
— Однако дочь ли она ему?
— Что вы хотите сказать?!
— У меня есть сомнения на этот счет, и нужно некоторое время, чтобы узнать наверняка. Тогда на счету графа прибавилось бы еще одно преступление.
— Сюзанна! Но по закону он все равно ее отец.
— Может быть, она дочь ему и по крови… Но я должна обо всем проведать досконально. Для этого-то я и приезжала говорить с отвратительной старухой, называемой мамашей Башю, содержательницей притона. Но пока что бы ни было, а Сюзанна не в безопасности у себя дома.
— Это ужасно!
— У меня есть основания так думать.
— Что же мне делать, Жермена? Посоветуйте!
— У вас имеется только одно средство, и надо проявить решительность и использовать его.
— Какое же?
— Похитить Сюзанну!
— Боже, что вы говорите, Жермена?!
— Может быть, вас удерживают глупые предрассудки, существующие в так называемом свете?
— Нет, конечно.
— Я знаю, что это наделает много шуму в стоячем болоте, называемом светским обществом: дочь графа Мондье похищена художником!
— Это — пускай! Лишь бы Сюзанна осталась жива! Но согласится ли она?
— Надеюсь, Морис, иначе она оказалась бы недостойна вас.
— Но вы же сами сказали: свет… с его предрассудками…
— Если Сюзанна любит вас так, как вы того заслуживаете, — она пойдет на это. Послушайте моего совета, Морис, и действуйте решительно, ведь только от вашей предприимчивости, энергии, отваги зависит счастье вас обоих.
— Принимаю ваш совет, Жермена.
— Я предоставлю убежище для похищенной, она будет в полной безопасности, и никакой враг ее не найдет; там она встретит людей, что защитят беглянку от всех и от всего.
— Дорогая Жермена, как мы будем в очередной раз вам признательны, ведь вы уже и так много для нас сделали!
— Не благодарите меня и действуйте немедля. А ваши враги пусть распутывают дело со смертью Мальтаверна. Они отыщут способ придать естественный вид этой кончине, и вас из-за нее никто не потревожит. Вот увидите. Когда въедем в Париж, я высажу вас на бульваре. Мне надо остаться одной и вам тоже, чтобы обдумать, каким образом спасти невесту. А если вдобавок… Если она действительно дочь Мондье, это станет началом моего возмездия… Но если граф не является ее родителем, то все равно его гордость и денежные интересы получат жестокий удар.
Едва закончив завтрак, Мондье, озабоченный, нервный, встревоженный, покинул дом и, чтобы убить время, пошел к Жермене пешком.
Страстное желание обладать ею дошло до предела, и граф неотступно думал о новом насилии.
Почему бы и нет? Теперь Жермена богатая, живущая на широкую ногу, привыкшая к светской жизни, сдастся ему скорее, чем когда была простушкой-швеей.
Но сначала надо узнать тайну источника ее богатства, его размеры, определить новое общественное положение Жермены, с помощью интриг проникнуть в тайну, какой она себя окутала. Для этого надо окружить ее самыми ловкими шпионами и в первую очередь обеспечить себе союзников из числа ее прислуги.
Все элементарно, и Мондье удивлялся тому, что до сих пор об этом не задумался.
Впервые Жермена приняла его не в гостиной, а в будуаре и проявила что-то вроде дружеского расположения, но это не обрадовало, а почему-то насторожило гостя, хотя на первый взгляд в поведении женщины не замечалось никакой неестественности, ничто не давало поводов к подозрениям или надеждам.
Очень спокойная, с ясными глазами, как будто хорошо отдохнувшая, хозяйка дома занималась разборкой бумаг, разложенных на столике. Когда граф вошел, Жермена собирала листки в стопку и уже при посетителе, извинившись, быстро распределила документы (или письма?) по аккуратным папкам, на каждой стояли номера и заголовки; она тщательно перевязала кипу тесьмой.
После обмена обычными любезностями граф высказал вежливое удивление тем, что Жермена занималась делом необычным для светской женщины.
— Вероятно, — как бы вскользь спросил он, — приводила в порядок какие-то деловые бумаги, полученные из государственных учреждений?
— Права на собственность, — небрежно сказала Жермена, — закладные, описи имущества… Надо содержать денежные дела в порядке.
— Вам очень идет это занятие, — сказал рассеянно Мондье, искоса поглядывая на одну папку и стараясь прочесть написанное на обложке. Продолжая болтать, он все-таки исхитрился разобрать заглавное «Б» вначале и два «т» в конце и почти сразу вспомнил — возможно, некстати, — что старуха Башю прежде звалась Бабеттой. Догадка, похоже, оказалась правильной: в том же тексте заголовка отчетливо проглядывалось имя Башю. Следовало предположить, что в папке содержались какие-то бумаги об этой гнусной даже на взгляд графа личности.
Но что это были за документы? Может быть, копии полицейских донесений, что иногда выдаются заинтересованным в деле частным лицам?
Встревоженный Мондье сделал ничем пока не обоснованный вывод: похоже, что женщина, выспрашивавшая сегодня утром мамашу Башю, убившая Мальтаверна и спасшая Мориса Вандоля, была Жермена?! Проклятье!.. Просто невероятно! И у нее в руках, возможно, находились какие-то опасные для него документы!
Продолжая спокойно беседовать, граф сосредоточился и насторожился. Жермена не догадывалась о его мыслях и не понимала, какую неосторожность проявила, вовремя не убрав со стола папки.
Девушка слушала и старалась сопоставить интонации Мондье с речью того, кого называли дядюшкой, и упорно думала, действительно ли это одно лицо.
Как соперники на поединке, они изучали друг друга, прежде чем броситься в решительный бои.
— Значит, вы теперь богаты, дорогая Жермена, — сказал граф, словно заметив это впервые.
— Не столь, как предполагают некоторые. Просто живу в достатке при полной независимости.
— Это уже кое-что! Судя по тому, в каком порядке содержатся у вас бумаги, вы не бросаете деньги на ветер. Но скажите, пожалуйста, Жермена, ведь вы владеете состоянием недавно… От кого вы его получили? Если это, конечно, не секрет.
— А как бы вы считали? Разумеется, секрет. Вы-то разве болтаете всюду об источниках своих доходов?..
— Извините, я допустил бестактность. К этому секрету я отношусь с уважением, как ко всему, что касается вас.
Жермена встала, взяла наконец связку бумаг, положила в сейф, заперла его и опустила ключ в карман.
— Вы не боитесь воров? — спросил, улыбаясь, граф.
— Нисколько! Во-первых, это не ценные бумаги, а во-вторых, как вы понимаете, сейф запирается так, что ни один вор его не вскроет.
— Пфэ! По рекламе: несгораемый, неразрушаемый.
И Мондье подумал: «Мне позарез нужны эти папки, в них почти наверняка материал о мамаше Башю, и если Жермене известно о Маркизетте и в бумагах содержатся сведения о ней… Тогда горе Жермене! Я ею пожертвую!..»
Вслух он сказал:
— Вы сегодня прекрасны как никогда!
— Опять мадригал![123] — сказала девушка, и прозвенел тот очаровательный смех, что всегда приводил графа в замешательство.
— А о чем я могу говорить в присутствии такой прелестной женщины, как вы, если не о том, как она великолепна? Но я хотел бы побеседовать с вами, Жермена, и я буду искренен!
— Значит, станете лгать.
— Я никогда не лгу! — сказал граф с прекрасно разыгранной честностью в голосе и на лице.
— Лгать женщинам не идет в счет, так ведь полагают мужчины?
— Простите, не могу понять, как вы сумели стать законченной светской дамой за такое короткое время?
— Вы высоко меня цените! Спасибо. Но… это тоже секрет!
— Скажите, по крайней мере, вы замужем или у вас появился друг! Свободны ли вы в своих действиях, и свободно ли ваше сердце?
— Все это, более чем что-либо другое, — мой секрет!
— Откроется ли он для меня когда-нибудь позже?
— Может быть, если вам будет еще интересно.
— Вы приводите меня в отчаяние, Жермена!
— А вы очень нескромны, граф!
— Я вас люблю!
— Опять за свое!
— Всегда буду повторять! Увижу ли я вас завтра?
— Нет.
— Почему?
— Просто я завтра не принимаю. Не хочу.
— Вы, должно быть, очень скучаете в одиночестве…
— Почему вы думаете, что я живу одна?
— Не знаю… по всем признакам…
— Признаки бывают иногда обманчивы, — сказала она и, посмотрев на часы, добавила: — Время поторапливает, придется просить вас покинуть меня… Дела после полудня… До свиданья, граф!
— До свиданья, Жермена!
Когда Мондье вышел во двор, он увидел готовый к отъезду экипаж. Что ж, вполне возможно для начала проследить за Жерменой самому, прежде чем поручать это наемному шпику. Граф сел в первую попавшуюся карету и велел кучеру ждать, пока ландо не выедет из ворот особняка, а потом держаться не отставая.
Он терпел больше получаса и уже начал терять надежду, подумав, что обманут, но ворота наконец открылись и Мондье успел увидеть за дверцей повозки головку Жермены. Упряжка рванула с места. Нанятый извозчик хлестнул свою лошадку, и она резко потрусила вслед убегавшему ландо.
Через четверть часа Жермена подъехала к вокзалу Сен-Лазар и взяла билет. Когда она прошла в зал ожидания, граф наугад оплатил проезд до Нанси во втором классе.
Он издали увидел, как Жермена села в вагон первого разряда. В пути Мондье, расположившись у окна, наблюдал за выходившими на остановках пассажирами, Жермена не появлялась, и он думал: «Куда все-таки она едет?»
В три пятьдесят поезд остановился на станции Мезон-Лаффит, Жермена вышла и тут же пересела в ожидавший ее экипаж.
Граф попытался расспросить железнодорожных служащих, но никто не мог ничего сказать об этой женщине. Мондье возвратился в Париж и сразу начал действовать.
Он призвал верных слуг Пьера и Лорана и провел тайное совещание.
В шесть вечера прибыл Бамбош, чтобы получить распоряжения, прежде чем уйти куда-нибудь вечером.
Мондье сказал:
— Вечером ты нужен. Будет дело, и ты получишь хороший урок кражи со взломом. Пьер и Лоран пойдут с тобой, я тоже буду… Встретимся здесь в десять.
ГЛАВА 8
Предчувствие подсказывало графу, что Жермена сегодня не ночует дома. Неудача на станции Мезон-Лаффит полностью компенсировалась уверенностью, что парижская квартира Жермены даст много необходимого.
— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — иронически заметил Мондье. — Я потерял след, но зато смогу ночью частично раскрыть ее знаменитый секрет. И скоро узнаю, куда она ездит. Надо только проявить настойчивость.
Он явился к десяти в одну из своих резиденций на улицу Виктуар, там ждали Лоран, ныне швейцар, в прошлом кучер Бамбоша в Италии, и сам Бамбош.
— А Пьер не пойдет, значит? — развязно спросил прохвост графа.
— Он наблюдал за тем домом.
Увидев, что граф одет в элегантный костюм, Бамбош спросил:
— Можно ли полюбопытствовать, патрон, почему вы никак не замаскировались?
— Я нарочно остался и по виду джентльменом. Я имею доступ в этот дом и помогу вам бежать в случае надобности. Итак, все готово. Лоран, ты получил инструкцию?
— Да, хозяин, а Пьер отправился на место с заданием.
— Двинемся каждый своей дорогой: ты, Лоран с Бамбошем по улице Жубер, а я — по улице Виктуар…
Подойдя с разных сторон на улицу Элер, они увидели, что почти у дома стоит коляска. Из нее выпрыгнул человек в униформе посыльного и тихо сказал графу:
— Она не возвратилась, кучер и выездной не знаю где, горничная спит. Словом, кроме швейцара, челяди можно не опасаться, она вся живет в отдельном помещении.
— Хорошо, — сказал граф. — А при тебе письмо, которое я дал? И ты взял букет роз?
— Да, хозяин.
— Сейчас отпустишь экипаж, кучер — наш человек?
— Да, хозяин, это Гренгале. Но если позволите, я скажу ему, чтобы он ждал немного подальше от дома. Транспорт может пригодиться.
— Как знаешь. А теперь иди к швейцару, отдай ему розы и письмо, приложи к ним пять луидоров и говори с ним громко, будто ты немного пьян, а мы тем временем потихоньку войдем.
Недавно пробило одиннадцать, швейцар незадолго перед тем лег и крепко спал. Все огни были погашены, было ясно, что хозяйки нет и ее не ждут.
Все получилось даже лучше, чем предполагал граф. Швейцар спросонья машинально дернул за шнурок и дверь открылась. Пьер вручил служителю розы с письмом для владелицы особняка и пять луидоров чаевых, сказав:
— Держи, друг, видать, твоя хозяйка — красавица из красавиц, раз ей подносят букеты за триста франков… Понюхай, как пахнут!
Швейцар сперва заворчал, возмущаясь, зачем разбудили, но, получив крупную мзду, успокоился, приветливо заговорил с Пьером и в конце концов они опрокинули по стаканчику. Когда Пьер уходил, швейцар спросил:
— А вы найдете дверь?
— Еще не так пьян, найду.
Во время их беседы граф, Бамбош и Лоран проскользнули через входные ворота, прошли через двор, крыльцо и прихожую, в глубине ее парадная лестница вела в комнаты первого этажа.
В передней немного подождали Пьера, ему граф заранее объяснил расположение помещений.
Входная калитка сильно хлопнула.
— Удалось ли ему пройти? — встревожился граф.
Но вскоре в полутьме показался силуэт Пьера.
— Вот и я, хозяин, все в порядке.
— Как ты пробрался?
— Очень просто, побеседовал с швейцаром, выпили малость, он даже не пошел провожать, я хлопнул калиткой, но вместо того, чтобы выходить, остался внутри.
— Отлично! А теперь за мной, и начнем работу.
Очень осторожно поднялись по лестнице, шаги заглушал толстый ковер. Около двери гостиной граф взял из рук Лорана электрический фонарик, чтобы освещать дальнейший путь.
Крадучись, они пробрались в будуар, где находился сейф.
— Вот откуда непременно надо достать содержимое, — сказал граф. — Сумеете открыть или придется взламывать?
Лоран взял фонарик и осмотрел со всех сторон сейф; он был велик, со шкаф, и целиком металлический.
— С помощью циркулярной пилы[124] можно проделать отверстие, такое, чтобы проходила рука, — сказал Лоран.
— Можно, конечно, пила возьмет, сейф не литой, всего только из стального листа. Глупые же эти богачи, не в обиду вам будь сказано, хозяин. Они доверяют всяким мошенникам, а те заменяют литье листом, — сказал Пьер. — Вы за то, чтобы пропилить?
— Нет. Я хочу, чтобы шкаф остался цел.
— Тогда нам с Лораном потребуется четыре часа и мы все-таки можем чуть-чуть нашуметь.
Бамбош с интересом слушал разговор и думал, каким образом его товарищам удастся отворить этот огромный ящик, казавшийся непосвященному совершенно надежным.
— У нас нет столько времени, но все-таки попробуйте открыть, ведь взломать всегда успеется.
— Попытаемся сначала отпереть, — сказал Лоран.
Прощупав разными воровскими инструментами замок, Пьер, к своему великому изумлению, убедился, что он заперт не секретным способом, а просто на два оборота ключа.
— Все в порядке, через десять минут дверка распахнется, — сказал Пьер, а граф подумал: «Как странно… предусмотрительная женщина, и вдруг такая оплошность. Во всяком случае, не мне об этом жалеть».
Пьер повозился немного, запор дважды щелкнул, и ворюга сказал:
— Готово! Любой ученик мог бы справиться.
— Наконец-то! Дети мои, вы получите хорошее вознаграждение!
— Минуточку, хозяин, надо еще язычок поднять…
Пьер отступил на шаг, чтобы дать сейфу открыться.
Снова послышался щелчок, дверка резко откинулась в сторону, но одновременно под ногой Пьера быстро опустилась паркетина и нога мастера очутилась в капкане.
— Черт! А-а-а! Дьявол!
— Что с тобой? — Встревоженный граф осветил фонариком пол.
— Проклятая баба… Не заперла на секретный замок… Вовсе не дура…
Графа пробрала дрожь, когда он увидел ловушку. Мондье подумал, что мог бы сам сейчас в ней оказаться.
— Очень больно, Пьер? — спросил он верного слугу.
— Как всякому, у кого нога попала в стальные зубы. Они впились до самой кости… Не бойтесь… Я не буду кричать… Делайте дело, хозяин… Я потерплю… Ведь вы недолго…
Бамбош, белый от страха, подошел вместе с Лораном к Пьеру.
Граф в это время лихорадочно перебирал бумаги Жермены, он узнал нужную папку и прочел то, о чем догадывался в прошлый раз: «Донесение по делу гражданки Башю, прозванной Бабетта».
Исходя бешеной злостью, Мондье читал листы, исписанные красивым канцелярским почерком.
Он читал, забыв о страдании своего подручного, и думал с ужасом: «Ей известно все! И у нее хватает самообладания быть со мной приветливой… улыбаться мне… почти давать мне надежду… Я бы пропал… пропал безвозвратно, если бы не заметил тогда в надписи букв, возбудивших мое подозрение. О Жермена! Жермена!.. Что за женщина!»
В это время Пьер с помощью Бамбоша и Лорана старался высвободить ногу. Напрасные усилия, челюсти капкана не поддавались, напротив, сжимались все сильнее, и боль становилась невыносимой.
Несмотря на необыкновенную силу воли и терпеливость, грабитель временами почти терял сознание. Весь в поту, он скрежетал зубами так, будто жевал стекло.
Граф продолжал читать. Он понял, что попался, схвачен, пойман женщиной, в кого безумно влюблен и кто отомстит, если он не сумеет с ней справиться.
С чувством стыда оттого, что его так провела женщина, соединялась неуемная злоба и ужас при мысли о том, как богатство и положение в обществе, добытые дорогой и страшной ценой, рушатся необратимо. Он думал: «Убить ее?.. Умрет зверь — умрет и его яд… Проклятая любовь, что сводит меня с ума… Хватит ли у меня мужества для этого? Не лучше ли устроить так, чтобы она осталась жива, но больше не могла мне вредить?»
Пьер не выдержал наконец и начал тихо стонать.
— Замолчи! — зашипел на него граф. — В проклятом сейфе около пятидесяти тысяч франков… Ты получишь не только свою, но и мою половину сверх того!
Лоран пытался одолеть капкан пилкой-ножовкой, ничего не получалось, сталь инструмента оказалась не тверже металла ловушки. Попробовал пустить в ход циркулярную пилу с приводом от моторчика, но ее зубья тут же полетели, как стеклянные.
— Ты и впрямь пропал, дружище! — честно и горестно сказал Лоран.
— Хозяин, помогите! — застонал Пьер.
Граф узнал что ему было надо, вложил документы в папку, перевязал ее тесьмой и положил на место. Потом быстро сгреб золотые монеты, банкноты, драгоценные украшения, рассовал их в карманы Бамбоша и Лорана и сказал с выражением непривычного для него сострадания:
— Бедный Пьер!.. Придется пожертвовать… Кто мне тебя заменит?
— Помогите! — еще жалобнее простонал несчастный.
— Тебе ведь известны наши постоянные условия, не так ли?
— Да!.. Да… Но избавьте меня!
— Для тебя есть только единственная возможность освободиться от мучений. Когда один из нас попадется и не может убежать, его ликвидируют, чтобы спасти остальных… Мой бедный Пьер, придется тебя убить, и ты перестанешь страдать… Ты знаешь, скольких тебе самому пришлось уничтожить товарищей, попавшихся как теперь ты. Это правило неумолимо. И ведь если даже мы оставим тебя живым, все равно власти опознают и казнят.
На что уж Бамбош и Лоран были закоренелыми бандитами, но и они почувствовали ужас, представив себе, что их когда-нибудь постигнет такая же участь.
Оба подумали: «Если бы я был на его месте?..»
Граф достал острый, широкий кинжал и готовился всадить его в Пьера, соучастника многих преступлений, человека, слепо, по-дикарски преданного, хранителя всех тайн, но не мог сразу решиться.
Пьер заметил колебания хозяина, и у пленника блеснула надежда. Ему хотелось жить, и он безгранично верил в изобретательность графа.
Мондье тоже уловил горячую мольбу в глазах обреченного.
— Бедняга! Время торопит, надо действовать, Пьер, а что, если вместо твоей шкуры ты оставишь здесь лишь ногу?
— Все-таки буду жив… — пролепетал бандит, с ужасом ждавший смерти.
— Ты уверен, что не закричишь? Даже не застонешь?
— Не закричу! Дайте мне что-нибудь кусать.
Граф отсек кинжалом лоскут портьеры и кинул Пьеру. Тот свернул ткань и затолкал в рот.
— А сейчас терпи! — сказал Мондье. — Лоран, давай пилу! Хорошо. Это годится. Будешь светить фонарем.
Мондье уже собрался сперва рассечь голень кинжалом, но подумал о том, что сильно хлынет кровь и Пьер умрет от ее потери.
Тогда граф отрезал от шторы кусок шнура, чтобы сжать кровеносные сосуды выше колена, и опять приказал Пьеру:
— Терпи!
Лоран поднес фонарь ближе, Бамбош дрожал, невзирая на свое жестокосердие.
Одним ударом ножа Мондье разрубил мускулы, велел Лорану включить циркулярную пилу. Блестящий диск, подвывая, легко вошел в кость. Кровавые опилки летели в обе стороны, и наблюдавшие за страшной операцией сжали зубы, сами чуть не теряя сознания. Пьер, со ртом, забитым тряпкой, только глухо мычал, да крупные слезы смешивались с потом, струившимся по лицу.
Последний поворот круглой пилы, последние удары ножом, обрезающим ошметки рваного мяса…
— Кончено, — еле слышно прошептал Пьер.
— Кончено. Мой бедный старик, — ответил жестокий хирург. — Ты выздоровеешь. Человек твоей закалки от этого не умирает. За тобой будут прекрасно ухаживать…
Но Пьер уже не слышал. Он икнул и потерял сознание.
— К лучшему. Так легче унести, — сказал Лоран.
Пьера положили на ковер, Бамбош обернул кровавую культю куском шторы.
— А как же оставшаяся нога? Может, все-таки еще попробовать вытащить ее? Теперь она мертвая, разрежем на куски, — сказал Лоран.
— Ни в коем случае. Кто знает, может быть, рядом спрятана еще одна ловушка для того, кто попытается сделать подобное. Думаю, здесь все продумано и предусмотрено.
Лоран взял Пьера под мышки, Бамбош — за здоровую ногу и за обрубок, граф пошел впереди с фонариком, и мрачный кортеж тихо двинулся.
Они были очень осторожны, старались не шуметь, поэтому путь до ворот занял не меньше четверти часа. Во дворе Мондье погасил фонарь, тихо отодвинул ножом засов калитки и открыл ее. На улице было пусто. Они вынесли Пьера, все еще не пришедшего в сознание, и увидели свой наемный экипаж, дожидавшийся на прежнем месте.
— Удачно! — сказал Бамбош, которому уже надоело тащить Пьера. — Есть на чем везти.
— Бедняга! Он ведь и говорил, что повозка может нам понадобиться, — сказал Лоран.
— Предчувствовал, быть может.
— Так бывает. Эй, Гренгале! Подъезжай! — позвал кучера Бамбош.
Граф уходил пешком. Оставшись в одиночестве, он думал: «Неужели звезда моя погасла? Брадесанду задушен, Ги де Мальтаверн застрелен, Пьер искалечен… Трое за такое короткое время… Вдруг это начало возмездия? Нет, я не таков, чтобы ждать в бездействии!.. Если близка Господня кара за мои грехи, то тем хуже для Жермены… Горе ей!»
ГЛАВА 9
Следующим ранним утром Жермена вернулась в свой особняк.
С ней прибыли двое, те, что сопровождали ее до кабачка Лишамора.
Не успел экипаж миновать ворота, как навстречу выбежал швейцар и, швырнув наземь ведро с водой и губку, воздел руки, восклицая:
— Мадам! Какое несчастье! Ночью были воры… Там все поломано… сейф открыт!.. Ценности украдены… Всюду кровь…
Жермена побледнела и воскликнула:
— Деньги меня не волнуют… но бумаги… документы…
Один из сопровождающих, тот, что был помоложе и пониже ростом, схватил швейцара за шиворот:
— Вы позволили им войти… Обманутый или сообщник…
— Но, месье Жан…
— Месье Жан тут ни при чем!.. Вы должны были охранять!.. Вас обошли!.. Вы больше не служите здесь! Убирайтесь… и побыстрее! Матис, скажи, чтобы распрягли лошадей, садись на его место и будь настороже днем и ночью. А вы, месье, получите сейчас же расчет и чтобы через пятнадцать минут духу вашего здесь не было!
Швейцар вздумал протестовать:
— Еще посмотрим!.. Подумаешь… какой начальник…
Не успел он договорить, как получил две основательные оплеухи.
— Еще одно слово, и я вас искалечу! — крикнул молодой человек. — Молчать! По вашей вине произошло такое дело! Мы не поверим, что без вашего ведома в дом могли войти и выйти из него посторонние люди! История темная. Вам, может быть, еще придется поночевать в полиции.
— Жан! Идемте же, я хочу поскорее увидеть, что там, — сказала Жермена.
Тот почтительно поклонился и пошел следом.
Они вместе оказались в будуаре.
— Жермена! Дорогая Жермена! — воскликнул Бобино, кого швейцар посчитал просто за управляющего. — Ужасно!.. Капкан сработал… Вор попался… Здесь отрезанная нога… Какое несчастье, что мы оставили на старом месте прежнего швейцара, когда купили этот дом! Надо было взять его сюда. На того сторожа можно было всецело положиться…
— Бобино, мой друг, зло совершилось, теперь надо смотреть, насколько оно поправимо. В первую очередь — искать вора.
— Или воров. А еще до окончания поисков попытаться определить, что это были за люди… Интересовались ли они только деньгами, ценностями…
— Пока надеюсь, что так…
— Пройдите в вашу спальню, я должен удалить этот отвратительный обрубок.
— Хорошо, друг мой, а я пока посижу в одиночестве, подумаю.
Оставшись один, Бобино повернул кнопки секретного устройства в обратную сторону и запер сейф. Потом, превозмогая отвращение, вынул из сомкнутых пружинами дуг капкана обрубок конечности — холодной, побуревшей, с красными костями на месте распила.
Рассмотрел нижнюю часть штанины из дешевой материи и бумажный носок, меток на них не оказалось. Башмак был тяжелый, сильно поношенный. Он снял обувь с остатка ноги. Ступня была огромная, грубая, плоская, пальцы с грязными ногтями.
«Дело, мне почему-то кажется, сильно попахивает графом Мондье. Но это не он!.. Либо какой-нибудь его сообщник, или же обыкновенный вор, не имеющий к графу отношения. Однако простой взломщик несомненно предпочел бы оказаться арестованным, чем так искалеченным. Надо сегодня же отнести все это в полицию», — думал Бобино.
Он пошел к Жермене, та находилась в сильном беспокойстве.
— Так что вы установили? — спросила девушка.
— Не особенно много, однако не тревожьтесь. Мне кажется, что кража принесла лишь материальный ущерб.
— Хотелось, чтобы это было так. Но теперь надо быть настороже более прежнего.
— Я сейчас рассчитаю швейцара и, если позволите, вашу горничную. Пусть ее заменит Мария, жена Матиса.
— Но она очень нужна там…
— Это так, но около вас должны находиться люди, каким можно вполне доверять. Великое несчастье, что нельзя быть одновременно здесь и там! Ах, Жермена! Моя хорошая! Страшное дело вы затеяли!
— Неужели вы, мужчина, стали колебаться?
— Нет! Но я боюсь за вас, когда думаю, что вы остаетесь тут одна, почти изолированная от нас…
— Не теряйте мужества! Схватка только началась, она будет страшной! Поспешим нанести первые удары и поколебать врага, пока он еще не предупрежден!..
— Вы полагаете, что там…
— Главный узел… Оттуда мы получим нужные сведения.
— Вы хотите снова поехать к мамаше Башю?
— Нет, это было бы слишком неосторожно. Поедете только вы с Матисом, притом хорошо вооруженные.
— Хорошо, сегодня же или, самое позднее, завтра. Подумайте, что, если сейф открыл граф? Его надо непременно опередить…
К несчастью, замысел удалось осуществить только через день. Понадобилось доставать обещанные старухе пять тысяч франков. Воры утащили всю наличность, и пришлось добывать изрядную сумму, какой хватило бы на все предстоящие немалые расходы.
Так что Бобино с другом-кожевником Матисом поехали в Эрбле только через день, чтобы получить от старухи Башю сведения, так необходимые Жермене, за них, не колеблясь, решили платить золотом.
Бобино опасался, что старуха по злобе или из-за страха закобенится, несмотря на обещание кругленькой суммы.
Все-таки ему удалось уговорить ее в обмен на луидоры дать адрес таинственной женщины, называемой Маркизеттой.
Получив его, он тут же возвратился в Париж, предупредив тайную производительницу абортов, что если она кому-нибудь скажет об их сделке, то весьма скоро получит приятную возможность познакомиться с судом.
Молодой человек привез Жермене всего лишь координаты, иные данные старуха наотрез отказалась сообщить, клянясь всеми святыми, что ей обещали врученную сумму за одни только сведения о местонахождении, вообще она к тому же ничего больше и не помнит.
Жермена велела говорить, что сегодня никого не принимает, быстро оделась в очень скромное платье и, как только Бобино передал ей адрес, тут же собралась уходить.
— Вы не хотите, чтобы я вас провожал, Жермена? — спросил типограф.
— Нет, спасибо, мой милый, ничто мне не угрожает. К тому же вы знаете, я сумею себя защитить.
— Знаю, но мне все-таки не нравится, когда вы отправляетесь в подобные экспедиции одна.
— Это дело займет каких-нибудь два часа, а вы нужны там… И я тоже буду там к вечеру. Чтобы сбить со следа тех, кто, возможно, за нами следит, я поеду туда непривычным путем. До свиданья, мой милый, мой дорогой Бобино!
— До свиданья, Жермена! И главное — будьте осторожны.
— Какое вы дитя! Со мной кинжал, револьвер… Вы знаете, куда я иду… Мы в Париже… Сейчас день…
— Видите ли, Жермена, Париж… тот город, где мы теперь… полон тайн и преступлений.
Жермена вышла из дому совершенно открыто, зная, что лучший способ сбить с толку шпионов — не делать тайны из своих действий.
Через полчаса извозчик доставил ее к назначенному месту, далее она пошла пешком по совершенно пустынной улице. Примерно на середине ее Жермена остановилась около глухой стены, у входа, и сказала себе: «Это здесь».
Она почувствовала некую робость, собираясь позвонить. Гладкое высокое ограждение, высокая вроде тюремной решетка, выкрашенная в темно-коричневый цвет, водруженная на каменное основание, — все это составляло необычный забор с воротами из сплошных металлических плит.
Жермена подавила нерешительность и позвонила. Услышав сразу же перекличку множества колокольчиков внутри ограды, она подумала: «Эту Маркизетту очень основательно охраняют…»
Девушка не предполагала, насколько оказалась права.
Дверь почти стремительно отворилась, и, едва посетительница успела войти, стальная панель захлопнулась за ней.
Перед Жерменой предстал просторный двор с красивыми высокими деревьями на подстриженных зеленых лужайках. Вглубь уходила дорога для экипажей, тщательно посыпанная песком. В отдалении виднелись большое строение и флигеля, окружавшие усадьбу с трех сторон.
Направо от нее была сторожка с оконцем, там сидел охранник в форме, напоминающей одежду конторских рассыльных.
Она постучала в окошко, человек немедля встал, вежливо поклонился и спросил, что ей угодно.
— Я хотела бы видеть особу, чье полное имя мне неизвестно, но ее называют Маркизетта, — решительно сказала Жермена. — Мне надо сообщить ей нечто очень важное. Действительно ли она находится здесь, и могу ли я с нею встретиться?
— Да, в самом деле здесь, — ответил служащий, посмотрев на Жермену с любопытством.
Значит, мерзкая старуха не соврала…
— Могу ли я повидаться сейчас?
— Думаю, что к этому нет особых препятствий, только вот она немного нездорова… С некоторого времени не выходит из своего помещения. Может быть, вы сообщите ей свое имя, мадам?
— Это бесполезно, мы незнакомы.
— Тогда я провожу вас к ней.
— Буду вам очень признательна, — сказала Жермена, кладя ему в руку луидор.
Служащий, поблагодарив, предложил ей присесть и нажал кнопку электрического звонка.
Жермена внимательно оглядывала помещение, стараясь понять, где она находится.
В комнате высился большой письменный стол-бюро черного цвета, лежали деловые папки с кожаными корешками и наугольниками, на стене висела распределительная доска с множеством кнопок и проводов; находился здесь и телефонный аппарат.
Вошла женщина высокого роста с большими руками и большими ногами, мужеподобная и нескладная. У нее были маленькие узкие глазки, вздернутый нос, широкий рот и толстые обвислые щеки; одежду составляли платье из серой шерстяной ткани, белый чепец, большой холщовый фартук и такие же нарукавники, какие носят мясники. Она походила одновременно на санитарку и на одну из тех здоровенных баб, каким на таможнях поручается обыскивать подозрительных пассажирок.
— Вот, Жозефина, мадам желает повидать Маркизетту, — сказал сторож. — Вы сейчас ее отведете.
Женщина сделала нескладный реверанс, состроила улыбку с претензией на приветливость и ответила писклявым голоском, совершенно не соответствовавшим ее наружности:
— Если мадам угодно пойти со мной, я провожу мадам.
— Я готова, пойдемте.
Девушка не видела, как странно переглянулись за ее спиной сторож и женщина. Идя по дорожке, Жермена думала, что Маркизетта — какая-нибудь незначительная работница, если ее здесь называют уменьшительным именем.
Жозефина провела посетительницу во внутренний дворик со стеклянной крышей и через него в огромный сад с прекрасными деревьями: платанами, сикоморами, акациями, ясенями, вязами, покрытыми свежей листвой; все они росли между группами кустарника, как букеты зелени среди корзинок с цветами. Повсюду прорисовывались посыпанные песком аккуратные дорожки; лужайки светло-зеленого цвета окружали примерно дюжину домиков, похожих на маленькие виллы.
Казалось, что находишься в деревне, вдали от большого шумного города. В саду дышалось легко, радовало спокойствие, пели птицы, летали бабочки, жужжали насекомые.
Поистине волшебное местечко; Жермена приостановилась очарованная.
— Сюда, мадам, сюда, — сказала женщина, указывая на домик с четырьмя окнами по фасаду.
Около двери сидела женщина, здоровенная и мужеподобная, как Жозефина, и одетая в такую же форму, она держала себя так же подобострастно и вместе с тем в ней чувствовались и грубость, и сильная воля.
— Будьте добры немного подождать, мадам, — сказала она.
— Маркизетта?.. — спросила Жермена.
— Она в постели… Но это не имеет значения… Войдите, войдите же!
Когда Жермена шагнула через порог, женщины переглянулись с тем же выражением, какое было в глазах сторожа и Жозефины, когда они оказались за спиной посетительницы. На сей раз Жермена заметила эти взгляды. Она тотчас заподозрила ловушку и отскочила назад. Но Жозефина бросилась к ней и с ловкостью ярмарочного борца охватила крепкими, как у здорового мужика, руками.
Жермена поняла, что попала в хитрую западню, и закричала:
— Помогите! На помощь!
Руки еще оставались свободными, она попыталась достать кинжал, а другой рукой, надеясь вырваться, ухватила Жозефину за ухо.
Здоровенная баба взвыла и едва не разжала руки. Чепец с нее свалился, из уха сочилась кровь, косичка от пучка торчала на затылке как свиной хвостик, глаза покраснели от напряжения и вся она была похожа на злобное дрессированное животное, которому приказано не выпускать добычу.
— Катрина, сюда! — закричала она. — Ведь сейчас удерет! Она правда буйная!
— Подумаешь! — сказала другая. — Мало мы насмотрелись этих буйных и возбужденных, все делались смирными!
Жермена не могла понять, к чему эти слова: возбужденная… буйная… Она рвалась, чтобы убежать, и снова принялась звать на помощь.
С необыкновенной для ее размеров быстротой Жозефина кинулась к двери и, загородив ее собой, кричала:
— Вы не пройдете!
Выхватив наконец кинжал, Жермена замахнулась, готовая ударить, и закричала:
— С дороги, стерва! Или убью!
Баба моментально сорвала со стены пожарную кишку и направила холодную воду прямо в лицо пленницы.
Оглушенная и ослепленная струей, пущенной под напором, Жермена задохнулась.
Катрина тотчас вцепилась сзади, кинжал выпал из рук Жермены. Она стояла насквозь мокрая, дрожащая, в одежде, прилипшей к телу, с распустившимися волосами, ничего не понимая, и только повторяла:
— Оставьте меня!.. Пустите!.. Я хочу уйти… Я вам ничего не сделала!
Но ее продолжали поливать как только что сделанного снеговика.
Жермена ослабела, потеряла способность бороться и наконец упала.
Жозефина повесила шланг на место и ухватила добычу за ноги, с профессиональной ловкостью связала их, а Катрина столь же быстро и умело охватила полотенцем руки поверженной, что совершенно лишило ее возможности двигаться.
После этого Жермену кулем оттащили в соседнюю комнату, сорвали одежду и принялись растирать тело волосяными перчатками.
Процедура подействовала, и Жермена очнулась. Она увидела себя совершенно обнаженной в руках чужих и противных женщин, те со спокойным бесстыдством ее разглядывали.
Все в Жермене взбунтовалось. Она сжалась в своих путах, пытаясь укрыть самое интимное, и зарыдала от стыда и гнева, бормоча сквозь слезы:
— Какая подлость… Так поступать со мной!..
Жозефина, более словоохотливая, чем напарница, взялась ее уговаривать. Она, казалось, совсем не сердилась за разорванное ухо и говорила ей как раскапризничавшемуся ребенку или больному, не отвечающему за свои, поступки:
— Успокойтесь, миленькая, мы ведь для вашего блага стараемся, будьте умненькая, и мы будем хорошо вас лечить…
И очень осторожно, с необыкновенной ловкостью, надела на Жермену смирительную рубашку и привязала спеленатую к кровати.
А Жермена, совершенно пришибленная, побежденная, уговаривала дрожащим голосом:
— Меня не надо лечить… Я не больна…
— О нет, вы больны!
— Нет же! Вы ошибаетесь! Я пришла повидать Маркизетту, которая, мне сказали, находится здесь.
— Маркизетту… Вы ее увидите… Немного позднее.
— Вы мне все-таки скажите, где я нахожусь и почему со мной так обращаются?
— Вы в лечебнице доктора Кастане. И мы поливали вас холодным душем и надели смирительную рубашку, потому что вы — душевнобольная, почти такая же, как Маркизетта. Та и вовсе без ума.
У Жермены в глазах потемнело. Но она еще не осознала всего ужаса своего положения, думала, будто произошла какая-то ошибка, скоро все выяснится, и попробовала спокойно поговорить с санитаркой, доказать, что вполне здорова и ее надо выпустить.
— Я не знаю этого доктора… У меня нет никакой надобности здесь лечиться… Я совсем не умалишенная… Пусть пошлют кого-нибудь ко мне домой, пусть спросят тех, кто меня знает… моих сестер… моих друзей… моих слуг… Все подтвердят, что я в полном рассудке… Я приехала сюда одна… на извозчике… отпустила его на углу улицы Рибейра… явилась сюда как посетительница… Послушайте меня… Разве я говорю как сумасшедшая? Скажите мне по чести. Конечно, я не безумная…
Женщины слушали снисходительно, как человека в бредовом состоянии.
Наконец Жозефина серьезно изрекла — то ли Жермене, то ли своей напарнице или же самой себе:
— Знаем, старая песня, все они так говорят… если им верить, получится, что здесь сумасшедшие — только доктор да те, кто служит… Бедная женщина, жаль ее, она такая красивая! Даст Бог, ее тут вылечат.
ГЛАВА 10
Жермена провела ужасный вечер. Совершенно беспомощная, привязанная к койке, понимая, что ее заперли в больнице для умалишенных, где обходятся одинаково как с несчастными помешанными, так и с жертвами личной мести, попадающими в подобные места не столь уж редко.
Она спрашивала себя, кто устроил эту ловушку, и мрачная личность Мондье вставала в ее воображении.
Виновником мог быть только он, и никто другой. Один он, против кого она начала борьбу не на жизнь, а на смерть, был в состоянии прибегнуть к такому чудовищному средству и проделать все это столь хитро, продуманно до мелочей и безошибочно.
К тому же она видела тесную связь между заточением здесь и ограблением квартиры позапрошлой ночью. И, несмотря на ее мужество, Жермене делалось страшнее и страшнее.
Одна из стороживших постоянно находилась при ней.
Это была Жозефина, та, кому от мнимой больной так досталось, но сиделка словно не помнила об этом и относилась к молодой красавице с грубоватой снисходительностью и терпеливостью ухаживающей за человеком, что постоянно бредит и не может отвечать за свои поступки.
Она постоянно твердила Жермене:
— Не волнуйтесь, моя милая, вы этим только вредите себе и вынудите опять обливать водой. Не волнуйтесь, говорю, вас будут хорошо лечить, вы скоро придете в себя, вас скоро пустят гулять в саду вместе со всеми, а затем вы поправитесь окончательно и уедете домой.
Видя, что Жозефина искренне считает ее помешанной, Жермена решила сделать вид, что следует ее предписаниям и советам.
Слова: «Скоро вас пустят гулять в парке» — особенно привлекли ее внимание.
Значит, с нее снимут путы и смирительную рубашку, она будет относительно свободной, она встретится с Маркизеттой, невольной виновницей ее заточения…
Понимая, что сделает ошибку, если будет совершенно безвольно, не спрашивая ни о чем, подчиняться требованиям, она иногда просила о чем-нибудь, но всегда старалась, чтобы просьбы были разумными, умеренными, не походили на капризы.
— Только не обливайте меня… это больно, перехватывает дыханье…
— А вы будете умницей?
— Да, и снимите, пожалуйста, с меня эту рубашку, в ней я не могу двигать руками, даже повернуться.
— Знаю, знаю, милочка, снимем, наверное, завтра, после визита доктора.
— Но как же я смогу до этого времени есть?
— Покормлю, покормлю… как ребеночка.
— Я не засну такая вот спеленатая, право, я буду только мучиться, волноваться.
— Дам успокоительного, оно отлично действует против возбуждения, и вас не оставят одну, ночью рядом будет дежурить Катрина.
— Мне бы хотелось, чтобы это были вы, — польстила Жермена, сознавая, что идет по правильному пути. Она не ошиблась, грубая на вид женщина была растрогана.
— Очень мило… Раз вам так угодно, я принесу сюда мою раскладную койку… — Толстая баба подумала: «Она, конечно, чокнутая, но, кажется, не очень сильно». И выразилась с грубоватым добродушием:
— Держу пари, что вы пережили большое горе… какой-то удар, и он пришелся вам по голове…
— Да, случались всякие неприятности… Я вам после, если хотите, расскажу…
— Конечно, моя кошечка, вы поделитесь своими историями… Здесь все друг с другом откровенны.
— А вы снимете с меня эту одежду?.. Кажется, ее называют смирительной рубашкой… Для сумасшедших… А?
— Да, но я уже сказала, что только после того, как вас осмотрит доктор.
— А кто он? Как его зовут хотя бы?
— Главный у нас — месье Кастане.
— А… — сказала Жермена и подумала, что это имя ей чем-то памятно.
Инстинктивно Жермена поняла, как надо себя вести в этом доме.
Пока она старалась доказать, что вполне здорова, и всячески протестовала против насилия, с ней обращались как с буйной, которой нельзя доверять.
Теперь же, когда она показывала, как смирилась и доверяет сиделке, соглашаясь тем самым с тем, что больна, к ней начали относиться с большим доверием.
Девушка выбрала правильную линию поведения: делать вид, что она очень тихая помешанная, не давать волю настроениям, вести себя естественно, без преувеличенных жестов и слов, успокоить всякие подозрения и таким путем получить известную свободу.
Руководимая инстинктом и разумом, Жермена на несколько часов погрузилась в полное молчание и тем доказала Жозефине, что она действительно «чокнутая», но отнюдь не буйная.
Вечером Жозефина принесла ужин, и Жермена спокойно ела. Пища была хорошо приготовлена и подавалась очень удобно, в постель.
Девушка вполне натурально смеялась тому, что ее кормили с ложечки, как ребенка, не проявляла видимого интереса к тому, чем ее насыщали, а потом попросила разрешения уснуть.
Жозефина устроила себе постель рядом и, как было обещано, дала выпить бромистого калия — верного средства против нервных страданий и бессонницы.
И Жермена, пусть не сразу, но зато крепко забылась в тишине летней ночи, лишь изредка нарушаемой криком какого-нибудь несчастного безумца.
Утром она сразу же вспомнила все, что произошло.
В десять, сказала сиделка, должен был явиться доктор.
Жермену как ударило что-то, хотя она никогда прежде не видела этого человека, доктора Кастане.
Она вспомнила: ведь то же имя носил хозяин кабачка близ Эрбле на берегу Сены. Скверный тип, по прозванью Лишамор, муж не менее отвратительной старухи Башю.
Жермена знала по своим тщательно собранным документам, что Лишамор происходил из порядочной семьи, получил хорошее образование, и у него был младший брат, работавший врачом в Париже.
Если Лишамор — сообщник графа Мондье, то брат кабатчика, несомненно, как-то связан с этим великосветским бандитом.
Не зря Жермена собирала досье на эту семейку. Она сразу вспомнила, что доктор прежде был беден, ходил в отрепьях, жил на чердаке, предавался порокам и ради денег не брезговал ничем. И вдруг, свидетельствовали те, кто его знавал, меньше чем за месяц совершенно переменился.
Одетый в хороший черный костюм, белоснежную сорочку и башмаки из шевро, он сделался владельцем или директором лечебницы на углу улицы Рибейра в Париже.
Жермена догадывалась, что перемена в судьбе доктора Кастане произошла не без участия и помощи Мондье, ему всегда требовались люди, готовые сделать что угодно за приличную плату.
Но вот доктор вошел. Это был человек лет пятидесяти, лысый, с покатым лбом, длинным носом, серыми неуверенными глазами и широким тонкогубым ртом.
Руки его были длинные, волосатые, очень выхоленные и слегка дрожащие. Доктор страдал семейным пороком — он пил, но ви́на более хорошие, чем употреблял старший брат в своем кабаке.
Жермене понадобилась вся выдержка, чтобы побороть отвращение и страх при виде человека, о ком она знала достаточно много.
Кастане посмотрел глазами-буравчиками, как бы оценивая ее, взял руку, пощупал пульс, сказав, что он слишком частый, лихорадочный, и спросил вкрадчиво:
— Как вы себя чувствуете здесь, дорогое дитя?
— Очень плохо, доктор, очень плохо, — ответила Жермена холодно.
— Не может быть! Разве с вами недостаточно вежливы? Худо обходятся с такой прекрасной особой?
— Нет. Все очень добры ко мне, но говорят, что я сумасшедшая. Я буду делать все, что мне велят, но я не хочу слыть помешанной!
Невзирая на профессиональную привычку спокойно воспринимать пациентов, Кастане испытал волнение. В ответе проявилась пассивность, болезненная и неосознанная, что его смутило.
— Нет, дитя мое, вы не умалишенная, у вас просто острое перенапряжение нервной системы. Неврастения… Понимаете?
— Ну, это безразлично, лишь бы не доказывали, что я безумна… Я пришла вчера… Вчера ли?.. Зачем?.. Не знаю. Хотела уйти… Не знаю почему… Женщины на меня бросились… Поливали из пожарной кишки… Стало плохо… Мне и до этого было плохо… Меня взяла злость… Вся кровь бросилась в голову… Что же было после?.. После… Жозефина объявила, что я сумасшедшая…
Доктор смотрел на нее и думал: «Притворяется она или действительно больна?» Он оказался в полном недоумении, не видя с ее стороны ни бурного протеста, ни бессмысленного необузданного возмущения, какие обычно проявляют его пациенты, и по обыкновению психиатров, которые чуть ли не всех подозревают в безумии, в конце концов решил, что она все-таки, наверное, тронулась умом: взгляд у Жермены был блуждающий и зрачки мерцали, что очень характерно для психически нездоровых.
Эти признаки выглядели убедительно, и все же доктор подумал: «Все вроде так. Но ведь граф говорил, что она прямо как тигрица… начнет дико беситься… страшно кричать… драться… А вместо этого я вижу совершенно кроткую и смиренную молодую женщину. Больную, конечно, однако — чем именно?»
И вслух сказал:
— Так вот, дитя мое, будем лечить ваши больные нервы, натянутые до того, что вот-вот оборвутся.
— Благодарю вас. И я выздоровлю?
— Обязательно!
— И тогда мне можно будет уйти? Долго мне придется находиться у вас?
— Около месяца… может быть, немного больше, немного меньше, это будет зависеть и от вас. До свиданья, дитя мое. До завтра.
— До завтра, доктор, и спасибо за то, что вы мне сказали.
Жозефина проводила его в коридор и спросила:
— Что мы должны с ней делать, доктор?
— Можете снять смирительную рубашку и позволить свободно гулять, она не опасна, но вы будете сопровождать ее повсюду вместе с другой дежурной и в случае, если она начнет что-нибудь вытворять, снова положите ее сюда. Продолжайте давать бром. Посмотрю, что окажется завтра.
День прошел для Жермены тяжело, но все-таки она была полна решимости действовать по намеченному плану.
Девушка притворялась ребячливой, ласковой, прекрасно разыгрывала роль тихой, безобидной слабоумной.
Жозефину она приручила вполне, та почувствовала настоящую симпатию к спокойному, вежливому, доброму и такому красивому созданию.
Затворница уже пользовалась относительной свободой и настойчиво повторяла, что хочет видеть Маркизетту.
Смотрительница, подкупленная ласковостью и послушанием пациентки и понимая, что Жермена никуда не сможет убежать из-за высоких стен, обещала отвести к той, кого ее подопечная так упорно хотела видеть.
Пока же, чтобы приучить вновь прибывшую к образу жизни в лечебнице, сиделка повела ее в парк, где гуляли пациенты.
Стоял солнечный августовский день, и душевнобольные, не требовавшие особого надзора, прохаживались по дорожкам под тенью деревьев и по аккуратным полянкам с цветочными клумбами.
Мужчины и женщины проводили это время вместе, и внешне все было похоже на обыкновенный сквер, куда люди приходят отдохнуть, погулять, поболтать, поиграть в спокойные игры.
Хорошо одетые женщины вязали, вышивали, читали иллюстрированные обозрения, а другие кокетничали с мужчинами, что красовались перед ними.
На первый взгляд в этом обществе не замечалось ничего странного, и Жермена, зная, где она находится, была удивлена. Только постоянное присутствие санитаров и санитарок напоминало о том, какое это печальное место.
Здесь, как и везде, красота новенькой произвела потрясающее впечатление. Мужчины почтительно кланялись, женщины поджимали губы и делали вид, что очень углублены в свои занятия, но исподтишка с завистью на нее посматривали.
Живописного вида господин, одетый в черное, с множеством диковинных разноцветных побрякушек на левом лацкане, приветствовал ее в замысловатых выражениях и представился:
— Я дон Себастьян-Руис-Порфирио-Лопес де Вега, де Санто Иеронимо, испанский гранд, герцог и двоюродный брат короля.
Жермена любезно поклонилась несчастному безумцу, он посмотрел на нее горящими глазами и протянул сухую и прямо-таки жгущую от лихорадки ладонь.
Подошла очень хорошенькая молодая женщина с зелеными глазами Офелии[125], с тяжелыми пепельными косами, падавшими на плечи. В руках она держала большую куклу, одетую в крестильные одежды, и очень серьезно сказала Жермене:
— Вы будете ее крестной матерью, а месье де Вега — крестным отцом. Ведь вы согласны?.. Ее зовут Марта. Она не умрет, как та… другая… которая унесла мое сердце… Она очень миленькая… уже говорит…
Кукла закрыла и открыла глаза и отвратительным механическим голосом сказала: «Па… па, ма… ма».
— Ее старшая сестра ушла… уже не помню когда… ушла некрещеная… Вы понимаете!.. И я хочу, чтобы эту окрестили сейчас же.
Жермена печально и с болью за несчастную согласилась.
— Кукареку!.. Кукареку! — закричала женщина, убегая. — Мадам согласна быть твоей крестной!
Другой господин, очень серьезный, даже суровый, с седеющей бородкой, приблизился к Жермене и сказал:
— Мадемуазель, не обращайте внимания на эту сумасшедшую. Нам всем уже пришлось быть у нее крестными. Мы вынуждены делать это снисхождение, иначе у нее начинаются ужасные припадки.
Подумав, что это посетитель, а не пациент, — он говорил так рассудительно и выражал сострадание к несчастной, Жермена ответила тихо:
— Я охотно соглашусь принять участие в подобии крещенья, чтобы не делать ей больно моим отказом. Те, кто находится в этой лечебнице, и так достаточно несчастны, бедные, бедные люди…
— Все здесь богатые, и я у них банкир! — вдруг с жаром объявил рассудительный человек. — Вы так прекрасны, что я хочу сделать вам подарок, сколько желаете? Миллиард? Два миллиарда?
Жермена вконец растерялась, не зная, как реагировать.
Она как можно более учтиво сказала:
— Премного благодарна, месье, я ни в чем не испытываю нужды; но вы очень щедры и благородны. Вы не возражаете, если я вас покину?
И неожиданно господин очень спокойно ответил:
— Всего вам доброго, милая красавица.
Женщина лет тридцати, очень худая, с выразительными глазами, с волосами, стриженными в скобку, тихая и добрая, остановила Жермену и без предисловий обратилась к ней:
— Не слушайте их, мадам, они все здесь для посева… Они очень хорошие, совершенно безобидные, как правило отменно воспитанные, но они мучают новичков, стараясь внедрить в них свое безумие.
Жермена посмотрела даже с любопытством: а она-то что сейчас скажет?
— Меня зовут Надин Волынская, я — русская, профессор Парижского университета. Я наблюдаю здесь все формы душевного расстройства. — И тихонько добавила: — Видите ли, все эти люди — сумасшедшие. Они кажутся нормальными и в самом деле здорово рассуждают до тех пор, пока не коснешься определенного пункта в их сознании или сами не начнут говорить на больную для них тему. Они взаимно снисходительно относятся к этим пунктам и живут в полном согласии, когда узнают друг друга ближе.
— Вот это действительно странно, — тихо сказала Жермена.
— Странно, конечно, но это действительно так. Они и выказывают свой пункт перед новичками, ибо знают, что здесь о каждом всем известно, и никто на их счет не обманывается.
— Но их можно как-нибудь лечить? — спросила Жермена, ее заинтересовали слова женщины-профессора, без сомнения здравой умом. — Почему, например, не пользовать их внушением?
— Потому что умалишенные в подавляющем большинстве не поддаются гипнозу. Есть, конечно, надежный способ, но наука медицины так рутинна! И зачем ей исцелять наверняка? Тогда не станет больных и доктора лишатся куска хлеба.
— А все-таки, каков этот верный метод?
— Все болезни вызываются микробами. Надо уничтожить до единого микробы, попадающие в организм, а для этого следует абсолютно все стерилизовать.
И тут ученая сама понесла такое, что Жермена уже не могла больше слушать и попросту сбежала, подумав: и эта тоже! Господи, что за ад!
Жозефина — она шла позади в нескольких шагах — догнала и с участием начала успокаивать. Жермена едва не заплакала.
— Все эти люди меня пугают. Пойдем поскорее отсюда, Жозефина!
— Если вы все-таки хотите видеть Маркизетту, могу сейчас к ней провести, — сказала Жозефина, стараясь чем-нибудь отвлечь Жермену.
— Но вдруг и там придется слушать безумные речи, я не могу, лучше уж в другой раз, мне просто необходима передышка.
— Может быть, сегодня она в нормальном настроении, тогда не волнуйтесь, все будет в порядке.
— Но все-таки, она такая же сумасшедшая, как все эти несчастные?
— Как когда, порой кажется, будто она совсем в здравом уме, а бывает, что месяцами не откроет рта.
— Тогда пойдем, — согласилась Жермена, делая вид, что больше уже не слишком интересуется этой встречей.
Жозефина провела ее через парк к последнему в ряду маленькому домику. Перед ним росли любовно выращенные цветы в прекрасных клумбах.
У крылечка сидела женщина, одетая просто, но изящно. Она шила.
Жозефина остановилась, не доходя нескольких шагов, и позвала:
— Маркизетта! Вас хочет видеть одна дама! — И тихонько сказала Жермене: — Идите одна… Она меня не выносит… Я подожду здесь.
Женщина подняла голову, холодно посмотрела на незнакомку и сказала, обращаясь к сиделке:
— Пусть идет сюда. Только без вас.
— Убедились? Только не бойтесь, она не злая и не обидит вас.
Жермена, видевшая здесь до сих пор только странные взгляды и слышавшая безумные речи, удивилась, встретив взгляд, исполненный доброты и сострадания. Ей даже послышалось, будто живущая в домике прошептала:
— Такая молодая, такая красивая… бедное дитя!
Женщина выглядела лет на сорок. Все еще миловидное лицо преждевременно увяло от тяжелых переживаний. Среднего роста, несколько отяжелевшая от сидячей жизни, с маленькими стройными ножками, изящными руками, густыми волосами, некогда, видимо, красивого пепельного цвета, сейчас почти совсем поседелыми, с прекрасными белыми зубами, с глазами голубыми как сапфиры, чей взгляд был глубок и нежен, — вот какой была таинственная Маркизетта.
Но больше всего поразило Жермену в ней удивительное сходство с Бобино и с Сюзанной де Мондье. Та же улыбка, одновременно нежная и печальная и, наверное, бывавшая очень веселой в дни радости, та же посадка головы и, странное дело, даже такая же родинка на левой щеке.
— Войдите, дитя мое! — сказала Маркизетта голосом, изумившим Жермену не меньше, чем наружность.
Девушка чувствовала себя очень взволнованной, но старалась скрыть это, чтобы женщина не приняла ее за сумасшедшую.
Гостья не могла решить, с чего начать страшный откровенный разговор. После неловкой паузы Жермена отважилась.
— Мадам, — начала она тихо, так чтобы не донеслось до Жозефины. — Выслушайте меня без предвзятости… не выражайте, пожалуйста, протеста… сохраняйте спокойствие…
— Говорите, дитя мое, — сказала Маркизетта, наверное давно привыкшая к откровенностям несчастных помешанных.
— Я многим рисковала, чтобы попасть сюда… Я приехала одна… чтобы увидеть вас… говорить с вами… Вы сейчас узнаете почему. Вместо того, чтобы впустить в качестве посетительницы… меня встретили как… пациентку… посадили в камеру, облили холодным душем… Но я не сумасшедшая… Не качайте головой… Я в полном рассудке… Посмотрите на меня внимательно… Разве я похожа на этих несчастных безумных, которые сначала меня испугали, а потом внушили жалость? Поверьте мне! Поверьте, прошу вас!
— Бедное дитя! — прошептала женщина с глубоким состраданием.
«Боже мой! Она все-таки принимает меня за сумасшедшую! — подумала Жермена. — Потому что живет среди умалишенных и, может быть, сама стала такой. Пускай! Сначала я все скажу, а после увидим!»
— Знаете ли вы женщину по имени Башю, по прозвищу Бабетта, которая делает тайные аборты?..
При этих словах Маркизетта побледнела и произнесла:
— Говорите тише!
— Хорошо, но ответьте же!
— Знаю… знаю… даже слишком хорошо, к несчастью.
— И пьяницу Лишамора, ее муженька, которого на самом деле зовут Пьер Кастане, он — брат здешнего доктора… Тоже знаете?
— Да… Этот негодяй!..
— Наконец, графа Мондье… вашего палача… и моего также…
— Мондье! Вы сказали Мондье?! — переспросила женщина с выражением ужаса.
— Это еще не все! Знаете ли вы двух детей… ваших детей… Жоржа и Жанну?..
— О!.. Вам все известно… Кто вы такая?
— Друг, которого соединяет с вами общность судеб.
— Но как вы раскрыли страшную тайну?
— Позднее узнаете… Я вам все расскажу. А теперь, вы все еще считаете меня безумной? Да, я едва не лишилась рассудка от стыда и от ненависти к бандиту, что обесчестил меня!
Маркизетта, совершенно бледная, тихо плакала.
— Я верю вам. Верю, — шептала она. И, видя, что Жермена собирается уходить, сказала: — Останьтесь еще ненадолго!
— Сейчас нельзя, увидимся завтра. Если будем говорить подолгу, мы вызовем подозрение у тех, кто нас упрятал сюда и кто стережет. Доверьтесь мне вполне, и я вас спасу.
— Невозможно! Я уже восемнадцать лет здесь пленницей. Понимаете! Меня целую вечность держат под стражей… Я потеряла всякую надежду. Страдания сломили меня.
— Надейтесь! Клянусь! Я освобожу вас! И дам возможность насладиться местью.
ГЛАВА 11
Разумеется, Жермена, как обещала, пришла на свиданье. Но перед тем она не выказывала сильного стремления к встрече с Маркизеттой, чтобы надежнее обмануть надзирательницу, заставить по-прежнему думать о себе как о тихой помешанной. Следовало делать вид, что ее вообще ничего особенно не интересует, и разыгрывать переменчивость в настроениях, характерную для душевнобольных.
Приспособление Жермены к обстановке лечебницы могло бы показаться слишком быстрым, но так как Жозефина была рада избавиться от необходимости слишком строго наблюдать за подопечной, то не обратила внимания на легкость привыкания больной. И сама напомнила о визите:
— Ну как, пойдете сегодня к Маркизетте?
— Ведь правда! Пожалуй…
— Она наверняка ждет, у нее всегда бывают разные сладости, фрукты… Она вас угостит. Вы ведь любите вкусненькое?
— Очень люблю! — сказала Жермена, чтобы подкрепить желание увидеть Маркизетту добавочным поводом.
— Я вас там оставлю часа на два, на три, вы поболтаете, развлечетесь, и она тоже, — сказала надсмотрщица, не подозревая об их сговоре.
Через пять минут Жермена уже была у Маркизетты, та, видимо, действительно очень ждала, но все-таки отнеслась еще не с полным доверием.
Видя сдержанность женщины, находившейся так долго в незаслуженном заключении, Жермена решила для начала рассказать ей собственную печальную историю.
Она поведала все от того момента, как была похищена, изнасилована графом Мондье и как спасли ее русский князь Мишель Березов с художником Морисом Вандолем, а потом Мишель выхаживал во время смертельной болезни у себя дома, увез в Италию, чтобы обоим спастись от преследований, но там бандиты похитили князя, после чего случился странный недуг, а затем Березов оказался разорен, по возвращении в Париж они бедствовали. Рассказала об их ужасной жизни на улице Мешен и о покушении на убийство их доброго друга Бобино. В общем, ничего не скрывала и, говоря о своих горестях, как бы вновь переживала их сама.
Маркизетта слушала ее с большим вниманием, потом с состраданием, а под конец и прерывала исповедь рыданиями.
— О бедное дитя! Какие муки! Почти как в моей жизни, но мне пришлось еще тяжелее, чем вам.
— Я еще далеко не обо всем упомянула, вы узнаете, что было потом, если захотите выслушать продолжение.
— И вы не сошли с ума после всего, что пережили!
Жермена радостно вскрикнула:
— Наконец-то вы поверили, что я не впала в умопомрачение, что моя голова выдержала все испытания, даже заключение в эту лечебницу.
— Да, дитя мое, верю, вы вполне в здравом уме, извините за вчерашнюю недоверчивость. Но ведь мне столько раз приходилось слушать здравые на первый взгляд рассуждения здешних несчастных, всегда кончавшиеся каким-нибудь бредом, что поневоле станешь подозревать чуть не каждого…
— Но вы-то сами, мадам, как смогли выдержать столько лет жизни в этом аду и не потерять разум? И простите меня за то, что я ожидала увидеть вас если не совсем помешанной, то все-таки не вполне в здравом рассудке.
— Сама не знаю! Вероятно, потому, что я заставила себя отрешиться от прошлого и настоящего, не думать о будущем, не питать никаких надежд. Я провела все эти годы в одиноких слезах и молитвах…
— Вашему страданию придет конец. Однако надо, чтобы и вы мне поверили и тоже все рассказали о себе.
— Да, да, разумеется, я буду вполне, до конца откровенна, отвечу на все ваши вопросы и, более того, дам бумаги, что станут грозным оружием в ваших руках.
— Я знаю о существовании этих бумаг и даже то, что они хранятся в целости.
— Боже мой! — воскликнула в изумлении Маркизетта. — Не может быть! Лишь мне одной известно…
И женщина снова усомнилась и подумала: она все-таки сумасшедшая.
Но ясный взгляд Жермены опять рассеял сомнения.
— В жизни все случается, даже невозможное, — несколько наставительно сказала девушка. — Скажите, разве то, что мне известны ваше имя, место, где вы находитесь, не менее удивительно, чем сведения о бумагах?
— Вы правы, обо мне знали только Бабетта и Мондье, а они вряд ли проговорились бы.
— Приготовьтесь же, мадам, услышать, если угодно, о том, что покажется вам еще более невозможным, однако, поверьте, вполне реальным. Я намеревалась отложить на другой день продолжение своей жизненной истории, но, пожалуй, закончу сегодня, чтобы рассеять у вас последние сомнения.
— Я постараюсь говорить кратко и лишь о самом главном, — начала Жермена. — Итак, мы оказались в ужасной нужде, и, что страшнее любой нищеты, Мишель Березов, мой жених, вдруг без всякой причины стал меня ненавидеть, открыто и жестоко. Однажды он занес надо мной кулак и хотел также ударить мою больную сестру. Я, конечно, возмутилась и вознегодовала. Посмотрев ему прямо в глаза, я держала его под своим взглядом, вероятно, выражавшим всю мою волю. И Мишель вдруг затих, лицо сделалось спокойным, он улыбнулся и сказал, что любит меня по-прежнему. Я безмерно удивилась такой резкой перемене и спросила, что с ним произошло, прежде чем он меня возненавидел, и что происходит теперь. И услышала в ответ: он… спит. Да, да, именно так — спит. Скажите, мадам, знаете ли вы, что такое гипнотизм?[126]
— Да, это искусственное усыпление, вызываемое особенным взглядом человека, или длительным рассматриванием блестящего предмета. Этот способ воздействия на психику пытались применять и здесь, в лечебнице, но почти безуспешно, и лечение внушением тоже, оказалось, мало действовало на душевнобольных.
— Я вижу, вы вполне осведомлены о гипнотизме, и скажу вам, что на некоторых впечатлительных особ он влияет столь сильно, что они становятся как бы ясновидящими.
— Я читала, как под воздействием гипноза такие люди способны лицезреть то, что обычный человек не может различать, и таким образом становятся совершенно покорными тем, кто приводит их в такое состояние. В гипнотическом сне можно внушить чувство любви или ненависти к кому-либо и даже желание совершить преступление.
— Совершенно верно, и вы поймете то, что я вам расскажу. Под действием моего невольного гипноза Мишель вновь стал таким, каким был до того, как бандиты в течение восьми дней продержали его в плену. Странная слепая ненависть ко мне прошла, и князь любил меня как прежде. Он больше не считал себя сумасшедшим, не готовился покончить с собой, хотел жить, строил планы на будущее и выказывал ко мне прежнюю нежность, утрату которой я так тяжело переживала. Часа через два я решила прервать его неестественное забытье и велела проснуться. Видимо, он пережил при этом что-то неприятное и сказал мне: «Напрасно вы меня разбудили, мне было так хорошо!» Да, вырванный из гипнотического сна, он опять меня возненавидел. Он чуть не стал буйным умалишенным и начал грубо обращаться со всеми окружающими. Я снова пристально посмотрела ему в глаза и приказала спать, спать, спать… Он быстро успокоился, заулыбался и с облегчением вздохнул, уже с закрытыми глазами. Во время его сна я принялась расспрашивать его, почему он так резко переходит от любви к ненависти и обратно, отчего в состоянии бодрствования он вел себя подобно сумасшедшему и намеревался покончить самоубийством, а во сне чувствовал себя счастливым, добрым, любящим и хотел жить. И он неизменно отвечал: «Так надо, он так хочет…» — «Кто хочет?» — «Он!» В течение многих дней он повторял одно и то же, ни разу не давая других ответов на мои вопросы…
Беседа затягивалась, Жермена старалась быть немногословной, извинялась за излишние подробности, но Маркизетта ласково просила не смущаться и продолжать. И Жермена дальше рассказала, как ей постепенно удалось с помощью своего благотворного гипноза побороть действие внушения, какому подверг князя злодей.
Не сказав доктору, лечившему ее сестру, о душевном состоянии князя, она как бы из любопытства расспросила врача о гипнотизме, и тот посоветовал ознакомиться с рядом книг по этому вопросу, она их приобрела, с жадностью прочла, и хотя не все поняла, но отчасти усвоила, как надо действовать, дело пошло на лад.
Князь начал выздоравливать, и одновременно поправлялась после тяжелого воспаления легких младшая сестра, и вернулся из больницы вылеченный от раны Бобино. Благодаря дружеской помощи Мориса Вандоля, одолжившего около трех тысяч франков, в дом вернулся достаток. Бобино, по его собственному выражению, «еще был слабак, но авария прошла без последствий». Все его обнимали и целовали — и по очереди и одновременно — и, к его большому удивлению, Мишель отнесся к нему с прежней сердечностью, хотя в последнее время был весьма холоден к тому, кого считал названым братом.
Дальше Жермена поведала Маркизетте, предварительно объяснив, кто есть кто из называемых ею лиц, как Мишель в состоянии гипнотического сна, вызванного ею, сказал, что Бобино был ранен Бамбошем и что сейчас Бамбош говорит с Пьером, близким помощником графа Мондье, о том, что надо сделать очередной взнос за содержание Маркизетты. Когда она, Жермена, спросила, кто это такая, князь ответил: «Женщина, уже немолодая… очень несчастная, тоже жертва бандита Мондье. Мать Жоржа и Жанны…»
Услыхав сейчас об этом, Маркизетта воскликнула в удивлении:
— Как может быть!.. Человек, никогда меня не видевший и ничего обо мне не знавший, вдруг заговорил об этом… Удивительно и страшно!
— Гипнотизм — ужасное оружие в руках злодеев, но, когда им пользуются добрые люди, он служит защитным средством. Вы увидите, как мы с его помощью спаслись, — сказала Жермена.
— Значит, вам известны секреты Мондье, этого негодяя!
— Увы, к сожалению, ясновидение месье Березова становится почти бессильным, как только вопросы касаются личности графа. Вероятно, на князя еще действует остаточное воздействие Мондье, тот значительно раньше, чем я, усыплял Мишеля и внушал ничего не помнить про гипнотизера… Теперь вы поняли, мадам, каким путем мы про вас узнали…
Отхлебнув кофе, Жермена продолжала:
— Князь Мишель не мог мне ничего больше сказать о вас, но кое-что сообщил про Лишамора, про Башю по прозвищу Бабетту и добавил, что эти люди вас знают. Я вам изложила все за несколько минут, а ведь потребовалось пять месяцев настойчивого труда, чтобы побороть влияние гипноза Мондье на рассудок Мишеля и собрать понемногу обвинительные документы. Что касается практических действий, я решила начать их контактом с вами, для чего на свой страх и риск пробралась сюда просить содействия нам. Правильно ли я поступила, рассчитывая на вашу помощь?
— Благодарю вас, дитя мое! Я с вами навсегда! Но Мондье богат, могуществен, у него под началом целая армия всевозможных негодяев. У вас же ничего, кроме доброй воли и большой энергии, а их вдобавок парализует бедность. Вы вступаете в неравный бой!
Жермена с гордостью улыбнулась.
— Вот в одном вы заблуждаетесь. Дело в том, что мы совсем не бедны… Напротив, мы имеем весьма значительные средства. Источник их самый честный, хотя шумное появление в свете и роскошная жизнь, несомненно, многих заставила дурно обо мне думать.
Сначала Жермена рассказала, как Мондье заставил князя Березова, находившегося в состоянии гипнотического сна, подписать различные документы и таким путем присвоить все деньги и имущество князя, находящиеся во Франции.
Это оказалось делом непоправимым, потому что Березов решительно не помнил, как оно совершилось.
Жермене понадобилось долго лечить Мишеля гипнозом, пока к нему не вернулась отчетливая память о том, как он все это натворил собственными руками.
Когда князь совершенно выздоровел, он по-прежнему любил Жермену, знал, кто был виновником их общих бед, и твердо намеревался одолеть этого врага. Положение их семьи становилось нестерпимым, пока мог действовать бандит, способный на любое преступление.
Мондье сделался как никогда опасен для самой Жермены, ее он все еще преследовал, домогаясь любви; для Мишеля, коего он всячески пытался убрать со своего пути; для Бобино, что чудом спасся от графского наемного убийцы, и для сестер Берты и Марии, не решавшихся выйти на улицу, боясь быть похищенными как заложницы.
Держали семейный совет о том, как быть дальше.
До сих пор они жили, скрываясь ото всех, что делают обычно слабые, пытаясь спастись от злого умысла.
Березов, вполне придя в себя, став как прежде сильным и здоровым, взялся определить состояние, что у него сохранилось.
В России он владел большими земельными наделами, они не приносили сколько-нибудь значительных доходов, поскольку хозяйство было запущено, однако, если бы князь жил на родине, этих средств им всем вполне бы хватало на безбедное существование.
Но, как многим из русских аристократов, ему нравилось обитать во Франции.
Он не имел права продать свои зе́мли, но мог частично заложить их в казну и получить значительную сумму, что позволило бы им вдобавок еще и начать беспощадную борьбу с противником.
Мишель призвал к себе Владислава, своего верного слугу, которого в затмении разума уступил Мондье вместе с домом на улице Ош.
Владислав оставался служить там как верный сторожевой пес, ожидающий своего хозяина. Он заплакал от радости, увидев князя, носимого им на руках еще дитятей.
Узнав, как плохо жилось бывшему барину, слуга ласково попенял, почему тот не позвал его раньше.
— Батюшка ты мой, ты разумно поступил, — сказал бывший дворецкий с той простотой, с какой последний русский мужик может заявить своему императору. — Я бы мог работать кучером, плотником, носильщиком, чтобы тебе на хлеб заработать.
— Может, и вором? — шутя спросил его Бобино.
— И вором тоже, — ответил Владислав.
— И убийцей?
— И убийцей, ежели бы это понадобилось барину, — серьезно ответил Владислав.
— Я у тебя такого не прошу, — сказал Мишель, глубоко тронутый преданностью человека, готового ради него на все.
— А что надо мне теперь делать?
— Поехать в Петербург и в Москву с полномочиями от меня и занять там как можно больше денег во что бы то ни стало. Это легко: шестьдесят два часа туда, столько же обратно и там добрых две недели.
На другое утро мужик отправился в путь.
Между тем, чтобы скрыться от преследований врага, семья, жившая на улице Мешен, исчезла оттуда, никому не оставив адреса. О нем не знал решительно никто, даже Морис Вандоль, оказавший в тяжелые дни помощь, благодаря чему они и смогли найти убежище и совершить побег. Только Владиславу перед его отъездом Мишель сообщил о месте, где они намеревались затаиться.
На окраине предместья Сен-Жермен-ан-Лей нашелся просторный дом, окруженный высокими стенами с крепкими воротами, с большим цветущим садом. Настоящее укрытие для преследуемых и гнездышко для выздоравливающих и влюбленных, где Мишель окончательно поправился, опять всем сердцем принадлежа Жермене.
Он принялся учить ее всему, что знал сам, посвящал ее в законы, правила и причуды светской жизни, приобщал к хорошим манерам, — словом, насыщал всем, что должно было понадобиться в скором будущем.
Жермена с увлечением занималась спортивными упражнениями: верховой ездой и стрельбой из пистолета, в чем делала поразительные успехи.
Так как им требовались абсолютно надежные помощники, Бобино попросил своего друга Матиса и его жену временно оставить свой дом на улице Паскаля и переехать в Сен-Жермен. Те с удовольствием приняли предложение.
Вернулся из России Владислав и привез в документах на Французский банк более двух миллионов франков, выданных под залог земель.
Князь предоставил все деньги и ведение хозяйства в полное распоряжение возлюбленной, а сам замкнулся в неприступных стенах сен-жерменского владения. Надлежало подготовить последнее оружие для борьбы с Мондье.
Бандит, сначала удивленный, потом взбешенный их таинственным исчезновением, напрасно рассылал лазутчиков по всему Парижу и предместьям. Князь, Бобино, Жермена и ее две сестры оставались для графа в неизвестности.
Проявив удивительные способности быстро усваивать уроки князя, Жермена превратилась в настоящую даму из большого света.
Мишель сделался подлинным ясновидящим и многое открыл ей про Лишамора, мамашу Башю и Маркизетту. Все эти сведения подтвердились бумагами, полученными от французской полиции при содействии Российского посольства.
Не спеша составляли планы последнего удара врагу, ожидая удобного момента.
Наконец Жермена могла сказать: я готова!
На семейном совете решили, что она больше не будет скрываться от Мондье, а, наоборот, открыто пойдет на встречу с ним, не станет отвергать ухаживания, напротив, подаст надежды, чтобы усыпить извечную подозрительность графа.
Бобино, став добровольным управляющим, купил для Жермены особнячок Регины и вместе с новой его хозяйкой поставил дом на широкую ногу: завели лошадей, наняли опытную и импозантную[127] прислугу; наконец Жермена поселилась там как бы постоянно, в роли одинокой светской дамы.
Мондье, увидев ее во время гулянья на Елисейских полях, влюбился сильнее прежнего, но уже не мог помыслить о том, чтобы поступить с ней тем, давним способом.
Хотя Жермена позволила графу посещать ее дом и говорила с ним как бы дружески, она не раскрывала ему, как и другим, кто ее знавал, секрета своего превращения из простой швеи в настоящую даму большого света, что особенно возбуждало страсть и одновременно подозрительность Мондье.
Зато сейчас Жермена не таила ничего от Маркизетты, и та слушала с величайшим вниманием и сочувствием.
Когда гостья закончила, Маркизетта, с неверием в счастье, свойственным много страдавшим затворницам, сказала ей:
— Вы сильны и отважны, я в этом глубоко уверена. То, как вы боролись против Мондье с помощью гипнотизма, доказывает незаурядность вашей личности. И тем не менее, едва вы начали действовать, этот дьявол нанес вам страшный удар. Он догадался, что вы узнали, где я заточена, понял, что вы придете ко мне сюда, и устроил ловушку.
— Одно из двух: либо меня выдала старуха Башю, либо он взломал мой сейф и прочел хранившиеся там документы.
— Не имеет значения, как он узнал, дитя мое, ему было нужно запереть вас здесь, заставить сдаться под пытками, какие применяют тут к несчастным помешанным. Теперь вы — его пленница и он вас не выпустит с помощью доктора Кастане, раба, слепо ему повинующегося.
— Ну это мы еще посмотрим! Во всяком случае, при той относительной свободе, которой я здесь пользуюсь, я легко убегу.
— Вы ошибаетесь! Здесь стерегут как в тюрьме. Сторожа каждый час совершают обход… По ночам спускают собак, они никого не слушаются, кроме своих хозяев… На дверях крепкие решетки и через высокие стены невозможно перелезть. Наконец, многочисленный персонал следит за нами неусыпно днем и ночью.
— Я решилась на все, чтобы узнать о вас и вызволить отсюда!
— Как?! Вы действительно собираетесь попытаться освободить меня! — воскликнула Маркизетта. — Вчера, когда вы говорили о моем вызволении, я не совсем поняла, подумав лишь о духовном раскрепощении, о том, что вы избавите меня от одиночества, чувства заброшенности…
— Вы, так же как и я, его жертва, мы соединим усилия и станем жить свободными и отмщенными… Одно только меня смущает: почему Мондье, зная, что мы можем здесь встретиться, заранее никак не воспрепятствовал этому.
— Он уверен, что я и в самом деле сумасшедшая. Я десять лет не проронила ни слова, проводила время в слезах, оплакивая потерянное счастье, думая о детях, похищенных у меня, о том, что никогда больше с ними не увижусь. Я ведь не знаю даже, где они, что с ними; не дай Бог, если их вообще… Потом я притерпелась и беседую с сиделками, сторожихами, они тоже считают меня тихой помешанной. Мондье известно все это, и он не боится меня, не опасается, что я могу кому-то рассказать о прошлом. Может, он даже думает, что я ничего не помню. Словно такие раны могут зажить! Но довольно говорить об этом! Вы пришли, чтобы получить оружие против этого ублюдка — я вам его дам. Вчера вы исповедались мне. Послушайте же меня.
— Сначала я должна сказать, — приступила Маркизетта, — кто же такой Мондье, настоящий Мондье, о ком почти никто не знает. Лучшее средство свалить его — объявить всем, кто он такой. Так слушайте меня. Прежде всего, даже его имя не подлинное, как и титул. Его зовут просто Лоран Шалопен, а вовсе не граф Гастон де Мондье. Правда, кровь этого благородного рода все-таки течет в жилах проходимца. Его отцом считался — но только считался — Жан Шалопен, начальник охоты у старого аристократа, чья жена была его собственной кузиной[128] и отменной красавицей. Однако далеко не юному графу Норберу де Мондье — как говорится, седина в бороду, бес в ребро, — приглянулась спутница жизни его приближенного, завязались любовные отношения, довольно обычные между барином и служанкой… Супруг закрывал на это глаза, в награду за снисходительность получил от графа кругленькую сумму, хорошо ее употребив для процветания собственного хозяйства. А блудная жена его родила сына, нареченного Лораном. Он-то и стал тем мерзавцем, о ком мы ведем речь.
Старик Мондье оказался любвеобилен и справедлив по-своему: законная супруга — графиня тоже разрешилась от бремени, на свет появился маленький граф Гастон, он-то и был настоящий Мондье… Мой… умерший!.. — сказала Маркизетта, плача.
Взволнованная Жермена сказала:
— Если вам очень тяжело, прервитесь, я подожду.
— Нет, я рада, что еще могу плакать. Уже давно я не облегчала душу слезами. Я доскажу.
— Мальчики росли и воспитывались вместе, сначала играли, позднее учились. Заядлый любитель охоты на волков и кабанов, граф Норбер почти круглый год жил в имении в Бретани, проводя с графиней в городе всего месяца три, зимой. Маленькому графу Гастону не было и шести лет, когда мать умерла от тифозной горячки. Я рассказываю об этом, чтобы вы поняли, как могла повлиять эта смерть на тихого, доброго и очень чувствительного мальчика. Норбер де Мондье, не отличавшийся большой отцовской нежностью, нанял сыну воспитателя и опять дал в товарищи сводного брата Лорана — об их родстве многие догадывались. Они были так похожи друг на друга, что об этом достаточно посплетничали в округе. Но сходство было чисто внешним, по характерам они совершенно различались. Завистливый, неискренний, грубый и жестокий Лоран был полной противоположностью Гастону. Еще ребенком он, казалось, обещал стать таким, каким и сделался в юности, а потом и взрослым мужчиной. По соседству с замком стояла ферма, ею управлял Жан Корник, имевший троих сыновей и дочку, Марию-Анну, прехорошенькую, беленькую, тоненькую и хрупкую, она росла всеобщей любимицей. Даже старый граф Норбер, страстный охотник, иногда терся взъерошенной жесткой бородой о ее розовенькое личико. А графиня де Мондье была ее любящей крестной. Однажды в замке устраивали детский бал. Позвали Марию-Анну, графиня занялась ее нарядом, придумав одеть крестницу в платье времен Людовика XV. Костюм так подходил девочке, что она казалась сошедшей с картины, висевшей в гостиной. «Настоящая маленькая маркиза!» — сказал граф. Весь вечер ее так и звали — Маркизетта. Милое прозвище осталось навсегда. Девочка часто приходила в замок поиграть с мальчиками; оба ее любили, но проявляли свои чувства по-разному. Гастон относился к подружке с бесконечной нежностью, дарил букеты из полевых цветов, нежно целовал в щечки, охотно исполнял все желания. Лоран, ревнивый и скрытный, старался отдалять девочку от Гастона, явно ему предпочитаемого, и, поскольку это не удавалось, он бил, царапал и кусал Маркизетту, когда оказывался с ней наедине. Потом, доведя до слез, начинал бить сам себя, царапать свое лицо до крови, в наказание за то, что сделал ей больно. Маркизетта побаивалась Лорана, часто видя его злым и жестоким. Например, однажды Гастон нашел на высоком каштане гнездо со щеглятами и показал их подружке. Оба долго любовались забавными птенцами, пытались — понапрасну — их покормить… А на другое утро увидели, что славным птахам в глазенки кто-то воткнул колючки акации. Подошел Лоран, он смотрел со злой улыбкой, Маркизетта закричала: «Это он! Он злой! Нехороший!» Гастон, очень рассерженный, бросился на сверстника и поколотил как следует. Лоран не сопротивлялся, но девочка не могла забыть полного ненависти взгляда, каким он глядел тогда на Гастона. А вскоре, должно быть, в отместку, Лоран зарезал беленького козленка.
Отец наказал, боясь, что старый граф прогневается, но Норбер де Мондье сказал начальнику охоты: «Оставь его, он молодец, не боится крови, умеет действовать ножом, лет через пятнадцать из него выйдет храбрый добытчик зверя. Мне хотелось бы, чтобы эта мокрая курица Гастон был на него похож!»
— Я, наверное, надоела историями о прошлом, — прервала себя Маркизетта, — но если бы вы знали, какая радость и печаль так вспоминать дни своей жизни, особенно детства.
— Говорите, мадам! Говорите! — воскликнула Жермена, заинтересованная простым и одновременно таким трогательным рассказом. — Все, что касается вас, мне не может быть безразлично.
— Благодарю вас. Итак, шли годы, Гастон и Лоран росли вместе, занимался с ними общий наставник. Человек очень образованный, с широким кругозором, но преданный скверным порокам. Имя его Кастане…
— Брат директора этой лечебницы, — вставила Жермена.
— Да.
— Мне известно, кем он стал впоследствии, и ваш рассказ теперь многое поясняет. Но продолжайте, пожалуйста.
— Лоран Шалопен жил в замке наполовину как добровольно взятый, но чужой иждивенец, наполовину как родственник. Он усердно занимался, с жадностью усваивая знания, много читал. Старый граф иногда говорил: «Учись, мой мальчик, я устрою твою судьбу, будешь управлять моими имениями… займешь видное положение… Обворовывая меня в меру, составишь себе порядочное состояние». Мария-Анна стала красивой семнадцатилетней девушкой, чуть-чуть кокетливой, гордой сознанием, что ее любит Гастон Мондье. Она одевалась как городские барышни, ухаживала за волосами, вьющимися от природы; кожа у нее была белая как молоко, руки совершенной формы. Она служила в замке кастеляншей и, несмотря на свою молодость, управляла всем хозяйством дома и потому считалась полноправным членом семьи. Девушка радовалась жизни, поглощенная чувством любви, в какое превратилась детская привязанность к Гастону. Оба не заметили, как это произошло. Юный граф, растревоженный их поцелуями украдкой, однажды сказал, что любит ее и она должна ему принадлежать. Маркизетта поняла и отдалась просто, без внутреннего сопротивления, счастливая тем, что дарит свое тело тому, кто уже давно владеет ее душой. Но и Лоран тоже любил подружку детства, любил страстно, ревниво и дико, он беспрестанно сыпал признаниями и добивался взаимности. Маркизетта не хотела и слушать, безудержно преданная Гастону, и, кроме того, Лорана она боялась. Ей мерещилось, что его руки в крови после того как он умертвил птенцов и зарезал козленка. Очень скоро Лоран догадался о связи Маркизетты с Гастоном и был словно помешанный от злости и ревности. Девушка часто слышала, как он бормочет самому себе: «Он у меня все украл… мое положение… богатство… и даже женщину, которую я люблю! Я должен бы носить имя Мондье, а меня зовут Шалопен… Маркизетта его обожает… Я отомщу!..» И он исполнил злобное и жестокое намерение.
Отец Марии-Анны проведал о том, что болтают про его дочь, и, конечно, узнал последним. Он вызвал ее для объяснения, и та спокойно подтвердила, что скоро станет матерью. Несчастный от такого позора воздел руки к небу и воскликнул: «Господь и Бог мой, у меня нет больше дочери!» Фермер ведь был одним из старых бретонцев, проникнутых узкой набожностью с неколебимым понятием о чести, тех, кому непонятна возможность прощения греха, дающего начало его искуплению. Безжалостно прогнав дочь из дома, он сжег все вещи, что ей принадлежали, и запретил произносить при нем ненавистное и презренное имя. Маркизетта встретила Гастона в тот момент, когда намеревалась броситься в пруд. «У меня нет на свете никого, кроме вас, Гастон!» — рыдая говорила она. «Я никогда тебя не оставлю, любимая моя!» — отвечал он, нежно целуя девушку. Ему исполнился тогда двадцать один год. Хотя Гастон уважал и боялся отца гораздо больше, чем Лоран, он честно во всем признался. Старый граф принял молодцеватый вид и, смеясь, ответил сыну: «Ах, шельмец! Ты таки просветил девчонку! Честное слово! Я поступил бы так же! Но она — дочка моего фермера, будет ужасный скандал! Однако есть возможность уладить». Гастон, воплощенная честность и порядочность, подумал, что отец скажет: «Женись на ней, дай имя ребенку, который совсем не просился родиться на свет». Но старый охотник на волков произнес другое: «Вижу, тебе хочется погулять!.. Пора послать тебя в Париж… Возьмешь с собой Маркизетточку… она в самом деле лакомый кусочек… ты ее как следует образуешь, отшлифуешь и введешь в свет, где и я в молодые годы славно повеселился! Проходимец Лоран поедет с тобой. Я буду высылать тебе три тысячи франков в месяц и изредка приезжать, чтобы вкусно поесть с тобой и выпить бутылочку доброго вина. Непременно оповести меня, если наделаешь долгов, хотя лучше их избегать. Пока до свиданья! Советую повеселиться. Да, забыл о главном: устрой с ребенком все как следует. Ты меня понял?»
Через три месяца у Маркизетты появился на свет красивый мальчик, как незаконнорожденного его не крестили, в акте гражданского состояния он был записан: Жорж-Анри, сын Марии-Анны Корник и Гастона-Жоржа де Мондье.
Старый граф велел «устроить с ребенком все как следует», и Гастон сделал самое лучшее в этом положении — дал сыну свое имя.
— Это прекрасно! Видно, что он был действительно сердечным человеком, — вставила Жермена.
А разговорившаяся Маркизетта продолжала:
— Случай, конечно, не без помощи Лорана сделал так, что Гастон де Мондье встретился со своим бывшим воспитателем Кастане, давно прогнанным из замка за предосудительное поведение: тот испробовал разные профессии, побывал во многих местах и в конце концов пристроился к акушерке по прозвищу Бабетта. Лоран всегда поддерживал с ним тайные отношения. Бывшего ученика привлекала к прежнему воспитателю общая склонность к пороку, в удовлетворении какого младший оказывал старшему содействие. Пройдоха и будущий злодей уверил сводного брата, что Маркизетте лучше всего будет рожать у Бабетты, мотивируя тем, что старый граф может со дня на день приехать, и роженица будет чувствовать себя неловко в его присутствии. Гастон, не имея причины не доверять Лорану, охотно согласился. Его слепая доверчивость стала вскоре причиной самых больших несчастий и позволила негодяю мстить своему товарищу детства и брату, кого он смертельно ненавидел. Разумеется, Лоран поспешил известить старого графа о том, как Гастон выполнил отцовское пожелание относительно ребенка. Граф Норбер пришел в бешенство и тотчас помчался в Париж. Еще бы: его знатный сын дал свое аристократическое имя незаконнорожденному ребенку от какой-то потаскушки! Первым делом граф разыскал предателя Лорана, готового оказать содействие в совершении любого преступления, чтобы утолить собственную ненависть. Маркизетта ничего не подозревала об их заговоре, вскоре нанесшем молодой матери жестокий удар. К большому сожалению, она не могла грудью кормить ребенка: горе, что она пережила перед родами, когда отец выгнал ее из дому, лишило молодую маму молока. Обожаемого младенца, плод ее тайной любви с Гастоном пришлось отдать на воспитание кормилице, жительнице поместья Круасси. Через месяц, еще чувствуя себя не совсем здоровой, она попросила Гастона съездить повидать сына. Гастон возвратился в совершенном смятении, еле мог сказать, что ребенок исчез сутки назад. Маркизетта упала без чувств. Уже долгое время спустя, после того, как бедняжка пришла в себя, она вспомнила жестокую улыбку Лорана, когда тот обещал ей отомстить. Не кто иной как он подсказал взбешенному графу способ расплаты, разработал план, а Бабетта его выполнила. Она сделала даже больше того, что приказали. Лоран замыслил похитить мальчугана, чтобы сделать из него заложника, а туповато-усердная Бабетта просто бросила украденное у кормилицы дитя на улице. Напрасно Маркизетта на коленях умоляла сказать, где Бабетта оставила малыша: та, уже тогда сильно пившая, уверяла, что ничего не помнит. Маркизетта отдала все деньги и драгоценности, какие имела, но мерзкая баба, видя, что больше поживиться нечем, сказала с наглой улыбочкой: «Твой ребеночек на улице Потерянных Детей номер ищи-свищи…» Так Жорж-Анри и пропал окончательно…
— Я готова была лечь под топор палача, лишь бы убить эту гадину! — воскликнула Маркизетта.
— Но разве вы не могли обо всем сказать отцу мальчика, вашему возлюбленному Гастону? — спросила Жермена.
— Я не осмеливалась. Боялась, что в порыве ярости он натворит ужасное. Очень добрый и тихий, Гастон в ярости делался сам не свой. Я боялась: между ним и его отцом произойдет нечто непоправимое, если станет известно, что старый граф причастен к исчезновению ребенка.
— Отец Гастона — негодяй, я бы ему отомстила! — горячо сказала Жермена.
— Вы парижанка и легко загораетесь. Мы, бретонцы, привыкли к покорности судьбе. Я оплакивала ребенка, тяжело переживая горе, но и утешалась тем, что не посеяла вражды между Гастоном и старым графом. Моему возлюбленному стало бы еще тяжелее, узнай он о преступлении своего отца… Но я закончу свою повесть, с вашего позволения?
— Да, да, я совсем не утомлена, и кофе вы приготовили восхитительно, он очень взбадривает. Я вся — внимание, мадам.
Два года спустя, Маркизетта почувствовала, что вновь забеременела, и это стало большим утешением после тяжелой утраты. Сделавшись теперь недоверчивой, она поделилась радостью только с Гастоном. Ему исполнилось двадцать три года и до совершеннолетия, каковое по закону наступает в двадцать пять, оставалось не так уж много. Тогда он мог жениться на Маркизетте, не испрашивая на то дозволения отца. Увы! Несчастный сделал непоправимую ошибку: он выдал их общий секрет Лорану, кого считал братом. Мог ли Гастон не доверять ему? Лоран всегда проявлял сердечность, был осведомлен обо всех его планах, клялся, что никогда его не покинет… Через неделю в Париж, как бы случайно, снова приехал старший Мондье. У него произошел с сыном крупный разговор, граф решительно потребовал, чтобы Гастон через короткое время женился на дальней родственнице, кою никогда в жизни не видел. В их обществе такое в обычае. Гастон умолял отца отказаться от этой мысли, но граф заявил непреклонно: или он женится, или отправится на два года в кругосветное плавание, пока же сын не решит, отец не будет давать ему ни сантима. Сказав это, Мондье-старший добавил: «Если ты не исполнишь мою волю, я промотаю все мое состояние, после моей смерти ты ничего не получишь и умрешь нищим». Гастон боялся нищеты для Маркизетты и будущего ребенка и, отказавшись от навязываемой женитьбы, согласился на путешествие. Отец выделил значительную сумму денег и не покидал сына, пока не посадил его в Гавре на пароход, направлявшийся в Северную Америку. К несчастью, неразлучный Лоран поехал с братом. Граф теперь вел себя вполне корректно и дал Маркизетте несколько тысяч франков, от них в другое время молодая женщина с гордостью отказалась бы, но в том положении следовало думать о будущем ребенке. Уезжая, Гастон обещал Маркизетте писать как только сможет чаще. Он сдержал слово, и с каждой почтой, еженедельно приходило очередное нежное послание. Гастон был счастлив, насколько мог быть таковым в разлуке с любимой. Он ездил по Америке, охотился, посещал племена индейцев и все его письма заканчивались горячими уверениями в вечной любви. Часто он добавлял: «Время движется и каждый день приближает нас к тому, когда перед Богом и всем светом я смогу назвать тебя женой». Маркизетта верила, терпеливо ждала, считая часы и моля Господа о милосердии к ним обоим. Через три месяца она родила прехорошенькую девочку, ее-то уже никому не доверила, кормила и ухаживала сама, испытывая великое счастье материнства во всей полноте. Гастон находился в это время в центре Калифорнии, собирался переехать оттуда в Мексику и там сесть на пароход и плыть в Южную Америку. Письма стали приходить реже, но были еще нежнее и длиннее, чем прежде. Ребенок рос здоровым, и мать терпеливо ждала. Уже больше года Гастон путешествовал в сопровождении Лорана. Маркизетта думала: «Пройдет еще столько же времени, он вернется, женится на своей Марии-Анне, и наша маленькая Жанна законно получит его имя».
Почта приходила все реже. Гастон был уже в Японии, собирался оттуда в Китай и затем, посетив Индию, намеревался плыть домой. Тон его писем как-то изменился, в них стало проявляться больше страсти, чем нежности, он как будто терял терпение от долгой разлуки с любимой. Маркизетта думала с восторгом: «Дорогой Гастон! Как он меня любит!» Время ожидания тянулось неимоверно долго, но дочка служила Маркизетте утешением, и сердце ее радостно билось, когда она думала о встрече с возлюбленным, который вскоре станет ее мужем. Оставалось уже недолго ждать. Маркизетта, весьма поднаторевшая в географии, следила по карте за расстояниями. Наконец пришла депеша из Марселя. Маркизетта одновременно плакала и смеялась, танцевала и говорила со своей девчуркой, как со взрослой. Настал день, когда она услышала, как подъехала карета, раздались быстрые шаги по лестнице, она увидела темного от загара, бородатого мужчину, простиравшего к ней руки, была уже готова броситься в его объятия, как вдруг отпрянула, воскликнув в ужасе: «Ты не Гастон!.. Ты — Лоран!..» — «Мария-Анна! Дорогая! Что ты говоришь! Неужели ты не узнаешь Гастона, который тебя так страстно любит?! Отца твоего ребенка… Моей дорогой девочки!..» — «Все ложь!.. Ты Лоран!» — «Лоран умер от лихорадки в лесах Бомбея. Я не набрался мужества тебя об этом предупредить, письма хранятся на корабле». — «Ты лжешь! Умер Гастон!.. Ты его убил!.. Чтобы занять его место… Взять его фамилию… завладеть его женой… Убийца!.. Убийца!..» Тогда он пробормотал, страшно побледнев: «Нет, я его не убил! Клянусь тебе в этом! Он умер год назад… у меня есть доказательства… там… бумаги в этом чемодане… свидетельство о смерти… с подписью и печатью секретаря французского консульства. Умер от желтой лихорадки… смотри… вот подписи… вот печати… я за ним ухаживал, я сделал все, чтобы спасти… это чистая правда… я не лгу…» — «Ты лжешь… я это чувствую…» — «Когда он умер, у меня возникла мысль, внушенная дьяволом. Я люблю тебя с детства… ты знаешь это… я тебя обожал безумно и безнадежно… Я сказал себе: «Гастон умер… я займу его место… стану виконтом де Мондье… буду продолжать путешествие под его именем и писать его почерком и слогом нашему общему отцу и Маркизетте… Позднее предложу той, кого я так люблю, принять имя, что дал бы ей Гастон, будь он жив, имя и титул графини де Мондье, и ребенок получит его имя и состояние… Старый граф Норбер стал почти слеп, он ничего не заметит. Люди, окружавшие нас, тоже ничего не углядят, ведь мы с ним так похожи!» Маркизетта как сквозь туман слышала эти слова, голова кружилась, ее качало, и одна только мысль вертелась у нее в голове и как ножом резала сердце: «Гастон умер!.. Гастон умер!..» Лоран продолжал уверять в своей невиновности и дерзал говорить о любви. Несчастная чуть не умерла с горя. Удар был нанесен в тот момент, когда она готовилась стать совсем счастливой. С ней сделалась горячка, отчего бедняжка едва не умерла. Лоран, по-своему действительно любивший ее, ухаживал за ней как мог во время болезни, и когда она немножко оправилась, сказал, что едет в Бретань. «Я должен сыграть роль до конца и подготовить бедного старика к ужасному известию, — сказал он. — Ах, если бы было возможно, чтобы он принял меня за родного сына, если бы он не оказался столь же проницателен, как ты, Мария-Анна!» Шалопен уехал, оставив письменные доказательства о смерти Гастона. Через несколько дней Маркизетта получила из Бретани известие о том, что граф Норбер де Мондье умер от удара, узнав о смерти сына. Под письмом стояла подпись: «Лоран». Первое, что подумала Маркизетта: подлец убил старика! Она знала, что мерзавец способен на все. Предположив, что граф разгадал его преступление, Лоран не остановился перед новым злодеянием, чтобы окончательно закрепить совершенный обман. В Бретани его действительно приняли за Гастона де Мондье, так сводные братья были схожи, и так артистически усвоил его манеры убийца. Он наследовал графу, похоронил и, как могло показаться со стороны, вполне искренне оплакал. Лоран получил титул, имение и замок, стал де Мондье, и никто не заподозрил, что он значился прежде сыном начальника графской охоты. Родительская кровь Мондье и его знатное имя соединились в Лоране. Когда он отдал своему истинному отцу, ставшему и его жертвой, последний долг и юридически оформил все права на наследство, новоявленный граф вернулся в Париж в глубоком трауре, явился к Маркизетте и снова начал уговаривать быть его женой, но та не стала слушать, сердце ее умерло с кончиной Гастона, и молодая женщина решительно сказала бывшему товарищу детства и юности, что не желает его видеть, и запретила к ней приходить. Теперь он очень жалел о том, что оставил в ее руках свидетельство о смерти Гастона, и то, главное письмо, где извещал об упокоении старого графа от апоплексического удара. Сначала Лоран очень скромно просил вернуть документы, имевшие для него первостепенное значение. (Ему стоило немалых трудов ради этой цели добиваться у Маркизетты коротких деловых встреч; ни о какой любви и женитьбе уже не было речи.) Несчастная женщина решительно отказала и по какой-то интуитивной предусмотрительности положила бумаги в сохранное место, зная, что может ждать от новоявленного аристократа всего. Теряя надежду на осуществление своих планов и замыслов, негодяй сказал: «У вас теперь мощное оружие против меня, но берегитесь! Если когда-нибудь вы осмелитесь использовать его, вас поразят самые ужасные несчастья!» Граф де Мондье начал понемногу появляться в свете, пока очень осторожно, еще не чувствуя себя достаточно уверенным, но вскоре вошел во вкус разгульной жизни, постепенно предавшись ей совершенно. Через полгода он снова почти вломился к Маркизетте и требовал документы с особенной настойчивостью. Лоран — теперь уже Гастон — не мог чувствовать себя в безопасности, пока бумаги находились у женщины, что его ненавидела. Он предлагал значительную сумму и, когда Маркизетта наотрез отказалась, глянул на нее с такой ненавистью, с какой некогда смотрел на истинного Гастона де Мондье. Но у Маркизетты хватило силы сказать: «Если со мной произойдет несчастье, я подам прошение прокурору и бумаги Гастона передам ему». Через неделю после этого разговора Маркизетта слегка занемогла и, пообедав, против обыкновения прилегла и крепко уснула. Когда она пробудилась, детская кроватка оказалась пуста и к ней была приколота записка: «Вы больше не увидите своей дочери. Ее жизнь служит залогом моей безопасности, если вы что-нибудь сделаете против меня, она умрет, если вечно будете молчать, она проживет счастливо…» Удар оказался слишком тяжелым для несчастной женщины, она как бы помешалась, заболела воспалением мозга. В бессознательном состоянии ее перевезли в лечебницу, где Мария-Анна многие недели пребывала между жизнью и смертью. Потом, через какое-то время она очнулась в другой больнице, в той, где и находится по сие время…
Их разговор внезапно прервало появление надзирательницы Жозефины. Она вошла тяжелой походкой и сказала смеясь:
— Вот заболтались… вижу, не скучаете вдвоем… на сегодня довольно. Завтра опять увидитесь.
Женщины молча посмотрели друг на друга, вложив во взгляды все свои чувства, и покорно расстались.
На другой день — уже пятый после заточения Жермены, когда она готовилась отправиться к своей подруге, надзирательница сказала, что они смогут встретиться только вечером.
— Надеюсь, с мадам ничего не стряслось?
— Просто небольшой нервный припадок, это с ней случается.
В четыре часа Жермена намеревалась спросить надзирательницу, когда они пойдут во флигелек Маркизетты, но вдруг услышала на дорожке, посыпанной песком, звук шагов, показавшихся знакомыми.
Жозефина, даже не спросив разрешения войти, объявила:
— Граф де Мондье!
ГЛАВА 12
Мондье поклонился. Жермена встретила его холодно, на лице никак не отразилось волнение. Он явно нервничал.
— Дорогая Жермена, печальная ошибка сделала вас здешней пленницей, я пришел освободить…
— Поздно спохватились! После того, как меня подвергли насильственным и унизительным процедурам. Но если уж вы пришли, чтобы разорвать мои цепи, как говорится в театре, сделайте, чтобы меня выпустили отсюда немедленно, и разговор наш будет кончен.
Такая независимость и резкость заставили посетителя несколько растеряться, но все-таки он сказал:
— Прежде мы должны серьезно потолковать о наших взаимоотношениях.
— Следовательно, вы хотите, чтобы я купила свою свободу… Намерены поставить мне какие-то условия. Одним словом, воспользоваться тем, что я нахожусь в западне, вами же и уготованной для меня.
— Здесь только один человек вас горячо, безумно любит. Он сделает все, что вы захотите!
— При условии, что я ему уступлю… Посмотрим… Но прежде мне хотелось бы знать, с кем я сейчас имею дело, с де Мондье или с его двойником Лораном Шалопеном?
Граф, видимо, был готов к подобному вопросу, он печально улыбнулся и спокойно ответил:
— А! Видимо, вы говорили с этой несчастной сумасшедшей. Мне кажется, Жермена, такие умные и проницательные женщины, как вы, не должны принимать всерьез слова несчастных помешанных, даже когда они говорят подобно нормальным.
— Так, по-вашему, Маркизетта безумна?
— Совершенно!..
— Разрешите в этом усомниться.
— Спросите здесь кого угодно, и все скажут, что она страдает манией преследования и рассказывает всякие небылицы, весьма огорчительные, ибо некоторые слушатели вроде вас им верят.
— Хорошо, пусть так; значит, вы действительно граф Гастон де Мондье?
— Да, и могу это документально доказать, если вы не верите на слово.
— И ваше графство к тому же не мешает вам быть одновременно и сеньором Гаэтано?
Мондье стиснул зубы, он, казалось, был готов броситься на неосторожно рискнувшую так говорить с ним.
— Я не понимаю, о каком сеньоре вы говорите, — сказал негодяй, сдержавшись.
— Вы отлично знаете, о дворянине, что разбойничает на большой дороге… Грабит путешествующих или берет с них выкупы… Очень сильный и опытный гипнотизер… умеет внушать мысли… пользуется этим для всякого рода мошенничества…
— Не понимаю, что вы хотите сказать? — спросил Мондье, разыгрывая удивление.
— Однако я знаю об этом не от Маркизетты, якобы безумной. Тот, кто мне рассказал, совершенно заслуживает доверия. Из этого я заключаю, что вполне современный дворянин граф де Мондье иногда — и не столь редко — занимается разбоем, уподобляясь средневековым феодалам, а то и всякой мелкой швали.
Мондье почти вплотную подошел к Жермене и резко сказал:
— А если б это даже было так? Разве не воруют, и понемногу и даже очень помногу, высокопоставленные жулики, имеющие в городе красивые дома, в живописных местах — очаровательные виллы, большие поместья, леса, пруды, охотничьи угодья, открытый стол и… всеобщее уважение?! Право, разве уж постыдно уподобляться Фра-Дьяволо[129] и отнимать толстые кошельки у иностранцев-туристов, толпами разъезжающих одетыми в дурацкие клетчатые костюмы, а отняв, веселиться на деньги этих идиотов, портящих своим видом прекрасные пейзажи и таскающих за собой женщин, достойных получать призы за уродство!
— Возможно, — сказала Жермена с усмешкой. — Я сама не большая поклонница англичан, кого вы имеете в виду, судя по описанию, но я сторонница союза не только между государствами, но и между частными лицами-иностранцами.
— Снова Березов! — выдавил граф.
— Снова и всегда Мишель, князь Березов… Да, месье Лоран Шалопен, я говорю о нем.
— Он тоже сумасшедший!
— Нет, вполне здоров и… помнит обо всем!
— А какое мне дело до этого казака с Итальянского бульвара![130]
— Вам… никакого, но мне очень большое!
— Вы, может быть, любите его?
— Без сомнения!
— Берегитесь!
— Что же, разве я не могу любить кого хочу?
— Вы пренебрегаете мною!
— Я вас ненавижу и презираю!
— Еще раз говорю: берегитесь! Я бывал перед вами слаб до того, что терял голову… Но всему приходит конец!
— Тем лучше! Следовательно, завершайте этот визит.
— Знайте… Я сейчас так вас ненавижу, что способен уничтожить вас.
— Попробуйте! — сказала Жермена. — Я не остановилась перед тем, чтобы застрелить Мальтаверна, нанятого вами, чтобы убить дорогого мне друга. Сейчас я безоружна, однако не менее храбра и более решительна, чем вы, и, может быть, даже сильнее вас.
Граф явственно скрежетнул зубами.
— Прихлопнуть вас и после ответить за это перед законом!
В ответ Жермена расхохоталась, чем привела мерзавца в совершенное исступление.
Мондье бросился с намерением задушить эту дерзкую, дразняще прекрасную женщину, но прежде еще и овладеть ею — второй и последний раз в жизни.
В момент, когда он кинулся на Жермену, та успела выставить на уровне его глаз два раздвинутых в виде рогатки пальца с острыми ногтями.
Наполовину ослепленный, он отскочил, зарычав от бешенства и от боли.
Жермена опять рассмеялась и насмешливо проговорила:
— Я вам не светская неженка, я девушка из народа! А народ имеет клюв и когти. Сегодня я не пила снотворного, позвольте заметить, и меня не возьмешь!
Мондье метался, ничего не видя, тер налитые кровью глаза, изрыгал проклятия и ругательства, пытался поймать Жермену, но она легко ускользала и готовилась нанести новый удар.
— Берегитесь! — крикнула она. — Я сейчас вам окончательно выколю глаза. И вы станете и внешне отвратительным и беспомощным. Я ударю «вилочкой». Этому приему меня научил Бобино… тот самый, на кого вы посылали наемного убийцу… храбрый рабочий типографии… мой будущий шурин… Бо-би-но.
Отрывистый стук в дверь прервал фразу, и не успела она сказать: «Войдите», как с порога веселый голос откликнулся:
— Бобино? Здесь!
И женщина, одетая в костюм надзирательницы, быстро вошла в комнату, повернув изнутри ключ.
Довольно высокая, полная и высокогрудая, она приблизилась к Жермене, совершенно недоумевавшей, почему, когда прозвучало имя Бобино, явилась служительница.
Мондье, у него глаза сочились кровавыми слезами, спросил:
— Кто вы такая?.. Что вам надо?.. Я запретил входить сюда кому бы то ни было!
— Обошлись без вашего разрешения, господин граф, — ответила женщина. — Девка Жозефина напилась в стельку с моей помощью, а мне никто не заказал сюда прибыть. Нравится вам или нет, мне на то наплевать!
Граф, чувствуя, что к Жермене подошла подмога, вынул кинжал с коротким лезвием и нацелился было заколоть неизвестную.
Женщина подняла край юбки и ловко нанесла графу сильный удар башмаком повыше его щиколотки. Таким способом можно не только рассечь мускул, но иногда даже перебить кость.
Граф взвыл от боли и чуть не упал, выронив кинжал.
— Вот как мстят за себя женщины, господин граф!
И снова, вздернув юбку повыше, произнесла:
— Извините, что показываю свои прелести, но я это делаю с добрыми намерениями.
При этих словах отважная незнакомка так двинула графа ногой в грудь, что тот упал, глухо захрипев, и уже не мог двинуться.
— Я вам не светская неженка, я девушка из народа!
— А теперь, милая Жермена, — сказала странная посетительница, — возьмите клиента за передние лапки и наденьте на него смирительную рубашку, он не способен больше сопротивляться. Пришло время действовать!
Эти слова были произнесены натуральным мужским голосом, что заставил Жермену закричать:
— Бобино!.. Это Бобино!..
— Скажите лучше — Бобинетта, судя по костюму.
— Как вы оказались здесь?
— Молчок! Не теряйте зря времени, лучше свяжите покрепче господина графа. — Юноша взял с полу кинжал, располосовал простыню и связал Мондье ноги, а Жермена — руки. Потом Бобино заткнул пленнику рот платком, положил бандита на кровать и для надежности прихлестнул к ней недвижное тело.
Быстро покончив с этим делом, типограф спросил:
— Все шло так, как вы хотели?
Жермена, несмотря на серьезность ситуации, смеялась, глядя на его наряд.
— Ну прямо настоящая женщина! Так здорово вы нарядились.
— Сделал что мог, пришлось пожертвовать усами.
— Право, странно!
— Что странно?
— В таком обличии вы стали ужасно похожи…
Услышав, что Мондье хрипит с кляпом во рту, она замолчала и, лишь приблизив губы к уху Бобино, шепнула:
— …На Сюзанну Мондье и еще на одну бедную женщину, ее скоро увидите. Ах, если бы удалось сделать так, чтобы она бежала вместе с нами!
— Если вам это угодно — сделаем запросто!
— Значит, мы выберемся отсюда?
— А разве вам хочется остаться? Понравилось?
— Довольно шуток. Как мы отсюда выйдем?
— Это уж моя забота. Все, что я могу вам сказать, — смотаемся сегодня вечером, непременно.
— Но объясните хотя бы, как вы попали сюда, Бобино?
— Пойдемте к двери, чтобы господин граф не услышал. Он ничего не должен об этом знать. К тому же у нас есть время поговорить, ведь надо дожидаться темноты. Итак, можете представить, как мы обеспокоились, когда в назначенное время вы не пришли на улицу Вазино, где мы с Матисом ждали в экипаже. На другой день мы окончательно уверились, что вас заперли в лечебнице. Вы все-таки очень неосторожно поступили, Жермена.
— Так было надо.
— Не спорю, но дрожь пробирает, когда думаю об опасности, что вам угрожала. Поняв, что нельзя даже пробовать пройти обычным способом в проклятую лечебницу, я начал думать, как действовать. Я ломал голову, пока вдруг не вспомнил, что доктор Кастане — брат Лишамора, старого пьяницы, сожителя мамаши Башю, а она — мать Андреа. Я и сказал себе: «Вот от кого можно ждать помощи!»
— Как это? — спросила Жермена.
— Сейчас узнаете. Андреа ведет себя по-скотски с «лакированными бычками», но в действительности она добрая девка, золотое сердце, воплощенная самоотверженность. Я побежал к ней, все рассказал, попросил подмоги. Не долго думая, она выдала такие соображения. Для меня главное не только войти, но и оставаться какое-то время в лечебнице, там наверняка относятся с большим недоверием ко всякому новому лицу и принимают на работу только по надежной рекомендации. Мы стали рыться в памяти, кто бы мог поручительствовать и очень волновались, потому что время не ждало. Наконец Андреа радостно воскликнула: «Мальчик мой, я что-то придумала! Я сейчас увольняю часть моих людей, поскольку доходы уменьшились, когда Ги отдал концы, и вы станете Анной, моей второй горничной. Сбреете усы, оденетесь женщиной, я дам всякие тряпки, парик и научу, как надо двигаться». Так, переодетого, она повезла меня к Лишамору, получить от него рекомендацию к брату в лечебницу. Он, конечно, сначала заупрямился, но Андреа сунула в лапу сто франков, и старый негодяй согласился написать брату. Похоже, он с братцем вполне дружен, потому что, прочитав письмо, доктор сразу принял меня на место надзирателя, вернее надзирательницы. Мне выдали форменную одежду и предоставили место на чердаке, важно названном комнатой обслуживающего персонала. Я устроил угощение по случаю моего поступления, а Жозефину накачал допьяна. Представляясь слегка придурковатой бабенкой, я быстро узнал обо всем, что здесь делается, и познакомился с персоналом и больными. Проведал, где находитесь вы и где Маркизетта. Ваша надзирательница Жозефина очень любит крепкие напитки, впрочем, как и большинство тех, кому приходится смотреть за больными. Поскольку она после угощения была не в состоянии действовать, я таким путем оказался вместо нее и застал вас именно в тот момент, когда вы собирались выцарапать глаза господину графу. Я все пока сделал, теперь осталось немножко потерпеть.
— Опять ждать!
— Совсем мало. Только до девяти вечера.
— И вы полагаете, что я смогу убежать?
— Совершенно в этом уверен.
— Ведь я не одна, нам надо освободить и ту несчастную женщину, что вчера не успела окончить свой рассказ.
— Маркизетту?
— Да. Из человеческого сострадания, из любви я должна освободить ее из этого ада. Ее дело связано с нашим, и я не могу уйти без нее.
— Я позволю вам увести ее.
— Как вы это устроите? Бегство полно трудных моментов… уж я не говорю об опасностях…
— Предоставьте мне все… Вечером увидите… Я вас оставляю в обществе господина графа… он не опасен… но, может быть, вам лучше пойти предупредить мадам Маркизетту о том, что вечером мы ее похищаем?
— Так будет лучше.
— В половине девятого я буду около вас. Мужайтесь и надейтесь!
ГЛАВА 13
Разумеется, Бобино явился вовремя.
Жермена, в последний раз поговорив с Маркизеттой, ждала в своем флигеле.
Связанный, в смирительной рубашке, граф лежал совершенно неподвижно. Если бы не шумное дыханье через нос — рот у него был заткнут, — можно было подумать, что Мондье умер или в обмороке.
Жермена двигалась по комнате, не обращая на своего мучителя никакого внимания и не чувствуя к нему ни малейшей жалости, она только радовалась, что он не в состоянии сейчас вредить ей, и мечтала, как вскоре с помощью Маркизетты нанесет ему удар чуть не сильнее смерти.
Бобино постучал в дверь два раза. Жермена в темноте открыла.
— Я готова, — шепнула она.
— Одну минуточку, надо все-таки проверить господина графа. — Достав из-под юбки электрический фонарик, Бобино подошел, осмотрел, надежно ли держатся путы, убедившись, что все в порядке, сказал: — А теперь пошли за Маркизеттой.
Было без четверти девять. Они тихо ступили в огромный пустой сад, ночь наступила темная, облачная, глухая.
Маркизетта ждала их на крылечке. Она тихим шепотом сказала:
— Благослови вас Господь за благодеяние!
— Тихо! Ни слова, прошу вас, и возьмите меня под руку, обопритесь… ничего не бойтесь… я сильная, — отвечала Жермена.
— А он… наш мучитель… Я не жестокая, но с каким наслаждением всадила бы ему нож в сердце!
— Тише, тише, мадам… Следуйте за мной, — сказал Бобино, его странным образом взволновали и пожатие руки, и голос незнакомой женщины.
Чтобы песок на дорожке не скрипел под ногами, юноша повел беглянок по клумбам, потом пересекли лужайку, за ней рощицу и вторую полянку. Они не встретили на пути ни души, и уже почти приблизились к стене.
Жермена вздрогнула, в испуге почувствовав рядом тяжелое, хриплое дыхание. Она ясно вспомнила страшный момент, когда за ней гнались псы графа: девушка схватила Бобино за руку, на минуту стала слабой, беспомощной и в ужасе прошептала:
— Собаки!
— Не бойтесь, они не тронут, — сказал Бобино. — Я их превосходно попотчевал мясом… со стрихнином… эта, наверное, подыхает. Говорили, что эти зверюги ни от кого, кроме своих сторожей, не принимают пищи; сущая болтовня! От кусочка конины, обжаренной в сале, ни одна не отказалась и про начинку мою не подумали, скоты. Та, что вас напугала, оказалась немножко живучее других. Окаянные животные больше никого не укусят.
Бобино тихонько свистнул, ему тем же ответили со стены.
— Ты, Мишель? — спросил Бобино.
— Я, а Жермена с тобой?
— Да.
— Мишель! Вы здесь. Как я рада! — Жермена затрепетала от счастья.
— Дорогая! Через минуту мы будем вместе!
— Ну, тихо же! Сдержите чувства, и ни слова! Выше ногу… лестница… — скомандовал Бобино.
Невидимый в темноте, Березов опустил сверху надежную лестницу, Бобино прислонил ее к стене и сказал Жермене:
— Полезайте!
Она быстро взобралась.
— Теперь вы, мадам, — сказал Бобино, взяв Маркизетту за руки и помогая нашарить во тьме перекладину: — Не боитесь? Уде́ржитесь?
Юноша говорил с необычайной нежностью. Ему все время казалось, будто он слишком мало о ней заботится. Типограф чувствовал к незнакомой женщине какую-то инстинктивную преданность, душевное расположение, сердечную близость.
— Спасибо, дитя мое, как-нибудь справлюсь, — ответила та.
Слова́ «дитя мое» вызвали слезы на его глазах.
Мощная рука, протянутая Марии-Анне, помогла ей благополучно взобраться, князь подхватил ее и тотчас начал спускаться по ту, вольную, сторону.
Неуклюжая женская одежда не помешала и Бобино быстро преодолеть лестницу.
— Вот дело и сделано, — тихо сказал он Жермене. — Мишель все подготовил и исполнил точнейшим образом. Теперь — вниз.
— Но где мы находимся? — спросила девушка.
— По соседству с заведением Кастане, на пустыре, его Мишель купил, как только вы оказались запертой в этой, с позволения сказать, лечебнице.
Маркизетта стояла уже на земле вместе с князем и никак не могла поверить, что она наконец на свободе.
Бобино вытянул лестницу, по которой они взбирались.
— А где сверток с мужской одеждой? — спросил он друга.
— Здесь, у стены.
— А экипаж?
— У ограды, и Матис на козлах.
— Прекрасно… Только сниму эти тряпки, оденусь нормально, и в путь.
Жермена и Мишель обнялись украдкой, пока Бобино переоблачался. Он завернул женский наряд в фартук и смеха ради перебросил обратно через стену.
— В Сен-Жермене все в порядке, Матис? — спросил он.
— Да.
Беглецы разместились в экипаже, и лошади понеслись во всю прыть.
По распоряжению князя Матис повез их на улицу Элер, прибыли без всяких задержек.
— А Сюзанна?.. А Мария? — спрашивала Жермена в пути.
— Сюзанна уступила просьбам Мориса… ушла из дома графа… со своей родственницей мадам Шарме. Она в Сен-Жермене вместе с Бертой и Марией, в полной безопасности. Художник тоже там, охраняет дом: можем быть спокойны, — рассказывал Мишель.
— Прекрасно! — сказала Жермена и начала обдумывать создавшееся положение.
Граф, глупейшим образом попавшийся в ловушку в лечебнице, так ускорил этим ход событий, что мрачная и сложная история стремительно двинулась к развязке.
Теперь главное — скорее нанести бандиту Мондье последний удар.
Они выходили из экипажа. Мишель подал руку Жермене, Бобино бережно помогал выйти Маркизетте как нежный и почтительный сын.
Когда вступили в большой холл парадного этажа, Жермена сказала Марии-Анне:
— Мадам, считайте себя здесь как дома. Я сейчас прикажу подать ужин и потом, если устали, вам может быть будет угодно отдохнуть в своей комнате.
— Благодарю вас, дитя мое, — ответила затворница, еще не привыкшая к тому, что она свободна. — Я не голодна и не устала… но, тем не менее, от всей души благодарю за гостеприимство. Но разве у нас нет более необходимого и срочного занятия, чем отдых? А бумаги, что я обещала вам…
— Где же они? — с живостью спросила Жермена.
— В надежном месте… очень хорошо спрятаны… но далеко отсюда.
— Сможете ли вы их найти?
— Я как сейчас вижу, куда закопала сверток.
— Вам не будет трудно проводить нас?
— Охотно, но придется долго объяснять кучеру, как туда добираться. Это по дороге на Эрбле, а оттуда — к заброшенному господскому дому.
— О! — воскликнула Жермена. — Нам даже слишком хорошо известен этот проклятый дом!
— Там в подземелье, около одного из столбов и зарыты эти драгоценные документы.
— Сейчас нет еще и десяти, в двенадцать мы можем быть на месте, — сказал Бобино.
— Поехали! — со своей обычной решительностью сказала Жермена. — А оттуда прямо в Сен-Жермен.
В предвидении битвы князь всех вооружил. Каждый получил револьвер, а мужчины — и нож на случай рукопашной схватки.
С собой взяли запас еды и напитков: вдруг придется задержаться подольше.
Как и рассчитывал Бобино, в половине двенадцатого они подъехали к домику Могена.
Рыбак с охотой присоединился к экспедиции, взяв лопату и фонарь. Пошли к кабачку Лишамора.
У ржавой ограды Бобино поднял камень и принялся со всей силой колотить по забору.
Кабачок был пуст, а его хозяева, наверное, спали, по обыкновению как следует нагрузившись спиртным за день. Несмотря на поднятый шум, никто не выходил.
Матис нажал на ворота, и они, незапертые, открылись. Компания вошла во двор, и опять тот же Бобино начал дубасить в дверь кабака.
Минут через десять Лишамор наконец, не открывая, спросил, кто там шумит, чего надо?
— Как чего?.. Пить, есть, веселиться, мы с дамами… хотим хорошо погулять… денег много…
И Бобино зазвенел монетами. Заманчивый звук подействовал на отупевшие мозги Лишамора. Старый пьяница впустил после того, как ему пообещали, что он разделит компанию.
Матис вошел первым, схватил бывшего профессора за шиворот и сказал решительным тоном:
— Вытяни лапы! Мы их свяжем, и чтоб ни звука! А не то удавим.
Бобино тем временем запер дверь и спросил:
— Где старуха?
— Спит, — ответил Лишамор, позеленев от страха, когда узнал Жермену и типографа.
— Ее тоже свяжем и рот заткнем, как господину графу.
— Господин граф схвачен? — спросил пьяница.
— Да, старик, не вполне свободен. Что поделаешь?.. Пришло время расплачиваться, — сказал Бобино. — Ты и твоя старуха будьте умными! Иначе вам плохо придется.
Моген, знавший расположение подземелья, взял фонарь и повел всех туда. Бобино прихватил свечу Лишамора. Шли в затылок: Маркизетта, Жермена, Матис, замыкал Мишель, тоже со свечой.
Вошли в подземелье, где когда-то сидели Берта и Мария, сейчас здесь было достаточно светло.
Маркизетта села и начала вспоминать.
— Да, это точно было здесь, — шептала она, осматривая столбы около входа, как будто ища отметку, но штукатурка давно осыпалась, и бедная женщина не могла определить, около какой опоры надо копать.
Увидев какие-то царапины, она сказала в нерешительности и скорее всего наугад, от неловкости:
— Как будто здесь.
Матис принялся орудовать лопатой… Ничего… около второго, третьего столба… ничего.
Жермена испугалась. Ей вспомнились речи помешанных, казавшиеся сначала здравыми, и она подумала: «Не умалишенная ли она, Маркизетта? Не бред ли вся история про Мондье? Это было бы ужасно!»
Мария-Анна в волнении ходила от столба к столбу, бормоча:
— О горе мне! Горе! Я не могу вспомнить!
Крупные капли пота текли по лицу, ее охватила нервная дрожь.
Долгие годы затворничества и страданий затмили память.
Пришедшие стояли, с состраданием и тревогой глядя на женщину, и думали, что, может быть, у них под ногами лежат документы, что дадут им оружие против общего врага, и они наконец смогут начать жить спокойно, но где эти бумаги? Невозможно ведь изрыть все подземелье.
Несчастная Маркизетта зарыдала и воскликнула:
— Боже! Боже! Неужели ты допустишь такую несправедливость! Верни мне память!
И тут Жермену осенило. Никому ничего не сказав, она посмотрела Мишелю в глаза и произнесла только одно слово:
— Спите!
— Сплю, — ответил тот покорно.
— Мадам, дайте, пожалуйста, князю руку, — сказала Жермена. — Мишель, старайтесь слиться душой с этой дамой, сообща вспоминать и увидеть место. Торопитесь, мой друг! Так надо!
Мишель, держа в руке пальцы Маркизетты, сдвинул брови, будто с напряженьем что-то вспоминая, потом, после мучительной паузы, сказал:
— Я вижу.
— Что вы видите?
— Вижу женщину… несет две запечатанных бутылки… обернуты сеном… и поверх толстая ткань, обвязанная веревками.
— Так, так и было, — поспешно подтвердила Маркизетта.
Березов продолжал говорить почти беззвучно, как во сне:
— Женщина дрожит… глаза полны слез… бедняжка очень несчастна…
— Что она сейчас делает? — спросила Жермена.
— Роет ямку маленькой лопатой… работа идет медленно… она роет долго… Наконец выкопала… положила туда сверток… засыпает землей и утаптывает… чертит лезвием лопаты звезду на столбе…
— Она рыла около столба?
— Да.
— Где этот столб?
— Не вижу… его нет… он разрушился… обломки убрали…
— Ищите, мой друг… ищите место, — повелительно сказала Жермена. — Так надо.
Князь вел Маркизетту за руку, а она смотрела на всех, как будто говорила: «Теперь вы убедились, что я не сумасшедшая».
Мишель, казалось, что-то мучительно вспоминал и наконец потянул Маркизетту к маленькому бугорку, еле заметному над землей, и сказал:
— Здесь.
— Вы вполне уверены?
— Да, Жермена, совершенно.
— Теперь проснитесь. Моген, копайте, пожалуйста.
— К вашим услугам, мадемуазель, — ответил рыбак. Через минуту появилось несколько обрывков ткани и клочки сена.
— Осторожно! Осторожно! — закричал Бобино.
Маркизетта бросилась на колени около ямы и повторяла:
— Это здесь! Здесь!
Моген отложил лопату и, став на колени, начал рыть руками. Вскоре он вскочил и завопил во все горло:
— Победа! Они тут целехоньки! — И вынул из ямы две широкогорлые запечатанные сургучом бутылки. Сквозь стекло виднелись листы бумаги, свернутые в трубку.
Жермена схватила посудины и в нетерпении скорее увидеть содержимое разбила их одна о другую, рискуя поранить руки.
Бумаги, защищенные от влаги, были в полной сохранности. Жермена поспешно развернула свиток и начала оглашать заголовки:
— Акт о рождении Жоржа-Анри, сына Марии-Анны Корник и Гастона-Анри де Мондье… Акт о рождении Жанны-Марии-Сюзанны Корник… Акт о кончине Гастона-Анри де Мондье… Собственноручное завещание…
Все документы были написаны на гербовой бумаге чернилами, любая возможность подделки исключалась.
Жермена аккуратно свернула бесценные свидетельства, передала Мишелю, он положил их во внутренний карман пиджака и для верности застегнулся доверху.
Экспедиция завершилась полным успехом. Оставалось только выйти из подземелья.
Прежде чем подняться по стертым каменным ступеням, Жермена взяла Маркизетту за руку и сказала торжественно:
— Благодаря вам мы сможем начать жить спокойно! Сегодня все способствовало успеху, даже действия нашего врага, над которым мы одержали полную победу.
— Это правда, — сказал Бобино, — если бы так называемый граф тогда не гипнотизировал Мишеля насильно, черта с два сумел бы ты найти, где лежат бумаги!.. Ведь правда, ваше сиятельство?
Березов не успел ответить.
Обратившись опять к Маркизетте, Жермена сказала:
— Думаю, не надо повторять то, что я уже говорила… Живите с нами, пусть наша семья будет вашей. Мы будем вас так любить!.. Вы больше не останетесь одиноки, и вам обеспечена полная безопасность.
— О! Благодарю… благодарю вас!.. Моя семья… Это так прекрасно! Если бы я только могла надеяться увидеть моих детей!.. Сколько любви нашли бы они в моем сердце!
— Надейтесь, — сказала Жермена, — что касается меня, я буду искать их со страстью. Мне так хочется, чтобы вы были счастливы! Вы достойны счастья, дорогая моя мученица! Надейтесь!
ГЛАВА 14
Прежде чем вернуться в Сен-Жермен, друзья, естественно, сочли нужным развязать Лишамора и его достойную супругу, а также еще кое-что уточнить.
Взяв свечу, Бобино и Матис пошли в комнату, где лежала мерзкая старуха, дрожа от страха и, думая, что пришел ее последний час.
Жермена последовала за своими друзьями, вместе с ней и Маркизетта. Бедная женщина от переживаний еле держалась на ногах. Она тяжело опустилась в кресло, на ее лицо падал слабый свет.
Старуха Башю, когда ее развязали, потянулась, покашляла и вдруг, уставясь одурелым взглядом на Маркизетту, сидевшую в кресле, закричала:
— Маркизетта!.. Девочка господина графа!.. Первая его любовница… Мать двоих малышей! Она отомстит! Горе мне! Что она теперь сделает со мной!
Мария-Анна тоже узнала преступную акушерку, хотя прошло столько лет с того времени, когда они виделись.
— Бабетта! — воскликнула она.
— Точно, я… Теперь меня накажут… Ты одолела! Пришел мой черед плясать!
— Сколько же зла вы мне сделали! — проговорила женщина.
— Отомсти теперь! Что я могла? Мне приказывали — я исполняла…
— Речь идет не о смерти, а о нашем благополучии, — с достоинством сказала Жермена. — Каковы бы ни были причины вас ненавидеть, мы забудем о зле, если вы постараетесь его исправить. Вы все время отказывались сказать несчастной матери, что сделали с ее детьми. Вы должны сейчас во всем открыться, ничего не утаивая. Только на этом условии вы получите прощение, чего так мало заслуживаете.
— Ребенок, которого я оставила на ступеньках театра «Бобино»… был в пеленках, помеченных А. К. и большим крестом… — через силу выдавила старуха.
— Это моя метка! Мария-Анна Корник… — еле выговорила Маркизетта.
— Значит, ребенок, случайно оставшийся живым, — это я! — завопил Бобино. — И вы — моя мама! И я буду вас так любить, что уйдут из памяти проклятые годы, которые вы провели в слезах и страданиях! О моя мама! Я вас полюбил с того момента, как впервые увидел и коснулся вашей руки!
— Вы можете гордиться своим сыном! — сказала Жермена.
Счастливые события быстро следовали одно за другим, они подействовали на женщину, давно не видавшую счастья, так сильно, что, обнимая сына и шепча ему: «Жорж… мое дитя… это ты… мой Жорж»… — она лишилась чувств.
Бобино в отчаянии восклицал:
— Мама!.. Моя мама умирает! Для того ли я нашел ее, чтобы увидеть, как она умирает!
Но благодаря умелым заботам Жермены Маркизетта быстро пришла в себя, — такие приступы слабости не бывают долгими, счастье — лучшее лекарство, — и спросила Жермену, когда увидит свою дочь.
— Очень скоро. Матис, подгоните, пожалуйста, сюда экипаж.
Перед отъездом Мишель достал пачку банкнот, положил на кровать мамаши Башю и сказал:
— Вы загладили вину, возьмите деньги, и пусть они помогут вам жить честно.
— Спасибо, дорогой месье! Спасибо от всего сердца, право, я не сто́ю награды! Кстати, скажу вам еще одну вещь: Бамбош… мерзавец… вы его знаете… фальшивый виконт, сфабрикованный графом… так этот поганец — незаконный сын Мондье! Когда встретите его и дадите хорошего пинка в задницу, скажите про папашу… увидите, какая у него сделается морда! Прощайте, и спасибо вам, мой благодетель!
Через пять минут кони, запряженные в ландо, бежали вдоль Сены и направлялись к дороге. Приехали в Сен-Жермен уже после двух ночи. Все обитатели особняка, естественно, очень беспокоились.
Берта и Мария, Сюзанна, убежавшая из дома на улице Перейр, Морис, ее возлюбленный, и даже ее воспитательница, конечно, не ложились спать, дожидаясь результата экспедиции.
Когда у ворот послышались звуки подъехавшего экипажа, в доме некоторое время посовещались, — ночь была поздняя, мало ли что, — но Морис разобрал голоса Мишеля и Бобино и поспешил открыть.
После первых взрывов восторга Жермена спросила Мориса:
— Сюзанна не спит?
— Как и все мы, Жермена.
— Тогда пойдите предупредить, что Бобино сейчас сообщит ей нечто очень важное. Пусть подготовится пережить очень большую радость.
— Но хоть сперва скажите мне самому, — удивленно попросил Бобино.
— Победа по всей линии фронта! — сказал Мишель. — Давай я сперва шепну тебе на ухо. — И они удалились в сторонку, нескольких слов Березова оказалось достаточно, чтобы Бобино окончательно пришел в состояние безграничного изумления и восторга. — Пока Морис поговорит накоротке с Сюзанной, ты беги скорей к своей невесте, потому что кому-то здесь тяжело долго ждать. Знай только, что враг побежден, и мы наконец сможем жить спокойно.
Жермена и Мишель бережно повели под руки совершенно изнемогающую от пережитого Маркизетту в просторную гостиную, а Бобино, забежав к Берте, тоже поспешил к Сюзанне, горя нетерпением. Ее Морис едва успел в двух словах предупредить о радостной новости.
Бобино и Сюзанна очутились при ярком свете друг перед другом, добрый типограф радостно улыбался, говоря девушке:
— Мадемуазель Сюзанна, я сейчас сообщу что-то совершенно необыкновенное!.. Почти невозможное… но такое для меня радостное!.. Я нашел семью… нашел людей, которых буду любить… Морис, но я не смею сказать то, что следует…
— Говори, мой друг!.. Моя Сюзанна… наша Сюзанна… совсем не страшная, ее нечего бояться…
— Да. Наша Сюзанна… потому что она немножко и моя.
— Ваша?
— Да. Хотя бы как сестра! Кажется… и тому есть доказательства… я на самом деле ваш брат!..
— Вы!.. Как я рада! Вот почему я сразу почувствовала к вам глубокую симпатию, как только мы впервые встретились.
— И я тоже… не понимая сам почему, когда увидел вас на улице Мешен, я сразу почувствовал к вам расположение и желание помогать вам.
— Мой брат! Значит, вы мой брат…
— Я просто человек и не умею красиво выражаться, но у меня честное сердце, умеющее любить. Сестра моя, я уже вас люблю всей душой!
— А я всегда мечтала о таком брате, как вы: добром, искреннем, великодушном и к тому же веселом…
— Правда? Значит, находите меня подходящим?
— Какой вы ребенок!
— Я сам не понимаю, что говорю. Если бы вы знали! — И, стараясь быть спокойнее, Бобино продолжал: — Это еще не все, что я должен вам сказать…
— Какую еще добрую весть вы несете?
— Мы нашли нашу с вами мать… которая столько страдала…
— Мать!.. У меня… У нас есть мать? — воскликнула девушка.
— Да! Чудесная мать! Такая, что перед ней хочется встать на колени!
Сюзанна лепетала несвязные слова:
— Брат мой… умоляю тебя… скорее увидеть… хоть на минутку! Где она?
— Там…
Дверь открылась, и Сюзанна упала в объятия Маркизетты.
— Мама!.. О! Моя мама!
ГЛАВА 15
Только утром надзирательницы лечебницы нашли хрипящего, полузадохнувшегося графа привязанным к постели Жермены.
Совершенно ошалелые, они не знали, что подумать, когда увидели на кровати мужчину, пришедшего накануне навестить больную или считавшуюся больной. Как вскоре они узнали, сама Жермена неизвестно куда исчезла из лечебницы. Маркизетта также пропала.
Обшарили весь парк, обнаружили следы на земле и трупы собак, а также сверток с одеждой надзирательницы, чью роль так хорошо сыграл Бобино.
Обе женщины, без сомнения, убежали ночью, связав графа, глаза его были сильно поцарапаны и кровоточили. Видно, он боролся, но потерпел поражение.
Мондье теперь предстояло узнавать обо всех подробностях событий, по мере того как шли поиски.
Он не строил иллюзий и сразу оценил размеры катастрофы, что его постигла. Граф думал:
«Жермена и Маркизетта сговорились. Маркизетта не сумасшедшая, она меня сумела обмануть. Если у нее еще сохранились бумаги Гастона — я пропал. Пропал… Пусть так… Но я увлеку их всех в пропасть. Куда сам полечу! К счастью, у меня осталась Сюзанна… моя заложница… это позволит удерживать Маркизетту от действий против меня».
Не дожидаясь прихода доктора Кастане, Мондье велел сделать себе массаж, принял душ и, освеженный, полный энергии, полетел домой.
Там он застал Лишамора, дожидавшегося его с нетерпением. Пьяница весь дрожал и пожелтел от страха. Он рассказал о событиях этой ночи, и граф, коему каждое слово было словно удар молотом по голове, узнал, как достали бумаги, как Маркизетта признала в Бобино своего сына.
Но этим неприятности не кончились: когда граф проводил кабатчика, дав ему несколько луидоров, слуга подал на подносе спешное письмо, только что переданное посыльным.
Послание было от Сюзанны.
Мондье задрожал, узнав почерк, и страшно выругался, когда прочел написанное на листке, нежно пахнущем вербеной[131].
Дочь сообщала, что, уступая настояниям любимого человека, ушла из отцовского дома. Она умоляла простить ее за побег и заклинала во избежание скандала согласиться на брак, теперь ставший неизбежным…
Граф не пришел, как обычно, в бешенство, только стиснул зубы, и его красные от кровоизлияния глаза приняли злобное выражение.
Слуга принес остальную почту, и в этот момент кто-то позвонил у тайного входа.
— Что там еще? — спросил граф, предчувствуя недоброе.
— Господин граф, это Лоран.
— Пусть войдет… Зачем ты пришел, Лоран?
— Хозяин, Пьер совсем плох. Он скоро помрет. Доктор сказал, что ему осталось жить не больше трех часов. Он хотел вас повидать перед смертью.
— Пойду с тобой, Лоран. А Бамбош? Что с ним?
— Я его не видел после проклятой ночи, когда мы брали сейф в особняке на улице Элер. Он без денег, совсем промотался, лежит в квартире, что вы занимаете под именем дядюшки. Заболел от гульбы с девками и от выпивок… не решается просить у вас хоть малую сумму.
— Я его выгоню пинками в зад! Он ни на что не годен, только втягивает нас в затруднения… Отправлю в ту канаву, из какой вытянул… Дела мои плохи, Лоран, придется менять шкуру.
— Как вам угодно, хозяин. В Италии еще есть гроты и большие дороги, англичане-миллионеры, красивые девушки и хорошие сотоварищи…
— Да, ты прав, надо, чтобы о нас здесь забыли. Но прежде придется провести очень крупное дело, без пощады уничтожить всю компанию — Березова, Жермену, пачкуна Вандоля, Бобино и даже так называемую мою дочь Сюзанну! Пошли, навестим беднягу Пьера!
Они поехали на улицу Жубер. Мондье сначала быстро взбежал на третий этаж, чтобы намылить голову Бамбошу и рассчитаться с ним, прежде чем проститься с Пьером — отверженным, кому были известны все секреты тайной жизни графа.
Бамбош валялся на постели и с перепоя лечился крепким чаем.
Мондье, всегда относившийся к нему как к любимчику, почти как к балованному дитяти, на этот раз был готов выместить на парне все свои беды.
Видя, в каком настроении патрон, Бамбош попробовал его успокоить забавным словцом, но из этого ничего не получилось.
Граф резко оборвал:
— Довольно! Ты мне сто́ишь больше, чем приносишь! Не знаю, что меня удерживает от того, чтобы послать тебя подыхать в грязи, откуда я тебя вытащил!
— Патрон! Вы этого не сделаете! Вы не бросите вашего маленького Бамбоша!..
— Я хотел сделать из тебя хорошего наводчика. Но, оказалось, ты ничего не стоишь! Ты проваливаешь все дела! Почему ты не сумел покончить с Бобино?
— Но ведь Ги де Мальтаверн тоже дал маху с Березовым и Вандолем…
— У него, по крайней мере, хватило ума, чтобы умереть и освободить меня от неудобного сообщника!
— Может быть, и мне следует притвориться мертвецом? — сказал Бамбош со скверной улыбочкой.
— Этого не надо, а следует, чтобы ты на какое-то время исчез. Вернулся, допустим, к Лишамору, после того как побывал виконтом де Шамбое и отведал настоящей шикарной жизни… Это тебе подходит?
— Вы смеетесь, патрон!
— Я говорю совершенно серьезно. Позднее… ты вернешься на свое место…
— Патрон! С глаз долой — из сердца вон… Вы обо мне забудете…
— Ты мне надоел! Возвращайся туда на полгода, а потом будет видно…
— Вот так… без копейки… Не очень-то хорошо меня примет мамаша Башю.
— Я дам достаточно, чтобы ты хорошо выглядел в компании шантрапы с каменоломен… а пока будешь там восстанавливать твою девственность.
«Скотина! — подумал Бамбош… — Берет, а потом выбрасывает, как сношенный башмак, когда ты ему больше не нужен. Но мы еще посмотрим».
Граф вышел из комнаты и направился в ту, где стоял его сейф, чтобы взять деньги, обещанные «виконту».
Бамбошу тотчас пришла на ум страшная мысль.
«Надо тебя ухлопать сейчас, господин граф. Сейф набит бабками… Заберу все, а после будь что будет».
С кинжалом наготове он тихонько прокрался в комнату Мондье. Тот стоял перед открытым сейфом, набитым пачками банкнот, повернувшись спиной к входу.
Убийца всадил кинжал между лопатками по самую рукоятку.
Граф глухо вскрикнул, ударился лицом об открытую дверцу сейфа, а потом повалился на ковер.
— Э! Патрон… Теперь вы далеко продвинулись…
Смертельно раненный, со стекленеющими уже глазами, задыхаясь, граф из последних сил проговорил:
— Негодяй!.. Ты убил своего отца!..
Бамбош захохотал:
— Так, значит, вы мой отец… Хорошо же вы со мной обходились! Вы должны были меня усыновить, сделать из меня настоящего графа Мондье, а не какого-то там фальшивого завалящего виконта…
— Ты чудовище… быть убитым тобой… разбойник!..
— Меня так и воспитывали, чтобы я им стал. Когда буду главарем банды и кто-нибудь из моих бандитов попробует бузить, я скажу ему: «Я даже отца своего угробил: попробуй сделай то же!» А теперь хватит болтать! Подыхай спокойно!
Бамбош быстро оделся, выгреб из сейфа все, что там было: банкноты, золотые монеты, драгоценности… рассовал их за пазуху и по карманам и спокойно вышел, даже не взглянув на умирающего.
Он лихорадочно думал: «Богатство достается ловким. Теперь я богат, и скоро обо мне заговорят!»
Конец третьей части
ЭПИЛОГ
Убийство графа Мондье произвело большой шум в парижском обществе. Одновременно эта смерть избавила кое-кого от многих затруднений.
Сюзанна, всю свою жизнь знавшая графа как доброго отца, горько оплакивала его гибель, но когда Маркизетта рассказала ей о сводных братьях, об убийстве Гастона, когда девушка узнала правду — она, как и следовало ожидать, утешилась.
Мать с радостью, от всего сердца дала согласие на брак дочери с Морисом Вандолем.
Их свадьба стала первой в целой череде.
Второй была женитьба Мишеля и Жермены.
Как бывает в волшебной сказке, простая девушка стала принцессой.
Они венчались в русской церкви на улице Дарю. Обряд был тихим и скромным. Молодые не устраивали спектакля из своего торжества и не выставляли напоказ свою любовь.
Необыкновенная красота и ум Жермены послужили для нее лучшей рекомендацией в обществе соотечественников князя Березова. Вся русская колония приняла ее очень сердечно.
Мишель дал богатое приданое свояченице Берте Роллен, что вскоре вышла замуж за Жоржа де Мондье, называвшегося Бобино.
На свете случаются чудеса, и благодаря одному из них рабочий типограф оказался подлинным графом. Он вовсе не возгордился, остался все таким же веселым простым хорошим товарищем.
К титулу у него до сих пор отношение равнодушное. Но он счастлив тем, что нашел мать, полюбив ее всем сердцем, и дорогую сестру, и это для него оказалось ценнее всех жизненных благ; судьба вознаградила юношу за годы сиротства.
Он все так же смеется и шутит, ни на сантим не став серьезней. Когда он приходит к родственнику-князю или к товарищам по типографии, он шутя сам о себе объявляет: месье граф Бобино!
Он обожает хорошенькую жену Берту — маленькую графиню Бобино, как ее называет. Она осталась все такой же неприхотливой, терпеливой, доброй и преданной мужу. Счастливые уже тем, что живут на свете, любя друг друга, оба стараются творить добро ближним. И благодеяния молодой четы принимаются окружающими с той же радостью, с какой эти двое их оказывают.
Четвертым и самым неожиданным, оказалось бракосочетание Андреа и Дезире Мутона.
После того как Ги де Мальтаверн отправился на тот свет и место около Андреа освободилось, провинциальный миллионер поспешил его занять.
У этой женщины хватило ума и характера не согласиться на банальное сожительство, и ее настойчивость вкупе с любовью оказалась вознаграждена. Дезире Мутон был так же искренне влюблен в Андреа: свободный в своих действиях, он мог самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и капиталом. Бывший «лакированный бычок» предложил Андреа руку и сердце.
— Честное слово, мой друг, ты заключаешь более выгодную сделку, чем сам думаешь! — ответила Андреа. — Мне опостылела бессмысленная жизнь. Я ждала случая, чтобы от нее избавиться. Мне выпал такой шанс, и я не упустила его. Я не буду тебе изменять. В этом можешь быть уверен! А потом, если хочешь сделать мне удовольствие… Очень большое удовольствие! Мы поедем жить в деревню… У нас будут лошади, коровы, бараны, куры, утки… целый скотный двор! Это моя мечта парижанки, которая все время жила среди камней! Скажи, ты хочешь этого?
Дезире самому надоела столица, он чувствовал себя здесь плохо, и молодой человек с радостью согласился.
— Ты — прелесть! — воскликнула Андреа, крепко целуя избранника. — Теперь пойдем к господину мэру.
Конец
Примечания
1
Артемиз (с) — Артемида, древнегреческая богиня охоты, вечная девственница. (Примеч. авт.)
(обратно)2
Сантим, в обиходе су — мелкая монета, равная 1/100 франка, основной денежной единицы во Франции и других странах Европы и Африки.
(обратно)3
Мансарда — чердачное помещение, используемое для жилья, хозяйственных целей, под мастерские художников.
(обратно)4
Ловелас — волокита, ухажер, соблазнитель.
(обратно)5
Альков — углубление, ниша в стене жилой комнаты, обычно служит спальней.
(обратно)6
У христиан-католиков, чью религию исповедует большинство французов, изображения Христа и святых в храме зачастую не живописные, а скульптурные — лепные или резные из древесины лучших пород. Смысл выражения Жермены: «Я — не святая, я — грешница».
(обратно)7
Лишамор — в буквальном переводе с французского «пьющий до смерти», «смертельный пьяница». (Примеч. перев.)
(обратно)8
Сотерн — белое столовое вино, названное по месту его производства, города во Франции.
(обратно)9
Каталепсия — болезненное оцепенение, застывание тела и отдельных его членов; может быть вызвано посредством гипноза.
(обратно)10
Рундук — большой ларь (ящик) с поднимающейся крышкой, служит в основном для хранения домашних вещей, утвари, провизии.
(обратно)11
Антиной (? — 103) — греческий юноша, любимец римского императора Адриана (76–138), обожествленный после смерти.
(обратно)12
Милон Кротонский (вторая половина VI в. до н. э.) — греческий атлет, человек необычайной силы, поднимавший и носивший на плечах быка.
(обратно)13
Камелия — название одного из видов кустарника с красивыми цветами. Слово в переносном смысле вошло в широкий обиход после того, как французский писатель Александр Дюма-сын (1824–1895) написал роман (1848) и пьесу (1852) под заглавием «Дама с камелиями», обозначив этим выражением женщин полусвета (выражение тоже придумано А. Дюма), что в противоположность «большому свету» обозначает общество людей сомнительного поведения.
(обратно)14
Матлот — любимое французами, живущими на южном побережье, рыбное блюдо.
(обратно)15
Кюре — католический приходской священник во Франции, Бельгии и некоторых других странах.
(обратно)16
Грум — слуга, сопровождающий всадника верхом или же пассажира на козлах или задке экипажа; также мальчик-лакей.
(обратно)17
Менингит — воспаление мозговых оболочек.
(обратно)18
Мондье — от французского Mon Dieu (Мон Дье) — мой Бог. (Примеч. перев.)
(обратно)19
Арго (фр.), или жаргон — диалект определенной социальной или профессиональной группы.
(обратно)20
В России до Февральской революции 1917 года существовало так называемое титулование, т. е. особое обращение к лицам, имеющим военный, гражданский, придворный чин или родовой титул (например, генерал — ваше превосходительство, князь — ваше сиятельство).
(обратно)21
Луидор — французская золотая монета с содержанием чистого драгоценного металла в 6–7 г; чеканилась в 1640–1795 годах, но имела хождение значительно дольше.
(обратно)22
Камердинер — слуга, персонально обслуживающий определенное лицо в богатом доме, личный лакей.
(обратно)23
Засаленная рука (фр.).
(обратно)24
Букмекер — лицо, принимающее денежные ставки при игре в тотализатор (обычно на скачках и бегах).
(обратно)25
Штоф — в данном случае: декоративная обивочная крашеная ткань со сложным рисунком.
(обратно)26
Сутана — одежда католического духовенства вне богослужения (аналогично — ряса у православных).
(обратно)27
Бактерии — микроскопические, преимущественно одноклеточные организмы; впервые увидел и зарисовал создатель микроскопа нидерландский ученый Антони ван Левенгук (1632–1723) в 1673 году, а наиболее детально исследовал француз Луи Пастер (1822–1895).
(обратно)28
Существует поверье, по которому веревка повешенного отвращает от человека несчастье. (Примеч. перев.)
(обратно)29
Амазонка — в данном случае: река в Южной Америке, величайшая в мире по водности; длина около семи тысяч километров.
(обратно)30
Фейдартишо — буквально: листок артишока, самая нежная часть этого съедобного овоща. (Примеч. перев.)
(обратно)31
Монастырь Визитации — от слова «визит» (фр.). Назван так в честь посещения Девой Марией своей родственницы Святой Елизаветы (Лук. I, 43).
(обратно)32
Сегюр Жозеф-Александр, граф (1756–1805) — автор ряда пьес, опер и песен.
(обратно)33
Кашемир — легкая шерстяная или хлопчатобумажная ткань.
(обратно)34
Тьер Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель, историк. Был президентом страны. Организатор жестокого подавления Парижской коммуны (1871).
(обратно)35
Рантье — человек, живущий на проценты с отданного в ссуду капитала или ценных бумаг. В 1860 году в результате договора с Англией экономическое положение Франции значительно улучшилось, что положительно сказалось, в числе прочего, на доходах и образе жизни рантье.
(обратно)36
Дуэлист — задира, охочий до участия в дуэлях.
(обратно)37
Виконт — дворянский титул в странах Западной Европы.
(обратно)38
Префектура — административная единица в провинциях ряда государств.
(обратно)39
Нувориш — человек, внезапно разбогатевший на спекуляциях, темных сделках; слово употребляется для обозначения тех, кто «попал из грязи в князи», людей, как правило, малокультурных, дурно воспитанных, кичащихся богатством.
(обратно)40
Абсент — крепкий алкогольный напиток, приготовленный с использованием полыни или мяты.
(обратно)41
По-видимому, имеется в виду падение в 1870 году в период франко-прусской войны 1870–1871 годов так называемой Второй империи, провозглашенной после Февральской революции 1848 года.
(обратно)42
Елисейские поля — одна из самых красивых и оживленных улиц Парижа, место гуляний, развлечений, приятного времяпрепровождения людей всех слоев общества.
(обратно)43
Купе — в данном случае: легкий конный экипаж с откидывающимся верхом, на двоих седоков, управляется кучером, сидящим на козлах вне укрытия.
(обратно)44
Гвиана Французская — страна (бывшая колония) на северо-востоке Южной Америки. В конце XVIII века сделана местом ссылки.
(обратно)45
Дворецкий — в российском помещичьем и дворянском быту — старший лакей, заведовавший домашним хозяйством и прислугой барского дома.
(обратно)46
Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской сорочки при парадном костюме.
(обратно)47
В описываемых условиях одна из характерных примет педераста. (Примеч. перев.)
(обратно)48
Вояж — старинное название путешествия с развлекательной или деловой целью.
(обратно)49
Офиклейд — духовой музыкальный инструмент самого низкого звучания (в первой половине XIX в.); его сменила туба.
(обратно)50
Сатисфакция — в дворянском быту — удовлетворение (обычно в форме поединка, дуэли), которое оскорбитель давал оскорбленному по его требованию.
(обратно)51
Булонский лес — парк в западной части Парижа площадью 850 гектаров, излюбленное место отдыха состоятельных (ныне — любых) горожан.
(обратно)52
Корпия — перевязочный материал — нитки, нащипанные руками из хлопчатобумажной ветоши.
(обратно)53
Гарда — металлическая пластинка или дужка на рукоятке холодного оружия для защиты руки держащего от ранения при фехтовании или в бою.
(обратно)54
Плевра — оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность грудной клетки.
(обратно)55
Экс(с)удат — особого рода выделения живого организма при воспалительных процессах.
(обратно)56
Бретер — человек, ищущий малейшего повода для вызова на дуэль.
(обратно)57
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — князь, русский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог.
(обратно)58
Везувий — действующий вулкан на юге Италии, близ Неаполя. Во время извержения 79 года погибли города Помпеи и Геркуланум. Последнее извержение было в 1957–1959 годах.
(обратно)59
Табльдот — общий стол (с одинаковым для всех меню) в пансионах, отелях и т. п.
(обратно)60
Сорренто — город-курорт в Южной Италии, у Неаполитанского залива.
(обратно)61
Камальдоли — город близ Неаполя, на побережье Неаполитанского залива, между Помпеями и Геркуланумом.
(обратно)62
Бордо — в данном случае: натуральные вина высокого качества, производимые в юго-западной части Франции; имеют много разновидностей.
(обратно)63
Гамен — уличный мальчишка, ловкий, смекалистый, задиристый.
(обратно)64
Коренник — лошадь (в корню́), впрягаемая в оглобли, тогда как боковые, пристяжные, тянут повозку за веревочные постромки и играют вспомогательную роль.
(обратно)65
Фура — повозка, главным образом для клади. Крытая фура называется фургон.
(обратно)66
Бра — настенный подсвечник на несколько гнезд или электрический светильник.
(обратно)67
Капрал — воинское звание младшего командного состава (унтер-офицеров) в армиях ряда стран.
(обратно)68
Флюид — по мистическим представлениям спиритов, будто бы обладающих способностью быть посредниками между людьми и потусторонним миром, особый «психический ток», исходящий от людей; представление о существовании флюидов ставится наукой под сомнение; распространено несколько иное по сути понятие — биополе.
(обратно)69
Покер — азартная карточная игра.
(обратно)70
Стилет — небольшой кинжал с трехгранным клинком.
(обратно)71
Кольт — револьвер, изобретенный в 1835 году и в модернизированном виде встречающийся поныне. Назван по имени изобретателя, американца Самуэла Кольта (1814–1862).
(обратно)72
Карабинеры — в Западной Европе в прошлом — отборные стрелки, вооруженные карабинами; в Италии — жандармы.
(обратно)73
Лира — здесь: денежная единица в Италии, равная ста чентезимо.
(обратно)74
Флорентийский (от названия г. Флоренция в Италии) — стиль в живописи и скульптуре, характеризующийся повышенной одухотворенностью, интимностью, мягкими тонами.
(обратно)75
Фонограф — прибор для механической записи и воспроизведения звука; создан в 1877 году Томасом Эдисоном (1847–1931), американским изобретателем и предпринимателем.
(обратно)76
Нюхательные соли — ароматические вещества или смеси их, которые нюхали при тошноте, головных болях, нервных расстройствах и т. п.
(обратно)77
Фрутти дель маре, «морские фрукты» — всяческая морская съедобная живность, но не рыба.
(обратно)78
Бедекер — название широко распространенных, начиная с середины XIX века, путеводителей по различным странам; названы по имени издателя и книготорговца К. Бедекера (1801–1859). Выпускаются той же фирмой и ныне; славятся точностью, достоверностью, полнотой сообщаемых данных, отличным оформлением, обилием иллюстраций.
(обратно)79
«Да», «конечно», «хорошо», «ладно» (англ.).
(обратно)80
Лаццарони — опустившиеся люди: бездельники, бродяги, нищие; те, кого ныне в России называют бомжи (без определенного места жительства).
(обратно)81
Фатальный — роковой, неотвратимый, неизбежный.
(обратно)82
Ни среди боярских, дворянских и прочих именитых родов России, ни в числе известных деятелей русского государства, науки, искусства, военного дела и т. д. и т. п. фамилия Березов не встречается. Как и большинство западных писателей до XIX века включительно Луи Буссенар, видимо, имел весьма приблизительные сведения и представления о России и, надо полагать, говоря о Мишеле как «носителе исторической фамилии», автор имел в виду, узнав понаслышке, любимца императора Петра I — светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова (1673–1729), после смерти государя сосланного в пос. Березов, ныне Берёзово Тюменской области.
(обратно)83
Омнибус — многоместная конная карета, первый вид общественного транспорта. Появился в Париже в 1662 году, существовал в ряде европейских стран до начала XX века.
(обратно)84
Империал — в данном случае: второй этаж с сиденьями для пассажиров в омнибусах и других больших экипажах.
(обратно)85
Касса — в данном случае: неглубокий ящик с перегородками, в который в типографии помещают литеры (металлические отливки букв) и другие элементы для ручного набора текста.
(обратно)86
Метранпаж — старший наборщик в типографии, верстающий (складывающий из отдельных букв или строк) полосы (страницы) набора книги, газеты.
(обратно)87
Аперитив — слабый алкогольный напиток, возбуждающий аппетит.
(обратно)88
Десерт — сладкое блюдо, фрукты и т. д., завершающие обед.
(обратно)89
Муниципалитет — выборный орган местного самоуправления.
(обратно)90
Консьерж — привратник в большом жилом доме, швейцар.
(обратно)91
Гавана — сигара из табака особого сорта, выращиваемого на Кубе.
(обратно)92
Мольберт — станок для укрепления холста, картона, доски, на которых пишет (рисует) художник.
(обратно)93
Лафонтен Жан де (1621–1695) — французский писатель, автор сатирических комедий, сказок и басен.
(обратно)94
Мануфактура — здесь: промышленное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике (XVI–XIX вв.).
(обратно)95
Гобелен — вытканный вручную ковер-картина.
(обратно)96
Горжет — принадлежность женского туалета в виде узкой полосы меха, облегающей шею.
(обратно)97
Католицизм — одно из двух основных исповеданий христианского вероучения (другое — православие).
(обратно)98
Бос — историческая область на юго-западе Франции. Прекрасно развитое сельское хозяйство, особенно зерновое и скотоводческое.
(обратно)99
Шарко Жан Мартен (1825–1893) — французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии.
(обратно)100
Эскулап — в римской мифологии бог врачевания. В переносном смысле — врач, медик.
(обратно)101
Бурнус — плащ из плотной шерстяной материи, с капюшоном.
(обратно)102
Ридикюль — женская ручная сумочка.
(обратно)103
Цвет апельсина, флердоранж — белые цветки померанцевого дерева, в свадебном уборе невесты символизируют чистоту и невинность.
(обратно)104
Гильотина — машина для совершения смертной казни путем отсечения головы; была введена во Франции во время революции 1792 года по предложению доктора Гильотена.
(обратно)105
Алиби — отсутствие обвиняемого на месте преступления в момент его совершения как доказательство невиновности.
(обратно)106
Латинский квартал (в Париже) — место, где живут в основном студенты.
(обратно)107
Амбра — здесь: переиначенное, упрощенное название тропического дерева ликвид-амбар, имеющего очень пахучую и долго сохраняющую аромат древесину, идущую на изящные поделки.
(обратно)108
Пансионерка — обитательница пансиона, то есть небольшой гостиницы с полным содержанием и уходом.
(обратно)109
Лукреция — жена римлянина-аристократа; была изнасилована сыном императора и лишила себя жизни, что привело к народным волнениям, свержению монарха Тарквиния Гордого Луция и объявлению Рима республикой (510 или 509 г. до н. э.).
(обратно)110
Пьеса А. Дюма-отца (1807–1870), написанная в 1849 году.
(обратно)111
Купидон — в римской мифологии божество любви, олицетворение любовной страсти; то же, что Амур или Эрот; изображались в виде шаловливых голых мальчиков с луком и стрелами.
(обратно)112
Балюстрада — ограждение балконов, лестниц и т. п., состоящее из фигурных столбиков (балясин по-русски), перекрытых плитой, балкой и проч.
(обратно)113
Литерный — обозначенный не цифрой, а буквой (буквами), например литерная ложа.
(обратно)114
Лера́ (фр. Le Rat) — крыса. — (Примеч. перев.)
(обратно)115
Фимиам — благовонное вещество для курения (сжигания), главным образом при религиозных обрядах; здесь используется в переносном смысле — восторженная похвала, лесть; курить фимиам — льстить, восхвалять.
(обратно)116
Метрдотель — распорядитель в ресторане, в богатом доме, отвечающий за работу кухни и подачу кушаний на стол.
(обратно)117
Армия спасения — религиозно-социальное благотворительное общество, основанное в Англии в 1865 году; с 1878 года реорганизовано на военный лад; и по настоящее время активно действует во многих странах.
(обратно)118
Фафио — жаргонное название денег.
(обратно)119
Катар — воспаление слизистой оболочки, сопровождающееся выделением ею жидкости.
(обратно)120
Аборт — прерывание беременности и удаление плода искусственным путем в первые 28 недель.
(обратно)121
«По правилам дуэли говорить между собой могут только секунданты и каждый из противников может объясняться только со своим секундантом».
(обратно)122
Апоплексический удар, инсульт — внезапно наступающее нарушение мозгового кровообращения.
(обратно)123
Мадригал — здесь: любезность, комплимент.
(обратно)124
Циркулярная пила — имеющая форму круга.
(обратно)125
Офелия — героиня трагедии великого английского драматурга Уильяма Шекспира (1564–1616) «Гамлет» (1601), прекрасная невинная девушка, покончившая с собой в безумии.
(обратно)126
Гипнотизм — совокупность явлений, относящихся к гипнозу, т. е. своеобразному, близкому ко сну состоянию человека (и высших позвоночных животных). В описании этих явлений, их сущности автор, естественно, мог исходить только из во многом устаревших научных представлений столетней давности, краткое и популярное изложение которых имеется, например, в Энциклопедическом словаре, издание Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, полутом 12, с. 689–693 и полутом 16, с. 726–734. СПб., 1892–1893.
(обратно)127
Импозантный — внушительный, производящий впечатление своим видом, представительный.
(обратно)128
Кузина, кузен — двоюродные сестра, брат. В большинстве цивилизованных стран супружеские браки между лицами в такой степени родства разрешены и церковью, и государственными законами.
(обратно)129
Фра-Дьяволо (прозвище; настоящее имя Микеле Пецца, 1770–1806) — итальянский бандит, был солдатом, монахом, затем атаманом разбойничьей шайки; за жестокость получил свое прозвище (в переводе — Чертов брат). Повешен.
(обратно)130
Когда в результате заграничных походов после Отечественной войны русские в 1814 году победоносно вступили в Париж, казачьи части располагались на Итальянском бульваре.
(обратно)131
Вербена — травы и полукустарники с приятным запахом, масло из их цветов используется в парфюмерии и кулинарии.
(обратно)
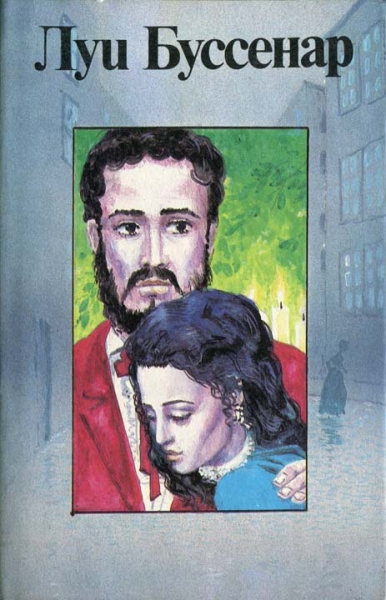


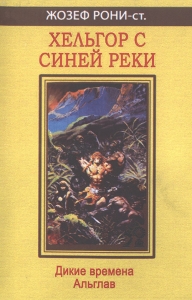



Комментарии к книге «Секрет Жермены», Луи Анри Буссенар
Всего 0 комментариев