Солнце красно поутру...
Герои произведений свердловского прозаика Леонида Фомина — автора многих книг, первая из которых «На глухом озере» вышла в Москве почти три десятилетия назад, — тысячами неразрывных нитей связаны с миром родной уральской природы. Размышляя о формировании характера современника, о становлении личности, писатель показывает, что не может быть подлинной человечности без любви к живому, к отчей земле, без чувства ответственности за ее покой и красоту. Сознавая эту святую ответственность, преграждают путь браконьерам герои повестей «Розовый вечер» и «Гуси-лебеди». Чувство ответственности помогает и ребятам из повести «Парма» выстоять в поединке со стихией, сберечь доверенных им животных.
Произведения эти, так же, как и «Лесная повесть», ранее уже публиковались, но центральное место в сборнике занимают новые вещи. Впечатления от поездки писателя на Обский Север легли в основу заглавной повести книги — «Солнце красно поутру…». Вошло в сборник и более трех десятков новых рассказов Л. Фомина. Заключает книгу раздел «Остановки в пути». Это поэтичные миниатюры-раздумья о природе, о жизни, о негасимом чувстве Родины.
ПОВЕСТИ
…Хочу сделать этой книжкой простую работу и попросить, а кое у кого и потребовать очень немногого — уважения к матери-природе. К той самой матери, без которой ничего не было бы живого на земле, даже нас.
Виктор АстафьевРОЗОВЫЙ ВЕЧЕР
Предстоящая рыбалка волновала и будоражила воображение. Всю ночь мне грезились упругие зеленоватые окуни, прохладные, увесистые подъязки, неправдоподобных размеров лещи и щуки. Я уже чувствовал под собой колыбельное покачивание лодки, видел ласковый блеск воды, дважды переживал неожиданный нырок поплавка, от которого западало дыхание. Потом поднимал из-за борта тяжелеющий садок, но он вдруг порвался, и на дно лодки с веселым звоном посыпалась сверкающая плотва…
Это трезвонил будильник. Наскоро собрав рюкзак, я поспешил на первую электричку, и уже через час за окном вагона мелькали окудрявленные молодой, не успевшей набрать тучной тяжести листвой березовые рощицы, прогонистые делянки лесонасаждений, старательно ухоженные огородики, обнесенные от приблудшей скотины проволокой, жердями и прочим подручным материалом. Меж ними в широких отлогих выработках — когда-то брали грунт для насыпи — перламутром взблескивали озерки устоявшейся снеговой воды.
Иногда с этих озерков срывались еще по-весеннему шаловатые, с тугим звенящим пером селезни и, ничуть не пугаясь грохочущего поезда, мчались вдоль линии. Затем начались сырые луга с невысокой, стрельчато выметнувшейся осокой, над которой весело кувыркались токующие чибисы.
Я оглядел немногочисленных пассажиров и, твердо веруя в известное присловье, что рыбак рыбака видит издалека, направился к первому попавшемуся на глаза гражданину. Спросил, не найдется ли посвежее мотыля.
Гражданин интеллигентного вида, в узкополой шляпе и новенькой штормовке с капроновыми шнурочками в откинутом на спину капюшоне, с прохладцей глянул на меня сквозь очки и иронически заметил:
— Дорогой, мотыля продают в «Охотнике». А можно было купить и на вокзале…
Сочувственно улыбнувшись, гражданин отвернулся к окну.
Я опять окинул вагон взглядом и у самой двери заметил одиноко сидящего человека в помятой кепчонке. Невысокий, узкоплечий, он походил на мальчишку-подростка, и только глубокие складки на заветренном лбу выдавали его возраст. Что это рыбак — я не сомневался, хотя ни в руках, ни рядом с ним не было ни удочек, ни подсачка, ни прочих рыбацких атрибутов.
— Здрасьте! — с готовностью ответил Рыбак на приветствие и подобрал полу выгоревшего дождевика. — Присаживайтесь.
Он, вероятно, слышал мой короткий разговор с гражданином и, не дожидаясь вопроса, начал выкладывать из карманов всякие баночки и коробочки.
— У меня все есть — и малинка, и опарыш, и червь наземный.
— Уж выручите, подзавяла что-то моя наживка.
— Об чем говорить? У тебя нет — у меня есть, у меня нет — у тебя спрошу. Не велико добро!
Рыбак дал мне всего в достатке и обиженно отстранился рукой, когда я хотел рассчитаться.
Рыбаки, едущие в этом направлении, обычно сходят на одной станции — Водохранилище. Нет нужды рассказывать о нем: знает его едва ли не каждый житель нашего города. Поэтому я не стал расспрашивать, куда едет мой новый знакомый, а только предложил порыбачить вместе. Рыбак охотно согласился и сказал, что лодка у него собственная и знает он отменные лещевые места.
— Я ведь который год тут обретаюсь. Сперва за Вороньим рыбачил, а сейчас подался к левому берегу, на мыс. Там недалеко русло старое, глубина, стало быть, и ямы есть. Вот и поуживаю лещишек. С прикормом.
Рыбак помолчал и с восхищением добавил:
— А берег-то, берег там какой! Сразу от воды кустовье разное, а дальше как воздымутся сосны — одна другой выше да ядренее. Подует ветер — и возьмутся они петь да гудеть. Бывало, плюну я на всю эту рыбу — не едал, что ли, сроду! — лягу в траву и слушаю сосны. И думаю про себя: до чего же хороша наша матерь-Расея…
На длинном перегоне поезд набрал такую скорость, что побрасывало вагоны, и стук колес перерос в водопадный гул. В это время в проходе появилась маленькая девочка. Хватаясь за сиденья, она упрямо пробиралась к выходу. На повороте вагон сильно качнуло, дверь откатилась, и девочка чуть не вылетела в тамбур. Рыбак охнул и, опрокидывая чьи-то корзины, устремился к ней. Он подхватил девочку, уже лежащую на полу, выпрямился во весь рост и гневно крикнул:
— Чей это тут ребенок без присмотра?!
Оказалось, что озорница прибежала из соседнего вагона, и Рыбак понес ее восвояси, на ходу обещая выдать положенное нерадивым родителям…
Затем мы опять сидели вдвоем, и Рыбак доверительно рассказывал:
— У меня ведь как получается. Дежурю сутки, а потом трои дома. Слесарем-сантехником я работаю. Работа — она, конечно, не ахти какая, грязноватая, прямо скажу, зато времени свободного много.
Рыбак покосился на гражданина в очках, о чем-то подумал.
— Оно, конечно, со временем-то теперь у каждого — дай бог: как-никак два дня отдыхают. Но уж шибко я не люблю по субботам да по воскресеньям на рыбалку ездить. Ить как мурашей народу-то! Да еще моду взяли вино возить с собой. Иные нальют шары, а потом что и выделывают! Такой балет который раз подымут — хоть беги с берега! Вот и езжу на неделе. Так уж дни выгадываю. А без рыбалки, без этой Расеи, мне и жисть не мила…
Я уже заметил, что Рыбак все связанное с рыбалкой, с лесом, с природой упорно называл «Расеей» и вкладывал в это слово особый смысл.
Наконец за окнами показались станционные постройки, шаткий мостик через овраг, надменно взметнувшиеся на горе в сосновом бору островерхие, на готический манер, шиферные крыши частных дач. Сами же дачники в неописуемо пестрых одеяниях разгуливали по перрону, поджидая родных, знакомых, близких и просто досужих бездельников.
— Вот и приехали, — сказал Рыбак, когда электричка, звякнув буферами, остановилась.
Гражданин в штормовке выходил из вагона первым, волоча в обеих руках пудовые рюкзаки. Его встречала целая свита домочадцев. Встречала его и беленькая собачка с шерстью, похожей на искусственное волокно. На кукольной голове у собачки был повязан бантик, а сама она, еле проглядывая сквозь спутанную челку смородинно-черным глазом, уютно покоилась на загорелых руках красивой женщины в махровой шляпе-сванетке.
— Папа, папочка! — радостно закричал полненький мальчик в голубых шортах, кидаясь навстречу гражданину.
Электричка ушла, и сразу широко и привольно открылось водохранилище. На его атласной, как бы выпуклой глади зеленым холмом возвышался остров Коровий, а дальше, в голубоватой дымке, лежал плоский и круглый, как сковородка, дуроломно забитый осинником другой остров — Вороний.
Низким берегом мы вышли к флотилии лодок. Маленькие и большие, деревянные и дюралевые, покачивались они на слабой волне, терлись бортами, поскрипывали, постанывали. Выше по берегу рядами и в беспорядке теснились всевозможных форм и размеров металлические ящики, коробки.
Мы подошли к зеленому ящику с висячим замком. Рыбак, порывшись в карманах, достал ключ и открыл замок.
— Тут у меня все: и снасти, и грузы, и одежонка теплая. Раньше еще мотор был, да как запретили гонять на моторах — продал его. Вода-то здесь питьевая, на город подается. Да оно и лучше без моторов — потише, поспокойнее.
Он подал мне весла, удочки, сам взвалил на плечи железные грузила, обмотанные веревками, и мы направились к лодке.
Длинная узкая плоскодонка легко шла под веслами, и я с наслаждением разминал стосковавшиеся по физической работе руки. Рыбак расположился на корме и настраивал спиннинг.
— Здесь, если не лениться, можно щурят надергать. Только я шибко-то не разбойничаю: на ушку, на жареху домой — и хватит. Женка моя, Варя, больно щучек-то любит. Как поджарит с лучком — ешь не наешься!
Пожалуй, нигде люди не сближаются так скоро и не бывают так словоохтливы, как на природе. Сама обстановка — свежий воздух, вода, покой, уединение — настраивает на доброту, откровенность, желание высказать самое сокровенное и самое больное. Вот и мой Рыбак, вспомнив о жене, заметно оживился и принялся нахваливать ее с завидной преданностью примерного семьянина:
— Она, Варя-то моя, — золото, не баба! Работящая, умная, а уж согласная такая — слова поперек не скажет. Хворает вот только часто, ревматизм у нее. Весной опять в больнице лежала.
Рыбак откусил узелок лески, задумчиво помолчал.
— Техничкой она все время работала, кабинеты в конторе убирала. Я и сказал ей раз: «Хватит, говорю, тебе, Варя, полы мыть, оттого у тебя и руки болят, иди лучше в столовую, может, на повара выучишься». Сам сходил к директору, обсказал все как есть. Болеет, говорю, баба, нельзя ли в столовую перевести.
Хороший у нас директор. Послушал меня и согласился. Только, говорит, поварами-то у нас специалисты работают. Техникум, курсы закончили. Придется, говорит, сперва заняться ей чем-нибудь попроще. Ну, наперво опять же посудомойкой устроили. Между делом к поварихам приглядывалась. Проработала два месяца — и верно: поставили помощником повара. И все хорошо шло, да вот слегла. По веснам она чаще хворает…
Мы уже порядочно отплыли от берега, а мыса и не видать было. Впереди ярко зеленел остров Вороний. Одинокий среди воды, он походил на сказочную заповедную землю. «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана», — вспомнились знакомые с детства строчки.
Солнце поднялось над противоположным гористым берегом, и лучи его зеркальными бликами вспыхнули на лениво вздымающейся зыби. Радужными переливами играли под веслами буруны.
— Ить красота-то какая! — восторженно произнес Рыбак, осмотревшись, на минуту забыв свои печали. Но только на минуту. Вытряхнув на колени из жестяной коробки блесны, снова заговорил о семье.
— А ребят у нас двое. Младшенькая-то, Наташка, — вылитая мать. В школу нынче пойдет, портфель уже купил. Рукодельница такая, что задумает, то и смастерит. Сама куклам одежки шьет, по дому матери помогает. А старший восьмой закончил. Борькой звать. Тоже послушный парень, на гармошке играет. Вот буду устраивать в техническое училище.
— Может быть, лучше десять классов закончить? — вставил я.
— Дак ведь он там и кончит. И специальность получит. Пускай тоже на слесаря учится. Только на инструментальщика. Вон у сродственницы Митька на инструментальщика-то выучился, дак сразу стал по двести рублей приносить. Она ведь точная, эта специальность.
— Правильно, — согласился я, вспомнив, что нынешние технические училища кроме профессии дают еще и среднее образование.
Рыбак подцепил к леске блесну, размахнулся и ловко забросил ее далеко за корму. Удилище с застопоренной катушкой пристроил сбоку.
— Теперь ты поживей греби, доро́жить будем. На дорожку-то она лучше берет. На той неделе, пока плыл до мыса, двух ха-ароших вытащил. Вот таких!
Он привычно раскинул руки, потом, прикинув, маленько убавил:
— Ну, таких вот…
Я улыбнулся и невольно подумал, что, наверно, на всем белом свете все рыбаки одинаковы. С каким серьезным видом судят они о каком-нибудь костлявом ершишке, пойманном когда-то, где-то и неизвестно кем. Судят, спорят, доказывают, не соглашаются, но всегда сходятся в одном: ерш — рыба отменная и каждый «таскал» его в такие-то времена по ведру, не меньше…
Взвизгнув, затрещала катушка. Рыбак резко повернулся, схватил спиннинг.
— Есть! — коротко бросил он.
Вскочив с места, высоко задрав пружинно согнувшееся удилище, Рыбак с натугой подтягивал что-то к лодке. Я опустил весло и в нетерпеливом ожидании тоже поднялся.
— Тут к-коряжник, а в к-коряжнике завсегда крупная берет! — прошептал Рыбак. — Ох, и тяжелая, зверюга!
На крючках и правда висел кто-то тяжелый и неподатливый, теперь уже не «кто-то» приближался к лодке, а лодка, хлюпая днищем, шла за леской.
— Ить как привязанная! Багор, багор давай!
Я не успел подать багор: оба мы ошеломленно отпрянули, когда у борта подобно гейзеру вздыбилась пузыристая вода, и на поверхности показалась черная, облепленная ракушками и водорослями коряга…
— «Зверюга», — засмеялся я.
— Тьфу ты, язьви ее! Ить как живая шла!
Рыбак досадливо плюнул и обессиленно сел. Лоб и щеки его влажно блестели. Поморгав редкими ресницами, обиженно повторил:
— Ить как живая…
Я все же забагрил корягу — она была не меньше центнера весом, не без труда отцепил намертво засевший в набрякшую древесину тройник, протянул спиннинг Рыбаку.
— А ну его! — отмахнулся Рыбак. — Сам дорожь…
Он сел за весла и, стараясь не глядеть на меня, бойко застукал уключинами, направляя лодку на далекий мыс.
Я не раз бывал на этом мысу, и в каждый новый приезд он почему-то представлялся по-новому. Может быть, оттого, что причаливал в разных местах. Высокие корабельные сосны, о которых говорил Рыбак, открывались то справа, то слева, а то вдруг неожиданно вставали сзади. Сейчас они виднелись впереди, прямые, как колонны, с круглыми шапками зеленокудрой хвои на самых макушках.
А может быть, я не узнавал мыс потому, что на нем все меньше и меньше становилось растительности. Еще совсем недавно на этих же самых соснах ветви росли, как и положено, по всему стволу, но изо дня в день, из года в год наезжающие сюда туристы обломали их. Так же, как обломали и обрубили все, доступное для топора.
По берегам еще не было буйной травы, лишь кое-где на прогретом мелководье дружными всходами тянулись к солнечному теплу длинные шильца хвощей. Родственно выглядели рядом с ними рассыпанные повсюду нежные кисточки бархатисто-белых пушиц. При виде их сразу вспоминалась вечно ветреная тундра, где эти пушицы в великом множестве как бы укрывают скудную на тепло северную землю от ледового дыхания полуночных морей.
В непролазном, словно бы клубящемся голубым дымом тальнике на все лады трещали и звенели осчастливленные семьями пичуги, среди которых резко и насмешливо выделялся диковатый голос белобокого сорокопута.
— Вот тут и обоснуемся, — сказал Рыбак, когда лодка ткнулась носом в берег. — Тут у меня и дровишки припасены — с Вороньего в прошлый раз сухую лесину привез. Или поудим сперва, как думаешь?
Время близилось к полудню, клева хорошего теперь все равно не жди, и я сказал, что лучше пока отдохнуть, вскипятить чайку. Да сразу и поставить палатку, чтобы не возиться с ней вечером.
— И то верно, — согласился Рыбак.
При всем старании на спиннинг мы так ничего и не поймали, поэтому ушка, как говорится, не состоялась… Прямо из банки поели рыбных консервов, запили душистым чайком. Пока завтракали, на мыс подошло еще несколько лодок. Зазвякали ведра, затюкали топоры.
— Вот посмотри, народу сколько валит, — кивнул Рыбак на лодки. — Даром что будний день. Куда ни сунься — народ и народ. Правда ведь, вольготно нынче живется людям, раз столько времени свободного.
Недалеко от нас на вытоптанной полянке две девушки и два парня натягивали палатку. По всему было видно, что люди они к походной жизни привычные, все у них получалось сноровисто и быстро. В пять минут привязали фалы, соорудили таган для костра и весело побежали с котелками к воде.
— Хорошие ребята, — сказал Рыбак, проводив их взглядом. — Давно сюда ездят, студенты. Берегут лес, зазря не погубят дерево. У них и колья для палаток одни и те же, и таган старый. Соберутся домой — все подчистят, бумажки брошенной не оставят. Все бы туристы такими были…
Рыбак достал помятую пачку «Беломора», прикурил от уголька, с удовольствием растянулся на плаще.
— Она ведь, молодежь-то нынешняя, не такая уж плохая, как нам кажется, — философски начал Рыбак. — Хулить да хаять-то мы все горазды. Всё не так да не по-нашему. Есть, конечно, какая часть и с вывихами, так кто опять же в этом, кроме нас самих, виноват? Вот, говорят, бездельники они, нас, родителей, не почитают. К старшим уважения нету. Бывает и так. Только опять же не всех не уважают. Вот я тебе расскажу такой факт.
Поставили к нашему токарю Ваньке Смирных ученика. Парень как парень, кулачища по пуду, не знает, куда их деть. Теперь ведь они — как их, эксе… акселераты. Хоть и молодой, башковитый, десятилетку кончил. В институт-то, видишь, не попал, вот и подался на производство. Ну, приняли, поставили учеником к Ваньке.
Неделю не простоял у станка, сам точить стал. А еще через неделю подучивать начал Ваньку. «Ты, говорит, дядя Ваня, не так деталь зажимай, а вот так, резец под другим углом заточи, меньше проходов будет. Технологическую-то карту тоже изменить надо, убрать, говорит, надо совсем одну операцию, быстрее деталь выточишь. Я ведь, говорит, в школе-то черчение проходил, на пятерки сдавал, да и в мастерской работал».
Изобиделся Ванька. Сопляк, говорит, ты, кого учить вздумал? Пятерки он получал! Тебя, говорит, еще и на свете не было, а я уж мозоли на ладонях от этих ручек имел! Тоже мне, учитель!
Ну там и другое всякое между ними вышло. Что-то Ванька стал мухлевать с нарядами — не то приписки какие делал, не то еще что, — парень заметил это да возьми и скажи: ты, говорит, дядя Ваня, своих товарищей обворовываешь, так, говорит, настоящие рабочие не делают. Ваньке, дураку, хоть бы смолчать, что ли, а он опять на парня: сопляк, говорит, ты зеленый, помалкивай, пока по шее не схлопотал.
Ну и пошло-поехало! Нажаловался парень в народный контроль. Проверили — точно: приписывает Смирных! Собрание было, здорово его прочистили, разряд сняли, тринадцатую зарплату тоже…
Ну и что думаешь? Загулял Ванька с горя. День нет на работе, два нет. Толкается пьяный у проходной, бьет себя в грудь кулаками, орет на всю улицу: «Ветеран я, ударник я! Кого оскорбили?!»
Ну и баба евонная, само собой, не сидит на месте. Строчит заявления в завком, партком. Семья ведь, говорит, у нас, тридцать лет заводу отдал, а тут какой-то желторотый кляузник, прости господи. Вот пускай он теперь и выполняет план…
А на участке-то на том, где Ванька работал, и верно — завал. Не управляется парень с нормой, хоть и старается. Мастера сбились с ног, да где теперь опытного заменщика возьмешь?
Ну и опять собрание было, простили Ваньку. Разряд восстановили и все остальное, как было.
И тогда парень сказал: нечему, говорит, мне учиться у этого человека и вообще нечего делать на заводе. Я, говорит, думал, буду рядом с рабочим, гордиться им буду, а кем мне гордиться? Разве это рабочий?
И уволился. Быстрехонько так уволился, даже никто его и не попридержал. Болтается теперь, поди, без дела такой-то здоровяк… Да нет, скорей всего на другой завод подался, к хорошему человеку попал…
Рыбак бросил окурок, встал, взволнованно заходил вокруг костра.
— Ить кого тут и винить — не сразу сообразишь! Ванька — он, конечно, дурак, и не об нем разговор, но ведь таких-то ванек ой-е-ей еще сколько! Сперва их самих надо учить, а уж потом молодежь. Как-то вот подсказать бы надо, растолковать этому парню, да и не только этому, что рабочий-то наш класс не тот, кто мухлюет с нарядами, не тот, кто с получки околачивается возле пивных ларьков, а тот, который поднял вон из какой порухи Расею, кто построил город, в котором он живет, завод, куда он пришел работать. И знал чтобы этот парень, что куда ни обернешься, за что ни возьмешься — все сделано руками рабочего человека… Да что там рассуждать! — хлопнул себя по коленям Рыбак. — Молодежь — она и есть молодежь. Мы ведь тоже не святыми росли, были и у нас вывихи. Одно я знаю твердо: случись, не дай бог, беда какая, война к примеру, они, эти парни, будут впереди нас и костьми лягут, если потребуется, за землю родную, за Расею, потому что они — силушка и кровь наша, совесть наша!
— Ну, разболтался я, хватит, — заключил Рыбак. — Будем палатку-то ставить?
— Конечно, сейчас.
— Ну так давай да поедем, поудим. Тут, на русле, ха-ароший лещ берет. Только с прикормом.
Рыбак ушел за кольями и долго не возвращался. Вернулся с какими-то кривыми палками.
— Ить все сожгли, никакого валежника не найдешь. А березки рубить жалко. Как девчушки стоят — молодюсенькие, беззащитные. Давай уж на эти поставим.
Мы кое-как установили палатку, оставили в ней плащи и направились к лодке. По пути Рыбак крикнул соседям:
— Случай что, так присмотрите! — А, мне пояснил: — Иногда хулиганишки шастают, то котелок сопрут, то топорик. У меня раз было, так я на всякий случай…
Мы заякорились недалеко от берега, но по глубине, по тяге воды было заметно, что здесь действительно старое русло перекрытой реки. Рыбак вынул из рюкзака полиэтиленовый мешок, а из него — мешочек поменьше — не то из тюля, не то из марли, заполненный чем-то тестообразным.
— Перловая каша с анисовым маслом, — сказал Рыбак, спуская мешочек на тесемке за борт. Опустив его на самое дно, неторопливо стал разматывать удочки, время от времени подергивая тесемку, привязанную к сиденью.
— Каша сок дает, а масло — запах, — перехватив мой любопытствующий взгляд, добавил он. — Тряхнешь вот так — она и заходит, загуляет вокруг…
— Кто загуляет?
— Рыба, кто больше! Ить тоже нажралась всякой отравы, охота, поди, чего-нибудь и послаще заглотнуть.
Мы забросили четыре удочки и притихли. Длинные, из гусиных перьев, поплавки мертво покоились в затишье лодки. Изредка на их острые, задорно торчащие кончики присаживались тощие голубенькие стрекозки. Это как-то скрашивало однообразие.
Прошло около часа. Рыбак опять поднял на колени рюкзак, достал горсть распаренного гороха, сыпанул на поплавки. Потом крошил за борт размоченный хлеб, вареную картошку и еще что-то такое, от чего дурно било в нос.
— Ить как пропала, — озабоченно обронил он.
Устав бесполезно глазеть на поплавки, я перевел взгляд на белопарусную яхту, легко и изящно скользившую невдалеке от нас. Иногда яхта делала резкий, крутой поворот, обнажая ярко-красное днище, и тогда высокий косой парус подобно крылу, казалось, вот-вот коснется верхушек волн.
Яхтой управляли двое — юноша и девушка. Атлетического телосложения юноша умело работал у руля, а девушка, похожая на гимнастку, противоборствовала крену. Стоя на самом краешке борта, откинувшись назад, она как бы летела встречь ветру. — сильная, стремительная, удалая. Когда яхта выравнивалась, девушка ловко перебегала на корму к юноше.
Красивые люди, красивый спорт! Глядя на них, словно бы реющих над волнами, я с сожалением подумал, что никогда еще не плавал на яхте. Впрочем, только ли это? Многое, еще очень многое в жизни я не испытал. Войны в том числе. Она прогромыхала где-то в стороне, опалив нас, детей тридцатых годов, лишь тяжкой горечью утрат.
Надо же, какое счастливое мое поколение! Прожить большую часть жизни и не понюхать пороху! А отец мой, например, воевал четырежды: в гражданскую, на Халхин-Голе, на Карельском перешейке…
С Отечественной отец не вернулся. Не вернулся, чтобы мое поколение не знало войны. Чтобы жили и радовались жизни вот такие красивые, не знающие бед люди.
Я вдруг понял, что это Рыбак разбудил подремывающие где-то глубоко в душе думы о времени, об ответственности перед ним. Не слишком ли высоко воспарили мы над отеческим домом, коль видим только общие его контуры и не замечаем фундамента? Вот посидишь денек с таким человеком, послушаешь его заботы, спокойно обмозгуешь все — и, глядишь, призадумаешься: все ли благополучно в отеческом доме?
…Рыбак опять спустил за борт немного какого-то прикорма, подергал тесьму. Теперь он все чаще менял на крючках наживку, перебрасывал с места на место удочки.
Наконец не выдержал:
— Да что она, издохла, в самом деле, что ли?! Ведь завсегда тут брала. Вот таких таскал!
Рыбак в отчаянии дернул мешочек сильнее, что-то влажно чмокнуло, и в руках его… осталась невесомая, змейкой взыгравшая тесемка…
— Все! — упавшим голосом сказал Рыбак. — Мешок оборвался!
— Ну и что? — попытался успокоить я. — Мы же стоим на месте, пусть этот прикорм лежит себе на дне.
— На дне-е! — простонал Рыбак. — А как трясти-то? Ведь главное здесь — муть поднимать. Говорю: тряхнешь — она и загуляет вокруг…
И в тот самый момент, когда, казалось, все было потеряно, один из поплавков дрогнул, наклонился и, приподнявшись, лег. Рыбак разом пришел в себя, схватил удилище, подсек. Упругий бамбук согнулся коромыслом, леска натянулась тетивой.
— Подсачек! — скомандовал Рыбак и вскочил. Лодка так качнулась, что чуть не зачерпнула, остальные удочки, спутывая лески, покатились по бортам.
— Подсак давай! — уже кричал Рыбак, с усилием подтягивая к поверхности упрямо сопротивляющуюся рыбину.
Я схватил подсачек, да в спешке столкнул в воду удочки.
— Ить, шарага! — откровенно обругал меня Рыбак. — Тут шевелиться надо!
В зеленой глуби, подобно сиянию протуберанца, сверкала боками крупная и, должно быть, необыкновенно проворная рыба. Я подвел сачок — не тут-то было! Зеркально вспыхнув, рыбина стремительно метнулась под лодку.
— С другой стороны сачь!
Вытянув удилище, Рыбак попытался обвести рыбину вокруг кормы. Но что такое — она не подается ни взад, ни вперед! Дернул леску раз, другой и обморочным голосом сообщил:
— Привязалась…
— Как привязалась?! — забило и меня мелкой дрожью.
— К веревке… с грузом…
Я перегнулся через борт — и перед самыми глазами увидел плашмя лежащего с лопату шириной леща. Уже сморенный борьбой, он слабо колыхался, и от него расходились в стороны блики.
Я снова запустил сачок, склонился за борт еще ниже и, изловчившись, зачерпнул рыбину. Захлестнул мотню, оборвал леску…
Мы так и плюхнулись оба на дно лодки от внезапной усталости и нервного напряжения. Перед нами, запеленатый в сачке, лежал лещ. Немного успокоившись, Рыбак соскреб ногтями прилипшую к доске чешуйку, протянул мне. Чешуйка была не меньше трехкопеечной монеты…
— Вот она, Расея-матерь! — со значением сказал Рыбак. — Привалит же такое счастье! — Он расстегнул воротник рубахи, зачерпнул ладошкой воды и плеснул на грудь. — Нет ли у тебя какой таблетки? Дух что-то запирает…
Больше поклевок не было. Лещ, лениво раздувая полумесяцы-жабры, стоял в просторном садке, и мы то и дело поглядывали на него. Казалось бы, какая уж невидаль, просто рыба, да еще лещ, а душа ликовала и пела, будто мы и в самом деле стали обладателями невесть какого сокровища.
Так оно, пожалуй, бывает у всех рыбаков.
Вечером мы долго сидели у костра. Солнце опустилось за горы, и широкая, во весь горизонт, заря яркой киноварью высветила небосклон. На пригорке, словно врубленные в зарю, монументально высились сосны. Зоревой свет, казалось, струился из-за гор, алой, нежной акварелью подрисовывая извилистые контуры далеких, как бы отодвинувшихся берегов, остров Вороний и парус знакомой яхты, теперь весь розовый, неподвижно застывший на синей мерцающей глади.
Было тихо. Лишь изредка откуда-то нехотя набегала волна, и тогда по всему берегу поднималось легкое шипение и шлепанье — это вода перегоняла песок и целовала борта лодок.
Соседи наши тоже сидели у костра. Один из них в вязаной шапочке с затейливой пампушкой, свисавшей к уху, — его звали Валера, — довольно неплохо, а главное, без дурацкой лихости играл на гитаре, остальные негромко пели. Выделялись голоса девушек:
Подожди тогда еще немножко, Посиди с товарищами у костра…— Ить вот все бы такие были, — опять Рыбак похвалил ребят, потягивая из кружки чай, прислушиваясь к песне. — И ведут себя как люди, и песни хорошие поют. Даже этому розовому вечеру не мешают. А то ведь иные такой поднимут трезвон, навключают в магнитофонах таких воплей да так начнут кривляться у огня — хоть голову в мешок суй! Думают, раз на природу приехали, так тут все можно. А эти — нет, эти вовсе не такие…
Розовый вечер. Как хорошо это сказано! Вот, пожалуй, только его и не хватало мне для, душевного отдохновения. Сколько таких розовых вечеров мы не замечаем в заботах и круговерти! И самое обидное, что лишаем мы себя этой радости, этого общения с прекрасным часто по своей лености, по вошедшему в плохую привычку домоседству. Купаемся в квартирных ваннах, в лучшем случае — в редкие дни ходим на пригородные пляжи. А естественная, вечно новая и вечно живая красота, дарованная нам самой жизнью, остается забытой.
Леща мы держали живым в садке. Садок, слегка перетянутый в горловине, висел за бортом лодки, и лещ то и дело взбулькивал в нем. Весь вечер мы любовались им.
— Ить как литой! — одно и то же говорил Рыбак, приподнимая садок, ощущая приятную упругую тяжесть. — Кило четыре, не меньше…
Перед тем как залезть в палатку, Рыбак для надежности перевязал садок.
Времени было около двух часов, когда мы проснулись от стука лодочного мотора.
— На «Вихре» гоняют, — определил Рыбак.
Я сначала не придал этому значения, но потом вспомнил, что по водохранилищу ездить на моторах запрещено.
— Кто же гоняет, если на моторах нельзя? Может, рыбоинспекция?
— Не-е! У тех поглуше работает, сразу узнаю. Это другие.
— Кто же другие? — не понял я.
— Ну другие, да и все. Есть тут такие, — уклончиво ответил Рыбак, натянул на голову плащ и затих.
А я уже не мог заснуть. Что-то под боком мешало — поправил ватник. Затем сделалось душно — расстегнул полог. Еще полежал с открытыми глазами и полез к выходу.
Брезжил рассвет. Над побелевшими влажными травами всплыл туман. Далеко-далеко в синем небе сонно мигала последняя лучистая звездочка. Слабо чадил догоревший костер. Пахло водорослями. От костра соседей тоже поднимался прозрачный дымок. Ребята уснули, забыв даже спрятать гитару. Прислоненная к колышку, она сиротливо мокла в росе.
Я глотнул из котелка остывшего чаю, пошел и положил гитару на сухой чурбак.
В прибрежном тальнике проснулись камышевки, в луговой осоке завякал бродяга-коростель. На куст боярышника взлетел знакомый сорокопут и звонким криком оповестил округу о наступающем новом дне.
«Тут-тук-тук» — долетало из тумана со стороны Вороньего. Мотор работал вполсилы, и слышно было, что лодка кружила на одном месте. Вскоре мотор стих. Донеслись приглушенные отрывистые слова: «Правее!», «Здесь!», «Выбирай!».
— Ну чего не спишь? Или вставать будем? — из-под брезента выглядывал Рыбак с папиросой в зубах. — Браконьерят, язьви их! С сетями…
Я снова забрался в палатку, поудобнее приспособил под голову рюкзак, но теперь уже заснуть не дал Рыбак:
— Раз я усовестил одних, с сетями-то, так они мне чуть в морду не натыкали. Какое, говорят, твое дело, чем мы рыбачим? Разрешение на то имеется! И верно, было у них какое-то разрешение. Показали бумажку с печатью…
Снова застучал мотор, с каждой минутой сильнее, отчетливее, и мы поняли, что лодка идет к мысу.
— Сюда ведь черти несут! — недовольно сказал Рыбак.
Моторка на большой скорости пронеслась мимо камышей и, сбавив газ, с маху врезалась в галечник. Крутая волна тревожным рокотом прокатилась по всему берегу.
Раздались оживленные голоса, тяжелые шаги в воде, надсадный скрежет — приехавшие затаскивали моторку выше. Звякнула брошенная на камни цепь, весело затявкала собачонка.
— Опять те, — пробурчал Рыбак и полез к выходу. — Как пить дать те!
Я не знал, кто такие «те», но почувствовал в голосе Рыбака тревогу и, махнув рукой на бесполезные попытки заснуть, полез за ним.
Между нашей лодкой и лодкой соседей, далеко вытащенная на берег, стояла алюминиевая «казанка» с запрокинутым мотором на корме. Трое дюжих мужчин в болотных сапогах с высокими голенищами выкладывали из нее ведра, узлы, рюкзаки. Недалеко по травке в рассветной свежести прогуливалась женщина в черном спортивном костюме, ладно обтягивавшем стройную фигуру, и толстенький мальчик в белой панамке. Возле них вертелась пушистая, как одуванчик, болонка.
Я безошибочно узнал в одном из мужчин попутчика по вагону. И он меня, кажется, узнал тоже. Приподняв шляпу, доброжелательно крикнул:
— Привет рыбакам!
Приехавшие оказались людьми предприимчивыми, не привыкшими тратить время попусту. Включив на полную громкость «Спидолу», Дачник — назовем так мужчину в шляпе — тут же без лишних слов стал раскидывать большую цветную палатку, а двое других побежали в лесок. Не прошло и минуты, как дружно забухали топоры, а еще через минуту мужчины волокли под мышками объемистые хлысты березок.
— Вот они какие! — покачал головой Рыбак. — Еще не это увидишь…
Мальчик в панамке, несмотря на ранний час, тоже оказался весьма деятельным человечком. Прошмыгнув мимо нас и даже не удостоив нас взглядом, он хватил вицей по пепелищу костра, опрокинул котелок с чаем, с завидным старанием выдрал с корнями вересок и, усевшись на упавшее с куста полотенце, принялся мастерить лук.
— Мама, мама! Веревочку дай!
Подошла мама с веревочкой в руках, надменно-снисходительно глянула на нас прекрасными глазами царицы Тамары и строго сказала:
— Стасик, сейчас же поднимись! Земля сырая, простудишься…
Стасик капризно надул губы, бросил наполовину ободранный куст.
— Тогда не буду делать лук. Вот!
Он вскочил, с проворством игровитого котенка крутанулся на месте, пробежал по костру, распинывая кедами головешки, и встал как вкопанный, увидев гитару.
— Мама, мамочка, смотри-ка!
Через мгновение гитара звенела и бренчала с такой силой, что дрогнула палатка соседей и из нее тотчас высунулись четыре испуганных лица.
— Стасик, сейчас же положи, это не твоя вещь! — рассердилась мама, поднимая полотенце. А нам сказала:
— Извините, ребенок словно ума лишается, как попадает на природу…
Стасик и впрямь был похож на непоседливую бестию. За полчаса он перетоптал и переворошил все, что успело попасть ему на глаза. Роковым оказался тот миг, когда Стасик грохнулся в смородиновый куст и, не успев зареветь, увидел перед самым носом уютно свитое гнездо черноголовой славки. Он тут же сорвал его и, восторженно округлив глаза, пронзительно закричал:
— Мама, мамочка, посмотри-ка, яички! Какие ма-аленькие!
Останавливать мальчишку было уже поздно…
Пушистая собачка вылизала, распотрошила гнездо, взвизгнула от удовольствия и покатилась за стройными ногами хозяйки.
— Стасик, сейчас же слезь, упадешь, ушибешься, — на ходу озабоченно кричала она сыну, повисшему на вершине коромыслом согнутой березки.
— Я на парашютике спускаюсь, совсем не страшно!
— Нет, так не пойдет! — решительно сказал Рыбак и направился к мужчинам, орудовавшим у палатки.
— Вот что, отдыхающие, — услышал я изменившийся его голос. — Если всяк будет вытворять в лесу все, что ему вздумается, то скоро ездить некуда будет. Разве можно так изгаляться над красотой, над Расеей?
Мужчины удивленно выпрямились. Сначала как бы даже растерянно посмотрели на щупленького небритого мужичонку в длинном обвисшем плаще. И вдруг дружно, раскатисто захохотали.
— Так это же тот самый праведник! — еле выговорил один. — Конечно, он! Помните?
Уже знакомый нам Дачник бросил топор, вплотную приблизился к Рыбаку. Неторопливо размял длинную сигарету, так же неторопливо прикурил от зажигалки. Благородное лицо его выражало сожаление. Пружиня в коленях и слегка покачиваясь, он долго глядел на Рыбака из-под приспущенных век, а потом устало сказал:
— Эх ты, «Расея»! А я-то думал, мы с тобой сойдемся…
— Никогда мы не сойдемся! — еще больше запетушился Рыбак. — Вот узнаем, кто вы такие, по какому такому праву на моторах гоняете, сети ставите! Что для вас — законы другие?
— Вы посмотрите на него! — заинтересовался третий, с боксерскими бицепсами, распиравшими свитер. Отряхнув ладони, он скрестил на мощной груди руки и с издевкой спросил: — Скажи по совести: ты не удельный князь здешней вотчины?
— Сам ты князь! — огрызнулся Рыбак, распаляясь. — Я — простой человек, слесарь я, Степан Никифорович Редькин — записать можешь! — а все равно не дам разбойничать здесь, рубить что попадя, сети ставить. Ишь чего нахлестали, штрафануть бы вас!
— Работяга, значит? — уточнил Дачник и сочувственно покачал головой. Качнулась и небрежно зажатая в уголке губ сигарета.
Это пресловутое словечко «работяга» прозвучало как «коняга» и больно резануло по ушам. Меня всегда коробили подобные пренебрежительно-вульгарные выраженьица, а сейчас это слово просто оскорбило.
Я вмешался:
— А ведь правильно говорит человек. Что у вас, разрешение особое на ловлю рыбы сетями имеется?
Дачник внимательно-настороженно глянул на меня сквозь выпуклые линзы и вежливо осведомился:
— А вы случайно не инспектор?
— Рыбак, — холодно ответил я.
— Так мы ведь тоже рыбаки, с той лишь разницей, что никому не мешаем! — почти воскликнул он. — Приехали — и сидите себе у своего костерка, не лезьте к чужому. А то вы полезете, мы полезем — что получится? И потом, откуда вы взяли, что у нас сети?
— Бросьте прикидываться простачком! — резко сказал я, едва сдерживая нарастающий гнев. — Это что, елочные украшения? — кивнул я на рюкзак под кустом, из которого торчали пенопластовые поплавки сетей.
Уловив в моем голосе решимость, гражданин разлился вкрадчивым монологом:
— Так, может быть, вы все-таки инспектор? Или вновь заступивший егерь? Петровича вроде за что-то освободили от этой хлопотной должности. Если так, то мы легко договоримся. Надо беречь нервы, надо отдыхать здесь. Пощадите нас и себя тоже. Вразумите товарища вашего. Мы обязательно договоримся… — и он перевел взгляд на зеленогорлые бутылки, живописно дополняющие уже наполовину сервированный стол.
Не знаю, до чего бы мы «договорились», но свалился в воду мальчишка, вскрикнула мамаша, и все трое мужчин бросились на берег.
— Вот они какие! — проговорил Рыбак. — Сами с усами — и никаких гвоздей! Что захотят, то и сотворят. Никто и не вяжется к ним, никто не приструнит. Всех они тут знают, и их знают. Вроде бы так-то обходительные с людьми, завсегда здороваются, улыбаются. У этого, в очках-то который, дача там, за станцией. Давно уж здесь вижу.
Выбрались из палатки, загремели котелками студенты. Опасливо сторонясь людей, над разворошенным смородиновым кустом убивались, заходились плачем славки.
— Что это тут за гоп-компания к нам присоседилась? — спросил Валера, натягивая на спутанные волосы кокетливую шапочку.
— «Отдыхающие», — с усмешкой сказал Рыбак и начал складывать на костер разбросанные головешки. — Разве не слышали?
— Слышали, — зевнула девушка, кутаясь в прожженный ватник. — Еще как слышали!
Ребята быстро навели порядок вокруг своей палатки, развесили сброшенные Стасиком носки, рубашки. Валера взял гитару, потренькал возле уха, попробовал что-то сыграть.
— Не то! Ну и мальчик, ну и музыкант! — и стал подкручивать струны…
Трое мужчин и женщина хлопотали около Стасика. Дачник с необыкновенной легкостью слетал к палатке, принес махровое полотенце. За ним к палатке бегал отдыхающий в свитере. Прибегал и третий, самый молодой из «гоп-компании», и тоже унес что-то для Стасика.
Женщина нервно выговаривала Дачнику:
— И чего ты с этими мужланами связался?! За ребенком уследить не можешь! Сейчас же увези нас отсюда!
Валера задумчиво выпустил из округло вытянутых губ голубое колечко табачного дыма, цвиркнул сквозь зубы слюной и не сказал, а пропел:
— Ци-ирк!..
Рыбак ушел на берег и тут же вернулся с побледневшим лицом и растерянными глазами. Он долго вопросительно смотрел на меня, а потом с трудом выдавил:
— Леща-то… леща-то нашего нету!
— Как нету?! — испугался я.
— А вот нету, да и все! — отрешенно повторил Рыбак и лег у костра.
Я побежал к лодке. Садок действительно был пустой. Как последнее напоминание о золотой рыбке на дне его посверкивало, переливалось несколько чешуек…
С подавленным настроением я вернулся к костру. Рыбак лежал все так же и потерянно смотрел в небо. Глаза его были влажными. Он часто, как обиженный ребенок, сглатывал слюну, от чего острый кадык его на небритой шее дергался вверх-вниз.
— Стоит ли так расстраиваться? — не очень убедительно начал я, вложив в эти слова весь запас оптимизма. — Ушел — ну и бог с ним, другого поймаем.
Рыбак нащупал в кармане папиросы, закурил.
— Дело-то не в леще, да и не в рыбе вовсе. Наплевал бы я десять раз таскаться по станциям да поездам, пошел бы в магазин да и купил ставриды. Радости-то сколько было! И на́ тебе! Все равно что обокрали… А ведь это из-за них, — Рыбак кивнул в сторону цветной палатки. — Когда подъезжали ночесь на своем катере, волной и выплеснуло… Вон ведь как гнали!
— Наверно, так и вышло, — согласился я. — Но они же не нарочно.
— Знаю, что не нарочно. А что, легче от того? Ить обидно!
Словно подслушав наш разговор, к костру подошел Дачник. Лицо и уши его румяно рдели.
— Как это у горцев: «Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету», — сказал он, слегка качнувшись, но не оттого, что был выпивши, а скорей от давней привычки. — Так вот, в некотором роде эта известная гора пришла к Магомету… Вижу, приуныли вы. Понимаю, понимаю… Ну ладно, давайте к нам, полечим…
Дачник снова качнулся, спружинив коленями, выжидающе посмотрел сперва на меня, потом на Рыбака.
— К тому же у нас нет причин, чтобы не провести это славное утро за одним столом. Ну так что, принимаете приглашение?
— Да катись ты со своими приглашениями! — сорвался Рыбак. — Без тебя тошно!
— Ну, это уж напрасно! Так нельзя! Я ведь, как видите, с добром и миром пришел. Нельзя так! — с укоризной проговорил Дачник и поморщился.
Рыбак неожиданно вскочил.
— С добром и миром, говоришь? Да боишься ты нас, вот и подходы твои! Дрожишь, как бы сети не нашли, не сказали про тебя куда следует! Не правда, что ли? Тот раз подсунул какую-то липовую бумажку, теперь с выпивкой лезешь! Замазать хочешь? Не выйдет! Сейчас же поеду на станцию, милицию привезу! Знаю ведь я, где ты их расставил!
Рыбак разошелся не на шутку. Подбежал к палатке, зачем-то схватил рюкзак, бросил, пнул пустую консервную банку, торопливо зашагал к лодке. Не оглядываясь, крикнул мне:
— Ты подожди меня тут, я разом обернусь! Я их проучу!
— Он что, всерьез? — озабоченно спросил Дачник и снял очки. Глаза его с тяжелыми красными веками подозрительно сузились, лицо медленно бледнело. Спохватившись, он бросился за Рыбаком.
Подняли головы, насторожились сидевшие у цветной палатки двое мужчин; женщина, взяв мальчика за руку, предусмотрительно отошла в сторону.
Рыбак уже столкнул лодку на воду, запрыгнул в нее, но за весла сесть не успел: Дачник дотянулся до конька носа, рванул лодку на себя. Рыбак от резкого толчка запнулся за сиденье и вылетел за борт…
Я не добежал до берега, меня схватили за руки. Схватили и сильно заломили их за спину.
— Спокойно, дружок, спокойно! Сами разберутся, — дохнул мне в ухо горячий водочный перегар.
Рыбак выпутался из тины, запинаясь, побрел на сушу. Мокрый плащ захлестывал ноги, реденькие волосы жалко прилипли ко лбу. Он, кажется, всхлипывал.
— Да пустите вы! — рванулся я изо всех сил. Руки стиснули еще крепче.. Детина в свитере почти ласково прошептал мне в другое ухо:
— Будешь волноваться — купнем и тебя…
И тут произошло неожиданное: Рыбак схватил плавающее возле лодки весло и наотмашь ударил Дачника. Раздался треск, короткий вопль и следом за этим — отборная брань, какую не слышал свет божий. Дюжие молодцы, отшвырнув меня, поспешили на помощь Дачнику…
Не знаю, как бы дальше развивались события, если бы у лодки тут же не возникли студенты. Валера, в синих узких джинсах, в ковбойке с закатанными рукавами, стоял, широко расставив ноги, между Рыбаком и Дачником и многозначительно поигрывал обломком весла. Весь вид Валеры убедительно говорил, на чьей он стороне и на что способен. Друг его был более уравновешен, хотя цепкий взгляд из-под бровей и натренированные мускулы институтского самбиста не предвещали ничего хорошего даже для этих самоуверенных молодцов. Девчата тоже оказались не из робкого десятка: они решительно преградили путь спешащей на место происшествия жене Дачника.
Соотношение сил складывалось явно не в пользу «отдыхающих», и они просто побоялись идти на большее обострение.
Затянувшееся напряженное молчание прервал Дачник.
— Значит, поехал за милицией? Нет уж, дорогой, сейчас она за тобой приедет!..
Круто повернувшись, он споро зашагал к палатке.
— Валяй, валяй, дядя, — весело крикнул ему вдогонку Валера. — Не лезь в пузырь, считай, теперь мы квиты!
Презрительно метнув в нас демоническими глазами-стрелами, еще более красивая в своем гневе, женщина подхватила на руки белую собачку, поспешила за супругом. Друзья Дачника были заметно удручены столь неожиданным оборотом дела, пошли от лодки нехотя вроде бы даже оскорбленные.
Вскоре вся «гоп-компания» погрузилась на «казанку». Взвыл мотор, и сквозь его рев мы услышали прощальные слова Дачника:
— Ну так до скорой встречи на новых берегах! Ры-бач-ки-и…
СОЛНЦЕ КРАСНО ПОУТРУ… Северная повесть
Пассажирский теплоход «Патрис Лумумба» отходил от городского причала торжественно. Из бортовых динамиков гремела музыка, на мачтах реяли бело-голубые флаги, плескались кумачовые транспаранты, веселые пассажиры, заполнившие все палубы и мостики, неслаженно пели, что-то кричали, прощально махали провожающим.
Впрочем, провожающих как таковых не было — теплоход этот выполнял туристический рейс из Омска, и жизнерадостные туристы пели и прощально махали руками просто от хорошего настроения, в унисон торжественности момента. К тому же не было никаких причин сразу расходиться по каютам: стояли редкие для Заполярья теплые, безветренные дни, мошка еще не донимала, а на причале продавали бочковое пиво. За полсуток стоянки в порту туристы применительно к местным условиям по дешевке накупили первосортной свежей рыбы. Так что был повод радоваться и штилевой погоде, и малосольным муксунчикам, до поры томящимся в банках, ведрах, бидоньях и прочей возможной таре.
На причале — а им служил старый, обвешанный по бортам истертыми до пролысин автомобильными покрышками дебаркадер — тоже не чувствовалось уныния. День был воскресный, и жители городка скорей уже по привычке стекались сюда — на самом причале и недалеких его окрестностях работали магазин (тот самый, где продавали рыбу), промтоварные ларьки, столовая, на высоком берегу из распахнутых дверей кафе доносился зазывный хрип уставшего магнитофона. На причал, как в парк, приходили компаниями, семьями, парами. У колясок-качалок на дощатом настиле в теплых комбинезончиках, как пингвинята, топтались малолетние дети; продав цветы, молча курили черноусые залетные южане; вездесущие мальчишки прямо с пирса на примитивные удочки-донки таскали пучеглазых колючих (со скалку величиной) ершей. Среди мальчишек крутилась бойкая конопатая девчушка с быстрыми зелеными глазами.
Еще на причале стоял высокий прямой старик в форменном флотском кителе и чунях на босу ногу. Задубелое, будто выструганное из смолевой плахи лицо его было неподвижно и задумчиво. Казалось, только его одного не радовал этот погожий денек, такой же редкий здесь, как завозное пиво, не интересовали ни ларьки, ни кафе и вообще все остальное, чему были рады пришедшие на причал люди. Положив большие жилистые руки на перила дебаркадера, он неотрывно смотрел на белый ликующий теплоход, теперь медленно разворачивающийся на внешнем рейде.
А там все еще играла музыка, развевались флаги, и крикуньи-чайки уже качались на узких крыльях за пенной кормой, провожая судно в обратный путь.
Конопатая девчушка, оказавшаяся рядом, вдруг ойкнула, быстро-быстро заперебирала руками, выбирая из воды узловатую леску. На крючке упруго сопротивлялась какая-то проворная рыбина.
— Катька, табань на перегон! На мель табань! — азартно заорал стриженный наголо мальчуган, до глаз измазанный рыбьей слизью. Не выпуская свою леску, намотанную на палец, он юркнул под боковую распорку перил помочь Катьке, но она оттолкнула его:
— Брысь отсюдова!
А рыбина никак не хотела сдаваться, ходила кругами, сверкающим самородком с брызгами выбрасывалась из воды, шумно падала, и Катька, выпучив глаза, широко расставив ноги, «водила» ее, ждала, пока не утихомирится, не обмякнет, не станет послушной.
Азарт передался и мне:
— Давай помогу!
— Да идите вы все! — дерзко огрызнулась девчонка. — Вишь чо крутит!
Минуты три, не меньше, «прогуливала» Катька на крючке строптивую рыбину, потом, что-то почувствовав, уловив нужный момент, напропалую потянула леску. При этом глаза она вытаращила еще пуще, они сделались совсем круглыми, как у возбужденной кошки, и как кошка же ощерилась щербатым ртом — у нее не хватало верхнего переднего зуба. Теперь уже ничего не было видно на воде, только где-то под нами, в сваях, тяжко взбулькивало, и оттуда расходились пузырчатые круги. Стриженый мальчишка не выдержал, подбежал к Катьке, выхватил у нее леску. «Копуша!» — успел обозвать он, и тотчас к нашим ногам плюхнулась длинная серебристая рыбина. Ребята упали на колени, давай ловить ее, невпопад хапали руками то там, то здесь, сшибались лбами, снова ловили, а она, резвая, увертливая, подпрыгивала, кувыркалась и никак не давалась им. Наконец чей-то тяжелый сапог придавил ее к полу…
— Не надо так! — заверещала Катька. — Кто вас просит?
Перед ней столбом стоял небритый худой мужик и глупо ухмылялся.
— Это кто, чебак, что ли, такой большой? — тоже не шибко умно спросил я.
— Еще один нашелся! — показала на меня Катька пальцем. — Во дают дяди! Этот рыбы сроду не видал, тот ее ногами…
Но быстро сменила гнев на милость, принялась объяснять:
— Щокур это. Видите, нос у него остренький, карандашиком? А у муксуна — у того тупой, как обрубленный. Вот такой! — и она изобразила, какой у муксуна нос, смешливо приплюснув пальцем свой, веснушчатый и грязный, а заодно и показала небритому мужику язык. — Щокур, говорю. Третий сегодня…
Я помаленьку начал заводиться. Нет, не то чтобы я был уж очень заядлым рыбаком, просто дома у меня имелось немало всяких рыбацких снастей, и я изредка — бывало, летом, бывало, зимой — выезжал с приятелями на пригородные водоемы. Случалось, и ловил — когда окунишек на ушку, когда пару щучек, ну, а если уж здорово повезет, вытаскивал и подлещиков. Но при всех самых оптимальных вариантах улов редко превышал вместимости рыбацкого котелка или полиэтиленового мешочка…
«Уж не съездить ли в «Спорттовары», не купить ли удочку? Ведь у меня еще несколько вечеров впереди».
И только я так подумал, Катька предложила:
— Берите, дядя, если охота, вон ту удочку, а то мне все равно некогда к ней бегать. С одной замаялась. А червяки в банке. — И Катька показала на привязанную к перилам еще одну леску, толстенную, всю в петлях и узлах.
Не успел я приняться за дело, как почувствовал на плече чью-то руку.
— Брось, земеля, разве это рыба? Хочешь, я тебя с головой завалю не такой?
Сзади стоял тот самый небритый мужик с изжеванной папиросой в зубах.
— Давай познакомимся, вижу, что приезжий, а я здешний, из местных, в общем. — Он протянул сухую, но крепкую руку: — Гоша. Из Пензы.
— Так местный или из Пензы? — не понял я.
— Ну, в некотором роде местный, третий год здесь, а сам из Пензы, — туманно объяснил Гоша и повертел растопыренной пятерней перед своим лицом, дескать, тут все не просто, долго рассказывать.
— В некотором роде местный, — повторил он. — А в сущности, какая разница — откуда я? Если даже скажу — из Москвы, мало из этого интересу. Я тебя спрашиваю: рыбы надо?
Быстро, воровато метнул взглядом вокруг, зачастил:
— Сырок, муксун, щокур. Можно и нельмушки…
У Гоши было бурое, прокуренное лицо, запущенная борода, а точнее, щетина росла клочьями, где пусто, где густо, и там, где густилась, меркло взблескивала сивой проседью. С проседью были и длинные, слегка вьющиеся волосы, сейчас растрепанные ветром и тусклые от грязи. Он выглядел еще не старым, если вообще не сказать молодым, но жизнь, видать, не шибко-то фартила ему, весь он был какой-то мятый, подержанный, с тревожной усталостью в глазах. Эти не старые его глаза, голубые и когда-то открытые людям, сейчас с опаской и надеждой смотрели на меня.
— Не надо мне рыбы, — сказал я, — куда мне ее девать? Я ведь здесь действительно приезжий.
— Ну, дело хозяйское, не надо — значит, не надо. Потом попросишь, да не будет, клепать-колотить!
В голосе Гоши прозвучала вроде бы обида, вроде бы недовольство какое, а еще послышалась недосказанность, что-то ему мешало договорить. И он бы, наверно, договорил, не терпелось ему что-то сказать, раз опять закрутил рукой у лица, но Катька тут вытащила большущего ерша, он сорвался с крючка, пружинно запрыгал по настилу, и ребятня с криком и визгом кинулась его ловить.
Я забыл о Гоше.
Я вообще забыл обо всем на свете, потому что сам настроился на рыбалку, да так настроился, что не видел и не слышал вокруг себя никого. Каждую минуту палец мой, обмотанный концом лески, начинало мелко подергивать, словно по нему пропускали ток, я резко подсекал — и на настил вылетал очередной «ершисто» растопорщенный ерш. Катька едва успевала снимать их с крючка и насаживать на кукан. Делала она это добровольно. И все учила, учила меня немудреной своей забаве.
«Ну последний, ну хватит!» — пытался сдерживать я себя, а сам все закидывал удочку, закидывал и опомнился лишь тогда, когда на большом сухогрузе на рейде радиомаяк пропиликал двенадцать часов ночи.
А солнышко все так же висело в погожем небе, лишь ниже склонилось к горизонту и сделалось большим и красным, с шафрановым диском вокруг. Теперь не только неоглядная ширь Оби, но и далекие отроги Полярного Урала с шапками нестаивающего снега на заоблачных вершинах искристо мерцали и лунно светились в его полуночном сиянии.
Тихо стало на причале. Люди незаметно разошлись, ларьки закрыли, перестал наконец надрываться в кафе магнитофон. Лишь натруженно гудели снующие по реке моторки да гугукали, перекликаясь, трудяги буксиры. Но эти звуки не мешали слуху.
Чаек тоже стало поменьше, теперь они летали высоко, не кричали так заполошно, как днем, и долгие минуты, чутко колебля крыльями, спали в парении.
Уже давненько ушел с причала высокий старик, запропастился куда-то Гоша. Да и ребятни заметно поубавилось, остались самые заядлые.
— Катя, не пора ли домой? — сказал я, видя, что девчонка совсем умоталась с этими ершами, невпопад хватает чужие удочки, сонно натыкается на ребят. — Потеряют тебя дома.
— Не-е, мама же видит меня, мы вон там живем, — и она кивнула на окна самого близкого к причалу дома.
Дом этот будто вылезал из крутого берегового откоса, весь опутанный черной прочной изолентой, той самой, которой обматывают магистральные газопроводы в тундре. Не очень красиво выглядел, но до красоты ли, если в здешних краях с сентября по май дуют штормовые ветры. А бывают и летом…
— Я всегда здесь рыбачу, мама знает, — добавила Катька. — И Петька тоже.
Азартного Петьку я уже приметил. И кто так бесцеремонно обошелся с ним, лишив мальчишеских вихров? На нем старая школьная форма без пуговиц. Он давно из нее вырос, рукава чуть закрывают локти. На ногах огромные — отцовские, видно, — резиновые сапоги. Петька простудно сипел красным носом и все время пытался прикрыть полой куртки голую грудь.
— Хватит! — решительно сказал я. — По домам!
Сполоснув руки, я и сам было направился в гостиницу, но Катька остановила:
— А рыбу?
— Что «рыбу»?
— Забыли же!
— Да не надо мне, забирайте всю.
— Нам тоже не надо, у нас дома много. Вам ведь ловили!
— Вот те раз, куда мне с ней?
Кое-как уговорил унести ершей домой, тем более что живут ребята недалеко. А чтобы не обиделись, пообещал забрать завтрашний улов.
— А вы придете? — оживилась Катька.
— Постараюсь, если червей припасешь.
— Ладно, припасу. Только приходите!
Северные белые ночи вымотали меня бессонницей. Куда годится — круглые сутки солнышко! Плотные портьеры не спасают. Даже при наглухо зашторенных окнах в полночь можно преспокойно читать газету. Под утро видел — к гостинице лихо подкатил мотоциклист в модняцких темных очках…
Сюда я прилетел в начале июня, устойчивого тепла еще не было, и деревья, кустарники стояли голые, лишь с влажными от соков стволами. Вызрели и почки, особенно на растущем здесь в изобилии ивняке, и, маленькие, едва заметные, они выделялись на узловатых ветвях полярных березок.
Мало было и травы. Нет, трава была, но какая-то квелая, робкая и не зеленая вовсе, а бурая и на бурой же земле казалась незаметной. На солнечных обогревах в заветрии реденько мелькали желтые первоцветы мать-и-мачехи. А обычные здесь калужница, пушица, хвощи, осока только готовились к лету, с корней, завязей, бутонов набирали силу, чтобы в один прекрасный день прянуть к обманно близкому солнцу дружно и безоглядно.
И этот день настал. Будто зеленым туманом взялось все окрест. Вчерашние переспелые почки вдруг разом выстрелили пучками листьев, голубо-зелено заструились шелковистые лиственницы, даже чахлые елки в оврагах засветились клейкими пестиками-побегами, похожими на тоненькие свечи.
Однако с вечера и особенно ночью солнце казалось уставшим, перекаленным, с «ушами», сказала бы моя мама, а это верный признак скорой перемены погоды. Оно и к утру не остудилось, все было таким же красным и опять с розовым венцом, хотя безмятежно-ясные горизонты не сулили вроде ни дождя, ни ветра. «Солнце красно поутру — моряку не по нутру», — из глубины памяти всплыла присказка, и, уходя из гостиницы, я на всякий случай прихватил болоньевую куртку.
И не пожалел.
В тот день мне предстояло на речном трамвае с ласковым прозванием «омик» переплыть Обь, побывать в большом приречном поселке, а к вечеру на том же «омике» вернуться обратно.
Я не успел взойти на судно, на трапе кто-то знакомо тронул меня за плечо. За спиной стоял Гоша.
— Слышь, земеля, я, конечно, извиняюсь, что вот так сразу… — он привычно покрутил перед лицом пальцами, трудно подбирая слова, — извиняюсь, конечно, и как-то неудобно даже говорить, вот подумаешь разное… Но прожился я в доску, клепать-колотить! Не дашь ли трояк, ей-богу, рассчитаюсь рыбой! Не такой! — Гоша презрительно мотнул головой на конец причала, где разномастная братия уже принялась за ершей. — Ну, а если не возьмешь рыбой, деньги верну. Ей-богу, верну!
В голосе его прозвучало столько безысходности — так ему надо было эти три рубля, — что я почти с испугом опоздать сунул руку в карман за кошельком. Тогда я не подумал, отдаст ли Гоша долг, скорей всего, что нет, может быть, я вообще не увижу его больше, но отказать не смог. Это была не просто просьба, какой-то крик, и он болью отозвался во мне.
— Держи! — сказал я, протягивая деньги. — Постарайся к концу недели вернуть. В конце недели я уезжаю.
Последнее я сказал просто так, потому что не знал, что сказать.
Только «омик» отшвартовался, только матрос собрал чалки, на крохотную носовую палубу, где я пристроился посидеть, пробрался розовощекий мужчина с портфелем.
— Если не возражаете, я рядышком…
И хотя сесть было совсем некуда, мужчина, по-бабьи подхватив полы плаща, втиснулся на узенький диванчик между мной и молодой женщиной с ребенком на коленях.
— Народ пошел! — нервно кивнул он через плечо на застекленный пассажирский салон. — Нет чтобы встать сорванцу, уступить место взрослому человеку, так ведь сидит! Видите ли, билет у него! Да что — билет, у всех билеты, сознание должно быть прежде всего! Чему их только в школах учат. И мамаша хороша: «Протопчешься!» Я-то протопчусь, только где у них совесть, спрашивается?
Он поерзал, устраиваясь поудобнее, быстро успокоился.
— Да бог с ними, пускай сидят, мозоли натирают… А мы здесь, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Верно я говорю?
Женщина неласково глянула на пришельца из-под приспущенного платка, плотно сомкнула губы, отвернулась.
— А портфельчик… портфельчик не надо пинать, там у меня может пролиться, — предостерег мужчина, когда женщина, потеснясь, нечаянно задела ногой его портфель.
Городской речной порт — не на самой Оби, на одном из крупных ее притоков. Пока «омик» шел по нему, лавируя меж неуклюжих громоздких барж, длинных верениц плотов, прикрытый высоким мысом, было относительно тихо. Но вот он выбрался на простор Оби — и тут заподдувало. Вспененные волны били в правый борт с такой силой, что невеликое суденышко как бы охало и постанывало, а брызги от волн нет-нет да и осыпали нас холодным душем. Женщина укутала свою девочку предусмотрительно прихваченным дома одеяльцем, мужчина-сосед натянул на голову капюшон плаща.
— Севе-ер! — многозначительно протянул он. — Уж если понесло с губы — жди пурги…
— В июне-то? — удивился я.
— И в июле бывает. Тут всегда бывает… А вы, похоже, приезжий? Что-то не встречал здесь. Командировочный или как?
— Командировочный.
— Это и видно. Командировочных сразу видно. — Он бесцеремонно оглядел меня, укоризненно покачал головой: — Вот знаете, куда едете, а одеты как? Ну что здесь ваши штиблетики? Здесь во надо носить! — он со значением похлопал по голенищу добротного ялового сапога. — И курточка — так себе. Несерьезная… Верно я говорю? — подтолкнул он женщину с ребенком.
Сосед оказался не только энергичным, но и на редкость разговорчивым человеком. Охотно рассказывал о себе:
— Я ведь, если разобраться, тоже командировочный. Только длительный командировочный. Десятый год тут кантуюсь. Можно сказать, прописался на Севере. Изучил его, батюшку. Знаю, когда задует, когда пригреет. Люди на юг в эту пору, а я — сюда. Сам-то я ярославский, а здесь каждое лето. Закупаю, сопровождаю рыбку. Экспедитор, значит. Сам и работник, сам и начальник. Благодать! Вот поехал в поселок, делишки кой-какие провернуть надо…
Он вспомнил что-то приятное.
— Да, раскручивал я, бывало, тут делишки! За копейки, почти задарма рыбу брал. Какую рыбу! Одной икры по бочонку привозил…
Сосед опять пристально и как бы даже изучающе посмотрел на меня, нашел, что я надежный, свойский человек, сказал, потирая ладони:
— Что-то стало холодать… Как там дальше-то? В общем, вмажем, что ли? У меня есть…
Откинув капюшон, он потянулся за портфелем, пристроенным между лебедкой и ящиком с углем. Отвисший животик мешал ему сделать это быстро и ловко, не потревожив других, и когда он взял наконец свой портфель, то навлек на себя справедливое недовольство женщины с ребенком:
— Ну чего, чего не сидится, раз втерся! — вознегодовала она, поднимая с пола упавшее одеяло. — Забрался, так уж сидел бы, не дергался!
Экспедитор будто и не слышал упрека, достал из объемистого портфеля алюминиевую фляжку, потряс возле уха.
— Есть порох в пороховницах! — весело прищелкнул он пальцами.
— Спасибо, но я не буду. В поселке у меня работа.
Сосед искренне изумился:
— А я что, на прогулку еду? И у меня работа, но работа, сами знаете, не Алитет, в горы не уйдет… Верно я говорю?
Он сунул мне в колени фляжку, снова наклонился над портфелем, извлек просаленный сверток. Опять прищелкнул пальцами:
— А вот от этого наверняка не откажетесь. Обский омулек… по особому рецепту готовил. Сам! Да, Самохвалов моя фамилия. Иван Петрович Самохвалов.
Такой диковины я и в глаза не видел. Правда, слышал, что водится в Омской губе какой-то омуль, не то завезенный сюда, не то подвид байкальского — не знаю, не берусь судить, — но какой он из себя, с чем его едят, не имел понятия.
И вот этот омуль, умело распластанный со спины, влажно розовел нежнейшим мясом и источал запах, отдаленно схожий разве что с ароматом моченой брусники. Самохвалов разрезал рыбину аккуратными пластиками.
— Ну так что?
Велико было искушение отведать редкого деликатеса, но я устоял. Что-то удерживало от сближения с этим доброхотом. Во всем — и в манере держаться, и в наигранной распахнутости, и в мнимом расположении — чувствовалось прежде всего тонкое «узнавание» случайного попутчика, своего рода зондирование: «Кто ты есть? А вдруг да окажешься нужным человеком?»
Но Иван Петрович умел сохранять и такт. Когда я вторично отказался от угощения, он больше уже не предлагал.
Запрокинув голову, он глотнул из фляжки раз, другой, скривился, открыл рот, шумно выдохнул и лишь тогда взял закуску.
— Совсем не употребляете? Зря! — уверенно сказал экспедитор. И заговорил теперь уже без всякого останову: — Здесь, я вам скажу, товарищ дорогой, жить можно. С умом, конечно, с сообразиловкой. Ну, для начала надо иметь непыльную работенку, чтобы не пахать с утра до ночи и чтоб не считали тебя тунеядцем. Второе, хорошую лодку с мотором надо. Сети — само собой. И чем больше, тем лучше. Вот она, путина сейчас. Угони подальше, заготавливай рыбку. Соли, вяль, а ледник есть — туда вали. Это ведь здесь она дешевая. А ну-ка на Большой земле? В Тюмени, скажем, в Свердловске. Про Москву, Ленинград молчу. Копченая — десять рэ за хвост! Ну как? Верно я говорю?
Самохвалов широко развел руками.
— Велик батюшка-север, ни конца ему, ни края! Люди-то только вот тут, на этом пятачке, живут, ну, селеньица за пятьсот верст друг от друга натыканы, буровые сейчас кое-где, а так все тундра, тундра и тундра… В августе ягода пойдет. Морошка там всякая, голубика, черника, смородина. Знаете, какая здесь смородина? Во! — попытался он сделать колечком толстые пальцы. — С воронье яйцо, не меньше! А клюквы, клюквы — тьма-тьмущая! И все это добро пропадает. Ленятся люди…
Низко над Обью, едва не касаясь волн, пролетела в сторону береговых тальниковых крепей длинно растянувшаяся стая уток, кажется, чернетей.
Иван Петрович тоже заметил их.
— Вот утки, гуси, всякая другая птица. Что тут бывает осенью! Да если у тебя ружье, да если опять же ты не лентяй — на всю зиму дичиной запасешься да еще и на продажу будет. Ну и олешки не последнее дело… Верно я говорю?
До этого молча сидевшая женщина с ребенком вдруг резко повернулась к Самохвалову, заговорила зло и непримиримо:
— Понаехало тут всяких… Север, Север! Что же вы у себя дома-то так не хапаете? Тебе не только лодки с мотором, ледокола мало будет! Тогда бы баржами рыбу сплавлял. Гребут, гребут, и все мало! Да когда это, в самом деле, кончится? Уже и с Кавказа дорогу сюда вызнали. Цветочки везут, а отсюда — рыбу. Цветочки — подумать только! — по десятке розочка…
Она поплотнее завернула напугавшуюся дочку, снова напустилась на экспедитора:
— Да разве настоящие-то мужики этим здесь занимаются? Вон приедут с вахты, так ухлещутся — отмыть, отпарить невозможно! А ты — «вяль», «суши», «не ленись»! Уж помалкивал бы, раз воруешь…
Непробиваемый Иван Петрович ничуть не обиделся на женщину, не спеша пососал рыбью голову. И как ни в чем не бывало философски продолжил:
— Что поделаешь, гражданочка, каждому свое. Вот муж ваш, если я правильно понял, деньгу зашибает где-нибудь на буровой. А я, к примеру, не хочу зашибать на буровой. У меня свои интересы. И у тех, с розочками, свои. Жизнь — она, гражданочка, научит приспосабливаться. Верно я говорю?
— Хам ты, больше никто! — окончательно вышла из себя женщина. — Хапуга бессовестный! И зачем таких, как ты, только сюда пускают!
Она решительно встала, прижала к груди ребенка, ощупью нашла свою сумку и пошла прочь, расстроенная и оскорбленная.
— Ну что вот с нее взять? — сожалеючи кивнул вслед экспедитор, непоколебимый в своей правоте, верный собственному жизненному курсу. — Типичная бабская психология: сама не гам — другим не дам. А ведь молодая еще, как жить-то дальше собирается, детей растить? Эх, народ, народ!
На середине Оби «омик» так начал клевать носом и зарываться во встречную волну, что пенные наплески стали перекатываться через палубу. От ветра наверху уже не было спасения, и я зашел в битком набитый салон. Там в проходе на чьих-то чемоданах сидела ушедшая от нас женщина. Увидев меня, она презрительно отвела глаза.
Я пробился к широкому лобовому окну. Во все стороны пучилась валами и тяжело вздыхала растревоженная Обь. Прямо по курсу качалось над волнами холодное красное солнце.
О нем, о красном солнышке, и о том, что от него поутру моряку бывает не по нутру, я вспомнил вечером того же дня, потому что в назначенный час «омик» к поселковому причалу не подошел. Как выяснилось, местная гидрометслужба объявила штормовое предупреждение. Да и так было видно, что в небесной канцелярии не все в порядке и в погоде наступает резкий перелом.
Солнышка, ни ясного, ни красного, теперь уже не было вовсе, по небу от горизонта до горизонта стлались слоистые тучи с рваными, волочившимися низом хвостами. Обь разгулялась еще сильнее и вспыхивала полосами в посверке неожиданных молний. Было морочно, холодно и темно.
О причал монотонно бухали волны. Скрежетали бортами, раскачиваясь, сбившиеся в бухте сейнеры, мотоботы, буксиры, кричали уставшие бороться с ветром чайки, и продрогшие пассажиры вожделенно смотрели в мглистую даль, все еще надеясь увидеть потерявшийся «омик».
Не пришел он и в полночь, тоже означенный расписанием час, и всем стало ясно, что ждать больше нечего.
Люди на пристани ругались, проклинали погоду и пароходство, грозились кому-то писать, кому-то жаловаться и все же торчали здесь, потому что идти было некуда.
Утренний попутчик-экспедитор предлагал мне в случае чего завернуть к нему по такому-то адресу, но я помнил только улицу, а номер дома забыл. К тому же это была не гостиница, а частный дом, и идти туда не хотелось. Вообще не хотелось второй раз встречаться с назойливым и чересчур разговорчивым этим человеком.
Я, как и другие пассажиры, тоже на что-то надеялся, чего-то ждал, и наше многотерпение вознаградилось: откуда-то из-за барж, из-за плавучих кранов вынырнул и затарахтел мотором катерок и как-то боком, насилу преодолевая волну и течение, стал забирать бортом к причалу. Сначала мы не поверили, что он за нами, но оказалось — за нами, и через несколько минут мы дружно почти на абордаж брали это утлое суденышко, насквозь пропахшее мазутом и рыбой. Капитан честно сказал, что идти в такую волну через Обь рискованно, но что поделаешь, жаль озябших людей, и он решился. А кто боится волны, пусть сойдет обратно. Так же честно он напомнил и о том, что за риск положено платить вдвойне, а потому все отважные должны отдать его помощнику, рыжему парню в тельняшке, по три рубля. Недовольных или обиженных среди «отважных» не оказалось…
Я не стану описывать этот обратный наш рейс, только скажу, что болтались мы среди пенных пучин часа четыре, не меньше, что капитан то и дело кричал в открытую дверь рулевой рубки бежать всем на правый борт, и мы бежали, хотя как раз на правый борт опасно заваливалось судно и его заливала волна.
В общем, умученные, мокрые, околевшие до синевы, до стука зубов, мы наконец приткнулись к городскому причалу, и каждый порадовался, что все кончилось благополучно.
И тут, когда действительно все кончилось благополучно, присказку про красно солнышко пришлось вспомнить еще раз. Повезло, здорово нам повезло, что случилось это не в пути… В клубящемся небе синим гигантским огнивом встала ветвистая молния, посияла мгновение мертвой жутью да таким оглушительно-обвальным грохотом обрушилась на город, что сразу везде погас свет. В нос ударил острый запах селитры. Где-то что-то с быстрым нарастанием зарокотало, завыло, все ближе, мощнее, и вдруг я увидел стремительно надвигающуюся с Оби белую качающуюся стену. Она фосфорно взблескивала и струилась витыми космами. Минута — и по настилу причала ожесточенно забарабанил крупный, как колотый сахар, град. Налетевший следом дьявольской силищи шквал ветра сорвал с якорей стоявшие на рейде суда, поднял и разметал шиферные крыши ближайших домов, повалил заборы, оборвал, скрутил, спутал телеграфные и электрические провода. В пыльном хаосе высоко над землей метались фанерные листы, ветки деревьев, лоскутья толя, бумага и все-все, что могла подхватить, увлечь в смерчах к небу разбушевавшаяся стихия.
А потом вдруг враз сделалось тихо. Так тихо, что слышно стало, как журчат струйки стекавшей с причала воды и шипит, подтаивая, град.
Скользя и раскатываясь по нему, я перебежал под навес ларька и тут буквально нос к носу столкнулся с Гошей. Он был напуган. Молча схватил меня за рукав, потащил куда-то по переходам и мосткам над водой, и вот мы очутились в какой-то будке. Оба рухнули на нары.
Гоша горстью вытер щетинистое лицо, отдышался, тяжело спросил:
— Как же ты… Как же ты так, земеля? Не мог утра дождаться, пронесло бы, здесь долго не бывает. Я уж тут что только не передумал, как узнал, что ты на катер сел…
— Откуда ты узнал?
— Откуда! А вот оттуда! Звонил — сказали, что всех, кто не разошелся, Васька забрал. Ну тот, который перевез вас. Бакенщик он, за маяками еще следит.
— Спасибо мужику, выручил.
— Выручил! — возмутился Гоша. — А если бы перевернуло? Ведь волна-то четыре метра была, клепать-колотить! Понимаешь, четыре метра! Вот такая же гробина у гидропорта гниет. Только мачта и торчит. Осенью еще затонула. Так тут хоть у берега…
Меня удивило и даже озадачило такое неожиданное участие ко мне Гоши, но я до того устал, так хотелось спать, что ни о чем не стал спрашивать. Только подумал, что другой он человек, не такой, каким показался при первой встрече. Да я и не делал никаких выводов.
— Пойду домой, — сказал я. — Отдохнуть надо.
— А ты здесь и поспи, — немедленно предложил Гоша. — Пока идешь до гостиницы, то да се. У меня и матрац есть, и мешок спальный. Я ведь тут и живу…
— Как «тут», и вообще, что здесь такое?
Гоша ответил не сразу. Покрутил, повертел перед лицом пальцами, поискал объяснение:
— Как сказать? Здесь — насосная, а я моторист, стало быть. Воду в пакгаузы подаю. Обещают общежитие дать, а пока тут. Лето ведь, свежий воздух!..
Только сейчас я обратил внимание на громоздкий агрегат за дощатой перегородкой, на трубы, всякие манометры и вентили на них.
— Да нет, доберусь уж до дому, — повторил я.
— Ну, как хочешь, — не стал удерживать Гоша. — А будет время, заходи. Я всегда здесь.
Я уж было поднялся по крутым и длинным сходням с причала на высокий берег, как услышал за собой сначала топот, а затем Гошин голос:
— Земеля, слышь, постой! Совсем забыл! На вот, долг возьми, — и протянул мне трешку.
— Мы же договорились до конца недели?
— Бери, пока есть. Разжился я тут малость… Ну так забегай.
Но Гоша еще остановил меня:
— Слышь, земеля! Тебя тут весь вечер девчонка ждала. Ну та, ершей-то с которой ловил. Скоро опять прибежит, что сказать-то?
К вечеру погода опять разведрилась, опять засияло полярное солнышко, воспарили нежной зеленой дымкой плоские острова на Оби, и сама она, суровая труженица, как бы притихла, осела в берегах, устало забылась до поры. Так же кричали чайки, погукивали теплоходы, по улицам городка спешили прохожие. И только выбитые окна, скелеты стропил на домах, всякий неубранный хлам на дорогах напоминали о недавном урагане, о грозном дыхании не столь далекого отсюда Ледовитого океана.
По-прежнему не было в городе света, говорили, что вышла из строя электростанция. Не работал и телефон, давший, кстати, мне возможность беспробудно проспать полдня.
Потом я все-таки съездил в магазин «Спорттовары», купил добротной лески, крючков, другую рыболовную мелочь, а вечером отправился на причал.
И первым делом выслушал справедливые упреки Катьки:
— Ага, пришли! А вчера где были? Ведь обещались же! Мы с Петькой червяков старались копали, а вы? Думаете, легко здесь червяков искать?
— Катя, извини, но я не мог вчера, — радостно начал оправдываться я. — Погода-то какая была!
— Ага, погода! Сказали — все равно должны прийти. Я ведь пришла! И червяков принесла. А ерши всегда клюют…
— Спасибо, Катя, за червяков, за верное слово. А чтобы не сердилась, на вот тебе новую леску и крючки.
— А Петьке? — непритворно потребовала девочка. — Петьке где?
— Петька пускай сам покупает. Ну, а если хочешь, поделись. Тут вам всем хватит.
Мальчишка возник рядом немедленно, стоял, швыркал носом, ждал, когда Катька отмотает ему лески. Он опять был в кургузой школьной форме без пуговиц и в тех же больших сапогах.
Увидел я на причале и запомнившегося высокого старика в кителе. Он, как и в тот раз, стоял с непокрытой белой головой у кромки причала, смотрел на проходившие суда. И тоже, как в тот раз, стоял один, молчаливый, ко всему безучастный, лишь изредка переводя взгляд с реки на круглые часы под крышей дебаркадера.
Старик заметно оживился, когда вдали показался очередной пассажирский теплоход из Тобольска. О его прибытии известил диспетчер по радио.
«Кого-то ждет», — подумал я. И верно, старик сдвинулся с места и пошел как бы навстречу судну, к причальной стенке. Когда он поравнялся со мной, почему-то бросились в глаза его усы — тонкие, острые, тоже белые, а потому невидные издали на лице. Нет, неправильно я сказал: усы были рыжеватые, вполне обихоженные, скорбно свисавшие по углам безмолвного рта.
Что-то было небудничное в этом человеке, непонятное, что ли, чем-то пробуждал он интерес к себе, а чем — я понять не мог. Во всяком случае, казалось мне, старик он очень непростой и, конечно, неспроста дежурит на причале каждый вечер. А что каждый вечер — я не только убедился сам, но и слышал от других. Многие в городе знали его и почему-то называли шкипером. Называли иронически, с явным непочтением, и непонятно было: то ли это прозвище, то ли в самом деле старик — шкипер.
Но нет, он никого не ждал. Теплоход давно причалил, разошлись, разъехались немногие пассажиры, а старик остался. Но теперь он смотрел не только на Обь, с заинтересованной приглядкой нет-нет да и стрельнет глазами в мою сторону.
И вот тяжелой походкой, шаркая чунями, подошел ко мне, безо всяких околичностей спросил с сильным украинским акцентом:
— Надолго к нам?
— Как поживется, — в тон ему ответил я.
— У нас хорошо, у нас можно жить. От яка могутна ширь! — развел он руками. — Пожить треба, штоб це полюбить. Зараз не полюбишь и не поймешь. Я ж сам з Одессы, и родився там, а никуда отсюды не пои́ду. Давно на пенсии, можно уж до ридной хаты податься, а я не и́ду. И помру туточки.
— Так уж не скучаете по родине?
— А чего скучать? Здесь считай половина украинцев живе. Чи не бачив сам? За грошами сюда идут. Хаты покидали — и сюды. А я — ни, я не за грошами. Я Север люблю…
Трудно было определить, сколько старику лет, немало, конечно, но к нему так и напрашивалось сравнение с одиноким деревом, которое, как ни ломают ветры, как ни бьют морозы, все стоит на краю обрыва, цепко держась корнями за спасительницу-землю. Он еще ничего, этот дядя: не сутул, жилист, с крепко посаженной головой на такой же крепкой шее. Во всем его облике угадывалась многолетняя закалка, а точнее — приспособленность к немилостивой здешней природе, к несладкой, похоже, жизни. Вот и сейчас при свежем ветре он стоял в неизменных своих чунях на босу ногу, с обнаженной грудью, густо поросшей золотистым курчавым волосом. Просто годы подсушили его, а может быть, и всегдашняя необъяснимая угнетенность. Эта угнетенность, будто в маске, отражалась на буром, в складках, его лице, на усах-щеточках, как уже было подмечено, скорбно свисавших по углам рта. Старик то и дело проводил по ним заскорузлыми пальцами.
— А бачу, ты щедрый, як артист какой, — сказал он с укоризной.
— Это почему же?
— Как «почему»? Тому гроши суешь, этим удочки задарма, — метнул он недовольными глазами на ребятишек.
Меня неприятно удивила такая наблюдательность, но я тут же, отгоняя недобрые мысли, подумал, что в этом замечании скрыто желание предостеречь от нежелательных знакомств с подозрительными завсегдатаями причала. А такие и в самом деле появлялись здесь по вечерам.
— А вы наблюдательный, — заметил я.
— А то як же! — согласился старик. — На то и глаза. Я усе бачу! И скажу тебе: всякий пришлый тут, как перст, весь на виду. Здешние-то привычны, а новый зараз приметным делается…
Он наклонился к самому моему уху, плохо получившимся шепотом посоветовал:
— Ты не здорово с ним. Знаешь, кто он? Босяк, жулик! Доверься такому, обдерет как липку.
— Это о ком вы?
— О том, кого ты трояченницами снабжаешь.
От старика невыносимо пахло чесноком, и я отодвинулся от него.
— Для чего вы все это говорите?
— Да так… Я — старый человек, побачив на своем веку всякого люду, и этих бичей знаю. Ворье они все! Спроси, где он не работав. И отовсюду шугают!
Старик опять приблизился ко мне, оглянулся:
— Я ведь почему предупреждаю. Обкрутит он тебя, новичка здесь, за милую душу. Вот попросит што-нибудь сделать, ну малость яку, што-то увезти, што-то передать, ты по доброте своей сделаешь — и влип в воровские сети… Знаю я этих бичей! — повторил старик и сплюнул.
Он пригладил усы, навалился грудью на перила и, глядя в темную воду, круто переменил разговор:
— Значит, ты из газеты?
— Из журнала.
— Во-во, все равно статейки, значит, пишешь. Так вот, я хочу тебе рассказать про свою жизнь. Какая жизнь! Почему, думаешь, я здесь, на Севере? А сам з Украины, аж з Одессы. Скажу — не поверишь. Люблю путешествовать. Север люблю! Хочу рассказать тебе про свою интересную жизнь, чтобы ты, значит, прописал все как есть в статейке. А фамилия моя Симак.
Симак оторвал взгляд от воды, потрогал усы.
— Значит, так…
Но тут Катька выволокла тяжеленного, змеисто извивающегося налима, скользкого и увертливого, она никак не могла снять его с крючка, и я поспешил на помощь.
— Уйдите! — строго и неожиданно отчужденно сказала Катька, выпрямляясь. — Не надо мне помогать. — И так недобро, с такой обидой глянула на меня своими зелеными глазами, что я ее не узнал…
Старик долго рассказывал мне про свою полную приключений флотскую жизнь, что плавал сперва на пароходах, а потом на теплоходах по Карскому, Баренцеву, Белому морям, что бывал — и по многу раз — в Мурманске, Архангельске, на Диксоне, что он шкипер, боцман, лоцман и так далее — говорил обо всем, но только не о том, что привело его сюда, в столь непохожий на солнечную Одессу заполярный город. И было в его рассказе что-то с дальним прицелом. С прицелом, о котором я догадался позднее.
Кое-как я отвязался от него, сказал, что проживу здесь еще несколько дней, и он расскажет все остальное, а пока я пойду к ребятам ловить ершей.
Но с Катькой отчего-то уже не стало той взаимопривязанности, хоть и показала на банку с червями, ни о чем не спрашивала, не суетилась рядом, не снимала с крючка ершей, только взбуривала на меня недоверчиво и осуждающе. Зато с недетской строгостью покрикивала на Петьку, когда тот делал что-нибудь не так.
По уговору наловленная рыба сегодня полагалась мне, и я задумался, как бы сделать так, чтобы и рыбу не брать, и Катьку, не обидеть. А наловили мы много — два длинных проволочных кукана, штук, наверно, пятьдесят. Да еще налим. Куда мне с этим добром в гостинице?
И тут я придумал:
— Давай, Катерина, если мне полагается улов, заварим уху. Тройную! А что, правда? Это же здорово — уха из ершей! Пойдем к дяде Гоше, у него есть электрическая плитка, кастрюля большая. Петьку с собой возьмем.
Катька посмотрела, посмотрела на меня и сказала, как отрубила:
— Не пойду я с вами никуда. И рыбачить больше с вами не буду… Забирайте свои удочки!
— Это почему же? Что случилось?
— Вы… вы плохой дяденька! Такой же плохой, как тот дедушка…
Гоша встретил меня чуть не с объятиями. Побритый, постриженный, в спортивном костюме с броскими красными лампасами. Выключил надоедно стучащий насос.
— Хватит, клепать-колотить! Им ведь зачем вода-то? — мотнул он головой куда-то наверх. — Пакгаузы моют. Ну, там после рыбы, всякой всячины. Наставят шланг — и айда поливать! — Гоша показал, как моют пакгаузы, будто бы поводя из стороны в сторону шлангом. — Ну и еще кой-куда подкачку делаю. В общем, как в старой песне: «Потому что без воды — и не туды, и не сюды…»
Он сполоснул прямо тут же, внизу под насосом, руки, открыл приколоченный к стене шкафчик. Замысловато покрутил пальцами, заговорщически подмигнул бывалым глазом:
— Выпьем чайку? Я тут разжился малость…
— Подожди. Кое-что скажи мне.
— Ну и поговорим, конечно, мне тоже до тебя дело есть.
Гоша вынул из шкафчика откупоренную бутылку водки, выставил тоже открытую консервную банку с тушенкой, хлеб. Отдельно положил на столик крупную проросшую луковицу.
— Вот даже фрукт раздобыл, — сказал он, суетливо разрезая хлеб, доставая ложки. — Туговато у нас летом с лучком-чесночком. Съели за зиму, и пока не завезли. Приезжие барыги торгуют.
Я сразу и опять неприятно вспомнил старика шкипера, смердящего чесноком.
— Скажи, Гоша, с чего это сегодня Катька на меня напустилась? Поговорил с Симаком, и ее как подменили.
— Ай! — отмахнулся Гоша. — Нашел с кем разговаривать. И правильно Катька невзлюбила…
Он подсел ко мне на нары, давай крутить пальцами перед лицом.
— Как бы тебе объяснить? Ребенок — он и есть ребенок, мало ли чем можно обидеть. А шкипер как-то нехорошо пошутил с ней. Вот, наверно, из-за него и с тобой так…
— Но я-то при чем? Я же не подшучивал!
— Ай! — опять замахал Гоша руками, явно досадуя на мою непонятливость. — Шутки-то ведь бывают разные, иная не только малого, а и дубака наподобие меня отшибет. Слушай сюда, если интересно, клепать-колотить!.. Таскают они, мелюзга, ершей, а шкипер и говорит им: «Чем вы занимаетесь, сопляки, цирк ведь московский приехал. Попов там, Никулин и прочие». — «Где, куда приехал?» — «Да прямо в аэропорту и балаган циркачи раскинули. Тигру, слона привезли…»
Ребятишки рты пораскрывали: «Правда, дедушка?» — «Как не правда, если сам видел».
Ну, те побросали свои закидушки — и на остановку. А автобусы уже не ходили. Пробежали они до порта все десять километров, видят — никакого цирка нет. Вернулись так же пёхом, языки повысовывали от усталости, а шкипер живот поджимает, хохочет над ними…
— Зачем он так сделал?
— А ты спроси его, придурка. Самого себя повеселил. Он же один здесь, как волк в окладе, руки ему никто не подаст. Вот и придумывает развлечения… В общем, гад он, и не только за это!
Гоша потянулся к бутылке, но я отвел его руку и показал на чайник, уже пошумливающий на плитке.
— Давай лучше чаю.
— Давай, — кивнул он. — Я расскажу тебе, кто такой Симак! Сам-то он наговорил тебе, поди, семь верст до небес и еще наговорит! Он всех приезжих обхаживает, Север расписывает, будто рай ему здесь, клепать-колотить!
Гоша разлил по кружкам крепко заваренный чай.
— Ну так слушай сюда. Полицай он бывший, этот Симак. Всю войну, продажная шкура, фашистам прислуживал, а потом под чужой фамилией еще долго неузнанным был, в Закарпатье при теплом местечке кантовался. И все же нашли, опознали. Жаль, что за давностью лет вышку не дали, поменяли на десятку строгача. Вот в этих теперь милых его сердцу краях и оттрубил срок от звонка до звонка. А потом — куда? Домой нельзя, напаскудил за войну. Там, в Одессе, говорят, не прощают изменников, хоть и отбыл ты срок. И правильно делают! В сорок третьем, наверно, такой же полицай батю моего раненого расстрелял на глазах у всей деревни. В Белоруссии это было, сам ездил, когда вырос, многие помнят тот день. Памятник там стоит отцу… Правильно делают, что не прощают! — с нажимом повторил Гоша. — У нас тоже не прощают, сам видишь, какой он одичалый. Вот и ошивается здесь после тюряги, все смотрит куда-то, ждет чего-то, а все равно здесь. Некуда ему больше податься… Да катись он, клепать-колотить! — выругался напоследок Гоша. — Поговорить, что ли, не о чем? Ты вот лучше послушай…
Гоша задумчиво помолчал, словно бы решая, с чего начать, взъерошил пятерней постриженную свою шевелюру, знакомо пожестикулировал перед лицом.
— Я ведь как до такой житухи докатился? Работал в Пензе на стройке. Хорошо получал. Даже в бригадирах последнее время ходил. Семья, конечно, дочка такая же, как Катька. Ну, живем, все идет нормально, жена на часовом заводе работает. И тут приезжает кореш, Сашка Блудный. Ну, Блудный — это у него прозвище, а так Сашка Гурьянов. Поддали за встречу в ресторане. Сашка и говорит… Кроты вы, говорит, слепошарые, замуровались с головой в своих норах, ничего дальше носа не видите. Горбатитесь, говорит, за двести каких-то колов, а на Севере эти деньги заработать за неделю — раз плюнуть. И показал сберкнижку на пять тысяч. Это как уволился от нас, за два неполных года хапнул…
Ну и понесло меня, клепать-колотить! Веришь, земеля, сплю и вижу, что я где-то на большой стройке, на самом что ни на есть диком Севере, зимой — морозы, летом — дожди, все нипочем! Как месяц, так тыща на книжке! А я ведь всю жизнь мечтаю «жигуленка» купить…
Ну и потом уже без Блудного по-трезвому прикидывал, как да что. И выходило — лучше некуда: трудовая в порядке, статей плохих никаких не записано, наоборот, благодарности, премии там разные к праздникам, монтажник пятого разряда, сварщик, слесарь — что еще надо? В общем, одна нога у меня дома, а другая уже на Севере, где Сашка.
Говорю о своих задумках жене. Так и так, говорю, съезжу пока один, а там видно будет: дадут хибару — вас вытребую, нет — один буду вкалывать. Мне ведь что — особых удобств не надо, мне бы только на «жигуленка» сколотить…
Гоша еще подлил в кружки чаю, но не пил, а только отрешенно смотрел в угол. Нет, он совсем не старый, лет тридцать пять, наверно, не больше, и вот сейчас в своем костюме с лампасами так не похож был на того Гошу, какого я встретил на причале в первый раз. Что-то интеллигентное виделось в его сухощавом, чуть удлиненном лице — прямой тонкий нос, четкий рисунок бледных губ. И только большие голубые глаза по-прежнему были полны скрытой печали. И вот он поднял эти глаза на меня.
— Жена — ни в какую! Чего, говорит, тебе не хватает, квартира — есть, работа — тоже, чего тебе надо?.. «Жигули», говорю, дура, надо. Когда еще с этой зарплаты на машину мы соберем? Умные люди, говорю, только так и делают: сдают в наем квартиры — и за деньгой на Север. Вон, говорю, Блудный, пока у нас в бригаде мотался, больше чем на полторы сотни никогда нарядов не закрывал. А сейчас? Куда, говорю, от нас он подался? На юг, отдыхать с шиком, клепать-колотить!
Месяц, другой уламываю бабу — даже слушать не хочет. Езжай, говорит, хоть в Америку, а меня не трогай. Пропади, говорит, ты пропадом вместе с Блудным и своими «Жигулями».
Ну, я тоже с характером, кончилось терпение. Мымра, говорю, ты необразованная, добра же хочу, дура, машину хочу для семьи иметь. В общем, как хочешь, говорю, а меня не поминай лихом.
А тут и письмо от Сашки. Пишет, работу для меня присмотрел, ничего, не пыльная работенка, а возьмут с руками, с ногами. Пишет, такие специалисты, как я, везде в цене. Давай, говорит, не тяни, не пожалеешь…
Тут уж я больше не раздумывал. Рассчитался в один день — и к нему.
К нему — это на стройку. И верно, взяли сразу. Документы-то у меня тогда чистые были… И стройка развертывалась — будь здоров! — тянуть газопровод аж до границы. Люди да люди нужны. В общем, устроился на газопровод. Правда, на подхвате первое время был, но работал, присматривался, сам собирался трубы сваривать.
И тут начал узнавать после Пензы-то, что такое Север, клепать-колотить! Скучища — душу выворачивает! Что на работе, что дома. Да какой там дом — балок в болоте! Рожу всю раздуло от мошкары, помыться толком негде. Ну и на работе поворачиваться надо. Чуть что не успел — втык от бригадира. А я сам из бригадиров, легко, думаешь, переносить? Раз поцапался, два поцапался — не то стало. Что-то не шибко и деньга-то идет. А в сентябре задуло, запуржило…
Здесь Гоша опять умолк, повертел на столике кружку, поерошил волосы.
— Понимаю я, земеля, что сам дурак. Такой уж мерзопакостный характер! Даже бабу взять — и ту не послушал, уехал. Да и уехал-то как, удрал, считай, от семьи.
Ну, а дальше — больше. Зимой уже раздобыл где-то Блудный целый ящик спирта. Там ведь, на трассе, сухой закон, а у нас с ним пошла житуха, клепать-колотить! Все бьются в догадках, где мы расстарались спиртяги, а мы помалкиваем. Я и сам толком не знал где, Блудный темнил что-то, мол, весной еще припас… С неделю гужевались, а потом прилетел вертолет с двумя милиционерами. Сашку и меня заодно увезли в базовый поселок. И тут оказалось, что спирт-то Сашка не покупал, а забагрил из проходившего к геологам вездехода. Нам этот вездеход тоже завез кое-что из продуктов, вот тогда Блудный и успел…
Короче — упрятали моего кореша далеко и надолго, а меня уволили по тридцать третьей статье, да еще с какими-то пунктами. Эта тридцать третья — как ярлык какой о твоей рабочей неполноценности. И пошло-поехало! Куда ни сунься — не берут. Домой поворачивать тоже стыдно: не то что денег не заработал, все с себя-то спустил! Пробавлялся случайными заработками, всякой халтурой. Что уж вспоминать про остальное…
Вижу, худо мое дело. Долго так не протянешь. Того и гляди, загремишь за Блудным. Взял да и махнул сюда. Упросил капитана принять на рыболовный сейнер. Маленько не доработал до конца сезона, выгнали. Сплавил налево мешок муксуна, застукали — и привет родителям. Даже расчет не дали. Вот такая житуха, клепать-колотить!
Гоша положил на хлеб тушенки, вяло пожевал.
— Сам дурак, во всем сам дурак! — убежденно повторил он. — Понимаю все, а делаю не так… Вот уж когда сюда приткнулся, все, думаю, шабаш, хватит левачить, да нет, опять соблазнился, опять левой рыбкой базарю… Есть тут один приезжий толкач с какого-то рыбкомбината, вот он снабжает, а я, так сказать, реализую… Но и сам посуди, какой заработок на водокачке?
— Кто этот толкач, фамилию не помнишь?
— А черт его знает! Скользкий такой тип, каждое лето здесь. Любит чужими руками жар загребать.
Гоша от своих же слов распалялся все больше, кого-то ругал, кому-то грозил, и казнил, и казнил самого себя…
— Послушай, земеля, — вдруг заговорил он изменившимся голосом. — Только не подумай, что я тебе жалуюсь. Ничего мне от тебя не надо. Вот веришь — нет, горит все тут, — он постукал кулаком в свою плоскую грудь, — горит, охота кому-то все сказать-высказать, я и сказал тебе. Почему тебе — убей не знаю. А молчать не могу… Ты выпьешь, нет? — опомнился Гоша. — Не хочешь, значит. — Он приподнял бутылку, потряс перед глазами. — Тогда я тоже не буду. Все, земеля, завязал! Завязал, и надолго. Слово мое — олово, клепать-колотить!
Ведь бывает же такое! Ну откуда мне было знать, что я снова встречусь с сердитой женщиной, ушедшей от нас с Самохваловым с палубы «омика»?
А получилось так. По журналистским моим делам мне оставалось еще побывать в бригаде буровиков, очень известной на Обском Севере, возглавляемой Виктором Тереховым.
Вахта менялась в тот самый день, и я поспешил в аэропорт, чтобы улететь на буровую вместе с бригадой Терехова.
Вот тут-то, на вертолетной площадке, и встретил «сердитую» женщину. Она, оказалось, провожала на десятидневную вахту мужа, и не кого-нибудь, а самого бригадира Виктора Павловича Терехова…
Очень подозрительно оглядела она меня, когда я поздоровался со всеми. Виктор Терехов, могутный малый, несмотря на лето, в меховой куртке и теплых, меховых же сапогах, дружелюбно даванул мне руку и весело сказал, что рад любому новому человеку, что вообще готов взять в бригаду, если я, конечно, смогу что-то делать полезное, кроме как есть кашу с тушенкой. Тем более, добавил он, что в бригаде у него имеется вакантное место подсобного рабочего.
Вот она, вся в сборе тереховская бригада, восемь мужичков-боровичков, чем-то неуловимо схожих между собой, но, как потом выяснилось, совсем разных по характерам. Я уже не сужу по внешним признакам: все молоды, все здоровы, не говорю про современные длинные прически, а про бороды можно бы и не упоминать — эта какая-то напасть на нынешнюю молодежь, особенно на северян! — безбородым оказался один Саша Кравченко, зато с роскошными бакенбардами и бравыми гусарскими усами…
Это уж потом я узнал их по именам, потом уловил особинки нрава каждого, а пока видел как бы обобщенно всех сразу.
Вертолет уже вовсю крутил лопастями, пришлось даже придерживать шапку (ее, как и сапоги, настоял взять Гоша), когда Терехов подошел к жене, взял за плечи и прокричал, осиливая гул двигателя:
— Ну, Валюха, не горюй тут, не простуди Наташку, а с партизана глаз не спускай! Да чтоб не гонял на велосипеде по улицам!
Уже когда летели, Терехов рассказывал:
— Взяла привычку — как моряка дальнего плавания, каждый раз провожать и встречать. Говорю, не езди, не трать время, побудь лучше лишний час с детьми, нет, выдерживает свою линию. А их ведь не привяжешь, Сережка уже наверняка деру дал…
Называя сына партизаном, Терехов явно подчеркивал этим вольнолюбивый нрав мальчишки, ничуть не порицая его.
— Разновозрастные они у нас, — продолжил он. — Дочке с мая на третий год перевалило, а этот в четвертый перешел. Наташку в ясли носим, а парень — вольный казак. Летом без всякого пригляду живет. Я — в тундре, мать — на работе, вот и партизанит. На юг всей семьей поедем еще только в августе…
Терехов умолк, о чем-то подумал.
— Поедем, если, конечно, дойдем до нефти. Дойдем, как считаешь, Гасанов?
Гасанов, с черными южными глазами сбитень, услышал вопрос, пожал квадратными плечами, мол, ты бригадир, тебе и знать. Но все же сказал с необидной подковыркой:
— Ва, дарагой! В море купаться захочешь, дэвушками на пляже любоваться захочешь — живого черта поймаешь, не то что дойдешь до нэфти!
Шуткой своей он вернул Терехова к мыслям об отпуске.
— В Крыму у нас свой санаторий от управления. Летом почти полностью ребятне отдаем. За три смены успеваем свозить всех. Даже интернатских прихватываем, детей оленеводов. Ханты, ненцы, манси. Им-то совсем в диковинку теплые края… Ну, а если у самого с отпуском не получится, мои без меня отдохнут. Жена вроде бы уж штатной воспитательницей стала, каждый год со школьниками ездит.
— А знаете, я, кажется, знаком с вашей женой, — сказал я после некоторого сомнения: говорить — не говорить.
— Когда успели? — весело удивился Терехов.
— Да так, случайно вышло…
И я рассказал, как было дело.
Он смеялся, обнажая крепкие, эмалево-белые зубы, комкал в руках шапку и приговаривал:
— Валюха это может, на нее похоже. Отчитает кого хочешь!
И как-то сразу разговор наш стал непринужденным, говорили о житье-бытье, вспоминали забавные случаи и вообще чувствовали себя так, будто знакомы не один час, а много дней.
— Вон, видите буровую? — Терехов в своей меховой куртке, словно скатанный и спрессованный, толкнул меня локтем, показал в иллюминатор. — Это Пятая. На очень перспективном месте сверлят. Если подтвердится заключение геологов — будет большая нефть.
Рослый парень с рыжей бородищей, в таких же, как у Терехова, сапогах и новеньком стеганом ватнике, стянув с кудлатой головы шапку, тоже прильнул к иллюминатору.
— Смирнов свое возьмет, достанет нефть. Хоть насквозь шарик продырявит, а фонтан пустит. Везучий этот Смирнов, — сказал рыжебородый вроде бы самому себе, но все услышали и дружно захохотали.
— Только кому нужно такое везение? — проговорил кто-то. — Ведь если Смирнов продырявит шарик, нефть-то куда пойдет? В Америку, Лева!
И снова смех.
Внизу по всхолмленной желтоватой тундре реденько торчали, а точнее, как бы бежали встречь вертолету тощие островерхие лиственницы с уныло опущенными ветвями-плетями. Было солнечно, и стрекозиная, разлато мелькающая тень машины отчетливо скользила по ягельникам, бесчисленным, оловянно взблескивающим озерцам, лишь изредка исчезая в распадках и в оврагах, густо поросших темными куртинами ивняков. Жуть брала от великого однообразного пространства, сколько ни смотри — не за что зацепиться взгляду, и казалось, что нет здесь и быть не может никакой жизни.
Но не так, наверно, думал Терехов. Показав в иллюминатор на смирновскую буровую, которая при легком крене вертолета неожиданно косо взметнулась ажурной вязью высоко над тундрой, он сказал, взглянув на часы:
— Через пятнадцать минут будет Шестая, а там до нашей рукой подать.
Нет, кому-кому, а Терехову видится эта земля далеко не безжизненной и вовсе не пустынной, он знает, что в ней и что на ней…
Но вот под нами и Шестая, эта стоит в балке, почти опоясанная какой-то речушкой, и, кажется, здесь погуще растительности. Чуть в стороне — четыре вагончика, еще какие-то времянки, дощатые навесы, бочки, ящики, трубы — все это с малой высоты хорошо видно. Видно и людей, даже собаку с ними, они что-то перетаскивают по желтой, похоже, песчаной дорожке. Люди привстали, помахали шапками.
— Олемчук здесь командует, — сказал Терехов. — Ушлый, двадцать лет на буровых. Соревнуемся с его бригадой, не знаю еще, кто кого обойдет в этот раз. Но ничего, мы тоже не лыком шиты! — В голосе Терехова прозвучала уверенность и даже какая-то азартная задиристость. — Не лыком шиты! — повторил он и как бы поставил точку.
…Вертолет заложил крутой вираж, заметно снизился, и побежали под брюхом тряской махины чахлые елки, лиственницы, мелькнул один вагончик, другой, копия тех, что остались позади, потом еще два, и в стороне, уже с другого борта, вдруг взметнулась к небу корабельной мачтой буровая вышка с флагом на верхушке и голубыми дымными выхлопами работающих дизелей.
Через минуту вертолет завис над бетонной площадкой, медленно повернулся туда-сюда, словно бы разглядывая земную твердь, и мягко осел на колесах.
Вахтовый поселок — это, конечно, условно, что он поселок. Вернее сказать, просто жилье рабочих, оторванных от базы, от дома на сотни километров. Этот же состоял всего из четырех вагончиков-балков, столовой, размещенной в огромной бочке, напоминающей железнодорожную цистерну, но специально оборудованной, да еще из нескольких складских построек. Но он был вполне обжит и даже чем-то уютен. Чувствовался и порядок. Не знаю, как на других буровых, но здесь ничего не валялось, не видно было строительного хлама, железа, цемента, даже емкости с соляркой, обычно черные и маслянистые, ярко желтели, покрашенные охрой. От вертолетной площадки через болотце вели ровные крепкие мостки из лиственничных стволиков, бурильные штанги и обсадные трубы лежали штабелями, всевозможная оснастка, приспособления, инструменты хранились под навесом. Монотонно стрекотали движки, из распахнутых дверей вагончика доносилась музыка, и уж совсем по-домашнему сушилась на веревке выстиранная роба…
Первыми нас встретили две рослые белогрудые лайки. Еще с воздуха я заметил их, кочками сидящих обочь площадки. Привычные ко всему современному, псы ничуть не убоялись грохочущего вертолета и, только мы вышли из него, с радостным визгом принялись прыгать вокруг, путались под ногами.
Взвалив на плечи рюкзаки, мы направились по мосткам к вагончикам. Возле них нас ожидала девушка в цветастом платке с глазами ничуть не светлее спелой черной смородины.
— Здравствуйте, Виктор Павлович, здравствуйте, ребята! — поздоровалась она с той характерной мягкой певучестью в голосе, какая звучит в разговоре коренных северян. Посмотрела на меня с явным любопытством, тоже кивнула.
— Кушать будете или как?
— Будем, Акулина, будем! — сказал Терехов, поздоровавшись с ней за руку. — Давай пока разбирай рюкзаки, там кое-что найдешь для себя, а мы с гостем заглянем на буровую.
Еще дорогой Терехов говорил, что взял за правило по приезде на работу сразу сходить на буровую («Все три дня вспоминал недоделки: там гайка прослабла, там шланг провис») да заодно и принять вахту — надо побыстрей отпустить вертолет.
Пока шли, он рассказал о сменщиках — что ребята они в общем ничего, хорошие ребята, вот только старший бурильщик Рустам Султанбеков не бережет инструмент — за прошлую вахту вывел из строя три долота.
— Нет, он грамотный мужик, умеет работать. Только не там, где надо, спешит.
Сказал и о встретившей нас девушке:
— Из местных она, ненка. Закончила музыкальное училище, вроде петь да плясать должна, а напросилась к нам. Долго думали, брать — не брать, все же девушка, трудновато ей будет с нами, а потом решили: берем. Определили в поварихи. И правильно решили. Теперь как-то даже не представляем, что бы делали без нее. Непоседа, на все руки мастерица: жарит, варит да еще и на охоту успевает. Куропаток, уток приносит. А по весне, когда охота была открыта, гусятиной закормила. Тут пока дичи хватает. Отойди с километр — и охота. А стрелок какой! Это, наверно, уже потомственное. Раз подбросили на спор спичечный коробок — не нашли после выстрела… Она у нас и уборщица, и портниха. Почти безвыездно живет на вахте и, когда мы улетаем домой, чинит, стирает наши спецовки. В общем, хорошая девушка, — искренне похвалил Терехов Акулину.
«Ну все у него «хорошие», все «ничего», — ненароком подумал я, припоминая, где и к кому Терехов подбирал бы иные прилагательные. Не припомнил. Только еще раз подумалось: как же надо видеть и понимать людей бригады, чтобы при таких-то вот условиях работы сказать о каждом доброе слово.
Когда поднялись на буровую, меня с непривычки так оглушило лязгом и гулом, что я перестал слышать голос Терехова. Надсадно скрежетали лебедки, тяжко вздыхали насосы, взвизгивали змеисто скользившие на блоках тросы, подобно потоку шумел в шлангах раствор, что-то ухало и колокольно вызванивало над головой, и под весь этот нестройный аккомпанемент жутковато подрагивала и, казалось, покачивалась вышка…
Терехов подал мне красный пластмассовый шлем, такой же надел сам, машисто перехватываясь за поручни, ловко, привычно взбежал вверх по крутым железным ступеням. Забрался за ним на площадку и я, и тут мне сделалось дурновато от высоты, теперь уже от реального покачивания вышки…
— Здесь верхового рабочего место, — прокричал Терехов.
Пока он о чем-то говорил с верховым, чумазым верзилой в широченной, заляпанной глиной брезентовой спецодежде, что-то проверял и уточнял, оглядывая механизмы, я представил работу на буровой, и мне стало не по себе… В дождь и снег, в мороз и зной, продуваемые со всех четырех сторон, работают здесь люди, к тому же, как я понимаю, с известным риском быть низвергнутыми с этой верхотуры. Грязнущие, бородатые черти, в мокрых, коробом стоящих спецовках, вваливались они после смены в вагончик и долго молча курили, приходя в себя. И уж потом только, помогая друг другу, стягивали, будто скафандры, эти спецовки, набрякшие сапоги, пока еще вяловато, но все веселее отпускали колкие шуточки в адрес того или другого.
Ни раньше, ни позже — как раз в такие минуты в вагончике объявлялась Акулина и начинала по-хозяйски «воспитывать» парней, выговаривала, что не может приучить их к порядку, мол, зачем раздевалка, где она дополнительно навбивала гвоздей вешать спецовки и поставила самодельную электропечку — сушить их, и почему вовремя не приходят обедать, всегда этот обед остывает, и вообще не съедают то, что она для них готовит. Или невкусно готовит? Укоряя за все это парней, Акулина сама развешивала за перегородкой робы, затирала пол.
— Да будет тебе, Акуля, будет! — успокаивал кто-нибудь из ребят. — Ведь обещались же исправиться — исправимся…
Как-то, уже перед самым моим отъездом с буровой, мы с Тереховым сидели после работы в вагончике вдвоем. Ребята, свободные от вахты, прихватив удочки, ушли рыбачить на недалекое озерко. Под потолком ныли надоедливые комары, на столе, не мешая, тихо журчал транзистор. Я оглядел помещение. Что ж, по полевым условиям вполне приличное жилье. Стены облицованы шпунтованной дощечкой и на нынешний манер подрумянены до коричневых разводов паяльной лампой. Над каждой кроватью — немыслимых сюжетов цветные вырезки из журналов, фотографии любимых. Пол покрыт потрескавшимся линолеумом, у входной двери — без сомнения, Акулиной положенная вытертая оленья шкура. Впрочем, оленьи шкуры лежат и на некоторых кроватях, я вот спал на раскладушке тоже под шкурой, страшно колкой и линючей. Над общим столом — длинная, во весь поперечник вагончика, полка, забитая старыми журналами и книгами, которые или не интересны, или давно прочитаны — рабочие почти не брали их в руки.
А в общем и целом все же мне показалось скучноватым здешнее житье-бытье. Буровая — вагончик, вагончик — буровая. Ну рыбалка, ну когда прокрутят старую киноленту, послушают магнитофонную запись. Не мало ли для молодых парней? Что их привлекает сюда?
Об этом я и спросил Терехова.
— Ну, если по-серьезному, то молодежь скорей всего привлекает необычность нашей работы, скажем прямо: романтика, — ответил он. — Север, безлюдье, пока что дикая природа — где, как не здесь, испытать себя, проверить на прочность, утвердиться в чем-то? Словом, обрести самостоятельность, определиться в жизни. А условия здешние и впрямь ведут отбор и очень скоро выявляют — кто есть кто. Многие быстро понимают, что не туда заехали, и живенько поворачивают в края потеплее… И это хорошо, что вовремя одумываются и поворачивают, хоть не бичуют. А кто выдержал — привыкают и не могут без Севера.
Я уже знал, что сам Терехов — уралец, что на Север приехал сразу после армии, что институт закончил, можно сказать, здесь, в вагончике — на полке еще и сейчас стоят учебники по горному делу, — что начинал с подсобного рабочего на буровой.
Все это я знал, но меня интересовало другое: почему Север, чем он его-то притянул?
— Ну, а заработок, заработок ведь тоже не последняя штука? — прямо спросил я. — Всякие коэффициенты, квартальные-премиальные…
— Не секрет, зарабатываем мы хорошо, — кивнул Терехов. — Но ведь и заработать надо уметь. Вот эти летуны из теплых городов — они ведь как думают? Приехал на Север, шибани баклушу — рубль в кармане, шибани другую — два. Нет, так не бывает и не должно так быть. Здесь, как и везде, надо работать, и работать на полную выкладку. А тут еще дожди, мошкара, зима с сентября. Многим это не по зубам, не под силу, да и не по нраву часто. Вот и летают со стройки на стройку.
Но тут разговор наш прервал неожиданно вернувшийся с рыбалки Байрам Гасанов. Всклокоченный и возбужденный, прямо с порога темпераментно загремел:
— Ты посмотри, ты посмотри, что дэлает, собака! Опять оборвала! И все та же, на том самом мэсте, где ручей впадает! Только бросил — она цап! — брюхо желтое показала — и нэт блэсны! — Байрам потряс перед глазами Терехова спиннинговым удилищем с болтавшимся концом лески. — Послэдняя блэсна!
— Подожди, Байрам, — сказал Терехов. — Блесну сделаешь новую и «собаку» вытащишь. Присядь, раз зашел, объясни товарищу, что тебя сюда, на Север, загнало?
Байрам непонимающе посмотрел на меня своими черными, без зрачков глазами.
— Как загнало? Сам приехал. А что такое?
— Да ничего, просто выясняем, что нас здесь удерживает.
— Ва, интэрэсный разговор! Может, смущает, что я азэрбайджанец, а здесь? Так тут, по-моему, одна Акулина мэстная. Кравченко — с Полтавы, Султанбэков — из Татарии. Со всэй страны здэсь люди, дорогой. А за чем приехал? Ва, нэ за щуками же! Хотя можно только и за ними. Вот они здэсь какие! — Байрам с извечной рыбацкой щедростью показал на всю длину двухколенного удилища да еще и прибавил четверть. Подумал, покрутил ус. — Нэт, нэ за щуками, — повторил он уже серьезно. — Все, дорогой, просто: я — нэфтяник, и куда мне, как нэ к нэфти? Узнал: большая нэфть на Севере, значит, горячая работа, хороший заработок — взял да и махнул. А что, плохо, что ли?
Байрам вытащил из-под кровати кусок толстого кабеля, развернул мощными пальцами свинцовую оболочку, закатал в ней большой крючок и привязал к леске. Это и называлось у Байрама блесной.
Когда он ушел, Терехов сказал:
— Действительно, взял да и махнул. Когда приехал этакий джигит в папахе, я, признаться, тоже засомневался: приживется ли? И трудно приживался. Страдал от комарья, от мошек так, что весь опухал. Видно, от недостатка кислорода одышка одолевала. Придет с работы — и на боковую до новой смены. Да и кухня наша поначалу не по вкусу пришлась. Плохо ел, все посылки ждал… Но парень оказался волевой, пересилил, переломил себя. Уже к осени вошел в колею, работал наравне со всеми, если не лучше, не дотошнее. Чутьем до всего доходил. Ну, а сейчас замены ему нет. Общительный, необидчивый — любят его ребята. В общем, легко с ним работать…
— А вы сами-то как осели? Инженер, а на рабочем месте.
Терехов опять задумался, отпил из кружки компоту.
— Тут надо по порядку. И мне не сладко было, тоже чуть деру не дал в первую зиму. И скажу честно: удержали только договор да те подъемные, какие получил. Я ведь после демобилизации не один сюда приехал, таких, как я, целая рота. А как-то подсчитал — осталось шестеро. Трудно было во всем, хоть и не южанин, — и сама работа, и морозы зимой, и мошкара летом. А главное — оторванность. Тундра, болота, бездорожье. Но как-то обкатался, привык, друзей завел.
На другой год веселее дело пошло, Валюху присмотрел… Тоже приезжая, на стройке дороги работала. А как поженились да получили комнатенку, вроде бы и дом здесь образовался. И уж никуда больше бежать не захотелось. Ну, а дальше — переезды, все новые месторождения, что-то заманчивое, неизведанное впереди, хочется начатую скважину до конца довести. Потом Сережка родился, тундра — это уж его родина, сам поступил учиться, и закрутило, завертело — не до скуки. Втянулся, одним словом. Да так втянулся, что и не понимаю другой жизни. Может быть, потому, что и не знал другой.
Вот, говорил уже, каждый год на юг с семьей ездим. Так ведь и там, у моря, у фруктов, у благодати-то санаторской, больше месяца выдержать не могу. Неделю, другую — и потянуло обратно…
А насчет того, что инженер и на рабочем месте, так это сейчас не ново. Много специалистов на буровых работает. Гасанов тоже ведь техникум закончил, нефтяник по образованию. И знаете, оказывается, кое-чему не зря учились. Всякому буровику не мешает знать не только технологию проходки, не только штанги да трубы, а еще кое-что и посложнее, скажем, самому уметь вычислить предполагаемые нефтегазоносные горизонты. Словом, институт мне не помешал…
Терехов задумался, отпил компоту, долил из кастрюли в мою кружку и в свою.
— Я и сам часто думаю: что сюда влечет, что притягивает? В холод, болота, неудобства. А случается и такое, что и вспоминать муторно. Ну вот, к примеру, два года назад: в конце февраля запуржило, задуло — и на целый месяц. Вагончики занесло до крыш, коридоры в снегу пробивали, буровую откапывали. Короче, больше месяца авралили одной вахтой. О вертолете и думать нечего: видимость — ноль, ветер — тридцать метров в секунду. С базы радируют: «Держитесь, ребята. Работы на буровой прекратить, занимайтесь расчисткой площадей, оборудования, взлетно-посадочной площадки. К полету подготовлен вертолет МИ-8, при первой возможности вылетит. Экипаж дежурит в порту. Держитесь!»
А что нам оставалось? Только буровую мы не остановили, не отсиживаться же в вагончиках! Так постановили всей бригадой. Вышку укрепили дополнительными страховыми растяжками и помаленьку, подменяя друг друга, работали. Спали по очереди — час ты, час я. Но не больше четырех часов в сутки. Раздевались только просушиться. Да все бы хорошо — ребята не стонали, никто не заболел, — но кончились продукты. Сначала наполовину урезали суточную норму, а под конец и эту половину еще наполовину… Терехов неожиданно рассмеялся:
— Не поверите, десять последних дней ели одни болгарские соевые бобы! По банке на брата в сутки. Вот она самая, — он показал на приспособленную под пепельницу жестяную консервную банку. — Бобам этим было лет сто, забыли про них, а тут вспомнили и за милую душу в расход пустили! Да так наелись, что и теперь тошнит от одного только взгляда на них…
Вместо МИ-8 «прилетели» к нам сразу три оленьих упряжки… Мы самые дальние, вездеход до нас не дошел. Прилетели с начальником базы, с врачом и… с артистами… Чтобы, значит, поздравить нас, выдержавших испытания. Одной из артисток была Акулина, дочка нашего старого знакомого оленевода Степана Неркуди.
Артисты спели, сплясали. И мы повеселились вместе с ними. Тогда и задумала Акулина сменить профессию…
Терехов полистал лежавший перед ним затасканный «Огонек», раздумчиво продолжил:
— Так что же сюда привлекает? Деньги? Конечно, люди, в особенности семейные, не за туманом же, как поется в песне, едут на Север. У каждого свой резон. Ну и чего здесь плохого? Работать едут и понимают, на какую работу. Так что правильно вы говорите, заработок здесь не последняя штука… Но вот давайте рассудим вместе. Средний мой заработок со всеми полагающимися надбавками — восемьсот рублей. Жена получает четыреста. Одеты, обуты не хуже других, в доме, как говорится, достаток, новенькая «Нива» стоит в гараже. Ну и стаж свой по нашим условиям я уже выработал и мог бы хоть нынче махнуть, скажем, в Волгоград или Днепропетровск и купить кооперативку, на которую имеется гарантия.
А я работаю и не собираюсь уезжать. Так что же меня удерживает? Меня, или Гасанова, или Кравченко — всех нас? Романтика? Желание, как говорится, быть на переднем крае? Конечно, все это есть. Только не люблю я громких слов, скажу проще — привычка. Но привычка какая-то особенная, ну прямо как притяжение к магнитному полюсу…
За стеной вагончика что-то состукало. Терехов взглянул в окно и поспешил на улицу. Я тоже вышел. Терехов и дизелист Саша Кравченко склонились над какой-то деталью. Приглаживая кулаком мокрые от пота усы, Кравченко тыкал пальцем в деталь, что-то объяснял. Я прислушался к их разговору и понял, что произошла маленькая поломка движка, и мастер с рабочим обсуждают, как побыстрее ее устранить. Потом Терехов натянул спецовку, и они ушли к буровой.
Странно, но почему-то во время нашего разговора с Тереховым я так и видел перед собой Гошу с печальными его глазами. Вспомнил и «экспедитора», и Симака…
Когда Терехов вернулся, я спросил:
— Скажите, Виктор Павлович, в вашей бригаде в самом деле есть свободная должность и почему она оказалась свободной?
Он ответил не сразу. Переложил на стеллажах керны с привязанными к ним металлическими табличками, присел на крыльцо вагончика, погладил ткнувшегося ему в колени пса.
— Видите ли, в чем дело. Я уже говорил о некотором проценте неприживаемости в наших условиях, то же можно сказать и о бригаде. Так вот, работал у нас один паренек, четко выполнял свои обязанности. Но выполнять только обязанности — этого здесь мало, здесь надо делать все, что потребуется, что необходимо. К примеру, подменить кого-то, заступить на вторую смену, остаться подряд на две, а то и на три вахты. Тот же снег убирать. Такая необходимость случается, и нередко. А мы люди все живые, у каждого есть какие-то свои, личные интересы. Так вот, этот паренек отказался выполнять «не его» обязанности, и бригада не пожелала работать с ним…
Из деликатности Терехов не назвал имя того паренька.
— А что вы об этом вспомнили?
— Да так… Есть тут один, встряска ему нужна.
— Опять летун?
— Летун, но летун как бы поневоле. К людям ему надо, к настоящему делу.
Договорить нам не пришлось: замигала лампочка над дверью, а это означало — зазуммировала рация. Через минуту Терехов кричал в микрофон: «Я — Р-седьмая, я — Р-седьмая! Как слышите? Прием!»
Окончив сеанс связи, он сказал:
— Через час будет проходящий вертолет. Заберет вас.
Вот такие дела. Терехов и Гоша. И еще там всякие «блудные», «приблудные». Кто это сказал: под общим небом мы все едины? Кажется, что-то библейское. Нет, не все едины. Но при чем тут Гоша, при чем другие недавние мои знакомцы? Как-то даже странно: пожил на буровой — и так резко обозначились перехлесты судеб, пролегли такие несоизмеримые параллели.
Обо всем этом я размышлял уже в вертолете.
В гостинице меня ожидала записка такого содержания: «Земеля, если уедешь раньше, чем я вернусь, сапоги и шапку оставь у дежурной. Я постараюсь все же устроиться на настоящую работу, может быть, в тайге или в тундре, и сапоги с шапкой мне пригодятся. Напиши мне письмо прямо на причал, тут меня все знают, и я тебе отвечу, что и как. Уехал я в одно место насчет работы. Ну, пока. Твой друг Гоша».
«Вот ведь и друзьями уже обзавелся», — с грустноватой усмешкой подумал я, перечитывая наивное послание и испытывая при этом не то чувство вины, не то неудовлетворенности собой. Ну чем я могу помочь тому же Гоше? Ведь не устрою на работу, не выдам аванса. И в то же время по-человечески жаль было его…
Отчетливо, до последнего слова вспоминалась болезненно обнаженная и, верю, честная исповедь этого сбившегося с пути человека. Найдет ли он в себе силы подняться над самим собой?
Вставал в памяти, тревожил разговор со «шкипером». Не верил я в его любовь к Северу. В особенности сейчас, после знакомства с Тереховым. Вообще не верил этому человеку. Лишь теперь понял то, чего не уловил сначала — Симак искал поддержки и участия. И насчет «статейки» заговорил не случайно: а вдруг да приезжий журналист напишет о нем, расскажет людям, какой хороший, ни в чем не повинный старый человек Симак…
Днем я купил билет на самолет. На ближайшее время мест не оказалось, и я вынужден был довольствоваться вечерним рейсом следующего дня. Но это даже к лучшему. Когда еще я снова попаду в этот светозарный городок, на шумный причал… Что станется с Гошей, где будет «дырявить» землю Терехов и как станет жить-подрастать милая девочка Катя?
А полярное лето все больше набирало силу. От недавней бури не осталось и следа. Улицы привели в порядок, застеклили выбитые окна, одели новым шифером крыши. И только старые длинные бараки, еще сохранившиеся на окраинах городка, по-прежнему стояли с утомленно провисшими крышами — так повелела им доживать свои дни всесильная вечная мерзлота.
Погода держалась непостоянная, но все говорили — хорошая. Днем было по-настоящему жарко, и когда я ходил в аэрофлотское агентство за билетом, даже нес пиджак на руке. Но к вечеру с Обской губы заподдувал северик, и пришлось надевать все, что было со мной…
И все же я радовался вместе со всеми неустанному солнышку, бархатистой, буйно прущей траве, воробьям, еще по-весеннему кричащим у своих гнезд, журчливым ручьям, все лето текущим по канавам и деревянным лоткам вдоль городских улиц и бесконечных, тоже деревянных, тротуаров.
Не видел я только цветения здешних ромашек, они сейчас лишь махрово ветвились и наливались бутонами. Мне говорили, что это самый красивый, самый яркий цветок на Севере, он в несколько раз крупнее нашей, привычной глазу, ромашки и цветет разом, торопливо, во всю силу живой красоты.
Вечером, положив в портфель сапоги и шапку, я пошел на причал. Так, на всякий случай.
Народу сегодня тут было немного, и я догадался почему: в Испании на чемпионате мира по футболу наша команда играла с поляками. Подавляющая часть здешнего населения — страстные болельщики и, надо думать, не пропустят такого события, сидят у телевизоров. К счастью для них, городская электростанция к тому времени уже работала.
Гошина водокачка была заперта. Но неизменно стоял на причале «шкипер». Он опять смотрел вдаль, ожидал чего-то, и мне показалось, что перед мысленным его взором брезжит вдали призрачная и теперь уже вовек чужая ему белокаменная Одесса…
Мне не хотелось встречаться с ним, и я отправился в гостиницу тоже смотреть футбол.
На другой день, выйдя из машины в аэропорту, я вдруг увидел стоявшего ко мне спиной Гошу. Я сразу узнал его по сухопарой фигуре, по седоватым вьющимся волосам. Он изучал красочно оформленные инструкции для авиапассажиров.
Я не успел подойти к нему, Гоша обернулся сам.
— Здорово, земеля! — протянул он обе руки, улыбаясь во все лицо. — Ох и спешил я! Уедешь, думаю, а я и не спросил, как тебя звать…
— Земеля, — засмеялся я.
— Нет, я серьезно, я хочу записать, — и он торопливо зашарил по карманам, отыскивая, наверно, карандаш. Нашел и на мятой папиросной пачке записал мое имя и домашний адрес. Записывал Гоша с таким усердием, переспрашивая и уточняя, что можно было подумать, заполняет он бог весть какую важную бумагу…
— А я — Георгий Иванович Поздняков, — назвался он и опять, как при первой встрече, крепко-крепко пожал мне руку.
— Вот так-то лучше, познакомились наконец, клепать-колотить! — весело подытожил я.
— Послушай, ведь я не один! — спохватился Георгий.
И только он так сказал, сзади — я это почувствовал — кто-то вытянулся на цыпочках и маленькими теплыми ладошками прикрыл мне глаза.
— Угадайте!
— ?
— Угадайте!
— Ну, ну… Петька! — притворно сказал я.
И тут Катька выпорхнула из-за спины, счастливым колокольчиком рассыпала смех, показав заметно подросший за две недели новый зуб.
— А вот не угадали! Это — я!
— Ты все еще сердишься на меня?
— Нет, не сержусь. Дядя Гоша мне все рассказал. Я знаю, вы тоже не любите того дедушку. У-у, бармалей! — округлила она глаза.
Я зарегистрировал билет, до выхода к самолету оставалось еще несколько минут, и мы присели на диване.
— Вспомнил я того толкача-то, — неожиданно сказал Георгий. — Самохвалов его фамилия. Опять приволокся с рыбой — иди продавай. Сам, жук, боится. Сейчас контроль знаешь как шерстит! Отшил я его и предупредил: придешь, говорю, еще — во получишь! И кулак показал. Все, с ворюгами завязано! Хватит с меня!
— Ну, а с работой как? Ездил-то куда?
— Ай! — завертел Георгий руками. Чувствовалось, неинтересно ему об этом говорить, не получилось, видать. — Пока буду на водокачке. Может, пакгаузы возьмусь мыть, тогда полторы ставки пойдет. Пока здесь, — повторил он уныло.
Направляясь к самолету, я в последний раз обернулся. Катя, прикрыв ладонью глаза, смотрела на малиновое в этот вечерний час, как бы подернутое дымкой солнце. Опять, видно, что-то будет с погодой, и юная северянка, зная это, беспокоилась за меня, за мой своевременный вылет. Я крикнул:
— Солнце красно поутру — моряку не по нутру!
И с удивлением услышал в ответ:
— Солнце красно с вечера — моряку бояться нечего!..
Вместо эпилога
Через два месяца я получил от Георгия большое письмо. Вот его текст с сохранением стиля и некоторыми вынужденными сокращениями.
«Дорогой друг Леонид! Спешу сообщить тебе о своем положении.
Работаю я сейчас на буровой Р-7 в бригаде Виктора Терехова. Они тебя знают, передают привет.
Работаю я подсобником по третьему разряду, слесарю заодно, иногда, где потребуется, за сварку берусь, а неделю стоял за верхового — он ногу ушиб, не мог наверху работать. Все идет нормально, потому что в бригаде хорошие ребята, где что не знаю — подскажут, не умею — научат. Правда, Терехов не дает передыху, гоняет за технику безопасности (один раз без каски увидел — что было!), но все равно не обидно, потому что работают так все. Да и грех не работать при таком заработке.
А пригласил меня на буровую сам Терехов, спасибо ему. Зашел в выходной ко мне на водокачку, показывай, говорит, документы. Ну, я то да се, трудовая книжка, говорю, у меня не в порядке, а он все равно — давай. Посмотрел и говорит: «За что схлопотал?» Я и рассказал все, как тебе тогда. Ну ладно, говорит, увольняйся и приходи ко мне. Приму с испытательным сроком. Только запомни, говорит, чуть что — выгоним с треском и еще одну статью впишем. Я запомнил, работаю как надо…
…В общем, живу я сейчас хорошо, хоть и устаю здорово. Главное, совесть чистая стала. Как будто штукатурка какая с меня слетела. Слепня слепней был… Жене написал письмо, извинился перед ней. Должна ведь, наверно, простить дурака, все же муж ей и дочка у нас. Вот о дочке думаю каждый день… С последней получки отправил подарок — шубку меховую, жене тоже кое-что.
А «шкипер»-то тот, старик-то изменник, исчез куда-то. Некоторые говорят — утопился. Может, так оно и есть. Кто против людей, против народа пошел — добром не кончит…
А Катька уехала в пионерлагерь в Крым. Их много уехало, и Терехова сын в той же группе. Сам он не пошел в отпуск, потому что в нашей бригаде наступает самая ответственная работа. Очень осторожно проходим последние метры. Уже был выброс конденсата, а это значит — нефть рядом…»
Вот и конец моей северной повести, истории одной поездки в заполярный город на обских берегах.
ПАРМА
Серафиму Амвросиевичу Борковскому — педагогу
1
…Нина вдруг очнулась. Она только что во сне ловила яркую бабочку, долго гонялась за ней по солнечному лугу и вот схватила за пламенеющие крылья. Схватила и бросила: крылья были обжигающе холодны…
Приподнялась на полу, растерянно огляделась:
— Ой, да тут вода натекла!
В полутьме матово белело запотевшее окно. На противоположной стене от рамы перекрещенным квадратом отпечаталась тень. За окном светлело, а в избушке было мрачно и копотно, как в чулане.
На нарах, на полу, зябко завернувшись в одеяла и телогрейки, спали ребята. Пол мокрый, у железной печурки скопилась вода…
Нина вскочила, взглянула на часы Василия Терентьевича, висевшие на косяке: без четверти шесть. Казалось, только сейчас она прилегла для того, чтобы поймать эту бабочку, а прошло уже пять часов.
«Ну и здорово мы спали! Это с одежды столько воды… Замерзли, наверно, все?»
На узких нарах голова к голове — рядом не уместиться — лежат долговязый Витя Пенкин и маленький, круглый, как калач, Миша. Витя, сонный, стащил с него короткое сырое одеяло, и Миша весь скорчился от холода, подтянул колени к самому подбородку. На других нарах, тоже голова к голове, спят Наташа и Валя. Вот и весь «плацкарт», всего на четверых.
Конечно, на нарах могла бы спать и Нина: это для девочек Василий Терентьевич оборудовал «плацкарт», но Нина сама уступила место Вите. И даже не уступила, а так получилось: ночью, после работы, он присел на нары отдохнуть и заснул. Нина не стала Витю будить — осторожно сунула ему под голову рюкзак и укрыла одеялом. Пускай спит. А Миша Калач забрался на нары уже позднее. Его от Витьки ни днем ни ночью веревкой не оттащишь.
На полу тоже спали ребята, вповалку, где попало. Ближе к окну лежали два Гриши и Петя, дальше остальные. А остальные — ни много ни мало двадцать два человека — из далекого поселка Кедрачи.
— Ой, ведь и Петька на мокром лежит! — испугалась Нина, схватила Петю за оттопыренный ворот ватника и, тяжелого, обвислого, волоком оттащила к нарам. Спит Петька так крепко, что в колокол бей — не добудишься? «А? Что?» — бормочет он, невидящими глазами окидывает стены и снова засыпает.
Среди спящих нет лишь Василия Терентьевича. Только сейчас Нина это заметила.
Переступая через ребят, прошла к порогу, резким толчком открыла дверь. Низкую, тяжеленную, ее просто так, взявшись за скобу, не отворишь. Влажный холод упруго обдал лицо. Слепящая снежная белизна резанула по глазам, и свежий воздух защекотал в горле, будто Нина глотнула родниковой воды.
Щурясь от света, она звонко крикнула в сторону скотного сарая:
— Василь Терентьевич, вы та-ам?
Никто не отозвался.
Сарай и так едва виднелся — стоял под угором, низкий, покосившийся, прикрытый лапами елового подлесья. А теперь все сровняло снегом и не поймешь — то ли сарай там, то ли сугроб? В нем — застигнутые бедой телята. А беда случилась нешуточная: три ночи кряду валил снег. Это в июне-то!
— Василий Терентьевич! — еще раз крикнула Нина и, не дожидаясь ответа, побежала.
Ноги грузли в мокром снегу. Ступишь — дыра остается, такой он плотный да вязкий. Если бы не на горе, то, наверно, была бы уже под снегом вода.
Возле прясел Нина остановилась и тут увидела, что ворота сарая настежь распахнуты и от них на выпасы ведет черный, словно выпаханный след ушедшего стада.
«Да неуж Василь Терентьевич один угнал телушек?!»
Нина всплеснула руками и помчалась обратно к домику, сильно дернув на себя дверь, громко крикнула с порога:
— Вы, засони! Вставайте!
Первым проснулся Витя Пенкин, сел на нарах, бессмысленно вытаращив глаза. Заворочались Наташа и Валя, чмокнул губами Миша Калач. Пружинисто подпрыгнул и суматошно завертелся подвижный Гриша-младший, а Гриша-старший встал не быстро — он никогда не спешил.
Очнувшийся Петя вслепую подполз к остывшей печке, привалился к ней спиной. «А? Что?» — с закрытыми глазами повторил он и опять уронил на грудь бессильную голову.
— Да вставайте же! — снова крикнула Нина, вбежала в избенку и начала тормошить ребят. — Василь Терентьевич давно выгнал стадо, а вы тут… Вставайте!
И ожила изба. Продрогшие ребята вскакивали с сырых лежанок, «продавали дрожжи».
— Опять «снежки» катать? — спросил Гриша-младший, все еще суетясь, мешая другим собираться.
— А ты как думал? Что тебе, взял да и растаял снег сразу? Посмотри вон, сколько его навалило!
— Ничего я не думаю, катать так катать, — согласился Гриша и, затянув поверх телогрейки потуже ремешок, присвистнул простуженным носом: — Айда, ребята!
И ребята, бухая сапогами, выбежали из дома.
2
Никто не думал, никто не гадал, что так обернется этот поход. Когда собирались, там, в Кедрачах, было тихо и солнечно. Наступали белые ночи, и солнце лишь ненадолго спускалось за горизонт. Не гасла заря. К середине ночи она только бледнела и широкой светлой полосой перемещалась к востоку.
В селе шли сборы, приготовления к большой дороге. Уже восьмой год сразу после окончания учебы местные школьники уходят на уральские альпийские луга, именуемые здешними старожилами до обидного просто: Цепёлские поляны. Еще называют их Кваркушем. Кваркуш — не просто гора на Северном Урале, а огромное взгорбленное безлесное плато. Склоны его и прилегающие к нему склоны других гор и есть альпийские луга.
Обычно желающих идти на луга много — с первого по десятый класс! Но идут лишь лучшие из лучших, «любимчики», как называют их те, кому дорога на поляны по разным причинам заказана. Ведь это не только поход, а прежде всего работа.
Ребята угоняют на Кваркуш телят и ждут там пастухов. Те поднимаются на плато позднее и пасут животных на сочных травах до конца лета. Осенью гонят домой уже настоящих коров да быков — шутка сказать, ведь они за каждые сутки прибывают в весе по килограмму!
Нынешние участники похода знали по многочисленным рассказам о плохой дороге, о редких красотах Кваркуша, знали и про крутой нрав «белого шамана» — так кто-то назвал неожиданные переломы погоды в горах. Летом там всего можно ожидать: и лютых буранов, и снегопадов, и обложных дождей. Облачность километровой толщины лежит на земле иногда неделями — густая, промозглая, скрывающая все вокруг.
Не знали одного — что на их долю выпадет поход, каких еще не бывало…
Все шло по-старому, как в прошлый и позапрошлый годы, те же сборы, те же хлопоты. В одном была разница: нынче в отряде не только мальчишки. Когда стало известно, что на Кваркуш пойдут три девочки, некоторые ребята запротестовали: «Возиться-то с ними!»
На школьном собрании больше всех возмущался Витя Пенкин: «Не надо брать девчонок, да и малышей тоже!» Витька уже ходил на Кваркуш в прошлое лето и знал, как нелегко порой бывает с мелюзгой.
Эти слова относились и к Мише Калачу. А все знали, как Миша предан Витьке. Везде и всегда следовал за ним, во всем подражал. Даже походку Витькину перенял — неторопливую такую, как бы усталую.
Миша сидел в последнем ряду, почти невидимый за спинами ребят. «Маленький! Ну и что? — с горькой обидой думал он. — Да если я захочу — неделю не буду есть, неделю не буду спать…» Предательские слезы стеклянили глаза, моргни — и покатятся по щекам. Но Миша не ревел. Он только склонился ниже и так стиснул ножки стоящего перед ним стула, что побелели пальцы.
Считались с Витькой, но учитель Василий Терентьевич и в этот раз сказал твердо: «Пойдут те, кто заслужил».
Сухари, консервы, крупу, сахар, котелки, ведра, запасную теплую одежду — все упаковали во вьюки. Василий Терентьевич, ухватливый, не знающий покоя человек, не ради заработка семь лет подряд гонял на дальние пастбища колхозные стада. Так, в порядке помощи, попутно с экскурсией. Василий Терентьевич потерял на фронте правую руку, но это не сделало его инвалидом. И одной левой рукой он умел столько, что иному и двумя несподручно: управлял трактором, метко стрелял из ружья, бросал спиннинг… Он все мог, ему все было доступно.
Поначалу все шло хорошо, как и предполагалось. Долгие дневные переходы по захламленному лесному вырубу, ночевки в тихих долинах речек, кормежки телят на бедных травами береговых лужайках… Все дальше и дальше на восток от родных Кедрачей, все в гору и в гору. Чувствовалась уже высота: исчезли надоедливые комары, лес стал реже, ниже, да такой корявый стал, что и на лес не походил. А ночью — стужа. На землю опускался холодный пар, и из него капало, как из дождевой тучи.
Ребята шли обочинами выруба по бокам растянувшегося стада. Подгонять телят особенно не надо, они и сами бежали, лишь бы передние шли. Глаза нужны были да глазоньки — смотреть за этими сорванцами, следить, чтобы не удрали в стороны, в лес. Удерут — ищи ветра в поле! Здесь хозяин медведь. Он не дремлет.
Впереди гурта шагали тяжело нагруженные кони. За ним и спешили телята. Лошади натужно храпели, высекали подковками из камней искры. То и дело слышался бодрый голос Василия Терентьевича:
— Давай, ребятки! Веселе-ей!
Когда он успевал обежать стадо, побывать и там и тут? Только увидишь его, только захочешь спросить о чем-нибудь, а его и след простыл. И снова слышится, уже с другой стороны: «Давай, ребятки!»
Вскоре лес стал совсем низкий, словно обрубленный по вершинам, чаще начали попадаться травяные еланки. Все радовались, что кончается этот долгий, утомительный путь, не могли дождаться часа, когда выйдут на простор, дохнут вольного горного воздуха. Бежали изо всех сил и телята — тоже надоел им пугающий сумрачный лес!
А учитель был серьезен и чем-то озабочен — все торопил, торопил, хотя телята и без того неслись вперед.
Нина, наверно, уже в сотый раз упала, запнувшись за валежину, хотела встать, а ее подхватила под локоть сильная рука.
— Василь Терентьевич? Спасибо! — И подвернулся наконец случай спросить: — Куда мы спешим?
— Во-он, видишь? — учитель указал концом измочаленной вицы в сторону, куда-то поверх зубчатого окоема горы. — Видишь тучку?
— Ну, вижу.
— Как бы она нам беды не наделала…
Тихо было, над лесом сияло солнышко, и ничем не грозила поднявшаяся над горизонтом иссиня-белая, как взбитый яичный белок, тучка. Так и не поняла Нина в ту минуту, чем обеспокоен Василий Терентьевич, побежала за отбившимся теленком, забыла про тучку.
И вспомнила о ней тогда, когда зловещая темь закрыла солнце. Уже не тучка, а огромная грязно-серая гора тяжелым рыхлым пологом придавила землю. Умолкли, разлетелись по лесным чащобам птицы, перестали звенеть насекомые. Холодно стало.
Почуяв неладное, задурели телята. Путались, сбивались с хода, поворачивали назад. Головные часто и без причины останавливались, задние напирали, те, что посредине, в давке прыгали друг на друга, падали, глухо мыча, не обращая внимания на ребячьи окрики, не увертываясь от ударов виц.
Вдруг животные, задрав хвосты, устремились в стороны, ошалело прыгая через колодины. Ребята без устали носились за одуревшими телятами, заворачивали их на выруб, поднимали упавших и тоже, как Василий Терентьевич, кричали:
— Давай, ребятки! Веселе-ей!
Уже поздно вечером удалось утихомирить стадо. И телята опять заторопились, опять побежали вперед, поспевая за добросовестными лошадками.
Как ни старался Василий Терентьевич, как ни спешил, «телячий бунт» отнял много времени, и засветло выйти на поляны не удалось. Ночь накатилась внезапно, будто на тайгу мягко и неожиданно прыгнул исполинский черный зверь и прикрыл лохматым сырым брюхом лес, выруб, стадо. Тут уж некогда было выбирать место для ночевки. Кое-как сгрудили телят на крохотной лужайке, разложили костры, много костров. Это — страховка от медведей. Они чуют животных и идут следом. Голодные после зимней спячки, бродят они по лесу в поисках пищи, а тут такая приманка! Витя Пенкин, возвращавшийся утром за оставленным на переправе ведром, рассказал, что лошадь его все время фыркала и шарахалась от каждого куста — чуяла близко зверя.
Костры горели с разных сторон стада, ребята группами собрались возле них, просушивали одежонку. Нина, закрываясь рукой от пламени, прутиком помешивала в ведре варево. Она была высокая, ладная. То ли от огня, то ли от здоровья пылали румянцем ее пухлые щеки, горели жаром губы. Трикотажный лыжный костюм, узкие в голенищах резиновые сапоги, туго обтянувшая грудь телогрейка…
Ночью повалил снег. Вначале легкие, как белые мотыльки-поденки, запорхали над вырубом снежинки. Затем полетели гуще, дружней, и вот все ожило, зашелестело, задвигалось. В белом месиве все кружилось, летало и плавало.
Спать не пришлось. Ребята подкармливали телят ветками рябины, обметали с них снег. Телята вдруг присмирели, сбились в тесную кучу, обреченно опустили головы. Желтая снежная кашица под их ногами все прибывала, скрыла копыта…
Утром не встала одна телка. Василий Терентьевич долго озабоченно прощупывал у ней бока, зачем-то дергал за ноги, смотрел язык. Стадо ушло, а телка лежала прямо на снегу, зябко подобрав ноги.
Несмотря на все усилия ребят, она так и не поднялась. Тогда Василий Терентьевич сказал девочкам:
— Я пойду, мне надо быть у стада, а вы оставайтесь здесь. Поляны близко, я скоро вернусь, а теленка придется зарезать…
Девочки испуганно уставились на учителя.
— Что вы?! Она встанет… она пойдет. Белка! — торопливо, срывающимся голосом заговорила Валя, присела на корточки, обняла Белку за шею.
— Она встанет, вот увидите, встанет! — взмолилась Нина.
— Ладно, там посмотрим, — неопределенно ответил учитель.
И внимательно оглядел девочек.
— Останетесь одни, мальчишки уже далеко. Если Белка поднимется, гоните по нашему следу, не поднимется — ждите. Будьте осторожны. Не забывайте, что до первого поселка — сто с лишним километров, кругом парма. Кто из вас стрелял из ружья?
— Я, — несмело сказала Нина, вспомнив, что однажды с братом ходила на охоту, караулила в засидках уток. — Я уток стреляла.
— Вот и отлично!
Василий Терентьевич ловким движением снял закинутое за спину ружье, протянул Нине.
— Это на всякий случай. Жгите костры и поодиночке в лес не ходите. Боитесь?
— Нет! — решительно ответила за всех Нина.
— Добре! — сказал учитель, подал Нине патронташ и быстро зашагал вдоль выруба.
Девочки остались. Еще долго они слышали удаляющиеся шаги Василия Терентьевича, отдаленные крики ребят. Потом все смолкло. Только Белка, вздрагивая, шуршала обстывшей шерстью да тонюсенько, волосяным голоском ныла в костре подмоченная дымная головешка.
Неправду сказала Нина, что не боится. Страшно стало уже тогда, когда ушли ребята и стадо. А сейчас и вовсе. И все равно она сказала бы так, потому что некому было оставаться. Не бросишь же теленка. Затем и пошли, чтоб без потерь пригнать на альпийские луга стадо.
Совсем тихо стало. Ни голоса птицы, ни писка комарика. С неба по-зимнему сыпалась серебристая пыль. Ветки деревьев прогнулись под тяжестью снежной кухты. Ажурной тюлевой вязью белели кустарники, придавленные снегом травы. Девчонки напряженно вслушивались в лесную тишину.
И вдруг:
— Тук-туку-тук! Тук-туку-тук!
Наташа присела.
— Дура, чего испугалась? — засмеялась Нина. — Это же дятел!
— Тук-туку-тук! Тук-туку-тук! — дробно отстукивал дятел по звонкой сушине, будто маленький дровосек без устали тюкал топориком по упругому дереву.
Нина туго опоясалась патронташем.
— Ты не бойся, это только сначала страшно, а потом привыкнешь, — сказала она Наташе. — Я вот ни капельки не боюсь…
— Какая ты смелая, Нинка! — с откровенным восторгом проговорила Наташа, и ее серые, широко расставленные глаза заискрились надеждой. — Мне с тобой и правда не страшно…
Наташа старательно собрала оставшиеся с ночи дрова, бросила на костер. Направилась было к другому, самому дальнему костру, но вспомнила предупреждение Василия Терентьевича не ходить в одиночку и остановилась. Неведомой и жуткой казалась запорошенная снегом тайга. Она вплотную обступила костры и тысячами темных глазниц следила отовсюду — из-под корневищ вывороченных елей, из-под косматых бровей свисающего с сучьев мха, из глубоких провалов между ветвей — следила за людьми, за Белкой, словно ждала: что же они будут делать дальше?
Наташа бегом вернулась к костру.
— Скажи, Нина, что такое парма?
— Как будто не слышала!
— Ну, слышала, а все-таки…
Нина и сама не знала, как толком объяснить, как рассказать про парму, но чувствовала в этом слове, теперь уже редко употребляемом в их селе, нечто тревожное, настораживающее. В это слово старожилы вкладывали свой, особой значимости смысл.
И Нина сказала:
— Парма — это горная тайга, непроходимая… ну, опасная, что ли…
Валя, невысокая, тоненькая, закутанная в пушистый вязаный платок, сидела возле телки, гладила ее по ворсистому лбу, что-то шептала. Она не видела и не слышала вокруг себя никого, кроме этого безропотного и беспомощного существа.
— Давайте приподнимем Белку и травы подложим, — Валя обхватила шею телки, попыталась поднять, но руки от натуги разжались, и девочка мягко шлепнулась в снег.
Нина пошла и наломала стылого лабазника.
— Поешь, Белка, — просяще сказала Валя и поднесла к мокрой мордочке телки хрупкие свернувшиеся листья. Белка почти понимающе посмотрела на девочку дымчатым глазом и лизнула шершавым языком ее красную руку.
— Поешь, милая, — ласково повторила Валя и по листику стала класть лабазник прямо на язык телки.
— Ее, наверно, намяли, — заметила Нина, подавая Вале новый пучок травы. — Эти бычищи кого хочешь затопчут. Ешь, хорошая, да пойдем!
Так, листик за листиком, с ласками да с приговорами Белка съела несколько пучков лабазника, а когда девочки вместе побежали еще за травой, забеспокоилась, призывно замычала и — встала. Вихляясь, пошла следом.
— Белка встала! — радостно закричала Нина, бросила траву, поспешила навстречу.
Девочки окружили телку, обнимали ее, расхваливали на все лады, а она тянулась за травой к Наташиной руке, дружелюбно махала хвостом.
— Пошли, Белка, — позвала Валя и попятилась, заманивая телку травой.
Наташа легонько подталкивала Белку. Нина замыкала шествие, шла с ружьем наперевес, держа его стволом назад — из предосторожности.
Телка едва передвигала ноги, часто останавливалась, ложилась. Но девочки все же ухитрялись поднять ее и снова двигались в том же порядке.
Потеплело. С веток закапало, снег посинел и осел. Перемешанный на вырубе с грязью, он противно чавкал под ногами, сапоги подкатывались.
Нина осмотрелась.
— Ой, парма-то какая смешная!
Тут и Валя с Наташей увидели, что леса-то, по существу, нет, одни коряги, да и те растут вкось и вкривь, а то и совсем лежа.
— Ничего удивительного, это субальпийский лес, — важно объяснила Наташа тоном учительницы географии. — Скоро начнутся альпийские…
Она осеклась: впереди сухо щелкнула хворостина, и все заметили, как мелькнуло и тотчас скрылось за поворотом выруба что-то огромное, темно-бурое. Наташа ойкнула и замерла с полуоткрытым ртом. Валя выпустила из рук траву, бросилась к Белке, крепко прижала к груди ее голову.
Нина проворно развернула ружье, с усилием взвела тугой курок.
Что, если зверь повернет в их сторону?! Еще ни разу в жизни опасность не была такой близкой и такой ощутимо реальной, как сейчас. Уж не сон ли? Ружье ходуном ходило в непослушных Нининых руках, а в душе поднималось, росло унизительное желание закричать.
«Трусиха!» — мысленно обругала себя Нина и шагнула вперед.
— Стойте здесь. Я сейчас.
— Кто там?! — белея от страха, прошептала Наташа и, ожидая, что Нина вот-вот выстрелит, прикрыла ладошками уши.
С трудом переставляя ноги, словно подталкиваемая в спину, Нина прошла до поворота. Остановилась — впереди все тот же пустынный, взрыхленный копытами телят выруб. Окинула взглядом обочину — и похолодела: по левую руку от выруба, в редком молодом осиннике, стоял белоногий бык.
Не сразу Нина сообразила, что видит лося. А когда убедилась в этом, рассмотрела его короткое покатое туловище, мощную длинную шею с большой горбоносой головой и навостренные уши — отлегло от сердца.
— Ух, как здорово ты меня напугал! — выдохнула Нина и села на торчащий из снега камень. Разом ослабла, ружье показалось невероятно тяжелым, и она привалила его к камню рядом с собой.
— Идите сюда! — крикнула Нина подругам.
Но лось не стал ждать, когда подойдут девочки, сорвался с места и крупной рысью побежал в чащу.
На вырубке показались два всадника. Впереди на веселом буланом жеребчике ехал Василий Терентьевич, за ним — Витя Пенкин. Наташа поспешила навстречу и принялась возбужденно рассказывать о только что пережитом.
— Лосей тут побольше, чем наших телят, — сказал Василий Терентьевич. — Бояться их нечего. И потом, ведь с вами была Нина…
Нина опустила глаза.
Учитель спрыгнул с лошади, передал повод Наташе, шагнул к телке.
— А ведь правда подняли вы свою Белку. Смотри-ка, даже жуется! Что же, тогда вперед!
Первая альпийская поляна оказалась совсем рядом, и через полчаса небыстрого хода отряд был на ней. Девочки невольно засмотрелись на обширную луговину, густо утыканную, точно вениками, раскидистыми кустами чемерицы. Вдали сквозь туманы неясно проступали пологие скаты гор, тоже свободные от леса и тоже засыпанные снегом.
Просторно и вольно было здесь, в заоблачной высоте, непривычно для глаза после тайги, столько простора и света! Но сердце не ликовало — его сжимала тревога. Неужели на погибель гнали сюда ребята колхозное стадо? Вот ты какой коварный, далекий Кваркуш! Весь белый, холодный, как Антарктида.
3
Здесь, на первой поляне, были дом, скотный двор и просторный загон, огороженный пряслами. Поляна некруто скатывалась куда-то вниз, в белесый туман. Потом ребята узнали, что нижним краем она постепенно переходила в глубокую долину, где начинается стремительная речка Цепёл. Потому и поляны Цепёлские. Еще есть Язьвинские поляны, тоже так названные по имени реки, но они отсюда далеко, по ту сторону Кваркуша.
Ребята растопили в доме железную печурку, поставили на нее ведро с водой. Вскипит вода — и можно будет заварить вкусную сухарницу с луком. На гвоздиках, на перекладинах, на каждой приступке висят мокрые портянки, носки, в углу в кучу свалены мешки с продовольствием, седла, войлочные потники, сбруя. У стены батарей выстроились сапоги. Двадцать три пары. Маленькие и большие, худые и добрые резиновые сапоги и одни раскисшие сыромятные бродни.
Сквозь стены слышно, как ревут и бодают безрогими лбами ворота запертые в сарае телята. Сегодня они не кормлены. Попасти бы надо хоть маленько, да нельзя. Трава еще не успела подрасти, ее завалило снегом, и торчит на лугу одна дуроломная чемерица. Стойкая она к холодам, с упругим толстым стеблем, вокруг которого словно бы навиты лопушистые листья. Заманчиво на вид это растение, сочное, как кукуруза, но ядовито. В другое время животные его обходят, а сейчас, с голодухи, — только подавай! Наедятся и отравятся. Из-за чемерицы Василий Терентьевич и закрыл телят.
Весь вечер он утеплял сарай, подбивал снегом, заделывал большие дыры. Потом вошел в избушку. Брызгая водой, протопал в передний угол, не раздеваясь, сел на лавку, долго молча смотрел в открытую дверцу печурки.
Шумят, смеются ребята. А телята мычат…
— Тихо! — почти крикнул Василий Терентьевич. Все умолкли, как по команде, повернулись к нему. — Слышите? Это ревут телята. У нас есть еда, мы сейчас будем сыты и ляжем спать. А телята не будут спать, они будут реветь еще гремче. Они голодны, им надо травы. Не дадим травы — погибнут. Сто сорок телят и восемь лошадей.
Василий Терентьевич встал, поджарый в своем коротком ватнике, суровый. Лавка под ним стала мокрая, вода натекла под ноги. Смотрят ребята на учителя, ждут, что скажет дальше.
А телята мычат…
— Помощи ждать не от кого, — снова заговорил учитель. — Пока не будет погоды, на Кваркуш никто не придет. Да никто и не знает о нашей беде. Завтра рано утром пойдем на луг и вырубим чемерицу. Затем станем разгребать снег. Нет, будем катать его комьями, он липкий…. Освободим от снега гектар луга, накормим стадо. Согласны?
— Согласны! — грянул в ответ дружный хор голосов.
— А теперь ужинать — и никаких больше разговоров. Отдыхайте, набирайтесь сил. Покажем «белому шаману», как мы умеем работать. Каждому надо прокормить по шесть телят. Может быть, дня три, четыре. Предупреждаю сразу: придется трудно!
Утром встали в четыре часа, как условились. Выпили по кружке теплого чая, закусили сухариками. И один за другим в двери гуськом, на луг, рубить злосчастную чемерицу.
За ночь опять подвалило снега. На лугу — ни следышка. Белым-бело вокруг, глазам больно.
Ребята вооружились палками, выстроились в длинную шеренгу.
— Впе-еред! — как солдатам в атаку, скомандовал Василий Терентьевич.
И пошли косить! Взмах, удар — нет куста! Второй удар — нет другого куста! Играючи идет дело, только чемерица жвакает! А Василий Терентьевич знай подбадривает:
— Так ее, отраву! Под корень ее! Так!..
Сам тоже рубит, через голову взмахивает палкой и все приговаривает: «Так ее, так!..» Рукав пустой летает из стороны в сторону, хлещет то по спине, то по груди.
И валится, валится срубленная чемерица…
Уже далеко от домика ушли «косари». Так и идут волнистым рядком, как направил Василий Терентьевич, и след от них остается такой же, как на росном выкосе за косарями. И кругом лежит чемерица. Девочки едва успевают таскать ее в кучи.
Витя Пенкин обогнал всех. Он рослый, сильный, и ему по душе такая разминка. Бьет чемерицу и подпевает: «Эх, дуби-инушка, ухнем!» Пар валит от Витиной вспотевшей спины, шапку где-то сбросил и — сплеча да сплеча! — садит по чемерице.
Миша Калач старается не отставать, катится колобком по белому полю, вправо, влево сыплет удары, поспевает за другом.
Наискосок, чуть поодаль от Миши, — Гриша-младший. Палка у него изогнутая, с набалдашником на конце, он называет ее шашкой и рубит чемерицу обеими руками. Фантазер этот Гриша. Рубит и тут же вслух картаво сочиняет:
— Шашка оствая моя — с плеч худая голова!..
А вот тезка, Гриша-старший, отстал. Тяжеловат он в работе, неразворотлив. И палку выбрал какую-то неудобную — кривую, с сучьями. Ударит по кусту — и сам туда же. Злится, пинает чемерицу.
Избочив шею, ритмично взмахивая палкой, как литовкой, работает дотошный во всяком деле Петя. У него не просто палка, а еще привязан ремешок с камушком. Куда удобнее! Шварк под корень — сдуло веник! Петя мастак на выдумки, прикинул — изобрел кистенек…
Опять упал Гриша-старший. Догадливый Петя смекнул, в чем дело, подошел к нему, посоветовал повернуть палку, взять за другой, легкий конец.
— Иди! — огрызнулся Гриша и с ожесточением принялся выдирать чемерицу руками.
Выдрали, вырубили всю. Не видать и кустика. Лежит в кучах точь-в-точь такая, как кукуруза, приготовленная для силосования. Витя Пенкин смотрит на «кукурузу», вытирает рукавом лоб и сердито говорит:
— Вот ведь зелье, даже снег ей нипочем! Свеженькая, хоть бы хны!
— Славно поработали! — одобряет Василий Терентьевич. — Но это только часть дела. Теперь будем катать снежки. Знаете, как это делается?
Еще бы!
Но учитель все же сбил снежный ком, обмял его рукой и покатил. Ком, набухая, быстро собирал за собой снег, освободил вылегшую траву.
— Вот таким манером будем работать! — сказал Василий Терентьевич.
Все гурьбой поднялись на пригорок к домику — с горки-то катать легче! Выбрав участок, где трава под снегом гуще, принялись за дело. Трудно стало с самого начала. Снежные комья росли быстро, уже через восемь — десять метров не хватало силы сдвинуть их с места. Тогда ребята сходились к одному кому по двое, по трое, сколько могли, катили дальше, а потом бросали и принимались за новый.
Давно все вымокли до нитки, даже из-за голенищ выжималась вода. Но это еще терпимо. Вот если бы не мерзли руки… На двадцать три человека — одна пара варежек, у Вити Пенкина: положила в рюкзак предусмотрительная бабушка. Но ни Витя, никто другой ими пока не пользовался. Хорошо тем, у кого рукава длинные: вобрал руки поглубже и маши, как ластами. Ребята толкают «снежки» локтями, коленками, а кто и плечом. Поэтому они не особенно охотно расстаются с большими, тяжелыми комьями — маленький локтем не покатишь.
Все чаще, гуще разбегаются по лугу зеленые дорожки, перекрещиваются, переплетаются и сходятся у снежного барьера внизу поляны. Там отвал.
Хоть и трудно, а никто не жалуется на усталость. Разве Гриша-старший… Да не до него сейчас. Нина между делом подтрунивает над мальчишками, теми самыми, которые громче других требовали не брать девочек в поход.
— Может, помочь тебе, Пенкин? — с усмешкой предлагает Нина. — А то как бы не надсадился…
Из-под мокрого чуба Витя мечет на Нину горячий, обидчивый взгляд и, широко раскинув руки, грудью налегает на ком.
— А ты, Петя, поменьше топчи своими бахилами траву, — замечает Наташа, то и дело поправляя негнущимися пальцами выбившиеся из-под шапочки кудряшки. — Кто после твоих ног траву есть будет?
На ногах у Пети растоптанные бродни. Они намокли, почернели и только тем и держатся, что подвязаны на щиколотках ремешками.
Петя сам их сшил. Он вообще на все руки мастер. Никто лучше его не может выстругать весло для лодки, отремонтировать электрический утюг, а уж как, дело дойдет до колхозной техники — равного Пете среди ребят нет. Он умеет управлять трактором, грузовиком, летом работает на сенокосилке, подручным комбайнера…
Вольно с ним обращается лишь Наташа. Подсмеивается по всякому поводу и без повода. И Петя перед ней бессилен. Почти испуганно смотрит он на Наташу, когда та, лукаво поблескивая серыми глазами, опять затевает свои шуточки. А почему объектом этих шутливых нападок был именно Петя, не знала, наверно, и сама Наташа.
А может быть, знала… Она давно уверилась, что самая красивая в школе, и тщательно следит за своей внешностью. Не только дома, но и здесь. Брюки на ней еще не утратили следов утюжки, рукава модной кофточки аккуратно подобраны под обшлага теплой куртки.
Вот и сейчас — ведь не кому-то другому, а Пете! — кричит Наташа:
— Поменьше топчи своими бахилами траву!
Смеются ребята, а телята орут…
Тут же все умолкают, с яростным ожесточением начинают лепить новые комья и катят их, катят. Работают неистово, без передыху, а Василий Терентьевич все торопит: «Давай, ребятки, поднажме-ом!» Нельзя им останавливаться — остынут.
И вот уже дорожек на лугу так много, что не видно белых промежутков между ними, и очищенное от снега пространство похоже на проталину. Василий Терентьевич выпустил из сарая телят. Они опрометью бросились к зеленому островку. Отталкивают друг дружку, жадно хватают траву…
Прибежали и кони. Веселый буланый жеребчик раз хватил квелой сладкой травы, два хватил и, вскинув голову и оскалив длинные желтые зубы с засевшими между ними травинками, звонко, дребезжаще заржал. На лошадином языке это, вероятно, означало: «Ничего, проживем!»
Валя долго выискивала среди телят Белку и не нашла.
— Опять, наверно, не встала. — Она побежала к сараю.
Не встали кроме Белки еще семь телят. Василий Терентьевич, как и в тот раз, в лесу, ощупывал у них ввалившиеся бока, смотрел язык, дергал за ноги. Глядя на учителя, и девочки делали то же самое — прощупывали бока у телят, растягивали им губы, нимало не задумываясь, зачем это делают. Телята не сопротивлялись осмотру.
Василий Терентьевич выпрямился, вытер руку о штанину. Сказал, что телята ослабли от трудной дороги и недоедания, да еще и от холода.
Ясно, надо накормить животных. А вот чем?
— Можно, мы им пойла горячего из сухарей заведем? — попросила Нина.
Еще вчера, когда они остались на вырубке, Нина хотела сделать Белке пойло из сухарей. Но вспомнила, что сухари увезли ребята…
Василий Терентьевич словно ждал такого предложения, круто повернулся к девочкам, посмотрел на них внимательно.
— Пожалуй, можно, — раздумчиво произнес он. — Это все, что в наших силах. А сами что есть будете?
— А мы… мы поменьше… Хоть по сухарю в день — и то ладно! — бойко блеснула глазами Наташа.
— И ребята все согласятся! — поддержали Наташу Нина и Валя. — У нас еще крупа есть, консервы.
— Добре! — улыбнулся учитель. — Так и сделаем. Ступайте, топите печь и грейте воду.
Василий Терентьевич вышел из сарая и уже за воротами крикнул девочкам:
— Сухарную крошку сперва заваривайте, по котелку на ведро!
До позднего вечера катали ребята с Василием Терентьевичем на лугу снежки. Умаялись. А телята не отстают ни на шаг, мешают работать. Не успеешь своротить ком с места — они тут как тут! Суют жадные морды под ноги и хватают траву.
Похолодало, мокрая трава покрылась крупинками льда и похрустывала на зубах у животных. А они все голодны, все не наедятся. Много, слишком много на лугу телят, а снежки — тяжелые. К тому же теперь они катятся плохо, рассыпаются, режут руки…
Ребята загнали орущих, недовольных телят в сарай. Молча направились к дому. В сапогах хлюпало, с рукавов капало. У крыльца Витя уперся руками в стену, вытянулся.
— Ну-ка, отожми с меня малость, — попросил Мишу.
Миша Калач долго пыхтел за его спиной, а затем отступился и сказал виновато:
— Не могу. Руки ровно не мои…
Они ввалились в жарко натопленную избушку и все легли на полу.
— А ужинать? — спросила Нина, снимая с печки ведро с кашей.
Молчат ребята.
— А ужинать кто будет, я спрашиваю? — настойчиво повторила Нина.
Спят ребята…
4
А утром повторилось все сначала: кружка теплого чая, сухарик на закуску — и друг за другом в двери гуськом, на луг, добывать корм телятам.
Не сдавался «белый шаман», добавлял снегу. От вчерашнего зеленого островка не осталось и следа. И ребята снова принялись за снежки. Опять расчищали проталину, опять за ними ходили телята и опять громко ревели, требуя больше травы.
Так прошло трое суток. Снег не таял. Его навалило выше колен, и катать комья становилось все труднее. Да и работники уже не те — утомились, изрезали о наст руки. Вспухшие, израненные пальцы не держали вечером ложку.
Вот уже второе утро ребята не могли сами проснуться вовремя, а Василий Терентьевич почему-то не будил их, один угонял телят на луг. Жалел, что ли? Или не мог добудиться? И сегодня проспали бы неизвестно до какой поры, да хорошо — Нине бабочка приснилась…
Отдыхают ребята после адова дня. Сегодня они совсем мало расчистили луга. А телята орут, бунтуют. От сарая доносится топот, треск — это животные крушат дощатые перегородки.
Василий Терентьевич несколько раз уходил к ним и возвращался расстроенный.
— Вовсе сбесились, — не скрывая тревоги, сообщал он и садился за стол. — Стены не разнесут — бревенчатые, но ведь затопчут малышей! — рассуждал вслух, подперев заросший подбородок жилистым кулаком. — Бедняги и так еле живы…
Нина не могла слышать этого плача животных, не находила в избе места. Закрыла ладошками уши. Но и сквозь ладони слышно было глухое, жалобное мычание.
Валя, худенькая, большеглазая, с круто выгнутыми бровями, такими выгнутыми, что кажется, будто всегда чем-то удивлена, сидела на чурбаке поодаль, безучастная к разговорам. И тоже прислушивалась к тревожному мычанию. Ну чего они расстонались? Лежали бы, отдыхали. Вся душа из-за них выболела. И как не болеть? В школе, в кружке юных животноводов, Валя вместе с другими девочками ухаживала за телятами. Изучила их привычки, повадки, всех узнавала по голосу. И телята знали ее, отличали и, когда она приходила, ласково мычали и тыкались мокрыми мордочками в ее теплые руки. И вот теперь этот плач…
— Василь Терентьевич! — отчаянно повернулась Нина к учителю. — Что еще можно сделать?!
Учитель поднял блестевшие в отсветах свечи глаза.
— Есть еще один выход. Только опять работа «веселая»… Прямо сейчас. Утром может быть поздно… Пойдем на Цепёл рубить рябину.
— Правильно, ведь они же здорово ее жрут! — вспомнил Витя Пенкин, торопливо начал натягивать сапоги.
Заплясал на одной ноге, надевая на другую сырой, обмякший бродень, Петя, засуетилась Наташа, незаметно и бережно взбивая по краям шапочки завитушки волос.
Синяя северная ночь, синие снега. Призрачный полумрак мягко оттеняет голубые полосы на снегу. Из долины Цепёла тянет сыростью. Мокрый слоистый снег кругляшами сдвигается под ногами, прилипает к плоскоступным подошвам Петиных бродней.
Идут ребята друг за другом цепочкой, как партизаны на боевое задание, стараются угадать в один след. Все подпоясаны — кто ремешком, кто веревочкой, а кто шарфом, как кушачком. Смотрят на пятки впередиидущего, помалкивают. Нет настроения разговаривать.
Без слова прошли и возле сарая. Голодный рев телят больно отозвался в сердце. Чувствуя себя виноватыми, ребята ниже склонили головы, зашагали быстрее.
На снегу лежали, будто рассыпанные по скатерти, желтые шарики свернувшихся купальниц. Они плотно соединили лепестки и, задетые ногами, позванивали, как стеклянные. Там и тут сквозь толщу снега пробивались высокие, с коронистыми шапками облетевших соцветий, трубчатые стебли борщевика.
Тихо было кругом. Лишь снег скрипел под ногами да теперь уже вдали приглушенно мычали телята.
Вот и Цепёл. Недовольно ропщет студеная быстрина, скрытая зарослями осинника, рябины, вербняка.
Василий Терентьевич затянул потуже ремень, заправил под него, чтобы не болтался, пустой рукав.
— Я буду рубить, а вы таскайте к сараю, — сказал он и размашисто ударил по первому деревцу.
«У-ак!» — голосисто откликнулось по долине. «Тах, тах, тах!» — раздавались удары. «У-ак, у-ак, у-ак!» — вторило эхо.
Одна за другой падали рябинки. Ребята подхватывали их. Каждый набирал столько, сколько мог унести.
Валя тоже пыталась набрать веток побольше, но все валилось у нее из рук. Она понимала, что необходимая это работа — рубить рябину, иначе не спасти ни Белку, ни других телят, и все же теплая влага заволакивала глаза при виде падающих деревцев, а удары топора саднили сердце. «Тах, тах, тах!» — ахал топор. «Тук, тук, тук» — стучало в груди. И вот рябинки замельтешили, закувыркались перед глазами, голову обнесло, закружило, и крупные слезы сорвались с ресниц, покатились по щекам.
— Не надо! — вскрикнула Валя и, прикрывая ладонями лицо, опустилась на снег.
Василий Терентьевич бросил топор.
— Что с тобой?
— Не могу я смотреть, все качается, — проговорила Валя. — Н-не могу…
Василий Терентьевич шагнул к ней, приложил ко лбу руку.
— У тебя жар. Немедленно отправляйся в дом. Петя, Наташа, проводите Валю. И оставайтесь с ней.
— Не пойду я, — попробовала возразить Валя.
— Марш в дом! — приказал Василий Терентьевич. И повернулся к Наташе: — Заваришь чай с сушеной малиной, дашь Вале аспириновую таблетку… лучше две. Малина и таблетки в моей сумке.
Василий Терентьевич глянул на подошедшего озадаченного Петю, на его разношенные, как лапти, бродни и добавил:
— Тебе — тоже аспирин и под два одеяла.
— А я при чем? — заикнулся было Петя.
— Без разговоров. Живо домой!
И опять заахал топор, опять повалились рябинки. Словно руками, взмахивали ветками, безнадежно хватались за подружек, повисали на них. Ребята собирали деревца в охапки, уносили по протоптанной дорожке к сараю. Гриша-младший, путаясь в длиннополом ватнике, тащил большой ворох веток. Из-за вороха он не видел тропы, шел наугад и часто сворачивал в сторону, в нетронутый снег. Миша Калач не отставал от него и нарочно наступал на волочившиеся по земле вершинки. Грише надоели неуместные шутки, он остановился и, не поворачивая головы, предупредил:
— Ка-ак двину!
Нина первая подошла со своей ношей к сараю. Бросила рябину, задумалась: как отдать ее животным? Если открыть ворота, телята кинутся враз, затопчут… Наломав веток с листьями, она стала проталкивать их в щели. Жадные языки захватывали ветки, вырывали из рук.
Принес рябину Витя Пенкин.
— Чо издеваешься?
— Ой ты, издеваюсь! — взвинтилась Нина. — Как ты им иначе отдашь?
Витя обошел сарай и ничего не придумал. Подошли еще ребята и все стояли, не зная, как дать рябину телятам.
— Вот что сделаем, — предложила Нина. — Сейчас будем таскать ветки и раскладывать в кучи во-он до того камня. Когда наносим побольше, выпустим телят. Чтобы всем хватило. А если в одну кучу сбросаем, то они только драться будут. И маленьким не достанется.
Вернулись на берег, и Нина рассказала о своей задумке Василию Терентьевичу. Тот одобрил, но пошел выпускать телят сам.
Едва он выбил деревянный засов, ворота сарая с треском распахнулись, и в загон потекла пестрая ревущая лавина. Животные набросились на рябину, фыркали, бодались, выхватывали друг у друга ветки. Тесно стало в просторном загоне, ребята сновали тут же, растаскивали корм в свободные углы.
А потом снова ахал в долине Цепёла топор, снова все носили к сараю рябину, осыпая по краям широкого волока зеленые узорчатые листья. Спотыкались, чуть не засыпали на ходу, а все носили, носили.
И вот наелись телята. Удовлетворенно запомыкивали, потянулись в сарай. Ребята заперли их и опять цепочкой, как партизаны с боевого задания, пошли к дому.
— Здорово, какие штаны у меня стали! — Нина опустила палочку-мешалочку на дно ведра с варевом и стала отжимать на коленках из материи воду. — Давно ли покупали новенькие, красивые, а сейчас? — она принялась рассматривать у открытой печурки порыжевший костюм.
Наташа тоже озабоченно смотрит на свои спортивные брюки и на всякий случай подальше отодвигается от огня, чтобы не припалить выпущенные на лоб русые кудряшки.
А Валя весь вечер как потерянная. Кутается в платок, хотя в избушке и без того жарко, рассеянно слушает ребят, ни с кем не вступает в разговоры. На шутки отвечает робкой улыбкой.
Такая она незаметная и в школе. Сидит за одной партой с Наташей и частенько краснеет за нее, любящую как-то привлечь к себе внимание. Иногда Наташе это удается, и тогда Валя просто теряется под обстрелом ребячьих глаз, склоняется к тетради, тихо просит подружку: «Не кривляйся, пожалуйста!»
Сейчас она и вовсе помалкивает — наверно, все еще чувствует себя плохо.
— Чо твои штаны! — прицепился Витя Пенкин к Нине. — Это тебе не на прогулке! Вот смотри, — и он небрежно вытянул длинную ногу. В прорехе разорванного сапога торчал палец…
Похоже, что дырой в сапоге не столько обеспокоен сам Витя, сколько его неотлучный спутник Миша Калач. Миша уже давно разыскал в рюкзаке пузырек с клеем и резинку для заплаты, резинку затер напильником и все это держит в кармане, ждет, когда Витя налюбуется дырой, снимет сапог.
Гриша-младший уже в который раз принимается рассказывать про то, как свалился сегодня с лошади.
— Он, этот Буланка, дикошарый какой-то, — говорит Гриша. — Увидел обгорелый пенек, зашипел на него, как змея, да ка-ак прыгнет!..
«Младшим» неугомонного Гришу стали звать уже в походе, чтобы не путать с другим Гришей — старшим. Он тоже, как и Миша Калач, долго стоял под вопросом, прежде чем его зачислили в отряд. Самые они маленькие, по двенадцать лет каждому, и даже Василий Терентьевич не сразу решился взять их. Но все же взял. И, кажется, не жалеет об этом.
…— Я и улетел прямо головой в снег! — весело закончил Гриша свой рассказ.
Ребята смолкли — услышали шаги Василия Терентьевича. Он все еще был у сарая — правил поломанную телятами старую изгородь — и вот шумно вошел в избушку. Строго глянул на Валю.
— Почему не в постели?
Лишка не разговаривая, тут же заставил ее лечь и укрыл одеялом. Накинул сверху толстый войлочный потник из-под седла.
Полез под одеяло и Петя, хотя не только он сам, но и ребята недоумевали, почему учитель заставляет его глотать таблетки и раньше других ложиться.
…Уже все спали, когда Василий Терентьевич тихо подошел к Нине, осторожно потряс за рукав и сказал негромко:
— Я сейчас ухожу, ты остаешься за старшую. Утром начинайте со снежков, потом рубите рябину, как вчера. Для слабых телят возьмешь на пойло еще одно ведро сухарей. Последнее.
Нина испуганно вскочила с лежанки.
— Куда вы? Ночь ведь!
— На реке Пеле работают геологи. У них есть рация. Попрошу вызвать подмогу.
Василий Терентьевич снял со стены ружье и, скрипнув дверью, вышел.
5
Хотя и убродно было, сначала Василий Терентьевич шел споро: как-никак по лугам да все под горку, под горку. Затем на спусках все чаще начали попадаться кривые, в рост человека березки, отдельные широколапые ели с причудливыми снежными буклями на тупых верхушках.
Но вот луга кончились, и впереди непроглядной, черной стеной встала тайга. Тут уж — торопись не торопись — не разбежишься. Нехоженая, не знавшая топора первородная тайга будто нарочно ставила на пути заслоны.
Кончились синяя ночь, синие снега. Кругом тихо, темно и выморочно, как в глубоком ущелье. Несчетно раз учитель перелезал через лежащие, ощетинившиеся сучьями деревья, обходил завалы, кружил, петлял, продирался сквозь заросли хвойного подроста.
Счастлив тот, кто не блудил в горной тайге — парме! Счастлив, если не бывал в ее цепях, как паучьи тенета, объятиях. Притягательна она, хитра, коварна. Увлечет новизной, дикостью, непуганым зверьем и птицей, очарует дивными цветами-стародубами! Уведет на искристые родниковые речки, где что ни камень — то самоцвет, что ни ямка — то красноперый красуля-хариус. А ягодники! Не топтанные ногой, они плантациями вызревают под благодатной сенью тайги.
Увлечет тайга, заманит в первобытные тайники свои, откроет невиданные красоты, а потом закружит, заплутает и… оставит. Опомнится путник, да поздно! Куда ни кинется — лес и лес. Древний, настороженно-затаенный, окруживший со всех сторон. Исчезнут куда-то родниковые речки, затеряются во мхах обильные ягодники…
Затем парма начнет гонять по своим урочищам, показывать все снова. Вроде бы незнакомая горушка, взбежит на нее встревоженный путник, а, оказывается, уже был здесь. Опять вроде незнакомая — и опять был… Так и бегает без толку взад, вперед, не жалея ног, не жалея сил, с одним отчаянным желанием: поскорей вырваться из дремучего плена.
Выматывая силы, парма начнет и помаленьку раздевать путника. «В тайге каждый сучок просит клочок», — говорят старики охотники, и это верно. Не пройдет и двух дней, как вместо крепкой парусиновой штормовки останутся жалкие лохмотья. Про обувь и говорить нечего.
А не так надо бы вести себя, если заблудился. Присядь, успокойся, подумай. А еще лучше разведи костер и переночуй. Отдохни, одним словом, пощади свои ноги и сухари. Ведь утро-то вечера мудренее!
Сперва учитель шел уверенно, а тут привязалась и неотступно тревожила думка: «Пройду ли, не потеряю ли направление?» Нет ни карты, ни компаса. В обычное время они ни к чему, а вот сейчас бы и звездочке рад. Не видно только в пасмурном небе ни звезд, ни месяца.
Василий Терентьевич не раз хаживал через тайгу и на Пелю, и на другую горную речку — Золотанку, но ночью не доводилось. Потому и тревожился.
Да еще этот снег! Ступишь — и по колено. На голову то и дело обрушиваются с деревьев сырые снежные лепехи.
Остановился в одном месте, где лесины стояли пореже, посмотрел на их иссеченные вершины, обвисшие ветви: «Ага, кажется, на этой стороне больше веток да и вершины как бы наклонились в ту же сторону. Значит, верно иду, к югу наклонились вершины».
И опять шел, сокрушая ногами лесную заваль, пробиваясь через буреломы и все неотвязно думая о том, правильно ли идет.
Под скрип снега, под хруст валежника подступали другие мысли. Единственный ли выход был — оставить ребят одних? А что еще можно было предпринять? Пожалуй, ничего.
Лет пять или шесть назад случилось на полянах примерно то же. Внезапный циклон, снег. Правда, снег выпал всего на вершок и телята без труда докапывались до травы, а вот ребята мерзли. Особенно плохо, как и в этот раз, было с обувью. Да и немудрено: ведь сто километров по тайге протопали!
В те годы на Язьвинских полянах, в западной части Кваркуша, стояла избушка. Еще зимой в нее забросили вертолетом продукты, теплую одежду, обувь. Для пастухов.
Василий Терентьевич тогда за полночь отмахал по хребту двадцать километров, сорвал с двери избушки пломбы, замки и к утру принес для ребят восемь пар резиновых сапог.
Но тогда было проще, была избушка. Тогда лишь пришлось писать начальству длинное объяснение…
Сейчас избушки нет. Сейчас надежда на геологов. Вот только бы найти их. Дойти. Не подвели бы силы…
С некоторых пор Василий Терентьевич стал замечать, что его этак непроизвольно побрасывает из стороны в сторону, если даже под ногами нет колодняка. А тут еще — раз! — и брякнулся! То, что он много раз падал, не в счет, без этого в тайге не обойтись, а вот когда упал да вставать неохота — уж никуда не годится. Так и застыть недолго.
Сухими губами учитель похватал снега — и так хорошо стало, хоть закрывай глаза… Тихо кружилась голова, в ушах неумолчно позванивало. «Минутку, всего одну минутку полежу», — проносилось в сознании. Но чей-то другой, беспощадный голос приказывал: «Поднимайся! Ты оставил ребят, ты обязан дойти!»
— Обязан! — прохрипел Василий Терентьевич, выплюнул хвоинку, попавшую в рот со снегом, оперся на ружье, встал. «Ничего, дотянем, не столько на фронте тянули — вытянули! Вот-вот согра начнется, а там до Пели рукой подать…»
Долго ли, мало ли шел — не замечал времени, но, наверно, очень долго, потому что наступило утро. Посветлело как-то разом, будто кто поднял над лесом занавес.
Василий Терентьевич осмотрелся.
Низкое серое небо, вдали под тучами едва угадываются волнистые изгибы белесых гор. Это на той стороне, откуда шел. Густой лес кончился, его сменило пихтовое сухотье, редкая березовая и ольховая молодь. И вокруг — кочкарник. Стало быть, согра.
В кочках идти еще хуже, но теперь уже близко Пеля. Это прибавляет силы.
А вот и река. Черная, в белых берегах, разлившаяся по низинам.
Василий Терентьевич сел на пихтовое корчевье, выжал мокрую кепку. Куда теперь податься, в какую сторону? «Если вправо пойдешь — коня потеряешь, влево — свою голову сложишь…» Учитель невесело усмехнулся.
Но все же куда идти: вниз по реке или вверх?
И опять необоримое желание прикрыть глаза и забыться. Ах, как, должно быть, приятно уставшему человеку спать на этом удобном и мягком корневище! И пожевать бы чего…
Разгреб ногой снег, увидел изумительной свежести стрелочки дикого лука. С трудом наклонился, нарвал горсть. Судорогой свело скулы от ощущения во рту еды. Упав на колени, учитель стал жадно рвать лук, набивая им рот, карманы, заталкивая за пазуху…
6
Раньше всех утром проснулась Нина. И тотчас вспомнила ночной разговор с Василием Терентьевичем. Теперь она здесь старшая, все надо решать самой.
Осторожно спустилась с нар, поправила на Вале сбившееся одеяло. Заметила непорядок с обувью и расставила сапоги так, чтобы они лучше сохли. Подняла с пола и повесила на гвоздик чей-то мокрый шарф.
За ночь избушка выстыла, от обилия влаги в ней окно опять сделалось матовым, будто кто заклеил его серебристой бумагой.
Ребята крепко спали, и будить их не хотелось. «Вот подтоплю маленько, тогда и разбужу», — решила Нина и, прислушиваясь — не ревут ли телята? — стала складывать в холодную печурку оставшиеся дрова. Долго искала спички, а когда нашла, дольше того не могла добыть огонь — спички отсырели. Исчеркала напрасно полкоробка, опустила руки…
И тут вспомнила, как еще давно, когда они ходили всей школой копать колхозную картошку и их вымочил дождь, Василий Терентьевич учил зажигать подмоченные спички. Он быстро-быстро тер спичку о волосы, чиркал, и она загоралась. Нина повторила урок. Получилось. Высушенная трением спичка вспыхнула, от нее занялась тугая ленточка бересты — загудело в печке!
Железная печурка, или теплушка, как ласково называли ее ребята, могла в две минуты нагреться докрасна. Напичканная смольем, накалялась не только печка, но и вся ее длинная труба.
Жаркая, удобная эта теплушка, недаром ее устанавливают во всех времянках и даже возят с собой!
Нина накинула фуфайку, вышла на улицу.
Рассветало. Крутобокие, белые, будто освещенные изнутри неоновым светом облака плавно сливались на плато Кваркуша с подтаявшими за ночь снегами. Облака на земле! Словно стадо гигантских баранов вольно разбрелось по просторам альпийских лугов. Облака на лугах лежали всю ночь, а теперь, отдохнувшие, отрывались от них и медленно, не спутываясь, не перемешиваясь, спокойной чередой одно за другим скатывались в прохладную долину Цепёла и уплывали по ней в дальнюю даль. Где-то они полетят привычно высоко, выше птиц, а вот тут отдыхают на самой земле. «Тучки небесные, вечные странники…» — вспомнила Нина и еще больше поразилась невиданному зрелищу. Да, не каждому удается наблюдать такое! А может быть, облака рождаются здесь?
Тумана не было, не чувствовалось и зябкой сырости, хотя с крыши избушки звучно капало и все вокруг набухло, посинело, отяжелело. Где-то стрекотали дрозды, перекликались пуночки, над лугом тянул седокрылый лунь, легко удерживаясь на восходящих воздушных потоках.
Нина подставила ладони под струйку, стекавшую с крыши, плеснула на лицо. Талая вода попахивала дымком, свежей кошениной и еще не поймешь чем — кажется, цветущей вербой. И от этих запахов, от звенящей капели, от доверчиво лежащих на земле облаков ясно просветлело на душе. Нина прикоснулась щекой к выпуклому бревну стены. «Я сейчас ухожу, ты остаешься за старшую», — живо вспомнила наказ Василия Терентьевича. «Это я-то старшая?! Уй, как здорово!» — И тихонечко запела:
Мы следопыты, мы идем Тайгою напрямик, Палатки — наш походный дом, А компас — проводник…Она постояла еще немного, прислушиваясь к звукам, а потом собрала под навесом заготовленные дрова и вошла в дом.
Изба уже нагрелась, надо было будить ребят, а Нина все медлила. «Вот попроведаю телят, тогда и разбужу», — оттягивала минутки и уже хотела идти к телятам, но тут во сне несвязно заговорила Валя:
— Не надо, не рубите! Я травы натаскаю… Вон зеленый лужок… Белке принесу. Не рубите…
Нина бережно подняла свисающую Валину руку, подбила под бока одеяло. Валя дышала неровно и часто, обычно бледные ее щеки розовели.
— Не надо! — простонала Валя и очнулась. Увидела склонившуюся Нину, улыбнулась. — Как хорошо, что ты здесь. Постой маленько, я сейчас встану, будем пойло заводить…
— Лежи, тебе нельзя вставать.
Валя все же приподнялась на локтях, но тут же бессильно опустилась.
Нину это очень встревожило: Валя, видать, расхворалась не на шутку. Что, если Василий Терентьевич скоро не вернется? Где эта Пеля? Найдет ли учитель геологов?
Теперь-то Нина понимала, почему ушел Василий Терентьевич, ушел так внезапно, ночью, голодный, уставший. Значит, иначе нельзя было. Значит, все обстоит гораздо серьезнее, чем Нина предполагает.
Хорошее настроение как рукой сняло. «Распелась! — укорила себя Нина. — Тут надо думать, чем лечить Валю, как лучше накормить телят, если уж за главную осталась, а не природой любоваться…»
Пришлось достать из аптечки несколько пакетиков. Нужны ли они, не нужны — Нина не знала, но хотела как-то помочь Вале и решила дать ей еще одну аспириновую таблетку. Налила в кружку воды.
— Выпей! Здорово помогает.
Валя не ответила.
— Выпей, я тебя очень прошу! — умоляюще сказала Нина. — Ты слышишь меня или нет?
— Ничего мне не надо, — Валя не открывала глаз.
— Тогда… тогда я не знаю, что делать… — призналась Нина. И тут же покаялась: «Разнюнилась!» Уж больно беспомощно прозвучали эти слова, не так надо… Она вдруг озлилась на себя: «Тоже мне, старшая! Знал бы Василий Терентьевич, кому доверял! Кто тебя слушать будет?»
— Вот тебе таблетка, вот кружка с водой. Сейчас же проглоти таблетку! — повысила Нина голос.
Валя удивленно посмотрела на подругу и послушно взяла кружку…
В углу под двумя одеялами завозился Петя. Выбрался из-под них, пригладил ладонями светлые, шелковистые, как перестойная мятлица, волосы.
— Утро уже?
— Утро, утро! — недовольно ответила Нина, неумело разламывая коряжистое недоколотое полено.
— Ух, кривые руки! — возмутился Петя. — Кто так ломает? Дай-ка сюда!
Петя всегда поучал ребят — терпеть не мог, если видел, что какое-то дело делается не так. А уж если брался за что, обязательно находил работе продолжение. Вот и сейчас, разломив полено, увидел, что и в печке не так горит, — поправил огонь; и дров Нина наложила не тех — пошел на улицу, набрал других; и еще нашел бы заделье, да вдруг спохватился:
— А где Василий Терентьевич?
— Ушел искать геологов, — ответила Нина и спохватилась сама: — А тебе кто разрешил вставать? Ты же болеешь?
— К каким геологам? — не слушая, спросил Петя.
— К каким, к каким! Откуда я знаю? На Пелю какую-то ушел. Из-за вас же. Ты заболел. Валя… Ложись давай!
— Не болею я, — растерянно протянул Петя. — Вот только тут малость высыпало, — он потрогал губу.
Нина, как и полагается старшей, придирчиво осмотрела обветренное Петино лицо и нашла, что болячка на губе — это еще не болезнь.
— Ладно, — согласилась, — не болеешь. Давай буди ребят, а я схожу к телятам.
Телогрейка показалась Нине лишней, и она побежала к сараю в свитере. Вытянулась на носках, заглянула в щелку ворот. Телята лежали. Совсем близко от ворот расположилась Белка.
— Бе-елочка, иди ко мне, — ласково поманила Нина.
— Му-у, — протяжно и сонно откликнулась Белка.
— Иди сюда, милая, — звала Нина.
Белка неуклюже встала, покачиваясь и выгибая спину, поковыляла меж телятами к воротам.
— Подожди здесь, я тебе рябинки наломаю.
Нина подошла к куче облущенных веток, но листьев на них было мало, и она побежала в дальний угол загона. Наклонилась к ветке и… перехватило дыхание: на желтом снегу отчетливо отпечатался продолговатый когтистый след.
«Медведь!» — опалила догадка. Нина чуть не вскрикнула. Но, как и в первый раз, на вырубе, справилась с собой, медленно обвела взглядом прилегающий к загону ельник. Пересиливая волнение, все же взяла ветку, поднесла к воротам, сунула в щель.
— Ешь, Белка, ничего не бойся, я сейчас тебе пойла принесу!
Взобралась на прясла, с высоты еще раз осмотрела ельник и припустила к домику. Поплотней прихлопнула за собой дверь, поискала глазами топор и только после этого объявила Пете:
— Медведь приходил к телушкам!
Они долго трясли ребят, но никто не вставал. Устали от вчерашней работы, не могли головы поднять. Витя Пенкин отбивался:
— Чо пристала, рано еще!
— Уй ты, рано! Я уж печку истопила, а ты — рано! Вставай давай, Василь Терентьича нет!
Витя сразу же сбросил одеяло.
— Опять один угнал телят?
— Ничего не угнал, мы сегодня без него пасти будем. Он еще ночью ушел. К геологам, — тараторила Нина. — По радио сообщит, что здесь снег выпал. Меня за старшую оставил… А к телушкам приходил медведь! Я там была, видела.
— Медведя?!
— Да нет, следы видела. Во-от такие! — и Нина показала на лежащий на полу Петин бродень…
Это сообщение быстро подняло всех. Ребята в минуту разобрали в углу сапоги и — к сараю. Только двое остались дома — Наташа и Валя. Наташа должна была прибрать избушку, сварить обед, а заодно присмотреть за Валей.
К сараю подходили с большой осторожностью. Кто знает, где сейчас зверь?
Храбрился, пожалуй, один Миша Калач. Он все порывался забежать вперед к стать рядом с Витей Пенкиным — как же без него! — но Нина всякий раз хватала Мишу за рукав:
— Куда лезешь?! Жить надоело?
Почуяв приближение людей, телята призывно замычали.
— Нету его здесь, — прошептал Витя. — Если телята не орут, значит, нету. Где след?
Нина кивнула на провисшие прясла.
Вот они, зловещие вдавыши от лап, четкие, как на глине, страшно похожие на человечьи, будто по снегу бродил босой великан с давно не стриженными ногтями…
7
— SOS! SOS! SOS! — бойко, с металлическим щелком отстукивает ключ морзянки сигнал бедствия. В палатке над столом с передатчиком склонился радист. Он то и дело нетерпеливо поправляет наушники. Аппарат загадочно подмигивает разноцветными огоньками, шипит, пиликает, присвистывает.
За спиной радиста — небритый худой человек. Одежда на нем мокрая, изорванная. От усталости человек едва стоит, запавшие глаза тревожно поблескивают. Человек торопит радиста, и тот снова и снова посылает в эфир позывные:
«Всем! Всем! Всем! На Кваркуше больные дети. Гибнет колхозный скот. Немедленно высылайте медикаменты, комбикорма, хлеб. Перехожу на прием…»
Глазок-индикатор вспыхнул пучком красных лучиков, и аппарат тихо заныл. Радист снял наушники, посидел молча, машинально барабаня по столу сухими суставами пальцев, порывисто повернулся:
— Буря! Понимаете, магнитная буря! Ну чего вы на меня так смотрите?!
— А у меня — дети! — как глухому, прямо в лицо радисту крикнул Василий Терентьевич. — Плевал я на вашу бурю! Давайте стучите, да поживей, стучите до тех пор, пока не свяжетесь с Пермью, Красновишерском, Соликамском — с кем угодно, лишь бы приняли сигналы!
Радист болезненно сморщился, отчаянно замотал всклокоченной рыжей головой и попытался встать. Василий Терентьевич властно усадил его на место.
— Пока не передадите радиограмму, никуда отсюда не уйдете. И я от вас не отойду. Продолжайте!
— Да вы что, приказываете?! — радист удивленно и испуганно уставился на учителя немигающими глазами. — Кто вы для меня такой?
— Прошу… — неожиданно тихо сказал Василий Терентьевич и, враз ощутив неодолимую слабость в ногах, опустился на стоящий возле стола ящик с батареями от аппаратуры.
— Вот так штука-а… — растерянно протянул радист, но возражать больше не решился, надел наушники.
«Всем! Всем! Всем!» — потерянным криком застучал ключ в его согнутых, побелевших от напряжения пальцах.
8
За одну ночь заметно поубавилось снегу, местами он совсем стаял, и там уже поднимали от земли помятые головки живучие подснежники. Весна на альпийские луга приходит на месяц позже, поэтому июнь здесь — тот же май: самая пора цветения. И подснежники здесь маленькие, с запахом мяты, с шестью белыми лепестками, да такие крепкущие, что, если захочешь сорвать, скорее выдерешь с корнем, чем сломишь стебелек.
И кругом вода. Она хлюпает под сапогами, сочится струйками из-под снега, копится перламутровыми лужицами в ложбинках. Ребята к этому уже привыкли, а сегодня почему-то даже весело было оттого, что везде вода. «Снежки» катаются — куда с добром! Ребята и катают снег, и сгребают его ногами, и разбрасывают палками.
— Надо рыхлить, рыхлить его, он сам стает! — советует Гриша-младший.
Ребята дружно работают, но нет-нет да и посмотрят в сторону ельника, на виднеющийся за ним сарай: про медведя не забывают.
Когда очистили от снега порядочную площадь — выпустили телят. Они уже знают, куда идти. Едва открыли ворота загона — устремились на луг, на расчищенное место.
Завтракать ходили поочередно. Это был и обед. Наташа сварила комбинированную кашу: перловую крупу смешала с остатками гречи. Каша получилась на славу! На второе подали неизменный чай, заваренный корешками шиповника, вкусный, душистый такой…
Днем вовсе растеплело. С горок потекли ручьи, зашумел, забурлил, эхом отдаваясь по долине, вышедший из берегов Цепёл. Еще вчера белые, угрюмые, казавшиеся пустынными альпийские луга наполнились звучными перекликами птиц, теплыми, как редкие вздохи, дуновениями ветра, шуршанием тающего снега. И все как бы заново праздновало весну — шумело, суетилось, ликовало.
Нина сбросила взмокшую телогрейку, истомленно выпрямилась. Работала все в наклон, в наклон, и приятно было постоять с минуту, дать отдохнуть натруженной пояснице.
Невдалеке над проталинами, над синим снегом запорхало что-то яркое.
— Бабочка летает! — радостно закричала Нина.
Ребята оставили работу и смотрели на бабочку как на диво. Большая, с темно-пурпурными, обрамленными желтой каймой крыльями, она была дорогим вестником, напоминавшим, что сейчас все-таки не зима и снег через день-другой стает.
И они проводили взорами бабочку, пока было видно в струйчатой голубизне трепыхание ее цветных крыльев, и, ободренные, еще с большим старанием налегли на снежки.
Под вечер заперли телят в сарай, зашли в дом. Хорошо работали, не ленились, но сделали только полдела. Надо еще рубить рябину. Вот малость передохнут, выпьют «для сугрева» чайку — и на Цепёл.
Столкали одеяла к стенкам, рядком расселись по нарам, на две лавки, каждый держит кружку. Скоро вскипит новый чай, из листьев черной смородины. Наташа умело разнообразит заварку; чередуя натуральный чай с корешками шиповника, шиповник — с молодыми листьями смородины, смородину — со стебельками лабазника. Правда, лабазник любят не все — кипяток от него зеленоватый, а вкусом лабазник, если еще не положен сахар, напоминает слабый огуречный рассол.
Гриша-старший понюхал над ведром огуречный аромат, скривил губы.
— Сама пей эту зелень, я тебе не теленок… — И, взяв со стола самый большой сухарь, стал жевать всухомятку, пасмурно глядя в угол.
Гриша-старший и раньше говорил ребятам обидные слова, но их как-то не принимали всерьез. Вечно он такой бука, всегда недоволен. И в работе неумеха. Взять хотя бы снежки. Много ли ума надо — сбить из сырого снега комок да катить его, пока сил хватает. Так у Гриши и это не получается. Лепит, лепит, мается, мается, а потом упадет на комок, раздавит. И начинает ныть, искать виноватого. Кого-нибудь да обвинит: не ребят, так телят, не телят, так погоду. И с виду он какой-то нескладный: сутуловатый, с толстыми покатыми плечами и короткой неповоротливой шеей. С хрустом откусывает от сухаря, медленно двигает широкими скулами, и от этого приподнимаются и опускаются Гришины оттопыренные уши.
Наташа будто не слышит упрека, как ни в чем не бывало говорит:
— И настоящий чай есть. — Обжигая пальцы, выдвигает из-за ведра котелок. — Пей на здоровье!
Возле печурки жарко. Раскрасневшаяся Наташа прямо теряется, не зная, что делать в первую очередь — то ли подбросить дров, чтоб скорее закипел чай, то ли отложить все и привести в порядок так не ко времени распушившиеся волосы. Выбрав последнее, устраивается на свободном уголке скамейки и начинает взбивать редкой зубатой расческой свои обожаемые кудряшки.
— Ну и воображуля ты, Натка! — не выдерживает Витя Пенкин. — Тебе бы в артистки, а не телят пасти!
— Не всем же в артистки, — невозмутимо отвечает Наташа, не забыв при этом стрельнуть глазами в сторону Пети, который не может сидеть без дела и оттачивает на бруске большой, давно хранящийся в избушке нож. — Не всем в артистки, — повторила она.
Но Витины слова все же задевают Наташу, она кладет расческу в кармашек. Потом говорит совсем как взрослая, совсем как их учительница по географии:
— Знаешь, Пенкин, телят должны пасти тоже культурные люди… И все профессии должны быть красивыми. Я вот очень хочу, чтоб про пастухов рассказывали так же, как про геологов и летчиков. И чтобы они были не просто пастухи, а какие-нибудь инженеры, не пасли бы, а только командовали, управляли… Ну, всякими там телевизорами, приемниками… В общем, чтобы не бегали с вицами за скотом, а летали бы на вертолете или ездили на какой машине… Ты не смейся, это обязательно будет!
— Ну, размечталась! Давай снимай чай, — примирительно говорит Витя. — Никто не спорит: будут и вертолеты, и вездеходы, и пастухи-инженеры! Наливай чай, да рябину рубить пойдем. Слышь, голосят?
Пьют ребята чуть прислащенный чаек, мечтают о будущих временах.
— Ну, сила будет! — восхищенно причмокивает Гриша-младший. — Вот так посиживай в избушке, смотри знай на экран да нажимай кнопки — правые, левые, куда телят гнать надо. А вечер настал, нажал какую-нибудь зеленую кнопочку — они все в сарай…
Пока Гриша рассуждал, сухари на столе убывали, убывали — и вот остались одни крошки.
Наташа набрала со дна мешка еще один котелок мелких обтертых сухарей, пошла вдоль нар, каждому подавая по горсточке.
— А сахару не просите, в чай высыпано три кружки. И вообще его мало осталось…
Нина сказала:
— Сейчас разделимся на две группы — одна пойдет за рябиной, другая будет убирать в сарае. А то там уже ступить негде. Гриша-старший и Петя…
— Хватит с меня! — мрачно перебил Гриша-старший. — Не пойду никуда!
Хоть и негромко сказал эти слова Гриша, а они больно резанули слух. Нина долго удивленно смотрела на него и не могла понять, пошутил он или говорит серьезно.
— Это как — не пойдешь?
— Очень просто: возьму и не пойду.
— Не пойдешь? — повторила Нина.
— Не пойду!
— Ты… ты… — Нина захлебнулась, растерянно посмотрела на ребят, как бы ища поддержки, и вдруг закрыла лицо ладонями.
Ребята подавленно примолкли. Сразу что-то перевернулось, изменилось, будто кто одним безжалостным взмахом черной кисти перечеркнул и загородил от глаз и теплый день, и добрые надежды, и хорошее настроение… Витя Пенкин взял топор и быстро, ни на кого не глядя, вышел. Так же быстро, на ходу одеваясь, пошли из избы Миша Калач, Петя, Гриша-младший — все ребята.
Они уже были за ельником и ложбиной спускались к Цепёлу, когда Гриша-младший остановился. Как-то странно, скривив шею, глянул на ребят одним, блестевшим от слез глазом — другой закрывал полуоторванный, свисший набок козырек большой, не по голове шапки, — пожевал губу, придумывая, что сказать, и, ничего не сказав, побежал обратно, плача, роняя на ходу:
— Стойте! Я сейчас! Я ему дам…
Гриша бежал изо всех сил, полы его длинного ватника оплетали, захлестывали ноги, Гриша спотыкался, падал. От слез все плясало перед глазами, комок, подступивший к горлу, спирал дыхание. Подбежав к домику, Гриша никак не мог найти скобу, а когда наконец нашел, обеими руками хватил на себя дверь и крикнул с порога с презрением и обидой:
— Хлызда ты! Изменник!
9
…За брезентовой стенкой послышались шаги, резко, с хлопком распахнулся полог, и в палатку радиостанции ввалился, задевая шапкой провисший тент, здоровенный чернобородый мужчина. На нем были закатанные болотные сапоги, расстегнутый плащ, плечи по-военному крест-накрест облегали ремни, на которых висели с одного боку полевая сумка, с другого — потертая кобура с торчащей из нее деревянной рукоятью револьвера.
— Здравствуйте! — громким басом поздоровался бородач и с любопытством оглядел учителя. — Гости у нас, оказывается?
Василий Терентьевич мельком глянул на дюжего пришельца, кивнул на приветствие и снова замер, вслушиваясь в гудки аппарата.
— Извольте знакомиться, — дружелюбно пробасил чернобородый, — начальник здешней геологической партии Семен Новосельцев. А вы кто? Извините, но это я должен знать по долгу службы.
Василий Терентьевич словно проснулся, вскинул голову:
— Вот мне вас и надо!
Пока Василий Терентьевич торопливо объяснял, кто он, откуда и зачем пожаловал, начальник не спускал с него глаз, с нескрываемым интересом разглядывая и разбитые сапоги, и порванные на коленках брюки, и туго перехваченную ремнем телогрейку с пустым, заправленным под него рукавом.
— Ясно. То-то я смотрю, чьи-то следы по берегу к нашему лагерю…
Увлеченный работой, радист только сейчас услышал голос начальника, сбросил наушники, встал. И тут Василий Терентьевич разглядел его как следует: высокий, узкоплечий, с редкой, не знающей бритвы бороденкой, длинной кадыкастой шеей. Совсем парнишка, наверно, только-только окончил школу, выучился в ДОСААФе на радиста — и сюда, за романтикой.
— Вот, Семен Николаевич, — запальчиво заговорил радист, — пришел да еще и порядки свои наводит. Что я сделаю, раз буря…
Семен Николаевич поднял обе руки, дескать, все в норме, не волнуйся, и уже без иронии, звучавшей в первых словах, обратился к Василию Терентьевичу:
— Давайте-ка ко мне в палатку. Там и потолкуем. А ты, Малышок, продолжай. Через бурю…
Палатка начальника партии стояла в лощине, метрах в ста пятидесяти от радиостанции, в ряд с другими палатками, в которых жили рабочие и геологи. Валко ступая впереди, шурша полами плаща, Семен Николаевич охотно рассказывал:
— Молодые у нас ребята. Взять хотя бы этого же Малышка. На первой еще работе. Окончил десять классов, учился на радиста. Получил специальность и с месяц обивал пороги нашего управления, просился в «самую трудную» партию. Не брали: молод. А настойчивый, чертяка! Добился все-таки, взяли. И, знаете, не ошиблись. На такого смело можно положиться…
Вошли в крайнюю палатку, для тепла подбитую изнутри розовой байкой, с железной разборной печкой посредине. Начальник отстегнул ремни, снял и положил на стол сумку и револьвер. Потянул с плеч мокрый плащ.
Василий Терентьевич присел на топчан, ждал, когда Новосельцев разденется. Не внушал он ему что-то доверия, этот словоохотливый парень, хотя и борода у него, как у деда, и начальник он, и револьвер носит. Больно уж молод, лет, поди, двадцать пять, не больше. Поймет ли такой положение, поможет ли чем?
— И у нас ЧП, — сообщил Семен Николаевич. — Поднялась Пеля — да что там говорить, сами видели! — затопила в низовьях рабочие участки, выжила с берега людей. Ниже по реке работают наши группы. Я только-только от них. Всю ночь авралили.
— Есть у вас врач? — спросил Василий Терентьевич.
— Нет, к сожалению. Народ у нас в общем-то закаленный, пока обходимся.
— Тогда чем вы нам сможете помочь?
Семен Николаевич сел рядом с учителем, тяжелый, широкий, в толстом влажном свитере, закинул ногу на ногу, обхватил колени сплетенными пальцами.
— Думать давайте. Пожалуй, сейчас только мы и сможем помочь. Если Малышок и свяжется с Большой землей, вертолет не прилетит, пока не будет погоды. А этой так называемой летной погоды может не быть еще две недели… Здесь — горы.
От последних слов Василия Терентьевича аж передернуло, он в упор взглянул на геолога.
— Это я перестраховываюсь, — заметил тот. — Надо быть готовым ко всему. В какой помощи вы нуждаетесь?
— В первую очередь надо врача. Потом — обувь, рабочих. Да и продукты на исходе.
— А для чего рабочие?
— Катать снежные комья.
Семен Николаевич удивленно поднял брови.
— Так мы освобождаем из-под снега траву и кормим телят.
— Вот оно что… Подсобим. А с продуктами так постановим. Для начала дадим вам два мешка сухарей и столько же овса — для скота. Выпросим у завхоза муки, консервов. Есть несколько пар запасных резиновых сапог. Тоже с завхозом надо потолковать.
— Спасибо, — поблагодарил учитель. — Только надо все-таки как можно скорее сообщить в область… или с кем вы там связь держите. Простудились, измучились ребята. Девочка у нас одна больна, другие могут заболеть.
— Постараемся…
Семен Николаевич наклонился, вытащил из-под топчана за лямку чехла термос.
— Вид у вас неважнецкий, — откровенно сказал Василию Терентьевичу. — Давно не спали?
— Это не беда.
— Выпейте, кофе со сгущенным молоком.
Василий Терентьевич разом выпил стакан горячего кофе, попросил еще. Так же опрокинул второй стакан. Приятное тепло потекло по всему телу, кровь, пульсируя в жилах, опускалась куда-то вниз, в ноги, веки тяжелели. «По всем правилам парень», — почему-то вспомнились слова начальника партии о радисте. Эти слова повторялись в уставшем сознании снова и снова, путали, сбивали ход мыслей, заставляли перебирать в памяти все сначала.
— Вы бы прилегли на часок. Вот спальный мешок, тулуп, — как сквозь подушку, услышал Василий Терентьевич голос геолога, и этот басовитый сочувственный голос показался сейчас учителю близким, давно знакомым. «По всем правилам парень, — думал он уже не о радисте, а о Новосельцеве. — Зря я о нем… На такого смело можно положиться… Как там они? Валя как?..»
— Спасибо! — сказал Василий Терентьевич и, очнувшись, потряс отяжелевшей головой. — Я, кажется, задремал. Извините.
— Вы бы прилегли на часок, — повторил Семен Николаевич.
— Нет, не могу.
В палатку влетел сияющий Малышок.
— Радиограмма! — и протянул бегло исписанный листок учителю.
«SOS принят. В первый летний день высылаем вертолет. Уточните координаты».
Василий Терентьевич несколько раз пробежал глазами по размашистым строчкам, глянул на оборотную сторону листка.
— Добре, парень! — улыбнулся и похлопал Малышка по плечу, уважительно добавил: — Ты уж на меня не серчай, если я давеча того… погорячился. Мало ли у нас, у мужчин, бывает!.. Передал координаты?
— Так точно, вашу поляну передал! — бойко ответил радист, поощренный таким обращением. — Это квадрат 230.
Василий Терентьевич повернулся к Новосельцеву.
— Теперь я пойду. Когда ждать помощников?
— Завтра. А вы все-таки отдохните, — в третий раз предложил Семен Николаевич. — Супу горячего похлебаем. Не близко ведь до ваших полян, двадцать с лишним километров!
— Нет, — твердо сказал учитель. — Ждем вас.
И, простившись, вышел из палатки.
10
Гриша долго ворочался с боку на бок, исподтишка наблюдая за Валей — в доме, кроме него, осталась только она, — потом сделал вид, что уснул. Вале стало полегче, она еще при ребятах поднялась с постели, поела и сейчас брякала у стола котелками. Это Гришу успокаивало. Но вот девочка вымыла посуду, составила ее вдоль стены под скамейкой, оделась и вышла.
Интересно, куда она? Гриша спрыгнул на пол, просеменил к окну. Валя шла к сараю. «К Белке своей направилась», — с неприязнью подумал Гриша и опять лег.
С полчаса лежал и все прислушивался. Валя не возвращалась. Что-то под боком мешало — расправил складки на одеяле. Потом заметил, как с потолка на блестящей паутинке опускается маленький паучок. «Мизгири откуда-то взялись, еще в ухо заползут… — отвлеченно думал Гриша. — А все же куда и зачем она пошла? Ведь ее никто не посылал!»
Грише все казалось, что в избушке он не один, что за ним наблюдают. Снова встал и осторожно прошел к окну. Нет, никого не видать возле дома, да и Валя исчезла. Неужто таскает рябину?
Подбежал к двери, послушал, не притаился ли кто снаружи, высунул голову. За шиворот капнуло, Гриша вздрогнул. И вдруг донеслось: «Тах, тах, тах!» Наверняка Витька рубит! Ишь, размахался! Все бы только показывал себя. И Нинка вся изважничалась: «Иди туда, иди сюда!» Подумаешь, командир какой!
Гриша с силой захлопнул дверь, бросился на нары.
Прошло немного времени, и от сарая послышались голоса, мычание. Это ребята принесли рябину. Хоть как закрывай голову, а все равно слышно, что делается на улице. Невмоготу лежать одному: тоскливо, обидно. Нет, лучше туда пойти!
Когда Гриша шел к сараю, думал: вот сейчас ребята встретят усмешками, а тезка — тот непременно съязвит: что, мол, хлызда, пришел? Поэтому Гриша-старший приготовился к обороне, припас, что ответить.
Но встретили куда хуже. Никто не поднял головы, никто не обратил на него внимания. Пыхтя, прошел рядом с ворохом веток Гриша-младший, зыркнул из-под козырька шапки злым глазом, отвернулся. «Изменник!» — кольнуло презрительное слово, и так противно стало на душе, что Гриша-старший готов был закричать во все горло: «Никакой я не изменник, я просто устал, просто все надоело!» Но он не крикнул, не хватило смелости. Ведь слова его означали бы признание вины перед ребятами, а в чем он, собственно, виноват? Ну, не пошел — и все. Разве он сам себе не хозяин? Можно ведь сказать: хочу или не хочу! Сами все уши пропели на собраниях о самостоятельности, принципиальности. Вот он и сказал принципиально: не пойду! А тут еще всякие обзываются…
«Буду стоять, — решил Гриша. — Сами поклонятся!»
Но ребята не поклонились. Снова ушли на Цепёл и снова принесли рябину. Чего они хотят? Пришел ведь, стоит, ждет, а они будто ослепли!
— Давай помогу, — не вытерпел Гриша и подхватил ветки у Миши Калача.
— Не трош-шь! — прошипел Миша и решительно оттолкнул его локтем.
Ну, это уж слишком! Не помня себя, Гриша рванул ветки из рук Миши, да так сильно, что тот растянулся на земле.
Ребята в один миг тесно обступили Гришу. Сейчас они все смотрели на него. Но как смотрели! Насупленные брови, прищуренные взгляды не предвещали ничего хорошего. Гриша испуганно заозирался. Нет, он не боялся возможной потасовки — это было бы легче, — испугался той отчужденности, того презрения, какое било из глаз каждого. Почувствовал вдруг свою отторгнутость от ребят, одиночество.
Что-то защекотало в носу, зажгло веки. И если еще минутой раньше он мог удержаться от томившего его объяснения, то теперь уже с плачем кричал:
— Не предатель я! Я буду работать! Работать, слышите?
Нина подошла к Грише вплотную.
— Не предатель, говоришь? А кто остался дома?
— Но я же пришел! Вот видите, стою! Я с вами буду, все время с вами!
Нина посмотрела на ребят, как бы опрашивая: что же будем делать? А они все потупились. Неловко, в молчании переминались с ноги на ногу: вроде бы уж сами виноваты, что так все получилось…
Разрядку внес Витя Пенкин:
— Правда, пойдемте работать, — сказал просто и спокойно, как будто и на самом деле ничего особенного не произошло.
И опять все зашумели, пуще прежнего заторопились, словно наверстывая вынужденную остановку. И вообще как-то легче стало, вроде бы у каждого с плеч свалился тяжелый камень. Послышались оживленные возгласы, шутки. Нина, растаскивавшая по загону ветки, как ни в чем не бывало крикнула Грише-старшему:
— Ну-ка убери с дороги вон ту жердь да живей к ребятам!
Гриша с непривычным для него проворством отволок жердь дальше, чем следовало, мимоходом помог кому-то разогнать сгрудившихся возле одной кучи веток телят, легко перемахнул прясла, побежал к Цепёлу.
И здесь никто ни в чем его не упрекнул. И Гриша-младший промолчал. Лишь спустя немного, когда они вместе принесли в загон по охапке рябины и остались, бросая ветки в кучу, с глазу на глаз, Гриша-младший поддернул длинные рукава, со значением швыркнул носом и картаво предложил:
— Мир, что ли? Держи петушка… — и протянул свою мокрую ладонь.
Вечером Василий Терентьевич не вернулся. В избушке никто не спал. Отдельно для Василия Терентьевича Наташа сварила в котелке кашу и положила в нее три ложки масла. И чай вскипел, его не было.
— Может, ночевать остался у геологов? — неуверенно сказал Миша Калач, присаживаясь рядом с Витей.
— Не останется он, — возразила Нина. — Хоть как, а все равно пойдет, потому что беспокоится за нас. И за телушек.
Вяло переговариваясь, ребята занимаются всяк своим делом. Нина чинит фуфайку, Наташа как бы между прочим старательно накручивает на пальцы колечки волос. Петя, сидя на полу, мастерит рогатину. На медведя. Он видел раз такую заржавевшую штуковину на чердаке дома деда Силантия…
Сначала Петя выстругал крепкое березовое древко, а теперь ремешками и веревочками от рюкзаков привязывает на его конец остро отточенный нож — тот самый, который заметила днем в руках у него Наташа.
Она обратила внимание на Петину работу, подсела к нему.
— Интересно, что же ты собираешься делать с этим оружием?
Насмешливые искорки поблескивают в Наташиных глазах, и всем ясно: Наташа опять начнет сейчас допекать не умеющего отвечать на шутки Петю.
А Петя вдруг нашелся и осадил Наташу:
— Что делать? А вот что: спрячемся с тобой в сарае и будем ждать медведя. Ты — поближе к воротам, а я там, где плохие доски. Поняла?
— Да ты что! — испуганно замахала руками Наташа. — Я как увижу его — сразу умру!
Все засмеялись, а Наташа, кажется, первый раз смутилась. Перепорхнула на свое место, взяла чью-то шапку, положила, поправила воротничок кофты и опять взяла шапку.
— Уже собираешься? — не отступал Петя.
Наташа совсем смутилась, отвернулась к окну.
Тянут время ребята, поджидают Василия Терентьевича. Хоть и редко вспоминают об учителе вслух, а каждый думает: где он? Задумчивые все какие-то стали, рассеянные. Невпопад отвечают на вопросы, чуть чего — вскидывают головы, прислушиваются. Нина старается отвлечь ребят, но и разговор сегодня не клеится.
Валя вымыла посуду, составила порядочком под скамейкой и легла. Ей опять стало хуже. Вот ведь какая, хоть бы раз призналась, что болеет! И не хнычет, и не жалуется. А что болеет, это все видят.
Нина воткнула иголку с ниткой в рукав телогрейки, отложила работу. Высыпала из бумажного кулька остатки сушеной малины в кружку, залила кипятком.
— Вот запарится, и выпей. И больше не вставать! — сказала Вале.
Надо бы дать ей какого-нибудь лекарства, а какого! Аспирин кончился, в сумке остались таблетки с незнакомыми названиями.
— Самое главное — не вставай, — Нина укрыла Валю вторым одеялом. — Вот хорошо прогреешься — и все как рукой снимет…
Нина снова взялась за телогрейку, зашила разорванный рукав, оделась и вышла.
Небо совсем очистилось от туч и сделалось какое-то зеленое, непривычное. Нина еще не видела над Кваркушем чистого неба. Одна за другой, будто лампочки на сумеречной улице, вспыхивали звезды. И тоже непривычные — низкие, яркие, с фиолетовыми лучами. В такую ночь жизнь не затихает. Где-то в лесной стороне воркуют горлицы, в густом оттаявшем тальнике тонко пересвистываются корольки, над сырым лугом стремительно падают бекасы, звучно вибрируя жесткими перышками хвоста.
Тихий звон перекатывается по логам и взгорьям от звуков, рождающихся в теплой, светлой ночи.
Но что там? Вдруг заревели и, вскакивая, затопали в сарае телята. Глухой, утробный рев… Совсем не так орут, когда голодные. Кто-то их потревожил.
Нина пулей влетела в избушку.
— Медведь пришел!
Ребята оторопело заморгали.
— Чего смотрите, к сараю бежать надо!
— Ага, надо… — растерянно согласился Гриша-младший. Он уже засыпал и, разбуженный криком, спросонья подумал, что Нина обращается к нему одному. Гриша покрутил взлохмаченной головой, остановил взгляд на гвозде, торчащем из стены, досадливо протянул:
— Эх, кабы ружье…
— Кабы, кабы! — передразнил Миша Калач. — С палками айда!
И тут все опомнились, всполошились, похватали чьи попало одежки, шапки.
В избушке остались Наташа и Валя. Когда стихли голоса, Наташа торопливо взяла лежавший у печки толстый кривой сук, сунула в дверную скобу и села к Вале, подобрав ноги, зажав меж колен похолодевшие руки.
— Вот… Не залезет…
Нина шла впереди. Чуть сзади — Витя с топором наготове, Петя с рогатиной. Следом тесным, нестройным отрядом двигались остальные — с палками, как с пиками наперевес.
Нине казалось: медведь уже давно там, за изгородью, и жестоко расправляется с телятами. Она никогда не видела взаправдашнего медведя, у нее мертвело все внутри только от ожидания встречи с ним. Но она шла и не подавала виду, что боится, старалась, как это уже не раз ей удавалось, побороть страх. Ведь за ней шли, на нее смотрели ребята. Поверни она — и повернут они. А так поступают одни трусы. Она здесь за старшую, она за все и отвечает…
Остановились возле загона. Телята по-прежнему на все голоса дико ревели, метались. Витя Пенкин сделал несколько шагов вдоль изгороди, заглянул за просевший противоположный угол сарая. Подал знак Пете, чтобы тот с группой ребят обходил загон с тыла. Петя расставил ребят, как на облаве, наказал смотреть в оба и в случае чего колотить палками по пряслам. Сам прошел к дневному медвежьему следу, к лазейке в изгороди. Здесь присел за смородиновый куст, подняв над головой, как копье, тяжелую рогатину…
Скрипнула жердь — кто-то из Витиной группы перелезал изгородь. Еще раз скрипнула. И вдруг… — это Петя уже видел как в кошмарном, неправдоподобном сне! — вдруг что-то ухнуло под низким навесом, от сарая стремительно отделилась темная туша и, как танк, все сокрушая на своем пути, ринулась в его сторону! Раскатисто сгрохала опрокинутая изгородь, пулеметной очередью рассыпались предупредительные удары палок, больно цапнул по сердцу чей-то пронзительный крик.
Зверь, подобно летучему смерчу, возник перед самым кустом! Петя успел увидеть широколобую башку с прижатыми ушами, раскрытую горячую пасть, исторгающую тяжкий парной храп, дремуче блеснувшие глаза. Беда казалась неотвратимой, и раздумывать было некогда. Сильно выметнувшись вперед, Петя ударил рогатиной…
Вот тебе и неповоротливый зверь! И кто только придумал, что, нападая, медведи встают на задние лапы?
Но об этом Петя размышлял позднее. Когда все прошло, когда все успокоились. А теперь… Теперь он лежал и старался вспомнить, что произошло. Почему он лежит, почему его окружили ребята? Тихо тукало в висках, онемело правое плечо. Петя пошевелил рукой, нащупал гладко обтесанную палку. Такое знакомое что-то… Поднял — обломок рогатины! И все вспомнил.
— Где медведь?
— Удрал.
Нина и Витя помогли Пете встать. Еще раз осмотрели всего, потрогали руки, ноги.
— Где болит?
— Плечо вот… как не мое. — И увидели на рукаве кровь. — А больше… больше не знаю…
Перехватив растерянный Петин взгляд, Витя объяснил:
— Это не твоя кровь, не бойся. Медвежья… А за то, что плечо болит, скажи спасибо Грише-старшему.
…Гриша стоял у прясел немного левее куста, за которым укрылся Петя. Только отоптал под собой снег — глядь, прямо во весь дух мчится медведь! Гриша — в сторону. Поздно! Удар в бок сбил его, и Гриша закричал…
Но медведь и не думал нападать. Насмерть перепуганный окружившими людьми, летел напролом, свалил пролет изгороди, а с ним и Гришу… Выбравшись из-под завала, Гриша увидел, что зверь вот-вот накроет Петьку. Руки сами схватили увесистый обломок жерди. Может, это было безрассудно, но Гриша бросился к медведю и изо всех сил хлобыстнул по горбатой хребтине! Да только, видать, в горячке прихватил и Петю… Оглушительно рявкнув, зверь скрылся в еловой густерьме…
— Шибко я сперва испугался! — признался Гриша. — Думал — все, конец мне! А потом вижу — тебя задирает… И больше уж не боялся. Просто не помнил себя. Ты только не сердись, что я тебе по плечу угадал. Невзначай получилось…
— А здорово ему досталось! — заметил Петя.
— Кому? — насторожилась Нина.
— Медведю, конечно. Смотри, сколько кровищи! Он ведь напоролся на рогатину. А тут еще Гриша подоспел. Сейчас, наверно, опомниться не может… Больше не сунется!
Возбужденно обсуждая происшествие, ребята шумно возвращались к дому. Они не слышали, как хлопнула дверь и навстречу им выбежал Василий Терентьевич.
— Это что тут за демонстрация?! — неожиданно раздался на тропе его сердитый голос.
Ребята растерялись. С ружьем в руке, учитель выступил из-за кустов, быстро шагнул к ним.
— Все целы?
Нина хотела сказать: «Да, все нормально», но голос перехватило, и она молчала. А когда справилась с волнением, сказала совсем не то:
— Страшно было, Василь Терентьич…
11
На другой день было воскресенье. Ребята давно перепутали все дни, числа и узнали об этом утром от Василия Терентьевича. Учитель сказал, что сегодня к ним придут геологи, привезут сухарей, сапоги, овса для лошадей.
Это всех обрадовало, и ребята готовились к встрече гостей, как к празднику. Прибрали помещение, поставили варить густую кашу, чисто, с мылом умылись. Наташа дольше обычного охорашивалась: два раза почистила зубы, причесывалась, снимала, растопырив пальчики, прилипшие к кофте травинки, украдкой заглядывала в осколочек зеркала.
Но радовались рано…
Василий Терентьевич принес обе половинки рогатины. Подсел к Пете.
— Твоя работа?
— Моя. Ножик-то был вон там воткнутый, я его наточил, привязал…
— На медведя, значит?
— Ага.
— Так, так… — Василий Терентьевич выразительно постукал ногтями по деревяшкам. — А ну-ка все сюда!
Когда ребята подошли, Василий Терентьевич оглядел их, еще раз постукал ло деревяшкам:
— Вот что я вам скажу: действовали вы смело, прямо мужественно, но я не признаю и впредь запрещаю такое геройство. Понятно? Это не геройство, это — авантюра! Вы хоть подумали, какой подвергались опасности? Особенно вот ты! — и ткнул пальцем в Петин лоб. — Да медведь, если бы вы серьезно его ранили, всем вам животы вспорол и сбросал в одну кучу! Понимаете это? Что ему рогатина, топор? Ведь в нем одного только весу десять пудов! Счастье ваше, что молодой, глупый зверь приходил…
Василий Терентьевич швырнул деревяшки к печке. Встал расстроенно:
— Хы, облаву затеяли! Это кто же придумал?
Ребята смотрели в пол.
— Что молчите? Мол, телят спасали? Верно, спасали. Но ведь зверя можно было просто отпугнуть. Криками, шумом. А вы подкрались, обложили, устроили засаду. С рогатиной… А я-то на вас надеялся…
Голос учителя обмяк, потеплел. Он опять оглядел всех и вдруг улыбнулся.
— Ну ладно, победителей не судят. Вообще-то, что ни говори, народ вы отважный. И вовремя хватились. Медведь-то маленько не забрался в сарай. Подрылся уж основательно, бревно одно успел выставить. Наделал бы беды…
Завтрак еще не был готов, и Василий Терентьевич с Гришей-младшим занялись ревизией оставшихся продуктов. Разбирали в углу порожние мешки, вытряхивали из них остатки круп в ведро, сухари ссыпали в один мешок. От сырости намок в рюкзаке сахар, и Василий Терентьевич кружкой перекладывал его еще в одно ведерко. Гриша увлеченно отдирал от затвердевших стенок рюкзаков сахарные корочки и не очень охотно тоже складывал в ведро.
— Мало взяли сахару-то? — интересовался Гриша.
— А что?
— Да та-ак. Кабы больше взяли, то можно было бы эти корочки не собирать…
Василий Терентьевич посмотрел на Гришу с явным участием, и Гриша догадался, что этот его взгляд означает, пожалуй, разрешение отправить одну сахарную корочку в рот, и незамедлительно сделал это. Проглотил, облизнул губы и в свою очередь вопросительно посмотрел на Василия Терентьевича: правильно ли понял?
Василий Терентьевич улыбнулся:
— Валяй еще!
Когда сухари, сахар, крупу разложили куда следует, учитель сказал Грише:
— Все брали в норме, дружок, да вот «белый шаман» подвел. Сам видишь, половину сухарей телятам скормили и задерживаемся не по времени.
Гриша понимающе покачал головой, а затем, над чем-то поразмыслив, спросил:
— А правда, что будут пастушьи вертолеты?
— Это какие ж такие вертолеты?
— Ну вот Натка говорит, что скоро у пастухов всякая техника появится. Чтоб пасти легче было.
— Вон ты о чем! — оживился Василий Терентьевич. — Будут пастушьи вертолеты! Теперь, дружок, во всяком деле человеку машины нужны.
— А телевизоры пастушьи будут?
— И телевизоры! Они-то тем более. Это ведь проще. Чтобы управлять вертолетом, нужно быть летчиком, а телевизор смотреть, наблюдать за стадом — ума много не надо.
Гриша призадумался. Потом решительно возразил:
— Да-а, не надо! Тогда телята должны быть умными, сигналы всякие понимать должны…
Занятый своими думами, он еще долго сидел на мешках, сравнивал, прикидывал: как же будет потом, когда на помощь пастухам придет техника?
Василий Терентьевич не разрешил вставать Вале. Ей уж попало от него за то, что она работала, а еще больше попало Нине — не надо было отпускать больную Валю на улицу. Но попробуй сейчас улежи! Когда Василий Терентьевич выходил из избушки или не обращал на Валю внимания, она приподнималась в постели, заглядывала в низкое окно.
Сегодня утром ребята все глаза проглядели в это окно. То один, то другой подходили к нему и, склонившись, припав к запотевшему стеклу, повторяли одно и то же:
— И утро хорошее, а не идут что-то. Проспали, наверно.
Может быть, поэтому никто не вспомнил о еде, и обычно желанная команда «завтракать» прозвучала маленько неожиданно. Но такая команда была подана, и все потянулись за посудой.
Сидели, где удобнее, и ели, из чего удобнее: из котелков, из чашек, кружек. Сидели за столом, на нарах и разостланных одеялах. Витя Пенкин и следующий за ним везде, словно тень, Миша Калач устроились на седлах и уплетали кашу прямо из ведра. Ели да нахваливали: и жирна-то, и ароматна, и густа!
Перед девочками на нарах стояла закоптелая эмалированная кастрюля. Эту емкую посудину припасла для Наташи ее мама. Она положила в рюкзак дочери еще и две ложки — обыкновенную, алюминиевую, и глубокую, похожую на половник, деревянную. Положила и наказала: «Из артельного котла не стесняйся, ешь…»
Много было смеху, когда Наташа рассказала про эту мамину «заботу». С первого дня путешествия фасонистая, разукрашенная петухами деревянная ложка служила незаменимым черпаком…
Неожиданно за дверью послышался лай собаки. Сидевший у порога Витя Пенкин распахнул дверь.
— Приехали! — возгласил он и выбежал, чуть не свалив ведро с кашей. Белая, как песец, собака с мокрым брюхом беспокойно топталась у дома. Оскалив зубы, она уркнула на ребят и помчалась своим следом через ельник к Цепёлу. Растревоженным роем сыпанули ребята за ней.
По лугу шли люди и вели на поводу трех навьюченных лошадей. Впереди, в плаще нараспашку, в высоких сапогах, шагал коренастый бородач. Собака уже вертелась у его ног.
— Вот тот, первый, наверно, главный, — определила Нина. — Василь Терентьич говорил, что у них он один с бородой.
Бородач махал издали рукой.
— Кто здесь старший? — спросил он, когда ребята подбежали.
— Василий Терентьевич… сейчас придет… — вдыхая всей грудью, ответила Нина. — А вы — геологи?
Нина, конечно, не сомневалась, что пришли геологи, и спросила скорей потому, что не придумала ничего сказать лучше при встрече. Помедлив и опять ничего не придумав, она повторила вопрос:
— Геологи, да?
— Они самые! — весело прогудел бородач. — Прибыли в ваше распоряжение!
Ребята с любопытством и восхищением рассматривали гостей. Только Гриша-младший не находил ничего особенного. Самые обыкновенные люди и одеты как все. А высокий рыжий парень просто разочаровал Гришу — парусиновая куртка мала ему, рукава до локтей, из-под них высовываются закатавшиеся обшлага рубахи… Ни биноклей, ни подзорных труб, даже молотков геологических с длинными ручками у них нет… Ну что за геологи!
Василий Терентьевич встретил гостей у сарая. Пожав каждому руку, кивнул на луга:
— Спускает снег-то! Зря, пожалуй, я оторвал вас от дела.
— Это неплохо, что снег спускает, — отозвался Семен Николаевич. — Ну, а раз пришли — принимайте. Далековато же до вас!
Возле дома геологи отвязали от седел вьюки, сняли и седла. Лошадей привязали к вкопанным в землю ножкам стола, рыжий парень дал им в брезентовых ведрах овса.
«Живут коняги! — не без зависти отметил Витя Пенкин, придирчиво оценивая сытых, поблескивающих шерстью лошадей. — Нашим бы овса-то. Буланке бы…»
Семен Николаевич снял плащ, бросил его на стол, расстегнул бушлат и грузно прошелся, поглядывая на ребят.
— Так вот вы какие, оказывается! — произнес задумчиво. Остановился около Пети, посмотрел на его бродни. Петя перед ним, здоровенным и сильным, казался совсем щупленьким. Просторный ватник с обгорелыми полами покато обвис на плечах…
Мальчик стеснительно потупил глаза и приступил одной ногой другую — прятал развалившийся правый бродень.
— Это как же ты в них ходишь по снегу? — с горьким удивлением спросил Семен Николаевич.
— А ничего, я их починю! — бодро ответил Петя.
— Подожди-ка, подожди, сейчас мы что-нибудь придумаем. — И Семен Николаевич заторопился, схватил со стола мешок, бросил, схватил другой, быстро прощупал его, развязал тесемки.
— Идем со мной! Идем, братец!
В избе геолог вытряхнул из мешка несколько пар новеньких резиновых сапог.
— А ну — выбирай по ноге!
— Да они у меня еще ничего, — заупрямился было Петя.
— То-то и оно, что ничего. Примеривай!
Петя поднял с пола сапог поменьше, деловито осмотрел его, понюхал. Пахнет лаком, что ли? Нашел пару. Закатал голенище, нагнетая воздух, — не шипит.
— Ну как? — подмигнул Семен Николаевич.
— Добрые, не промокают.
— Сначала поноси, потом скажешь.
— Воздух-то не проходит — значит, без дыр.
— Смотри-ка, знаток! — удивился Семен Николаевич.
Бородач под шутки ребят помог Пете стянуть словно присосавшиеся бродни, бросил в угол. — Портянки есть?
— Одни у меня, — сказал Петя и опять застеснялся, подгибая на ноге голые растертые пальцы. — Худые больно…
Семен Николаевич повернулся к рыжему парню с большими руками.
— Малышок, достань-ка из моего рюкзака носки.
Ребята переглянулись, и у Вити Пенкина скользнула по губам улыбка: «Ничего себе Малышок! Уж лучше бы Дядя Достань Воробушка»!
Семен Николаевич заметил веселое оживление на лицах ребят.
— Неподходящее, скажете, имя! Ну-ка, Малышок, растолкуй, почему мы так тебя зовем.
— А кто вас знает! — засмущался парень. — Придумали — вот и все…
— Подожди, подожди… — Семен Николаевич прижал руки к груди радиста, как бы успокаивая его, и ласково выпроводил за дверь. Потом заговорщически, плохо получающимся шепотом начал рассказывать:
— Тут история целая, братцы. В полевую партию его не брали. Говорят в управлении: малыш еще. Ну, несовершеннолетний. Вот хоть тресни — не берут! Даже удостоверение радиста не помогает. Тогда он разузнал, что мы отправляемся на Приполярный Урал, — и к нам. Чуть не со слезами просится, в грудь себя кулаками бьет, руки показывает, дескать, вот какие они у меня здоровенные, все могу делать! Так почему, спрашиваю, тебя все-таки не берут? Малыш, отвечает, я, семнадцати лет нету… Тут он всех и рассмешил, тут и прилепилось к нему это… В Малышка-то его уже здесь, в партии, переиначили. Вот так. А настоящее имя у него — Володя…
Малышок-Володя принес длинные, как гетры, шерстяные носки.
— Вот-вот, они самые! — обрадовался Семен Николаевич. — В этих теплее будет.
Петя не спеша обулся, прошелся по избе, притопнул пружинистым каблуком:
— Порядок!
Новые сапоги достались и Вите Пенкину. Правда, у него подюжили бы еще и свои, хоть и много раз клеенные, но совсем пали сапоги у Миши Калача. А так как Миша мог без труда всунуть в любой из сапог геологов сразу обе ноги, то новые надел рослый Витя, а свои отдал донашивать другу…
Ребята с гостями пошли на луг, а Василий Терентьевич и Семен Николаевич задержались около Вали.
— Ну что, снегурочка, пригорюнилась? Солнышко пугает? — шутил Семен Николаевич, присаживаясь на нары. — Ничего, не растаешь! Дай-ка руку.
Он взял руку девочки, сосчитал пульс.
— Температура у тебя, конечно, есть. Что болит-то?
— Ничего не болит, голова только кружится.
— Ну и хорошо! Недолго осталось здесь лежать. Не сегодня завтра прилетит вертолет — и будешь дома. А дома и голова перестанет кружиться…
Когда они вышли, Семен Николаевич сказал учителю:
— Плохой из меня лекарь, боюсь что-либо советовать. Но мы привезли аптечку, пока располагайте ею, как умеете.
Василий Терентьевич положил руку на широкое плечо бородача:
— Спасибо за все. Главное, что пришли. Вон как ребята приободрились! А девочку теперь убережем.
12
Сегодня на лугу вовсе на лад шло дело. То ли тому причиной было теплое, обещающее устойчивую погоду утро, то ли приезд геологов. Над поляной не умолкали веселые переклики, смех. Когда накатывали большой, чуть не в рост снежный ком, звали на помощь Семена Николаевича.
— Лечу! — немедленно откликался он. Но совсем не летел, а вразвалку, неторопливо подходил к ожидавшим ребятам, просил всех разойтись, подбирался ручищами под тяжелый, облепленный травой снежок и резким толчком сворачивал его с места.
От Семена Николаевича ни на шаг не отходил Малышок. Точно так же, как от Вити Пенкина — Миша Калач. Без шапки, в расстегнутой куртке, которая жестко коробилась на длинной спине, Малышок, где только мог, старался помочь своему начальнику. И подражал ему во всем. Так же, как и Семен Николаевич, кричал ребятам «разойдись», обхватывал снежный ком и… падал, сопровождаемый взрывом смеха.
А погода уверенно шла на поправку. Дул и дул над лугами теплый ветерок. Он подтачивал толстые залежи снега на косогорах, быстро и начисто собирал его на раскатанных дорожках. Да и так уже на лугах все больше появлялось проталин. Тучи редели, поднимались выше и, клочковатые, вытянутые, похожие на больших сизых птиц, разбродно парили над ширью Кваркуша. Иногда меж ними прорывалось горячее, ослепительное солнце. Тогда от лучей яркими бликами вспыхивали и сверкали ручьи.
Василий Терентьевич взбежал на бугорок, выпрямился, долго смотрел на луга. Телогрейка и брюки на нем — в лохмотьях, заросшие до неузнаваемости щеки запали. А глаза блестят радостно.
— Шабаш, ребята! Сегодня телят накормим, а завтра… завтра снегу не будет!
В окружении мальчишек к Василию Терентьевичу подошел Семен Николаевич. Молча оглядел его и спросил:
— Сколько дней вы так старались?
— Как вышли из Кедрачей. Две недельки, в общем…
Ребята уже привыкли к тому, что Семен Николаевич все шутит, но в этот раз не услышали шутки. Он попробовал отжать полы своего бушлата, но неожиданно и порывисто наклонился к Грише-младшему, сильно подхватил его под мышки, поднял над головой и восторженно проговорил:
— Эх, людишки вы, муравьишки! Ведь вам в пионерском лагере надо быть! В Артеке!
Гриша ящеркой вывернулся из рук бородача.
— Муравьишки, а спасли ведь стадо! — вставил Василий Терентьевич. — Честное слово, спасли! Ура, ребята!
Испугался, метнулся прочь от дружного многоголосого «ура!» пролетевший над лугом сокол, на Цепёле откликнулось эхо. Всех охватило озорное веселье, и Гриша-младший картаво заприпевал, прыгая по поляне, выбивая каблуками брызги:
Мы не давом шли, мы телят спасли…Остальные ребята тоже не могли стоять так просто, бросали вверх шапки, приплясывали, приговаривали:
Мы телят спасли, холод-снег перенесли…Неяркое теплое утро незаметно перешло в сверкающий, звонкий день, и уже сам день начал притухать, блекнуть, клониться к ночи. Что время идет к ночи, по солнцу трудно определить — здесь, на севере, оно даже в июне не поднимается высоко. Об этом напомнили как-то сразу притихшие птицы, закрывшиеся, как бы ушедшие в себя цветы марьина корня, синие тени, исчертившие полосами дальние склоны гор. Телята и кони уже не жадничали, неторопливо месили ногами разжиженный снег, выбирали травку помягче. И вот наелись, стали ложиться.
— Не-ет, так не пойдет! — забеспокоился Василий Терентьевич. — Земля сырая, холодная, чего доброго, обезножат!
Ребята теперь только тем и занимались, что поднимали телят, а те все ложились и ложились.
— В сарай их! — скомандовал Василий Терентьевич. — Хватит на сегодня!
Наташа с Ниной варят прощальный ужин — утром геологи уйдут. Жирный суп из свиной тушенки бурлит и пыхтит в ведрах на красном железе теплушки, будоража аппетит. Некоторые ребята уже держат в руках кружки и котелки. Наиболее терпеливые и любознательные окружили Семена Николаевича, расспрашивают про все самое интересное.
— Это, конечно, неплохо — насчет вертолетов пастушьих, — соглашается он. — И телевизор походный для такого дела не мешает…
Семен Николаевич сидит у самой печки, раздетый до пояса, просушивает свитер. Мальчишки восхищаются его мускулатурой, которая так и играет при каждом движении на витых руках и бугристой спине. Рядом — Малышок. Он тоже снял рубаху, выпячивает худую грудь…
— Конечно, легче будет пастухам с техникой, — повторяет геолог, встряхивая на жару свитер. — Пошли не туда телята — ты на вертолет и за ними — облетел, заворотил…
На куче полешек, ближе других к Семену Николаевичу, — Гриша-младший. Он не сводит с геолога глаз и не пропускает ни одного его слова. Шибко все это интересно — и про вертолеты, и про технику всякую. Значит, верно Натка говорила…
— А правда, что к нам сюда прилетит вертолет? — выбрав минутку, спросил Гриша.
— Правда.
— А можно тот, который прилетит, переделать на пастуший?
Семен Николаевич озадаченно поскреб бороду, усмехнулся:
— Это, братец, надо узнать у летчиков. Вот прилетят — и спросишь.
— Вот бы здорово! Тогда бы никуда отсюда не поехал!
В эту ночь Гриша-младший долго не мог уснуть: все думал, как переделать вертолет на пастуший, где там поставить телевизор. Многое было непонятно. И непонятно, наверно, потому, что на вертолетах Гриша никогда не летал.
Несколько раз мальчик приподнимался, хотел кое-что выяснить у Семена Николаевича. Но тот лежал далеко, и ползти к нему через спящих Гриша не решался.
«Ну, ладно, утром все расспрошу», — решил он и натянул на голову одеяло.
13
А утром, когда Гриша проснулся, геологов уже не было. На столе лежал пакет, завернутый в полиэтиленовую пленку, на пакете — записка:
«Ребята, здесь письма. Как будете дома, унесите их на почту. Счастливого полета!»
Не было в избушке и Василия Терентьевича: ушел, видать, провожать геологов.
— Ух, проспал! — досадливо почесал Гриша затылок. Подбежал, заглянул в окно.
Мимо плыли клубчатые пряди тумана. За ними то видно было изгородь у сарая, то не видно, и Гриша с минуту всматривался в эту завесу, под которой вилась к изгороди тропинка. Нет никого, ушли.
— Проспал! — горестно повторил Гриша.
Обулся, вышел на улицу. Возле дома бродил по луже в новых сапогах Петя. Осматривал глянцевитые голенища, любовно хлопал по ним ладошками. На лавке у стола сидел Миша Калач.
— Давно ушли? — спросил Гриша.
— В шесть или семь, — неопределенно ответил Петя, продолжая разглядывать сапоги.
Гриша присел к Мише Калачу, обидчиво напомнил и ему:
— Уж не могли разбудить!
Миша не ответил. Он наблюдал, как Петя «плавает» по луже.
— Не промокают? — любопытствовал Миша.
— Хоть бы капля! Вчера весь день в воде, сегодня…
— А я вот как знал, что мне эти придется донашивать, — сказал Миша и стал разуваться — Все клеил, клеил за Витьку…
Стянул один сапог, сунул в него руку. Портянка с ноги сползла, и Петя с Гришей увидели на пятке у Миши большой волдырь.
— Что у тебя?
— Мозоль, не видите? Подкладка там мешается.
Петя сдвинул белесые брови, прикусил губу. Подошел ближе, еще раз посмотрел на Мишину мозоль и стал разуваться.
— Скидывай другой сапог!
— Зачем?
— Скидывай, раз говорят! — И, не дожидаясь, когда Миша проморгается, надел его заклеенный сапог.
— Будешь носить новые, они не трут…
Было еще рано, но солнце уже выбралось из-за гор, обрушило потоки дымных лучей на луга. Туман заволновался и, редея, потянул в скрытую от солнечного света долину Цепёла. Там он устоится и в полдень всплывет над Кваркушем новым облаком. Так и рождаются здесь облака.
День начинался блеском, птичьим гомоном, звоном ручьев.
Вышли из домика и Нина с Наташей. Прежде чем сесть, Наташа провела пальчиком по скамейке — нет ли чего мазучего — и лишь после этого осторожно присела, поддернув на коленках брюки.
Нина посмотрела из-под ладони припухлыми со сна глазами на прозрачную светлынь утреннего неба, на дымящиеся от солнечных лучей луга, сказала печально:
— Только разведрилось — и уезжать. Обидно как-то…
— Куда это ты собралась? — подозрительно прищурился Петя.
— Как куда? Сегодня прилетит вертолет и увезет нас домой. Погода-то ведь летная!
— Летная… А телят кто за тебя пасти будет?
— Телят… — Нина об этом не подумала. — Тогда-тогда никуда я не полечу… Пускай летит Валя. И еще кто соскучился по дому.
Наташа тряхнула кудряшками, испытующе посмотрела на Нину.
— А сама не соскучилась?
Нина ответила не вдруг. Потеребила зубами петельку фуфайки, села рядом с Наташей.
— Если говорить по правде — здорово соскучилась. Но телушек я не брошу, пока не придут пастухи. А ты?
Наташа не ожидала такого вопроса, опустила глаза. Тонкие губы ее дрогнули.
— А я хочу домой… Мама у меня хоть и смешная, а хорошая… Все думаю о ней.
— Эх ты, неженка! — неожиданно вскипел Миша Калач. — «Думаю, думаю»! Правда, что тебе только в артистки, а не телят пасти! — И, все больше распаляясь, Миша понес без остановки: — Ну и уматывай, никто не заплачет! Правильно говорил Витька, нечего было с девчонками связываться…
Далеко за лесом глухо застрекотало.
— Летит! — прошептала Нина.
— Летит! Летит! — забыв Мишины упреки, закричала Наташа.
Все, кто оставался в домике, высыпали на улицу. До нытья в ушах прислушивались к слабому стрекотанию, но оно не приближалось. А вскоре и совсем затихло.
— Вот тебе и «думаю», — передразнил Миша Калач Наташу.
Ребята приуныли. Не ослышались ли? Увидев учителя, побежали навстречу.
— Да-да, вертолет, — подтвердил Василий Терентьевич. — Другим курсом заходит. С той стороны, откуда он летел, самый крутой подъем к полянам.
Второй раз услышали вертолет, когда уже выгнали на луг телят. Хоть и ждали этого звука, а возник он так неожиданно и так отчетливо, что даже телята и лошади пугливо запрядали ушами. Ровное гудение росло, ширилось, заполняя гулкие долины.
— Сюда! Сюда! — кричал Гриша-младший, размахивая над головой шапкой.
Издали низко летящий вертолет до смешного походил на головастика — брюхатого, с длинным тонким хвостом. Ребята видели в воздухе вертолеты не раз, но чтобы вот так низко — не приходилось. И не отрывали глаз от быстро приближающейся машины.
Облетев поляну, «головастик» повис над избушкой, покачиваясь, чуть приспустив хвост, словно бы разглядывая, куда присесть. Вращающиеся лопасти подняли ветер, и тот разметал вывешенные на просушку порожние мешки, одежду. Телята сумасшедше бросились к Цепёлу.
— Ни шагу к дому, пока вертолет не сядет! — приказал Василий Терентьевич. — А ну, поворачивать телят!
Не очень-то хотелось в такую минуту бежать за телятами, но Василий Терентьевич уже мчался им вслед, махая вицей. За учителем кинулись Витя Пенкин, Миша Калач. И вот уже все ребята бегут заворачивать животных, растекаясь широким полукружием, огибая стадо с боков и спереди.
Вертолет приземлился, сбавил газ и, почихав, заглох. Открылась бортовая дверь, на траву выпрыгнули люди. Ребята неслись к домику, не чуя под собой ног, далеко позади оставив Василия Терентьевича. Зеленый тупоносый головастик, утомленно свесив лопасти, стоял, просев колесами в сырой грунт, в двадцати метрах от избушки. Сильным завихрением воздуха от винта приподняло и скособочило левый скат ветхой крыши.
Летчики в черных тужурках, в фуражках с серебристыми кокардами уже расспрашивали о чем-то Наташу — она оставалась с Валей. Перепуганная, бледная Наташа бестолково твердила, показывая на крышу:
— Как затрещит, как затрещит!..
— Привет полярникам! — приложив к козырьку руку, энергично поздоровался с ребятами стройный, как гимназист, летчик с веселыми глазами и тонкими усиками-стрелками по краешку губы. Кажется, он считал подбегавших ребят. — Сколько же вас здесь?
— Много, двадцать три человека! — засмеялась Нина, снимая шапку и поправляя рассыпавшиеся волосы. — И еще Василь Терентьевич.
— Учитель?
— Ага.
— А сколько больных?
— Больных… — Нина поискала кого-то глазами, — больных — одна Валя. Она простудилась.
Подошел Василий Терентьевич.
— Рад… вас видеть, — сказал он с сильной одышкой. — А то мы… уж к геологам подались. Чертовски нас тут погода прижала…
— Знаем, Василий Терентьевич, — сказал летчик с усиками. — Двое суток дежурили в порту, не могли вылететь. От телефонных звонков устали…
И протянул письмо.
Быстро прочитав его, Василий Терентьевич непонимающе посмотрел на летчиков:
— Так это что же получается? Мы, значит, поехали, а телята с кем?
— Завтра в Кедрачи зайдет другая машина, возьмет на борт пастухов. А пока готовьте двенадцать-тринадцать человек.
В это время, к немалому изумлению ребят, из дома, в белом халате поверх пальто, с саквояжем в руке, вышла врач.
— Девочку перенесите в машину. Потеплее укутайте. У нее явные признаки пневмонии… Есть еще больные?
Ребята растерянно заоглядывались друг на друга.
— Ну-ка, герой, покажи доктору свое плечо, — Василий Терентьевич нацелился взглядом в Петю. — С медведем тут воевали…
Пока врач осматривала распухшее Петино плечо и накладывала на синяк чем-то пропитанный пластырь, ребята рассказывали о ночном происшествии. Вспоминая подробности, они смеялись, а летчики и врач — нисколечко. Когда Петя с помощью Наташи натянул рубаху и телогрейку, врач подвязала его больную руку на широкий бинт.
— Вот так и держи до самой больницы, — строго наказала она. — Ни в коем случае не снимай повязку!
Потом подошла к Василию Терентьевичу.
— Неужели этот мальчик не жаловался на боль?
— Не жаловался, но я знал, что рука у него болит.
— И работал?
— Работал.
Врач покачала головой:
— Удивительно! Просто удивительно! И это. — дети!..
Настало время занимать места в вертолете. Кто полетит? Нина, ни на кого не глядя, пошла к телятам.
— Ты куда? — обернулась Наташа.
— Белке трилистника давно собираюсь нарвать. Забываю все…
— А я путо с ноги у Буланки забыл снять, — вдруг вспомнил Витя Пенкин и пошел за Ниной.
Заторопился куда-то Миша Калач, тоже вспомнив про что-то важное. Сторонкой, по-за домом, направился к телятам Гриша-старший. И, может быть, все так и ушли бы, придумывая причины, если бы не Василий Терентьевич.
— Ну-ка, назад! Полетишь ты, ты и ты… — указывал он на Петю, Наташу, Гришу-младшего, Мишу Калача и еще восьмерых. — Живо собирайте рюкзаки — и в вертолет! Остальные — к стаду!
Миша Калач появился на пороге с рюкзаком и одеялом, свернутым в трубку, уныло посмотрел на луга, в которые уходил Витя Пенкин, и неуверенно попросил:
— Можно я останусь, Василий Терентьевич? Я же с Витей…
— Нет, не останешься! Я знаю, кому надо домой в первую очередь.
Василий Терентьевич никогда не менял своих решений, и Миша, зная это, пошел на последнее:
— Тогда можно я сбегаю к ребятам и… быстро вернусь?
— Валяй! Только сейчас же обратно!
Миша бросил у порога рюкзак и одеяло, хлюпая большими сапогами, кинулся за ребятами. Догнал Гришу-старшего, остановил его. Прыгая на одной ноге, придерживаясь за Гришу, начал стягивать сапог.
— Разувайся!
— Ты что? — удивился Гриша.
— Давай быстрей, некогда.
— Дак, дак… — растерялся Гриша-старший, — мои сапоги еще хорошие.
— А мои — новые. Снимай давай! Петькины ведь это утром были!
И Гриша-старший, повинуясь настойчивости Миши, разменялся с ним сапогами.
Летчики поторапливали, и вскоре все, кто улетал, расположились в вертолете. Валю усадили на откидное сиденье, набросили на плечи одеяло, ноги укрыли шубой. Двое летчиков поднялись в кабину, а тот, что с усиками, — это был бортмеханик — и врач остались с ребятами в салоне. Бортмеханик накрепко закрыл дверь на защелки.
Ребята помахали Василию Терентьевичу. Он тоже поднял руку.
Взвизгнув, зарокотал мотор, завертелся, набирая скорость, винт. На земле замелькала от него мельничным ветряком тень. Все быстрее, быстрее раскручивался винт, машина начала мелко подрагивать и наполняться тягучим гулом. В круглые окна-иллюминаторы было видно, как от скорости вращения словно расправляются мощные лопасти, как полощется вокруг трава.
Василий Терентьевич отступил к самой стене дома, придерживая фуражку.
Дрогнув, качнулась лобастая махина, приподнялась, осела, будто разминая ноги перед прыжком, и плавно стала набирать высоту. И все как-то сразу переменилось, отодвинулось, измельчало. Убегающий домик сделался похожим на спичечную коробку, а телята на лугу — как букашки. Ребята — того меньше. Стоят с поднятыми руками, должно быть, машут, но движений уже не различишь. И только альпийские луга — покатые, взгорбленные, выгнутые в лощины, лишь кое-где разделенные куртинами овражного леса — по-прежнему удивляют и поражают своими необжитыми, суровыми пространствами.
Но вот уже и луга позади, вертолет летит над тайгой. Машину плавно покачивает, звеняще стрекочет над головой винт. Необыкновенную легкость чувствуют в себе ребята. Словно, оторвавшись от земли, они оставили на ней и все тяготы многотрудного похода. Так и хочется вздохнуть поглубже, посвободнее.
Уже все освоились в новой обстановке и никто не чувствует той скованности, какую испытывали в первые минуты полета. Бортмеханик только что объяснил Грише-младшему, что вертолет вполне можно приспособить под пастуший, и даже показал место за желтым бензобаком, куда удобнее всего поставить телевизор…
Ребята не отрывали глаз от иллюминаторов. Благодать-то какая — смотреть на горы сверху! Среди хребтов и отрогов, в глубоких распадках, синими лентами обозначились реки. С такой высоты они и на реки не похожи, будто ручейки какие. И тайга — не тайга, травушка-муравушка, да и только! Не верится, что там, внизу, — нехоженый дикий лес, с буреломами, болотами, медведями…
Наташа, осторожно запрятав под шапочку кудряшки, прижалась лбом к холодному стеклу и все старалась разглядеть внизу выруб, по которому гнали на поляны телят. Иногда она мельком посматривала на Петю. Он никак не может приноровиться к собственной руке, непривычно висящей на бинте, поворачивает ее так и этак.
Петя, Петя! Ничего-то ты не знаешь! Все бы только что-то мастерил да придумывал. А того и не подозреваешь, как хотелось Наташе сходить в поход именно с тобой. И как переживает она всегда, когда ты, Петя, не замечаешь ее, не обращаешь внимания…
Смутное, непонятное ей самой желание сказать ему что-то очень-очень важное все чаще овладевает Наташей. А сейчас, когда они летят, и вовсе. Но ведь опять получится шутка, и опять Петя смутится… Нет, пусть уж будет все как есть…
Валя сидит напротив и смотрит в одно окно с Гришей-младшим. Гриша держит на коленях пакет с письмами геологов. Очень скоро, может быть, через час, он унесет письма на почту. Гриша чувствует горячее Валино дыхание на своей щеке. Он тоже ищет глазами выруб. Нет, не видать его. То ли потому, что летят над другими местами, то ли оттого, что уж шибко большая эта тайга-парма. Хоть куда, хоть сколько смотри — ни конца ей нет, ни края.
— А почему наша тайга называется пармой? — повернувшись к Наташе, спрашивает Гриша.
Наташа помедлила и, вспомнив, ответила Ниниными словами:
— Парма — это горная тайга, непроходимая… ну, опасная, что ли…
ГУСИ-ЛЕБЕДИ
1
Худой мерин, роняя с губ желтую пену, устало и беспорядочно бухал отяжелевшими копытами. С каждым шагом он низко кивал большой горбоносой головой и шумно пускал из ноздрей струи курчавого пара. Телега с плетеным коробом скрипела, кренилась на выбоинах, и мы то и дело хватались за боковины, чтобы не опрокинулась.
— Гоп, Ретивый! — бодро вскрикивал Сунай, когда лошадь с ходу переваливала очередной ухаб.
Сунай шел рядом с телегой. Ну и проворен же, черт! Он прыгал через ямы так, что полы его плаща взлетали выше головы; не выпуская из рук вожжей, забегал вперед и оттаскивал с пути валежины, вскакивал на передок и поправлял на взмыленном крупе лошади съехавшую набок шлею.
Над лесом клубились рыхлые тучи. От слабого ветра они податливо уминались, вытягивались и серыми лохмами путались в деревьях. В густеющих сумерках старая лесовозная дорога угадывалась лишь по просеке да по лужам, тускло поблескивающим в глубоких колдобинах.
Но вот кончилась и эта дорога — она отвернула, ушла на заброшенные лесосеки, — и Сунай, взяв лошадь под уздцы, повел ее через гари, лавируя между гнилыми пнями, долговязыми перегнувшимися горелинами да редкими молодыми лиственницами.
Мы с Евсеем Васильевичем шагали сзади. Здесь, на гарях, не было грязи, но ноги сплетали полегшие стебли иван-чая, а с задетых ветвей лиственниц леденящим душем сыпались брызги.
К ночи сырой, промозглый воздух заметно остывал. В низинах скапливалась холодная белесоватая хмарь, и непонятно было: то ли это тучи совсем опустились на землю, то ли поднялся туман.
Евсей Васильевич остановился, вытер шапкой лицо.
— Считай, дружба, повезло, что попутчик нашелся. По этой гиблой дороге не добраться бы нам до Глухого ни сегодня, ни завтра. Куковали бы сейчас под елкой…
Старик был прав: повезло. Вчера, отправляясь на охоту на отдаленное лесное озеро, мы доехали на попутной машине до деревни Вязинцы и оттуда предполагали двинуть пешком. А до озера оставалось еще ни много ни мало — тридцать с лишним километров, идти все тайгой и, конечно, тащить на себе тяжелые рюкзаки. Но пока расспрашивали у жителей, как лучше добраться до Глухого — раньше мы на нем не бывали, — узнали, что утром туда за мхом пойдет подвода. Мы разыскали возницу. Им и был Сунай, еще совсем молодой колхозник, подвижный, плечистый, с красивым разлетом батырских бровей.
— Хорошо! — обрадовался Сунай. — Скучища тащиться в такую даль одному. Давай сюда котомки, в короб под сено спрячу.
Из деревни вышли на рассвете, и вот день-деньской топаем на это заветное озеро, уже давно ставшее для нас предметом горячих разговоров и вершиной охотничьих желаний.
Но дойдем ли сегодня? По опыту мы уже знали, что потерянный день мог пустить прахом все наши планы: неожиданный перелом погоды вспугнет пролетную птицу, которая в эти дни осени отдыхает и жирует на озере. А опоздай, упусти момент — и будешь с тоской провожать пролетающие без останова утиные и гусиные стаи.
Трудно угадать, подкараулить дни валового пролета. Нет каких-то твердых календарных чисел, что вот именно завтра, а не сегодня пойдет птица. Все зависит от погоды. Тепло, солнечно — она подолгу живет на одном месте; засеверило, подуло — снимается. Так что, если собираешься хорошо пострелять, надо запастись временем и терпением, загодя приехать на озеро и ждать.
Бывало, неделю ждешь, две ждешь, бывало, кончится твой отпуск и ты уберешься восвояси, так и не дождавшись птицы, а потом весь год жалеешь, что не позаботился заранее подработать один-другой лишний денек, чтобы все-таки дождаться пролета.
Но нынче, кажется, все до мелочей было продумано, учтено, и мы ехали на озеро с солидным запасом времени.
И вот теперь — опасения. Не опоздали ли мы?
Такие думы не оставляли нас с Евсеем Васильевичем весь день и весь вечер, а точнее — с того момента, когда увидели вереницу чернетей, тянувших почти над самым лесом от озера. Опасения подтверждались.
— Далеко ли еще? — спросил Евсей Васильевич Суная.
Парень остановил коня, огляделся.
— Близко…
Уже совсем стемнело, а мы шли и шли. В воздухе плавала водяная пыль. От нее давно промокли плащ, ватник под ним, рубашка прилипла к спине. Теперь, чтобы не оступиться в темноте и не упасть, мы все трое держались за телегу. Ретивый боязливо, фыркал и шарахался в сторону, когда впереди из мрака неожиданно возникал высокий пень или разлапистая коряжина.
По правую руку от нашего пути, в прогале между кустов, разом просветлело, и оттуда потянуло йодистым запахом багульника. Где-то близко было болото.
— Там озеро, — показал Сунай.
Он направил лошадь в этот прогал, и мы пошли длинными полянами в сырую мглу на запах болота. Возле ощетинившегося деревьями бугра проводник резко натянул вожжи и громко выдохнул:
— Пр-р-у-у…
И мы различили в потемках под нависшими елями контуры ветхого строения.
2
Старая избушка, вырванная из темноты светом фонарика, напоминала немощную старуху, которая, точно руками, опиралась о землю щелястыми скатами кровли. До самой трубы, до нависшего козырька крыши дыбилась серая, пожухлая крапива. И лишь узкий, протоптанный в крапиве коридор, как лаз в нору, указывал на вход в избушку.
То ли от усталости, то ли от позднего часа и непогоды, но что-то мрачное виделось в этом лесном жилище. Вокруг белели смоляными изломами тонкие стволики елового подроста, валялись ржавые обручи, головешки, дырявые котелки, ведра.
С трудом отворив широкую дверь, мы с Евсеем Васильевичем вошли внутрь. Фонарик осветил низкий свод с провисшей матицей, закоптелый чайник на лавке, небольшое оконце на задней торцевой стене, наглухо закрытое берестой. В углу на камнях стояла железная бочка, приспособленная под печь; через дырки-поддувала она рдяно пыхала жаром.
За печкой, за кучей смолья, в банной полутьме вдруг что-то ворохнулось на нарах, и на пол скатился человек. В мгновение схватил на чурбаке нож и, пряча его за спину, отпрянул к стене. Худой, полураздетый, он был готов сейчас же выскочить за дверь.
— Что же ты, дружба, никак к драке изготовился? — спокойно спросил Евсей Васильевич. — Мы ведь с миром пришли. — Он отвернулся, начал стягивать с плеч задубелый плащ.
Человек у стены в растерянной улыбке скривил рот.
— От… откуда вы пали… ополночь? — с усилием выдавил он.
— Из лесу, не с неба же! — усмехнулся Евсей Васильевич.
Незнакомец разжал пальцы, со стуком уронил нож на лавку, расслабленно вытянул босые ноги.
— Черт-те что поблазнится… Спросонья-то думаю — бандиты какие… Ох, напужали вы меня!
Я тоже снял плащ, повесил его на штырь поверх каких-то мешков, сел на чурбан. Огляделся. На черной стене под рогожами топорщились берестяными поплавками сети, висело затворное ружье, весь пол и углы избушки завалены птичьим пером, картофельной кожурой, рыбьими костями.
Запущено все, неприветливо. От этого беспорядка, от костей, от птичьего пера да и от самого незнакомца веяло какой-то дикой первобытностью. С чего бы это пугаться людей? Пусть даже ночью. Да ладно, может быть, и вправду человек напугался.
Сунай еще оставался на улице. Мы собрались помочь ему устроить на ночь лошадь, но он быстро управился один и теперь, отыскивая в темноте дверь, зашаркал по стене руками. Незнакомец вздрогнул и снова схватил нож.
— А ну, положи! — сердито остановил его Евсей Васильевич. — Нет здесь бандитов.
Широкогрудый, с пышной сивой бородой и ростом под потолок, пригнувшись, чтобы не задеть головой матицу, старик грузно шагнул к двери. Незнакомец съежился, как от занесенной над ним палки, подтянул к животу колени.
— Заходи! — крикнул дед в распахнутую дверь.
Сунай переступил порог, поставил в угол ружье. И удивленно вскинул голову.
— О, таежник здесь!
— Ага, ага, таежник. Навроде таежника, — быстро откликнулся незнакомец, при этом опасливо зыркнув на дверь. — Много ли вас всех-то?
— Все тут, — сказал за Суная Евсей Васильевич. — А надо будет — еще придут.
— Оно понятно, конечно, так оно, — охотно согласился «таежник». — Дом лесной, хозяин — бог…
Сунай, в свою очередь, тоже оглядел помещение, пристально посмотрел на незнакомца и, то ли уловив в тоне Евсея Васильевича раздражение, то ли сам заподозрив что-то, уже без прежнего радушия строго и коротко спросил:
— Кто такой?
— Я? Я-то? Елькин я. А здесь охотничаю, грибки, клюкву беру…
Правда, кто он и что здесь делает? За кого он нас принял, почему так напуган? Возможно, никого не ждал, ну, а раз пришли мы, просто не знает, как себя повести.
— Откуда ты? — уже не глядя на Елькина, как бы между прочим спросил Евсей Васильевич.
— Я? Я-то? Да я — что! Простой я человек, колхозник. А здесь навроде бы в отпуске.
Сунай опять внимательно посмотрел на Елькина.
— Какой же сейчас отпуск колхознику? Полевые работы еще не закончены.
— Ай, работы! — вдруг оживился Елькин. — На кой они мне? И так все лето горбатил — хватит! Здесь тоже не худо. Месячишко проживешь — и все натурой получишь…
Тут Елькин осекся. Было похоже, что он чем-то проговорился, сказал то, о чем не следовало бы говорить. Это стало заметно по его поведению — беспокойно ерзал по лавке, то вставал, то садился.
Евсей Васильевич, разбиравший содержимое рюкзака, выпрямился, свел брови.
— Это как — натурой?
Елькин угодливо подскочил к деду, воодушевленно зачастил:
— Вишь, какое дело. Приехал я, к примеру, сюды, на озеро, грибков насолил, клюквишки, брусники намочил, рыбешки подловил — глядишь, зима короче. А не поленился, в район на базар увез — и денежки при тебе… На кой он мне, колхоз-от?
— Вот оно что! — понимающе кивнул дед. — Промышляешь, значит?
— Оно навроде так, промышляю. Кто ведь как может.
— Ну, промышляй, промышляй…
И по тому, как Елькин сразу приободрился и торопливо начал рассказывать о том, как много на озере птицы, а в лесу зверя, мол, только не ленись, «работай — и все будет хорошо», мы поняли, что последние слова Евсея Васильевича он принял как одобрение и, по-видимому, причислил нас к «своим» людям.
Сунай зажег свечу, поставил на подоконник. Теперь ясно было видно лицо Елькина — длинное, клочковато заросшее, с глубоким продольным шрамом на переносице. И во всем его неряшливом виде было что-то отталкивающее: руки черные от давнишней грязи, штаны висят на бедрах, ворот рубахи разорван и раскрылся, как кошель, обнажая ребристую грудь.
Елькин краем глаза уловил, что я наблюдаю за ним, и спешно застегнул воротник на единственную пуговицу.
После чая я предложил Евсею Васильевичу располагаться отдыхать, а сам собрался с Сунаем на берег озера.
— Вместе пойдем, — сказал дед и, накинув ватник, вышел за нами.
3
Густое клубчатое облако лежало по всей низине. Сквозь него не видно было за два шага. Все — травы, воздух, земля — набухало и пропиталось зябкой мокрядью. С елей звучно капало, где-то в тумане призывно попискивали заблудшие птахи.
Нащупывая лучом фонарика просевшую между кочек тропинку, мы добрались до берега. С озера доносились тоскливые всхлипы лысух, в камышах, на илистом мелководье, предостерегающе тюрликали чирки-свистунки, сдержанно гагакали кряквы, в дальней осоке возились какие-то крупные птицы, похоже, что гуси. Раза два с той стороны мы слышали сторожкое отрывистое гоготанье.
Обрадовала нас эта разведка — гогот, покрякиванье и всякий другой шум в береговой воде говорили о том, что птицы на озере полно.
Теперь бы лодку отыскать.
Мы разошлись по берегу в разные стороны, добросовестно заглядывали под каждую черемуху, обшаривали каждый заливчик, а лодки не было.
— Найдем! — упрямо сказал Синай, когда мы опять сошлись вместе. — Здесь должна быть. Весной нынче завезли, мох драть на островах. Этот Елькин, поди, куда-нибудь упрятал. С него и справлять будем.
Сунай помолчал и добавил:
— А я ведь, кажись, узнал его. Вижу — знакомая рожа, приметная, она у него такая, а где встречал?.. Думал, думал — вспомнил.
— Кого?
— Ну, Елькина этого.
— Так кто он? — нехотя поинтересовался Евсей Васильевич.
— Как сказать? Колхозник, наверное, раз говорит. Правда, не знаю, в какой деревне живет. Знаю только, что шабашничает. К нам как-то нанимался. У нас его и видел… Разнюхает в каком-нибудь хозяйстве работенку выгодную — то дом срубить, то мост навести — и плотничает два, три месяца. Бывает, что бригадой действуют. А сейчас, наверно, подходящего подряда нет, подался сюда.
— Смотри-ка ты, ловкач! — усмехнулся Евсей Васильевич.
Ретивого пришлось перевести на другое место, под ель, где посуше. Сунай и дед занялись устройством стоянки для него, а я с топориком отправился в лесок за лапником. На ощупь пробираясь по ельнику, неожиданно натолкнулся на две большие, словно вросшие в землю бочки. Они были укрыты сверху берестой и надежно замаскированы. Вернувшись, я рассказал о находке.
— Может, с грибами или клюквой этого самого, как его… охотника, что ли, — неопределенно проговорил дед.
А потом Сунай позвал нас за избушку: у ели стояли лопата, каелка, лом. К чему бы это охотнику? Обив носком сапога с лопаты глину, Евсей Васильевич кашлянул в бороду и глухо повторил:
— Ловка-ач!
Вошли в избушку — и не узнали ее: пол выметен, сети и мешки со стен убраны. Да и самого Елькина будто подменили — сидел в чистом пиджаке, в других брюках, причесанный.
— Куда это ты вырядился? — насмешливо спросил Евсей Васильевич.
Елькин повел плечами.
— Какие уж наряды! Просто рад добрым людям, ну и вот… Я ведь, ето, здесь навроде бы как на курорте. Отдыхаю, значит. Хочу — сплю, хочу — по лесу гуляю…
Елькин наклонился и вытащил из-под нар за горлышко зеленую бутылку, заткнутую размокшей бумажной пробкой. В нос сразу ударило запахом самогона.
— Счас мы за ето, за знакомство. Давайте ваши кружечки.
— Не надо нам, — брезгливо сказал Евсей Васильевич.
Елькин с откровенным удивлением уставился на старика.
— За знакомство-то?!
— Не надо, обойдемся и так!
Елькин даже присвистнул от столь неожиданного отказа и, откупорив бутылку, с фальшивой веселостью произнес:
— Тогда за ваше здоровьице!..
4
Рано утром выйдя из избушки, мы были приятно поражены: туч как не бывало, небо на востоке светилось алыми разводами облаков. Радужный, как бы испускающий теплые волны, венец солнца уже вздымался, все разгораясь, над горизонтом. И было тихо, недвижно.
Невольно подчиняясь тишине, мы старались идти как можно осторожнее, чтобы не хрустнула под ногой ветка, не зазвенел продавленный молодой ледок. И поэтому разом остановились и посмотрели в сторону избушки, когда там резко, подобно выстрелу, хлопнула закрытая Елькиным дверь.
Сунай оставил нас и направился низом некошеной пожни к месту, где, по словам Елькина, должна находиться лодка, а мы пошли к виднеющемуся высокому мысу. Хотелось осмотреть незнакомое озеро с берегов, подыскать удобные выезды. Открытая вода тянулась вдоль всего берега неширокой протокой, за ней начиналась осока, рогоз, а дальше стеной вставал камыш. Даже с каменных нагромождений на мысу, куда мы взобрались осмотреться, не видно было ему конца. Там и тут, прорезая густые заросли камыша, в даль озера уходили извилистые проливы. Они-то и выводили на затерянные плесы с илистыми плавнями, травой, мелководьем, где в эти дни скопилась птица.
Ночью мы слышали в прибрежной полосе воды утиную возню, гогот и всплески. А сейчас было тихо. Возможно, с рассветом птица ушла на плесы. Мы убедились в этом, заметив вдали над линией камыша качающуюся цепочку пролетавших гоголей. Они бывают первыми вестниками шумного лета.
Охотники знают постоянство вечерних и утренних перелетов водоплавающей дичи и любовно называют их зорьками. В ясные заревые сумерки птицы летают на места и с мест кормежек в поисках удобных крепей для дневок, летают, чтобы встретиться с сородичами и просто поразмять крылья.
Но этот утренний лет, начавшийся с восходом солнца, не походил на спокойные перелеты и скорее напоминал генеральную разминку утиных стай перед дальней дорогой. Не успели еще скрыться первые гоголи, а к ним уже примкнула длинная вереница собратьев. Гоголей нетрудно узнать по белым нагрудникам, по яркой пестроте крыльев и по какому-то особенному, звенящему звуку полета.
Вслед за гоголями отлого начала подниматься стая чернетей. Тоже растянувшись в вереницу, птицы медленно набирали высоту, а набрав ее, долго кружили над озером черной извилистой лентой.
Откуда-то появились чайки. Печально вскрикивая, они плавно взмахивали острыми изогнутыми крыльями и зыбко качались в воздухе, словно подвешенные на невидимые резинки. Чайки спускались к воде, что-то хватали и отчаянно улепетывали низом от наседавших товарок. В одном месте эти вздорные птицы затеяли драку. Они никак не могли поднять большую дохлую рыбину, выклевывали из нее куски, жадно вырывая их друг у дружки. Спор рассудила внезапно налетевшая скопа: разбойно врезалась в белое облако чаек, зацепила рыбину когтями и тяжело понесла к высокой сухаре на берегу.
А потом над озером уже никакого порядка не стало, будто виной всему были драчуньи чайки. Стаи рассыпались, и птицы табунками, парами, в одиночку летели из конца в конец над камышовой равниной. Мы узнавали стремительных шилохвостей, черных грузных турпанов, пепельно-серых свиязей, крупных бело-коричневых крохалей и много другой утиной братии, которую свела на перепутье осень.
Летали тут и кряквы. Сердце сладко ныло, и напрягался каждый мускул только при одном беспокойном зове кряковой матки: «ах, ах, ах!» Мы разом оборачивались на этот крик и в любом табуне, на любом расстоянии узнавали упругие, тяжеловесные, какие-то по-особому красивые силуэты кряковых. Недаром, видно, народ назвал их благородными утками.
От сонливой тишины утра не осталось и следа. Воздух гудел от хлопанья крыльев, свиста, гама, сумятицы. А ружья наши молчали. Всякий раз, заметив нас на открытом берегу, птицы заблаговременно отворачивали. Странно, но почему-то не было особого желания стрелять. Мы были довольны тем, что видели, радовались, что сохранились еще места в сравнительной близости от городов, где в нетронутой первобытности протекает осенний пролет птиц. Только ради этого уже стоило добираться сюда. А настоящая охота не уйдет. Она впереди, и времени у нас достаточно.
Лет стал ослабевать где-то часам к семи утра, а еще часом позже прекратился совсем. И опять на озере стало тихо. Одни чибисы резвились над кочкастой болотиной, да вороны, вразвалку расхаживая по береговым отмелям, расклевывали ракушки.
Мы развели костер, поставили варить суп из концентратов. И сами по себе потекли охотничьи побасенки. Так же сами по себе они и кончились, и разговор наш незаметно принял иной характер.
— Вот скажи мне, дружба, почему столько собирается птицы на этом озере? — спросил Евсей Васильевич.
— Ну, как объяснить? Наверно, все же потому, что озеро на пути пролета. Это раз. И мелкое оно, камышовое. Хватает всякого корма, есть где укрыться от ветра, от врагов. Чего еще надо?
— Верно, — согласился Евсей Васильевич. Поскреб бороду и уточнил: — Почти верно. Только мне сдается, что главное тут безопасность. Ни корма, ни камышовые просторы не заманивают птицу так сильно, как безопасность от нашего брата охотников. Возьми вот, к примеру, озера Западного Зауралья. Все вроде налицо — и камыши, и корма, а не шибко же много валится на них утки даже в конце октября, в самую что ни на есть пору. Почему, думаешь? Да потому, что в это Зауралье устремляются охотники из десятков городов. Тысячи! Бедной птице присесть не дают. Мечется она, мечется, горемычная, да и айда туда, где поменьше бахают…
Евсей Васильевич подложил на огонь можжевеловых прутиков, снял ложкой с супа пенистую накипь.. Сидя на корточках, долго смотрел, как языкастое, бледное в солнечном свете пламя лижет мятые бока котелка.
— Тем и спаслось Глухое, что оно далековато, — снова заговорил дед. — Железной дороги близко нет, машины тоже не ходят. Продолжали бы рубить лес — не было бы здесь этого царства. Так уж у нас повелось: где люди, где промышленность — там нет в природе изначальной красоты, а стало быть, нет ни зверя, ни птицы. И неуж настолько невозможное это дело, чтобы и то и другое вместе было?
Дед вопросительно посмотрел на меня. Потом резко поднялся, засунул руки в карманы брюк, заходил взад-вперед у костра.
— А браконьеры? — снова начал охотник. — Останови, если доведется, любого из них, загляни в подсумки. Пули Бренеке и Жакана, пули круглые и картечь с горошину. На кого? На зайца, что ли? На лося, дружба. А ведь лось-то охраняется законом. Но кто увидит здесь хотя бы этого же Елькина, если один охотинспектор на целый район, а то и на два? Под его присмотром тысячи гектаров леса, сотни озер. Вот и попробуй поймай браконьера…
Ладно, поймал, скажем. А дальше что? Протокол составить? Но браконьер-то ведь не лыком шит. Он — вор, а любой вор за здорово живешь в руки тебе не дастся. Он готов на все. Дело-то ведь в лесу…
Евсей Васильевич шумно высморкался и сел. Я снял с тагана котелок, достал из рюкзака хлеб.
— Давайте завтракать, — сказал я, видя, что Евсей Васильевич не на шутку разволновался и теперь не скоро остынет. — Поедим, а потом разойдемся и поищем места для вечерней охоты.
…Еще при зорьке я заприметил, как небольшие табунки гусей, покружив над озером, выравнивались над берегом и прямиком летели в направлении высокого перевала. Времени было достаточно, и я без лишних раздумий ударился через клеклое болото к подножию горы. Под ногами жвакало и булькало; ржавая, застоявшаяся между кочек вода заплескивалась за голенища. Но через болото ближе, и я упорно пробирался к недалекому леску.
А вот и лесок, редкий, низкий, с наклоненными к горе вершинами. Это ветры, всегда дующие с одной стороны, с озера, так пригнули деревья. Рассыпанные по склону корявые сосенки и ели словно убегали из ветровой долины по долгому крутому тягуну к перевалу.
Немалых трудов стоило добраться до перевала, хотя издали казался он совсем рядом. Россыпи камней, кедровый стланик, спутанная сухая трава цепко хватались за ноги. То и дело дорогу преграждали поверженные бурями мертвые деревья. Они щетинились острыми иглами сучьев.
Но вот подъем позади. Ух, как отсюда все видно! Невозможно глаз оторвать от залитой солнцем, многоцветно высвеченной осенней тайги. Далеко на горизонте в неясных очертаниях высились зубчатые отроги хребтов. А ближе, меж хвойного темнолесья, выделялись желтым уже наполовину опавшие березняки. Слева, откуда я только что пришел, раскинулась камышовая равнина Глухого, справа, по другую сторону перевала, окруженное лесистыми холмами, блестело другое — маленькое озеро. Оставалось сделать вывод, что гуси перелетали на него.
И верно, удобнее места для охоты на перелетах трудно подыскать. Овальная горная гряда здесь резко понижается, образуя что-то похожее на ворота. В этой глубокой и узкой седловине совсем нет леса, только одиночные чахлые березки да рябинки сиротливо жмутся к разбросанным повсюду замшелым камням.
Я быстро прикинул, где лучше соорудить скрадки, натаскал для них валежника и поспешил обратно, чтобы к вечеру прийти на перевал с Евсеем Васильевичем и Сунаем.
5
Когда я вернулся к избушке, спутники мои были уже на месте. Сунай не только отыскал лодку, но и успел надрать пышного волокнистого мха, который теперь сушился, разбросанный по поляне.
На опрокинутом коробе я увидел четырех крупных крякв и красивого селезня-касатку. Поднимаясь на перевал, я слышал несколько выстрелов и по гулкому густому звуку легко узнавал ружье Евсея Васильевича. Так «пела» только его бельгийская двустволка, с витыми стволами двенадцатого калибра.
— С полем вас! — с тайной завистью поздравил я охотника, снимая свой пустой рюкзак.
Евсей Васильевич не ответил. Мельком взглянул на меня из-под насупленных бровей и с силой начал забивать обухом топора рогульку над костром. «Здорово расстроился старик, — подумал я, вспомнив разговор на привале, — все еще не может успокоиться».
Сунай чистил картошку и тоже молчал.
Я недоуменно оглянулся.
— Что-нибудь случилось?
— Да! — выпрямился дед. — Идем! — Он бросил топор, размашисто зашагал в ельник.
— Посмотри! — напряженно сказал Евсей Васильевич, когда мы подошли к запрятанным бочкам. Разбросав маскировку и открыв одну из бочек, Евсей Васильевич достал большой красно-синий кусок мяса.
— Лосина…
В другой оказалось нежное, еще не успевшее усолиться мясо косуль.
— А теперь туда пойдем!
В стороне, заваленная хворостом, стояла третья бочка. Вскрыли и ее. Она была полна битой, плохо обработанной птицы.
— Вот тебе и «клюква», — невесело усмехнулся дед. — Чуяла моя душа неладное — проверил! А хитрющий ведь до чего, шельма! Все обмозговал. Действует он, конечно, в паре или даже шайкой. Привезли его сюда на лошадке вместе со всем этим хозяйством — с бочками, сетями, лопатами, — дескать, работай пока один, потом подсобим. Костюмишко про запас взял. Когда придет лошадка за «продукцией» и выедут на большую дорогу, можно и снять ремье. Меньше подозрений. А то, не ровен час, попадет знакомый да спросит: откуда, мол, путь держишь? От кума, скажет, капустку вот да грибки везу…
Когда вернулись к костру, Елькина все еще не было. Сунай сказал, что он не приходил с утра. Весь день с озера слышались его выстрелы. Елькин охотился на второй лодке, которую прятал в полукилометре от избушки, в укрытой кустами заводи.
Мы молча ели вареную картошку, и думали, как теперь поступить с Елькиным? Правильней всего, конечно, взять его и без лишних разговоров отвезти до первого сельсовета, а там составить протокол. Но мы ведь не милиция и даже не инспектора. Подчинится ли нам Елькин?
Но, как бы то ни было, ясно одно: пройти мимо такого оголтелого разбоя мы не могли. А поэтому, не сговариваясь, пришли к единому выводу — по возможности быстрей разоблачить браконьера и взять его.
— Много еще осталось драть моху? — спросил Евсей Васильевич Суная.
— Еще столько же, но его надо высушить, сырого много не увезешь.
— А долго ему сохнуть?
— Если завтра с утра надеру остатки и солнце будет, то к вечеру уже высохнет.
— Значит, послезавтра отчалим.
В это время снова где-то близко грохнул выстрел. Евсей Васильевич круто посолил картошину, прислушался.
— Наколотит сегодня, что и возом не увезти. Вон сколько птицы, а он «работает»… Только мне сдается, что не такой он дурак, чтобы разоряться по уткам. Знает он озеро получше нас. И где какая птица днюет — знает. Видал, как реденько бьет, переезжает, стало быть, с места на место. Ну, погоди, скоро отстреляешься! — сдавленно проговорил дед и погрозил в сторону озера жилистым кулаком.
— Вроде бы подходящее место, должна тянуть птица, — сказал Евсей Васильевич, когда мы добрались до знакомого перевала.
На скорую руку соорудили из заготовленного сушняка скрадки и засели — Евсей Васильевич в одном, мы с Сунаем — в другом.
Большое, красное, уже не греющее солнце коснулось горизонта и выплеснуло низом полосы шафранового света. От вершин перевала, от высоких камней легли длинные фиолетовые тени. По седловине дул ветерок, и в нем взблескивали желтым опадающие редкие листья.
В стороне от нашего расположения, чуть выше по перевалу, время от времени пролетали стайки уток. Они спешили на маленькое озерко. Каждый раз, завидев их, мы поднимали ружья и каждый раз опускали — далековато. Но где же те, которые полетят над нами?
Скрадок Евсея Васильевича находился в сотне метров от нашего, на другом краю седловины. Редкий и низкий, он плохо скрывал охотника. Евсей Васильевич стоял без шапки, в расстегнутом ватнике. Я залюбовался могучей фигурой старика.
Помню, лет десять назад, когда я пришел на завод, он работал в литейном вагранщиком. Из многих работающих у печи тогда почему-то запомнился именно он. И не потому, что этот человек был старшим, не потому, что все слушали его и быстро выполняли указания. Было в нем что-то такое, отчего казалось, что все эти звоны, гуды и лязги механизмов подчинены одной его воле, его желаниям. Когда сливали чугун и цех расцветал сверкающим фейерверком огненных брызг, Евсей Васильевич стоял у канавы точно такой, как сейчас в закате, — спокойный и гордый, будто отлитый из меди.
Потом я узнал, что этот чародей-вагранщик — большой любитель природы. И потянуло меня к нему. Теперь уже не счесть, сколько дней и ночей провели мы вместе среди родных полей и лесов, сколько сожгли сообща пороху.
…Вдруг Евсей Васильевич нахлобучил шапку и низко склонился за ветки скрада. Я машинально последовал его примеру, потянул за рукав Суная. Взглянул в краснеющую закатом седловину: плавно покачиваясь, через перевал летели гуси.
Тяжелые птицы упруго взмахивают крыльями, их темные силуэты плывут над седловиной. Все ближе и ближе. Уже слышен сопящий посвист жестких перьев, я различаю, как передний покачивает головой, будто выискивает наши скрадки. От напряженного ожидания вспотели ладони, я сжимаю ружье…
Сунай без ружья. Он просто так с нами, и ему легче, наверное, в эту минуту.
Однако Сунай дергает меня за полу телогрейки и горячо шепчет:
— Давай, давай! Отпустишь!
— Рано, — как могу спокойно отвечаю ему и медленно поднимаю ружье.
Но вот, пожалуй, пора. Стайка гусей между нашим скрадом и скрадом Евсея Васильевича. Почти враз прогремели четыре выстрела. Глухое эхо испуганно покатилось по перевалу, все дальше, дальше и, слабо аукнув, затихло, потерялось в лесах. Птицы с тревожным гоготом заметались в узкой горловине, а затем круто и стремительно взмыли к небу.
Мы не успели подобрать добычу: вдали вновь показались птицы. Вытянув шеи, они летели по роковому пути на нас.
Но какие же большие эти гуси! И белые совсем! Я пристально всматриваюсь в их распростертые очертания и вдруг узнаю лебедей.
И вот они уже над перевалом. Раз, два, три… Восемь штук! Спокойно и согласно взмахивая крыльями, лебеди благополучно пролетают над седловиной. Мы провожаем их взглядами. И долго еще в синей роздыми на пестром узоре лесов мелькают их белые крылья.
К избушке вернулись уже ночью. Над поляной сизыми пластами качался дым. Мы облегченно вздохнули: Елькин ничего не заподозрил — дома.
Неведомо как заслышав наше приближение, он вышел навстречу. Осмотрев добытых птиц, сам услужливо повесил их под навесом крыши и, похлопав Суная по плечу, рассудительно сказал:
— Конечно, утешка не мясо! Утешка, она навроде воробья — пух да кости. То ли дело гуси-лебеди!
6
Ночью ярко вызвездило, и на землю пал сильный заморозок. Накрепко схватило сырые займища, мелководные заливы озера покрылись глянцевым ледком.
С восходом солнца все вокруг засверкало и залучилось. Живая игра огней изменчиво переливалась на стылых травах, на высоких усохших стеблях лабазника, в стеклянной россыпи брусничных листьев. Ватажки рябин, будто белыми шалями, укрылись пухлявым куржаком, и через этот куржак калеными угольями светились перезревшие гроздья ягод. В продувном осиновом сколке радостно взвизгивали молодые сороки, и сытые дрозды-дерябы, пострекотывая, стайками перелетали с куста на куст, приближаясь к рябинам.
Камышовое озеро молчало, будто выстыло за ночь. Лишь изредка высоко в небе пролетит табунок уток или протянет одинокий гусь.
— Ушла птица, — почти торжественно сказал Евсей Васильевич. — Ну и легкой дороги ей.
«Легкой дороги», — мысленно пожелал и я, представив, как бы громыхнули в этой тишине раскаты наших выстрелов. Пусть будет тихо на озере.
Сунай свернул с тропинки, повел нас между опалых черемух к лодке. До обеда мы надерем мху, а заодно и посмотрим озеро, на которое так и не довелось выехать.
В пропахшей рыбой плоскодонке, отталкиваясь шестами и разбивая звонкий прозрачный ледок, мы проплыли немного по мелкому каналу среди камышей, и впереди открылся широкий плес. На нем тоже лежал лед, но уж совсем тонкий, и лодка шла беспрепятственно, с легким треском подминая его днищем. Посередине плеса над сверкающей гладью льда вытянулся пологий остров с низкими зыбучими берегами. Стоявший на корме Сунай направил лодку вдоль острова, а затем круто развернул ее и глубоко вклинился в илистый берег. Берег осел, закачался.
— Как же мы сойдем? — спросил я, попробовав ногой трясину.
— Запросто! Тяни вон ту жердину, ступай по ней до другой, а там третья недалеко, — посоветовал Сунай, показывая на разбросанные по сторонам стволики березок. — Да шесты, шесты не забывайте, не то нырнете…
Не очень уверенно, то балансируя, то опираясь шестами, мы перешли по вертлявым, тонущим под сапогами жердочкам на более твердое место, сделали из плавника и этих же жердочек настил к лодке.
Ровный мшистый покров острова, как скатерть-самобранка, был густо усыпан крупной спелой клюквой. Влажная и льдистая, она вишнево рдела повсюду в таком обилии, будто ее нарочно набросали здесь из лукошек. Стоило наклониться, провести рукой — и полная горсть ягод. Клюква была настолько вызревшей, что давилась, стреляя струйками сока, от несильного жима пальцев, а на языке тотчас таяла, опаляя рот невыносимой кислядью…
— У-ах, ядреная, язви ее! — тряс дед бородой и так морщился, что из уголков его зажмуренных глаз выступали слезы.
Толстое одеяло мха сдиралось легко. Мы с Сунаем, подняв высокие голенища сапог, стояли на коленях, закатывая его в рулон, а Евсей Васильевич подрезал ножом снизу стебельки и корни. Затем все трое несли тяжелый, провисающий рулон к лодке и укладывали на дно. Дело продвигалось ходко, лодка наполнялась быстро, а на острове, там, где мы снимали пласты, оставались черные квадраты. В них сразу скапливалась пахучая коричневая вода.
— Баста! — крикнул Сунай, когда воз поднялся выше бортов. — Короб с верхом набьется.
А солнце опять встало над камышами, увлажнило, словно маслом помазало, тонкую пленку льда. Над озером залетали невесть где таившиеся утки. Но это была уже не зорька, а последний сбор оставшихся птиц. Их было немного, и почти все морские чернети. Они летят издалека, с побережья Ледовитого океана, и обычно дольше задерживаются на промежуточных остановках.
Над озером кружили отдельные разрозненные стайки, но с каждым кругом к ним примыкали взлетающие из камышей небольшие группы, пары, одиночные утки. И сами стайки соединялись в одну большую, и она продолжала летать над камышовой равниной, шумом полета привлекая забывчивых и беззаботных.
Когда соберутся все, стая опустится на «море» — открытую в многокилометровом кольце камышей воду — и станет ждать ночи. Ожидая ее, птицы будут держаться кучно, сдержанно гагакая, поглядывая на крупных селезней — вожаков стаи. Вожаки — старые птицы, они не раз пересекали по этим воздушным путям материк. Когда скроется за горами солнце, по их сигналу стая разом рванет тишину уснувшего озера хлопаньем сотен крыльев. С веселым шумом птицы поднимутся в ночное небо, сделают над озером прощальный круг (не замешкался ли еще кто-нибудь) и возьмут направление на далекую, одним им известную звезду на горизонте — к югу.
Мы долго наблюдали за птицами. Есть что-то в их великом кочевье волнующее нас, людей. Отлет птиц в чужие страны вызывает смешанное чувство — тихую печаль утраты и тайную радость надежды. Пусть летят. Они все равно вернутся.
Днем, когда мы привезли к избушке мох и быстро разбросали его для просушки на поляне, Евсей Васильевич сказал:
— Понимаешь, все думаю о Елькине. Вот никак не укладывается у меня в голове эта благость в природе, эта ее музыка — и разбой. Ну неуж в Елькине нет ничего такого, от чего бы екнуло, затосковало сердце? А, наверно, ведь нет. Лес для него — все равно что открытый чужой амбар — заходи, бери сколько хочешь. И никто его не тревожит. Он даже при нас вон как орудует! Разве это порядок, когда по тайге преспокойно разгуливают такие ворюги?
— Непорядок. А что, по-вашему, делать, как оградить леса от браконьеров? Сами же говорите, что в ведении одного инспектора тысячи гектаров угодий.
— Что делать? Скажу. Как сам соображаю, конечно. Правильно, одним егерям да инспекторам тут не справиться. Надо контролировать леса охотникам-любителям. Пошире, побольше, чем сейчас это делается. Поехали мы, к примеру, сюда, а нам бы поручили посмотреть заодно, как здесь, на озере, все ли ладно? Ну и права соответственно дали бы. Хоть как дружинникам, что ли. В другом месте — другие охотники. И так везде. Понял?
Едва дед умолк, как из леса показался Елькин. Сапоги, брюки, телогрейка его были вымазаны глиной. Он подошел к нам, бросил на землю тяжелый, пропитавшийся кровью вещмешок и, облегченно выгнув спину, откровенно поведал:
— Барсучишек поковырял малость. Полно их тута! Штука эта наживная — сало все труды оправдает. Посчитай: топленое барсучье сало по базарной цене — двадцать рублей пол-литра. И с иного поросюги этих поллитровок пять-шесть натопишь. И мясо к тому же. Беркулезники его с руками оторвут…
Елькин заговорщически подмигнул деду:
— Еще две семьи на примете есть, могу в пайщики взять…
Дед побагровел. Схватил браконьера за плечи и принялся трясти его с такой силой, что казалось, у него вот-вот отвалится голова.
— Я тебе дам са-ало! Я тебе пок-кажу п-пай! — заикаясь от негодования, приговаривал дед.
Я подбежал к ним.
— Оставьте его!
Елькин не защищался, не вырывался. Ноги его вихлялись, как у пьяного. Евсей Васильевич с омерзением швырнул браконьера в сторону. Тот растянулся на траве.
— За что, за что убиваете! Вас за ето всех пересадят! Бандиты-ы…
— А ну, встань! — приказал дед. — Документы у тебя есть?
Такого вопроса Елькин не ожидал. Встал, затравленно оглянулся. На худых его скулах заиграли желваки, шрам на переносице побледнел.
— Какие ж у меня документы? Живу в лесу, кому они здесь нужны?
— Нам, — твердо сказал Евсей Васильевич.
— А кто вы такие, чтоб документы мои проверять, а? Кто вы такие, спрашиваю?
Но когда подошел Сунай и мы втроем, обступив браконьера, повторили требование, он присмирел.
— Сами посудите, на кой они мне, в лесу-то? Ни в жисть никто не спрашивал.
Елькин понял, что если уж у него потребовали документы, то дело всерьез пахнет ответом, и принялся путано объяснять, какой он есть мирный и невредный человек.
Мы ему поверили только в одном — документов у него с собой действительно не было.
Когда весь запас красноречия был исчерпан и не достиг цели, Елькин решительно изменил курс. Приблизившись к Евсею Васильевичу, он с укоризной произнес:
— Зря вы на меня нападаете! Я ведь простой, не жадный… И с мясом, и с рыбой будете. Но… — он воровато оглянулся, совсем побелевший шрам выдавал его волнение, — но… чтобы все было шито-крыто…
Мы подавленно молчали. Это было настолько нагло, что ни Евсей Васильевич, ни Сунай, ни я не нашлись сразу, что ответить. Елькин выжидающе смотрел на нас.
И тут произошло неожиданное: Сунай вдруг сделал жадные глаза и, шагнув к Елькину, горячо спросил:
— А хватит всем?
Елькин облегченно вздохнул, криво усмехнулся:
— Давно бы так. А то — ух, разошлись! Айда!
Он бойко зашагал в ельник. В густяке под шатровым свесом ветвей долго разбирал старые сучья и наконец извлек из ямы два пузатых бидона.
— Сало барсучье. Один вам, другой — мне… Идет?
— Идет, — мрачновато согласился Сунай. Он дернул Елькина за рукав, опять жадно прищурил глаза:
— И все, что ли?
— Пошто все? Рыбы дам. Вяленой вам или соленой?
— Всякой давай.
Елькин совсем успокоился и панибратски повторил:
— Давно бы так. С добрыми-то людьми завсегда можно сговориться…
О мясе мы уже знали, а потому не настаивали на своем «пае». Заручившись обещанием Елькина получить бочку соленых и мешок вяленых карасей и узнав, где это добро находится, мы пошли к избушке.
Евсей Васильевич сразу понял хитринку Суная, однако не мог смотреть ни на меня, ни на него. Неловко было и нам перед этим старым человеком, прямым, правдивым, не умеющим вести себя иначе. Не вынес Евсей Васильевич такой игры, отвернулся, давай рассматривать колеса у телеги…
Все вроде складывалось хорошо. Елькин соглашался на все условия, но как раз эта его податливость настораживала: не такой он простак. Надо ожидать, что при удобном случае не преминет удрать.
Об этом мы подумали и постарались закрепить наши «пайские» отношения — договорились, что завтра с утра пойдем вместе рыть барсучьи норы.
— Ладно, ладно, — не возражал Елькин. — Вот у меня и каелка запасная есть, и лопата. Все не одному спину гнуть, раз на паи работаем…
Вечером мы между собой окончательно условились отправиться домой завтра. Непременно с Елькиным. Продукцию его тоже решили взять. Жалко оставлять добро. Я сомневался, увезет ли все лошадь — груз большой, дорога нелегкая, — но Сунай сказал, что лучше оставить мох, чем бочки с мясом и рыбой.
7
А ночью — это мне стало известно от Евсея Васильевича уже позже — произошло вот что. Елькин не спал. Ворочался, удушливо кашлял, закуривал и выходил на улицу. Возвращался не то озябший, не то взволнованный. Не в силах унять дрожь, кошкой прокрадывался возле нас и, выжидая, чутко затаивался на нарах.
Перед утром, уверенный, что мы спим, снова поднялся, осторожно натянул фуфайку. На ощупь отыскал на стене свое ружье. Теперь все его имущество было на нем и с ним.
Избушку Елькин покидал неслышно, как тень. Прошел той половицей, которая не скрипит, ржавые дверные петли еще днем предусмотрительно смазал жиром. Да и время для побега выбрал подходящее — в часы самого крепкого сна.
Однако просчитался: Евсей Васильевич держал ухо востро. Едва Елькин переступил порог, он надернул сапоги и вышел следом.
Вскоре из леска послышался треск валежника — это Елькин доставал из тайника бидоны с барсучьим салом. Подхватил их и споро зашагал к озеру. Напротив избушки остановился: дрыхнут, ротозеи? И свернул на тропинку. Евсей Васильевич — за ним.
Чем дальше браконьер отходил, тем быстрее и увереннее были его шаги.
У заливчика в черемухах поставил бидоны, снял и положил на землю, чтобы не мешалось, ружье. Кряхтя и натужась, столкнул в воду лодку. Опять прислушался. Спокойно кругом. Хриплым, злорадным шепотом протянул:
— Получите у меня мяска, законники! Видали мы таких! Сперва поищите ето мяско! Хе-хе!..
Переставляя в лодку бидоны, Елькин поскользнулся, уронил один на дно. Бум! — грохнуло в тихой ночи. Елькин прижался к борту. Но все обошлось. Успокоился, опять направился к избушке.
Вторым заходом браконьер тащил сети и мешок с рыбой. Мешок свалился с плеча, свинцовые грузила сетей били по ногам. Елькин поудобнее взял ношу, прибавил шагу.
Но вот и лодка, можно передохнуть. Достал папиросу, зажег в ладонях огонек, запыхал жадными затяжками. С опаской осмотрелся.
Точно подкравшись, вышла из-за тучи над лесом луна. Зацепилась спелым боком за длинную голую суковину и повисла, засияла на ней, будто огромный желтый фонарь на ночной улице.
— Тьфу ты, пропасть, — выругался Елькин, отодвигаясь в тень.
Он затоптал окурок, наклонился к сетям и…
— Куда собрался?
Браконьер грузно осел на борт.
Евсей Васильевич выступил из зарослей.
— А ну обратно!
— Опять… ты! — Елькин задохнулся от ярости, сграбастал под ногами ружье, щелкнул затвором. — Убирайся, хрыч! Согрешу!
Евсей Васильевич шагнул вперед.
— Ты… ты что, стерьва, жить не хочешь? — взревел Елькин и, пятясь, переступил в лодку.
Евсей Васильевич шел на браконьера. Елькин одним прыжком вымахнул к черемухам, вскинул ружье.
— Не подходи-и! Не толкай на смертоубийство!
Елькин пятился до тех пор, пока не уперся в частокол черемушника. Взблескивающий в лунном свете ствол берданки зловеще покачивался в его руках, глаза лихорадочно посверкивали.
И когда Евсей Васильевич подошел к нему совсем близко, Елькин надавил на спусковой крючок.
— Вот те!.. — рявкнул он и, безумея, прикусил язык: из сизой пелены порохового дыма на него все так же неотвратимо надвигался могучий старик.
— Дай сюда ружье! — потребовал он.
8
К отъезду все было готово. Хорошо отдохнувший Ретивый нетерпеливо перебирал ногами и звякал удилами в зубах. На дно короба погрузили бочки с мясом и рыбой, бидоны с салом, сложили мешки, сети. Сверху все это завалили мхом.
Елькин сидел на пеньке и отрешенно ковырял носком сапога землю. Сидел и, наверное, думал: «Вот влип так влип! И удрать нельзя. Что толку, все равно теперь найдут. Сам, балда, выдал себя, сказал фамилию. Да кто знал, что так обернется?..»
Дед перетянул воз ремнями, пристроил в передок рюкзаки, ружья. Мы тем временем вымели избушку, оставили в ней весь запас сухарей, спички, нарубили дров. Дверь снаружи приперли плахой. Кто знает, теперь, может быть, люди сюда не наведаются до весны.
— Ну вот, поохотились, и будет, — сказал Евсей Васильевич. — Садись давай, Елькин, в карету.
Елькин — уже который раз за утро — взмолился:
— Отпустите, милосердные, богом прошу! Бес меня попутал, теперича век ружье не возьму!
— Бес-то бесом, да ты и сам не промах, — сухо отрезал Евсей Васильевич.
Елькин встал и понуро побрел к телеге. Долго устраивался на мху, а когда сел, вдруг резко повернулся к Евсею Васильевичу:
— Как же я тебя не ухлопал ночесь, стерьва?
Вместо ответа дед достал из кармана картечь из разряженного патрона и высыпал ее Елькину на колени…
— Гоп, Ретивый! — весело крикнул Сунай, и телега дробно застучала колесами по выбитым корням.
ЛЕСНАЯ ПОВЕСТЬ
ОСЕНЬ
Гон лосей
Был месяц сентябрь. Осень входила в силу. Еще с августа зазолотила она березовые перелески, зарумянила осинники на болотах. Вянут травы, меркнут туманные дали.
Неброски, печальны осенние пейзажи. Светлой прожелтью испятнаны склоны гор. В оголенных лесах там и тут кострами пылают рябины. Лиловая высь уже не ласкает глаза лучезарной светлынью. Безбрежное небо будто притухло и стрелами перистых облаков указывает путь холодным ветрам к далекому югу.
Тихо днями в лесу. Сонливая темь царит под каждым деревом. Сторожкими стали звери в поредевших урманах. В стаи сбивается птичья молодь и под водительством старых испытывает крылья в пробных полетах.
Дни убывают. Близится время осеннего равноденствия. Темные ночи жгут в небе пожарища звезд. Первые заморозки коробят пашню. Студеный воздух чутко ловит лесные шорохи. Полевка прошуршит травой — далеко слышно.
Каждый день меняет осень свои наряды. И зелень у нее, и золото, и кумач, и радужный блеск бриллиантов на стылых травах…
Но вот уж и блекнут осенние краски. Насупилось, совсем потемнело небо. Зашумел встревоженный ветром лес. Редеют густые березняки, будто гребнем вычесывают их. Тучи падающей листвы! И вот уже нет светлых пятен на склонах гор, нежно-палевые и шоколадные оттенки растеклись меж хвойного темнолесья.
Все больше крепчает ветер. Стремительными порывами налетает он на свинцовую зыбь озер, завивает белые бурунчики на гребнях волн. Совсем померкли короткие дни. К югу потянули первые стаи птиц.
По лесной дороге идут женщины. Лукошки, корзины, ведра у них полны грибами. Уставшие, но веселые, тараторят они без умолку. Неожиданно доносится до них далекий, протяжный звук, похожий на стон. Женщины останавливаются и, спустив платки на шею, настороженно слушают…
По той же дороге навстречу веселой гурьбе шел лось. Время от времени он поднимал тяжелую горбоносую голову и гулко, на долгом утробном выдохе ревел. В тоскующем реве зверя слышался призыв.
Когда повторился загадочный стон, женщины испуганно переглянулись и, стуча кошелками, спешно свернули с дороги в лес.
Замер лось, вскинул голову: ухо уловило стук корзин. Фыркнув, он сорвался с места и быстрой, размашистой рысью побежал на звук.
Громкий крик отрезвил взбалмошного лося. Вихрем пролетев мимо грибниц, зверь исчез в березняке. Только и успели увидеть женщины большое рогатое чудо со сверкающими глазами, с поднятой шерстью на хребте.
Лось вскоре замедлил бег и остановился на вершине горы, среди редкого подлесья. Это был огромный старый самец с седыми мягкими губами и белыми ногами. Он долго ворочал длинными, как весла, ушами, тянул чувствительными ноздрями воздух. Успокоился, побрел по открытым еланям и снова стал мычать. Поздно вечером тоскующий зверь уже был далеко, на крутом яру гремучей горной речки Калиновки.
Неведомо откуда пришел сюда лось-великан. Целые дни он ходил по горам, спускался в долины и все ревел. А ведь совсем недавно этот большой осторожный зверь был другим. Казалось, для него не было ничего дороже мягких побегов древесной молоди, сочной лесной травы. И вот с первыми холодами изменилось все. Начался осенний гон. Лишился покоя лось, потерял голову.
Но не один он неприкаянно бродил в те дни, оглашая леса призывным ревом. Так же, забыв осторожность, ревели многие белоногие гуляки. Лоси делали большие переходы, переплывали реки, выскакивали на проезжие дороги, кидались на всякий звук в лесу, принимая его за стук рогов.
Случались и встречи. Редко взбесившиеся рогачи расходились мирно. Особенно яро быки дрались возле лосих.
В тот поздний вечер снова был бой. Среди темных ельников на широкой поляне сошлись несколько лосей. Недалеко гремел падун на Калиновке и глушил посторонние звуки. Выбежал на поляну нежданно огромный рогач и, вытянув шею, трубным мычанием стал звать на бой. Сухопарый лось-молодец отделился от прочих, смело пошел на вызов. Резкий, как выстрел, треск рогов прозвучал в тишине. Сопя и натужась, лоси клонили друг другу головы. Но не судьба, видно, смелому лосю ходить по родным лесам, не по плечу оказалась силища недруга. Подвернулись ноги у сухопарого — и он рухнул на землю…
С обагренным лбом поднялся лось-великан, устало пошел в сторону. Он шумно дышал, мясистые ноздри трепетали. На широкой груди и крепких ногах играли упругие мускулы. Победитель обвел взглядом поляну и тут заметил лосиху. Она независимо щипала побеги.
Наступила ночь. Незыблемая тишина опустилась на тайгу. Лишь слышно было, как лосиха терлась мордой о куст да, хрустя валежником, переступал с ноги на ногу лось.
Рано утром красавицу лосиху навестили вчерашние ухажеры. Не стоило больших трудов ревнивому великану опять разогнать их. Не посмели кроткие женихи завязывать ссору и подобру-поздорову удалились…
Волчий выводок
Худое в тот год выдалось бабье лето. В дни, когда по народной примете должно еще быть теплу, в горы пришел холод. Стынет воздух под сводом тяжелых туч, по горным увалам вольно гуляет ветер. Совсем разделись лиственные леса, посохла, полегла трава. Будто темная рать, стоят густые кедровники, прикрывают сенью разлапистых ветвей молодую поросль. Колючими порывами ветер налетает на открытые березки, гнет до земли, срывает последний лист.
Тоскливо в заглохшем лесу. Лишь ветра вой да прощальные крики птиц наполняют осенний воздух.
«Клю, клю, клю» — прокликал с высоты лебедь, свалился на одно крыло, круто пошел вниз. Летевшие сзади лебеди повторили его вираж и, плавно описывая круги, стали снижаться на маленькое озерко в середине болота.
А на краю болота, на сухих корневищах сосны, лежала волчица. Завидев опускающихся больших белых птиц, она вытянула передние лапы и плотно положила на них голову. Рваные уши припали к затылку, в глазах затлели зеленые огоньки.
Неслышно подошел сзади волк-самец. Следом за ним, так же осторожно, еще два волка, а за теми — четыре молодых волчонка. По немому приказу старших вся стая гуськом направилась к озерку.
Глубоко увязая во влажном мху, впереди шла волчица, за ней молодежь, отец-волк замыкал шествие. Молодые звери нетерпеливо вскидывали длинные морды, норовили забежать вперед. Но секундная остановка матери грозно укрощала их пыл. Откуда-то выскользнул и поплелся далеко позади стаи тощий пятый волчонок. Волчонок спешил догнать семью, но это получалось шумно, и он боялся. Предупреждающий взгляд старого волка заставлял его припадать к мокрому мху.
Не дошли звери до озерка, остановились. Постояли с минуту, словно бы раздумывая, как действовать дальше, затем разделились на две группы и во главе со старшими, полукольцом охватывая озерко, потянули к топким берегам.
Солнце скрылось за горными кряжами. Еще недолго на краю неба тлела холодная заря, а потом враз стемнело, и в покой погрузилось болото.
Но вдруг всплески воды, торопливое лопотанье крыл содрогнули тишину. С озера взлетали лебеди. Тяжелые птицы медленно набирали над берегом высоту. Неожиданной серой тенью взметнулось упругое волчье тело. Первый лебедь круто повернул, да не успел — сомкнулась клыкастая пасть, увлекая птицу к земле. С тревожным кликом заметались лебеди. Веселые волки свечками взмывали в темноте, сшибались в беге, ловко цапали смятенных птиц. «Цок, цок, цок» — металлически постукивали их молодые сильные зубы. На другом берегу старый волк следил за работой питомцев.
Уже в полночь звери старой тропой и в прежнем порядке пошли обратно. На месте пиршества хлопьями снега белел лебяжий пух.
Пропустив выводок, выполз из-под ели худой волчонок. Воровато осмотрелся, похватал еще теплых, липучих перьев и, неуклюже выбрасывая кривые ноги, поспешил за семьей.
Калиновка — горная река. Падуны и перекаты наполняют шумом прибрежные леса. Далеко от берега слышен грохот воды. Глухие леса обступают Калиновку. Дремотные старые ели обросли бородищами мхов. Непролазные буреломы таят коварные ловушки. Ступишь на упавшее дерево-мосток, а оно с треском рушится, поднимая тревогу. Но зверю не страшны таежные дебри, они для него — защита. Под мраком кедровых лап тропинки протоптаны. И ходят по ним хозяева здешние — волки.
Их логово было в ельнике у заросшего ручья. В зарослях малинника и вербняка, под грудой полусгнивших деревьев, родились и выросли волчата. Ручей летом пересыхал, и его глубокое каменистое русло служило хорошим убежищем. В дневную жару молодые волчата перебирались на дно и там, скрытые зеленью от солнца и чужих глаз, спокойно коротали время.
Когда волчата подросли, стали играть на небольшой полянке вблизи от логова. Заваленная обглоданными костями и клочьями шерсти, она, как и само логово, в тихую, застойную погоду источала неприятный запах. Тут малыши познакомились со старшими братьями — переярками. Прошлогодние волчата-переярки жили почти независимо, но и не покидали родителей. Для младших братьев они никогда не приносили добычи, зато всегда доедали, а то и просто отбирали остатки у молодых.
Взрослые волки часто все вчетвером ходили на охоту. Когда они уходили, молодые терпеливо отлеживались в логове, ничем не выдавая своего дома.
Первые несколько дней волчата питались молоком матери, потом мясной отрыжкой родителей. Позднее, когда их зубы окрепли, начали пробовать свежее мясо. Это заставило стариков усиленно охотиться.
Волчата росли быстро. Летом пищи всегда хватало, было и чем позабавиться. Во второй половине лета старые звери стали приносить им полуживых зайцев и птиц. Волчата учились ловить их. Вот тогда и случилась с одним волчонком беда.
Как-то раз отец-волк притащил крупного зайца. Измятый, с обслюнявленной шерстью, лежал он в траве и ждал своей участи. Серые зверята вмиг окружили жертву. И тут произошло непоправимое: казавшийся беспомощным, заяц вдруг опрокинулся на спину да с такой силой полоснул длинными, как рычаги, задними ногами подоспевшего смельчака, что тот, неистово взвыв, отлетел далеко в сторону. Одним духом обреченный пленник выскочил из страшного круга, перемахнул ручей — и был таков…
Было бы ничего, если б случай с зайцем кончился для волков просто позором. Крепкими, словно обрубки проволоки, когтями косой распорол брюхо волчонка. Отсюда все и началось.
Звери не признают больных. Больному никто не поможет, никто не исцелит. Таков уж звериный закон. Неделю раненый волчонок лежал пластом, никому не нужный и позабытый. Братья переступали через него, родители не удостаивали взглядом. Однако жизнь взяла свое. Зализав раны, он стал медленно поправляться. Но увечный волчонок навсегда потерял положение в семье. Теперь не проходило часа, чтобы не дергали его за облезший хвост, не цапали за горло. Вся семья отвергала больного зверя, гнала от логова.
Медвежья ночь
За лесистым перевалом, там, где Калиновка, огибая скалистый шихан, делает широкую излучину, брел берегом сытый медведь. Непроглядна осенняя ночь. Осторожно ступает зверь, прислушивается, принюхивается.
Неспроста не спал мишка в эту позднюю пору: на другой стороне реки, на убранном овсяном поле, вот уже несколько ночей подряд паслась лошадь. Не дает покоя медведю заманчивая добыча. Но переправиться на тот берег не решался: запахи близкой деревни, холодная вода пугали его. Бывало, уже утром, когда в поле раздавались людские голоса, недовольный, уходил медведь от реки.
И в ту ночь, возможно, косолапый не отважился бы перебрести бурлящую Калиновку, да терпения не хватило: лошадь фыркнула где-то совсем близко. Прижав уши, зверь решительно направился к воде. Бесшумно перешел брод и, не отряхиваясь, прилег на отмели.
Берег этот был крутой, заросший черемухой. Убедившись, что все спокойно, мишка нашел в зарослях лазейку. Не хрустнув веточкой, пролез в нее и сразу оказался на закрайке поля. Медведь хорошо чуял лошадь, слышал позвякивание пут, но, как ни глядел, увидеть не мог. И выбрался на желтую стерню.
Услышала лошадь беду, когда зверь был уже рядом. Махнула гривой, поскакала к деревне. Но, спутанной, ей трудно было спастись в чистом поле. Догнал медведь жертву, наотмашь ударил могучей лапой…
Тихо сделалось над полем. Лишь на Калиновке незлобиво рокотал перекат да в деревне сонно взлаивали собаки. В полночь между туч выглянула ущербная луна, проплыла белым огнивом в бездонной звездной прогалине и осветила на поле медведя. Зверь волоком тащил лошадиную тушу в ближайший лесок, чтобы там припрятать до завтрашней ночи.
Остаток ночи и весь следующий день объевшийся медведь проспал. Да и было с чего! Но как только сгустились сумерки, вылез из-под вывороченных корней обвешанной мхом ели. Долго стоял, прислушивался, приглядывался. Спокойно в родном лесу. Подошел к сосне, почесался боком и снова прислушался. Мягко ступая, направился к берегу. Смело спустился сегодня в воду, переправился на ту сторону. Не доходя знакомого леска, опять остановился. Целый час простоял осторожный зверь, нюхал воздух. Пахло овсом, прелой соломой и еще чем-то непонятным. Но все эти неясные, наплывающие временами запахи глушил сильный, всепоглощающий дух захороненной под хворостом добычи. Медведь двинулся к туше. Но не успел он сделать и десяти шагов, как вдруг ослепительно ярко сверкнуло что-то вверху, и оглушительный раскат выстрелов потряс ночь. Медведю сильно ударило, обожгло голову, он споткнулся, но тут же оправился и напролом, через лесок, бросился наутек.
С косматой ели быстро соскочили два человека. Они выбежали на поле, кинулись к берегу. Темень — хоть глаз коли! Да и медведь не сидел на месте…
Сентябрь на исходе
Переменчива осенняя погода. Проглянет один-другой яркий денек, и опять небо насупится. Потемнеют леса, завоет ветер. Так было и в ту осень. Всплыло над лесом красное солнце, а ему навстречу — северный ветер. Потом ветер приволок тяжелую тучу и без единого просвета разостлал по небу. Заморосил косой дождь. Заунывно шумел он по лесу на другой и на третий день.
У подножия Лысой горы, под кряжистыми соснами, стоял лось. Отряхиваясь, он зябко подергивал кожей. Рядом, скрытая от дождя ветвями, лежала лосиха.
Лось большой и, оттого что был мокрый, казался черным. Уши поблескивали сквозными дырами. Огромная голова от глаз до губ — в ссадинах и шрамах. По шее — выпуклый рубец. Это следы прошлых лесных битв.
Лось был стар. По рогам видно. Широкой короной раскинулись они в десять отростков. По отросткам на рогах можно сосчитать, сколько зверю лет.
После встречи на поляне сохатый крепко и ревностно привязался к молодой лосихе. Он никогда не оставлял ее, во всем старался услужить. Находя лакомую пищу, не брал ее, пока не начинала есть лосиха. Если она, уставшая, ложилась отдыхать, лось долго стоял над ней и, лишь когда подруга засыпала, осторожно ложился сам.
Гон лосей еще не прошел. К старым гулякам присоединилась молодежь. На третий, на четвертый год от роду с наступлением холодов молодые сохачи начинают ощущать небывалый прилив сил. Как и отцы их, молодые теряют всякую осторожность, бродят по лесам, издают призывные звуки. Стон их короткий, отрывистый, отличим от рева старых лосей.
Под влиянием братьев начинают реветь и самые молодые, полуторагодовалые лоси, у которых еще не сменились молочные резцы и бархатистые рога едва заметно раздвоились. Но эти стонут просто так, за компанию, поддаваясь общему азарту.
Бывали случаи, когда пару навещали холостяки. Страшен был в такие минуты ревнивый великан. Ощетинившись и прижав уши, он неудержимо летел на противника. Чаще соперники добровольно убирались.
Однажды старый лось сошелся тоже с крупным, но молодым лосем. Могучий, гладкий незнакомец долго смотрел на лосиху, и голова его опускалась к земле. Старый лось предупредительно хватил копытом по тонкой березке и срубил ее, как топором. Пришелец не дрогнул. Он только упрямо мотнул головой да пошире раскинул ноги. Это был прямой вызов на битву.
Неукротимый гнев обуял старого лося. По всему хребту торчмя поднялась шерсть. Склонив низко голову, старый лось неустрашимо понесся вперед.
Гудела земля под ногами соперников, на перепаханную копытами поляну валились сломленные, выдранные с корнями деревца. Бой был не на жизнь, а на смерть.
Изловчился матерый сохач, проворно отпрянул в сторону. Мечет огни глазами, следит за противником. Рог висит у того, пена красная падает с пасти. Покачивается лось.
Передохнул минутку старик, обманчиво крутанул головой и вдруг, вскинув ногу, со страшной силой ударил в открытую грудь противника. Молодой лось, как дуб подпиленный, качнулся и рухнул наземь…
Но вот сентябрь на исходе. Лоси как бы опомнились от хмельного угара, снова стали чутки и осторожны. На дорогах и на открытых полянах уже их не встретишь. В тихие вечера не слышно стало стука рогов и трубных звуков.
Никогда еще за весь год лосиха не была так стройна и сыта, как сейчас. Густая шерсть лоснилась матовым блеском, на плотном теле выпукло выделялись мускулы. А лось был худ. В течение всего беспокойного месяца он почти ничего не ел. Обозначились ребра, голова стала угловатой и еще более горбоносой. Не лучше выглядели и другие быки. Теперь им было не до драк. Близились зимние холода, и лоси усиленно жировали.
Законы природы
Как бы ни была просторна тайга, у каждого зверя свое обиталище. Одни любят леса светлые, редкие, другие — глухие, непроходимые. Одни любят речки бурные, другие — озера тихие. Каждый привязан к своему дому, и каждый по-своему охраняет его.
Сторожкая выдра-отшельница. Живет незаметно, в заросших берегах таежных рек. Проворно, как щука, ныряет, ловко хватает рыбешек. Гнездо у нее под землей, а нора-коридор выходит в воду. Редко, очень редко удается увидеть ее даже таким лесным старожилам, как бобру или барсуку. Но стоит появиться опрометчивой родственнице в ее владениях — живо хозяйка объявится! Драке жестокой быть, если не уйдет пришлый зверь подобру-поздорову.
Даже белка и та уголок свой знает. Зиму и лето живет на одном месте. И только в бедственный год, когда случается неурожай на кедре-кормильце, рушится этот давнишний обычай. Собираются белки большими стаями и кочуют по тайге. Тогда ничто не устрашает встревоженных зверьков. Они переплывают реки, не обходят людных городов и деревень. Много гибнет белок во время таких путешествий.
И волки свою обитель знают. Крепко держатся знакомого леса. Живут парой или семьей. И до поры ничем не выдают себя.
Зима изменяет привычную жизнь зверей. У хищников круг охоты расширяется, стаями собираются птицы, стадами живут копытные. И чем суровей зима, тем больше путаницы в звериных законах.
И еще есть в природе закон — жить только сильным. Сама жизнь ведет отбор. Не встретишь в лесах хилого зверя, не увидишь птицы с перебитым крылом. Все быстроногие, быстрокрылые. Не убежать худому, ослабшему лосю от волка. Здоровый спасется, даст достойное племя. А у волков как?
…В тихое морозное утро октября по лесу шли волки. Солнце играло на обледенелых стволах деревьев. Щурят звери глаза от лучистых бликов. Впереди, как всегда, матерые. Волчата к этому времени хорошо подросли и мало отличались от старых. Только шерсть была гуще да морды без единой царапины.
Далеко сзади брел тощий, грязный волчонок.
Миновав на угоре высокий лес, волки спустились в низину и еловой гривой направились к знакомому болоту. Шли цепочкой, никто не забегал вперед, не сбивался в сторону. Самый неуловимый звук хищники мгновенно засекали и, как по команде, враз останавливались. Чем ближе подходили к болоту, тем чаще стали их таинственные остановки. Собравшись в круг, звери недоверчиво оглядывали друг друга, подозрительно прощупывали глазами кусты, деревья. Замирал и больной волчонок, завидев остановившуюся семью.
Болезнь и голод медленно, но неотвратимо вершили свое дело. На обвисшей шкуре шерсть скаталась, четко проступили ребра. От волчьих обедов ему не доставалось даже обглоданной косточки. Только сунется, только даст о себе знать, здоровые волчата, а то и переярки набрасываются на него. А тут уж спасайся! Промедлишь — и задерут. День ото дня хирел отторгнутый от семьи волчонок. Самостоятельно он охотиться не умел да и боялся оторваться от выводка. А ненависть родичей к нему все возрастала. Теперь его преследовали уже только за то, что он попадался на глаза…
Выводок приблизился к болоту. С высоты крутого берега открылся вид маленькой тундры. Чахлый сосновый лес утопал в пахучих сфагновых мхах. Яркой позолотой горели заросли засыхающего багульника, там и тут, как паучьи лапы, вздымались вывороты корневищ. Волки спустились под яр и, минуя гнилые колодины, потянули в глубь болота.
Хрипло дыша, на берег взобрался волчонок. Устал, с парного языка срывались капли. Луч солнца скользнул по жарким сухим глазам. Волчонок прилег перевести дух.
На широкой поляне волки опять остановились, разошлись по краям, стали поглядывать назад. Не знал волчонок, что остановка эта для него была последней. Враждебным взглядом встретила его мать-волчица. Волчонок бросился обратно, но старший брат-переярок преградил ему путь. Поджав хвост, калека с жалобным визгом заметался по кругу. Неумолимый приговор громким рыком возвестил старый волк. Клацая зубами, стая подмяла волчонка…
Раненый зверь
Ночь не ночь в лесу для перепуганного зверя: земля колесом вертится! Сшибая дряхлые пни, подминая елочки, бежал медведь от страшного места. От ужасной боли в башке застило в глазах, а когда налетал на деревья, взвывал от боли и падал. Все медведю казалось, что его догоняют. Уже далеко осталось поле, лес гуще стал, а он все бежал. Прыгая через упавшую сосну, косолапый запнулся и грохнулся в заросли. Большой, грузный зверь обхватил лапами голову и забился в самую гущу малинника…
А ведь по-другому бы сложились у мишки дела. Последние дни отгуливался. Сыт, беззаботен был зверь. Под елью в яме берлогу выкладывал — спать готовился. Берлога старая, место знакомое — не первый год здесь медведь живет. Ходил в своем царстве хозяином, ревниво трущобы стерег. Или волк забредет мимоходом, или другой топотыга появится — узнает хозяин и выдворит незамедлительно.
Безмятежно и ровно жизнь протекала. В лесах было множество ягод, птицы всякой. Тешился мишка медом пчелиным, мышей ловил, слизняков жевал. Все, что в лесу росло и плодилось, было по вкусу медведю. Последние дни ходил на дальнее болото, клюкву, морошку ел да травку лечебную искал.
Есть у медведя свои болезни. Перед тем как завалиться в берлогу и по выходе весной из нее, он отыскивает известные ему одному травки да корешки и с жадностью их поедает. Плохо порой бывает от всякого зелья, бурлит и урчит в утробе, да в пользу это. Спокойно медведь зиму коротает, ничто его не тревожит.
Знал косолапый все тропинки в родном лесу, царствовал знатно. Весной, в половодье, рыбу в протоках ловил, летом пасся на травах. В летнюю пору не было ничего вкуснее для него сладких, сочных стеблей борщевика. Но если случалась крупнее добыча — и тут не плошал. Завалит сохатого, забросает ветками и, когда туша протухнет, пирует неделю. Припахивающее мясо — лакомое блюдо медведей.
Вот и с лошадью это же сделать хотел, да беда приспела нежданно-негаданно.
Осень проходила. Это было видно и по коротким серым дням, и по оголенным лесам, и по скучному безмолвию, охватившему природу. «Поздно-о-о», — все чаще слышалось в усталых вздохах ветров. Улетели перелетные птицы, угомонились, ушли с глаз, готовясь к зиме, звери. Теперь не слышно даже тех тревожных, прощальных криков птиц, какими был наполнен звенящий осенний воздух в последние дни отлета.
В стаи сбились тетерева. Летают они над убранными полями, усыпают высокие березы и закрайки пашен.
Взматерели глухариные выводки, стали пугливы. Очень осторожно выходят они по вечерам на овсяные выкосы пособирать оставшиеся в полосе зерна.
Табунятся голуби-сизари. Вороны орут, зиму чуя.
Заяц-беляк уже давно сменил серое летнее одеяние на зимнее, белое. А снега все нет. Прячется бедный зайчишка там, где шкуру не так заметно. Вот он залег в почерневшем папоротнике, притаился, будто невидимый. Ворон, мимо пролетая, гортанно каркнул, сел поблизости на осину. Косой вскочил и стремительно побежал в гору, мелькая своей предательской белизной.
Сушит лужи мороз, вымораживает землю сырую. Лист хрустит под ногой, травы хрустят. Чутко, звончато перекликается лес.
Ветер воет, перебирая жидкие ветви осин, ухает, стонет, плачет. Застыли озера, на реках забереги появились.
Снега надо…
ЗИМА
В заснеженных лесах
Успокоилось все. Стихли ветры, небо прояснилось. Выметенная ветрами, вымытая дождями, вымороженная морозами, земля готова была встретить холодную пору, укрыться снегами и отдохнуть от забот, чтобы весной с новой силой начать свое вековечное созидание.
В один из вечеров тихо, торжественно начал падать снег. Сначала одинокими, словно бы случайными снежинками кружил он в воздухе, медленно оседая на травы, затем полетел гуще, дружней и наконец повалил большими хлопьями, собираясь в стаю, в тучу, в непроглядное белое марево.
С самого начала зимы трудно пришлось лосям. Снега выпали глубокие, ходить стало тяжело, тяжелее того добывать корм. Но животные жили на старых местах. По гарям, по берегам лесных ручьев росло множество молодой древесины. Всюду можно было встретить следы кормежек: обкусанные побеги, содранную с осин кору, заломленные вершинки сосенок.
В начале зимы глубокий снег, однако, не особенно пугал животных — он был легок и рыхл. Но вот выдалась оттепель, и снег плотно осел. Теперь даже по склонам гор, где последнее время держались лоси, ходить стало убродно. А снег все валил да подваливал. Скоро он похоронил мягкую древесную поросль.
Начавшие поправляться после брачного месяца лоси стали снова худеть. Питались они сейчас мерзлыми побегами осин да сосновой хвоей. А тут еще залютовали морозы. Морозы, бескормица, глубокие снега сбили лосей в небольшие табуны. Они расходились по окрестным лесам и, найдя осинник, подолгу объедали его.
Но сколько ни держались лоси на знакомых, привычных глазу местах, сколько ни тянули время, все же вынуждены были уходить. Зима только начиналась, надо было позаботиться о будущем. К тому же, почуя бессилие лосей, в горы пришли вездесущие волки. Пока они не нападали на животных, но и не отходили от них.
И вот парами, по четыре, по шесть голов лоси стали спускаться с гор в равнинные леса. Встречались и побольше табуны. Шли они под предводительством бывалых вожаков, которые уже не раз пересекали снежные увалы хребта Уральского.
Старый лось с лосихой пока оставались на месте. Эта пара была сильнее других и все невзгоды переносила легче. Семья обитала на пологом склоне Лысой горы и, как по расписанию, в одно и то же время — утром и вечером — ходила кормиться на соседнюю гору, на марь.
В зимние дни
Зима застала волчий выводок в родных угодьях, у логова. Как и прежде, звери упорно держались обиталища. Кроме волков, в округе никого не было. Давно хищники очистили свои владения от зайцев, лис, косуль. Белая пустошь снегов, не тронутых следами, простиралась вокруг. Даже крупных птиц поблизости не осталось.
С осени сытые, звери мирились пока с бесплодными вылазками и неудачами. Пробродив ночь вдали от логова, они по глубоким снегам возвращались обратно, к Калиновке.
…Холодно серым, голодно. Голод поднимает волков с обжитых мест и гонит по лесам в поисках добычи.
Солнце садится в студеную мглу, деревья звучно потрескивают.
На широкой болотной поляне сидит неподвижно волчица. Пышная шерсть заиндевела, волчица кажется седой. По сторонам расположились другие волки. Они напряженно слушают и косят глаза на волчицу. Вдали надрывно орет ворона. В морозной тиши далеко разносится ее хриплый картавый крик.
Волчица поднялась и, разваливая грудью снег, пошла в сторону звука. По готовой тропе потянулись остальные.
Знала старая хищница повадки крикливой птицы. Только звери зашли из болота в лес, сразу наткнулись на лисий след. Не подозревая страшного соседства, лисица мирно трусила своей дорогой. Тут и заметила ее пронырливая ворона.
Недолго раздумывали волки. Вскинула старая морду, понюхала воздух и след взяла. Серебристой пылью сыпался снег из-под лап, колыхались еловые ветки, задетые спинами хищников. Далеко растянувшись, волки бежали по следу.
Лисья дорожка, как витой жгут, стлалась меж заснеженных елей. Еще не чуял беды красный зверь. Но вот следы сбились. Привстала лиса, услышав погоню, вскинула острую морду, ушами повела и, как пружина, сорвавшись с места, стремглав понеслась по лесу.
Долго гнали волки лису. Настигали. Тяжелым и сильным, им легче было бежать по глубокому снегу; в сыпучем снегу лиса не доставала земли и, прыгая, часто тонула. Устала. Измучилась. Припала к гнилой колоде, скет ушами, глазами сверлит, хвост трубой к небу подняла. Слышит лисица волков бегущих, шарит под деревом: нет ли лазейки? Нет ничего! Вскочила на ствол, пробежала ве́рхом, снег осыпая, и кинулась стороной, навстречу преследователям. Бежит белогрудая к волчьему следу, а выбравшись на него позади волков, как ветер, летит по торной дороге обратно к болоту…
Холодно серым, голодно. Обхитрил зверя зверь. Черными волки стали в потемневшей лесной глуши. Ходят возле павшего дерева, нюхают. Затолкли, утоптали следы. — потеряли лису. Злятся серые. Толкаясь на месте, задевают боками друг друга и скалят зубы. В слабой надежде молодежь поглядывает на волчицу-мать да на волка-старика.
В ту ночь голодных зверей не остановила неудача. Голод — не тетка, всю зиму не пролежишь. Напрямик, через леса, они направились к далекому полю, к жилью человека.
Снова бредут цепочкой, только впереди сейчас старый волк. Устала волчица по целине брести и сама уступила ему дорогу. Звездная морозная ночь цепенеет над лесом. Искрятся снега на еланях. Шум мерный плывет от волчьего шествия, будто змеи шипят.
Лишь под утро звери вышли на поле. Устали с дороги и разместились отдохнуть в заросшей кустарником балке. Волчица легла на пригорке мордой к близкой деревне, волк отошел обратно по следу и лег там, глазами к лесу. Дремлют серые, положив головы на передние лапы. Пар от ноздрей валит, спины побелели.
На рассвете звери поднялись, колками потянули к деревне. Над пустынными улицами висел туман. Ни один звук не нарушал застойной с ночи тишины. Волки миновали крайние огороды, гумном пролезли к пустовавшему сараю.
Долго звери осматривали улицу. Но вот поднялись матерые, открыто пошли к ближайшей ограде. Трусливо взвизгнула собачонка, почуяв неладное, и бесследно исчезла в норе под сараем. Но и этого было достаточно. Белые и черные, маленькие и большие, выбегали собаки на дорогу полаять по случаю неизвестной тревоги.
Удался испытанный прием.
От крайнего забора, как тени, отделились два рослых волка. Взрывая когтями снег, смерчем врезались в гущу собак. Переполох объял всю улицу. Тотчас от сарая поднялись другие звери, накоротке перехватывали собак — бросали наземь. Немногие миновали азартных волчьих зубов. Ополоумевшие от страха собаки забивались в подворотни и паническим визгом будили хозяев. Захлопали калитки, на улицу повалили люди. Но хищники были уже далеко.
Остановились они в глухом хвойном лесу. Там и устроили трапезу. Мало осталось у них добычи. Но и это не бросили. Старые звери отнесли несъеденные остатки в сторону и закопали в снег. Долга зима! Молодые не прятали. Они еще не знали зимних голодовок, не испытали страха в погонях и сейчас, насытившись, беспечно устраивались под елками.
Полдня отдыхали серые. Не хотелось вставать после сытной еды. Однако идти к родному болоту надо. Место здесь незнакомое.
Тихо в зимнем лесу. В пуховые шали одеты высокие ели, мерцает на ветках снег. Скупо светит низкое солнце. Казалось, только сейчас сытые волки зиму увидели. Тихо идут, по сторонам пугливо поглядывают. Застучит ли дятел по звонкой сушине или белка осыплет куржак — враз остановятся звери. Трудно первому волку дорогу прокладывать. Раскрытой пастью часто снег хватает и вот останавливается. Повернул лобастую голову, просит сменить его. Следующий зверь заходит.
Не дошли хищники до родного болота, опять залегли. На сытое брюхо — тяжело! Старый волк выбрал ель размашистую, где снега под кронами меньше. Разбросал лапами его до земли, покрутился на месте и рухнул на бок. Легли остальные. Мать-волчица улеглась последней, в стороне. Взрослые переярки привязчивы были к волчице и, как всегда, пристроились рядом.
Уже ночью хищники добрались до болота. Там в полном спокойствии пролежали два дня. Мороз не мороз сытому зверю, спит на снегу — хоть бы что!
Но вот постепенно звери чаще начали подниматься. Встанет один, потопчется, покрутится, снова ложится. Второй и третий так же разомнутся.
Еще сутки прошли. Теперь в самый раз: ни тяжко, ни голодно. Не лежится серым. В конце четвертого дня звери вновь пошли на охоту.
Мягкие тучи висели над самым лесом. В сумрачных потемках снег казался синим. Резво шли волки по лесу, оставляя глубокие борозды позади. Миновали шумный падун на Калиновке, обогнули скалистый утес, двинулись краем широкой лощины.
Шедшая впереди волчица вдруг резко остановилась с поднятой лапой. В тот же миг звери увидели худую комолую лосиху. Отбившаяся от стада, она не успела уйти с гор вместе с другими лосями и теперь одиноко ходила по заснеженным лесам. Лосиха пересекла лощину, направилась низким краем ее к зарослям ольшаника. Будто ветром подхватило зверей. Метелицей взметая снег, волчья стая неслась за лосихой.
…Некуда дальше бежать ей. Плотным частоколом на пути стоит бурелом. Проскочить его — силы нет, с трех сторон окружают волки. И встала уставшая лосиха. Фыркнула дерзко, метнула решительный взгляд. Длинные уши сошлись концами, сухая нога согнулась в рычаг.
Первым подоспел неопытный прибылой волчонок. Изогнувшись сильным телом, он ловко прыгнул и… больше не встал. Как мечом, острием копыта разрубила лосиха волчий череп.
Потеряв одного, звери подойти не решаются. Скалят зубы, порываются, но боятся сделать роковой прыжок. Зло поглядывает мать-волчица на работу питомцев — недовольна! И будто мысль осенила ее лукавая: обманчиво припала к земле, хвостом снег метет. Затем внезапно вскочила — и кувырком да кувырком по кругу! Глупые волчата за ней…
Медленно поворачивается лосиха, следит за проделками хитрых зверюг. Не заметила она только притаившегося за кустом старого волка. Подскочил он к ней сзади и мощным прыжком повис на высокой спине. Облако снега взвилось над вьющейся сворой зверей…
Шли дни. Волчья семья постепенно отвыкала от болота, от логова. Все дальше и дальше уходили лесные бродяги в поисках пищи. Теперь часы отдыха проводили где попало. И как-то раз не вернулись к болоту. Наверно, поняли серые, что напрасно бьют ноги по глубоким снегам к обжитым, но уже пустынным лесам.
Круг их охоты расширился. Голодовки вынудили кочевать. Где случалась добыча, звери жили по нескольку дней. И — снова бродяжить. На охоту отправлялись чаще вечером и рыскали до утра. Им ничего не стоило за долгую зимнюю ночь на голодное брюхо отмахать полсотни и больше километров. Зато при удаче волки съедали до пуда мяса каждый и сутками спали. «Волка ноги кормят», — гласит пословица.
Медвежьи беды
Была середина декабря, самого короткого светового времени. Мглистые рассветы сменялись блеклыми деньками, деньки — морозными и длинными ночами. Зимние чародейки-ночи зажигали в небе гирлянды звезд, леса наполняли таинственным щелканьем.
Спит природа глубоким сном. В тяжелей нависи снежных уборов стоят столетние великаны кедры. Белоствольные березы под тяжестью зимних нарядов выгнули тонкие ветви долу. Тесно, неузнаваемо все кругом. Или птица с размаху на ветку сядет, или зверь мимоходом заденет дерево — брызнет оно сверкающим снегом, будто вспыхнет снопами искр.
Своенравная зима-хозяйка богато разодела, щедро высеребрила лес. С причудами царствует она, верховодит в природе. То расстилает туманы над тишью белых полей, то свищет холодным ветром, то напускает лютый мороз, от которого лед стреляет на реках.
Но, несмотря на проделки зимы, жизнь в лесах не замирала. Если внимательно приглядеться к тайге, всюду можно заметить узоры следов, навитых зверьем на снегах.
В морозный вечер, увязая по брюхо в снегу, брел лесом медведь. Время от времени он останавливался, поднимал тяжелую голову, тянул носом воздух. Медведь был худ. На правой стороне головы вместо уха торчала розовая от мороза мочка.
Недуг не дал вовремя лечь зверю в берлогу. Исхудавший, он бродил по лесам. Вот уже несколько дней медведь ничего не ел. А началось все с той памятной ночи. Из-за непроглядной темноты затаившиеся охотники лишь ранили медведя. Одна пуля пролетела мимо, другая вскользь ударила по голове, оборвала ухо. Долго зверь болел. Выжить-то выжил, но после страшной ночи осталось тяжелое наследие: оглох на раненое ухо. А для хищника, к тому же лесного, — это большая утрата. Вместе с потерей слуха притупилось и чутье: и тут сказалась болезнь. К этому и вовсе не мог привыкнуть косолапый.
Наступила зима. Зверь не мог лечь в берлогу — исхудал. Надо снова копить жир, поправляться, чтобы лежать до весны.
Но удачи в охоте не было. Неуклюж, тупоум стал медведь. Нередко из просвеченных тальников выскакивали быстроногие косули, легко, стремительно уносились прочь. Пока-то опомнится зверь, разворотится! Он пробовал догонять животных, но тут и подавно не получалось. Искалеченный и ослабший, медведь не мог быстро бегать и тихо подкрадываться, верные пособники в охоте — слух и чутье — подвели его.
…Медведь брел и брел, все дальше и дальше. С трудом вытаскивая из снега лапы, подошел к ельнику. Хотел прилечь, уже начал разбрасывать снег и вдруг учуял пленительный запах. Единственное ухо припало к затылку, ноздри с шумом потянули морозный воздух. Медведь сделал несколько порывистых шагов — и впереди за елками увидел торную тропу лосей.
Вскоре на тропе показались два крупных лося. Они неторопливо спускались с Лысой горы. После многих голодных дней медведь не мог терпеливо ждать. Судороги сводили напряженные мускулы, с желтых зубов тянулась на снег слюна.
Все сильнее, все ближе запах. Уже слышно, как хрустит снег под копытами приближающейся добычи. Зверь, дрожа, собирает под себя лапы. И вот дух животных нахлынул сплошной волной. За деревьями появился белоногий вожак. Точно взрывом подброшенный, сорвался с места медведь, с глухим ревом в два скачка подоспел к лосю. На миг увидел широкую грудь, длинные ноги, огнисто сверкнувшие глаза и… вдруг страшный, ошеломляющий удар в лоб опрокинул его на спину! Каруселью завертелось перед глазами небо, громкий гул объял голову зверя…
Поспешность чуть не сгубила медведя окончательно. Но живучий зверь и тут не пропал. Отошла окровавленная башка на холодном снегу, медленно вернулись силы. И он жил, а жизнь приносила все новые приключения.
Только успел оправиться после поединка с лосем, новая беда приспела. Опрометчиво ступив на трухлый ствол, медведь обрушился в глубокую яму-колодец. Сильно расшибся об острые камни и долго не мог выбраться на поверхность. Что и говорить, не везло косолапому! Худой, избитый, бродил шатун по зимнему лесу.
Злой стал медведь, решительный. Ничто не могло остановить его, когда встречал хоть что-нибудь живое. Шатун и есть шатун. Не приспособленный для зимней активной жизни, он был стократ опаснее любого зверя. Если б на тропе ему попал другой медведь, не ровен час, он и на него напал бы…
И когда медведю Драно Ухо грозила голодная смерть, случай спас его. Тащился как-то к незастывшему горному ручью по заячьей стежке и неожиданно учуял запах парного мяса. Оттопырив тонкие губы, медведь с минуту жадно нюхал воздух. С треском проломал чапыгу ельника, скачками перемахнул ползучий кедрач — и увидел: под нависшей сосною на распластанной туше косули стояла поджарая дымчато-рыжая рысь. Люто мерцали глаза у потревоженной кошки, седые баки отвисли, уши стрелками опустились в стороны. Приглушенный рык клокотал в горле.
Однако рысь сочла за лучшее уступить добычу, медленно спустилась в снег и, горбя спину, нервно подергивая куцым хвостом, пошла прочь от опального владыки леса…
Грозно рявкнул медведь, со всех ног бросился к туше. Всю ночь пировал за здоровье рыси. Ничего не оставил. И пресытился. Ожил медведь, заметно приободрился.
В середине января в тайге установилась небывалая оттепель. Подул южный ветер, лесистые горы окутались мягкими тучами. С деревьев забрызгали капли, зачернели на косогорах камни. Снег намок и осел. Весело зазвенела овсянка, бойчее обычного зацвенькали синицы. И вот в один теплый вечер пошел дождь. Мелкий и частый, как весенняя изморозь, окропил он тайгу, взбаламутил лесных обитателей. Отшельник-глухарь в тот вечер не слетел по привычке ночевать в снег. Остался на сучке мшистой сосны и перед сном многозначительно пощелкал клювом. Обманутый теплом, забулькал на березе тетерев…
И медведю не сиделось под старой сосной на хворосте. Утопая в вязком снегу, пробрался в знакомый бор. Долго искал прошлогоднюю лежку. Но когда нашел ее под елью, не лег сразу — ступая в свой след, ушел далеко обратно, сделал широкий круг, снова приблизился к ели и одним громадным прыжком заскочил в берлогу.
И больше не показывал носу.
Путешествие лосей
После встречи с медведем старый лось и лосиха изменили обычный маршрут обхода лесистых гор. Они откочевали к западу и, облюбовав уремную долину, остановились.
Однако новое место оказалось малопригодным для длительного обитания, Снега здесь лежали еще глубже, а молодой древесины росло меньше. Лоси ели горько-кислую пихтовую хвою, мягкие завязи берез. На болотных чистинах разгребали копытами снег и доставали душистый ягельный мох. Но ягеля было мало, а хвоя и побеги быстро надоели. И животные пошли дальше.
Было раннее утро. В белесом небе оранжевым диском всходило солнце. В ветках елей, осыпая серебристый куржак, лазали кривоносые клесты. Сверкающей струей куржак посыпался на горбатую морду лося. Лось встряхнул головой, отступил в сторону. Шумно поднялась лосиха. Сквозь кроны деревьев светило солнце, рубиновые огни играли в затейливых снеговых узорах. И в этих огнях, будто изваянные из черного мрамора, темнели две лосиные головы. Кто знает, что понудило зверей стоять неподвижно все утро? Быть может, они совещались о чем? Только в этот же день лоси покинули долину, и больше не видно было их в здешних лесах.
Бескормица и глубокие снега заставили старого лося пойти за ушедшими раньше собратьями. Вместе с лосихой он отправился на запад, куда уже не раз ходили лосиные стада, гонимые снегами. С каждым днем и парами, и в одиночку к ним примыкали другие лоси. Уже к концу первой недели пути образовалось небольшое стадо. Вел его старый лось.
Шли лоси медленно. Много кормились, часто отдыхали. Если встречались благодатные, богатые кормами места, стадо останавливалось на несколько дней. Животные широко расходились и как бы делали большой привал.
Не только по безлюдным лесам шли лоси. Часто они сворачивали на просеки электропередачи, к буйным лиственным подростам на них, шагали лесными дорогами, на которых попутно собирали раскрошенное сено. Иногда дороги выводили к тихим деревням. Лоси видели людей и даже встречались с ними, но не очень-то пугались. Люди не причиняли им вреда.
У многих лосиных пар были прошлогодние лосята, они не требовали никаких забот. Как и взрослые, лосята ели грубый зимний корм, много ходили, спали в снегу. Да и родители к ним особой ласки не проявляли, скоро должны появиться новые лосята, и они, чуя это, все чаще сторонились взрослых детей.
Лоси-самцы сбрасывали рога. Отмершие, сухие, они мешали им. Первыми почувствовали эту потребность молодые, позже — старики. Зайдя в лесную чащу, рогачи бодали деревья, трясли головами.
Не нужны стали рога и старому лосю. Как и другие самцы, великан цеплялся ими за кусты, стукал о деревья. Но рога упорно не спадали. Был конец января, и в стаде остался рогатым один вожак.
Как-то ночью старый лось лежал и скреб самым длинным отростком о комель дерева. На голове что-то хрустнуло. Сохатый тряхнул головой — рога закачались. Поднялся, всадил рога в развилку березы, резко мотнул головой. Содрогнулась береза, посыпался с веток снег, в развилке, как в клещах, торчали рога.
Непривычно высоко вскинул лось облегченную голову.
Конец серой стаи
Стояла ясная, звонкая от мороза ночь. Высоко в звездном небе одиноко стыла луна. Кружевные березы бросали короткие тени на блескучий снег. Лунный свет пробивал кущи сосен, полосами высвечивал санную дорогу. По дороге, пофыркивая, шустро тянула сани побелевшая от испарины лошадь. Звонко выпевали полозья, далеко оглашая тихую ночь. На поклаже, с головой завернувшись в тулуп, покачивался возница. За санями трусила собачонка.
Километром сзади на дорогу один за другим выпрыгивали волки. Они будто выныривали из темного леса. Отстукивая когтями, стая быстро догоняла подводу.
Первой услышала погоню собачонка, кинулась к саням и с маху залетела на самый верх поклажи. Захрапела лошадь, закусила удила, что есть духу понеслась к деревне.
Возница откинул воротник, оглянулся. «Батюшки!» — охнул он и поспешно схватил из-под ног ружье. Долго водил стволами, нащупывая цель, и наконец выстрелил по переднему зверю. Сраженный хищник споткнулся, зарылся на обочине в снег. Волки резко остановились, в замешательстве закружились на месте. Панику попытался развеять бывалый старик. Злобно рыкнув на трусов, он было ринулся дальше, но тут же поспешно метнулся в сторону. Нет, не легко преодолеть страх перед человеком…
После гибели второго прибылого волчонка хищники как бы устали от своих дерзких ночных налетов, несколько суток безвылазно жили в глухом болоте. Непролазная тальниковая крепь, перевитая камышами, высокие кочки, завалы были надежным убежищем. Звери натоптали троп и в голодном унынии коротали время.
Вечерами, когда сгущались сумерки и на землю ложился плотный туман, старый волк выходил по узкому лабиринту в кустарниках на край болота, забирался на холм и до звезд высиживал, прислушиваясь к жизни в недалекой деревне. Иногда с ним ходили молодые, рассаживались на холме спинами к центру и, задрав морды, тоскливо выли. Они словно справляли траур по потерянным в нелегких охотах братьям. Лишь на пятые сутки, когда невыносим стал голод, ушли из болота. Пробродив ночь в пустынном лесу, хищники направились к деревне, возле которой в заросшем овраге и пролежали недолгий день.
А в деревне уже давно поджидали разбойников. Жители знали: уж если пожаловали серые бродяги, так просто они не уйдут. И продумывали планы расправы с волками. Знатоков облавных охот в деревне не было, да и снасти такой не нашлось, поэтому взяли разрешение травить серых стрихнином. Как раз к этому времени пала на ферме старая, обезножевшая корова. Охотники начинили тушу сальными шариками, пропитанными смертельным ядом. Вечером погрузили ее на сани, свезли за деревню и, не слезая с саней, столкнули в ложке.
Снова морозная ночь стоит. В туманном небе сверкают звезды. Погрузившись в снега, мирно дремлет деревня. Но вот от темнеющего леса доносится неприятный тягучий звук. Будто кто задул октавой в чертову дудку и дудит, все усиливая звук, а потом неожиданно обрывает его на высокой ноте. Этот звук подхватил еще один голос, нетерпеливый, взвизгивающий, затем третий, совсем тонкий, лающий, и через минуту, переливаясь и нарастая, полилась над ночными полями заунывная волчья песня.
Всю ночь выли звери на поле. Над заснеженными просторами замлел мутный рассвет. Встала продрогшая волчиха с утоптанного места, тихо пошла в ложок. Не раз обошли осторожные звери приваду. Но соблазн был велик. Приблизились волки к замерзшей туше, дружно обнюхали и с жадностью принялись за трапезу…
Когда настал новый день, уже не было в живых ни старой волчицы, ни переярков, ни прибылых. Вечно голодные, ненасытные, они наконец наелись. Старый волк, натыкаясь широким лбом на деревья, медленно волочился по лесу. Только он один уцелел.
На пороге весны
Путь на запад лоси закончили в середине февраля. Много километров прошли за это время. Глубокие снега были всюду. И лишь в болотистой пойме речки Карабашки животные остановились. Немало здесь собралось лосей. А они все подходили и подходили.
Хорошие места были в долине. Старые гари изобиловали рябиной, осиной, черемухой. По лугам встречались низинки с зарослями ольшаника, чернотала.
За переход животные не потеряли сил. Шли они медленно, в меру ели, часто отдыхали. А некоторые самцы заметно поправились. Окреп, выправился и старый лось. Бурая спина с седым ворсом глянцевито взблескивала, бока крутые, гладкие. Вместо рогов торчали махровые пеньки — зачатки новых.
Жизнь лосей в долине реки мало отличалась от походной. И сейчас они много ходили, только ходили по кругу, чередуя выпасы. Чуть забрезжит рассвет, отдыхающие где-нибудь в негустом лесу лоси начинают прядать ушами, тихо взмыкивать, двигаться. В морозной тиши слышно, как хрустит под ними снег. Поднимается старый лось, долго стоит неподвижно. Нет посторонних звуков. В туманной мгле рассвета вожак отправляется на кормежку. Встают другие лоси, на ходу покусывают ветки, вразброд идут за вожаком.
Широко растянувшись, животные неторопливо бредут по редколесью. Через два-три часа ложатся. Для дневных стоянок выбирают высотки, открытые небольшие елани. Ложатся так, чтобы вокруг все было видно и слышно.
Часто к мирным животным подходят косули и зайцы. Косули вместе с лосями пасутся, отдыхают рядом. Зайцы лакомятся обломанными прутьями осин. Иногда на сохачье лежбище слетает глухарь поклевать камешков да стылых брусничных листочков.
С наступлением вечера лоси опять сближаются, ходят недалеко один от другого, придерживаются открытых мест. Ночь застает всех в сборе.
Все чаще выглядывало скупое на тепло февральское солнце, продолжительнее и светлее стали дни. На пороге была весна. На жировках лоси все дальше уходили к востоку, покидая берега гостеприимной Карабашки.
Хотя снега по-прежнему были глубоки, животных неудержимо влекли обжитые леса в горах. С первой капелью они потянули в обратный путь.
Лосихи с каждым днем тяжелели, и лоси парами отбивались от стада. В недоступных крепях болот, в зарослях лесных ручьев они отыскивали укромные места и оставались. После отела продолжали путь к родным лесам. И ничуть не страшила дорога лосят. В месяц от роду они способны были ходить, как взрослые, могли переплывать реки. Стадо сильно уменьшилось. К концу марта в нем осталось не больше десяти голов.
Подруга вожака теперь быстро уставала и часто ложилась. Последние дни она тоже пыталась отбиться от стада. Но ревностный великан не спускал с нее глаз и уйти не давал.
ВЕСНА
Первые радости
Весна в этот год пришла запоздалая. Был конец марта, течь бы давно ручьям, набухать почкам, а все еще хозяйничала зима.
Холода держались до середины апреля. Давно пора было праздновать весну, давно пора ликовать природе, но зима упорно не хотела уступать своих позиций. В борах не слышно было задорной песенки зяблика, на протаявших болотах не кричали журавли. Апрельские дни еще не тронули снег в лесах. Он лишь почернел и осел. Тяжелый, вязкий, как тесто, снег крепко держал ноги зверя. Мокрые снежные пласты сползали с ветвей и звучно шлепались, заставляя вздрагивать затаившихся обитателей леса. Ночной цепенеющий воздух чутко стерег пока еще робкий говорок народившихся под снегом ручьев.
И вот явилась прогулявшая весна. Захлопотала, заторопилась и принялась за все сразу: разлила реки, размочила пашни, сплавила суметы с косогоров, на которые тут же насадила подснежников. В спешке она все спутала-перепутала и от спокойного течения жизни в природе не оставила и следа. Стоном и гулом наполнился воздух. В лесах и долинах, в полях и лугах — всюду зычная разноголосица. В небе вереница за вереницей потянули гуси, над болотом заиграли брачные песни бекасы. В несколько дней оголились луга и поля. По долам и буеракам шумными потоками неслась полая вода.
Много лосей не дошло до гор — остались на облюбованных в пути местах. А среди тех, кто вернулся в знакомые леса, был и старый лось с лосихой. С приходом они сразу отделились от группы и укрылись в урочищах мохового болота.
У лосей началась линька. Зимняя густая шерсть потускнела и клочьями висла на теле. Лосиха была худа и линяла медленно. Старый лось, наоборот, сейчас был хорошо упитан и линял незаметно.
Пожевав стрельчатых всходов осоки, лосиха забиралась в островок низкорослого ельника и ложилась. По утрам за болотом громко чуфыкали тетерева, трубили журавли, день-деньской воздух наполнен был птичьим трезвоном. Лосиха чутко прислушивалась к звукам.
Ее одолевала усталость. Теперь она лежала большую часть суток, лежала неподвижно, подобрав ноги.
Старый лось не забывал подругу, хотя, изгнанный ею, уже давно жил в стороне. Он осторожно подходил к ельнику, смотрел на лосиху сквозь ветки.
Как-то вечером он вновь навестил лосиху. Хотел подойти ближе и замер на полушаге: лосиха усердно лизала двух дрожащих мокрых лосят…
Лосята родились крепкими. Уже после первых двух дней они твердо стояли на тонких ногах, с силой толкались в упругое вымя матери. Сперва новоявленная семья не выходила из ельника. Потом лосиха одна стала ненадолго отлучаться, чтобы поесть. Чувствуя одиночество, лосята смирно лежали, не смея пошевелить ухом. Красно-бурая шерсть надежно маскировала их.
Малыши росли быстро. Мать и отец наделили их отменным здоровьем. Вскоре стали проворно бегать за матерью, пробовали жевать былинки. Лосят все увлекало, все было интересно им. Гонялись за пичугами, резво прыгали через колодины. А набегавшись, засыпали, уткнувшись мордами в теплое брюхо матери.
Лоси бдительно следили за безопасностью детей. Когда лосята убегали далеко, лосиха тотчас догоняла их. При малейшем подозрительном звуке в лесу семья быстро уходила.
В часы отдыха старый лось ложился поодаль и не смыкал зорких глаз.
Судьба одинокого волка
Дождался волк весны, выжил серый. Много горьких дней позади. Лежит старый зверь у ручья, вытянув голову на передних лапах. Тепло. Через сеть ветвей на седую шкуру пятнами падает солнце. Мирно журчит ручей, в небе кричит одинокий сарыч. Тихий привычный звон весны стоит кругом. Давно волк не видел отрадных дней, мучился жил, а теперь вновь почуял силу в душе и теле, смирился, позабыл прошлое. Лежит в знакомом лесу у ручья, нежит старые кости теплом вешним да пожить еще собирается…
Чудом остался в живых после страшного завтрака волк. Зубы гнилые, надломленные спасли его: не успел хорошо поесть. Еле ноги унес в то утро. Катался от боли в снегу, ветки грыз, собственное брюхо кусал, но выжил выносливый зверь.
А потом заскучал по семье. Выл напролет дни и ночи, звал волчицу, детей. Но голод заглушил горе.
Худо старому хищнику жить одному. Без стаи, без молодых сильных ног охотиться трудно. Только и держался на полевках. Бродил исхудавший волк ночами и днями, а удачи не было.
Однако, когда зима перевалила на вторую половину и дни прибыли, зверь ободрился. Пришло время волчьих свадеб. Снова денно и нощно рыскал зверь по лесам, прислушивался, принюхивался — другую волчицу искал. Но ничего не выходило. И не потому, что пары не нашел, — стар, видно, стал, не по нраву пришелся невесте…
В феврале это было. Несколько дней завывала метель. Схоронила, упрятала все под косыми сугробами. И стихла. Выбрался волк из глубокой снежной норы, отправился мышковать. И хотя совсем подтянуло брюхо, мыши сегодня что-то на ум не шли. Бестолково по-петлял по полям, выбежал на березовую опушку, забрался на самый высокий сугроб. Долго сидел, слушал ночь, потом, вскинув голову, осторожно и коротко завыл. Взвыл и прислушался. Донесся ответный вой. Немедля волк побежал в ту сторону. Вскоре встретились звери. Старый волк деловито обнюхал волчицу, в знак одобрения приветливо помахал облезшим хвостом. Остроухая, поджарая и по-волчьи, наверно, очень красивая, холодно смотрела волчица на волка. Кто знает, что нашла в нем худого она, только и кончилось этим их знакомство. Обнажила мерцающие клыки, дохнула рыком и прочь ушла…
Стойкая память у старого волка. Лежит у ручья в лесу, который раз переживает несчастную зиму. Но это все позади. Вновь брюхо полное, вновь солнце яркое — чего еще надо серому? Солнце печет, ручей журчит, прищурившись, дремлет хищник…
Медвежий день
Пришла весна и в дремучий бор. Тихим шумом наполнился воздух. Деревья расплавляли спутанные ветви, дружно пробивалась к свету зелень.
С большим опозданием очнулся медведь в берлоге от зимней дремоты. Привстал, оперся на лапы, заспанно потянулся. Разворошил мордой просевшие сверху ветки, со свистом потянул воздух. В нос ударил запах сырой земли, прелых листьев, нагретой сосновой хвои. Ничего не предвещало опасности, и он вылез из-под корней старой ели.
Только взошло солнце, и обильные лучи его дымными стрелами высветили захламленный бор. В тенистой нависи веток колыхались клубчатые пряди тумана. Земля дышала влагой, теплом, звенела птичьими трелями.
Худ был медведь. Бока запали, некогда круглый мягкий загривок выпятился горбом. Безухая голова — что обгорелая кочка: вытертая, некрасивая. Но это теперь не главное. Пришла весна, и жизнь начинать надо заново. Ни с того ни с сего мишка опрокинулся на спину и давай валяться на мокром валежнике. В стороны разлетались ветки и сучья, трещали подмятые пеньки, а медведь все валялся себе, разминая отекшее тело.
Встал, отряхнулся, побрел осматривать свою вотчину. Запнулся, упал. Только встал и опять запнулся… Взглянул на лапы — когтищи в вершок длиною! Это за зиму они так вымахали. Подошел к толстой ели, поднялся на дыбы и начал скрести ствол когтями. От когтей, как от рубанка, летела кора, вершина ели качалась и сыпала на медведя сухие шишки. Оскоблил одну сторону, на другую перебрался. Когда передние лапы устали, выбрал сук потолще, ухватился за него, подтянулся и стал скоблить дерево когтями задних ног.
Весь день прошел в этой неинтересной, но необходимой работе. Вокруг берлоги и тут и там белели ободранные стволы. А вечером, понюхав воздух, зверь вдруг встревожился чего-то и снова вернулся к логову. Запутал по привычке следы, залез под ель и на следующий день не вышел.
Весенняя непогода
Последние дни в природе происходили непонятные перемены. Долгие красные зори плавились над горами. Солнце с трудом пробивало наволочь плотного марева и тусклым розовым диском как бы нехотя поднималось над горизонтом. Стояла напряженная тишина. Умолкли птицы, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка.
И вот как-то с рассветом млеющие в огнях дали заволокли черные, плотные тучи. Вскоре они расползлись по небу, и зловещая темнота накрыла землю. Где-то народился бойкий ветерок. Ласково потрепал белокудрые черемухи у реки, затейливо крутанул пыль на пригорке, удалым голоском пропел в кусте боярышника и, взлетев к тучам, вдруг свалился оттуда бушующим шквалом. Шквал с ревом пронесся над тайгой. Со стоном и плачем, как бы прося пощады у неумолимой стихии, низко клонились к земле молодые деревца, а старые глухо шумели и, тяжко поскрипывая, широко раскачивались на ветру-лиховее.
В дупла, в норы, в лесные крепи попряталось все живое. Одни вороны, не в силах удержаться на ветвях у своих гнезд, панически реяли над верхушками сосен, надсадно каркали, захлебывались от ветра.
Вдруг огненной стрелой, насквозь прошивая небо, сверкнула молния, изогнулась в кривом полете и с раскатистым треском хлестнула где-то по дереву. Сотрясая землю, загрохотал гром. Дробным стуком прошла по лесу тугая волна дождя, за ней другая, третья, и наконец невиданный ливень обрушился на тайгу, будто небо опрокинулось.
Заухал, затрещал, далеко оглашая окрестности, ветровал. Падая, деревья подламывали друг друга, крушили, сминали беззащитную молодь. Столетняя, уже накренившаяся сосна долго боролась с наступившей бедой. Да, видать, стала уже стара, поиссох ее могучий ствол, изжила былую упругость. И под новым напором не выдержала — раскатисто лопнула посередине и, расщепляясь, устремилась к земле. Следом за ней, обрывая корни, повалилась вторая…
Лишь глубокой ночью утихомирилась стихия. Изнемог, истаял в промозглую морось дождь. Усталым вздохом прокатилась по взбудораженному лесу последняя волна ветра, и тихо стало. В непроглядную мглу, как в бездонную яму, погрузилась тайга. Только рокот Калиновки да вспышки зарниц нарушали чуткий отдых земли.
Раздалась в берегах, пополнела Калиновка. В мутном потоке плыли ветки, коренья, древесные стволы. На крутых поворотах и в узких проранах весь этот хлам останавливался, громоздился в заторы, преграждал воде путь. Река пузырчато пенилась, в гневных водоворотах бросалась к берегам и, собравшись с силою, с ревом громила преграду.
Иногда по реке проплывали звери. Измученные, выбирались они из воды и бессильно падали на отмелях. Общая беда смирила исконных врагов. К волкам выходили косули, к косулям — лисицы. Не до вражды сейчас. На комле косматой ели, покачиваясь на стремнине, совершал непредвиденное путешествие барсук. А на обломленной ее вершине плотно прижалась к ветвям мокрая рысь…
К утру угомонилась клокочущая река. Вода заметно спала. Далеко от берега на сучках деревьев висели трава, вымытые кусты, коряжины. В оконце между кипенью темных туч испуганно проглянула звезда. Светлячком мелькнула и снова нырнула в тучи. На краю неба занимался робкий рассвет.
Осторожно и тихо, точно боясь открыть дню следы прошедшего ночного бедствия, наступало утро. Безмятежно-яркое солнце всходило над лесом, всюду струились потоки испарений.
Но не узнать было тайгу в то славное утро. Весенняя непогодь оставила свои следы. На склонах гор и в сырых низинах громоздились завалы леса.
Большая беда постигла семью лосей. Взрослые лоси бесследно исчезли, один лосенок утонул. Другой тоже купался в бурлящей Калиновке, но выбрался из смертной купели и отлежался в черемухах.
Ни жив ни мертв медведь Драно Ухо лежал в берлоге. В ту грозную ночь, когда кругом все кипело и пыхало, медведь до боли толкал голову в мокрые корни. Ни вода, что под ним скопилась, ни грохот грома, крушившего небо, не выжили зверя из логова.
И одинокому серому волку обошлась без беды непогода. Виды видавший зверь просидел у ручья под защитой камней. А утром легкой добычей натешился…
Одинокий лосенок
Рано утром очнулся лосенок. Над лесом вставало веселое солнце. Сбоку, за черемухами, неслась быстрая вода, беспокойный шум доносился со всех сторон. Развел лосенок длинные уши и долго прислушивался. Часто над ним пролетали птицы, вдали, ломая чащобу, пробегали звери. Тоскливо и страшно одному под черемухой на поляне. Припав поплотнее к земле, лосенок прикрыл глаза и стал ожидать лосиху.
Но сколько ни ждал он, мать не пришла. Прокатился суматошный день, новая ночь настала. Есть хотелось. Лосенку грезилось теплое вымя матери, запах молока… И ночью шум не смолкал… Бурлила река, кричали ночные птицы. Дрожал лосенок. Забившись поглубже под куст, он чуть слышно смычал и забылся.
Снова солнце взошло над лесом, а лосиха все не приходит. Сонным видением встает пред глазами страшная ночь. Молнии, грохот, вой ветра! Лосенок в смятении бежал по гудящему лесу, запинался и падал. Затем его захлестнула речная волна — сорвался с высокого берега. Долго барахтался среди бревен в холодном водовороте, но выбрался.
В полдень он не вынес голода и поднялся. Ароматная ветка качалась у глаз. Подтянул ее вздрагивающими губами и сорвал. Нежные клейкие листочки оказались вкусными. Лосенок ощипал у черемухи нижние ветки. Поел и стал смел. Бочком да вприпрыжку побежал на залитую солнцем лужайку, где орало и вилось у падали воронье. Много страху пережил лосенок, пока ноги унес от крикливых птиц…
Отлежался в траве и опять поднялся. Вдруг по поляне навстречу катит медвежонок. Незлобно поуркивая, приблизился к лосенку. Долго знакомились несмышленые зверята. Вытянув шеи, обнюхивали друг друга, с любопытством один другого разглядывали. Познакомились, подружились. Играючи бегали по поляне, а набегавшись, вместе уснули.
Но были встречи иные. Как-то лосенок набрел на щенков росомахи. Черные, проворные, они резвились на припеке у толстой ели. Заметив лосенка, щенки мигом скрылись под корни дерева. Хотел лосенок подойти поближе, но внезапный удар в бок сбил его на землю. Стремительной тенью мелькнула шкура косматого зверя. Взрослая росомаха вскочила на нижний сук ели, предупреждающе обнажила зубы…
Так лосенок сам день за днем познавал законы природы. Где в науку урок шел, а где и инстинкт подскажет. И все же главным испытанием в этом неуживчивом мире был голод. Еще не по вкусу приходилось лосенку лесное разнотравье, болели молочные зубы, болел живот от грубой еды.
Шло время. Постепенно в лесах восстанавливался порядок. Птицы заново вили гнезда, звери забывали пропавшие семьи. Жизнь входила в свою обычную колею с повседневными хлопотами и заботами. Снова по зорям кричали тетерева, пели зарянки и куковала кукушка тихими теплыми вечерами.
К концу мая в лесах появился гнус. Он не давал лосенку покоя ни ночью, ни днем. Гнус до ран разъедал бока, набивался в ноздри, слепил глаза.
А после теплой грозы залетали еще и оводы. От этих жестоких кровопийц лосенку вовсе не стало житья.
Однажды в полдень он укрывался от паразитов в густом тальнике. Звенел над ним воздух от вьющихся насекомых. Бился лосенок, мотал головой и, не выдержав, побежал. Миновал темный бор, небольшую болотину и с маху плеснулся в глубокий застойный бочаг. Тут и стоял до потемок, погрузившись по шею в воду. В этом открытии было спасение. Лосенок не боялся воды и с той поры каждый день ходил к бочагу.
Тревога старого волка
Живет старый волк один. Много спит, на солнце нежится. Сейчас — что, не зима! Изленился: весна балует. На охоту далеко не ходит, а к деревням и дороги забыл — благо дичи кругом полно. Встанет утром — обмятый, в траве весь, — понюхает ветерок, прислушается. Спокойно все. И опять в глухую чащобу, под корни дерева. Лежит старый зверь в дремоте ленивой, глаза прищурены, уши распущены…
Грязен, нечистоплотен серый. Мухи кружатся над логовом, назойливо лезут в пасть. Запах гниющих объедков чадит над кустами. Даже прохлада ручья не освежает запущенного волчьего дома.
Лежал бы волк, бока бы грел, да утро терять не хочется. Поднимается еще до солнышка и бредет по росе на охоту.
Дремучим урманом крадется зверь. Разлапистый папоротник нежно гладит отвисшее волчье брюхо. Часто волк останавливается и, склонив низко голову, шарит глазами по зарослям. Из-за горного окоема лучистым шаром восходит солнце. На буйную кипень трав сквозь ветви елей полосами падает свет. Мигуче сверкает роса, голубым дымком струится ночная прохлада. Плохие глаза у старого волка, на солнце взглянул и ослеп. Еще ниже опустил лобастую голову и глубже в урман зашел.
Везло последние дни на охоте волку. Вынюхивал на гнездах глухарок, в еловых крепях догонял линючего бородача-глухаря. Потихоньку идет, каждый кустик обнюхивает. Чу! — где-то лопот могучих крыл! Вздрогнул волчина, бросился в сторону звука. Бежит — трава под ногами стелется, вот-вот накроет тяжелого глухаря! Мощный прыжок — подвихнулись старые ноги, и волк грохнулся лбом о березу…
Поднялся — глазам не верит: сидит перед ним волчица. Напрягся весь, подобрался, бодренько завилял хвостом. Потянулся понюхать — и пленительное видение улетучилось, будто сон… Разбитый, поникший, вернулся волк к логову и больше в тот день не пошел на охоту.
Все так же всходило солнце над лесом и разгоняло ночные туманы, все те же были вечерние сумерки с прощальными песнями птиц. По-прежнему утром рано и вечером поздно волк ходил на охоту. Да не вся, видно, радость в этом. Запала лихая тоска в душу зверя после таинственной встречи в урмане. Наскучил блаженный отдых, томить одиночество стало.
Лежит старый волк у ручья и, наверно, грустную думу думает. Не житье одному: волчицу, выводок надо. Да куда уж ему, старику. Горюет по родичам, по шумной семье. И все, поди, та волчица в урмане породила беспокойство у волка. Сон пропал, на охоту не манит. Лежит как пропащий. Видит порою тоскующий хищник волчицу поджарую: стоит в тени, наблюдает за ним. Но не верит худым глазам старый волк. В страхе дрожит и зубы гнилые скалит.
Будни медведя
Неспроста медведь Драно Ухо залез перед бурей в берлогу: не обмануло предчувствие. Хоть и подрагивал от ночного буйства в природе, да ничего, отлежался. Живет не тужит косолапый, с утра до вечера занятый делами.
После немалых трудов сточил он наконец свои когти. Много деревьев заскоблил вблизи берлоги. От мудреной медвежьей работушки даже мшистые камни в округе были ободраны…
День его начинался с восходом солнца. Встанет с лежки, поводит носом, осмотрится и на промысел отправляется. В туманной влажной сини покорно чахнет тайга. В нежарких пока солнечных лучах перекликаются в вершинах елей заполошные кедровки. К ним-то больше всего прислушивается косолапый: чуть что — закричат, заверещат на весь лес. Бредет Драно Ухо по мрачным трущобам, оглядывает царство свое: не надломлен ли кустик где, не таится ли кто на тропе под лесиною? Ревниво стерег зверь темнины свои, шагу ступить не давал посторонним. Но мирно все вокруг.
Еще забота была у медведя: послаще поесть. Щипал травы свежие, коренья рыл, мошек из колод вытряхивал. Любил сочные дудки борщевика, разгребал муравейники. Муравьи для него — все равно что приправа к пресной травяной пище. Последние дни ходил на болото и клюквой оттаявшей лакомился. Но худ был медведь после долгой зимы, не хватало сбора с весеннего леса.
Отправился раз медведь в дальние урочища и не вернулся к ночи: приметил семейство лосей. Ждал их на тропах, стерег на жировках, сутками просиживал в зарослях у воды. И был такой час, когда дождался животных. Да струсил разбойник, увидев рядом большущего лося. Не забыл, поди, до сих пор белоногого великана…
ЛЕТО
Молодое племя
Шум весны затихал. Перестали кричать, веять по ветру перья в брачных турнирах краснобровые тетерева, приумолкла голосистая пернатая мелочь. В теплых, заросших осокой лужах приглохли лягушечьи концерты, не слышно стало уханья и клокотания в чуткой дреме коротких ночей. Все успокоилось и уходило с глаз.
На смену весенним дням шло лето. Буйной зеленью покрылись поля и луга, в девственных травах потонули болота.
Долги летние дни. Чуть притухнет вечерняя заря, и вот уже встает, разгорается утренняя. Полуночные зори не дают ночи ни места, ни времени. Растет все, торопится. Высокая стройная ель, кажется, в самое облако устремила свою сизую пику-вершину. Пьет ненасытно солнечное тепло и золотистыми пестиками-побегами еще выше тянется.
В темных борах и светлых березняках, в зыбких болотах и тенистых трущобах — всюду тайная, изначальная жизнь. Радостно и удивленно обнаруживали себя, свое бытие миллионы зверюшек и птиц. Сколько в лесах цветов, столько и разноцветных глазенок смотрело, таращилось на неведомый пока мир.
Время идет, подрастает молодое племя. Пробуют неокрепшие крылышки дроздята, взмахивают ими, а не хватает духу покинуть родное гнездо. Дрозды-родители рядом летают, манят детей за собой.
Еще день проходит. По часам растут птенцы. Не умещаются они уже в тесном гнезде, выбрались на сучок, сидят рядком крылышко к крылышку. Не успевают старые птицы насытить детей, с утра до вечера за кормом летают, а птенцы все голодны, все орут, раскрывая широкие рты.
Разозлился дрозд на птенцов, заквохтал раздраженно. Сел на сучок, столкнул грудью горластого сына, за ним другого и третьего… Полетели в разные стороны дроздята, а меж ними с отчаянным криком сновала мать: летите, мол, милые детушки, спасайте ребрышки. Старый хрыч с ума спятил…
Испытания
Не так-то просто выжить в природе, стать взрослым зверем без надежного покровительства родителей. Новый день — это новый риск, новые жизненные уроки. Так рос, набирался премудростей лесных законов и наш лосенок.
…Леском да кустарником шел к речке медведь Драно Ухо. Спешил он, ему было некогда. У тихой лагуны, там, где увитые хмелем черемушины скрадывают звериную тропу к водопою, под кучей травы и веток тухли остатки косули. Давно косолапый не ел досыта мяска, а вчера повезло — выждал добычу…
Но что это? Прямо навстречу ковыляет долговязый лосенок. Засопел топотыга, остановился. Стал и лосенок, заметив зверя, видит: на беду набрел. Громко рявкнул медведь, не дал лосенку опомниться. В три скачка подоспел к жертве, наотмашь ударил лапой. Ударил — и сам полетел вперевертыши! Вскочил сбитый наземь лосенок, спружинил ножками, что есть духу помчался к болоту.
Быстро оправился зверь, да уж поздно. Теперь ищи ветра в поле. Заревел, заурчал Драно Ухо с досады, обежал поляну — растерянный стоит. Не умеют медведи по следу бегать, да и некогда было…
Оплошность не прошла безнаказанно для лосенка. Медведь когтями порвал ему шею. Сгоряча, напуганный, лосенок скрылся от зверя, но вскоре обессилел и лег.
Наступили тяжелые дни. Больная, с запекшимися рубцами шея не давала лосенку ни ходить, ни двигаться. Живым сизым дымом веяла над ним мошка, одолевали немилосердные слепни. Падкие до крови мухи разъедали незажившие раны.
Но и тут не погиб лосенок.
Однажды с веселым громом пролилась над тайгой гроза. Умыла деревья, напоила просохшую землю. Взбодрилось, заликовало лесное население. Очнулся от тяжкого забытья и лосенок. Встал, подошел к светлой лужице и… увидел себя. Вислогубый, горбоносый, с влажными печальными глазами. Конечно, лосенок не мог догадаться, что это он сам, и принял собственное отражение за счастливую встречу с другим лосенком. Ах, как хотелось ему быть с ним, с этим другим лосенком! Он наклонился еще ниже и робко коснулся вздрагивающими губами воды, будто поцеловал брата. Но вода расплеснулась кругами, и все исчезло…
Лосенок напился, поднял голову. Нет, не видать брата. Медленно побрел по лужайке. То ли от слабости, то ли от сильных запахов воспрянувших после грозы трав все кружилось перед глазами. Покачиваясь, лосенок прошел к молодой осине и лег в тени ее веток.
Утром другого дня он почувствовал голод. Не вставая с лежки, выщипал перед собой всю траву. Еще полежал и поднялся. Обобрал листья на нижних ветвях осины. К другому дереву перешел. Но вскоре устала больная шея, голова стала никнуть к земле. Приглядел лосенок кудрявую вербу, забрался под нее и заснул, чтобы встать через час уже окрепшим и бодрым.
Могучий инстинкт
Пришло время, когда тоска по родичам совсем одолела волка. Затосковал не на шутку, в одиночестве жить не может. И как-то утром, еще до солнца, побрел к урману. Осторожно ступает зверь, ко всему прислушивается, принюхивается.
С некоторого времени волк почувствовал, что за ним неотрывно следят чьи-то глаза. Пугала и угнетала эта скрытая слежка. Вовсе невыносимо стало сейчас, вблизи от того места, где пригрезилась волчица. Довершая всевозрастающий страх, неожиданно из-под самого носа с шумом сорвался глухарь. Так и прирос волк к земле. И лишь когда утонули в лесных потемках последние звуки полета, опомнился зверь, двинулся дальше.
Не обмануло предчувствие. За ним давно следили чужие глаза. Это были волки — хозяева здешнего леса. Вышел из-за укрытия гривастый волчина, решительно направился к старику. Задрожали у того поджилки, с места сойти не может. А стоит хорохорится, этак браво поднял голову, навострил дряблые уши. Знает серый: малейший шаг к отступлению, выдай свою трусость и слабость — и пропал. Сам не раз расправлялся с такими. Поравнялся волчина, обнюхал незваного гостя. Бесшумно, как тень, появилась волчица. Остромордая, дымчато-серая, смотрит издали желтыми глазами. Старый волк ни жив ни мертв. Убежать бы, да поздно. Догонят и разорвут! Не затем сюда шел старик…
И лег как ни в чем не бывало. Вытянул голову на траве, смирнехонько смотрит куда-то в сторону. Ведь больше ему ничего и не надо, с волками бы только быть.
Хозяева-звери не тронули старого волка. Лишь подальше увели волчат. А вскоре привыкли к навязчивому соседу. Ценой безупречного унижения заслужил он доверие у чужих волков. Старик не лез близко к логову, не мешал им ни в чем, и, может быть, только эта покорность хранила ненадежный мир.
Летние дни
Шли летние дни. Шумной, полной забот жизнью были наполнены леса. Молодые птицы вылетали из гнезд, звери покидали крепи.
Выпадало мало дождей, и приглушенная зноем растительность завядала раньше срока. Звонко шумели усохшие травы, бледнел на березах лист. Обмелели горные реки, пересохли ржавые топи болот. Под жгучим солнцем понуро млели лишенные влаги высокие тростники.
Только лесные травы еще не испытывали засухи. В неудержимом росте они сплелись, перевились и вылегли ковром. Дополняя пестроту цветения, в травах там и тут проглядывали ягоды. Много в то лето уродилось ягод.
Беззаботно поживал медведь Драно Ухо. Неузнаваем стал. Округлились бока, вздулась шея. Как и весной, день его начинался с восходом солнца. С первой песней зарянки зверь отправлялся на любимые ягодные места.
Уже давно, поспела земляника, скоро созреет черника. Ел мишка ягоды очень охотно, не считаясь со временем и трудами. С рассвета до потемок пропадал на ягодниках. Собирал не по ягодке и не по две — это ведь мука! — загребал их лапищами вместе с травой и стеблями. В местах медвежьих обедов все было смято, измусолено, пучки изжеванной травы валялись кругом.
Позднее мишка ел и черемуху, и смородину, и рябину. Рябина была хоть не так и вкусна, но уж больно пленила обильными гроздьями.
Завидущими глазами смотрел Драно Ухо на сухую осину — высоко в дупле был пчелиный рой. Нескончаемой вереницей летали пчелки в дупло. Соблазнительно пахло от осины. Но попробуй залезь туда! Пчелы дружно отстаивали свои кельи. Сунулся как-то и с позором удрал. Набились в шерсть, в уши, изжалили всю морду. И все же каждое утро приходил сластена послушать тихозвонную осину. Послушает — и с тем обратно убирается. Видит око, да зуб неймет…
Но больше всего любил мишка малину. Бывало, не только днем, но и ночью он пасся в малиннике. В поисках этой ягоды зверь часто делал переходы.
Наступила пора менять шубу. Чесались бока, и медведь шоркался о деревья, оставляя на коре и сучках тусклую бурую шерсть.
Во второй половине лета с медведем приключилось непонятное. Забыл про ягоды, забыл про мед и, беспокойный, слонялся по лесу с утра до ночи. Даже любимая ягода малина перестала занимать медведя.
И вот Драно Ухо исчез.
Далеко за Калиновкой, в тенистом еловом лесу, жила медвежья семья — медведица и три медвежонка. Один медвежонок был больше и старше других как раз на год. Малыши — назойливые и задиристые. Они здорово надоедали старшему брату — пестуну. Пестун от них даже ревел, но обижать не смел. За это мамаша давала хорошую взбучку.
Семья жила в родном околотке, на берегу заросшей речки. Заросли ольхи и черемухи были настолько густы, что совсем закрывали реку. В сумрачной чаще медведи наделали троп и чувствовали себя в безопасности.
Медвежата любили купаться. В жаркие дни они не обсыхали до вечера. В перерывы между купаниями вместе с матерью жевали смородину, мягкие стебельки, выбирали из травы гусениц и жучков. Еще ходили в соседний кедровник за орехами. И орехов, и ягод, и грибов было в достатке у глухой лесной речки.
И вот однажды утром, когда медвежата еще спали, донесся отдаленный треск кустов. Мать вскочила, вскочили и медвежата. Удивленные, они далее привстали на задние лапы. Медведица не на шутку встревожилась. Живо собрала детишек и, подталкивая мордой впереди себя, повела их глубже в заросли. Один медвежонок в спешке запнулся, свалился с тропы, заскулил. Рявкнула мать, схватила его зубами за шиворот и снова толкнула за братьями. Но поздно было скрываться. Кто-то их догонял.
Пуще прежнего заволновалась медведица, угнала с глаз детишек, а сама развернулась и встала навстречу опасности, прижав уши. Не прошло и минуты, как кусты затрещали совсем рядом, и на тропу вывалил грузный медведь. Да какой он смешной: уха нет! Приблизился Драно Ухо, ласково уркнул. Уркнула в ответ и медведица, но не грозно, а вроде бы даже приветливо. Они долго знакомились, обнюхивая друг друга и остались вместе.
В медвежьей семье появился хозяин. Враждебно и недоверчиво относились к нему медвежата. Перестали играть, не купались и день-деньской лежали в смородиннике.
Мать словно подменили. Драно Ухо всегда был с ней рядом и близко не подпускал медвежат. Иногда взрослые надолго уходили, оставляя медвежат одних. Испугались малыши такой перемены. Совсем присмирели и не показывались на глаза.
Старшему медвежонку-пестуну надоело таиться в кустарнике. Выбрался как-то из чащи, решительно подошел к матери. Прижал ухо медведь, угрожающе зарычал. Пестун не взглянул на него. Громче заревел медведь и набросился на дерзкого пестуна. В схватке звери покатились по траве. Только шерсть летит! Извернулся пестун, выскользнул из объятий старика да и огрел его что есть силы лапой по больному уху. Загудело в голове у старого, закачался, закружился, вот-вот упадет! Пестун прыгнул в сторону и скрылся в зарослях. С этого дня он больше никогда не приходил к родной семье.
Изгнав большака, Драно Ухо словно бы успокоился, не преследовал медведицу, не отгонял от нее малышей. И они стали привыкать к старому зверю. Все смелее подходили к нему, пробовали играть. Теперь они вместе паслись на береговых лужайках, вместе купались и отдыхали. Вскоре все забыли о пестуне. Он, большой, сильный, не пропадет и один.
Конец лета
Лето шло под уклон. На полях дозревали хлеба, отцветали и сохли травы. Близкая осень напоминала о себе холодными ветрами, желтеющими березами. Уже давно в лесах не слышно флейты скрытной иволги, редко поет свою песенку зяблик. Светлые туманы встают над вечерними полянами, вишнево рдеют в мглистом рассвете недолгие зори.
Еще больше заскучал старый волк. Лежит в сухом папоротнике у чужого логова, головы не поднимает. Слышит, как играют волчата в траве, бегают и визжат. Где-то недалеко от них взрослые волки. Но и к ним уже не влечет старика. Немощь и дряхлость вконец одолели. Последние зубы выпадывают, лапы в суставах болят. Глух, слеповат стал серый. Дни и ночи лежит в папоротнике, даже полевок ловить не ходит. Привыкли к безвредному зверю волки, не бьют и не гонят.
Не так уж много бродит в лесах одиноких волков. То хилы по природе, то слабы здоровьем от увечья — и отторгли их суровые родичи. И гибнут такие звери, не выносят тягостного одиночества.
Страшный мираж воскрешает в глазах у волка картину последней проклятой зимы. Она всем бедам начало.
Вместе о пролетными стаями с севера новая осень пришла. Выводком стали ходить на охоту знакомые волки. Как всегда, старика не брали с собой. Да у него и желания не было.
И все же не раз и не два собирался волк с последними силами, уходил обнюхивать старые свои лазы, искал приметы давних бродяжьих троп. Только повыветрились, безвозвратно исчезли все знакомые запахи, наследили другие звери, будто и не его это законная вотчина, не его лежки и скрады, не его утайные крепи, где каждый куст и каждое дерево запали в глаза и память.
А под конец и нынешнего места лишился. Вернулся после недолгой ночной отлучки — и не узнал его: все перепахано, перерыто. Какая уж тут укромность — травинки живой не осталось. И дух такой незнакомый, пугающий. Не мог догадаться старый, что погром учинили пришлые новоселы-кабаны. Может быть, выводок, может, два. Кабан — зверь нездешний, законов местных не соблюдает.
И жил уже после этого волк где придется. Совсем отощал, измаяли наваждения. Порою чудится повизгивание щенков, мелькают в перестойной траве серые тени — так бы и бросился к ним, поиграл, как бывало…
Встал как-то утром волк и уплелся к родному логову. Неделю лежал под корнями сосны. Не спал, не дремал, только смотрел тусклыми глазами впереди себя на бронзовый куст можжевеловый. Под ним когда-то играли его волчата. Ни голода, ни холода не ощущал. А как ночь настала, уснул незаметно волк да и не проснулся больше.
Заслуженное право
Выдержав жестокие испытания, получил право на жизнь лосенок. В природе сильные выживают, сильные продолжают жизнь. Получив это заслуженное право, молодой лось пополнил собой неисчислимую семью лесных обитателей.
Теперь уже, кажется, всех плохих и хороших соседей по лесу узнал лосенок. Осторожнее втрое стал. Точно прозрел после всяких напастей. Жизнь настойчиво брала свое. Зажили раны, день ото дня крепли силы.
Давно ли еще мир казался пустым и враждебным, где нечего было даже поесть. А сейчас уже все знакомо. Сейчас и солнце приветливей светит, и травы вкуснее стали, и надоедливые насекомые не так донимают.
Целые дни молодой лось бродил по лесным затененным полянам, жевал кипрей, мягкие пушицы, откусывал жидкие прутики хвощей. Знал он глухие, заросшие озерки и часто в них купался. И в воде лакомился растениями. Ел упругий зеленый камыш, молодую осоку, рогоз и кувшинки. Особенно нравились ему сочные белоснежные корневища рогоза. Забредет в болотную крепь, захватит растения зубами и тащит в сторону. Выволочет с корнями, отряхнет от ила и смачно жует. Дотемна булькает лось в тряском болоте. Топи ему не страшны. Передвигается он по ним ловчее всякого зверя. Растопырит широкие копыта и ползет по плавням. При этом передние ноги держит далеко вперед вытянутыми, а задние подобраны под себя и согнуты в нижнем суставе. В таком положении лось не погружается в глубину на всю высоту ног и легко их выбрасывает. Изучил лосенок все лесные порядки, был сыт, невредим и спокойно зимы дожидался.
Ночи проводил на одном излюбленном месте. Это был небольшой сухой островок посреди болота, заросший жимолостью и шиповником. В самом центре его лосенок вытоптал лежку. Никто к нему не наведывался, и он никому не мешал. Креп, подрастал молодой лось. Ему ли теперь не жить, когда ноги резвы, когда глаза зорки и так привольно в родном лесу.
РАССКАЗЫ
…Человек все взял себе у природы, все собрал в себе, все сохраняет, за все отвечает.
Михаил ПришвинЛОДОЧНИК КЛЕНОВ
Как только поселился я в Луговой, невольно стал приглядываться к усатому, с виду очень недружелюбному старику Кленову. Жил он по ту сторону речки, но все равно каждое утро, приходя за водой, я встречался с ним. Вернее, видел на другом берегу.
Он ладил лодки.
Лодок этих скапливалось у его дома до десятка и больше, а он все чего-то пилил, стругал, тесал. Лодки получались все, как одна, узкие, остроносые, полого выгнутые и даже издали казались легкими. Они, как девушки на пляже, как ваяния какие, лежали на берегу, бело-желтые от новизны, сладко пахнущие знойным бором.
Вот и стал я подумывать: к чему старику столько лодок? Лодок, которые здесь, в верхнем течении реки, в общем-то не нужны — в летнюю засушливую пору она так мелеет, что в любом месте можно перейти вброд. К тому же, слышал, он их не продавал.
Еще я слышал, а потом уже сам убедился, что тес на лодки какой-то особой выделки Кленов привозит издалека, бывает, доставляют ему знакомые люди прямые, как струна, еловые бревна, и тогда он договаривается в местном лесхозе распилить их на доски. Само собой, сколько тут хлопот, какие расходы из небогатой в общем-то пенсии, не говоря уже о собственном труде.
А он ладил лодки и ладил, с утра до вечера стукая на берегу, потому что любил и умел их делать.
Он все любил сделанное своими руками: дом, в котором жил, стол, за которым обедал, кровать, на которой спал, и многое другое, без чего в крестьянском житье не обойтись. Но больше всего любил делать лодки.
Многие не понимали Кленова, снисходительно посмеивались над ним. Говорили: золотые руки, все изладит, что ни попроси, да еще как изладит, а он — ну ребенок малый! — стругает лодки, выставляет напоказ на берегу. Зато сам Кленов был иного мнения о своем ремесле, считал себя наипервейшей руки мастером в этом деле и ревностно относился к конкурентам, если таковые объявлялись. Чуть завидит чужую, не его работы, лодку — живо к ней! Придирчиво осмотрит, прощупает всю. И как бы ни была она хороша, обязательно найдет изъян: то широка, то велика, то тяжела. А уж на старые да сколоченные тяп на ляп и глядеть не мог. С отвращением махал рукой и обзывал хозяина самыми последними словами. Кленов вообще судил о человеке по наличию у него лодки: есть лодка — значит, и человек ты хороший, нет — так себе… Все равно что в старину — безлошадный мужик. Кленов очень хотел видеть в деревне хороших людей…
Наверно, из-за недальнего соседства старик взаимно начал интересоваться и мной, моим житьем-бытьем. Не шибко-то разговорчивый, с бурым, морщинистым, как липовая кора, лицом, он нет-нет да и взглянет из-под кустистых бровей на меня у речки, в знак приветствия чуть заметно кивнет головой. Или, проходя мимо моего дома с кирзовой сумкой в сельмаг, приостановится у ворот, осмотрит все, от крашеных наличников на окнах до нового скворечника на березе, что-то смекнет себе на уме и идет дальше. Я стал подмечать: проходит он нашей улочкой намеренно, потому что до сельмага куда удобнее и ближе ему добраться детсадовским проулком.
И вот через год, наверно, не раньше, после моего приезда в деревню Кленов явился в гости.
— Исправно, вижу, живешь, — без лишних церемоний начал старик, цепкими глазами окидывая двор. — Вон крышу обновил, палисад перебрал, хламу у дома нет. Да и дров напас, как неленивый хозяин…
И вдруг спросил:
— А лодка у тебя есть?
— Есть, — сказал я.
— А ну, покажи!
— Да в чулане она.
— Как в чулане? — не понял Кленов.
— Ну, в чехле. Резиновая…
Старик даже сплюнул от возмущения:
— А я тебя за человека принимал! Дом, думаю, содержишь в порядке, рыбак сам, охотник… А ты — «резиновая»! «В чулане»! Ошибся я, стало быть! — И он быстро зашагал к калитке…
Смешно мне было, очень смешно, но засмейся я в эту минуту — и безнадежно обидел бы старика. К той поре я уже многое знал про кленовские лодки, видел их на реке привязанными чуть ли не у каждого огорода, знал, он просто раздаривает их людям, желая таким образом сделать их, людей, лучше…
— Постойте! — крикнул я вдогонку. — Ну чем хуже резиновая, тем более такая мелкая у нас речка?
— Резиновая… — опять передразнил Кленов. — Не позорил бы ты себя и деревню заодно. Я вот как увижу этих, как их, туристов на таких-то вот, как твоя, надутых лягушах, сразу от греха бегу в избу! Не ровен час, не вытерплю и запущу поленом! Уж что-что, а самое древнее естество променяли на резину. Хы! — горько усмехнулся Кленов. — Подменили живое дерево химией! Мало ее кругом, так еще и на речку… И ты туды же!
Старик поостыл маленько и заговорил тихо, как бы оправдываясь:
— Рази я не понимаю, что не нужные они здесь для дела. Но только ли для дела придумывают люди всякую красоту? Вот лубки разные, светильники, те же коньки на крышах. Для души придумывают. Посмотришь на красивую такую работу — и она, душа-то, вроде отойдет от забот, потеплеет, чище станет. Для этого, для очищения души, ведь кто что только не ладит! А я — лодки…
Он помолчал и решительно сказал:
— Иди давай, выбирай любую. Да не показывай больше никому резиновую…
ПОРТРЕТ
Пасечника Дубова нельзя было назвать общительным человеком. Не только потому, что он жил уединенно, как и всякий заправский пасечник, на дальней заимке, но и по складу его характера. Раз в полмесяца, а то и в месяц он приезжал в село на старом, сплошь обмотанном изолентой велосипеде, ставил его к завалинке магазина и занимал очередь. Дубов закупал продуктов ровно столько, сколько мог увезти на багажнике и в рюкзаке. Покупал всего помаленьку: хлеба, муки, крупы, сахару, чаю, толокна и многое другое, что было в магазине и что наказывала купить жена.
В нечастые его наезды мне так и не довелось познакомиться с ним, хотя был к этому интерес: вокруг заимки еще сохранились нетронутые первородные леса, с ягодниками, грибами и, надо полагать, с дичью. Да и то не секрет: ночевать по осени куда приятнее в теплой избе, чем у костра…
Стоя в магазине, Дубов ни с кем не заводил разговора, лишь степенно склонял голову на приветствия, терпеливо пропускал без очереди шустрых бабенок, у которых вечно «топится баня», брезгливо отстранял локтем наседавших к прилавку пьяных мужиков. Еще могутный в свои семьдесят с лишним лет, высокий, не сутулый, с курчавой белой бородой, похожей на молодого барашка, он спокойно смотрел на людей, каждого понимая по-своему.
Здесь не подходит слово «авторитет», но оно так и напрашивается в применении к Дубову. Никто его толком не знал, видели редко, ну, пасечник для всех, да и только, а люди при встрече уступали ему дорогу, уважительно притихали и, что редко теперь бывает, здоровались с малознакомым человеком.
Накупив продуктов, он долго основательно укладывал их в рюкзак, в берестяной пестерь, привязанный той же изолентой к багажнику велосипеда, и незаметно уезжал. И опять его никто не видел до нового приезда.
И все же один случай свел нас. Случай, который в общем-то не имеет отношения к моему рассказу.
У соседки захворала дочка. Ну ладно бы переболела, как все дети, недолго и беспоследственно, а у этой случилось какое-то осложнение. Никакие лекарства не помогали. Мать девочки, Валентина, жаловалась в магазине женщинам:
— Как листочек иссохла вся, не знаю, чем и кормить…
А Дубов окажись в это время здесь же, среди женщин.
— Сколько девке годов-то? — неожиданно спросил он.
— Да семь уже, в школу нынче должна пойти. Поправилась бы к сентябрю…
Потом Дубов еще что-то порасспрашивал у нее, а на другой день, в воскресенье, я увидел его приметный велосипед у ворот соседки.
Не знаю, что уж у нее делал Дубов, только говорила после Валентина, что навез он всякой лесной травы, кореньев, сотового меду, еще чего-то полезного от пчел, наготовил разных отваров, настоев, наказал, когда и по скольку давать, и уехал. Через день девочка сама попросила есть, еще через два — совсем повеселела, а к концу недели уже играла с подружками на полянке возле дома.
И вот пришла Валентина ко мне.
— Не заехал бы ты к Дубову на заимку? Все равно ведь ездишь на охоту. Я бы стряпни свеженькой с тобой послала…
А мне, и верно, только бы предлог побывать у Дубова. В тот же вечер и собрался.
Дубов встретил меня на крыльце с лампой в руке. Долго махал голиком на увертливого пса, пока не загнал в конуру. Шагнул навстречу.
— От Валентины, говоришь? Зря она только с гостинцами… Не война ведь, поди, не сидим голодом. Ну, раз приехал, ставь мотоцикл вон туда, под лабаз к велосипеду, и пошли в избу. — Тут он назвал свое имя и отчество, сильно стиснул в шершавой пятерне мою руку.
В доме Федор Иванович сбросил с печки обрезанные под тапочки валенки, велел надеть, позвал к столу. Поставил на приемник, чтобы было повыше, лампу с чистым, незакоптелым стеклом, добавил огонька. И сразу осветилась вся изба: большая русская печь, длинные крашеные лавки вдоль стен, цветастые половики, полати — все как надо, все по-крестьянски. И пахло в избе надежной домовитостью — квасом и свежеиспеченным хлебом.
И только старая, висевшая среди икон цветная репродукция Моны Лизы никак не вписывалась в интерьер, бросалась в глаза своей необычностью здесь. Репродукция, наверно, была вырезана из журнала, скорее всего из «Огонька», помещена в рамку под стеклом и так же, как иконы, оконтурена золотистой фольгой.
Два дня я прожил у Дубова и все не решался спросить, почему портрет Моны Лизы висит с иконами?
Умный старик угадал мое любопытство, упредил вопрос.
— Знаешь, кто это? — спросил он, в который раз перехватив мой озадаченный взгляд.
— Как не знать, знаю. Видел даже в оригинале, в Москву привозили.
— А я вот не знаю! — хлопнул себя Федор Иванович по коленям. — Понять не могу! То, что Мона Лиза она, ну, по-другому еще Джоконда, знаю. Прочитал. Не могу понять другое: пошто она такая? В толк не возьму, что там, на картине, делается. Посмотри, позади-то — не то пустыня какая, не то поруха, а она или улыбается, или осуждает кого. Мудрая, видать, была баба, мать, поди, чья-то, вот и смотрит на нас так, с укором: эх, мол, люди вы, люди! Война там, что ли, была? Или плохо я вижу? Что там, за ней-то?
И когда я сказал, что картине этой уже пять веков, что многие большие знатоки до сих пор бьются и понять не могут тайну ее замысла, той самой полуулыбки, полуупрека, Дубов поднялся с лавки, перекрестился на портрет и тихо сказал:
— Поверишь вот, нет — три войны я прошел, вроде бы честно прожил свой век, а все равно сидит во мне большая вина, саднит, как рана, перед такими вот бабами. Не умеем, не можем мы, мужики, добыть им надежного миру. Чтоб рожали и растили они детей не для смерти и не для травли друг на дружку. Радовались чтобы жизни, какие бы они матери ни были и где бы ни жили…
Федор Иванович утер пальцем повлажневшие глаза.
— Видеть что-то плохо стал, — попытался он скрыть свою взволнованность. И тут же, заминая неловкость, крикнул жене: — Настасья, ставь-ко самовар!
Но и за чаем Дубов не мог успокоиться, горько размышлял о своем:
— Послушаешь вот радио — что только творится на белом свете! Никак без миру люди прожить не могут. Кого-то бомбят, кого-то расстреливают, кого-то грабят. То там, то здесь войны… Наслушаешься вечерами всего, а потом и уснуть не можешь, лежишь и спрашиваешь себя: все ли ты сделал, чтобы оборонить родную землю от новой войны, не рано ли убрался в лес? Вот и смотрю на эту богородицу. Который год смотрю. И устыжаюсь ее взгляда, ее улыбки…
ОЖИДАНИЕ
Ефим Петрович долго и тяжело просыпался. Он сильно мерз, и ему мерещилось то открытое окно, то распахнутые настежь двери, а сейчас почудилось и вовсе непутевое: будто стоит он посреди озера на краю полыньи и его окатывает из ведра сын Алешка.
— Да перестань ты! — отбивался старик. — Разве можно такие шутки шутить с отцом!
Но Алешка только скалил свои большие здоровые зубы и все поливал, поливал ледяной водой…
В полубреду Ефим Петрович собрал на себя все, что смог достать рукой: на стеганое одеяло натянул полушубок, на полушубок — старый войлочный потник от седла, лежавший подле кровати вместо коврика.
Таким его и застал Алешка, случайно забежавший за какой-то надобностью. И понял: дела неважнецкие, без врача тут не обойтись. Накануне они привезли сено, и, когда переметывали его с саней на лабаз, отец неосмотрительно сбросил телогрейку. В открытые ворота сильно сквозило. Тут его, потного, и прохватило.
Мешкать было нельзя, и Алешка сразу засобирался: запряг в кошевку мерина, набросал сена, одел отца, кое-как вывел его из избы — и поехали.
Жили они на лесном кордоне в пятнадцати километрах от села, где находилась больница. Ефим Петрович уже два года, как вышел на пенсию, но продолжал работать лесником. Потому и лошадь держал при себе. Да и как не работать, если любил свое дело и чувствовал силу. К тому же был одинок — бессердечная жена Стеша бросила их с маленьким Алешкой еще в молодости и теперь болталась неизвестно где. Второй раз жениться Ефим Петрович так и не собрался. Разные на то были причины, но главная все же, наверно, в том, что уж слишком он привязался к смышленому малышу. Не захотел ни с кем разделять свою единственную отраду. Так и вырастил Алешку один.
А как вырастил, сын незаметно отошел от него. Ну, сперва была армия. Потом институт. После института с дипломом лесовода и молоденькой женой Алешка снова приехал в родное лесничество, но только не в отцовский дом, а в казенную квартиру. Тут он не сплоховал, все обговорил с начальством загодя, и управление лесного хозяйства выделило молодоженам-специалистам не только квартиру в добротном деревянном доме, но и оказало прочую материальную подмогу. Обособился Алешка. Ефим Петрович был не в обиде: все же люди самостоятельные, своя семья, вот дети пойдут — пусть живут да радуются. А он уж и тем доволен, что сын рядом.
Так оно и получилось: в первый же год родился внук, а через два — еще один. Закрутила Алешку семейная жизнь, все реже навещал он отца, а потом и вовсе перестал бывать. Разве только когда что пособить. Но и в этом Ефим Петрович особой нужды не испытывал, сам управлялся по хозяйству. Наоборот, чаще помогал сыну. Вот и в этот раз, с сеном…
Понимал Ефим Петрович, что у теперешней молодежи свои интересы, не шибко-то она тяготеет к старикам.
Алешка не обратил внимания на собаку Серку, и она, верная своему собачьему долгу не бросать хозяина, неспешно трусила позади кошевки. Серка — породистая лайка, умная псина, десятый год живет у Ефима Петровича, поняла, что с ним неладно, иначе бы он за два дня хоть раз вышел во двор и накормил ее. Вот и бежала сейчас за кошевкой, голодная, но терпеливая, бежала, чтобы узнать, куда везут хозяина.
К больнице они подъехали вечером. Алешка привязал лошадь к березе, бросил ей сена, а сам направился к врачу. Вскоре он вернулся с человеком в белом халате. Человек держал в руках носилки. Вместе они положили Ефима Петровича на эти носилки и унесли.
Серка запрыгнула в кошевку, стала ждать хозяина. Ждала она долго, но так и не дождалась. Алешка пришел один. Он опять не обратил никакого внимания на Серку, только выгнал ее из кошевки, отвязал лошадь и быстро поехал обратно. Серка тоже было побежала обратно, но в конце села отстала от лошади. Потопталась в нерешительности, покрутила головой и вдруг припустила к больнице. Алешку она знала хорошо, бывала с ним на охоте, бывала у него дома, но хозяина знала куда больше, понимала куда лучше и не могла уйти без него.
Все тут было для нее незнакомо — и этот просторный больничный двор, и обшарпанные березы в нем, и люди, проходившие мимо, и сама больница с неизъяснимо противными запахами.
Первым делом Серка обежала этот дом, проверила, обнюхала все, сунулась даже, царапнула лапой неплотно прикрытую дверь — и она отворилась. Здесь, в коридоре, увидела носилки, на которых унесли хозяина. Для верности и их понюхала, и из многих отвратительных запахов, исходивших от носилок, все же выделила один — запах одежды своего хозяина. Но тут открылась вторая дверь, и человек в белом халате затопал, закричал на Серку, схватил швабру. Серка выскочила из коридора.
Она вернулась к березе, где Алешка привязывал лошадь, легла на оставленное сено, опять стала ждать хозяина. Сначала она смотрела на двери, на выходивших из дома людей, а когда стемнело и перестали ходить, перевела взгляд на светящиеся окна. Особенно на то, к которому там, внутри, чаще подходили люди в одинаковой одежде.
Так она ждала хозяина всю ночь. Ждала и весь следующий день. Хозяин не выходил. Серка еще раз заглядывала в больничный коридор понюхать носилки, но их там уже не было.
Наступила вторая ночь. Сено собрал дворник и выбросил за ограду, а Серке, чтобы не отиралась здесь, пригрозил метлой. Но когда дворник ушел, она вернулась к березе, вырыла в глубоком снегу ямку. Добралась аж до самой земли, отоптала стылую траву, покрутилась и улеглась. Так, бывало, ночевали они в лесу с хозяином.
На третий день Серка нашла помойку, а в ней — несколько сухих хлебных корок. Никогда она не лазила по помойкам, вообще не знала о них, а вот теперь голод заставил. С той поры, как заболел хозяин, она ничего не ела и эти хлебные корки проглотила, почти не жуя. Можно было еще кое-чем поживиться, но сзади подкрался дворник и изо всей силы ударил метлой. Серка взвизгнула, убежала за ограду.
Наступила четвертая ночь, пятая, шестая… Место под березой, где теперь постоянно находилась Серка, округло заледенело и походило на лежку, какие оставляют после дневки в мартовском снегу лисы. Помойка давала ей кой-какое пропитание.
— Чья это там собака? Дворника, что ли? — спрашивал один больной у другого, стоя у окна.
— Если бы дворника, не лупил бы. Жизни ей не дает. Да и конура хозяйской собаке полагается. Так, бродяжка…
— Не похоже что-то. Лайка все же. Смотрит-то как на нас! Все глаза проглядела. И каждый день, каждый день! Скорей всего кого-то потеряла.
И как-то незаметно уже не только эти двое, а многие больные стали подходить к коридорному окну и подолгу смотреть-гадать, что же это за страждущая псина? И она не уставала смотреть на них и тоже по-своему гадала: где же тот, кого она ждет, и радостно подпрыгивала, призывно взлаивала, виляла хвостом, если вдруг замечала среди людей мужчину, похожего на ее хозяина…
Теперь даже тяжелобольные, неходячие, прослышав о собаке, спрашивали у товарищей: «Ждет?»
— Ждет! — отвечали им, и лица больных светлели.
Прошел месяц с того дня, как Ефима Петровича с воспалением легких привез Алешка в больницу, а Серка все неотлучно ждала его. Тем временем наступила весна, днями все выше вставало солнышко, под березами с южного обогрева обозначились затайки. Теперь можно было проводить ночи под любой из них, а Серка неизменно ложилась на старое место, в свое гнездо.
— Почему она все под одной и той же березой? — как-то спросил тот самый, чаще других наблюдавший за собакой, больной. И себе же ответил: — Потому что эта береза ближе других к нашему общему окну. Честное слово, если бы не эта собака, я бы, наверно, еще долго не поднялся с постели!
И его поняли, не засмеялись над ним…
Наконец наступил день, когда и Ефим Петрович вышел из палаты, направился к окну. Он тоже уже знал о собаке. И вдруг закричал:
— Да ведь это Серка! Серка моя!.. Ты почему здесь-то?!
— Она давно тут, — сказали ему, — еще с холодов.
Ефим Петрович не был сентиментальным человеком, а теперь как-то сник, глаза повлажнели. И заговорил тихо:
— Подумай-ка, родной сын не удосужился попроведать меня, а она, Серка, считай, всю болезнь у моей кровати высидела. Теперь-то уж я наверняка выживу… Вот приструнить бы дворника, чтоб не махался лишку-то. И она меня дождется…
СИРЕНЬ
Всю осень я прожил в деревне у милой и заботливой бабки Палаши. Она была одинока, старика схоронила лет пять назад, а детей, как говорила, «бог не дал». Но бабка Палаша давно примирилась со своим одиночеством, на здоровье пока не жаловалась и содержала хозяйство в полной исправности.
Просыпалась она рано, когда на дворе начинало чуть брезжить. Сквозь сон я слышал, как она, поскрипывая досками, спускалась с полатей, шаркала босыми ногами по полу и что-то без конца наговаривала. Видно, с тех пор, как осталась одна, бабка привыкла беседовать с вещами, со скотиной и просто с собой. Я слышал, как она щепала на кухне лучину, разжигала печь, погромыхивала ухватами и горшками; из кухни сочился запах разогретого коровьего масла и жирных мясных щей. Затем бабка замешивала корове пойло, уходила в хлев, оставляя избу открытой, и слышно было, как она ласково, нараспев разговаривала там с комолой Буренкой:
— Просу-ужая ты у меня, корми-илица ты моя…
Всегда в это время вставал и я. Умывался ледяной водой из рукомойника, подвешенного на перильце крылечка, прямо в сенях пил из глиняной кринки холодное молоко, проходил в комнату и садился за стол. Садился и ждал бабку. Я уже привык к тому, что она, выпроводив скотину на выгон, входила в горницу со скатертью в руках и извиняющимся голосом, по-местному песенно растягивая слова, говорила:
— Погодил бы, соколик, малехонько, я вот скатерочку чистенькую наброшу.
Непонятно было, для чего бабка Палаша каждое утро меняла на моем столе скатерти, но, видно, такой обряд в этом доме велся исстари. Я покорно собирал бумаги и стоял, прижав их к груди, пока бабка проворно сдирала скатерть и расстилала новую. От свежевыстиранной холстины пахло мылом, вениками и речным холодком. И еще пахло осенью.
Осень, цветистая и тихозвонная, пронизанная нежными ароматами, смотрелась в светлые окна горницы. В небольшом садике перед окнами бабка Палаша еще при жизни мужа насадила всякой лесной разности: рябинку, черемушку, вересок, березку, осинку. Были тут и елка, и сосенка, и листвяночка — все, что росло в округе. Любила бабка русский лес, взросла в нем и насадила деревьев у дома, чтоб всегда были на виду. Ближе других к окнам стройным кустом стояла сирень.
И я, работая изо дня в день в этой горнице, невольно смотрел на деревья и, может быть, первый раз проследил, как по-разному засыпают они на зиму.
Еще где-то в августе, прозябнув в туманные ночи, захворала осинка. Пригорюнилась, свесила листы, и чуть ветерок — задрожит, затрепещет вся. Теперь она и солнышку вроде бы не рада. На солнышке только бледнеет больше и сохнет. А в одну из ночей вдруг воспылала красным ее вершинка. Сперва, когда было утро, я подумал, что это свет зари отражается на ней, но настал день, а вершинка все горела. И потекла с того дня краснота по ее ветвям, в карминовые и багряные тона окрасились все листья. Так, пламенеющая, и стояла она до холодов.
Вскорости после осинки занедужила березка. В пахучей шелестящей зелени рыжим лисьим хвостом мелькнула увядшая прядка. Потом мелькнула другая, третья — и березка смирилась с уготованной участью, плакуче свесила струйчатые поблекшие косы, по одному стала обранивать листья. Они первые легли на землю, большие и яркие, как пугливые бабочки-махаоны.
Глядя на подружек, побледнела с испуга рябина. Выгнула тонкие ветви под тяжестью сочных, пылающих жаром гроздей и тоже начала ронять свои фасонистые, с узорной резьбой листья. А тут еще на ягоды слетались дрозды и давай трясти, оклевывать рябину. Донага отрясли, ощипали все ягоды.
Жгучий октябрьский утренник ошпарил лиственницу. Светлой прожелтью подернулась ее шелковистая хвоя. Мелкие игольчатые листики дождем-сеянцем посыпались к корням. Прибежал петух на дивный дождичек, раз клюнул кислой мягкой хвоюшки, два клюнул и, смекнув что-то, принялся кудахтать да созывать на пир несушек.
Просторнее стало в садике, светлее. Вся осень, как на смотринах, прошла перед окнами. Будто чудную книжку листал я, наблюдая осень из горенки.
К концу октября начисто обмело лиственные деревья. Куда ни глянь — голь продувная. И только сирень по-прежнему зеленела, убористая, нарядная, будто в начале лета.
Казалось, сирень и не думала встречать зиму, на ней не сжелтел ни один листик. Хоть так, хоть этак смотри — зеленая, влажно блестящая. Каждое утро я подходил к окну и подолгу смотрел: нет ли каких изменений на ней? Нет, все как было. Я ждал перемен, все равно неизбежных, но текли дни, а сирень зеленела.
Стала поглядывать на сирень и бабка Палаша. По утрам, заменив на столе скатерть, она спрашивала:
— Не облетела еще?
— Нет, — отвечал я, и мы подходили вместе к окну.
Я замечал, что бабка Палаша и в другое время, идя улицей мимо садика, как бы ненароком взглядывала на сирень и, убедившись, что она невредима, улыбалась.
Раньше я никогда не выделял из прочих декоративных растений эту избалованную вниманием красавицу. Цветет она, конечно, красиво и пахнет приятно, но пускай поют о ней поэты, я все же предпочитаю вольную, дикую черемуху. А вот тут загляделся и оторваться не могу.
А дни шли. В холодеющем небе торопливо пролетали последние стаи уток, рано темнело, и глухие выморочные ночи были полны отдаленных вскриков брачного кочевья лосей. В природе все успокаивалось, затихало, готовилось к приходу лютой зимней поры. И только сирень под окнами, наперекор времени и судьбе, зеленела. И чем больше я отсчитывал на календаре осенних дней, тем сильнее она притягивала к себе наше внимание.
Чуть засветлеет — мы с бабкой к окну.
— Стоит, голуба, — не то с сочувствием, не то с облегчением вздыхала бабка и уходила задавать корове корму. А то, бывало, бабка Палаша перед утром ворочается на полатях, так и сяк ляжет, подушку перевернет на другую сторону, а затем, зная, что я тоже не сплю, осторожно осведомляется:
— Жива ли она сегодня, христовая?
Я подходил к окну, протирал рукавом запотевшее стекло и, рассмотрев в сизом рассветном сумраке сирень, кричал с мальчишеской радостью:
— Жива!
— Вот ведь диво! — восхищалась бабка и слезала с полатей, чтоб самой посмотреть на сирень. — Сколь лет живу, а не приглядывалась…
И вот как-то, уже в начале ноября, ударил первый мороз. Термометр, приделанный к раме с наружной стороны, показывал ниже десяти градусов. Всю эту ночь из щелей подполья тянуло холодом, куржаком обросли отдушины в хлеву, и выперло бок у медного рукомойника, из которого я забыл вечером слить воду.
Проснулись мы в то утро еще раньше обычного и просто томились в ожидании рассвета. Я был уверен, что сирень погибла, и все же хотелось убедиться в этом воочию.
— Неуж выстояла? — спрашивала с полатей бабка.
— Не знаю… — неопределенно отвечал я, а сам испытывал желание сказать другое: «Да, бабка, выстояла!»
Когда на улице немного посветлело, мы подошли к окну и вместе ахнули: сирень стояла все так же. Мы быстро оделись, пошли в садик и, не веря глазам, стали рассматривать куст. Нет, чуда не произошло, сирень замерзла. Но как замерзла — зеленая, в полном соку, не потерявшая за осень ни единого листика.
Я прикоснулся к кусту — и вдруг он со звоном, как упавшая люстра, разом осыпался. Падая, листья раскатывались, точно льдинки, и позванивали, будто стеклянные. Бабка Палаша подняла один, свернувшийся в трубку, льдистый, фиолетово-зеленый, сжимая в ладони, с хрустом раздавила его, а потом раздумчиво сказала:
— Не видывала я еще такой гордынюшки. Даром что не нашенская, не расейская. Из Персии, говорят, в давние времена завезли ее черноморы на нашу северную землю. В полной красе ведь замерзла, милая…
Я не знал, что ответить. Постоял еще немного и поспешил в дом писать этот рассказ.
КОРОЛЕВСКАЯ ТЯГА
В тот майский день я исходил по неодетому, звонкому, пряно пахнущему лесу километров двадцать. Недавно освободившаяся от тяжелого снежного покрова земля была полна влаги и подернута, как паутиной, белесоватым налетом, сквозь который дружно и беспорядочно тянулась к свету первая зелень. Больше зелени было там, куда обильно попадало солнце, и реже, ниже, словно ошпаренная, трава поднималась в плохо прогретых, затененных местах.
С волнением я входил в сквозную прозрачность полунагих березовых рощиц, с чувством колдовского суеверия вглядывался в сумеречную беспросветность хвойного темнолесья, дивился на затопленные талыми водами вербняки, белые от вызревших почек.
Неузнаваемо изменились некогда глухие, не топтанные ногой человека лесные чащи. А ведь места эти я помнил с детства. Помнил и бережно хранил в памяти, как заветные уголки, как волшебную, еще никем не открытую страну.
Сюда, на эти отдаленные лесные деляны, меня привез первый раз за седлом на крупе лошади молодой и веселый лесник Коля Шарафутдинов. Весь день мы с ним ездили по светлым, залитым солнцем перелескам, по сырым пойменным лугам речки Каменки и втыкали в землю колышки с написанными на них номерами. Коля говорил, что там, где мы втыкаем колышки, высадят «культурные» деревья — лиственницы.
А вечером мы стреножили лошадь, отпустили в поголубевшие от тумана луга и стали готовить ночлег. Никогда раньше я не видел такого яркого костра, не испытывал такую великую притягательность его тепла и не ел вкуснее, душистее хлеба, каким он мне показался в ту ночь. После ужина еще долго сидели у костра. В травах скрипуче пилили коростели, таинственно позванивала на перекатах речка, и наша лошадь — ее звали Ракета — то и дело боязливо всхрапывала и шарахалась в сторону, когда над ее головой неожиданно возникал и тут же пропадал бесшумный мягкокрылый козодой. Потом Ракета, неловко выбрасывая связанные ноги, подпрыгала к костру и, мокрая от росы, стоя уснула, раздувая бархатистые ноздри, подергивая на спине кожей.
Утром мы снова ездили по лесам, отыскивали полянки, измеряли их шагами и втыкали все те же колышки. Я впервые так далеко забрался от дома, и чувство отдаленности, оторванности от мира не покидало меня. Мне казалось, что дальше этих лесов уже ничего нет — край света, и я тоскливо тянул прилипчивые слова услышанной где-то песенки: «Далеко, далеко родные края…»
Коля смеялся и говорил, что «родные края» не так уж далеко, всего до них каких-то двадцать километров.
Через несколько лет в поисках охотничьего счастья я снова забрел сюда, уже один, и с той поры навсегда полюбил эти места.
Ах, как славно кустились и цвели по веснам на Каменке черемухи! Я и сейчас вижу этот белый буран, слышу неумолчное соловьиное буйство, с прежней силой и полнотой ощущаю запахи. Именно те весны моего детства, те черемухи и те зори раскрыли мои глаза на мир, научили видеть прекрасное, навек поселили в сердце непроходящую любовь к родной земле.
Но с той поры много воды утекло в речке Каменке. Время стушевало старые краски, заново переписало былые пейзажи. Там, где когда-то лежали луга, теперь ровными рядками поднимался лиственничный лес. И наоборот: где шумел лес — стал пустырь, заросший метлицей и дудником, с редкими щетинистыми побегами у гниющих пней.
Мне хотелось поспеть к вечерней заре на Королевскую тягу. Это высокая, полого поднимающаяся гора с широкой просекой посередине. Просека успела зарасти нечастым лиственным подлесьем, а по обеим сторонам ее высился ровный крепкостволый сосняк. Кто это место назвал Королевской тягой — не знаю, возможно, Коля Шарафутдинов, но удобнее его для весенней вальдшнепиной охоты я не встречали Гору почти по всей окружности опоясывала та самая Каменка, вблизи которой мы когда-то размечали поляны под лесонасаждения. Над ее низменной долиной, теперь полностью заросшей молодым лиственничным лесом, дружно тянули по зорям вальдшнепы. И где бы, в каком направлении они ни летели, обязательно угадывали на просеку, потому что она была одна и начиналась у самого подножия. А по просеке, как по коридору, птицы тянули к вершине, и чем ближе к ней, тем ниже летели. Над самым перевалом они пролетали в рост человека и до того медленно, что в пору было ловить их руками.
Вот тут-то, в камнях, на давно насиженном месте, я и рассчитывал провести вечернюю зарю.
Я еще далеко не дошел до Королевской тяги, как почувствовал неладное. Откуда-то взялась незнакомая дорога, зимник, наверно, ведущая к горе, сплошь заваленная сосновыми ветками. Деревья по обочинам дороги были ободраны, из земли торчали исковерканные гусеницами тракторов, истекающие соками корни. Встревоженный, я ускорил шаг, а когда дошел до Каменки, увидел, что сосновый бор на горе подчистую вырублен.
«Вот тебе и неоткрытая страна!» — с горечью подумал я и уже без всякого интереса побрел по бывшей просеке к вершине. Нетронутыми на Королевской тяге остались одни камни — те, что мертво покоились на самом перевале, где столько было встречено незабываемых весенних зорь, столько передумано и пережито…
Я сел на камни, прислонил к коленям ружье и долгим взглядом обвел открывшиеся с высоты дали. Огромное солнце повисло над извилистым краем лесов. Откуда-то снизу волнами накатывался остывающий воздух. По реке проголосно свистели дрозды, звонко перекликались зарянки, нежно тенькали у гнезд с самочками хлопотливые в эти дни лазоревки. Все было как прежде — и клонившееся к закату солнце, и далекая, подернутая алой роздымью синь лесов, и вечерние песни птиц. И только не хватало знакомого смолистого бора. Угнетала непривычно голая пустошь Королевской тяги, с копнами несожженной хвои, с невывезенными, беспорядочно разбросанными по горе древесными стволами. Королевская тяга напоминала сейчас большой старый дом, в котором прошли долгие годы жизни и который только что опустел.
Ну, вырубили строевой сосняк — надо, значит. Непонятно только, почему его не вывезли или хотя бы не скатали в штабеля? И уж совсем непонятно было, зачем погубили молодой березняк? Так и лежали березки — каждая в детскую руку толщиной, — сраженные под корень одним ударом топора, лежали с необрубленными сучьями, будто после сокрушительного ветровала. На дрова сгодились лишь немногие из них, они были разделаны в метровник и сложены в поленницу. Эта поленница с вбитыми в землю кольями-подпорками, ровная и высокая, стояла невдалеке от камней, как белая гробница, как памятник погибшему лесу.
Солнце спустилось на петушиный, красный от заката гребень гор и, рдея и пуская длинные розовые стрелы, начало скатываться на другую сторону земли. Туманная розовая муть сползла с увалов и, крыльями вытягиваясь над распадками, посочилась на просеки и в глухие лесные закоулки.
Птицы замолкали. Запахло сырой, волглой землей, от сваленных в кучи сосновых веток остро потянуло перебродившим брусничным настоем.
Мои невеселые размышления прервал неожиданно появившийся вальдшнеп. Я пружинисто обернулся на звук — и сердце заныло в сладостном нетерпении: устало и редко взмахивая крыльями, на меня летел вальдшнеп. Как он мне нужен был в эти минуты! Я был уверен, что вальдшнеп своим появлением прогонит грустные мысли, взбодрит, вольет в душу целебную силу. Будто с простуды хрипящий, цвиркающий, ни с чем не сравнимый его голос звучал для меня сейчас милее священной лиры.
«Хрруп-п, хрруп-п, хрруп-п», — жарко кликал вальдшнеп свою подругу.
«Цвирк, цвирк, цвирк», — вторил ему откуда-то снизу другой.
И вот вальдшнеп плавно пролетает над самыми камнями, поворачивает голову то вправо, то влево, поводит из стороны в сторону длинным клювом. Я различаю на его брюшке землисто-коричневые перышки, пепельно-серые опахала выгнутых полумесяцем крыльев, на мгновение замечаю блестящие капельки черных глаз.
«Хрруп-п, хрруп-п, хрруп-п», — картаво выговаривает вальдшнеп, осматривая камни, лежащие деревья. Он искал подругу среди свежих пней, хвороста, высоких, пожухлых стеблей кипрея, искал на том месте, где нашел ее в прошлую весну.
Но подруги не было. Слишком неподходящей стала опустевшая гора для птичьих весенних встреч.
Потом еще и еще тянули вальдшнепы; их хорканье, раня слух, уже доносилось со всех сторон. Птицы не забыли давнего игрища, не изменяя инстинктам, спешили на Королевскую тягу, на излюбленную просеку, и летели по ней, неведомо как узнавая ее, будто не видя вырубленного леса.
Когда совсем стемнело и в небе лучисто засветились звезды, я поднялся с камней и направился к реке. У воды разжег огонек и, коротая недолгую майскую ночь, думал о вальдшнепах. Да и не только о них…
БЕССМЕРТНАЯ ПЕСНЬ
Весна в тот год пришла ранняя и на редкость дружная. В начале апреля с юга хлынули теплые ветры, щедрое солнце точило и плавило в глубоких логах суметы. Снег согнало в несколько дней. Открылось настоящее весеннее водополье.
Я шагал по размокшей лесной дороге на кордон, к бывшему леснику Василию Сергеевичу Аристову. Каждую весну я прихожу к нему, чтобы прохладным заревым утром вместе послушать глухариную песню, посидеть вечерок-другой на вальдшнепиной тяге.
Хотелось засветло добраться до кордона, и я спешил. Но то ли оттого, что дорога была плохая, то ли от пьянящих запахов весны быстро идти не удавалось. Я часто останавливался и прислушивался к ровному гудению проснувшегося леса. Над полянами, на деревьях, в сухой траве неумолчно трезвонили птицы, в теплых лужах наперебой галдели лягушки.
В природе все оживало, всюду утверждалась жизнь. И оттого на душе было необыкновенно светло. Я шагал легко, словно не было пройдено двадцать километров — в болотных сапогах, с ружьем, с тяжелым рюкзаком, по хлюпкой грязи, по лужам, по шатким и скользким лесным лежневкам.
У ворот меня встретила Лена, младшая дочь лесника.
— Глухари играют… — многозначительно сообщила она, подавая руку.
— Была на по́дслухах?
— Была.
Лена — невысокая милая девушка. У нее ясные, как это весеннее небо, глаза, пышные волосы и такой голос, что хочется с ней без конца говорить. А поговорить у нас есть о чем — об охоте. Мы с ней, как и с ее отцом, давние друзья.
— Где играют? — нетерпеливо спросил я.
Помедлив, Лена кивнула в сторону заката и нараспев ответила:
— В Ле-бе-до-вуш-ке…
Василий Сергеевич сразу огорошил меня вопросом:
— Сколько глухарей собираешься взять?
Я сперва растерялся, а потом сказал:
— Если придется только послушать — буду рад.
Он хмуро оглядел мои доспехи.
— Патронташи, ножи и прочий инвентарь оставишь дома. Возьмешь с собой заряженное ружье. — Отвел прокалывающий взгляд, ссутулившись, зашаркал шлепанцами, на ходу ворча: — Вам — что-о! Пришли, попалили — и обратно. А тут — изнывай душа, считай на пальцах, сколько птицы осталось…
Меня здесь еще так не встречали, я ничего не понимал и испытывал мучительную неловкость. Заметив это, Лена пояснила:
— На неделе у нас ночевали трое… Как их, называть-то не хочется — охотников… Отец им все рассказал-показал, а они такой погром в лесу учинили! Убили глухарку, сколько дятлов перестреляли да еще и болота гектаров пять выжгли. А глухаря только ранили, не нашли, говорят.
Я знал Василия Сергеевича как человека, лес для которого — все. Лес был местом его труда и отдыха, лес приносил радость и, главное, сознание своего настоящего места в жизни. Душой болел Василий Сергеевич за лес.
И вот теперь, на пенсии, он добровольно и безвозмездно нес знакомую службу. По-прежнему поднимался с петухами и, как десять, как тридцать лет назад, обходил родные угодья. Ему до всего было дело: кто-то после заготовки дров не сжег хворост — Василий Сергеевич сердито укажет; кто-то на покосе случайно смахнул вешку и прошелся с литовкой в полосе лесонасаждений — Василий Сергеевич предупредит; какой-то беспечный путник оставил в летнюю сушь горящий костер — лесник непостижимо как учует запах дыма, в полночь уйдет из дома и затушит огонь.
В общем, мне стало понятно состояние старика, и, чтобы как-то смягчить его, я с готовностью заявил, что ружье могу вообще не брать, если он этого захочет.
— Пошто не брать? Только стреляй да знай меру, — глухо отозвался из-за двери Василий Сергеевич.
Я повесил на гвоздь у порога взмокшую от ходьбы телогрейку, и мы с Леной прошли на веранду. Василий Сергеевич сидел к нам спиной против распахнутого настежь окна и медленно вращал за ручку пудовую дробокатку. На веранде стоял оглушительный гром, звякали стекла, на полу приплясывали стулья. На подоконнике рядком теснились почерневшие гильзы, на столе — всевозможные баночки и мешочки. Увидев все это, Лена просияла: батя готовится к охоте.
Вышли мы в полночь.
В небе по-весеннему ярко горели звезды. С недалекого, затопленного полой водой болота доносились какие-то непонятные ухающие звуки. А потом над головой послышался свистящий шум — мы догадались, что там, в невидимой вышине, неслись, спешили к родным гнездовьям утки.
Лебедовушка — старинное глухариное токовище. Когда-то на него слеталось до двух десятков глухарей. Но сейчас ток обеднел. Василий Сергеевич утверждал, что его разорили хапуги и браконьеры.
Мы двигались по темной, как ущелье, просеке. С обеих сторон вытянулись к звездам мшистые сосны. Под ногами похрустывала смерзшаяся листва. Пахло озерной свежестью и березовым соком. В лесу царила ничем не нарушаемая тишина. Напрасно мы пытались что-нибудь услышать. Когда останавливались, нам казалось, что мы оглохли.
Василий Сергеевич, грузно продавливая каблуками подстывшую землю, шел впереди. Я едва различал его силуэт с закинутым за плечи ружьем. Лена часто отставала и замирала: ей хотелось во что бы то ни стало первой услышать глухаря.
Поднявшись на угор, Василий Сергеевич приставил к дереву ружье, закурил трубку. Мы, насколько позволяла видимость, осмотрелись. Справа по крутой гриве высился вековой бор с кряжистыми стволами, слева, в немой пустоте, раскинулось моховое болото. Это и была Лебедовушка.
Еще не светало, но приближение утра уже чувствовалось во всем. Стало прохладнее, меж деревьев пластами наслаивался туман. Где-то далеко, должно быть, на той стороне болота, звонкой свирелью пропела утреннюю песню зарянка.
— Слушайте, — шепотом предупредил Василий Сергеевич. Немного помолчал и так же тихо добавил: — На этой гриве играет один…
Василий Сергеевич, прикрыв ладонью огонек, посапывал трубкой. Лена неслышно отошла в сторону и растворилась в темноте.
Прождав полчаса, мы переменили место. И опять потянулись томительные минуты ожидания.
Сквозь кроны сосен на востоке узкой полосой заалела заря. Четко проступили очертания деревьев. Отделенные от земли густым туманом, они будто висели в воздухе. А глухарь все не пел.
Василий Сергеевич опять набивает трубку. Почему глухарь молчит? Неужто и этого, последнего, застрелили?..
Он запел, когда взошло солнце. Неуверенно, слабо, точно не желая омрачить плохой песней счастливое весеннее утро. Но чем выше поднималось солнце, чем больше в лесу было света, вопреки всем правилам, глухарь пел смелее и громче.
Мы все трое подкрадывались к глухарю. Неожиданно заметили его посреди неширокой елани, не на дереве, а на прогнившей сухой валежине. Краснобровый мошник, распустив черный хвост, низко свесив округлые крылья, самозабвенно скрежетал и точил, вытянув навстречу восходящему солнцу натопорщенную, отливающую перламутром шею.
Но почему глухарь приседает, почему садится на хвост и опирается на крылья? Я все пристальнее наблюдаю за птицей, слежу за каждым движением, улавливаю каждый звук — и вдруг догадываюсь: глухарь ранен. Вот почему он поздно запел!
Какая великая сила понудила его в это славное утро покинуть надежный тайник и выйти на поляну? Что заставило петь свою, быть может, последнюю песню?
Прошло около часа. Глухарь продолжал токовать, сбиваясь, умолкая и тут же начиная снова. Мы, потрясенные, не смели шелохнуться, чтобы не помешать, не спугнуть воскресшего певуна прежде, чем кончит петь он сам.
И вот он кончил, как-то враз, словно задохнулся. Весь собрался, сделался маленьким, прыгнул, упал с валежины и через елань, ни от кого не прячась, направился к соснам, волоча по сверкающей траве перебитые крылья. Теперь ему все равно. Он сделал то, чего не сделать не мог. И опять стало тихо, так тихо, что защемило сердце. Мы не замечали щебетания птиц — их песенки уже ничего не значили перед тем страстным гимном, который только что прозвучал.
Когда глухарь скрылся в чаще, вышла из-за укрытия Лена. Пунцовый румянец плавился на ее щеках, глаза поблескивали.
— Вот и спел петушок свою последнюю песню, — едва слышно произнесла она.
А Василий Сергеевич устало опустился на пень, набил трубку и, облокотившись на колено, надолго задумался.
ЛУКИЧ И ПЛАКСА
У охотничьей собаки Плаксы родились щенки. Пять голопузых слепых малышей. Все, как один, — толстенькие, гладенькие, головастенькие. Только мастью разные: два черных, два пегих, а один белый, в коричневую крапинку. Явно погрешила Плакса, народила своему хозяину, старому охотнику Лукичу, разношерстное беспородное племя.
Погоревал-погоревал Лукич, что у любимой собаки родились такие непутевые детки, да и решил скрепя сердце убрать их, пока малы. И в самом деле, на что они ему, беспородные? Ведь мать-то у них — известная в округе выжловка, чистокровная, с полной родословной русская гончая. Одних медалей у нее — и золотых, и серебряных — целых пять штук! Выкорми таких приблудышей — засмеют охотники. Да и проку от них не жди: раз есть примесь дворняги, хорошо работать не будут.
Знал это старый Лукич и тяжело вздыхал. Легко сказать — «убрать», а как он потом своей верной помощнице в глаза посмотрит? В жизни, даже в малом, не обманывал он собак, потому что был убежден: собака умнее всякой другой животины. Ведь не объяснишь ей, что щенки, мол, твои никуда не годные, порешить их надо, чтобы не портить доброе племя и не порочить былую охотничью славу. Плаксе-то ведь все равно, какие они, она — мать.
И все-таки надо что-то делать.
Плакса со своим бесценным семейством лежала под топчаном в кухне, на мягком, вдвое сложенном коврике. Из-под топчана доносилось сытое сопение спящих щенков, затаенные вздохи бодрствующей матери. Собака будто предчувствовала недоброе, несколько дней не отходила от щенков, стерегла каждое их движение. А сегодня невмоготу стала жажда, и Плакса, полностью доверяя хозяину, вышла. Воровато побежала к черепку, звучно шлепая языком и брызгая по сторонам, быстро полакала воды — и опять к потомству.
— Эх, зелен корень! — вздохнул Лукич.
Он оторвал клочок газеты и долго не мог смастерить козью ножку. Бумажка расклеивалась, табак сыпался на колени. «Бросать надо это дело, — рассеянно думал Лукич, запаливая неладно скрученную цигарку, — ведь нельзя курить, ишь, руки трясутся, а курю…»
Лукич старался думать о чем угодно, только не о предстоящем, вспоминал давно умершую жену, дочерей, внучат и многое другое, но все мысли упорно, как ручейки к реке, стекались к нешуточной его заботе — к собаке и ее щенкам.
— Эх, зелен корень! — повторил Лукич и тихо позвал собаку: — Иди ко мне, вольница, вместе подумаем.
Плакса вылезла из-под топчана, подбежала к хозяину. Обдала жарким дыханием, лизнула горячим сухим языком руку и благодарно взглянула преданными глазами. Лукич ни с того ни с сего рассердился:
— Ну, чего уставилась, блудня? Иди давай, корми своих ненаглядных…
Лукич докурил цигарку и принялся было скручивать новую, и вдруг его осенило: «А если… если податься к Кузьме?» Сгреб шапку, шумно пошел из избы.
— Выручай, Кузьма, — сокрушенно сказал Лукич, когда сосед отпер ему дверь. — Девай куда ни на есть щенят у Плаксы! Как хочешь, а выручай, не откажи в милости. Извелся я…
И ушел к реке с опущенной головой. А когда поздно вечером вернулся домой, щенков у Плаксы уже не было. Как Кузьма умудрился взять их у собаки, Лукич не знал да и знать не хотел, только ограбленная, лишенная материнства Плакса металась по комнатам, разбрызгивая на половики скопившееся в сосках молоко. И вот подбежала к хозяину, в нетерпеливом ожидании остановилась перед ним, точно спрашивала: «Где щенки?» Лукич отвернулся, вышел и долго ходил по двору, заложив отяжелевшие руки за спину. Подошел к провисшему пряслу, хотел поправить жердину, но услышал из дому приглушенное повизгивание и опять опустил руки. «Дай-ка выпущу ее сюда, может, на воле поразвеется».
Лукич приоткрыл дверь, позвал собаку:
— Айда, милая, погуляем.
Но Плаксе было не до гулянья. Тенью скатившись с крылечка, она бросилась шнырять по ограде, обнюхивая каждое бревешко, каждую щепку. И вдруг в темном углу под навесом, где стояла старая корзина с отжившими свой век внуковыми игрушками, раздался писк. Плакса отпрянула, замерла.
«Что это? Неуж подвел Кузьма, не унес щенят, куда следовало?» Плакса переступила, и снова кто-то тонюсенько пропищал. Щенок, как есть щенок!
Угадывая злой подвох, Лукич решительно направился в угол. Возле корзины, словно окаменевшая, стояла Плакса, настороженно скосив набок голову, оттопырив висячее ухо. Лукич чиркнул спичку, посветил в корзину. Нет, щенков не было, одни драные плюшевые мишки да пластмассовые, с продавленными боками зайцы. Постоял, послушал — никто не пищит. Хотел уж было пойти, а тут в третий раз: «Пи-и…»
Посмотрел Лукич под ноги и все понял: он и собака стояли на доске, а доска одним концом придавила резинового слоника со свистулькой на брюхе. Он, этот слоник, и пищал, когда на него нажимали.
Пока Лукич вызволял из-под доски игрушку, собака просто валила его с ног. Так и лезет под руки, так и вьется вся от нетерпения. Лукич — в дом, а она впереди него, прыгает на грудь, не дает ступить шагу.
— На, язви тебя в душу! — выругался старик и кинул слоника Плаксе.
А та — цап его этак нежнехонько поперек пузатого туловища и, задрав голову, — к двери. Скулит, царапает ее лапой, просится в дом. Едва Лукич открыл дверь — она со слоником живо под топчан. И давай там пичкать его да ласкать — только писк стоит! Чуть надавит, а он: «Пи-и…»
И успокоилась, унялась.
Второй день лежит Плакса под топчаном, изливает материнскую нежность, лижет, ласкает резиновую игрушку. До дыр скоро залижет.
А Лукич второй день сам не свой. Чувство вины перед собакой тяжелым камнем гнетет сердце. Оказывается, как легко обмануть друга, если он бесконечно верит тебе…
«ИГРАЙ, МАЛЬЧИК»
Первый раз я встретил ее в поле. Она шла узенькой тропкой, по грудь скрытая рожью, в светлом платье с редкими голубыми брызгами, под стать василькам, мелькавшим по обочинам. Шла осторожно, как бы чего-то опасаясь, скользя раскинутыми руками по созревшим колосьям. Когда мы сошлись совсем близко, она остановилась, стала боком и подвинулась с тропинки, уступая мне дорогу.
— Проходи давай, проходи, — сказал я, — роса уже, смочишь ноги, — и сам ступил в сторону.
— Нет, идите вы, — несмело возразила она и выпрямилась, подобралась вся.
Девочка была худенькая, с резко выпиравшими ключицами, с глубокой темной ямкой под горлом. Белые, как пена, волосы легкими завитушками свисали на тонкую шею, курчавились на висках, пушистой челкой падали к глазам. На маленьком бледном лице четко проступали веснушки. Плотно сжав губы, она смотрела мимо меня куда-то поверх хлебов в вечернюю прозелень неба.
Девочка ушла, а я все думал о ней. С поразительной ясностью вновь и вновь вспоминал ее маленькое болезненное лицо, темную ямку под горлом и этот взгляд через поля.
Спустя дня три я увидел ее снова. Она сидела в отаве клевера на берегу реки, обхватив колени сплетенными пальцами, все в том же светлом платье и красных башмачках. Сидела и задумчиво смотрела на заречные луга.
— Здравствуй, — негромко поздоровался я.
— Здравствуйте, — тихо отозвалась девочка.
— Ты, наверно, узнала меня, мы уже раз встречались?
Девочка глянула непонимающе.
— Да вечером как-то, в поле, — напомнил я, — ты шла откуда-то, а я — навстречу.
— Ага, узнала! — обрадовалась она.
— Я у бабки Харитоновны живу. Знаешь ее? До осени здесь пробуду. Красиво у вас — и деревня вон какая, вся в черемухах, и речка, и поля…
Доверительной живостью блеснули ее глаза, она с откровенным любопытством посмотрела на меня.
— Как же тебя звать? — поинтересовался я.
— Меня? Зачем?
— Ну, ради знакомства, что ли. Ведь надо же людям знакомиться.
— Ага, надо. Светой меня звать.
Я присел рядом. Света отодвинулась, оперлась одной рукой о землю, а другой срывала махровые катышки клевера и раскладывала венцом перед собой.
— Вот сколько ни замечаю, ты все одна, одна. Разве мало в деревне ребят?
— Я не знаю, с кем играть. И как играть — не знаю…
Света взглянула на меня кротко, с какой-то неизъяснимой, прижившейся в глазах болью.
— Не знаю, с кем играть, — повторила она. Гибкие пальцы машинально перебирали цветочки клевера, на прозрачном виске напряженно пульсировала жилка.
Я заметил, как, вздрагивая, полукружием выгнулась ее левая бровь, беззвучно шевельнулись губы. Света посмотрела на меня беспомощно и доверчиво. Сказала, как бы оправдываясь:
— Я в городе жила, в больнице, и у меня подружек нет…
Я возразил:
— Смешная ты какая-то! Говоришь, нет подружек, а сама все подальше от ребят да подальше. Подружиться — дело несложное, лишь бы желание было.
— А если мне не нравится с ними! — вдруг воскликнула девочка. — Только знают жалеть… А я не хочу, чтобы меня жалели!
И осеклась, испуганно закрыла ладошками рот.
— Громко я, ага?
— Ничего, говори как хочешь.
— Нет, нельзя громко. Сейчас нельзя…
Над пологим клеверным берегом, над пожелтелыми хлебами, над тесовыми крышами домов опустился вечер. Солнце утонуло за далеким угористым лесом. Из оврагов и гулких балок на поля неспешно наползали дымчатые сумерки. Остро запахло полынью. Во ржи азартно били перепела, где-то в ближнем логу женский голос зазывно кликал отставшую от стада корову. «Бом-бум» — глухо звякало железное ботало — в лугах паслась стреноженная лошадь.
И в эту мирную музыку летнего вечера из-за туманов, из-за реки, незаметно вплетался зовущий кого-то звук одинокого, потерявшегося в лугах рожка.
Света встрепенулась, стала на колени.
— Что это? — спросил я.
— Ти-ише! — умоляюще прошептала девочка. — Рожок заиграл… Он всегда играет, и я прихожу его слушать.
Звук рожка, такой забытый и непривычный, медленно нарастал. Его напевные переливы, казалось, качались в воздухе и исходили от самих этих парных лугов, от журчащей в береговых супесях речки, от высокого неба. Рожок пел о запахе весенней пашни, о шелесте берез, о ночном безмолвии полей и еще о таком, от чего хотелось, раскинув руки, припасть к земле и бережно поцеловать ее.
Рожок побродил, попел над лугами и потянул дальше. Он уходил, и все окрест замирало. Другие наполнявшие вечер звуки стали малозначительны, приглохли, не мешали ему.
Света, слушая, приподняла руки и держала их на весу, воздушно-легкие, трепетно вздрагивающие, будто хотела взять нечто очень хрупкое и бесценно дорогое ей, хотела, да так и не решалась. Я боялся нарушить это состояние девочки, боялся, что она просто упадет, если разом оборвется пение рожка.
Но звук рожка затихал медленно, точно уплывал в пространство. И чем дальше он уплывал, тем напряженнее становилось лицо Светы.
Рожок вывел еле слышную последнюю ноту и затих, истаял в сумерках. И еще какое-то время, уже после того, как он стих, Света стояла в этой своей забывчивости, вся во власти исчезнувших звуков. Затем уронила руки, закрыла глаза.
— Пойдем, Света, уже поздно, — сказал я. — Потеряют тебя дома.
Девочка меня не слышала — думала о чем-то своем. Я осторожно спросил:
— Тебе плохо?
Лишь сейчас, кажется, она очнулась. Кончиками пальцев вытерла глаза, посмотрела на меня ясно и удивленно.
— Что вы! Наоборот, мне хорошо. Только все это непонятно.
— Что непонятно?
— Ну, все — и вечер, и небо зеленое, и музыка такая…
— А кто играл?
— Не знаю, ни разу не видела. Только слушаю каждый вечер. Мама говорит, что дедушка какой-то. А я думаю, мальчик…
В это время от крайнего огорода крикнули:
— Светлана-а, пора домой!
— Ну, я пойду, — сказала Света. — Мама зовет.
У прясел она остановилась и с высоты угора еще раз глянула за реку. Нет, не видно там никого. Темно уже.
Несколько вечеров подряд я приходил к реке и неизменно находил там Свету. И неизменно в одно и то же время, когда спускалось за дальний лес солнце и облака мягко светились шафрановым светом, таинственный музыкант начинал играть на своем рожке. Он играл недолго, как раз столько, сколько нужно, чтобы пройти невидимыми отсюда лугами километр берега.
За эти вечера мы со Светой очень сдружились. Мне казалось, что я был единственным человеком, которому Света без утайки поверяла свои мысли. И чем больше я к ней приглядывался, тем сильнее она озадачивала меня удивительно обостренным восприятием, чутким, бередливым сердцем, всегдашней взволнованностью. Уж не потому ли она и одна, без подружек? Может, они не понимают ее?
Мы бродили в клевере, в россыпях незабудок, собирали фиолетовые гераньки и запашистые зонтики валерианы или сидели у самой воды и наблюдали за ласточками-береговушками. Вытянув острые крылья, они с лету шлепались грудью в реку, а потом в брызгах весело и стремительно взмывали кверху. Накупавшись и налетавшись, рассаживались обсыхать на провода.
— Счастливые эти ласточки, — как-то сказала Света. — Летают они, летают и столько видят! Интересно ведь много знать, ага? Куда идут дороги? Что за речкой? А за лесом что? Вот курицы. Птицы называются, а не летают…
Я спросил:
— Слышишь, в осоке крякает кто-то?
— Ну, слышу.
— Это не утка — коростель. Так вот, этот коростель и летает, и плавает, если потребуется, а никогда не увидишь, чтобы летал или плавал. Пешком да тайком все. На юг, на зимовку, и то, говорят, бо́льшую часть пути пешком добирается. Потому что ему так удобнее: тело у него лодочкой, ноги длинные, сильные, бегает он здорово, а уж прятаться в траве — с любым потягается. Так что крылья ему даже не обязательны.
Света призадумалась. Потом решительно возразила:
— Глупый коростель: крылья есть, а не летает…
И неожиданно задала мне вопрос:
— А что такое мечта?
Я не сразу ответил.
— Понимаешь, это, наверно, все то, о чем ты думаешь, что желаешь. Ведь ты мечтаешь только о том, что тебя волнует, что дорого тебе, правда?
— Ага.
— Ну вот, значит, мечта — твои желания.
Говорили мы о разном — о цветах и птицах, дальних странах и книжках и о многом другом, о чем она спрашивала. Но такие разговоры обычно начинались после того, как уплывал за холмы звук рожка. И кончались они с приходом Светиной мамы.
А раз пришли на берег, просидели до потемок и рожка не услышали. Без него чего-то не хватало у реки. И привычные звуки были уже не те: скрипнет колодезный журавль — мы оглядываемся, будто никогда и не слышали, ударит женщина вальком по мокрому половику — вздрагиваем: звук по реке такой, ровно выстрелил кто. Скучно было без рожка, и мы, прислушиваясь, почти весь вечер молчали. Так и ушли домой, словно потерявшие что-то, ушли раньше обычного.
Не играл рожок на другой да и на третий день. Светлана стала молчаливой, рассеянной. Ходила по берегу, нетерпеливо поглядывала за реку, а потом садилась и безразлично наблюдала за сновавшими над водой стрекозами. Изменилась она и внешне — вся как-то сникла, глаза притухли.
В один из вечеров Света на луг не пришла. Прождав час, я направился к ней домой.
Света лежала в постели. Мать с уставшими глазами сидела в изголовье и прикладывала к горячему лбу девочки мокрое полотенце. У окна снимала халат сельская фельдшерица.
— Надо отправлять ребенка в больницу, Прасковья Васильевна, — говорила она матери. — Рецидив. А пока ставьте холодные компрессы.
Фельдшерица, взяв чемоданчик, бесшумно вышла.
Прасковья Васильевна кивнула мне на стул.
— Худо ей, — сказала она. — Вон в каком жару мается! Все о рожке говорит, пастушка какого-то зовет. Навыдумывали вы там с ней…
Девочка прерывисто застонала, отодвигая руку матери, оперлась на локти и сбивчиво заговорила:
— Мальчик, играй еще… Ой, иволга поет! Играй, мальчик. Ну, играй же!..
И задохнулась, упала в постель. Мать бережно вместе с подушкой приподняла взмокшую голову Светы, поднесла к запекшимся губам стакан с водой. Девочка с усилием глотнула, открыла глаза.
— Это кто играл?
— Мальчик, доченька, пастушок твой.
— Где же он?
— Ушел, но вернется скоро, играть тебе будет.
— Будет? Я подожду его…
Света просветленно улыбнулась, опустилась на подушки и забылась.
— Вот так со вчерашнего вечера, — горестно сказала Прасковья Васильевна. — Почти в себя не приходит. И все пастушка зовет. Фантазерка она у меня большая. Что-нибудь да придумывает…
Прасковья Васильевна наклонилась к груди дочери, послушала дыхание.
— Полегче вроде. Это у нее обострение. Она ведь пластом лежала… Полиомиелит был. Врачи говорят, что с возрастом пройдет, да вот не проходит! Как разволнуется, так и сляжет. Уж очень чувствительный ребенок.
Я слушал эти слова, и больно мне было, что ничем не могу помочь девочке.
А что, если… Что, если разыскать того музыканта, будь он взрослый или мальчик?
Я простился с Прасковьевй Васильевной, тут же отправился на реку, отыскал лодку и переплыл на другой берег.
Долго шел влажными лугами среди метлицы и лютиков в том направлении, откуда в прошлые вечера слышался звук рожка. В низине, за ивняками на пойменных пожнях, нашел вытоптанные скотом выпасы, потухшее костровище. Но ни стада, ни пастуха уже не было. Повстречавшаяся женщина сказала, что стадо пасет старик Поликарп, что он и дудит в рожки, которые ладит сам же. А сейчас угнал стадо в деревню.
Я шагал в указанную женщиной сторону по пыльному проселку. За холмом, в крутой ложбине, маячила беленым верхом колхозная водонапорная башня. А с пригорка открылась вся деревня, обнесенная заплотом из жердей, с сизыми хвостами ленивых дымов над избами.
Пастуха Поликарпа я догнал у самого скотного двора. Высокий, мосластый, с бурым от загара лицом и бородой в два клина, он негромким мелодичным свистом подгонял отбившихся коров.
Я рассказал пастуху о больной девочке, о рожке и обо всем остальном, что задумал.
Поликарп поскреб пятерней бороду.
— Вон что. Знаю ее, Светланку Прасковьину. И верно, хворая она. Только дудку-то я отдал пионерам. В лагере живут. Смышленая ребятня, для выступлений, говорят… Ну, поглядим. Утро вечера мудренее…
Домой я вернулся уже ночью. Снял на крылечке мокрые ботинки, забрался на сенник и не раздеваясь лег на душистую кошенину. В темноте под матицей попискивали молодые ласточки, в повети на насесте возились куры, а в хлеву вздыхала сытыми боками корова. Миром и покоем веяло от всего, и я разом заснул, словно провалился в небыль.
Много ли, мало ли прошло времени, но проснулся я так же внезапно, как и заснул. Мне почудилось, будто в окно сенника, шипя и потрескивая, вкатился сияющий шар солнца. Он проплыл над моей головой, жаром пахнув в лицо, распугал ласточек и остановился в треугольнике крыши, покачиваясь и протягивая во все углы золотые паутинки лучиков. Откуда-то появилась Света. В голубом искрящемся платье, с монистами на шее, она, как на струнах, стала играть на этих лучиках, неуловимо перебирая их тонкими пальцами. «Дзень-дзинь, тень-тинь», — слышалось со всех сторон…
Я встряхнул головой и сел. Во все щели сенника струился ослепительный свет. Слышно было, как хозяйки выгоняют из дворов скотину и по всей деревне то согласно, то вразнобой тенькают, позванивают подвешенные к шеям коров медные колокольчики. Где-то запоздало прогорланил картавый петух, поперхнулся и настороженно закудахтал, услышав незнакомые в его обители переливы звуков.
Они нахлынули разом, будто из берегов выплеснулась речка и потекла, потекла, вся в тенях и солнечных просветах, по лугам к деревне. Пел знакомый рожок. Но как он сегодня пел! Что-то новое, бодрое, жизнеутверждающее слышалось в его проголосном звучании. Рожок никого не искал, никого не звал. Он просто пел, раздольно и благодатно разливаясь над полями, над лугами, пел во славу утра, во славу жизни.
ПОСЛЕДНИЙ СПОР
— Спорим, — сказал Витька. — Ну, спорим, что ли? Зачем тогда шел сюда? Ы-эх!
Витька с искренним возмущением выдохнул это «ы-эх», резко отдернул протянутую руку, досадливо сплюнул:
— С кем я только связался!
И тут Костя решился:
— Ладно, спорим, только ты первый иди.
— Давно бы так! — обрадовался Витька. — А насчет того, кто первый, ты не боись. Я, конечно! — И он так хлопнул по Костиной ладошке, что у того занемели пальцы. — Смотри!
Мост снесло этой весной, в половодье. Не весь снесло — с берега, где были ребята, далеко в реку выдавалось несколько уцелевших бревен, а одно, самое длинное, нависло и покачивалось аж над серединой. По нему-то и пошел на спор Витька. Балансируя руками, приостанавливаясь, чутко сохраняя равновесие всем своим гибким телом, дошел до самого краешка бревна. Медленно, будто на шаре, повернулся. Но Витька уже торжествовал победу. Еще несколько осторожных шагов — и тут какая-то удаль подхлестнула его: он отчаянно рванулся вперед, вылетел на берег.
— Ух! — облегченно выдохнул Костя и опустился на траву. — Здорово я переживал, — признался Витьке. — Бревно-то ведь скользкое да качается…
— Теперь ты давай, — сказал Витька.
Костя потупил глаза.
— Посидим маленько… Сначала не боялся, а когда ты пошел…
В груди редко и сильно затукало сердце. Косте казалось, что не только пройти по ненадежному бревну, высоко нависшему над рекой, а и встать он сейчас не сможет.
— Иди! — требовательно повторил Витька.
Костя зачем-то снял кеды, вытер о штанины ступни.
— В другой бы раз? — безнадежно посмотрел он на друга. — Что-то голова сегодня кружится…
Витька прищурился:
— Ы-эх! С кем я только связался? — повторил он. — Ведь на спор же!
И Костя понял: Витька неумолим. Не пойдешь по бревну — будет разговоров на всю школу. И он обреченно поднялся.
— Ты только вниз не смотри да руки раскинь, — посоветовал Витька.
У моста Костя снова вытер о штаны ноги и ступил на бревно.
С первых шагов он еще не так боялся — бревно не качалось, а сбоку торчали остатки перил. В случае чего Костя мог за них ухватиться. Но вот перила остались позади…
Костя остановился. С пронзительной ясностью услышал он журчание воды в обломках свай. И тут его качнуло, повело куда-то в сторону, он вскрикнул, резко присел, схватился за бревно.
Костя не слышал Витькиного смеха. Плотно приникнув к бревну, полз обратно.
— Что, печенка не выдержала? — язвительно спросил Витька, когда Костя поднялся на берег.
— Знаешь, в другой раз… Вот честное слово!
Витька еще громче засмеялся и обидно назвал Костю трусом.
— Не трус я! — запротестовал Костя. — Вот увидишь, не трус! Я не то что по бревну пройду — на вышку залезу!
Витька опять прищурился, что-то соображая.
— Хорошо, — согласился он. — Сегодня голова у тебя кружится… А завтра полезешь на вышку. Идет?
— Идет, — тихо ответил Костя и, взяв кеды, побрел к лагерю.
После вечернего отбоя он долго не мог заснуть. Все еще жег уши Витькин смех, это его ехидное «ы-эх». Закрывшись наглухо одеялом, Костя несколько раз повторил: «Тру-шс-с…» Слово это звучало с противным шепелявым присвистом: у Кости не хватало двух верхних передних зубов.
Вспомнилась вышка. Она стояла в километре от пионерского лагеря, в сосновом бору. Сорокаметровая деревянная громада была настолько стара, что вся позеленела и провисла. Особенно прогнулись длинные пролеты лестниц и одна из четырех опор. От этого вышка казалась скособоченной, гибло наклонившейся в сторону реки. На нее давно никто не залезал, а с той поры, как построили пионерский лагерь, лесник дядя Андрей огородил ее пряслами, вкопал рядом столб и прибил доску с крупной надписью: ПОДЛЕЖИТ СНОСУ ВЛЕЗАТЬ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
То, что вышка подлежит сносу, всем было ясно — кому она такая нужна? А то, что влезать опасно, — это еще как сказать. Конечно, если полезет взрослый человек, вышка может упасть, а от мальчишки — едва ли…
Так думал Костя, успокаивая себя своими же доводами. Отступать было поздно. Честное слово дал. Но если он заберется на такую махину, тогда ахнет не один Витька… Сколько раз ребята, запрокинув головы, смотрели на ее недосягаемую высоту и сколько раз уходили, не решившись перелезть даже изгородь.
«Тру-шс-с…» — снова протянул Костя и от досады прикусил палец.
Он сбросил с головы одеяло и негромко спросил в темноту:
— Вить, ты не спишь, а?
— Что тебе?
— Завтра после обеда полезу, ладно?
Ноги скользили по сухим сосновым иголкам, толстым слоем покрывавшим извилистую тропинку. Лес протяжно вздыхал от ветра. Эти вздохи отчетливо слышал Костя, когда останавливался, чтобы… Он много раз останавливался, и Витька, сперва терпеливо ожидавший его, начал ядовито подтрунивать:
— Опять кед расшнуровался? Давай завяжи…
Вышка возникла неожиданно в просвете между деревьев, еще более огромная от близкого расстояния. На ее наклоненном шпиле сидел молодой канюк и, тоскливо вскрикивая, звал круживших над ним родителей.
— Вон она, — показал Витька.
Костя не ответил. Не слепой, поди, сам видит.
Он думал о том, как все получилось нелепо и глупо. Вот всегда так: в малом струсит, в большом расплачивается. Ну кто тебя тянул за язык? Никто. Лезь теперь на такую гробину, она только тем и держится, что ее не трогают.
Слух о том, что Костя собирается забраться на вышку, еще с вечера облетел весь лагерь. Витька растрезвонил. И передавалось это каждый раз с новыми дополнениями.
— Знаешь, — шептал на ухо, чтобы не услышала пионервожатая, за ужином Олег Торопов Лорке Нестеровой, — завтра Костька на вышку полезет. Шпиль поправит…
Лорка тут же наклонилась к соседке Маринке Гельман:
— Костя на вышку полезет, слышала? К шпилю веревку привяжет и спустится по ней…
И так весь вечер. На Костю смотрели уважительно, говорили про него всякие хорошие слова.
А он боялся и думать, что ему придется лезть на вышку по шатким, готовым в любую минуту обломиться перекладинам. Уже сто раз покаялся, что встрял с Витькой в спор, что смалодушничал на мосту и пообещал залезть на эту проклятую вышку. Ночью он еще надеялся на чудо: поднимется ураганный ветер, и вышка упадет… Ну, не ветер, так гроза какая-нибудь случится, и сгорит вышка от молнии. Но ни того, ни другого за ночь не произошло, и утром с берега, где делали зарядку, Костя безрадостно увидел, что вышка целехонька и, кажется, еще больше накренилась…
Потом… Потом мучили самые отвратительные мысли. Все думалось, что до обеда кто-нибудь из ребят проболтается — не зря он просил Витьку лезть не утром, — о затее узнают взрослые и запретят идти к вышке. А когда и этого не случилось и настало время обеда, вовсе уж подло подумалось: не сказать ли кому-нибудь из воспитателей? Самому. Лучше, пожалуй, физруку, он всегда пуще всех беспокоится за ребят: не утонул бы кто, не сорвался бы с турника. Не так, конечно, не прямо сказать, а вроде бы невзначай.
Незадолго до условленного часа Костя уж было совсем направился к физруку, но опять укусил палец и не пошел. Лишь об одном попросил Витьку: чтобы с ними никто не ходил.
…Но вот она, вышка. В который раз Костя прочитал предостерегающую надпись на доске.
— Давай, — как и у моста, сказал Витька и кивнул на вышку: — Не боись, я тут буду.
У лестницы Костя отоптал густую лебеду, взялся за стояки, конусом уходящие к площадке, для верности потряс их.
Сухие перекладины потрескивали, сверху сыпалась древесная труха. Костя старался не смотреть вниз, но, даже и не глядя туда, всем нутром чувствовал, как быстро удаляется от земли.
Под рукой податливо отошла щепа. Костя ощупал перекладину. Она оказалась треснувшей. «Теперь можно вернуться, есть причина», — мелькнула спасительная мысль. «Тру-шс-с», — прошипел Костя и полез выше.
Благополучно миновал опасный участок. Сейчас он не переступал, а, всем телом облегая лестницу, полз по ней. И земля казалась уже такой далекой, что лучше, надежнее было добраться до площадки.
Добрался, протиснулся в узкий проем. Широкие толстые плахи обросли бархатистым мхом. Костя вытянулся на них, раскинул руки.
Снизу кричал Витька:
— Самый высокий пролет ты уже пролез. Еще три осталось, они короткие. Давай!
Костя не решился перейти площадку, переполз. И правда, эта лестница была короче, но ведь она вела вверх! «Может быть, дальше не лазить, и так вон на какую верхотуру забрался?» — снова подумал Костя, но тут же взялся за стояки и ступил на перекладину.
Ветер гудел в крестовинах, растяжках, трепал, пузырем надувал Костину куртку. Все тело обрело невесомость и тоже гудело.
Вот и вторая площадка. Она меньше первой и так же, как та, обнесена перильцами. Но они совсем сгнили, толкни — упадут.
Костя полежал на досках и пополз к третьей лестнице.
Здесь уже ничто не мешало ветру, вершины сосен остались внизу, и он разбойно свистел в ажурном сплетении бревен, как в корабельной мачте. С каждым метром лезть становилось труднее, и у Кости несколько раз соскальзывали ноги. Когда это случалось, он замирал, до боли в суставах сжимал пальцами перекладину, переводил дыхание.
Третья площадка была совсем маленькой. Он долго лежал вниз лицом, ощущая плавное раскачивание. Увидел в щель Витьку. Тот опять что-то кричал, размахивал руками. Голос его заглушал ветер. «Все учит»! — с неприязнью подумал Костя.
Лежа снял куртку и швырнул за площадку. Она птицей перелетела через растяжки, покултыхалась на ветру и повисла на сосне.
Последняя лестница была невысокой, но в ней в двух местах не хватало перекладин. «Неужели из-за них придется вернуться?» Костя даже испугался этой мысли. Обидно. Ведь осталась самая малость, главное позади. «Нет уж, теперь все равно доберусь!»
Вспомнил, как мучительно боязно заходить в холодную воду постепенно. Лучше нырнуть сразу. Надо только решиться. Нечто подобное он испытывал и сейчас. «Ну, ну!» — торопил себя Костя и почти бросился на лестницу.
Извиваясь ужом, кусая губы, перебрался через одну недостающую перекладину, через вторую. Дотянулся до лаза, просунул голову. И вдруг ощутил, как под ним что-то треснуло и просело. Костя похолодел. С минуту висел ни жив ни мертв, но все оставалось по-прежнему, ничего не рушилось, он никуда не падал. Подтянулся на руках, уперся коленками в створку — и выкарабкался на площадку.
И тут, когда выкарабкался и оценил свое положение, почувствовал себя конченым человеком. Назад путь отрезан! Что-то сдавило горло, Костя скривил в плаче лицо, но слез не было.
На середине площадки стояла тумба с круглой столешницей. Мальчик ухватился за нее, свесил голову через край площадки.
— Мне теперь не слезть одному, — крикнул Витьке. — Лестница сломалась!
Витька носился вокруг вышки, заглядывая на вершину то с одной, то с другой стороны, а потом сел на камень — тоже напугался. Но тут же встал, и до Кости донеслись слова:
— Ты подожди меня там, я сейчас!
«Интересно, что мне еще делать? — безысходно пожал плечами Костя. — Подожду уж, конечно». Но вдруг он увидел, что Витька побежал.
— Ты куда?! — закричал Костя. — Я тебе говорю, мне не слезть одному, тут поддержать надо!
— Ы-эх! Что я сделаю, раз она сломалась! — завозмущался Витька, однако вернулся.
— Не бойся, лезь сюда, я тебе скажу, что делать.
Витька нерешительно подлез под прясла, подошел к лестнице.
За многими перегородками и площадками Костя не видел, как Витька поднимался. По времени он должен был подняться до первой площадки.
— Отдохни там малость, — с радостной дрожью в голосе прокричал Костя. — Дальше легче будет!
И он опять стал ждать, чутко прислушиваясь к далекому поскрипыванию лестницы, угадывал, как высоко поднялся Витька, и переживал за него, когда вспоминал, что именно там, где сейчас Витька, опасная перекладина, и как бы он ее не проглядел. Костя был уверен, что Витька слушает его советы, и не жалел голоса:
— Ты старайся ступать не на середину перекладины, а по бокам, так надежнее! И руками держись по бокам!
Чтобы как-то скоротать такие длинные минуты, начал считать. Досчитал до ста. Теперь Витька, наверно, уже у второй площадки. Костя снова закричал:
— Прижимайся плотнее и не бойся, что кача…
Он не договорил: внизу, мелькая между деревьев белой рубахой, бежал Витька…
Ух, как обидно стало! Не страх, а настоящее презрение к Витьке шевельнулось в душе.
— Предатель! — закричал Костя вслед.
Оставшись один, он еще острее почувствовал безнадежность своего положения. Глянул на ветхую, с проломанными ступенями лестницу и не то чтобы отчаялся, а как-то пожалел, что все вышло так не по-дружески. И это Витька? Этот вечный спорщик… «Ну ладно, — отрешенно думал Костя. — Теперь все равно».
Прошло около часа. От качания вышки Костю убаюкивало, голова ходила кругами, и сонливое безразличие окутывало сознание. Какая-то расслабленность растеклась по всему телу. Костя отупело смотрел в щелястую крышу над площадкой и лениво думал, укорял себя: «Любишь спорить — загорай теперь здесь! Всегда у тебя так. А весной кто заставлял тебя выдирать шатавшийся зуб? Сам поспорил. И выдернул. Только вместе с шатавшимся вылетел еще один, здоровый. Витька объяснил неудачу просто: дескать, толстую проволоку привязали, и к тому же он резковато дернул… Ходи сейчас беззубый, говори «трушс-с»… вместо, как его, правильно-то?
Ай, да хватит! Последний раз так. Вот если не трахнусь отсюда, с сегодняшнего дня по-другому будет: брошу спорить — раз, не стану хвастаться — два, скажу что следует Витьке — три. И еще: всегда буду слушаться родителей…»
За этими невеселыми размышлениями Костя не заметил, как к вышке подошли Витька и лесник дядя Андрей. А когда увидел их, еще больше озлился на Витьку. Вот ведь какой! Договаривались, чтоб никто не знал, а он? «Ну и пусть зовет кого хочет, даже физрука!» — распалялся Костя, хотя, конечно, лучше, что пришел не физрук, а дядя Андрей.
У дяди Андрея они недавно всем отрядом были в гостях. Дом его почему-то называется кордоном. Лесник водил ребят в питомник, где посажены молодые лиственницы, обещал взять на будущее лето в помощники. Еще он рассказывал про вредителей и друзей леса, про птиц, насекомых и о том, как опасно в сухую пору разводить в лесу огонь. Дядя Андрей — инвалид. На фронте ему ранило правую руку. Кисть этой руки все время согнута, и не действуют пальцы.
Дядя Андрей закричал вверх:
— Высоко ты залетел, дружище!
Костя удивился, что лесник не ругает его.
— А что лестница сломалась — не тужи! — кричал дядя Андрей. — Посиди пока, посмотри на природу. Сверху-то, поди, хорошо видно? Я к тебе живо прибуду!
Тут лесник и Витька пошли рубить мелкий березняк, а Костя стал смотреть на природу.
Так высоко он никогда не бывал. Даже пятый этаж, где живет Костя, намного ниже. Видно далеко-далеко! Речка тянется то по лесу, то по полям, дороги во все стороны вьются. Сквозь ветки деревьев просматривается тропинка к лагерю. И сам лагерь весь на виду. Как нарисованные, стоят белостенные корпуса и домики. У реки — ребята. Купаются, играют в мяч. Хорошо им, на земле…
Снизу опять послышался голос дяди Андрея:
— Как настроение, герой?
— Ничего настроение, — откликнулся Костя.
Дядя Андрей и Витька очищали березки от сучьев, рубили их на части. «Перекладины делают», — догадался Костя.
Потом дядя Андрей связал целое беремя этих обрубков, понес к вышке. Залезал он медленно, перекидывая вязанку через каждую перекладину, простукивая их топором. Кое-где останавливался и менял ненадежные. Костя не видел, как трудно было дяде Андрею это делать: сперва он привязывал свою ношу, затем, зацепившись раненой рукой, отковыривал топором гнилую перекладину, вставлял новую и уж непостижимо как приколачивал.
Добрался до первой площадки и спустился обратно, чтобы поднять другую связку перекладин. Потом еще раз слез и затащил наверх две жерди. Делая это, он все разговаривал с Костей: хвалил его, называл героем и вообще говорил все такое приятное…
А время шло, солнышко уж склонилось к горизонту, синяя роздымь всплыла над дальними полями. От близкого доброго голоса, от присутствия рядом дяди Андрея Костя свыкся с высотой, успокоился и, удобно привалившись к тумбе, наблюдал за парившими в вечернем небе канюками.
А дядя Андрей все тюкал топориком да тюкал.
И вот голос его раздался с третьей площадки:
— Ну, как там делишки, герой?
— В норме! — бодро ответил Костя.
Дядя Андрей не стал делать лестницу для последнего короткого пролета, лишь приставил к треснувшему стояку жердь и связал их вместе веревками.
— Устали? — участливо спросил Костя, увидев в проеме серое, поблескивающее потом лицо лесника.
Дядя Андрей не ответил. Он сказал:
— Спускайся тихонько, а я тебя подстрахую.
Костя на животе повис на кромке створки, нащупал ногами лестницу. Рука дяди Андрея поймала его пятку и утвердила на перекладине.
Так, ступенька за ступенькой, всякий раз ощущая пяткой сильную руку дяди Андрея, Костя спустился на площадку. Здесь они отдохнули, сбросили ненужный теперь топор, оставшиеся веревки.
— А друг-то твой чего тебя не дожидается? — спросил вдруг дядя Андрей.
Костя посмотрел вниз. По тропинке, засунув руки в карманы, уходил Витька.
— Не друг он, — сказал Костя и отвернулся.
А дальше совсем быстро двигалось дело — знай переставляй ноги! И совсем не страшно, когда снизу дядя Андрей. Лишь по самой длинной, нижней лестнице спускались отдельно — от двоих она сильно прогибалась. Но и эта лестница уже не казалась высокой.
Когда Костя почувствовал под ногами твердую, вполне устойчивую землю, его охватила такая радость, что не смог удержаться и начал подпрыгивать, бегать по лебеде. А дядя Андрей, взявшись за грудь, отошел в сторону и лег на спину. Он часто и шумно дышал и уже не называл Костю героем.
ЛЕБЕДЕНЬ-ТРАВА
Теперь уже не помню — или пригрезилось мне тогда, или в самом деле так было, только увидел я в еловой сутеми на пригорке цветок величиной с подсолнух. Вишнево-красный, полыхающий пламенем, с золотой искрящейся сердцевиной, похожей на солнышко. Потрясенный, я прибежал из леса и рассказал о чуде бабушке Вассе.
— Мил паренек, — сказала бабушка, — счастливый ты, стало быть, раз довелось тебе высмотреть лесное диво. Ведь это расцвела лебедень-трава. Не всем дано увидеть ее, а кто увидит — век будет помнить, и тосковать по ней станет, и искать пойдет, да уж такой никогда не найдет. Представляется она по-разному…
Я позвал бабушку Вассу в лес посмотреть чудо-цветок, но она ответила, что мы все равно его не увидим — он осыпался сразу же, как открыл свою красоту человеку.
Не знаю, с того ли случая или с какого другого, только появилась у меня непреходящая тяга к цветам. Полевым, луговым или лесным, но не с клумб. Оранжерейные я не покупаю. И не выращиваю. В роскошных декоративных цветах есть какая-то уж больно навязчивая красота. В пору свой зрелости они будто кричат: «Посмотрите, какие нарядные мы, какие неотразимые!»
И правда, где уж тягаться с какой-нибудь хризантемой (название-то каково!) неброским и как бы даже застенчивым незабудкам. Эти цветы-малютки требуют немногого, растут там, где иным не под силу, — в тенистых оврагах, по сырым займищам, на речном иле, а то и вовсе в воде. Конечно, распускаются они и на солнечных лужайках, там их особенно много, и я, когда бы ни шел лугом, обязательно останавливаюсь над ними и подолгу любуюсь. Нежно-голубой, не больше дождевой капли, с пятью округлыми лепестками цветок незабудки, по-моему, очень идет ко всему истинно русскому. Действительно, посмотришь — не забудешь.
Но о незабудках я заговорил случайно, для сравнения, что ли. Они — летние цветы. Вообще следует начать с весны. Правда, и зимой мои вазы не пустуют — в них или тополевые прутики, или кедровые ветки. Я не случайно сказал — ветки, а не вершинки: ведь если сломить у молодого деревца вершинку, то оно потеряет свой естественный вид, станет расти уродливым.
Так вот, в зимнее время в вазах красуются и наполняют комнаты запахом леса тополя да кедры, а когда появляются проталины, иду на луга за первыми цветами. Первые — мать-и-мачеха, поразительно стойкое к холодам растение, способное переносить заморозки до двух, четырех градусов. Не ахти какой уж этот цветок — желтый, слегка запашистый, но как он радует глаз, когда кругом еще полно снега! Уже в начале апреля я собираю на солнечных обогревах эти желанные первенцы весны.
Трубчатый стебелек у мать-и-мачехи нежен, короток, весь в зачатках листьев, поэтому срывать приходится осторожно, чтобы не оторвать самую головку. Цветут они большими семьями, дружно, торопливо, и в погожий день косогоры горят от них желтыми огоньками.
Ну, а за что же его прозвали мать-и-мачеха? Я долго размышлял над таким странным названием, а потом согласился с тем, что слышал раньше: из-за листьев. Весной не узнаешь, а позже, когда отрастут листья, можно проверить. Если пощупать их, то сразу почувствуешь, что нижняя сторона у них бархатистая, мягкая, как замша, а верхняя — гладкая и холодная. За такое «двуличие» народ и нарек цветок мать-и-мачехой.
А кто весной не набирал букеты белолепестковой сон-травы, которую у нас, на Урале, чаще называют подснежниками? Лес в это время пьет не напьется солнца, упруго звенит от движения соков и подрагивает в теплых восходящих парах. Даже летом не бывает так свежа, так зелена влажной корой осина, а островки молодых, еще не облиствелых березок насквозь просвечиваются и легки, словно тончайшее девичье рукоделие.
Идешь по такому звонкому, прозрачному лесу и там и тут замечаешь под свесами прошлогодней рыжей осоки пучками распустившиеся подснежники. А вон еще и еще, пробиваясь на свет, они буравят земную прель стреловидными бутонами. Диву даешься, как только выдерживают такую нагрузку их полые стебельки.
Подснежники — цветы ранние, их тоже нередко опаляют ночные заморозки. Но не шибко-то они боятся холода. Весь стебелек, чашечка и наружная сторона лепестков густо опушены мелкими шелковистыми ворсинками, будто одеты в теплую рубашку. К тому же на ночь цветы закрываются, опускают головки — засыпают. Отсюда и название — сон-трава.
Я знаю две расцветки сон-травы — белую и реже — кремовую. Но вот приехал как-то в Сибирь и всюду встречал там подснежники фиолетового и синего цвета.
В иную весну еще не отцветет сон-трава, а на сырых лугах, болотистых пожнях и лесных еланях уже зацветает купальница. Цветет она вместе с лютиком, и в самый разгар цветения — это бывает обычно в июне — луг делается похожим на желтое озеро.
Интересно устроены эти купальницы. Лепестки цветка выгнуты скорлупой и образуют шарик. И если таких шариков тысячи и все они на длинных — до полуметра — стебельках, то при ветре весь луг колышется волнами. Смотришь на эти желтые с золотистым отливом цветы, и так и чудится мелодичное бренчание шариков-бубенцов.
В Сибири же я с удивлением увидел, что купальницы там не желтые, а оранжевые или даже совсем красные. И называют их по-другому — жарки́ или огоньки.
С середины июня на старых гарях и заброшенных лесосеках, по просекам и полевым закрайкам начинает цвести иван-чай. Старики говорят, будто когда зацветает иван-чай, уральское лето входит в полную силу и тогда можно смело убирать шубу в кладовку. От него красно бывает на гарях и просеках в пору буйного цветения.
Ничем природа не обделила иван-чай — ни ростом, ни статью, ни красотой. Цветок его из множества завитушек-венчиков напоминает игрушку-пирамиду. Из каждого венчика, как жучьи усы, торчат прозрачно-розовые тычинки. Стебли иван-чая длинные, упругие, с трудом раздвигаешь их, чтобы пробраться в гущу. Войдешь в заросли — и цветы качаются над твоей головой.
Пчеловоды хвалят не нахвалят иван-чай за щедрую дань нектара. Но мед с него получается не такой ароматный, как, например, с гречихи.
И вот тоже, глядя на иван-чай, я всегда думаю: за что он получил такое название? Вроде не пахнет и на вкус горький. Некоторые его виды зовут еще кипреем — но тут ладно, хоть не знаешь, что это обозначает, а Иван да чай-то при чем? Наверно, давным-давно какой-то Иван заваривал его листья. Но я такой чай не люблю, уж лучше заваривать смородину, а еще лучше — мяту.
Особая у меня любовь к лабазнику. Распускается он одновременно с иван-чаем, но цветет недолго — с полмесяца или чуть побольше. Найти его можно в заболоченных березняках, в сырых кустарниках, по заросшим оврагам. Часто он растет с вечными своими спутниками — малиной и смородиной.
У лабазника белые пушистые соцветия, напоминающие цвет рябины. Но главное в нем — запах. Пахнет он изумительно и до того сильно, что к нему без труда можно прийти «нюхом».
А в жаркий день над зарослями лабазника не умолкает пчелиный гуд, насекомые десятками повисают на духовитых его кистях. Тут и мухи, тут и шмели, и жуки разные, и, конечно, бабочки. Присядет какая-нибудь раскрасавица перламутровка на белую шапку лабазника, в истоме развернет крылья и замрет на минутку, точно заснет. И уж потом, надышавшись, раскрутит свою спиральку-хобот.
В комнате лабазник пахнет прямо одуряюще, особенно когда букет спрыснешь водой. Но вот беда — не дюжит он долго. Уже на другой день подсыхают и гибло желтеют его цветы, а еще через день начинают осыпаться. И не помогут обычные в таких случаях способы оздоровления — ни замена воды, ни подрезка стеблей.
Летом в лесу просто теряешься от обилия и разнообразия цветов. Не описать их все. Да я и не собираюсь это делать. Букет составить — и то глаза разбегаются. То ли колокольчиков, то ли розовых буковиц, а может быть, нарвать гравилата? Хорош этот цветок сам по себе, разносортица только портит его. И лучше, когда гравилата в вазе немного. Вид у него печальный, как бы тоскующий. Совсем не соседствует с ним, к примеру, открытая, лучезарно цветущая гвоздика.
В народе гравилат называют «кукушкины слезы». Это здорово ему подходит. Особенно тому виду, который растет на сухих лужайках. Он, этот луговой гравилат, не так высок, как болотный, не так сочен и весь шоколадно-коричневый. Полураскрытый бутончик цветка всегда задумчиво смотрит в землю. Утром после теплой ночи с бледно-зеленых лепестков, выглядывающих из короны чашечки, капает роса. Это, наверно, и есть кукушкины слезы.
Из «плачущих» я знаю еще плакун-траву. Ее легко можно спутать с иван-чаем. И цвет такой же, малиново-красный, и строение такое же, пирамидкой, разве что стебель покороче да растет не густо. Но самое примечательное в этом цветке то, за что окрестили его плакуном. Подойдешь к нему на солнцевосходе и видишь, как медленно, капля за каплей, с кончиков его заостренных листьев падает вода — плачет.
А происходит это оттого, что он все норовит запастись влагой впрок. Напьется за ночь — и лишка окажется. Вот и «откачивает» воду обратно.
У любителей цветов бывают и настоящие находки. Я имею в виду редкие в наших краях цветы. Например, стародуб. Встречал я его всего дважды, и оба раза на Северном Урале, в таежной глухомани. Цветет он ярко-желтым, с красноватым отливом цветом, многолепестковый и отдаленно похож на астру. Только сердечник у него открытый, выпуклый и твердый, как лимонная корка.
Стародуб так сильно пахнет, что от куста — растут они от одного корня по нескольку штук вместе — запах распространяется на десятки метров. Пахнет не столько сам цветок, сколько его мелкая, густая, как мох, листва. И не то чтобы приятно, а так, что ни с чем не сравнишь. Тут все смешалось — и дух весеннего кедра, и аромат лесных ягод, и свежесть вызревших трав. Я привозил домой стародубы, и запах от них, уже высохших, долго стоял в комнате и напоминал о тайге.
Позднее я допытывался у ботаников, к какому роду-племени относятся стародубы, и мне сказали, что к горицветам. Так ли это — им больше знать, но для меня они были находкой, радостной редкостью.
Ну, а раз я заговорил о редких цветах, то вернусь к началу моего рассказа. Все время я помнил слова бабушки Вассы: «Тосковать станешь и искать пойдешь…» Это о лебедень-траве было сказано. Не то чтобы я тосковал, а искать, правда, всегда ищу. Нет, не лебедень-траву — просто цветы. И вот что однажды нашел.
Принесли мне как-то в стеклянной банке с землей незнакомое растение и сказали: «Здорово цветет!» А чему бы тут цвести: голый, усохший прутик, два тонюсеньких ответвления с узелками почек на сгибах да на верхушке до десятка сморщенных, квелых листочков. Взял я его скорее из уважения к дарителю, не спросив ни рода, ни названия, и убрал на верхнюю полку за книги. Пусть не мешает.
С месяц или больше прошло времени, я уже забыл о цветке, только как-то вечером случайно взглянул в угол на стену и увидел алое пятно. Встал на стул, потрогал стену — чисто. А когда раздвинул книги — не поверил глазам: невзрачный прутик сиял огненно-красной звездой. Я поспешно вынул банку, поставил на окно и полил цветок. К ночи распустилось еще два бутона. Огромные, с отвисшими лепестками цветы маково рдели, отсвечивая на подоконнике, на шторах, на стекле, — необычные, невероятные, ни на что не похожие. А утром опали. Лепестки лежали тут же, вокруг банки, и, казалось, еще обогревали серебристые прожилки корней своего родителя.
На другой вечер цветок разгорелся еще тремя жаркими звездами и снова опал утром. И так несколько ночей подряд. А потом обронил листья и засох.
Я до сих пор не знаю настоящего названия этого цветка, да и не пытаюсь узнать. В моей памяти он остался одним из тех, которые покойная бабушка Васса величала лебедень-травой.
СКАЗКА НЕ КОНЧАЕТСЯ
Николаю Никонову
Глаза устали от света, и я поднялся. Ослепительное апрельское солнце заходило на полдень. Сухой, вспученный, искрящийся лед струйчато парил и похрустывал. С утра он еще надежно держал, но к полудню совсем размяк и, гулко, трескуче стреляя, раскалывался длинными трещинами.
Оставаться на озере было опасно, я смотал удочки и неходко побрел к берегу, прислушиваясь к сочному шипению льда под ногами и каждым шагом ощущая его плавленые прогибы. По всей линии берега сквозь миражные волны восходящих потоков вытягивались и подрагивали, как водоросли на течении, заросли тростников и чернотала. А над бело-яркой ширью, словно подвешенные на серебряные цепочки, несмолкаемыми колокольцами звенели жаворонки, малиново тенькая, над голубым льдом всполошными стайками проносились иссиня-белые подорожники, высоко в небе торопливо и хлопотно пролетали утки. На взбугрившемся зимнике через озеро, засыпанном сеном, соломой и расклеванным лошадиным пометом, тонко бренчали охристо-зеленоватые овсянки, суетливо прыгали стрекотухи-сороки, а вдали над парными пашнями с тоскливым криком делили земли чибисы. Кончался апрель, в природе шло то суматошное птичье переселение, которое охотники называют валовым пролетом.
Вдруг высоко — выше уток — протяжно и вольно прокликал лебедь. Я долго блуждал глазами по безбрежной светлыни неба, пока наконец не увидел серебристо-прозрачных, вытянувшихся в косую вереницу птиц. Их было семь. Свободно и плавно колебля крыльями, лебеди летели на север. Но вот опять послышался клик, и передний крутым виражом сошел в сторону. Он как бы привстал на месте, пропуская стаю вперед. И когда с ним поравнялся последний, примкнул замыкающим к веренице.
Я знал: это устал вожак и уступил свое место следом летящему. Так лебеди подменяют друг друга всю дальнюю дорогу.
Птицы скрылись из виду, а я все стоял посреди озера и глядел в лазурную, просвеченную солнцем высь. Радостное чувство, которое я каждый раз испытываю, увидев этих птиц, постепенно и уже привычно начало вытесняться горьким воспоминанием далекой и близкой, грустной и поэтической были, похожей на сказку…
Было это в детстве. Жили мы тогда с мамой на Гореловском кордоне. Рассказывали, что когда-то вокруг Гореловского шумели вековые леса, женщины, опасаясь зверей, ходили за клюквой и брусникой только с мужиками, а единственный в селе охотник Савотя стрелял медведей прямо на покосах. Но это было давно. Савотя теперь стал дедом Савватием, медведи перевелись, а вековые леса повырубили. Лес остался за речкой Патрушихой, да и то редкий, весь вытоптанный коровами. Правда, у Шиловки и Макаровки в те времена еще можно было найти глухие уголки, куда почти не заходили люди.
Я избегал шумных ребячьих сборищ и целыми днями, пока мама была на работе, пропадал в лесу. Там мне было хорошо и отрадно. Я слушал птиц и убежденно верил, что поют они мне, собирал на обогретых солнцем еланках крупную землянику и думал, что выросла она для меня. Я не просто любил лес — он был для меня преисполненным тайн, и в поисках чего-то необыкновенного я постепенно удлинял свои прогулки.
И вот вышел я однажды на неведомое озерко. Притомился с дальнего пути, сел на бережок. Все-то здесь казалось загадочным и новым. По берегам кустились развесистые черемухи, на лужайках среди стрекочущей кузнечиками травы поднимались высокие розовые цветы иван-чая. От этих цветов все вокруг было розовое — розовели подсвеченные ими черемухи, духовитые травы, розовым было вечернее небо, и даже вода в озерке отливала розовыми бликами.
Приглянулось мне озерко. Я каждый день стал приходить к нему, садился под черемуху и наблюдал за потаенной жизнью леса. О чем только не мечталось в эти долгие часы уединения под усыпляющий шелест листвы и тонюсенький, монотонный посвист всегда чем-то встревоженных горихвосток… Воображение явственно рисовало то сказочную царевну-лебедь, то Черномора с длиннющей бородой, то коршуна-лиходея. Он, этот коршун, иногда зловеще кружил над озером, и тогда я, подобрав колени, с трепетом и страхом ждал, что вот сейчас он сложит свои распростертые крылья, вытянет когтистые лапы и ринется вниз, на царевну… А где же она? Я до боли, до рези в глазах всматривался в смурую сутемь черемух — и начинал различать — сначала неясно, затем все отчетливее — блистающую дорогими нарядами стройную молодую женщину.
Я вскрикивал:
— Берегись, царевна, коршун!
Предупреждающим эхом мой крик повисал над озером, и царевна исчезала.
Так, в созданном мною мирке этой игры-сказки, в окружении царевен, Аленушек и добрых богатырей я провел на озерке все лето. Это было счастливое лето, полное ожиданий и светлой детской грусти. Я верил в чудо, как могут верить в него дети, часто предоставленные самим себе, ждал его в образе царевны-лебеди или Аленушки и дождался… Но это простое чудо обернулось для меня горечью.
С опаловыми вечерними зорями и мглистыми затяжными рассветами наступала осень. По вечерам над гореловскими избами вставали высокие дымы, они будто подпирали белесое, отсвечивающее туманом небо. В холодеющем небе плыли и плыли серебристые нити паутины. На зорях в продувных дворах простуженно горланили петухи, настоятельно требуя переселения с летних квартир на зимние.
Осень входила в силу уверенно. За две недели смело с берез лист, и в поредевших рощах начали табуниться птицы.
В один из таких светлых и звонких осенних дней я снова пришел к озерку. И не узнал его. Вылегли прихваченные инеем травы, мягкие тени испятнали некогда цветущие луговинки. Ольхи и черемухи, как перед сном, сняли свои одежды и смиренно притихли в дремлющем голубом полумраке.
С новой силой вдруг нахлынули на меня мечтания, и фантазия тотчас легко сотворила мою царевну-лебедь. Большая птица неслышно всплыла из глубин и промолвила: «Мальчик, подай мне мое ожерелье».
Я отступил от берега, бросил рассеянный взгляд окрест, и сердце возликовало: там и тут сверкали, переливались и огнисто рдели рассыпанные всюду листья. Я поднял с земли гладкий прутик и стал нанизывать на него, как монисто, эти разноцветные листья. Их было много, я выбрал самые яркие, самые лучшие.
— Я подарю тебе осень! — радостно крикнул я и тут же, испуганный, погасил голос: над лесом звонко и переливчато прокликал лебедь.
Я выронил ожерелье и посмотрел в небо. Озаренные утренним солнцем, вдали летели алые лебеди. Но что это? Одна из птиц заметно отстала от вереницы и, круто снижаясь, нацелилась на озеро. Едва не касаясь вершин деревьев, не поднимая опущенных крыл, она белым призраком пронеслась надо мной и шумно рухнула в воду, вздымая брызги.
Но лебедь сейчас же оправился. Заметив меня, ошеломленно присевшего на колени, торопливо поплыл к противоположному берегу, забился в камыш и настороженно замер.
А тем временем стая, нарушив строй, закружилась над озером, нетерпеливо и тревожно кликая товарища. Лебеди звали и ждали его. Потом, словно бы поняв, что отставший больше не поднимется, снова выстроились в вереницу и полетели дальше. Вскоре они скрылись из виду.
С той поры я потерял покой. Где бы ни был, чем бы ни занимался, а лебедь так и стоял перед глазами.
Скоро я снова был на озерке. И предчувствие, что лебедь еще не улетел, оправдалось.
Будто изваянный из мрамора, он лежал посреди озера, утомленно запрокинув назад длинную тонкую шею. Чтобы не застать его врасплох, я нарочно кашлянул. Лебедь с плеском уронил на воду концы крыльев, вскинул голову и протестующе зашипел.
Я приходил к озерку на другой и на третий день, но лебедь был непримирим. Стоило мне показаться на берегу, как он сразу ерошил перья, заплывал в редкий, плохо скрывающий его камыш и шипел. Я бросал в воду хлеб, вареную картошку и, подавленный, возвращался домой.
Поторапливая запоздалые утиные стаи, с севера надвигалась зима. Она напоминала о себе воем студеных ветров, ясными морозными ночами и короткими, блеклыми днями, похожими на унылую сумеречь вечеров. По опустевшим дорогам и пашням безбоязно бродили сытые вороны, и молодые волки, клацая зубами, игровито гонялись на березовой опушке за снежинками.
По утрам лесное озеро затягивало от берегов хрусткой и прозрачной коркой льда. Натыкаясь на лед грудью, лебедь крылом разбивал его.
Все крепчали заморозки, все толще становился лед. Лебедь плавал уже в неширокой полынье на середине. А когда замерзла и полынья, он крушил ледяную броню своей тяжестью.
И вот как-то ночью подкрался первый сильный мороз. Я тайком выходил из комнаты, смотрел на темный, притихший, будто напуганный лес, вдыхал колкую морозную свежесть и с тревогой чувствовал, что зима нагрянет не сегодня завтра. В эту ночь прочно стала речка, в огороде побелели и согнулись будылья подсолнухов, и даже звезды на небе, казалось, позвякивали от холода.
Проснулась мама, вышла за мной на крыльцо. Она знала о лебеде и посоветовала:
— Утром сходи к Савватию. Он — лесовик, научит, что сделать.
Еще затемно я постучал в окно деда Савватия. Заскрипели приступки полатей, в окне показалась взлохмаченная белая голова, а через минуту дед отпер калитку ворот.
— Пошто в такую пору?
Я рассказал про лебедя и попросил сходить со мной.
Ничего не ответив, дед вернулся в дом, долго собирался и наконец вышел.
Мы шли к озерку напрямую, по убродистым кочкарникам и еловым густякам. Под ногами жестко шуршали смерзшиеся травы. В сизом рассветном сумраке призрачно вырастали длинные прогонистые сосны.
С нового подхода озеро открылось неожиданно, пустынное и немое, как зимнее поле. Вся гладь его лоснилась и посверкивала ядреным льдом. Среди обстывших камышинок одиноко ходил лебедь, постукивая клювом по льду, будто пробуя его на прочность.
Солнце пробилось между верхушек сосен, и косые лучи его брызнули по льду, как огненные искры. Но лебедь будто понял, что полынья больше не протает, и, вытянувшись на лапах, ударил лед грудью. Глухо ухнуло озеро. Потом еще ухнуло, и еще, и так лебедь бился в безумном порыве до тех пор, пока не свалился совершенно обессиленный на холодный и крепкий, как литая глазурь, лед.
Полежал и опять поднялся. Скользя лапами, опираясь то на одно, то на другое крыло, пошел к середине, все быстрее, быстрее и вдруг, отчаянно замахав крыльями, с криком взлетел. С трудом набрал высоту вровень с лесом, сделал круг и… точно срезанный дробью, отвесно сорвался вниз. Гулко выстрелил треснувший лед, многоцветным каскадом сверкнула на солнце фонтаном выплеснувшаяся вода…
Я тихо сидел над лебедем. Гладил его шелковистую спину и безжизненно раскинутые крылья. Дед Савватий стоял в стороне.
— Видишь, какие они, лебеди? — сказал он после долгого молчания. — Разбился, а все ж таки лед прошиб! Раненый он был, сынок, картечина в боку завязла… До смертной минуты не сдавался. Вот какая птица!
Тогда я плохо понимал его слова. В памяти проносились еще недавние дни — счастливые грезы о царевне-лебеди, подобно сказке живое воплощение этих грез — и такой конец всему…
А дед Савватий, помолчав, добавил:
— Недаром они высоко держат голову. Ты слышишь меня, сынок? Запомни это.
РОМА-МЕДВЕДКО
Дом наш стоял на высоком месте, всеми четырьмя окнами в Урал, то есть в горы. Сразу за окнами дыбился частый, похожий на сухостойный ельник тын, он маленько мешал смотреть, но я и так знал, что за ним, и угадывал, где начинался спуск к речке и узкую тропинку, по которой ходили за водой женщины. Дальше, за речкой, ровной улочкой стояли черные от старости дома со сплошными тесовыми крышами, закрывающими все хозяйские постройки и даже дворы, а еще дальше — горы. Горы, полные лучезарного света и манящих тайн, поднимались овальными вершинами до самых облаков. Особенно хороши они были зимой, покрытые снегом: в солнечный день излучали столько радостного блеска, что казались голубыми и сплошь усыпанными дорогими камнями, точно звездами — небо.
Смотрел я на эти голубые горы и думал, будто там и начинается жизнь. Я видел, что на них всегда больше света, с той стороны весной прилетали птицы, оттуда летом носили ягоды и грибы, а главное, в ту сторону, в горы, уходил с ружьем заречный охотник по прозвищу Рома-Медведко.
Неизвестно, кто и когда окрестил Рому Медведком, но только кличка эта ему удивительно подходила. Он был высоченного роста, грузный, медлительный, зимой и летом носил бурый залатанный полушубок. Такому великану, да еще мрачному и нелюдимому, как нельзя лучше шли его черная цыганская борода и предлинные, как у Бармалея, усы. За этот вид Рому в деревне недолюбливали, говорили о нем много лишнего, и даже ходили слухи — это уже по части болтливых старух, — будто бы он даже водился с нечистой силой…
Сперва я побаивался Рому и старался не показываться ему на глаза. Но один случай развеял мои опасения. Как-то вечером я брел через дальний луг к дому. Широкая заря оранжевым морем растеклась по всему горизонту. В эти минуты особенно красивы были наши голубые горы: оплавленные закатом, медленно притухая, они все время меняли цвета, очертания, и на них нельзя было наглядеться.
Вдруг я увидел Рому. Он сидел на высоком камне и смотрел на зарю. Без шапки, в расстегнутом полушубке. Я опустился поблизости на другой камень, и мы молча просидели до потемок. Когда угасли последние краски заката, Рома шумно поднялся и сказал:
— Красота!
Трудно объяснить, чем пленил меня этот человек, но после того вечера стоило завидеть его с ружьем, тесно мне становилось в доме, и я с тихой грустью провожал охотника взором, пока не терялась в пихтарнике его увалистая фигура.
Тогда, в годы моего детства, где-то далеко гремела война. Жили трудно. И то ли оттого, что я часто отсиживался дома, то ли от безотчетной, всегда томившей меня тоски по красоте наших гор Рома в моих глазах постепенно становился не просто охотником, а каким-то особенным человеком, к которому я уже испытывал благоговейное чувство. С какой завистью я, бывало, смотрел ему вслед, когда он, обряженный по всем правилам, уходил в горы! Мне думалось, что он самый счастливый, самый сильный на земле и, наверно, потому такой замкнутый: ни с кем не хочет разделить своего счастья. Рома уходил, а я еще долго сидел у окна, мысленно шагая с ним рядом и десятки раз переживая одни и те же события — ночные костры, охоту…
Однажды я отыскал в чулане старые отцовские сапоги, обулся и поспешил к Роме-Медведку. «Будь что будет, — отчаянно думал я, — а попрошусь в горы!»
Набирала силу весна, солнце уже подолгу стояло в небе, и воздух был так обильно насыщен запахами, что кружило голову и все во мне бродило, как на дрожжах.
Рому я не застал. Торная лыжня прямо через огород вела в горы. Я мигом представил, как этот огромный старичина неспешно переставляет длинные ноги, держит наперевес ружье и медленно бредет среди сверкающих от солнца снегов. Ух, как обидно стало, что он ушел, в этот единственный день, когда наконец и я собрался сходить и хоть одним глазком посмотреть поближе на эти голубые горы!
Нет, невозможно жить вот так, только мечтая и завидуя! С пренебрежением взглянув на дырявые сапоги, поглубже засунув в короткие рукава руки, я решительно зашагал по Роминой лыжне.
Я сотни раз проваливался и падал, в сапоги, в рукава, за ворот набивался снег. Но я вставал, отряхивался и снова шел. Самое страшное — как бы меня не хватились дома и не пустились в погоню… Но все обошлось, и к исходу дня, мокрый и совершенно измученный, я добрался до первого перевала.
Присел на вытаявший камень, осмотрелся. Кругом тихо, пустынно. Заснеженные горы с сияющими вершинами походили на какое-то заколдованное царство. Оцепеневшие от холода дворцы, зубчатые неприступные башни… Лишь одна лыжня, вьющаяся между этих белокаменных громад, напоминала о том, что тут недавно прошел человек.
Я шагал и шагал, все дальше и дальше. Лыжне не было конца, она словно убегала от меня. Село солнце, и морозные молчаливые сумерки опустились на горы. На краю неба догорал закат. От него вдруг повеяло таким теплом, что захотелось подойти поближе, протянуть к нему озябшие красные руки, погреться. В одном месте, глубоко погрузнув в снег, я не мог выбраться и присел отдохнуть. Приятной истомой наполнялось все тело, не хотелось вставать, не хотелось двигаться. В воспаленных от солнца глазах плавали радужные круги, в ушах неумолчно звенели бесчисленные колокольчики. И вдруг среди этого хаоса звона и красок я отчетливо увидел, как распахнулись в горе хрустальные ворота и выехал на белом ледяном коне сам царь этих гор — Рома-Медведко. Да какой он важный: грудь колесом, на голове — корона, балахон покрыт бриллиантами.
— Ты что тут делаешь? — грозно спросил меня царь.
— Горы смотрю, голубые горы! — в испуге закричал я и очнулся.
Надо мной, расставив широко ноги, стоял Рома, но вовсе не в царской одежде, а в замшелом своем полушубке и мохнатой шапке, надвинутой на самые глаза.
Рома-Медведко вызволил меня из снега и понес к островку ельника.
— И какой тебя леший тут носит? Замерз ведь! — сурово ворчал дед, прижимая меня к закуржавевшей бороде.
— Ни-ск-коль-ко… — стуча зубами, отвечал я, а сам онемевшей рукой прятал в дыру сапога вылезшую портянку, чтобы не заметил дед да не подумал, что я вправду замерз…
Вскоре запылал большой костер. Мои ноги, всунутые в дедкины варежки из собачьего меха, тоже пылали. Устроившись на мягкой хвое, я расправлялся с краюхой хлеба, время от времени благодарно поглядывая на своего спасителя. А он, медлительный и добрый, освещенный пламенем так, что черная борода его стала медной, как бог, священнодействовал над котелком, источавшим аромат охотничьей похлебки. Вот точно так я и представлял наши ночевки в горах, правда, еще рядом с Роминым не было моего ружья да недоставало валенок на ногах…
— Значит, царь, говоришь, я?
— Царь, царь! — с готовностью отвечал я, зная, что Медведко не обидится на это.
— Ну, а коли царь, то быть тебе царевичем! — весело заключил охотник и так непривычно, так широко улыбнулся, что длинные усы его едва не коснулись ушей.
ВОРОН КАРЛ И ЗАЯЦ
Ранним ноябрьским утром, еще затемно, я забрался с фотоаппаратом на зарод соломы, замаскировался и стал выжидать. Еще раньше я заприметил, что над полем по утрам часто пролетали грузные, словно литые, в ярком осеннем пере тетерева, на посеребренной неглубоким снежком стерне мышковали сторожкие грациозные лисы, по закрайкам березовых колков шустро пробегали в вечной заботе за свою шкуру уже побелевшие зайцы. Вот, думаю, я и добуду себе редкий трофей.
Потихоньку светало. Небо на востоке заалело, подсвечивая розовым стайку высоких перистых облаков. Хорошо на зароде! Легкий морозец щекочет щеки, кристаллики парящего инея взблескивают перед глазами. Это от дыхания. Любуюсь зарей, гаснущими звездами, а сам нет-нет да и окину взглядом окрестности.
Опять посмотрел в даль поля. Что такое? От березовой, похожей на дымчатое облачко островинки отделился розовый комок и покатился в мою сторону. Да ведь это заяц, от зари он розовый!
Перестал я вертеть головой, приготовился…
Сначала заяц бежал быстро — надо было одним духом пересечь открытое место, а когда свернул в межу — сбавил ход. По всей меже из снега торчала закостеневшая от холодов высокая трава, и косой неторопко закостылял дальше, прикрываясь ею. Иногда он останавливался, навострял уши.
Не успел заяц доскакать до зарода — откуда ни возьмись вынырнул горностай. Увидев длинноухого, встал по стойке «смирно». Сердито цыкнул, напряженно вздернул короткий хвостик с черной метиной на конце. Но, видать по всему, горностай был с ночи сыт мышами, и у него не возникло желания преследовать быстроногого зайца. Косой же, в свою очередь, счел за благоразумие уступить дорогу.
Однако недалеко отбежал. Метров через сто остановился и подождал, когда горностай скроется из виду. А скрылся тот мгновенно, будто провалился сквозь землю. Был — и нету. Это он юркнул в свою нору.
И все же зайца выдали сороки. Завидев его, расселись по сторонам — и ну трещать, ну шуметь на всю округу!
На стрекот прилетели вороны. Да много, сразу штук, наверное, двадцать. Тяжело опустились к сорокам. Переваливаясь с ноги на ногу, с недобрыми намерениями стали окружать зайца. Почуяв подмогу, и сороки осмелели, затараторили еще громче и тоже пошли в наступление, вскидывая черные хвосты-метелки. При одних сороках заяц еще сидел, пугливо прядая ушами, но тут не выдержал и дал стрекача. Да разве удерешь от птиц среди чистого поля? Вороны и сороки тут же настигли его и опять «посадили».
Вижу, попал бедолага в переплет…
А дальше вот что было. Птицы перестали кричать и как бы даже растерялись, когда низко над ними, широко раскинув крылья, облетел круг ворон. Он не сел сразу, осмотрел сверху, из-за чего это сестрицы затеяли свару, и прикинул, есть ли резон вмешиваться. Решил, что есть, и не сел, а грохнулся в снег на вытянутые, хищно растопыренные лапы. Медленно сложил на спине крылья. Вороны и сороки не двигались, оглушенные внезапным появлением патриарха, трепетал от страха заяц, обреченно вжимаясь в снег.
Ворон со смоляной бородищей под горлом и массивным клювом в добрый вершок еще раз переложил на сутулой спине крылья, словно поправил бурку, державно шагнул вперед, от чего сороки и вороны с готовностью отскочили, глянул на жертву попеременно то одним, то другим разбойничьим глазом и громко, отчетливо выговорил:
— Карл!
Не знаю, что это означало — или ультиматум о бесполезности сопротивления, или рыцарский жест, дескать, уважаю противника и, прежде чем приступить к расправе, называю свое имя, — только после этого «знакомства» все скопище разом ринулось на зайца…
И вот что случилось затем.
Заяц неожиданно опрокинулся на спину да так полоснул длинными задними ногами по навалившемуся воронью, что только перья закружились! После этого вскочил и с непостижимой скоростью помчался к березовой островинке.
Но вороны не думали сдаваться. С превеликим возмущенным шумом устремились за ним. Впереди летел Карл. Носатый, поджарый, похожий на черную головешку. Хоть и быстро махал косой, птицы все же довольно скоро догнали его, повторили попытку зажать в круг. И зажали. Опять расселись тесным кольцом, и опять ворон сказал: «Карл!»
Только заяц уже познакомился с ним и не стал дожидаться развития событий. Едва вороны приблизились к нему, снова перевернулся на спину и снова дрыгнул задними ногами. Да так дрыгнул, что не только перья остались чернеть на снегу, а и две беспомощно бьющиеся вороны… Хлопая крыльями и сшибаясь, посрамленные птицы беспорядочно заметались в воздухе, уже далекие от намерения преследовать зайца. А он шибче прежнего мчался к спасительному леску, где его дом, его лежка и где можно спокойно отдышаться от погони.
ПИСЬМЕНА НА СНЕГУ
Идешь по зимнему лесу и налюбоваться не можешь преображенной его красотой. Давно ли еще здесь цвели травы, пели птицы, пахло наливной солнечной земляникой — и было хорошо в летнем лесу. Потом травы завяли, птицы улетели, заполыхала многоцветьем нарядная осень — и тоже было хорошо.
А вот теперь лес совсем другой — тихий и заснеженный, будто и не лес вовсе, а сказочный чертог.
Нет слов, красив зимний лес, только чуточку грустно в нем — роскошном, пустом и гулком.
Пустом? Нет, это от морозной тишины кажется, что лес спит, а вместе с ним спят и звери, и птицы. Но это только кажется. Конечно, есть и завзятые засони. Давно спят в дуплах, повиснув вниз головой и, как плащом, обвернувшись перепончатыми крыльями, летучие мыши; спит на мягкой подстилке из сухих листьев в теплой, наглухо заткнутой норе барсук; спит еж и, понятно, Мишка-медведь. Но сто́ит внимательней приглядеться к лесу, и всюду можно заметить следы непрекращающейся, хотя и скрытой жизни.
…Шуршит под лыжами снег. Все дальше и дальше ухожу от проезжей дороги. Тихо кругом. В нарядных дошках дремлют ели. Белые колпаки, точно теплые барашковые папахи, нахлобучили на себя высокие пеньки. А молодые сосенки так укутаны снегом, что не видно иголок.
Над лесом встало розовое солнце. Заалели вершины елок. Но что там такое? С одной заструился сверкающий куржак. Закачалась ветка, и на ней красным фонариком вспыхнула яркая птичка с диковинным клювом. Клюв толстый, короткий, похожий на щипчики, которыми колют сахар, только острые кривые концы заходят один за другой. Да ведь это же клест!
Примяв лапками острые иголки, клест ловко, как попугайчик, перевернулся вниз головой, сорвал усохшую шишку и давай ее лузгать! Быстро набил зоб — и порх на соседнее дерево. А там, в развилке сучьев, какой-то зеленый шарик темнеет. Так и есть, гнездо клеста. Самка уже высунулась навстречу.
Клест подцепился к гнезду и из клюва в клюв накормил ее.
Все ясно: самка сидит на яйцах. У них, у клестов, заведено парить зимой. Если, конечно, много корма — семян хвойных деревьев. И не обязательно в определенный месяц. Даже в январе, в самые что ни на есть холода, самка откладывает в добротное, по-зимнему утепленное гнездо четыре или пять зеленоватых, в густом накрапе яичек и высиживает их, не отлучаясь ни на минуту. А как же! Иначе заморозишь. Заботливый самец приносит в это время корм.
И опять скользят лыжи. Иду то полянками, то под тучной нависью крон деревьев.
А вот и первый след на снегу. Четко выпечатанный, будто отлитый в фаянсе. Чей же? Две точки, а чуть впереди — две овальные бороздки. Конечно, заячий! Только заяц ходит так, словно опирается передними лапами на костыли. А где же заяц был и куда направился? Сейчас узнаем. Он ведь все подробно «записал» на снегу.
Ночью заяц щипал озимь на поле, а к рассвету отправился на лесную опушку — отдыхать. Это хорошо видно по следу — идет прямо, никуда не сворачивает. На жировке — там не разберешься, всяко напетляет, накружит, а тут — как веревочку тянет. Но я-то знаю, недолго так протянет…
Прыгал, прыгал заяц и вдруг остановился. Поднялся на задние лапы, постоял столбиком, послушал. Спокойно все, а он — обратно. С чего бы это? Ага, раз начал хитрить, запутывать следы — значит, близко лежка. А до чего ловко запутывает: скок назад — и прямо в старый след, скок еще раз — и опять в след! Но вот и сдвоенный след кончился. Ни впереди его нет, ни сзади. Не улетел же заяц!
Это он сделал большой скачок в сторону. «Скидку» сделал, как говорят охотники. Таких скидок бывает подряд три или четыре. Тут уж смотри в оба! Да не шуми очень-то, если хочешь увидеть косого. Заяц сметнулся со своего следа и где-то здесь, совсем рядышком, затаился. Лежит где-нибудь на горушке, а то и на пне, дремлет, а ушки слушают, караулят сон. Сам белый, и снег белый. Пока там ищейка-лиса разберется, куда делся заяц, он прыг за куст — и был таков…
Ну, а я иду дальше. Совсем лес густой стал. Настоящее Берендеево царство. Угрюмо горбятся в снежных балахонах вековые деревья. Низкими ветвями-лапами, будто руками, опираются о землю.
Звериных и птичьих следов здесь еще больше. Узорной росписью пестрят они на снегу. Вот какая-то мышка-норушка прошила ровную стежку от комля упавшей сосны к кочке. А вот белка снимала с сучка заготовленный летом сухой гриб, да уронила его, и пришлось спускаться на землю. «На снегу и пообедала. Только неэкономно обедала, раскрошила половину гриба. Но вспомнит еще о нем — долга зима!
А зайцы здесь так прямо хороводы водили под елками — все утоптано, утрамбовано. Ни за что не разобраться, сколько их тут было и что делали. И зачем мне разбираться, время тратить попусту? Я ведь без ружья, охотиться не собираюсь.
Без ружья… А вот сейчас, пожалуй, оно не помешало бы: низом оврага по снегу словно протащили мягкий и тяжелый груз. Не след, а целая канава.
Ладно, была не была, пройдусь по нему.
Сперва зверь двигался оврагом, а когда начался угористый захламленный ельник, выбрался из него и давай крутить вензеля в буреломе! Ему-то что — под любой выворотень, под любую корягу подлезет, а мне каково на лыжах? Устал я выпутываться из кустовья, сел на валежину. За кем хоть иду-то? Может, за рысью? Ишь, как следы заутюжила брюхом!
Но вот в одном месте зверь остановился, долго стоял, и оттого, что долго стоял, снег под его лапами подтаял. И тут я различил продолговатый когтистый ступ с ямкой-вдавышем посередке. Нет, не рысь — та высокая на ногах, брюхом снега не заденет, а лапа у нее комковатая, как бы собранная в кулак, при ходьбе когти вытягивает, как кошка. Кто же это? Начал я оглядываться. В осиновом редняке след перешел на махи. Не то чтобы широкие махи, но частые, торопливые, и по ним было видно, что зверь бежал не тихо.
Азарт меня взял, и я тоже прибавил шагу. Бегу, а сам поглядываю вперед — зверь-то ведь незнакомый, ненароком дождется где-нибудь за лесиной!
Палку потолще выломил… По следу выбежал на поляну. Широкая такая поляна, а посреди нее — стожок сена. От него стремительными росчерками темнеют на снегу другие следы.
Сразу догадался: косули. В зимнюю бескормицу косули частенько собираются у сена. Но что за балбес этот зверь, если так открыто бежит на косуль? Разве догонит он их, быстроногих, как ветер?
И все же «балбес» увязался за косулями. Нырял, нырял по глубокому снегу, остановился, потоптался — и обратно. Только пошел не старым следом, а наискосок, прямехонько к поляне. Чьи же это уловки?
Думал я, думал и вспомнил: росомаха. Как же я раньше не догадался? Только она способна на такие хитрости. Не может догнать добычу, сморить в погоне, как это делает волк, — высидит, подкараулит на тропе или у водопоя. А упорства, лютости у нее не меньше, чем у того же волка. Сутки будет ждать, двое, неделю, если потребуется, но дождется.
Вот и сейчас задумала, наверно, забраться на стожок. Все равно косули вернутся. Кровожадная зверюга не побоится и лося. Лишь бы подошел к сену. Прыгнет сверху, вонзит зубы в загривок и будет ездить на обезумевшем рогаче, пока тот не свалится.
Но ничего, не поездит. Завтра приду с ружьем. Сегодня уж не успеть, солнышко-то низко, вот-вот скроется за синим овалом горы. Хоть бы засветло выйти из леса!
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Все притихло под жаркими лучами полуденного солнца. В овсах перестали «полоть» перепела, умолкли в черемухах соловьи, попрятались в тень осоки болотные курочки. Еще трясогузки недолго бегали с раскрытыми клювами по прибрежному наноснику, но и они скоро улетели пережидать жару к своим гнездам, под свои мельницы.
Мелководная речная старица пари́ла. Ни ряби, ни всплеска на ее будто уснувшей, затянутой листьями лилий поверхности. Только прыткие водомеры бегали на открытых от водорослей окнах да в нагретом воздухе летали стрекозы.
Стрекоз было много. Потрескивая слюдяными крыльями, они в одиночку, парами, стайками реяли над старицей, гонялись друг за дружкой, присаживались на лилии, осторожно макали в теплую воду хвосты и снова летали. Всякие тут были стрекозы — и серые, в мягких махровых одежках, с нежно дышащими «темечками» на брюшке, и большие, рыжие, с длинными трубчатыми хвостами, и такие же большие, только синие, с перламутровыми горошинами глаз. Были и совсем малютки, голубенькие стрекозки с прозрачными, почти невидимыми крылышками, и лазурно-золотистые, умеющие подолгу стоять в воздухе, как бы разглядывая что-то, и, наконец, серебристо-фиолетовые, похожие на диковинных бабочек.
Весело, наверно, жилось этим стрекозам: день-деньской они затевали игры, летали наперегонки, купались, отдыхали, ловили и походя ели пискучих комаров. В своем непроходящем восторге опасно они иногда играли: слетевшись в воздухе, сплетались крыльями и, кувыркаясь, падали в воду. Тут уж не до шуток: упадут на чистину, где не за что уцепиться лапкой, — и прощай лето красное!
Если стрекозы падали близко от меня, я спасал их, поддевая на гибкий конец удилища.
Смотрю, опять, задрав хвост, резкими толчками к лодке плывет синяя стрекоза. Протянул удилище, наклонился и… увидел на сухой камышинке крупное грязно-коричневое насекомое, чем-то напоминающее скорпиона. Насекомое медленно поднималось по стеблю, вытягивая попеременно то переднюю, то среднюю, то заднюю пару ног. Ноги кривые, все в мелких колючках, с острыми коготками-захватами на концах. Посмотрел получше — и узнал личинку стрекозы.
Кое-где эту личинку рыбаки называют козарой и удят на нее язей. Но я никогда не удил, потому что уж очень она противная — такая верткая, скользкая, с горизонтально расставленными клыками. Плавает она интересно: забирает в себя воду и с силой выбрасывает. Прямо реактивный аппарат, а не личинка! И до того быстро плавает, что рыб догоняет. И нападает на них — конечно, на маленьких. Хищная, жадная эта козара: подставь палец — она и в него всадит свои клыки-кинжалы, а уж всадит — сразу не отдерешь. Голову оборвешь, а клыки не разомкнет.
Но такой хищной и проворной она бывает тогда, когда развивается. А наступит ей время превратиться в стрекозу — становится смирной, малоподвижной. Тогда личинок самих щурята да окуни жрут.
Вот и этой личинке настало, видно, время покинуть царство подводное и полететь стрекозой по белому свету. Ползет и ползет козара по камышинке, вяло перехватываясь скорпионьими лапами.
Я срезал камышинку, воткнул между бортом и сиденьем и стал наблюдать рождение стрекозы.
Обогретая солнцем, она пошевеливала то одной, то другой лапкой, словно пробуя их чувствительность, а потом припала к стеблю и надолго замерла. Шкурка стала подсыхать, коробиться, и козара начала изменяться в цвете — из грязно-коричневой превратилась в серо-зеленую, затем побурела и опять сделалась коричневой. И вдруг на голове у личинки шкурка лопнула, разошлась, и там, где лопнула, стало выпирать наружу что-то серебристо-желтое. Да ведь это же глаза! Не личинки, а стрекозы!
Шкурка разрывалась все больше. Вот щелка уже до спины дошла, расходится все шире, и там, внутри, мается новорожденная стрекоза. Вылезает и никак не может вылезти из своей же одежки. С трудом, будто из тесных сапог, вытягивает длинные жидкие ноги из старых козарьих ног.
Но стрекоза все же выбралась на свет и, мокрая, мятая, устроилась отдыхать на шкурке. А где же крылья? Они пока просто бугорки — так плотно, складочка к складочке, уложены. Стрекозка встряхнулась — и эти бугорки словно потекли, стали вытягиваться, распрямляться в крылья. Но новоявленная летунья была настолько слаба, что задуй ветерок — и не будет ее на шкурке. Вот, наверно, почему личинки стрекоз выходят из воды только в жаркие, тихие дни.
Я оберегал стрекозу. Вздохнет ветерок — прикрываю ее шляпой, сорвутся лапки — поддерживаю.
Смотрю по сторонам и вижу чуть не на каждой тростинке таких же, недавно родившихся стрекозок. Будто кто нарочно навешал их. Посверкивают влажными крыльями, сушатся на солнце.
Постепенно подсохли, распрямились крылышки и у моей стрекозки. Она слабо пошуршала ими. Нет, лететь рано. И еще обсыхала, грелась, набиралась сил. И высохла.
Ветер задул сильнее. На этот раз я не стал закрывать стрекозку, и он сорвал ее. И она полетела, часто перебирая крылышками, полетела неуклюже, отягощенная собственным хвостом, но все выше, выше, кругами ввинчиваясь в синеву неба. А шкурка так и осталась на камышинке, как живая козарка, только с дыркой на спине.
ДАНИЛА
Я стрелял на болоте бекасов, а потом, порядочно умотавшись, вышел на луга отдохнуть и обсушиться. Со мной была легавая, хорошо натасканная собака Тайга. Мы лежали на траве. Тайга, с облипшей шерстью, смотрела коричневыми глазами туда, откуда мы недавно вышли. Она тоже умаялась, но, видать по всему, не утолила своей страсти и готова была хоть сейчас же ринуться обратно в пахучие зыбуны.
Собака смотрит на болото, я — на собаку. Смотрю и потихоньку радуюсь: какая все же работящая, какая умная! Не каждому удается выкормить такого помощника да так поставить его. И статью вроде удалась: шелковистая, подтянутая. Охотники и всякие другие знатоки называют такую правильную собачью выправку по-мудреному — экстерьером. Словом, Тайга моя без изъянов, все в ней есть, что полагается ирландскому сеттеру.
Раздумывая, я посмотрел туда, куда повернула голову собака. С косогора от деревни в нашу сторону бежали ребята. По пестрой рубахе я еще издали узнал Мишку, веснушчатого мальчугана, с отцом которого мы как-то удили на Чусовой язей. Мишка подбежал первым и, забыв поздороваться, сказал, шумно переведя дух:
— Там… папка сено мечет… велел… это… к чаю…
Подоспели остальные. Все они знали меня — я не раз останавливался в деревне, — поэтому особого стеснения никто не чувствовал. Ребята восхищались ружьем, хором хвалили собаку, о чем-то оживленно спорили. Постепенно я понял, что спорят они о силе и смелости Тайги, противопоставляя ей какого-то Данилу.
— Думаешь, не перебьет?! — задиристо кричал Мишка прямо в лицо вихрастому лопоухому Гошке и щурил на него синие с черными крапинками глаза.
— Почем я знаю, — неопределенно отвечал Гошка. — Вот подерутся, тогда увидим…
— Конечно, перебьет! — смело выступил вперед худой босоногий парнишка, которого почему-то все называли Голубем. Для убедительности Голубь показал на раскрытую пасть собаки: — Зубища-то — во!
— Не перебьет! — возразил мальчик в засаленной куртке, с гаечным ключом в кармане. — Если Данила разозлится — все удерут! Вон какая у него шея-то долгая!
— Удеру-ут… — передразнил Мишка. — Сам ты первый удерешь! Не говорил бы за других. Иди давай к своему мотору, отвинчивай гайки.
Я отжал портянки, натянул сапоги, и мы пошли к деревне. И дорогой ребята спорили и, поскольку единого мнения не было, спрашивали меня:
— А правда, кто сильнее, Данила или Тайга?
— Ну конечно, Данила, — охотно отвечал я, имея в виду бывалого деревенского пса.
Споры неожиданно утихли, когда мы вышли на крайнюю улицу. В непонятном, враз наступившем молчании мальчишки прошли еще немного со мной, а потом незаметно по одному стали отсеиваться и шнырять кто куда — кто в проулок, в дыру в заборе, за баню. А Голубь забрался даже на тополь.
Вскоре со мной остался один Мишка. Да и он присмирел, прижался к моей ноге, ухватился за патронташ.
— Куда это они?
— А вон Данила идет… — произнес Мишка, и голос его дрогнул.
— Где? — не понял я.
— Во-он, — указал Мишка вдоль улицы.
Никого, кого бы можно было назвать Данилой, я не видел. Впереди спокойно трусила Тайга, какая-то женщина в бордовом платье доставала из колодца воду да три гуся важно шествовали навстречу нам.
— Где Данила?
— У-ух! — досадливо выдохнул Мишка и по примеру друзей стрельнул в ближайшую ограду. Уже за воротами я услышал его голос, полный затаенного страха: — Ой, и начнется сейчас!
Между тем здоровенный, толстый гусак с морковно-красными лапами и черным набалдашником на хищно раскрытом клюве опередил сопровождавших его гусынь, змееподобно вытянул шею, протяжно, с клекотом прошипел и лютым тигром бросился на Тайгу. В один миг он настиг ее и так долбанул, что та, неистово взвыв, волчком завертелась на месте. Гусак еще раз долбанул и, окончательно повергнув бедную собаку в смятение, не давая опомниться, принялся осыпать ее частыми ударами. При этом он хлопал крыльями, притопывал лапами и даже пускал лапы в ход — царапал и бил ими Тайгу. На месте боя зловеще заклубилась пыль, и из этой пыли на всю деревню летел дикий вой собаки. В суматохе я заметил, как, бросив ведра, забежала в калитку женщина, как в спешке прихлопнула подол платья и, разорвав его, скрылась в сенях дома.
«Данила!» — догадался я.
Но догадался слишком поздно: собака сломя голову мчалась вдоль улицы. Гусак не думал ее преследовать. Донельзя рассерженный, он побежал к калитке, выхватил красный лоскут, защемленный дверью, гневно тряся головой, брезгливо выплюнул его и, кажется, выругался… И тут заметил меня. Я невольно замер, увидев его глаза. Это были налитые кровью стеклянные шарики. Данила презрительно прищурил один, смерил меня с головы до пят, и я мгновенно прочитал в этом взгляде: «С тобой я еще, голубчик, не рассчитался!»
Дальше все происходило с непостижимой быстротой. Я не успел выломить из тына палку, не успел уберечься, — на меня обрушился такой же шквал ударов, какой только что вынесла позорно удравшая Тайга. Я вертелся и подпрыгивал, кружился и приплясывал. Даже отмахнуться ни разу толком не сумел. Только повернусь, а Данила — цап за ногу выше сапога, развернусь, а он — цап за другую! Брюки изорвал, руки рассадил до крови, И щиплет-то как-то не по-гусиному, зверь. Долбанет да еще повернет!
Вижу, худо мое дело. Сдернул я с плеча ружье да и хотел огреть хорошенько разбойника прикладом. А он так меня и ждал! «Ого-го!» — победно прокричал гусак и, замахав метровыми крыльями, полетел за огороды.
Остался я посреди улицы растрепанный, растерянный. Смотреть на себя стыдно. Из открытых окон слышался смех. Смеялись и взрослые, и дети…
А вечером за чаем Степан Захарович, Мишкин отец, усадив меня, где помягче, говорил с ухмылкой:
— Таким страшилищем и живет Данила в деревне. Совсем отбился от рук, чтоб ему ни дна ни покрышки… Ни женщинам, ни ребятишкам проходу от него нет. Скотина и та боится. Председатель давно велит отрубить ему башку да сдать в колхозную столовку, так ведь никто и не берется! Так и живет… А ты пей, пей, чай-то!
МАТРЕНА
Рыба брала вяло. Меня уже давно перестало тревожить мелкое подрагивание поплавков — наживку теребили мальки, — и я стал смотреть мимо них на перепутанный сухой тростник, на коряжник, паучьими лапами торчащий из воды, на плавучие островки, густо заросшие осокой и рогозом. С утра все же поклевывало, на дне моей лодки трепыхалось с десяток ершей, несколько окунишек да сверкал белизной чешуи красноперый лобастый голавлик. Голавлик иногда отчаянно ударял хвостом, резво подпрыгивал и начинал весело кувыркаться, поблескивая на солнце серебряным веретенцем.
Но начало припекать солнце, и клев прекратился. В озерном заливе все сразу утихло, успокоилось, ушло с глаз. Улетели к гнездам вороны, собиравшие на береговых отмелях дохлую рыбешку, спрятались в болотные крепи длинноногие кулички, замолчали голосистые камышевки. Только иногда на травянистом мелководье вдруг шумно всплескивала щука да с протяжным вздохом лопался илистый плавень, пропуская на поверхность пахучий пузырь торфяных газов.
Недалеко от меня на зыбучей лавде[1], ловко орудуя передними лапками и зубами, мастерила хатку ондатра. Ее не смущало, что лавда вздыхала и сотрясалась от бродивших под ней газов, не обращала она внимания и на близкое соседство со мной. Уложив растения, она спускалась в воду и плыла за стеблями на соседнюю лавду. Вот только непонятно было, по какой надобности ондатра плавала за строительным материалом на другой остров, хотя рогоз в избытке рос и на том, где она строила хатку. Скорей всего, не хотела демаскировать свой будущий дом. Наблюдая за работой зверька, за любопытным постоянством, с каким животное проплывало рядом с лодкой, можно было подумать, что это очень умная и даже хитрая ондатра, и плавает она здесь для того, чтобы выпытать мои намерения. Ну и пускай выпытывает, если охота, а я вот возьму да переплыву на другое место. Поближе к ней.
Я вытащил якорь и, отталкиваясь шестом, поставил лодку так, что перегородил ондатре путь. Аккуратно сложив на круглое основание хатки очередную ношу, ондатра опустилась в воду и поплыла. Поплыла прямо на лодку, клином рассекая воду, пошевеливая вытянутой вперед усатой мордочкой. И вдруг остановилась, повисла в воде. Долго смотрела на меня черными бусинками глаз, как бы ожидая, когда я уступлю ей дорогу, а потом, вскинув зад, нырнула. Под водой ондатра стала желтая да какая-то плоская, словно приплюснутая, а бока — будто серебром оторочены. Это блестели бесчисленные пузырьки воздуха на шерстинках. Когда ондатра подплыла под лодку, я схватил сачок, запустил его с другого борта и поддел ее. Просто так, из любопытства. В лодке пленница начала метаться, как в западне, гневно стукала по мокрым доскам тяжелым голым хвостом и скалила острые выпуклые резцы. В руки взять ее я не решился и, вдоволь насмотревшись, тем же сачком высадил за борт. Зверек сразу же нырнул, подплыл под лавду и больше не показывался.
Ондатра еще находилась в моей лодке, когда с берега донесся ласковый голос тети Дуси:
— Матре-ена, Матре-ена, Матре-енушка…
«Козлуху, наверно, потеряла», — подумал я и вспомнил грязную бодливую козу с единственным кривым рогом и растрепанной бородой, забитой сухим репьем. Утром, когда я умывался, она столкнула меня с крылечка, а потом, когда я копал в навозной куче червей, боднула меня и опрокинула банку с червями. Противная, в общем, козлуха.
— Матре-ена, Матре-ена, — зазывно пела тетя Дуся.
Тетя Дуся — глуховатая старушка с больными ногами и черными от огородной работы руками. В ее доме я остановился, пользовался ее лодкой, ее покровительством и вообще всем, что требовалось отдыхающему. Ко мне, заводскому человеку, тетя Дуся относилась с радушием и особым доверием — посвящала в сокровенные воспоминания своей жизни, непримиримо ругала соседа-скрягу, у которого «воды не выпросишь», жаловалась на «прострелы» в ногах и подолгу с напускной строгостью рассказывала про свою блудливую козлуху. Вот я и решил, что Матрена и есть та самая непутевая скотинка.
Я подгреб к берегу, поставил лодку на прикол. Тетя Дуся все еще звала Матрену, и я направился к ней пособить поискать.
— Не-е, милай, — отказалась бабка от моих услуг. — К тебе она вовсе не пойдет. Пуглива больно.
«Ничего себе пуглива», — с неприязнью подумал я и невольно почесал то место, куда боднула козлуха.
— Какая же она пугливая? — говорю. — Ребята вон на что бойкие, и то ваш дом за версту обходят.
— Дак это ты про кого? Про Зорьку, что ли? Она, верно, такая. Вечор вон бобы у Настасьи объела… Ондатру я потеряла. Матреной звать. Ручная эдакая, ровно белочка, морковку больно любит. Покричу — она и плывет. Выйдет на бережок — и ко мне. Смешно эдак с боку на бок переваливается. Прямо из рук, роднуша, грызет морковку… И куда она запропастилась? Али напужал кто? Матре-ена, Матре-ена, Матре-енушка…
Стыдно мне стало: это я напугал ондатру. Ту самую, что поймал сачком. Но откуда мне знать, что она ручная? Мало их плавает по озеру! Тетя Дуся ушла искать Матрену, а я сел на камень и приуныл. Нехорошо получилось. Пустяк вроде, а наделал заботы человеку.
Я не мог осмелиться сказать бабке, что во всем сам виноват. Ушел в дом, но и дома не сиделось. Взял веревку и отправился в лес за сучьями. И в лесу слышал с берега обеспокоенный голос тети Дуси. Она стояла в огороде и звала Матрену.
Вернулся, бросил вязанку сучьев у врытой в землю каменки. Тетя Дуся ушла огородами по берегу залива к плавням.
Я попил из берестяного туеса холодного квасу, походил по двору, а потом поднялся в сенцы и лег на топчан. Лег — и куда-то повела меня лесная дорожка, все дальше, дальше в лес. Из-за елей выскочила на тропу козлуха с репьем в бороде, проблеяла: «Удрать думаешь? Не выйдет!» — и направила на меня длинный, как пика, рог. Я бросился в сторону и… больно ударился головой о край бочки…
Много ли, мало ли прошло времени — не знаю, но, когда я преодолел дремоту, на улице было уже темно. В хлеву на тесном насесте перебранивались куры, где-то в соседском дворе мычала недоеная корова, а с берега тревожно доносилось:
— Матрена, Матрена-а…
Невмоготу стало скрывать тайну, и я побежал к бабке.
Рассказал все, как было, и, чтобы хоть как-то искупить вину, тут же предложил сплавать к острову.
— Нет уж, не поможешь ты мне, — строго сказала бабка. — Ступай лучше домой, а то увидит тебя — совсем не придет.
А сама зашагнула в лодку, взяла шест и оттолкнулась от берега.
Вернулась она часа через три, сняла у порога мокрые чеботы, бесшумно прошла возле моей кровати и не раздеваясь прилегла на лавку около печи. Тихо вздохнула и потерла, наверно, ноющие колени.
— Может, мне сходить посмотреть? — несмело спросил я, не поднимая головы.
То ли не расслышала бабка моего вопроса, то ли уклонилась от ответа, но заговорила о другом:
— Она, эта ондатра, конечно, зверек, капелька невидимая. А для меня — все равно что скотина какая, голубок ручной. Ведь тоже ласку да привет любит. Приласкала — она и доверилась мне, понимать меня стала, даром что дикушка. А теперь что получается? Обманули ее, выходит? Будет теперь на меня, как на зверя, зыркать, да и на других людей тоже…
Она вздохнула и умолкла. Но долго еще ворочалась на лавке, с хрустом разгибая коленки, растирая их ладонями.
Утром я проснулся рано. Тети Дуси в избе не было. Вышел на крыльцо и невольно замер, взглянув на огород: у самой воды между грядок сидела на корточках тетя Дуся и кормила с руки ондатру. Зверек по-заячьи поднимался на задние лапки, тянулся к ладоням хозяйки, а она, подавая резаную морковь пластик за пластиком, приговаривала:
— Серенькая ты моя, ласковая моя. Обманули тебя, умницу…
Но тут заскрипела калитка, и в огород воровски протиснулась нахальная голова козлухи Зорьки с обрывком веревочной петли на кривом роге. Тетя Дуся обернулась и грозно прикрикнула:
— Кыш, сатана безрогая!
КАК ЛИСА ДОМ СЕБЕ ЗАВЕЛА
Хороший дом у лисы — глубокая нора в овраге. Все там есть: проходы и переходы, мягкие половики из сухих листьев, отдушины для притока свежего воздуха, запасные выходы — отнорки. Даже спальня есть.
Только нору-то лиса не сама рыла — отняла у барсука. И вот как это вышло.
Долго барсук старался. Хоть и не твердый был грунт, песчаник — все равно приходилось скрести его лапами, подкапывать, как поросенку, носом, перегрызать крепкие древесные корни. Еще труднее стало, когда нора углубилась. Сработанная земля забивала проход, и барсук выталкивал ее грудью. Но вот нора совсем глубоко ушла в берег, теперь землю и грудью не вытолкнешь.
Догадался барсук перебрасывать сыпучий песчаник лапами. Бросает, бросает из-под себя назад, передвинется и опять бросает. И так до тех пор, пока не дойдет до начала лаза. Из норы свежий грунт не выбрасывает далеко, аккуратно разваливает у входа. Потом, когда закончит работу, красноватую, заметную на зелени землю присыплет листьями и травой.
Две недели маялся — построил дом. Просторный, чистый. Осталось выстлать травкой полы, взбить помягче постель, да и спать уж пора — зима-то не за горами.
Вернулся как-то утром барсук к норе — и хребет тревожно взгорбил: дух такой неприятный, хоть нос отворачивай! И лаз открыт. А когда уходил ночью на кормежку, вход завесил папоротником. Сунулся в нору, а там кто-то есть! Пригляделся, видит — лежит мордой к выходу лиса. Вытянула голову на лапах, щерит острые зубы, протяжно с переливами рычит. Недобро мерцают желтые, как луковицы, глаза. Жуть смотреть на лису!
Все же одолел барсук страх, полез дальше. Жалко вот так, ни с того ни с сего, лишаться дома. Столько труда положил! До сих пор исколотый нос болит. Да и какой уж такой зверь — лиса? Так себе, шерсть да кости!
Лезет барсук, хрюкает, сопит с присвистом — теперь сам страх на лису нагоняет. Не выдержала лиса, попятилась. Уши прижала, губы собрала складками, чтобы зубы лучше показывать, и рычит без передышки. Пятилась, пятилась, рычала, рычала да ка-ак бросится на барсука! Тот аж глаза закрыл. А когда опомнился и открыл, лиса была на старом месте. Морда у нее еще тоньше стала, седые усищи оттопырились, как у моржа.
Опять барсук стал наступать. Лиса заоглядывалась: нора незнакомая, тесная для нее, всякие корешки против шерсти встают, собственный хвост мешается.
Снова лиса бросилась вперед, и снова барсук зажмурился. Но теперь уж не так испугался: все равно не заест в норе.
Хрюкал барсук, хрюкал, пятил лису, пятил и допятил до запасного отнорка. Еще немножко, и вытолкнет незваную гостью. А лиса и сама обрадовалась, что кончается узкий коридор, не стала дожидаться, когда барсук выпихнет ее, запереступала взадпятки быстрее. И вывалилась!
Барсук живенько забил травой отнорок, крутанулся вниз головой, как на турнике, развернулся, побежал затыкать парадный вход. Бежит, чихает. Ну и зверь эта лиса, всю нору запоганила своей вонючей шерстью! Как теперь здесь жить?
Добежал до парадного, а там опять — лиса! Пуще прежнего скалит зубы, повизгивает от нетерпения поскорей вытурить хозяина. И давай наступать. Делать нечего, попятился барсук — сейчас лиса в выгодном положении. А она будто понимает это, знай напирает да напирает. Глазища горят, вся натопорщилась — вот-вот укусит! Собрал всю смелость барсук, хрюкнул погромче. И тут же пожалел: вовсе рассердилась лиса, подскочила, цапнула за самый кончик и так-то больного носа!
Заскулил барсук, замотал головой и давай без остановок переступать назад. Переступал, переступал да и вылетел в овраг…
Тьфу ты, пакость какая! И чем только от нее пахнет? Ну псина, и только! Хрюкнул барсук отчаянно, очистил, как мог, морду лапами да и побрел от оврага в соседний лес подыскивать место для новой норы. В этой ему, чистоплотному зверю, сейчас все равно не прожить…
МОЙ ПОСТОЯЛЕЦ
Я поймал в лесу большого паука-крестовика. Посадил его в коробку из-под спичек и принес домой. Дома паук как-то выбрался из коробки — и убежал.
Прошло дней пять, я уже забыл о нем, но однажды вечером заметил беглеца на книжной полке. Видать по всему, паук освоился с новой для него обстановкой, перебегал с книги на книгу, что-то приплетал, приклеивал. И ничего, что на столе горела лампа, — свет его не пугал.
Я подошел поближе и догадался: паук строит сеть. Интересно, как он ее будет делать?
Началось с того, что мой пленник, почему-то вылинявший за эти дни, с еле заметным поблекшим крестиком на спине, забрался на самую верхнюю полку, на ее угол, и прикрепил паутинку. Спустился на пол. На полу он не стал привязывать другой конец, а побежал с ним к противоположной стене. Да где там побежал! Паутинку тянуть было нелегко, и пауку то и дело приходилось оборачиваться, изо всех сил упираться, поднимать паутинку, чтобы не цеплялась.
Наконец он добрался до стены, поднялся по ней до уровня полки и туго-натуго натянул перемычку. Натянул и, как на парашюте, опять спустился вниз. Эту вертикальную нить закрепил на полу. И снова побежал к полке. Залез к тому месту, где был привязан первый конец, прошел кверху брюшком по перемычке до середины и, ловко орудуя лапками, начал собирать отвисшую паутинку — она без конца тянулась за ним. Собрал и крепко привязал. Получился треугольник.
Затем крестовик провел еще одну нить, пересекая угол пополам. На середине этой последней нити долго что-то плел. Когда убежал с того места, я рассмотрел маленький комочек из многократно скрученных паутинок. Здесь был основан центр сети. От центра неутомимый мастер шестнадцать раз взбирался по боковым растяжкам и там через небольшие промежутки привязывал концы паутинок. За шестнадцать раз он обошел весь треугольник и соорудил лучистый каркас сети.
Дальше работа шла не столь трудная, сколько длительная и кропотливая. Пауку надо было переплести лучи связками. И не просто переплести, а еще и свить нити по две и по три, словно веревочку. Свивал он их задними лапками с коготками-захватами. Да ловко так, да быстро так — заглядишься! Хвать паутинку ножкой, вправо двинет, влево, другой ножкой подправит, где приступит, где подтянет. Ну точь-в-точь как вязальными спицами! Разве что маленькими.
Не сосчитать было, сколько раз паук пересек эти лучи, бегая по спирали от центра к углам и наоборот, только к середине ночи сеть была готова.
Несколько дней я осторожно ходил по комнате. Боялся, как бы не зацепить сеть да не порвать. Ведь я еще не все узнал. Не видел, например, как паук ловит насекомых. Сам стал приносить разных мух и бросал в тенета. Пытаясь вырваться, они трясли их, и паук опрометью бежал из потайного угла к жертве.
Когда я проявлял излишнее любопытство, паук хватал жертву и тащил наверх, в свое гнездо.
Долго я высматривал это гнездо. Убрал одну книгу и увидел сплетенный из паутины куколь. Стоило легонько прикоснуться к сети, как паук тотчас выбегал из убежища.
Один раз я все же невзначай оборвал сеть. И думал — все, паук больше не построит такой. Но утром увидел совершенно целехонькую и точно так же натянутую новую сеть. А потом я уже нарочно стал обрывать растяжки. Сеть провисала, слипалась, и паук каждую ночь добросовестно восстанавливал ее.
Жил этот паук у меня около месяца, может быть, прожил бы и дольше, да товарищи, заходившие ко мне, стали посмеиваться: дескать, развел «мизгирей», паутиной зарос, и мне не оставалось ничего другого, как переселить постояльца за окно, в садик…
КТО КАК ЗИМУЕТ
Зима — трудное время для зверей и птиц. И холодно, и голодно.
Хотя у птиц — самая горячая кровь, куда горячей, чем у человека, и то, случается, они замерзают. Погибают чаще мелкие птички, такие, как синица, поползень, пищуха. Даже дятлы иногда гибнут. Чтобы насытиться, им надо облететь не один десяток километров, обшарить не одну сотню деревьев, проверить тысячи потаенных щелок: под древесной корой, в старых заборах, бревенчатых стенах изб, словом, везде, где могут зимовать насекомые и их личинки. А день-то зимний короток. Не хватает светлого времени для отыскивания корма. День живут впроголодь, два впроголодь, бывает, и целую неделю. Пригорюнились. Теперь и летать много неохота. Сидят голодные пичуги, ждут своей участи. Хорошо, если растеплеет. Тогда пособирают на сушинах всяких жучков, куколок — подкрепятся. А если ударит морозище, хуже того, случится гололед — совсем плохо дело. Не подступишься к обледенелым деревьям. Засыпают птицы в звездные звонкие ночи — и навсегда. Падают на землю пушистыми комочками, застывают…
Когда зимой много снега, некоторые лесные птицы — глухарь, тетерев, рябчик — прячутся от холода в него. Прямо с деревьев и ныряют. Сначала тесновато в снегу, он плотно облегает перья, а потом немного подтаивает, затвердевает корочкой — и получается снежный домик-лунка. Тут уж никакой мороз нипочем! А про ветер, который для птиц хуже всякого мороза, и говорить нечего. Какой может быть ветер под снегом?
Сидят птицы в снежных домиках всю долгую ночь, а то и весь день, если здорово холодно. Выберутся на часок, поклюют кто чего — березовых сережек, ольховых шишек, а глухарь, тот на осину или пихту слетает — и опять в убежище. Мне не раз приходилось спугивать отдыхающих под снегом птиц. Вот перепугают! Идешь на лыжах, ничего не подозреваешь и вдруг — бух! бух! бух! Выше головы вздымаются сверкающие снежные фонтаны, да совсем рядом! Это вылетают потревоженные тетерева.
А если мало снега, тогда как? Холодище лютый, да еще с ледяным ветерком. Ветер перья ерошит, хвост заламывает — куда деваться? Глухарям да рябчикам проще, они из леса носа не показывают, а как быть тем птицам, которые живут в полях, вообще на открытых местах? Им вовсе негде укрыться от пронизывающего ветра.
И научились эти птицы бороться с ветром и холодом сообща. Серые куропатки так делают. Найдут где-нибудь глубокий ложок или овраг какой — все ветра меньше, — собьются в тесный круг головами в стороны и коротают ночь. Бывает, их совсем заметет снегом, а они сидят. Только дырки от дыхания протаивают. Одной куропатке было бы холодно, а вместе теплее.
Но куропаткам еще ладно. У них и оперение плотнее, перышко к перышку, всегда вроде сытенькие, да и сами собой покрупнее, чем, скажем, те же сороки. Ну, а тощим сорокам как быть?
Они спасаются от холода тоже сообща, только сидят не на земле, а на ветках, в гуще кустарников или в невысоком частом лесу. Сидят, плотно прижавшись друг к другу, а то и прямо друг на дружке.
Один раз я видел такую картину. Шел как-то поздно вечером полевой дорогой. Было очень холодно. Мглистый туман заволок все низины. Вдруг в стороне, в березовом колке, услышал многоголосое сорочье стрекотанье, какое-то шипение, даже взвизгивание. Свернул в колок и невольно присел: с берез с превеликим шумом разом взлетело не меньше сотни птиц.
Такого сборища сорок я еще не встречал. Они облюбовали здесь место для ночлега, а я вот так неосторожно потревожил их. Всюду валялись перья, мелкий снежок под деревьями был весь утоптан птичьими лапами, на ветках белел застывший помет. Тогда я понял, что сороки в березняке квартировали не первую ночь.
Неважно живется в малоснежную зиму и медведю. Берлогу-то под старой елью выложил, хворосту сверху на обнаженные корни набросал, а снега мало. Не укрыл он мишкин дом, кругом просвечивает, сквозит. Ворочается медведь, сопит недовольно, не может заснуть. Не то чтобы мерз — шуба у него теплая, да и сытый с лета, — а как-то тревожно зимой без снега. Сядет сова на сук, скребнет когтями — мишка слышит. Откроет мутный глаз — звезды видно. Что за берлога!
Даже малютке землеройке трудновато, когда мало снега. Можно считать, повезло, если устроилась на зиму в стоге соломы — там не замерзнешь. А каково под гнилым пеньком сидеть? Сырой, промозглый он, остался с осени, насквозь промерз, царапнешь лапкой — звенит.
Не пожаловался бы на жизнь крот-работяга, но и ему не сладко в бесснежье. Хоть и крепки его лапы-лопаты, да попробуй-ка зарываться на метр и глубже. А что делать? Ведь кроты питаются дождевыми червями, личинками насекомых, а они в стылой земле не зимуют. Вот и получается: чем больше промерзает земля, тем глубже кроты прокладывают свои норы.
При большом снеге все зверушки — и грызуны, и насекомоядные, и мелкие хищники — живут под толстым снежным одеялом, не тужат. Ни ветра, ни мороза, и пищи в достатке. Там найдут корешок, там ягодку, а там куколку жука или сухой гриб. Знай не ленись. Целые дороги-лабиринты проделаны у них под снегом. Для удобства не забывают использовать и неглубокие кротовые норы. Серенькие шустрые полевки — так те даже выбираются из подземелий и в толще снега на кустах вьют новые гнезда. Это на случай затопления постоянных летних квартир весной. В норках-кладовых у них хранятся разные семена, сушеные корешки трав. Не страшна им зима, а если поблизости осталась еще не обмолоченная скирда хлеба, то они даже в эту глухую пору могут принести детенышей.
КАК «ПОЮТ» БЕЗГОЛОСЫЕ ПТИЦЫ
Весной это бывает. Распогодится солнечный май, займутся молодой дружной зеленью луга и болота, заполыхают алыми, долго не гаснущими огнями полуночные зори.
Шумно живут в эту пору птицы — токуют. День-деньской воздух звенит от их трелей, щелканья, посвистов, стрекотания. Всем охота попеть, всем охота отпраздновать долгожданную весну.
А как быть тем птицам, которые не умеют петь? Не назовешь ведь, к примеру, пением крик ворона.
Но и безголосые птицы славят весну по-своему.
Ворониха еще в марте села парить единственное яйцо. Во́рон носил ей пищу. Притащит полевку, сунет воронихе — и давай по сучку выхаживать! Хвост распустит, шею натопорщит, а из горла так и льется, так и льется переливчатое бормотание. Светится весь от лаковой черноты, глянцем взблескивают крылья, из усатого, широко раскрытого клювища вылетает пар. А то вдруг успокоится, поморгает белыми пленками век — задумается: какой же вороненок у него будет?
Но это в марте. Позднее во́роны токуют в воздухе. Да не как-нибудь, а с разными, не похожими на обычный полет вывертами: вниз, вверх, каруселью друг за другом да опять вниз, вверх. И клекочут на разные голоса, будто звонят в колокола. Подумаешь, орлы нашлись!
А над болотом кто раскричался? «Бэ-э-э, бэ-э-э…» Ни дать ни взять — барашек! Не оглядывайся по сторонам, никакого барашка не увидишь.
Издает такой странный звук длинноносый кулик-бекас. Взлетит повыше и начинает повторять: «ти-ка, ти-ка, ти-ка». Словно косу отбивает. А потом, приспустив крылья, стремительно падает вниз и «блеет». Это тоже весенняя песня. Но кулик вовсе не поет, а как бы играет на жестких, веером распущенных перышках хвоста. От скорости падения перышки вибрируют, жужжат — и получается звук, похожий на блеяние.
А большой пестрый дятел делает так: найдет старую звонкую сушину, усядется на длинный сук и «настроит» его, как музыкальный инструмент. Простукав клювом, выберет такое место, где от ударов конец сучка трясется. Откинется, брякнет изо всей силы несколько раз, раскачает пружинистый сук, а потом подставит клюв, и сучок об него сам мелко колотится. И поет, как рог, призывно гудит на весь лес. А уж от того, какой попадет сук — толстый или тонкий, щелястый или ядреный, — звук получается либо густой, басовитый, либо тонкий, трескучий, словно вдали кто-то рвет крепкое полотно.
И еще одна птица интересно «поет» свою весеннюю песню. Это выпь — большая, не очень красивая болотная цапля с бурым, будто забрызганным ржавчиной, пером, с длинными зелеными ногами.
Ну, раз выпь большая, то и кричать охота погромче. А голоса-то у нее и нет. Обидно. На что вон бекас и тот вышел из положения.
И приспособилась выпь реветь по-бычьи. Зайдет в воду, засунет поглубже клюв и дует что есть мочи. Звук от этого по болоту такой, точно ревет где-то рассерженный бык…
За это выпь и прозвали водяным быком.
СОН ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ
Длинны, тягучи январские ночи. Особенно это ощущаешь, когда один ночуешь в лесной избушке. Так-сяк крутишься на жестких нарах — не спится.
Поудобнее подбиваю ватник под боком и лежу с открытыми глазами наедине со своими думами.
А о чем думается в эту бесконечную ночь? О том, что неплохо бы срубить по речке десятка три молодых осинок — зайцам для подкормки. Они, конечно, и так не замрут, но зачем зверькам жить впроголодь, когда кругом полно никчемного осинника?
Вспомнил про зайцев, а тут и о других зверях забота взяла. Ну, лосям — тем ладно. Они сильные, выносливые, никакой снег им нипочем. И едят что попадется. Вчера видел, как огромный сохатый с черным хребтом и ветвистыми рогами, похожими на вывороченное корневище, захватил зубами разлапистую сосновую ветку, потащил в сторону и сломил весь сук. Только треск по лесу пошел! Лосей было три да еще один лосенок, и они объели на ветке всю хвою. Да что хвоя — стылые березовые прутья жуют! А еще слаще для них ивовые побеги. Зубы у лосей крепкие, и желудки все переваривают.
Частенько за ними ходят зайцы, собирают остатки веток. Но лоси тоже экономны: никогда без нужды не сломят деревце и никогда не обгложут его полностью. Не раз я удивлялся, глядя на помеченные лосиными зубами осинки: на стволе содран только лоскут коры, на другом — еще лоскут, на третьем еще. А чтобы деревце кругом оголить — такого не бывает. Будто знают, что оно погибнет.
Ну, хорошо, лоси да зайцы проживут. А косули как? Глубокий снег похоронил всю древесную молодь, о траве, какая осталась с осени, и говорить нечего. Бродят косули стайками, будто плавают, одни головы торчат из снега. Трудно им зимой добывать корм.
Вот тут бы и надо оставить им копешку или две сена, может быть, даже кормушки сделать. Наподобие яслей, какие делают домашнему скоту. Лоси и зайцы тоже не обошли бы такую «столовую».
Думал я об этом, думал и зашел в тупик: кто же будет заниматься подкормкой диких животных? Легко сказать — оставить сено. Но ведь его надо заготовить. Одни лесники не справятся, у них своих забот полно. У егерей тоже. Лес-то большой! Кто же должен позаботиться зимой о голодающих зверюшках?
Под другой бок сунул ватник, рюкзак удобнее приспособил под голову. Мерцают в железной печурке оранжевые угли, желтым сердечком бьется на подоконнике огонек свечи. Где-то под нарами скребется мышка, прогудела, как басовая струна, ожившая в тепле муха и слепо стукнулась об стену. А потом вдруг за окном мелькнула разлатая тень, и стало слышно, как на конек ветхой крыши опустилась какая-то большая птица. Скорей всего филин. На свет в окне прилетел. Посидел, потоптался когтистыми лапами и бесшумно скользнул вниз — опять мелькнула тень.
Нет, не заснуть! То ли крепкого чаю напился, то ли не дает заснуть первобытное волшебство зимней ночи. Схожу-ка лучше на улицу.
А вышел — и замер от чуткой, цепенеющей тишины. Над головой в купоросно-синем небе — крупные, белые, с фиолетовыми лучами звезды. Яркие такие, иглистые, как стеклянные елочные ежи, мелодично позванивающие. Это, конечно, от тишины кажется, что они звенят. Глядя в небо, обернулся несколько раз вокруг — и звезды потекли, закружились в веселом праздничном хороводе. И уже не могу разобрать, где Большая Медведица, где Малая, где Млечный Путь, а где Полярная звезда.
Походил, подышал морозным воздухом, опять вернулся в избушку. Околотил о порожек от снега валенки, поставил поближе к печке. Снова лег. И только смежил глаза, как пригрезилось мне вот что.
Бежит будто по санной дорожке лошадка. Под дугой бренчит колокольчик, слышатся звонкие голоса. Все ближе голоса, и вот вижу, как седая от инея лошадь, пуская из ноздрей пар, подворачивает к избушке. Из широких розвальней выпрыгивают ребята.
— Здравствуйте, — говорю. — Откуда вас столько?
— Здравствуйте, — отвечают. — Из такой-то школы.
— А за чем в лес среди ночи?
— Во-первых, уже не ночь, а утро, а во-вторых, это вас надо спросить, почему вы тут, — говорят хором. — Здесь наше лесничество, мы охраняем лес.
— Какое такое в а ш е? — не понял я.
— Обыкновенное, школьное. Уже год, как нам его приписали. Весной развешиваем для белок и птиц дуплянки, осенью собирали шишки, заготавливали семена. Засеяли сосной целый гектар пустыря. И саженцев много высадили на старых порубках. Еще косили летом для лосей и косуль траву, стожок сена поставили. Осиновые веники развесили во многих местах — это для зайцев. А теперь, в каникулы, проверяем, как расходуются наши запасы, не пугает ли кто зверей. Нас-то они совсем не боятся, а приходят взрослые, да еще с ружьями, — все дело портят. Но мы затем и приехали, чтобы посмотреть, не нарушает ли кто лесной покой.
Не знаю, сколько бы еще продолжался этот приснившийся мне разговор, но кто-то сильно торкнулся в раму, и меня словно ветром смело с нар. Тьфу ты, пропасть, опять филин! Далась ему эта свечка!
Я задул догоревшую, оплывшую, как блин, свечу, протер рукавом запотевшее стекло. Над гривой черного леса поднялась полноликая луна. Она осветила поляну перед избушкой, белые черемухи у реки, глубоко просевшую в снегах санную дорогу. И мне почудилось, будто вправду где-то вдали бренчит колокольчик. Я долго ждал, когда из-под гривы сосняка выбежит на поляну заиндевелая лошадка, а не дождавшись, не стал расстраиваться: не сегодня, так завтра, не завтра, так через год сюда все равно приедут ребята. Ведь школьные-то лесничества существуют на самом деле. Мало пока, но со временем будут везде.
СТРИЖИ
Вспоминаю высоченную сосну на излуке полевой дороги, полувысохшую, тихо поющую на ветру, с дуплистым прямым стволом. Дупла располагались по контуру ствола, как бы спиралью опоясывая его, на месте обломившихся и выгнивших сучьев, и в них, сколько я помню, всегда жили стрижи. Дупел было много, до самой зеленохвойной верхушки, но стрижи занимали только три нижние — по-видимому, они больше других подходили для гнезд. С рассвета до позднего вечера птицы реяли над одиноким деревом, изредка стремительно приклеивались к дуплам, тут же срывались и со звонким частым «рюмканием» взмывали к небесам. Стрижи были так привычны над ширью полей, так знаком их пронзительный крик, что и теперь, за далью времени, не могу представить без них ни поле, ни дерево, ни само небо.
Но не этим запомнились мне стрижи моего детства — поразительной привязанностью к родному гнездовью, колыбели, быть может, не одного стрижиного поколения. Когда сосну свалило бурей и ее, разделав, увезли в деревню, они еще долго прилетали к пеньку, низко вились теперь уже над излукой совсем пустынной дороги и кричали, кричали, будто оплакивали родительский дом. Прилетали они к пеньку на другой и на третий год…
И вот опять стрижи. На этот раз прямо перед окном, в невысоком скворечнике на березе. Впрочем, скворечников много, и почти в каждом из них поселились стрижи, но этот, сколоченный из грубых, неотесанных плах, ближе других, и я давно наблюдаю за ним.
Сколько же загадочек загадали мне эти стрижи! Во-первых, кто из пары мамаша, а кто папаша — разницы между ними никакой. Во-вторых, есть ли у них вообще пары, потому что птенцов кормят сообща, всем стрижиным скопом. В-третьих, как кормят: ведь если таскать по мушке — замаешься. В-четвертых, где они спят и спят ли? В-пятых, в-десятых — и так без конца…
Как для кого, а для меня эти птицы самые таинственные, самые удивительные. И, наверно, не только для меня. Многим ли известно, например, что стрижи одного рода-племени с такой экзотической птичкой, как колибри? Знают ли, что они распространены по всему белому свету и насчитывается их больше семидесяти видов? А почему стрижей путают с ласточками-береговушками, а то и со всеми ласточками? Наконец, чем объяснить столь частое в последнее время заселение стрижами скворечников?
И правда, едва-едва подросшие скворчата покинут родительский кров — стрижи тут как тут. Не брезгуют чужими постелями, никак не прибирают, не освежают жилье, а сразу, без всякого промедления, принимаются за семейные дела. Да ладно бы занимали дуплянки, так похожие на естественные гнездовья, а то ведь просто ящики, наподобие того, что на березе под моим окном.
О том, что черный стриж родня заокеанской крохе колибри и что их много видов, я узнал от ученых людей. А вот чем они питаются, где спят и как выводят птенцов, наблюдал сам. Об этом и рассказ.
Смотришь, бывало, на темные силуэты-крестики, фигурно чертящие небесные дали, и диву даешься: ведь надо же так летать! Не нахожу никакого сравнения. Лишь они, одни стрижи, могут так свободно жить-существовать в родной стихии. Небо для них настолько стихия, что земля, твердь всеобщая, не только не нужна им, а часто гибельна. Раз коснувшись ее, стриж уже не взлетит. Слабые лапки с вытянутыми вперед всеми четырьмя пальцами не способны толкнуть птицу даже для взмаха крыльев. Крыльев — в две трети длины тела! Вот почему никто никогда не видел стрижа, сидящего, подобно ласточкам, на проводах, вообще стрижей вне полета.
Дважды мне доводилось держать стрижей в руках, и оба раза мертвыми. Первого нашел на крутом берегу реки, совсем немного не доползшего до спасительного обрыва. Стриж изнемог в отчаянных попытках взлететь и погиб из-за своих таких сильных и быстрых в воздухе и таких ненужных, беспомощных на земле крыльев…
Второго обнаружил в… собственной квартире… Вся семья была в отпуске, уезжая из дома, оставили открытой форточку. Она-то и послужила ловушкой. Но что заставило осторожную, диковатую птицу влететь в форточку, к тому же не очень широкую, выходящую в глубокую балконную лоджию?
И опять вопросы: стриж искал укромное место для гнезда? спасался от хищника? охотился за насекомыми? Не знаю!
Был и третий, можно сказать, особый случай, когда я спас стрижа. Это был слеток. С виду он мало отличался от взрослой птицы, разве что оперением чуть посветлее да кое-где проблескивали с изнанки маховых перьев трубчатые опахала.
Стрижонок лежал между грядок как раз напротив скворечника на березе и как бы тяжко вздыхал, силясь приподняться на раскинутых длинных крыльях. Неизвестно, почему он очутился на земле, но именно на земле эта красивая и вольная птица выглядела жалкой, неуклюжей. Сперва я подумал, что взлететь стрижу мешает колкая трава-отава, недавно скошенная и вновь успевшая набрать рост, однако и с чистого места, даже с деревянного пола ограды, куда я его перенес, он не взлетел. Бился, натужно горбил спину, опрокидывался кверху лапками и обессиленно замирал, скрючив эти лапки, чтобы через минуту-другую повторить все сначала. Но стоило только стрижа подбросить в воздух, как он буквально ввинтился в небо, где поджидали его сородичи. На другой и на третий день — до самого отлета — я безошибочно узнавал его в стае по красной ленточке, привязанной к лапке…
Говорил уже: не видел, как выпал из гнезда «мой», теперь уже помеченный, стрижонок, а вообще-то не раз наблюдал их вылет. Чувствуя, что птенцы достаточно подросли, взрослые птицы все с тем же резким криком одна за другой проносятся у самого скворечника, зазывая, сманивая за собой, а великовозрастный детеныш, нетерпеливо высунувшийся из гнезда, лишь провожает их движением глазастой головы, никак не решаясь довериться крыльям. Он, этот занявший место в летке, более крепкий, не пускает к свету братьев и перехватывает весь корм. Чуть заслышит голоса родителей, заранее распахивает свой широченный клюв-ловушку с бледно-желтой сухой окантовкой по углам. Но взрослые птицы теперь все реже приносят пищу: хватит, мол, пора самим добывать пропитание. День не кормят, два не кормят. Оголодавший птенец на каждый новый зов теперь уже почти вываливается из летка, а все торчит, все ждет подачки. Кончается это обычно тем, что томящиеся под ним в душной тесноте братья попросту выпихивают его. Стрижонок отлого планирует к земле и вдруг с отчаянным визгом — другого слова не подберешь, — будто спущенный с тугой резинки, круто взмывает к небесам.
Немедля его место в летке занимает следующий…
Но вот молодые все на крыле, пусто в скворечнике. Как-то непривычно тихо становится у дома, словно он обезлюдел. Однако стрижи держатся неподалеку, то беззвучно реют высоко в небе, то с шелестом проносятся низко над огородами. Все зависит от погоды. В тихую, сухую они вообще не опускаются к земле и спят в парении под облаками; в прохладную, сырую — небыстро летают над пойменными лугами с редкими черемушинами, где в заветрии скапливается комарье. Теперь в стрижиных стаях все чаще промелькивают белобрюхие, невесть откуда взявшиеся городские ласточки, серые, землистого цвета береговушки и, конечно же, вековечные постояльцы здешних подворий — ласточки-касатки.
Заприметил я также, что стрижи-сеголетки хоть и легкие на подъем, все же летают не так умело, не так ловко, как их родители. Утомляются, что ли, раз то и дело как бы привстают на месте, сбоисто стригут крыльями, а потом в долгом парении отдыхают.
Я научился отличать молодых птиц от старых. Нет, не по окрасу. По окрасу стрижей в воздухе не разобрать. Молодые чуть покороче, поокруглее, вроде бы какие-то кургузые, не так грациозно, я бы сказал, не так «ювелирно» несут себя в пространстве и, как уже было подмечено, чаще отдыхают, недвижно раскинув серпы-крылья. Но самое главное: нет пока в их полете тех восхитительно красивых, плавно-привольных разворотов, какими отличаются истинные мастера высшего птичьего пилотажа — старые стрижи.
Еще я заметил, что стрижата, как и забияки-петушки, нет-нет да и срываются с голоса: в каком-нибудь особо удавшемся, особо быстром вираже-пируэте крикнет от восторга, а у него вместо крика радости получается тонкий визг. Ну, как у того, что вытолкнули братья из гнезда…
Опытные птицы почти всегда летают впереди, легче и быстрее находят восходящие воздушные потоки, где долгие минуты, а то и часы свободно плавают, лишь изредка перебирая крыльями. Чаще в таком состоянии я видел стрижей в светлые июльские ночи.
Раз спрашиваю соседку бабу Женю, давно ли в скворечники стали селиться стрижи?
— Ты про кого, про касаток, что ли?
— Ну, по-твоему, может, и касатка, а правильно — стриж. Вон те, над домом которые кружат.
Баба Женя сделала козыречком черную, плохо гнущуюся ладонь, прищуристо посмотрела в небо.
— Да как леса вокруг деревни повырубили, сразу и жить стали. В те поры по старицам много сухостою дуплистого было, вот в дуплах сперва жили. А до этого сроду в скворечниках не видела. Она ведь, касатка-то, не воробей, дичится народу, скотины, а теперь куда ей без гнезд-то? Вот и подалась на постой к скворцам…
Правильно бабка рассудила. И верно, куда деваться? Вырубают дуплистые деревья, вообще леса, и тут волей-неволей пойдешь на сближение с человеком. Да только ли стрижи прибиваются к людям? Смех ведь сказать — ворона сложила гнездо на дикой высокой яблоне в огороде за баней…
И все же рассказ мой был бы неполным, не проведи я такого опыта.
На другой год придумал сделать у одного скворечника съемную крышку. Скворцы мне были неинтересны, и, пока они выводили птенцов, крышку я не снимал. А вот когда поселились стрижи, снял в первую же неделю. Посмотреть: что и как там? Сделал это, само собой, без хозяев, осторожно и быстро. В дуплянке на утрамбованной скворчатами гнезде-подстилке лежало два белых продолговатых яичка. Я подумал, что кладка еще не окончена, и закрепил крышку на место.
Но больше они и не снесли. В тот же вечер стрижиха села парить. И вроде бы не одна парила: иногда ее подменял самец. Несколько раз из дуплянки выныривал один и тут же залетал другой стриж. Непостижимо, как сидящий на гнезде стриж угадывал реющих в небе сородичей, призывно вскрикивал, и те немедленно появлялись рядом. И уж кто тут есть кто, уследить было совсем невозможно: стрижи парами, стайками, в одиночку подлетали к скворечнику, на секунду цеплялись к летку, улетали, снова возвращались — и так до позднего вечера, до глухого ночного часа.
Птенцы появились ровно через полмесяца. Когда они запопискивали, я снова приставил к березе лестницу, заглянул в скворечник. На дне лежали два покрытых реденьким пушком комочка. Затаились, будто неживые. Но когда я притронулся к одному, он сейчас же взбугрил на спине култышки-крыльца, запрокинул на них несоразмерно большую слепоглазую голову и с готовностью растянул утробный зев. Как-то не верилось, что вот из этих уродцев через месяц с небольшим явятся на свет божий прекрасные, неповторимого облика птицы, птицы-молнии, птицы-призраки, непревзойденные летуны всего пернатого мира.
Рядом с птенцами я заметил какие-то крошки, похожие на подвядшие ягоды-землянички. А когда рассмотрел их дома через лупу, оказалось, что это — мушки, мошки, всякие козявки. И сразу догадался, чем и как кормят стрижи птенцов. Приносят они им не по мухе и не по две — набивают в полете насекомыми полный рот, выделяют какое-то вяжущее вещество, скорей всего слюну, уминают, склеивают добычу и уж потом «брикетиком» подают птенцам.
Как и в прошлый год, нынешние стрижи после вылета молодняка какое-то время далеко не улетали, все вились над рекой или тут же, над домом. Поздними вечерами изредка навещали скворечники. То ли проверяли, не остался ли, не замешкался кто, то ли ночевали — не знаю, не усмотрел.
Зато усмотрел другое. В августе, перед самым отлетом птиц в дальние края, я вдруг заметил в стрижиной стайке одного — с необычным красным подхвостьем. Второй раз заметил — озадачился: не видал таких. Радостная разгадка пришла сама собой: разлато выгнув острые крылья, стриж коснулся брюшком речной глади — так они пьют, — и я отчетливо различил красную капроновую ленточку. Да ведь это «мой», тот самый стриж, которого я подобрал в огороде и отпустил помеченным с тайной надеждой на встречу. Встретились!
И я опять вспомнил одинокую дуплистую сосну на излуке полевой дороги, стрижей, оплакивающих потерянный дом, и в который раз убедился в их верности родному порогу, милой своей родине.
Я вспомнил стрижей моего детства.
ЧАСЫ ФИРМЫ «МОЗЕР»
Сперва я пугался ее голоса. Всегда неожиданно, с какой-то внутренней болью она спрашивала:
— А ты помнишь его?
Я вскидывал от бумаг голову и снова видел ее, стоящую у жаркой печки, прямую и неподвижную. Меримея Васильевна подслеповато смотрела поверх меня на выцветший портрет на стене. А с портрета глядел на нее молодой чубатый парень в кубанке. И что-то неуловимо схожее было в печальных глазах обоих.
— Дак, говоришь, не помнишь? — обидчиво переспрашивала старуха. — Как же ты забыл моего Ваню, он ведь вон на сколь моложе тебя!
В который раз я принимался объяснять, что помнить ее сына никак не могу, потому что не знал его, повторял, что, если бы даже и знал, все равно забыл бы: когда он погиб, мне было четыре года…
Меримея Васильевна не понимала:
— Ведь ты же старше, в отцы ему годишься, а забыл…
Эти нелегкие разговоры повторялись из вечера в вечер, а точнее — второй год. Именно второй год на лето я снимаю в старухином доме комнату. Она, как и в прошлый раз, отвела мне просторную горницу с круглым столом посредине, с геранями на окнах и деревянной кроватью, заваленной горой подушек. Еще в горнице был комод с гипсовым петухом-копилкой, развесистый фикус в кадке и тот самый портрет на стене. Сама старуха занимала смежную комнатенку за печкой, даже не занимала, а только часами грелась у этой печки, спать же ложилась, не снимая заплатных шерстяных носков и обвислого платья, в кухне на широкой лавке.
Она была высокая и сухая, как расколотая молнией безлистая осина в огороде, ничего у меня не просила, ни на что не жаловалась, а лишь винила за то, что забыл я убитого на войне ее сына.
— Он ведь один у меня был, соколок мой, все любили его, все знали, а ты не помнишь, — грустно укоряла старуха.
Давно мы с ней по-родственному привыкли друг к другу, а неназойливые, старчески безрассудные ее упреки я воспринимал как желание высказать доверительному человеку самое сокровенное и самое больное. Да и понятно: старуха была совершенно одинока.
Перед войной она овдовела — муж Федор, колхозный конюх, спасая угодившую в полынью лошадь, промок в ледяной воде и слег. Всего и промаялся две недели — умер, как рассказывали соседи, от крупозного воспаления легких. Перестрадала Меримея, перенесла потерю, полагаясь на единственную теперь отраду — сына. А Ваня в ту пору служил в кадровой. Только бы возвращаться домой — и вдруг война. На фронте оказался в первый же месяц. А за месяц до победы погиб под Берлином…
После похоронки стали деревенские подмечать за Меримеей непонятное: то она готовит застолье, будто ждет Ваню, то с узелком отправляется в неближнюю дорогу — на железнодорожную станцию, — будто встречать его. Это когда еще не старая была.
Ну, а дальше — больше. Стала заговариваться Меримея. Всех спрашивает, не видел ли кто Ивана, не получал ли от него писем. Вечерами обходила избы фронтовиков, наседала на каждого: как, мол, так, ты хоть и безногий, но пришел, а Иван где? Ивана-то где оставил? Другого стращала: «Погоди, придет он, спросит с тебя, пошто не дождался!» Зачастила и на почту — не доверяла уже почтальонше. Никакие уговоры не помогали — сердилась, махала руками, оскорбленно твердила свое: невзлюбили вы Ивана, потому и скрываете вести от него…
И всем стало ясно: Меримея маленько не в уме. А как понимать иначе, если прошло уже больше десятка лет после войны, а она все ходит на автобусную остановку встречать сына и ругается с каждым, кто пытается ее образумить.
Нет, не в обиде она была на людей. Понимала: обида плохой помощник во всяком горе. Ее же горе было давнее, застарелое, как неизлечимая болезнь, и старуха притерпелась к нему. Давно жила придуманным ожиданием. А уж если сердилась, так это на тех, кто хоть словом, хоть намеком пытался разуверить ее в неизбывной ее надежде.
И вот совсем уже много минуло времени, поумирали от фронтовых ран многие Ивановы ровесники, вовсе состарилась мать убитого солдата. А все жила, все тянула свой век. Как знать, может быть, ожидание и хранило ее все эти долгие годы. Жила не для себя, для сына: неуж он вернется и не повидает мать?..
Теперь уже не каждый вечер, а только по большим праздникам — в День Победы и в день рождения Ивана — приходит Меримея Васильевна на автобусную остановку. И часами стоит под козырьком-навесом, терпеливая, древняя, как легенда, уже привычная для всех — в черной плюшевой жакетке, в черном же платке, навалившись плоской грудью на залощенную суковатую палку-батожок. Привычная всем, даже малым детям. Лишь новый приезжий из районного центра, почувствовав на себе пронзительный взгляд старухи, поспешно обойдет ее…
А в будни, меж этих праздников? Не раз замечал: смотрит Меримея Васильевна бессонными ночами на портрет сына, и скорбные ее губы в паутине морщин невнятно шепчут что-то. Все разговаривает с Ваней и никак не может наговориться…
И в ту ночь Меримея Васильевна долго не спала, ворочалась на лавке, вставала, выходила на крыльцо, возвращалась и снова ложилась. Из-за нее не спалось и мне. Слышу, опять поднялась. Я взял сигареты, пошел к ней. Старуха сидела, низко склонив голову к коленям. Колоколом взбугрилось платье на ее острых лопатках.
— Дак слушай про Ваню, — одышливо сказала она, продолжая свои думы. — Раз встал, дак слушай. Я вот тебе сейчас расскажу, и ты вспомнишь его. Махонький он был ишо, совсем махонький. Головенка белая — вылитый одуванчик. Не ходил ишо, а мы его уже на покос с собой возили. Дак вот, на покосе и было. Накормила я его это, уложила на телегу, и пошли мы с Федором грести. И тут послышалось будто бы мне — ревет Ванюшка. Подбегаю к телеге, а робенка нет. Попона отброшена, а робенка нет! Попоной-то укрывали его от мух. Я — в крик. Тут с граблями подоспел Федор, чо да как. А ты из кустов это выходишь, держишь Ванюшку на закорках и хохочешь. «Что, напужалась? Да я же пошутковал!» Тебя тогда Федор и огрел граблями за шутки за такие. Теперь-то ужо вспомнил?
Тяжело мне было слушать больную старуху, и я вышел на крыльцо покурить. Светало. Снизу от речки на огороды волнами накатывался знобкий туман. Над ним поникло зависли бахромистые шляпы подсолнухов. Как-то пугающе-неприятно резанул слух неуместный в тиши крик петуха. Красный, будто жар в загнетке, он разом обозначился среди нахохлившихся пестрых кур. Птицы тесно мостились на верхней пряслине ограды.
Когда я вернулся, Меримея Васильевна сидела все в той же позе. Ждала меня.
— Накурился, табакур? А Ваня в рот не брал. Ни к чему ему это зелье. И теперь не курит. Вон он, кисет-от, в комоде лежит. Подарили ему на войне, он и прислал домой…
Она умолкла, что-то припоминая, потом сказала:
— Верно, в комоде. Постой ужо, покажу. Все тебе покажу Ванино, но сперва карточки. Может, и вспомнишь…
Меримея Васильевна с трудом выдвинула ящик комода, долго шарила в нем, наконец вынула обрямканный по углам альбом. Из-под толстых матерчатых корочек торчали мятые фотографии. Многие из них, как и портрет на стене, уже выцвели.
— Тута ишо первый раз его снимали, — ткнула старуха черным негнущимся пальцем в фотографию, где еле просматривался круглоголовый карапуз в зыбке-качалке. — Верно, первый. Фотограф-то у нас был свой, деревенский, Семен Базлуков, вот он и снимал всех.
Старуха долго всматривалась в фотографию, то поднося ее к самым глазам, то отдаляя, в чем-то засомневалась, зашаркала носками на кухне. Сняла с гвоздика тусклые очки с тесемкой вместо дужек, склонившись к лампе, еще раз пристально вгляделась в фотографию.
И заговорила:
— Нет, спутала я тебя, не ты это. Семен тогда пошутковал на покосе, он спрятал от меня Ванюшку. Вот такохонький в те поры сынок-от и был. Семен-то ведь свояком нам приходился, сено наладился пособить убрать, ну и это… Царство ему небесное, в войну убило…
Она переложила несколько снимков, снова ткнула пальцем в один.
— А это уже в школе когда Ваня учился. Вишь, какой стройненький, ровно колосок…
На фотографии в рост стоял тоненький мальчик с ясными глазами и светлыми вьющимися волосами. На шее был повязан пионерский галстук, перехваченный по-тогдашнему металлической смычкой. Правая рука мальчика, тоже на тогдашний манер, лежала на узорчатой пирамидке.
— В пятом классе он тут, — уточнила Меримея Васильевна. — И здесь Семен снимал. Один он у нас был, фотограф-то.
Старуха подумала, напрягая память, опять отвлеклась:
— А этот аппарат-то — или как? — еще с той германской привез. Трофея, говорил. Дак вот, и снимал всех, пока не ушел на войну. Теперь-то вспомнил Ваню?
Меримея Васильевна по-настоящему разгневалась, когда я — в который раз! — начал объяснять… Резко перебила:
— Какой ты наяноватый, право, втемяшил — нет да нет! Неуж у тебя ум отшибло! Ну ишо смотри, пуще смотри, вспомнишь!
Она торопливо заперебирала трясущимися пальцами линялые, с блеклыми разводами фотоснимки, нашла нужный. Он лучше других сохранился, и на нем я без труда узнал Ваню. Здесь он уже юноша, но так же светловолос и тонок. Фотография групповая, Ваня — в центре, а по бокам и сзади такие же молодые парни и девушки. Врезка сбоку говорила, что ребята эти — выпускники Верхнеснегиревского лесотехникума. И дата: июль 1940 г.
— Неуж и теперь не вспомнил? — требовательно спросила старуха, выпрямляясь во весь свой высокий рост, глядя мне прямо в глаза. И столько упрека прозвучало в ее голосе, что я тоже встал и твердо сказал:
— Вспомнил. Я знаю твоего Ивана…
— Вот-вот, — обрадовалась Меримея Васильевна, — говорила, вспомнишь. Это хорошо, раз вспомнил. Шибко плохо, когда забывают… Тем же годом, в сороковом, он и ушел в армию. А тут — на тебе! — война… Писал мне письма. Да покажу ужо, про чо писал-то.
Она снова порылась в комоде, нашла перетянутую бельевой резинкой пачку писем. На ветхих теперь листочках самой что ни на есть подручной бумаги то простым карандашом, то химическим писал с фронта солдат торопливые послания матери. В каждом письме сын успокаивал ее, просил не беспокоиться, не переживать, сообщал, что жив и здоров, крепко бьет фашистских гадов и что после победы непременно вернется в родную Снегиревку. И хотя на всех письмах-треугольниках ответный адрес был однозначен и по-военному краток — такая-то полевая почта, — все же, внимательно вчитываясь в них, я угадывал фронтовые пути-дороги солдата: Киев, Брянск, Смоленск, Великие Луки, опять Смоленск, опять Киев, а дальше пошли заграничные города — Варшава, Познань, Франкфурт-на-Одере. Последнее — Зееловские высоты…
Разнокалиберные листочки были так зачитаны, что на сгибах перетерлись совсем и распадались от-легкого касания, и на многих, размывая строчки, темнели расплывчатые фиолетовые пятна…
И вот старуха подала мне еще одно письмо. Отдельно. Подала и ушла на кухню.
Его писал не Иван. Прочитал я раз, другой. Встал ближе к лампе, в третий раз перечитал. Нет, не то чтобы уж так сильно потрясло меня это письмо — подобных скорбно-убийственных писем матерям военной поры приходило великое множество, — просто я не знал, как поступить, что сказать в утешение. И надо ли говорить? Давно все отболелось, отплакалось, стушевалось за давностью лет… Но так думал я. Меримея Васильевна ждала на кухне моих слов.
— Ну дак прочитал, нет, чо молчишь? — спросила она глухо. И так же глухо попросила: — Прочитай ишо, чтобы я слышала.
И я с запавшим дыханием в четвертый раз стал читать письмо, написанное другой рукой:
«Уважаемая Меримея Васильевна! Как ни тяжело сообщать вам, но сообщаю. Ваш сын Иван Федорович Снегирев погиб смертью храбрых. Погиб в логове фашистского зверя, под самым Берлином. Последний для Вани бой был тяжелым, кровопролитным. Много полегло в том бою наших. Ваня командовал артиллерийским расчетом. Когда расчет перебило, он один стрелял из орудия. Сам видел, как накрыл его немецкий снаряд… Случилось это днем двенадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Похоронили его в братской могиле возле местечка Бухгольц на правом берегу реки Одер.
Мы клянемся отомстить гитлеровским извергам за Вашего сына и нашего боевого друга, клянемся отомстить за Ваши слезы, за всех матерей нашей Родины! Когда рассеивается пороховой дым, Берлин уже видно…
С письмом высылаю личные вещи Вани: записную книжку, комсомольский билет, боевые награды и часы фирмы «Мозер».
По поручению боевых товарищей — комсорг роты, старший сержант Николай Порошин».
И мы опять молчали, долго молчали. Снова свое урочное прогорланил красный петух в ограде, закудахтали, захлопали крыльями, слетая с насеста, куры. Старуха как бы очнулась, встала с лежанки, раздернула занавески на окне. Голубо упал ранний свет в дверной проем моей комнаты.
— Дак самовар раздувать, чо ли? — наконец подала голос Меримея Васильевна. — Светает уже.
Она говорила еще о чем-то отвлеченном, незлобиво поругивала кур, утайно кладущихся где попало, жаловалась на ломоту в пояснице, на плохие глаза, но я чувствовал: все ее мысли — о сыне, о роковой той минуте, когда Ивана накрыло снарядом. И вот будто проснулась, сказала, о чем думала:
— А опосля похоронку принесли. Эдакую гумажку желтенькую. Мол, убит мой Ваня там-то и там-то. Ну, как в письме…
Меримея Васильевна вдруг посуровела лицом, глянула на меня строго:
— Только я ни письму, ни похоронке той не верю.. Обманывают старуху. И ты не верь. Живой Ваня, ничо с ним не сделалось. Мало ли наговорят. Девки, дак те вон завидуют. Все выспрашивают: где да чо с ним. Он ведь у меня не то что жениться, невесту ишо не выбрал. Вот и зарятся. Нет, ничо с ним не стало, — убежденно повторила старуха. — Примета одна верная есть.
Меримея Васильевна еще раз подошла к комоду, еще раз надела тусклые, с выпуклыми стеклами очки, бережно достала, прикрыв черепашьими своими ладонями, какой-то искристо блеснувший мешочек… Это был вышитый бисером бархатный кисет. Конечно, тот самый, фронтовой подарок Ивану. Склонившись над столом, мучительно медленно развязывала непослушными пальцами шелковые его шнурочки и наконец извлекла большие карманные часы.
— Вот она, примета-то! — не то сказала, не то выдохнула Меримея Васильевна. — Они ведь идут, только завести надо. Тут ключик привязан. Заведи-ко.
Я взял из протянутых ее рук очень старые, с помятыми крышками часы, с усохшим скрученным ремешком, на конце которого болтался ключик-трубочка. Благородный металл от времени покрылся темным налетом. Осторожно надавил на головку. С легким щелком откинулась крышка. В свете настольной лампы ярко воссиял белый циферблат с золочеными римскими цифрами. Выше стрелок прочитал готическую вязь: «MOSER».
— Дак ты заведи, заведи их, они ведь идут, — нетерпеливо требовала старуха.
Я открыл крышку с другой стороны, нашел в корпусе отверстие, вставил ключ, легонько покрутил. Часы сразу так нежно-звонко затикали, что не было необходимости убеждаться в их исправности, подносить к уху. Бойко побежала по кругу секундная стрелка.
Наполовину утратившая зрение, Меримея Васильевна сохранила хороший слух и тоже услышала ход часов. Лицо ее вроде бы даже осветилось, и нечто подобное улыбке проступило на запавших губах.
— Слышь, идут! — произнесла она. — Вот знай, живой Ваня, не то бы не шли…
На внутренней части корпуса, изузоренного тонкой гравировкой, был означен и год выпуска часов — 1884-й. А мы с Меримеей Васильевной жили-пребывали в 1984-м. Бог ты мой, ведь это же ровно век! Что-то трагически-символичное почудилось мне в этом громадном временном отрезке…
— Дак вот чо я хочу сказать тебе, — прервала она мои раздумья. — Ты ведь кого-то все пишешь, пишешь. Не про одних, поди, воробушков. Взял бы да и написал про Ваню. Вон сколько бы народу узнало! Напиши-ко…
Меримея Васильевна помолчала, поглаживая на груди, словно волосы сына, мягкий бархат кисета, привычно подняла глаза на портрет. Губы ее опять шевельнулись. То ли советовалась с Ваней, то ли спрашивала что. И решила:
— А часы возьми себе. Все равно скоро помру, кто ждать-то станет? Они ведь у нас фамильные… — как великий секрет, сообщила Меримея Васильевна. — Тяти еще моего покойного, Василия Прокопьевича, были. После тяти муж Федор носил, а опосля, как помер, Ване достались. Гордился Ваня часами-то, все при себе держал. С ними и на войну ушел. И вот прислали ребятки…
Еще подумала, еще посмотрела на сына и добавила с надеждой:
— Вишь, как все складно выходит, ровно время-то из рук в руки передаем. И ты бери, раз даю. Не часы, фамиль нашу даю. Оно, время-то, ведь не остановишь, не указ оно никому, идет и идет своим чередом. Только память и остается. Ты ишо поживешь, может, и дождешься Ваню. А нет, дак сыну или кому там передашь. Лишь бы доброму, незабывчивому человеку. Они ведь хорошие, долго продюжат…
Никаких моих слов, никаких доводов не хватило убедить старуху взять часы обратно. Мне на минуту даже сделалось жутко: откажись я — и она умрет. Так велико было ее желание сохранить память о сыне.
…Пишу я этот рассказ, а на столе передо мной часы убитого солдата. Вечно юного парня в кубанке. И мнится уже мне, как и престарелой его матери, что, пока не остановится время, бессмертным будет имя каждого погибшего на священной войне.
СЕВЕРНЫЕ БЫЛИ
ПОСЛЕДНИЙ ШАМАН
Работал я на Северном Урале. Летом — с геологами, а зимой ходил с охотниками. Охотники там не такие, как в городе, охота для них — работа. Бывал я с ними на зимовьях, в местах промыслов.
Я расскажу о манси Мусии Турганове, старом суеверном человеке, с которым пришлось немало скоротать дней и ночей.
Охотились мы в верховьях Северной Сосьвы. С первым снегом уезжали на упряжке оленей, с двумя собаками.
…Олени легко тянут нарты по свежей неглубокой пороше. Мусия поет по-своему бесконечную песню. Поет про горы, про лес, про удачную охоту. Мерно покачиваются крупы оленей, болтаются, как у собак, парные языки, мелькают проворные ноги.
Мы сидим на нартах в малицах — одежде из оленьих шкур. Меня она стесняет — везде трет, жмет, руки и ноги будто связаны. Зато Мусия чувствует себя вполне нормально. Привычно погоняет оленей и все поет. Я знаю, чему радуется охотник: ему приятно видеть приволье родных лесов.
Вдали виден высокий мыс. Лесистая гора клином вдается в приречную долину. Быстро приближаемся к мысу, и я вижу на двух елях, как на столбах, темный лабаз — чамью. Недалеко от него к дереву приставлена лестница. Если ты голоден, нечем стрелять — лезь в лабаз, возьми что тебе надо. Но и сам оставь что-нибудь. Таков неписаный лесной закон.
Мусия останавливает оленей, достает из мешка муку, соль, табак, направляется к лабазу. Лезу за ним и я. На стенах висят беличьи шкурки, веревки, ремни для упряжки, пара новых нярок — легкой кожаной обуви. На полке стоит деревянное ведерко с мукой, бутылка с порохом. Мусия дополняет припас для кого-то на черный день и вырезает ножом на притолоке низкой двери знак. Теперь охотники будут знать, что здесь был Мусия и не нарушил лесного закона.
И опять качаются наши нарты. Временами, взметая снег, из прибрежных зарослей выбегают дикие олени. Они мало похожи на своих домашних сородичей — дымчато-сизые, подтянутые, стремительные. Собаки с визгом устремляются за ними.
— Гик! — кричит Мусия, и псы послушно возвращаются. Мяса нам пока не нужно, нарты загружены полностью.
Незаметно темнеет. Долго еще едем в сумерках. У Мусии нет часов, но всегда ровно в шесть он откидывает на спину капюшон малицы, оглядывается и объявляет:
— Пришла!
«Пришла» — значит приехали. Здесь ягельный участок, здесь будем ночевать. Мусия распрягает оленей, надевает на заиндевелые шеи ошейники с бубенцами, отпускает животных на волю. Они неторопливо уходят в стороны, хватая с веток свисающий мох, разбивая копытами снежные подушки.
Разводим большой костер, варим ужин. Потрескивают сучья в огне, свернувшись, прямо на снегу отдыхают собаки. Звезды млеют в туманном небе, мороз крепчает.
— Мусия, — спрашиваю я, — помнишь ли шаманов?
Старик потягивает трубку, задумчиво смотрит на костер.
— Как не помнить, помню. Шибко умный шаман был, с духами говорил… Бога-атый был. Стадо оленей имел, собольих мехов три лабаза…
Мусия выколачивает о толстый коричневый ноготь трубку и снова набивает ее табаком.
— Однако жадный шаман был. Когда умирал, велел все меха в могилу с собой положить, оленей привязать у могилы. Все и сложили, и оленей привязали…
— Как же он разговаривал с духами?
Это я спросил неспроста.
Мусия кладет в карман потухшую трубку, встает. Минуту смотрит на звезды, как бы к чему-то прислушивается. И вдруг кричит:
— Эге-ге-ге! Слышу тебя-а!
Пики огромных елей упираются в небо, тайга безмолвна. Лишь эхо от крика глухими отголосками летит по долине реки, перекликаясь, плутает по горам и замирает. Мусия поднимает руки и сначала медленно, затем быстрее начинает ходить вокруг костра, что-то нашептывая, приговаривая. Шире круг, снег клубами летит из-под ног. Колоколом вздулась малица, разметнулись седые косички. На ходу Мусия выхватывает из-за пазухи еще один ошейник с погремушками. Звон бубна, крики, улюлюканье переносят меня в те далекие времена, когда вот так же бесновались у костров шаманы, заклиная невзгоды, призывая на помощь духов. Растревоженные собаки вскакивают, снуют с места на место, скулят. Шаман подбегает к рослому псу, ловко хватает за загривок. В руке Мусии блеснул кривой нож!
— Бог жертву просит! Жертву… жертву… жертву…
Ночной лес страшными звуками отдает слова: «Тву, тву, тву».
Собака визжит, неистово рвется. Но Мусия силен, вскидывает ее над головой, ударяет ножом.
— Мусия! — в ужасе кричу я. — С ума спятил!
Но собака падает в снег невредимой. Шаман снова кружится, снова размахивает руками.
Снег вокруг костра сбит до земли, головешки, разбросанные ногами, шипят и гаснут. Шаман, бросив бубен, в изнеможении валится на хвою. Немного отдышавшись, говорит, будто слышал доброго духа. Много хороших слов он сказал. Хорошую охоту обещал, соболя обещал…
Благодарю Мусия за редкий концерт, говорю, что он как взаправдашний шаман. Охотник согласно кивает головой и неожиданно добавляет:
— Последний шаман…
После ужина ломаем лапник, сооружаем у костра постели. На морозе спит Мусия, как белый медведь на льдине. Деревья стреляют от стужи, а ему хоть бы что! Спина закуржавела, от лица, запрятанного в затянутый капюшон малицы, валит пар.
Я не могу уснуть. Часто греюсь чаем, подкладываю дрова в костер. И лишь днем в дороге, когда снова, покачиваясь, мчатся нарты, временами смыкаю глаза.
НА «РАССОЛАХ»
Мы шли по дальнему таежному маршруту. Через каждые пять-шесть километров останавливались, рыли неглубокие шурфы и брали образцы грунта.
И в этом месте хотели взять пробу, но неожиданно из тальниковых зарослей на середину быстрой горной речки ошалело выбежал лось. Постоял, загнанно раздувая ноздри, и тяжело побрел по реке, то и дело макая морду в воду и громко фыркая. Над ним звенящей тучей кружились оводы и слепни. Лось, отбиваясь от насекомых, взбрыкивал то одной, то другой задней ногой, запрокидывал на спину голову и вдруг, как подстегнутый, снова сорвался в карьер. Он так и не заметил нас, неподвижно стоящих на берегу, доскакал до бочага и шумно грохнулся в него, оставив на поверхности одну голову с корнистыми развилками рогов.
— Ай, как худо, ай, как тяжело сохатому! — сказал Мусия и так скривил лицо, точно не лося, а его донимал овод. — Пойдем, однако, пусть отдыхает…
Мы углубились в тайгу, обошли стороной измученное животное и опять вышли на берег. Река в этом месте была шире и мельче. Там и тут в русле лежали глыбистые, обкатанные, с баню величиной, валуны.
— Здесь сохатые лечатся, не надо им мешать. Надо быстро ходить отсюда, — опять заторопил Мусия, оглядываясь.
— Как лечатся?
— А так — нос полощут, купаются.
И старый охотник, работавший в летние месяцы у геологов проводником, стал рассказывать.
В жаркую пору лосей немилосердно одолевают оводы. Они и не только кусают их, а еще, что гораздо страшнее, откладывают в широкие, доступные для насекомых полости ноздрей яички, из которых впоследствии выходят личинки. Эти личинки мало того что сосут кровь — вырастая, забивают ноздри, и лосю становится трудно дышать.
Конечно, «прополаскивание» ноздрей вот таким путем, как это делал шедший по реке лось, приносит животным какое-то облегчение, но не избавляет от паразитов. А избавляются они так. Есть в тайге какие-то особые застарелые ямы с плесневелой, как бы щелочной водой. Уровень в них поддерживается слабыми родниками, которые, наверное, содержат минеральные соли, убивающие личинок овода. Еще дома, в поселке, Мусия рассказывал, что к этим ямам с целительной водой, к «рассолам», как он их называл, проложены настоящие лосиные дороги, что лоси приходят к ним издалека и собирается их у ям иногда до полутора десятков и больше.
Я напомнил об этом Мусии и попросил показать один из таких «рассолов».
Он находился в излучине реки. Обыкновенная яма с мутной, белесоватой, будто разбавленной известью водой. Когда-то с весны, видно, по берегам ее росла буйная осока, но теперь она была вся вытоптана копытами. И вообще все напоминало так хорошо знакомый водопой для скота: кругом следы, вырытая земля, лежки, обшарпанные деревья.
Вечером мы замаскировались и стали ждать. Вскоре из тайги с противоположного берега вышли один за другим семь лосей. С ними были и вихлястые длинноногие лосята. Животные пересекли реку цепочкой, ступая след в след (так ходить их приучил глубокий снег), поднялись на каменистый берег и по пробитой среди кустовья тропинке направились к яме. Лоси привычно, даже торопливо зашли в воду и дружно принялись взбалтывать ее ударами передних ног. Эти бухающие удары далеко разносились по вечернему лесу. А потом, когда вода была основательно перемешана с грязью, началось и вовсе смешное: животные по самые глаза запустили свои огромные горбоносые головы в воду, шумно, как насосом, втягивали через ноздри эту грязь и, вскинув голову и помедлив какое-то время, словно бы раздумывая, куда дальше плюнуть, громогласно чихали… Коричневая вода с ошметками грязи летела из ноздрей в две струи, точно из брандспойтов.
Вокруг ямы росли старые осины. Их стволы и нижние ветви были сплошь заляпаны уже засохшей и свежей грязью. «Прополаскивая» ноздри, лоси чихали и друг на дружку, от чего, видимо, получали еще большее удовольствие. Когда какой-нибудь возбужденный сохатый с плеском выбрасывал из воды голову, другие не сторонились, а, наоборот, старались придвинуться поближе.
Эти лечебные процедуры продолжались больше часа. Затем лоси один за другим вышли из ямы и разбрелись кормиться по прибрежной лужайке.
ПОДЗЕМНАЯ РЕКА
— Вставай! Скоро Ва́парам, там отдыхать будем. Долго отдыхать будем! — сказал Мусия, приспосабливая на плечи и на спину под рюкзак в несколько раз сложенный плащ.
Я достал блокнот, перечитал названия предстоящих остановок, записанных в поселке. Они мне ни о чем не говорили: Таракча, Мунья, Кизья, Вапарам, Бурнима, Ветца… Попробуй разберись, что это. Да и само название реки, по которой мы идем вот уже третий день, непонятно и загадочно, как фигурная зарубка на дереве, оставленная охотником манси, — Молмыс.
— А что такое Вапарам?
— Увидишь, — коротко ответил Мусия. — Однако пошли.
И мы пошли дальше. Снова, как вчера и позавчера, потянулись удивительно похожие одна на другую береговые лужайки с травой выше человеческого роста, отлогие мокрые запески на поворотах, изузоренные, будто вышитые куличьими следами, наклонные к реке, длинные и ровные, как добротно вымощенные мостовые, участки сплошной каменной плитки. Они, эти природные мостовые, без единой колдобины, кустика, радовали и поражали: ну кто же, в какие времена создал здесь такие дороги? Идти по ним было одно удовольствие — знай переставляй ноги! Для полноты воображения не хватало лишь стародавнего экипажа, громыхающего по булыжнику железными ободами колес.
Но «мостовые» по берегу небесконечны, их сменяли подступающие к самой воде ветровалы, сквозь которые без топора не пролезть. Мы поднимали на сапогах отвороты, спускались в реку и брели по ней, покуда было возможно.
В одном месте, срезав речную петлю, неожиданно вышли на чистый песчаный берег. Впереди мрачной громадой вздымалась отвесная известковая скала. Под нее широким разливом подтекал Молмыс.
— Вапарам, — сказал Мусия и сел на песок. — Теперь смотри, долго смотри, все увидишь…
Я снял рюкзак и направился к скале. Она оказалась на другом берегу. Под ней с глухим урчанием кружилась вспененная вода. Я бросил палку, она тоже закружилась, сначала тихо и широко, затем круги стали меньше, обороты быстрее. И тут я заметил в центре водоворота похожую на кратер воронку, в которую с бешеной скоростью уходила вода. Вблизи этой дьявольской горловины палка, будто намагниченная, стала подниматься торчмя и наконец завертелась вертикально, как веретено, медленно утопая. Минута — и палки нет!
Вот оно что — река уходит под землю, вероятно, в карстовые образования. «Вапарам», по-моему, означает «исчезла вода», а «вапетам», наоборот, — «появилась вода».
Я прошел по низкому берегу и заметил, что часть воды минует омут, скапливается в небольшой ложбинке. А выхода воды не вижу. Прислушался — что-то шуршит. Подошел ближе и увидел, как струйки воды, перебирая мелкую гальку, просачиваются в грунт. Они и шуршат.
Я наклонился и начал разгребать камешки рукой. И вдруг они все пришли в движение, зашевелились, как живые, и медленно потекли в образовавшуюся крохотную воронку. Я на всякий случай отступил, но в этот момент подо мной что-то тяжко вздохнуло, песок под ногами грузно просел, и меня повлекло вместе с ним в разом разверзшуюся полуметрового диаметра воронку.
Я плохо запомнил, как удирал от этой гибельной дыры, но очутился далеко на берегу и даже вскочил на валун.
После этого случая у меня не было особого желания обследовать подобные достопримечательности Молмыса…
Вечером Мусия отругал меня за излишнюю любознательность и в назидание рассказал такой случай.
Было это еще до войны. Пастухи-манси загнали оленей на ягельную гору, а сами спустились в долину к избушке. Ночью они слышали какой-то грохот, но ничего не поняли. А утром глянули и ахнули: горы как не бывало! На ее месте, словно после сокрушительного землетрясения, громоздились камни, обломанные деревья.
Недосчитались пастухи и нескольких оленей…
Больше семи километров течет Молмыс под землей. Но весной, во время паводка, система подземных протоков не вмещает всю массу воды, и часть ее идет поверху. Только река тут становится у́же, мельче, течение ослабевает. Летом, когда спадает большая вода, временное русло пересыхает — оно очень заметное, все усыпанное галечником, — и его называют Сухим плесом. На каком-то участке Сухого плеса я лег на каменную плиту, приник к ней ухом, и до слуха донесся отдаленный рокот пробивающейся в подземелье воды.
— Теперь узнал, что такое Вапарам? — спросил Мусия и хитро прищурился. — Узнаешь и Вапетам. Еще немного идти осталось.
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ТАЙМЕНЬ
Шли мы уже пятые сутки. Продукты наши кончались. На одном из привалов мы поняли, что до конца пути их не хватит. И не потому, что просчитались, просто невозможно было унести на себе так много. Мы несли еще и тяжелый рабочий инструмент.
— Ладно, — сказал Мусия, сосчитав разложенные на траве последние брикеты крупяных концентратов. — Каши нет — рыба есть. Много рыбы! Давай делать «мышь».
Мы связали мягкой медной проволокой две легкие бутылочные пробки, затем, аккуратно обтянули их шкуркой от старого воротника, пришили хвостик. В петельки, оставленные на проволоке, вдели два крепких крючка-тройника. Получилась очень похожая на настоящую мышь приманка для тайменей. Ее мы и подцепили вместо блесны к спиннинговой леске.
— А почему обязательно мышь на приманку, а не рыбку какую? — спросил я.
— Можно и рыбку, только мышь лучше. Мышь ночью туда-сюда по речке гуляет, паршук ловит ее.
Паршуком Мусия называл тайменя, об этом я знал. А вот почему мыши «туда-сюда по речке гуляют» — не имел представления.
— Да какие же могут быть мыши в воде? — удивился я.
— Голова у тебя есть? Пошто не думает? — рассердился Мусия. — Ma-аленькие, вот такие мышки! Плавают они ночью у берега, комариков разных собирают.
Не в тот вечер, а позднее я убедился в этом. Я стоял в русле на плоском надводном камне и удил под перекатом мелких хариусов. Было уже темно. В черной, как бы маслянистой воде отшлифованная поверхность камня казалась белой. Вдруг возле самых моих ног кто-то бойко прошмыгнул — и бульк в воду! Я присел на корточки и увидел в тихой заводи, на мелководье, плавающих между камнями мышек. Я очень удивился и подумал, что это какие-то особые мышки. Но когда поймал одну, узнал в ней самую обыкновенную землеройку, с голыми розовыми лапками и длинным усатым хоботком.
Мышь наша была готова. Оставалось попрактиковаться с нею и дождаться вечера.
Не простое дело — приспособиться к легкой, по сравнению с блесной, а потому непривычной для руки мыши. А бросать придется и ночью, ориентируясь только по звуку, на удар тайменя. Таймень, в отличие от других хищных рыб, прежде чем заглотить добычу, глушит ее хвостом. Вот когда он шлепнет по воде, тут в самый раз подпускать приманку.
Долго у меня не получались забросы, мышь летела куда угодно, только не на цель, и Мусия от досады изводился на берегу:
— Ай, не умеешь, ай, нехорошо! Так всех паршуков разгонишь!
Но вот мало-помалу я приловчился. А когда пробки намокли, стали тяжелее, вовсе на лад пошло дело.
— Ладно, — сказал Мусия. — Теперь айда на борозду.
«Бороздой» по-местному называется продольное углубление в русле. В ней обычно и держатся таймени. Одну такую борозду мы заприметили еще днем и сейчас направились к ней. Речка в этом месте делает плавный поворот. Вода подточила противоположный крутой берег, образовав длинную, метров в двадцать, промоину.
Было еще рановато, мы присели на камни. Солнце склонилось к горизонту и, запутавшись в верхушках деревьев, высветило реку поперек розовыми полосами. Тихо стало. Только ныли надоедливые комары.
И вдруг — бух! Гулкое эхо покатилось по извилистому коридору реки. Мусия повелительно простер руку в сторону расходящихся кругов.
Я взмахнул удилищем — и, конечно же, промахнулся! Мышь, описав пологую дугу, шлепнулась на прибрежный галечник.
— Ай, нехорошо! — укоризненно сказал Мусия. — Зачем учился?
Мы опять сели. И в ту же секунду в самом конце борозды снова раздался удар, подобный выстрелу. Меня аж подбросило! Мусия строго глянул: сиди, мол!
Вскоре еще раз бухнуло на реке, и опять Мусия посмотрел на меня строго.
«Ждет, когда ударит поближе, чтобы бросить наверняка». Едва я об этом подумал, как у самого берега с потрясающим плеском, с брызгами вылетела на поверхность огромная красноперая рыбина, изогнулась в воздухе да так треснула по воде своим оранжевым в четыре ладони хвостищем, будто рядом обрушился пятипудовый камень!
Я плохо владел собой от великого волнения и потому, наверно, опять позорнейше промахнулся. Но еще до того, как мышь коснулась воды, что-то подсказало, что не надо торопиться, надо медленно и спокойно выводить приманку к берегу. Ведь не один же таймень в этой борозде.
Мышь, острым углом разрезая воду, пересекая солнечные полоски, приближалась ко мне. И тут я увидел, как что-то большое, стремительное, взвинчивая бурунами воду, ринулось за приманкой. Миг — и над мышью, в каскаде сверкающих брызг, радужным призраком расцвел все тот же оранжевый хвост!
Удар был настолько силен, что я еле удержал спиннинг. Как и следовало, отпустил после этого леску. Мышь свободно понесло течением, будто оглушенную. Снова вздыбилась вода, на поверхности показалась тупорылая, матово-сизая приплюснутая башка, похожая на головешку, и тотчас последовал мощный рывок, едва не сваливший меня с ног! Таймень взял приманку.
Наколовшись на крючки, хищник попробовал выплюнуть мышь. Не получилось! Поволок куда-то в сторону, но, почувствовав сопротивление, дал такую свечку, что вылетел из воды на добрых полтора метра. И пошел таскать! Притормаживая стремительно раскручивающуюся катушку и как бы подчиняясь той дьявольской силе, какая рвала из рук удилище и стаскивала в реку, я забежал в воду. Предельно натянутая леска звенела, как стальная. Самое главное теперь — не дать разбушевавшемуся тайменю выбрать всю леску, иначе запутает за камни, оборвет!
В ушах словно вата — плохо слышу за спиной возбужденный голос Мусии:
— Попался паршук! Ослабь, пусть пляшет!
Я еще, сколько позволяла длина, отпустил леску, но вовсе не оттого, что слушал Мусию, — не мог удержать тайменя. А он и вправду заплясал. Несколько раз метровая белобрюхая рыбина с горящими алыми плавниками выбрасывалась из воды, сверкая чешуей, перевертывалась и с грохотом падала назад. Пытаясь освободиться от крючков, кидалась и вправо, и влево, ходила кругами или вдруг останавливалась и стояла мертво, точно привязанная. Много раз я подводил к берегу непокорного великана и каждый раз вынужден был стравливать леску, как только он поворачивал обратно.
Но всему бывает конец. Устал и таймень. Тяжелого, обессилевшего я завел его наконец между камней, и Мусия подхватил его под жабры…
А потом мы долго сидели возле него и не могли насмотреться. Темно-бурая, почти черная окраска спины плавно переходила в зелено-оливковый тон на боках. По всему телу, от головы до хвоста, вспыхивали и гасли, как звездочки, разноцветные крапинки.
На воздухе таймень скоро уснул, и яркость его померкла. Теперь он стал просто рыбой. Отгорел, как мак, во всю силу живой красоты и потух. Я повернул его — и поразился еще больше: бок, на котором таймень лежал, поблек, выцвел до белизны, и на нем отпечатались черным следы от травинок. И только под могучим, по-прежнему прекрасным огненно-розовым плавником, в самой пазухе, все еще жила, мерцая, последняя золотистая звездочка.
— Уснул, — сказал я.
— Уснул, — задумчиво подтвердил Мусия. — Самый красивый таймень уснул, — сказал он, почему-то назвав его правильно.
СЫН УРМАНА
За поселком, на огражденной высоким забором поляне, жил двухгодовалый полуручной медведь. Толстая короткая цепь не давала ему воли, и он чаще лежал, лениво полизывая эту цепь, или с тоской поглядывал сквозь щели городьбы на темневший за ней лес. Совсем маленьким, не больше варежки-шу́бенки, взяли его охотники от убитой на берлоге медведицы и, выкормив, определили для жительства в бывшем загоне.
Медведя держали для притравки собак. Со всей округи съезжались сюда охотники. Они подпускали собак к медведю, и тогда начиналось несусветное: при виде зверя собаки задыхались от лая, рвались с ремней и норовили заесть мишку до смерти.
Бывал здесь и Мусия. Сам «притравливался» втихомолку. Смотрел на лохматое медвежье брюхо, на отросшие в неволе когти и мысленно вступал в единоборство. Вот он взмахивает ружьем над раненым зверем, тот вздымается на дыбы, но в этот миг Мусия смело кидается под него и бьет ножом…
Много раз Мусия встречался с медведем и всегда выходил победителем. И все же чем шайтан не шутит…
Промышлял он тогда в верховьях Тапсуя, что впадает в Северную Сосьву. Леса там глухие, люди бывают редко. Благодатное приволье и белке, и кунице, и всякому другому зверю. Мусия облюбовал эти места и отправился на промысел рано, задолго до снега, чтобы загодя обследовать участок и до морозов срубить зимовье.
До Шамахиного лога, где охотник предполагает поставить избушку, дней пять дороги. Не так далеко, но идти приходится долинами ручьев и речушек, которые не всегда по пути. А иначе не пройти и не проехать. В урмане с непролазными завалами и болотами за сотню верст не услышишь лая собаки, не увидишь дымка костра.
Упряжка оленей тащит груженые нарты прямо по траве. Идет Мусия больше утром и вечером, когда травы покрыты росой или инеем — по мокрому легче, — и, где надо, помогает оленям.
Впереди весело бежит Янтус — проворная, виды видавшая лайка. Мусия уже забыл, который сезон отправляется на промысел с ней. Всякое случалось на охоте: как-то, азартно преследуя верховую куницу, Янтус провалился к медведю в берлогу, но не дался зверю, расшевелил его и выскочил. Недаром Янтуса считают в поселке самым отчаянным медвежатником.
И оттого, видно, что верный помощник еще бодр и неутомим, оттого, что олени резко тянут санки и взошедшее солнце рассыпало в травах огнистые зерна, Мусия откидывает на спину колпак суконной малицы, сует за пазуху трубку и поет, поет, о чем думает:
Это не роса сверкает в траве — Кедровые орехи. Они сыплются с кедров Шаманихиного лога. Там много кедра и много орехов. Они указывают дорогу удачливому Охотнику Мусии и белке — тоже. Со всего урмана торопится белка В Шаманихин лог — там орехи, Со всего урмана торопится соболь В Шаманихин лог — там белка…Третья ночь застала Мусию на берегу неширокой речки, у подножия горы Сип-Курым. Давно, в детстве еще, приходил он сюда с отцом белковать. Да только беда случилась: прыгнул отец неловко с камня и сломал ногу. Много дней Мусия тащил его к родному паулю и с той поры не бывал у худой горы…
Гора высокая, склоны густо покрыты пихтарником да кедрачом, а вершина голая, каменистая. Кто знает, лес ли когда выгорел на вершине, или его совсем не было, только ветер успел сдуть оттуда всю землю и оставил одни камни. Камней много — они раскатаны порознь и навалены один на другой, стоят торчмя, как столбы, и лежат плашмя, как поверженные идолы. Если внимательно и долго на них смотреть, разное может показаться — и отдыхающие олени, и медведь на дыбах, и угрюмая старуха со сложенными на груди руками. Мусии и всем, кто здесь бывает, чаще всего мерещится каменная старуха.
Не любит Мусия эту гору за память старую и всякие наваждения, а миновать ее — никак не минуешь. Стоит она на таком месте, что волей-неволей сделаешь остановку: тут половина пути, тут вода, тут когда-то стоял чум отца. А бывшую стоянку в тайге, тем более родителя, обходить вовсе не полагается. К тому же луга по реке сплошь выстланы ягелем. Олени не пойдут отсюда, пока не наедятся.
Мусия стоял впереди упряжки и думал, прищуренно глядя на неприветливые каменные гольцы, идти ли ему дальше или остаться здесь. Попробовал, потянул оленей — не переступят!
Выколотил о ноготь трубку и решил: «Ладно, пускай олешки едят, дорога еще не ближняя, а от каменной старухи бог оборонит…»
Распряг оленей, отпустил на мшаник, а сам пошел берегом посмотреть, не сохранилась ли чамья, построенная отцом в те давние времена. Ноги глубоко продавливают пышную, как медвежий мех, моховину. Мусия шагает осторожно, будто скрадывает зверя. Впереди прыжками бежит, тоже погружаясь по брюхо в мох, Янтус.
Вот и конец угористого берегового лужка, отсюда круто начинается подъем на Сип-Курым. Где-то там, по правую руку от речки, должен быть большой, горбато выперший из земли камень, а за камнем, если пойти на вечернее солнце, выйдешь на чамью. Она стоит на двух спиленных до половины, гладко обтесанных елях.
До звезд проходил Мусия, а чамьи не нашел. «Сгнила, упала», — рассуждал он вслух и посматривал на Янтуса: может, стар Мусия стал, не видит чамью, может, собака увидит? А надо бы найти, крышу бы новую настлал, подладил бы стены и оставил в чамье муку и запасную одежду. Все меньше везти. А зимой, по снегу, взад-вперед за один день поспеешь.
И еще Мусия искал бы чамью, да откуда-то накатились тучи, поднялся ветер. Запоскрипывали кедры, в камнях на горе вдруг кто-то протяжно аукнул.
«Однако худое место, к олешкам надо», — забеспокоился Мусия и позвал Янтуса.
Оленей на ягале не оказалось. Походил Мусия по берегу, покричал, побренчал в темноту ошейниками с колокольчиками да с тем и стал разжигать огонь. Поел сушеной рыбы, попил крепкого чаю. Пока ел и пил чай, все прислушивался. Нет, не фыркают олешки, только ветер гудит в деревьях да аукает на горе каменная старуха.
«Шибко нехорошее место выбрал, старый дурак!» — обругал себя Мусия и, раскинув у костра оленью шкуру, стал укладываться спать.
Не пришли олени и утром. Вовсе забеспокоился Мусия, обмотал вокруг себя длинный аркан, взял ружье и отправился на поиски. Облазили они с Янтусом все окрестные болотины, все моховики по безлесным плешинам гор — нет оленей!
Уставший и вконец расстроенный Мусия опустился на поваленную ель и сокрушенно сказал собаке:
— Худо дело, Янтус, худо…
Неосмотренным осталось еще одно болотце за ржавой курьей. По камням они перебрались через речку, обогнули курью и услышали сиплую трескотню соек. Собака привстала, настороженно навострила уши. Остановился и Мусия. Сойки, как и сороки, зря орать не будут. Бессильная злоба подступила к горлу, и Мусия, подняв над головой ружье, устрашающе прошептал:
— У-у, шайтан проклятый, моих олешек клевать хотел! Подавишься моими олешками!
Подозвал собаку и приказал:
— Сиди здесь, не ходи дальше. Дальше одному мне надо ходить. Беда догнала нас, карауль беду!
Сойки всполошно взлетали и, недовольно переругиваясь, расселись по елкам. Мусия пробрался в заросли тальника, раздвинул ветки и… Под кучей мха и травы вздымался выглоданный бок оленя.
Мусия сразу понял: работа медведя. Понял и то, что два остальных оленя, напуганные, убежали в тайгу. Поздно или рано они все равно попадут в лапы зверю. А без олешек — шабаш, на себе не потащишь нарты. Надо возвращаться домой.
Но прежде чем возвращаться, Мусия покарает лиходея. Он притащит его вонючую шкуру каменной старухе и скажет: «Вот тебе медведь. Он убил моего оленя, я убил его. Возьми шкуру и пропусти меня в Шаманихин лог».
Погода к вечеру стала выправляться. Ветер стих, на речке заплескал хариус. В пелене низких туч проглянул краешек багрового закатного солнца. Мусия сидел на нартах и обдумывал план нежданной охоты. Хоть и ловок, хоть и удачлив он, а придется сойтись с могучим зверем один на один и ночью. Ни разу не плошал Мусия, а оплошаешь — пропадешь…
Он припоминал былые охоты на медведя. Сколько их взял за свою жизнь? Много!.. Хоть и говорят, сороковой зверь — роковой, не считал. Был, однако, шибко нехороший медведь, едва-едва волосы с головы вместе с кожей не содрал. Не тот ли был сороковой?
Сопровождал тогда Мусия по тайге двух геологов. Геологи часто останавливались, рыли ямки, собирали разные камешки.
Выбрали раз для ночлега высокий, обрывистый берег на речке Кизья. Когда высоко, меньше мошкары. Место совсем без земли, выложенное большими камнями, а на камнях — толстое моховое покрывало. И по всему покрывалу — сплошная вызревшая черника. Так много, что можно брать горстью. «Послать надо утром женщин», — пошутил один геолог, и все засмеялись: до первого поселка было больше двухсот километров…
Геологи пошли рубить сухостоины для костра, а Мусия, оставив ружье, с котелками спустился по узкой сыпучей тропе к реке за водой. Смекнул, конечно, чья тропа: на чернижнике видел свежие медвежьи наброды. Но никак не подумал, что осторожный зверь не убрался подальше, заслышав приближение людей.
Набрал воды и, как по лестнице, с камешка на камешек стал подниматься. А сверху на него — медведь. Увидел Мусию, да поздно. Растопырил все четыре лапы, тормозит, а остановиться не может, едет юзом. Никогда так не терялся Мусия, как в тот раз. Не то что ружья — палки в руках нет. Закричал что есть мочи: «Убирайся, шайтан, мне не надо тебя убивать, ты не трогай меня!» Отпрянул, насколько мог, в сторону, запустил в медведя котелками с водой…
Потом геологи покатывались со смеху, предлагали Мусии самый крепкий чай с конфетами. А ему было не смешно и чаю не хотелось…
С той встречи и стал Мусия подумывать о сороковом медведе: был он у него или еще впереди? И не этот ли, задравший оленей?
«Нехорошо думаешь, — прервал воспоминания Мусия. — Надо соображать, как отомстить за олешек, покарать лиходея».
Но как его взять? Лабаз построить — всего надежнее. Нет, нельзя. Деревья там низкие и много натопчешь. Подождать на краю болотца — опять с какой стороны пойдет?
И собака. Куда собаку девать?
Янтус сидел по ту сторону костра, и казалось, сам думал, как быть. Языки пламени лизали трескучий сушняк, искрящимися крыльями веяли в темноте. Огонь то ярко, то слабо доносил трепетный свет до кромки леса. Совсем тихо стало. Ни ветра, ни ауканья на горе. Только изредка плещет на быстрине хариус, будто кто бросает в воду поленья.
Мусия сунул в карман потухшую трубку, повернулся к Янтусу:
— Сиди один. Не вой, не скули. Тебе нельзя со мной за медведем. Ты не будешь ходить тихо, медведь услышит нас, убежит.
Он подошел к собаке, надел ошейник и привязал к нартам. Первый раз Мусия отказывался от испытанного четвероногого помощника, и, наверное, поэтому, когда привязывал, что-то тяжкое подкатывало к сердцу и слабли руки. Он отвернулся, не смотрел на собаку. И собака не смотрела на хозяина, неожиданно легко смирилась, легла, уткнула морду в лапы.
Все было готово. С ружья снят ремень, по прицельной рейке приклеена белая полоска бумаги, чтобы вернее целиться в темноте. Шесть увесистых патронов с пулями положены в открытый карман, острый нож — в ножнах, топор — за поясом.
— Не скули! — строго повторил Мусия и скрылся в ночи.
Перебрался по камням через речку, вышел к курье. Разулся. Холодно босиком, зато бесшумно. Каждую травинку, каждый сучочек голой ступней прощупаешь.
Вот и болотина. Ноги свело ледяной водой. Да и всего знобит, колотит мелкой дрожью. «Неуж Мусия испугался медведя? Нет, он не трус! Пускай медведь дрожит, это за ним идет Мусия!» Прокрался в заросли тальника, огляделся.
Вправо и влево кусты разбегаются полукругом, впереди — широкая прогалина. Под ивой, метрах в пятнадцати, — труп оленя.
Над болотцем слабо светится туман, но он только мешает смотреть. Все расплылось в неясных очертаниях. Стынут ноги, зябнет спина. Так бы и встал, убрался с миром восвояси…
«Бурундук трусливый!» — ругает себя шепотом Мусия и крепче сжимает ружье.
Час проходит — нет медведя. Два проходит — полночь. Начали подмывать сомнения: «Унюхал, шайтан, залег».
Но вдруг до слуха донесся отдаленный шорох, бульканье воды. Звуки с каждой секундой приближались, и вот совсем отчетливо стало слышно, как кто-то расталкивает упругие ветки тальника. Он!
Тучи расступились, и между ними пролезла бледная луна. Над мертвенно освещенными пластами тумана, будто островки, всплыли разлохмаченные верхушки ив. У ближнего куста сугорбо замер медведь.
Но его плохо видно. Угадать бы в бок, под лопатку… Промелькнул в памяти полуручной зверь в загоне, его грязное брюхо, вершковые когти…
Белая планка легла на цель. Оглушительно грохнул дуплет. Медведь подорванно рявкнул и рухнул в куст. Мусия спешно открывает дымящееся ружье. Но что это? Шарнир как припаянный! Старый латунный патрон разорвало, стволы заклинились. А зверь с неожиданной легкостью вскакивает и, потрясая ночь злобным ревом, мчится на охотника…
Обламывая ногти, Мусия лихорадочно рвет засевший патрон. Поздно! Раненый хищник в пяти шагах. Вздымается всей тушей, пытаясь схватить брошенное над ним ружье. С вытянутым вперед ножом Мусия стремительно кидается под ноги зверю. И тут же его придавливает, втискивает меж кочек многопудовая тяжесть…
…Когда Мусия очнулся, не сразу сообразил, что происходит. Медведь, как привязанный, сидел и беспорядочно махал лапами. Вокруг него метелицей кружился другой какой-то зверь. Да ведь это же Янтус! С храпом отплевывается шерстью, нападая то с боков, то сзади. И вот повисает на загривке зверя. Медведь трясет лобастой башкой, валится. Но поединок еще не окончен, тяжелый зверь вот-вот придавит забывшуюся в ярости собаку, сомнет, разорвет, как тряпку.
И только тут Мусия окончательно пришел в себя, схватил лежащий под ним топор…
Луна будто только для того и появилась, чтоб подглядеть ночной поединок. Опять скрылась в тучах, и опять на тайгу нахлобучилась выморочная тьма. Мусия сел на мягкую теплую тушу, подобрал под себя онемевшие ноги. Но озноба уже не чувствовал. И страха тоже. Подозвал Янтуса. Прощупал всего, отвязал с ошейника обрывок веревки. И вдруг прижал собаку к груди, принялся торопливо и неумело целовать в лоб, в глаза, в мокрую мочку носа.
— Эко, старый дурак, не поверил Янтусу! Разве можно тебе не верить! — горячо шептал Мусия, тиская собаку в объятиях.
Он еще посидел немного, всем телом ощущая тепло туши, а затем резко встал, приложил ко рту ладони и прокричал в сторону горы:
— Слушай, каменная старуха! Я, сын урмана, убил твоего медведя. Я брошу к твоим ногам его шкуру!
— У-у-у… — откликнулось далекое эхо.
ОСТАНОВКИ В ПУТИ
Этюды? Маленькие рассказы? Миниатюры? Право, не знаю, как и назвать их, к какому отнести жанру. Это — своеобразные остановки в пути, мгновения жизни, взволновавшие тебя однажды, остановившие, заставившие думать. И пишутся они как бы с натуры, сразу, не откладывая.
АвторСОСНА
За деревней, на пологом холме среди ржи, стояла сосна. Высокая, прямая, что тот дуб, о котором поется в песне. В комле эту сосну и три богатыря, взявшись за руки, не обхватят. И старая была — никто не помнил ее иной, поменьше, потоньше.
Ствол у сосны снизу был серо-бурый, опаленный солнцем. Кора — хоть челн из нее вырубай, такая крепкая да толстая. И обглажена, залощена вся: тут и коровы терлись, и лошадей мужики привязывали, а то и просто прохожий топор свой бездумно всаживал в ствол. Но только крепче от этого становилась сосна, янтарной живицей затягивала раны, на месте сбитой, обшарканной коры бородавчато нарастала новая. А выше бурой толстой коры ствол начинался гладкий, изжелта-красный, будто полированный, и блестел на закатном солнце чищеной медью.
Ветки у сосны сохранились лишь на самой макушке — густые, курчавые. Они как шапка, как колпак над сосной, сквозь них и неба не видно. Когда с полей дул холодный, порывистый ветер, дерево глухо роптало на свою старость, выгибая, точно спину, занывшую перед непогодой, еще могучий, полный упругости ствол. И тихонько, будто на губных гармошках, пело, шелестя пленками отставшей у вершины коры, когда над хлебами струились пахучие воздушные течения.
Далеко было видно сосну. Возвышалась она на холме среди ржи, как маяк. Пашет ли поле тракторист — прокладывает борозду к сосне, летит ли птица над полем — к сосне воротит. А для путников она стала вехой, каким-то непреложным мерилом расстояний. Так и говорят: «До сосны дойдешь, а там до деревни — рукой подать». Или, выйдя наизволок, с облегчением вздохнут: «А вон уж и сосну видно…»
Полевая дорога пролегала как раз по холму, и люди часто сворачивали к сосне отдохнуть. К ней приходили и просто так, посидеть, посмотреть на поля. Все, от мала до велика, в округе знали старое дерево, оно всегда было на виду, и оттого, что всегда было на виду, на него словно бы и не обращали внимания.
И я давно, пожалуй, с той поры, как стал смотреть по сторонам, и мало-мальски осмысливать мир, помнил эту одинокую сосну и тоже до того привык к ней, что попросту перестал замечать. Она была чем-то родственно-неотделимым от наших полей и деревни, от всего того, что окружало здешних жителей, и казалась для всех вечным явлением, как небо и солнце.
А однажды вышел в поля и почувствовал, что чего-то не хватает. И деревня вроде бы на месте, и дорога, окаймленная хлопушками да васильками, все та же, и жаворонки по-вчерашнему сыплют в хлеба серебристые трели, а что-то ушло, изменилось. Глянул на холм — нет сосны. Бабка Федора, ковылявшая по дороге, сказала, что ночью спилили ее бензопилой — иная не брала.
Я вернулся в деревню и рассказал об этом мужикам. И хотя мужикам было некогда, они все же пошли со мной за околицу и меж собой стали ругать того человека, который спилил сосну. Они называли его вредителем.
А вскоре все в деревне узнали, что это дерево спилили. И повалили на холм к пеньку бабы и ребятишки, старухи и старики. Приплелся даже на деревянной ноге колхозный конюх Никифор.
И вот интересно: все спохватились тогда, когда дерева не стало. Крепко же, видать, привыкли к нему, коль спохватились после того, как ушло из жизни это привычное. Так еще привыкают к монотонному стуку ходиков в избе и неожиданно вспоминают о них, когда ходики останавливаются.
Пишу я это сейчас и сравниваю нашу людскую жизнь. Живет, живет человек, делает, делает свое незаметное дело и за этим повседневным делом как-то сам остается незаметным. Но все мы смертны, наступит час — и человек уходит от нас. И вот когда не станет его, все разом спохватятся, понесут тревожную молву, и заговорят о нем, и хвалить начнут — все вместе и… после времени…
ХМЕЛЬ
Растет же такая диковинка — длиннющая, как шпагатина, гибкая, как змея, да еще и с запахом, прямо не выскажешь каким. Это — хмель. Бывает, сядешь на бережок у реки удить рыбу, не посмотришь, что тут хмеля полно, нанюхаешься его — и на всю ночь разболится голова. Это особенно тогда, когда хмель цветет.
Но я не об этом. Один хмель, сам по себе, как, например, лабазник или другая какая трава, нигде не растет. Он обязательно там, где мелкие деревья, кустарники. Да погуще где. Чаще селится по берегам речек, в черемушниках, ольшаниках, смородинниках. От деревьев, от тесноты он ни на шаг. Потому что без них хмелю не прожить. Так и вьется вокруг деревьев, так и путает без того спутанные ветви и все вверх, вверх лезет. Тоже к солнышку охота, даром что сам ни на что не похож. И правда, какая уж такая персона, чем он больше других заслужил солнца? Черемухи — те хоть сами отвоевывают себе право на жизнь, гибнут от тесноты, к свету выбиваются лишь сильнейшие. А хмель — нет, он не из таких, чтобы бороться. Он лучше потихоньку, без драки. Проклюнется росток из сырого подзолья — и пошел дурить! Растет не по дням, а по часам. И откуда только прет из него такая силища? Все вокруг ствола да вокруг ствола — там свободнее. Обовьется, как спрут, обтянется, как крученая веревка, и тут уж его не отдерешь. За неделю вымахает выше своего покровителя. И тогда начинает распускать листья. Сам тощий-претощий, а листья — что у чертополоха: широкие, на три языка разделенные. Это для того, чтобы испить больше солнца.
Как только окрепнет, разрастется нахальный хмеленок, сразу же начинает пускать побеги — этакие цепкие завитушки, все равно что щупальца у того же спрута. Глядишь — и хмель уже живет господином на черемухе, греет на солнце свои рыжие, дурно пахнущие мутовки и новые щупальца протягивает к соседним деревьям.
Но случись такое, что упадет черемуха, и хмеля как не бывало. Тут же загибнет, как беспомощный пасынок.
Не люблю я за это ни хмель, ни ему подобных вьюнов. И на балкон за это не высаживаю. Потому что один, без подпорок, жить он не может. А дело ли это — всю жизнь за других держаться?
ВЕТКА ЧЕРЕМУХИ
Однажды поздно вечером я пробирался густой уремой лесной речки. Никак не мог найти тропинку, на которой час назад оставил рюкзак, закрытый на случай дождя полиэтиленовой пленкой. Раздвигал руками упругие ветки черемух с гирляндами зелено-бурых, твердых, как горох, дозревающих ягод, обшаривал глазами мрачные проходы под лиственной завесью, надеясь увидеть белую, а потому заметную в темноте пленку.
И наконец увидел.
Но каково же было мое удивление, когда, подойдя ближе, обнаружил, что это вовсе не пленка, а буйно цветущая ветвь черемухи. Это в конце июля-то! И сразу, заглушая вокруг все запахи, сладостно потянуло ее весенним ароматом.
Я присел на корточки, стал рассматривать дивную ветвь. Что же случилось с ней, почему с таким опозданием зацвела? И понял: давно еще, зимой, видно, прошел этим местом сохатый, наступил в глубоком снегу на развилку деревца и сломал. То ответвление, что осталось нетронутым, весной распустилось, отцвело положенное под майским солнцем и теперь спело ягодами. А отломленный стволик долго хворал, лежа на сырой, скрытой от солнца земле, и погиб бы, может, совсем, но сила жизни взяла свое. По узкому лоскуту уцелевшей на сломе коры поверженная ветвь капля по капле пила земной сок и медленно поправлялась. К середине лета кора ее обрела прежний влажный оттенок, набухли почки.
И ветвь, исполняя непреложный закон бытия, зацвела. Зацвела торопливо и бесшабашно, напрягая всю силу больного тела. Розовой пеной покрылся излом, сок проливался на землю, а ветвь цвела.
Тут я поверил, что эта черемуха будет жить. Отцветет свое, пустит новые корни и встанет в ряд с подругами. А пока я помог ей — выломал вокруг бесполезно разросшийся и скрадывающий свет ольшаник.
ГРОЗА
Мы проснулись от грохота. Где-то в преисподней зародился и, нарастая, покатился по небу гул. Он тяжелел, ширился и вдруг грянул над самым лесом оглушительно и многоголосо. Тотчас по скатам палатки забарабанил отвесный дождь.
— Что это? — испуганно спросила Галина.
— Гроза, — сказал я. — Хорошая гроза!
По упруго натянувшемуся полотнищу бесновато метались желтые отсветы молний, напряженно гудел под проливным дождем лес. В глубоком логу, за палаткой, ожил, запел бурливый ручей.
Я с детства люблю грозу. Люблю неукротимое буйство ливней, ветвистые вспышки молний, громовые раскаты, сотрясающие землю. Помню, как однажды во время грозы молния рубанула по старому тополю у дороги, напрочь снесла верхушку и надвое расщепила ствол. Вот это удар был! Стекла повылетели из окон ближайших домов, а тополь, ставший мишенью небесного громовержца, покрылся черным дымом и, несмотря на сильный дождь, сгорел. Много лет потом у дороги стоял обуглившийся ствол дерева, и суеверные старухи, крестясь, обходили его стороной.
— Да не бойся ты, послушай, как хлещет! — сказал я Галине.
— Правда, здорово льет, — согласилась она и выбралась из спального мешка.
Гроза кончилась так же внезапно, как и началась. Дождь прекратился разом, словно захлебнулся. И стало так тихо, что мы услышали, как в костре шипят и тонюсенько ноют головешки.
— Давай выйдем, — предложила Галина. — Посмотрим, что там осталось от костра.
Кеды сразу же промокли. С трав и кустов при малейшем прикосновении прохладным душем сыпались брызги. Где-то вдали изредка похохатывал уходящий гром, вспыхивали зарницы, но небо уже очистилось от туч и робко взблескивало проклюнувшимися звездами.
От костра действительно ничего не осталось: размытое пепелище чадно парило и пахло остывшей баней. Да только ли от костра! Старая, прогнившая в сердцевине осина еще ниже склонилась над ручьем, уныло, по-старушечьи свесила узловатые ветви. С ее морщинистых листьев стекали прозрачные дождины. Казалось, грянь еще гром, взбунтуйся такой же ливень — и осина, опоенная и оглушенная, рухнет в ручей.
Зато как посвежели молодые березки! Даже в ночи, при слабом мерцании звезд, выглядели они стройными, убористыми и будто бы подросшими. И травы, и цветы, и вон те еще совсем юные лиственницы на поляне — все, что молодо и жизнелюбиво, воспрянуло, окрепло и было готово к новым грозам.
Мы с Галиной бродили по сырому, струйчато парящему, полному неизъяснимых запахов ночному лесу и, вероятно, думали об одном: до чего же велика очистительная сила летней грозы! Она рушит старое, омертвелое и дает жизнь молодому, новому.
НОЧНЫЕ БАБОЧКИ
Ночь выдалась теплая и влажная. В росных травах свистели погоныши. С отпотевших ветвей черемух редко и звучно падали в речку крупные капли.
В закрытой палатке было душно, и мы выбрались к остывающему костру. Головешки дремотно чадили жидким кисейным дымком. На закоптелом тагане висел щербатый котелок, в кружке лежали слипшиеся конфеты.
— Чайку бы, — сказала Галина, доставая из кружки тягучую конфету.
Я попытался разжечь костер, но отсыревшие дрова не горели. Взял топорик и отправился по берегу поискать сухостою. На свет фонарика откуда-то налетели ночные бабочки. Рябенькие, кремово-желтые или совсем белые, они срывались с высоких стеблей кипрея, с колокольчиков, густых соцветий таволги и мельтешили передо мной веселым праздничным фейерверком.
Еще больше их появилось, когда ярко вспыхнул костер. Но тут уж было нечто иное. Со всех сторон бабочки спешили к огню и, не задерживаясь, падали в него.
Ах, как заманчив для них был этот огонь! Не знающие света, они, дети ночи, одержимо летели на него и гибли, едва коснувшись пламени. Сгорали легко и беззаботно, словно только в этом и заключался смысл их недолгого существования — радостно погибнуть, познав огонь, его пленительную неизвестность.
Мы пытались отгонять маленьких смертниц, но они упрямо поворачивали к огню снова и снова. Иные, опалив крылья, падали обочь костра, но тут же торопливо ползли в него.
— Странные эти бабочки, — сказала Галина, опустив руки. — Добровольно лезут в пламя. А ведь, наверно, иначе не могут. Их ослепляет невиданная яркость огня.
Помолчала и добавила:
— Вот слизняки, жуки всякие — те прочь ползут…
ПОДЕНКИ
День стоял тихий и солнечный. В застоявшемся воздухе пахло водорослями, ароматом цветущих трав. Даже на реке было жарко, и я то и дело наклонялся за борт лодки, чтобы смочить напеченную солнцем голову.
Но что это сегодня на воде? Там и тут плавали продолговатые прозрачные шкурки каких-то насекомых. Временами их наносило на лодку так много, что вода как бы покрывалась пеной.
— Поденка вылетела, — сказала сидевшая на корме Галина.
— Правда, поденка! — запоздало догадался я.
Весь низкий, заросший ивняком берег, куда мы причалили, тоже был усыпан шкурками личинок поденки. А где же они сами?
Галина осталась в лодке, а я побрел по берегу в надежде найти живых насекомых. И нашел.
Маленькие, нежные, с молочно-белыми, широко расставленными крылышками, они облепили мокрые камни, прятались под листьями кустарника, в осоке. Поденкам, должно быть, тоже было жарко, и потому они до поры укрывались в холодке, в тени или сырости.
А вечером мы наблюдали настоящий праздник поденок. Как только спала жара, мириады насекомых белым бураном закружились над рекой. Они словно танцевали в воздухе: быстро-быстро взлетали кверху, а затем, расправив крылья, плавно скользили вниз, к самой воде. Потом снова взлетали и снова скользили. И так без конца.
— Вот этими танцами и заполнена вся их жизнь, — сказала Галина. — Порезвятся, порадуются теплому вечеру — и с духом расстались. Одно слово — поденки…
А я подумал о другом. О том, что за один-единственный день эти крохотные создания успевают сделать столько же, сколько ворон за триста лет. Нет, не только танцами заполнена жизнь поденок. Надо родиться, окрепнуть, отложить яички для продолжения рода. Наделенным таким ничтожно мизерным веком, им некогда даже поесть. И в этом смысле скоротечная жизнь поденок неизмеримо богаче жизни ворона.
ПЕСНЯ
Я проснулся в предчувствии чего-то радостного, праздничного, с каким-то детским ожиданием желанного впереди и даже не поверил в первую минуту, что это — явь, уже не сон: рассветный полумрак в зашторенной комнате, привычные бумаги на столе, а за окном слышалась песня скворца. Она меня и разбудила, она и настроила, еще сонного, на праздничный лад.
Я подошел к окну. На улице было тускло, морочно; монотонно шумел мелкий нудный дождик, сырая, зябкая мгла обложила небо и землю. Так же морочно было вчера и позавчера. Но вчера эта непогодь угнетала, не хотелось выходить из теплой, сухой избы, а тут…
Я поискал глазами скворца и неожиданно увидел его на карнизе, под крышей соседнего дома, — тоже прятался от дождя. Нахохлившись, приспустив крылья, взъерошив мокрые перышки под горлом, он самозабвенно высвистывал и прищелкивал клювом, будто закликая весну, веселое солнце и синее небо.
Глядя в ненастное окно, я вспомнил поздний октябрьский день прошлой осени. Пролетная стайка скворцов расположилась на отдых в багряных, наполовину опавших кустах калины. День стоял прохладный, солнечный, один из тех, которые можно сравнить с прощальной улыбкой уходящего года. Я тихо шел меж кустов и вдруг услышал приглушенное, до боли милое и такое непривычное сейчас щебетание, скурлыканье, посвисты. А потом рассмотрел в редкой листве и самого певуна. Выцветший до пестроты, от всего отрешенный, он пел как бы в забытьи, вполголоса, словно бы стесняясь самого себя, этой своей неурочной песни. И мне тоже передалось тогда его настроение, светло и безоблачно сделалось на душе. Скворец прощался с летом, с родной землей, но не чувствовалось тоски, безысходности в его песне, потому что не вечны тучи, не вечен дождь — будут в жизни теплые дни, будет любовь, будет и яркое солнце.
КОСУЛЯ
Я шел по редкому лесу. Осень только-только наклюнулась, ее можно было подглядеть лишь по самым незаметным для глаза переменам — по светлой, как бы нарочно подвешенной прядке в густой зелени березы, по розоватым верхушкам осин, по опенкам, которые веселыми ватагами осаждали высокие пеньки-гнилушки.
Тихо кругом. Нет ни мошек, ни комаров. Воздух чист и прозрачен. Иногда он взблескивает едва уловимыми светящимися нитями — это путешествуют на своих паутинах мизерные паучки. Уже не трезвонят безудержно и разноголосо птицы и нет той слепящей яркости в цветах. Старым птицам теперь не до песен — надо кормить да учить уму-разуму несмышленых птенцов, а цветы будто поистратили за лето лучшие краски и одеваются сейчас кто во что: в серое, бурое, желтое.
В лесу пахнет подопревшим сеном, спелой малиной и грибами. Эти запахи настолько различны, что я пытаюсь представить их даже на цвет. И они кажутся мне то голубыми, то палевыми, то красными. Я привык к таким сравнениям и, когда иду по лесу, про себя отмечаю: «Вон там, в низине, голубое место (значит, грибное), а вон там — красное (значит, ягодное)».
Когда я выходил на еланки с подсохшей, звонко шуршащей травой, из-под ног трескуче сыпались кузнечики, с пней и полешек юрко шмыгали пригретые солнцем ящерки, над ромашками и шалфеем порхали мелкие пестрые бабочки-пяденицы.
Опять запахло красным, я вспомнил про брусничник на каменистой горке и направился к нему. Миновал знакомый бочаг, наглухо заросший по берегам цепкими кустами волчьей ягоды, редкий молодой березняк, недавно поднявшийся на месте старой лесосеки, и вдруг заметил впереди за деревьями какое-то животное. Наполовину скрытое зеленью, оно двигалось мне навстречу.
Кто это? Теленок не теленок, собака не собака. Вроде и теленка поменьше и собаки побольше. Шерсть изжелта-рыжая, ножки тонюсенькие.
Склонился пониже, убрал от глаз мешавшую ветку — и узнал: косуля! Не подозревая опасности, она шла прямо на меня. «Вот бы подошла поближе, вот бы посмотреть получше». И косуля будто поняла мое желание, шла и шла вперед.
Вскоре я увидел не только всю косулю, но и услышал хруст стебельков под ее копытцами. А затем и копытца разглядел, когда она, делая новый шаг, красиво поднимала и как бы задерживала на весу пружинно согнутую ногу. Копытца черные, блестящие к носку заостренные — ну туфельки, да и только!
Плавно ступая, прислушиваясь к каждому шагу, косуля подходила все ближе и ближе. Теперь я видел не только копытца, но и различал, как поднимаются от дыхания ее подтянутые бока, как подергивается усатая мордочка, и даже слышал вздохи — спокойно-глубокие, чуть-чуть сопящие.
Когда между нами оставалось расстояние в пять шагов, косуля остановилась. Выгнув шею и вытянув трепетно вздрагивающие тонкие губы, сорвала с макушки высокой саранки сочное соцветие, быстро двигая нижней челюстью вправо-влево, разжевала и дважды глотнула. Я видел, как катились по горлу комочки этих глотков.
А потом что-то случилось: косуля замотала и затрясла головой, точно отбивалась от наседавшего овода. Опустила длинное ухо, сгорбилась и задним копытом почесала за ухом. Что там у нее? Ах вон что — репейку где-то подцепила!
Так стояли мы несколько минут. От напряжения у меня начало сводить судорогой ноги, и я даже не заметил, как пошевелился. Этого оказалось достаточно, чтобы выдать себя.
Косуля вздрогнула, враз устремила на меня, будто выстрелила, взор, слух, обоняние. Она стояла рядом, и два черных, широко раскрытых глаза пронизывали меня насквозь, влажные ноздри шумно втягивали воздух. Она напряглась, как натянутая тетива, малейшее движение — и гибкое тело прянет, подобно стреле, исчезнет среди берез.
Но я не шевелился, и косуля стояла. Она «узнавала» меня, пытаясь понять, кто все-таки перед ней: пень или живое существо, а если живое существо, то враг оно или нет? Однако осторожность взяла свое, и я заметил, как косуля медленно подгибает задние ноги, как горбится при этом ее спина и как торчмя поднимаются на выгнутом хребте рыжие ворсинки.
«Чего напыжилась? Иди куда хочешь», — мысленно сказал я косуле. Но теперь, кажется, и этот мой мысленный голос она услышала. Под ней словно что-то взорвалось — такая невероятная сила взметнула ее и отбросила далеко в сторону. И до чего же красива была в этом прыжке-полете! Рога — на спине, шея — саблей, задние ноги прижаты к животу, а передние стремительно вытянуты. Приземлилась она за березами да еще и еще раз прыгнула! Только и слышно, как копыта стучат по земле: тук! тук! тук! В несколько секунд ускакала на безопасное расстояние и тогда начала гневно топтать по камням да хрипло взлаивать — пугать меня вздумала.
— Не топай, не больно-то я тебя испугался, — сказал я и пошел своей дорогой.
ПЕРЕЗИМОВАЛА
Отшумели, отгуляли февральские вьюги, стихло все, и март пришел с нехолодными звездными ночами, с запашистыми утренниками, с полуденными обогревами в темных сосняках. Уже кое-где вытаяли полянки с жухлой бурой травой, и над ними первыми вестницами скорого тепла порхали яркокрылые бабочки-крапивницы. А в один из дней с низких, влажно дышащих туч забрызгал мелкий-мелкий дождик. И даже не дождик, ка-какая-то морось, туманная и по-летнему теплая.
Синица задумчиво сидела на самой верхушке невысокой голой березки, покорно мокла в этом дожде-тумане, вся расслабленная, с опущенными крыльями, с обвисшим мокрым хвостишком — такая смиренная и не похожая на себя, что я подумал: заболела. Давно ли она, хлопотунья, челноком шныряла по веткам, в поисках пропитания буквально совала свой нос в каждую щелку и щелочку, выдирала из пазов избы паклю, настырно долбила выставленные на мороз каменной твердости пельмени. А тут — на тебе, пригорюнилась!
Но нет, синица отряхнулась от воды, оправила перышки на груди, тонюсенько что-то пропищала. И мне почудилось в этом ее писке печально-сладостное воспоминание: «А что было! Было-то что!»
ВЕРБА
Она качалась и качалась на холодной стремнине, то окунаясь с верхушкой в пенную кипень, то снова вздымаясь, отяжелевшая, уставшая от борьбы с безудержно-шалой весенней рекой. Ледяным крошевом ей оскоблило, добела облоскутило ветки, но на самых гибких, самых упругих упрямо и победно курчавились серебристые барашки. Всякий раз, вскинувшись над водой, они фосфорно взблескивали, искристо стряхивали брызги и снова ныряли, чтобы повторить все сначала. И так час за часом, день за днем, пока не спадет буйная полая вода.
Счастливым многоголосьем полнился по берегам лес. Стрекотали и трещали хлопотливые дрозды, зазывно высвистывали зяблики, рассыпали барабанные трели дятлы, с заполошным криком проносились над водой кулики.
Яркий день, клонившийся к закату, выветрил, выстудил перестойный сосняк, и под ним меж рыжих стволов теперь настаивалась спокойная синь. Кое-где уже проклюнулись салатно-желтые мутовки борщевика, белесые торчки кипрея, ближе к воде в самых сырых местах дружно лезли к свету острые щупальца хвощей. А на открытых, прогретых солнцем еланках золотой щедрой россыпью горели первенцы весны — цветы мать-и-мачехи.
Я сидел на крутом яру, слушал, внимал весне, но все же взгляд мой то и дело останавливался на вербе, волею судьбы выросшей на отлогом мысе, сейчас полностью затопленном бурливым потоком.
Странное состояние овладевает иногда человеком, оставшимся наедине с природой, с самим собой. Время словно бы останавливается, уходит вспять, и нет уже перед мысленным взором ни шумных городов, ни грохочущих поездов, ни телевизора, ни телефона — всего того, что составляет современную нашу жизнь. Даже вон тот еле видимый сверхзвуковой самолет, прочертивший в безбрежном небе недоступно высокую трассу, кажется нереальным. Глядя на качающуюся, призывно взблескивающую распушенными барашками вербу, я почему-то подумал о далеком прошлом, таком далеком, что мы о нем мало или совсем ничего не знаем. Мне вдруг представился одетый в шкуры полудикий человек, мой, разумеется, прапращур, который сидел на моем месте, может быть, на этом самом камне, и, оперевшись о древко кремневой пики, вот так же смотрел на реку, на качающуюся над ней вербу.
О чем он думал, этот древний человек? О том ли, что наступила новая в его жизни весна и, стало быть, отсчитала своим приходом еще один срок бытия; о том ли, что надо скликать сородичей (племя, стаю ли?) и отправляться на облавную охоту за зверем, нелегкую и опасную; или о том, что вблизи пещеры — а она вон, за той горой, — у костра готовит пищу его молодая, ловкая и прекрасная, как сама эта весна, женщина? Может быть, древний человек в те минуты уединения первый раз задумался над тем, что неплохо бы сходить к пещере, взять за руку женщину и привести сюда, на берег. Чтобы вместе слушать лес, любоваться разливом реки, смотреть на качающуюся вербу, всю белую от вызревших почек…
И я подумал — да что подумал! — утвердился в давно известном: все в этом мире преходяще — и люди, и города, и войны, непреходяща лишь красота земли, вечно юное ее обновление.
ИЗБЫ
Идешь иной раз деревенской улицей и радуешься, глядя на крепкостенные русские избы, на затейливую резьбу фронтонов, на узорчатую роспись наличников, на веселые оконца, заставленные геранями да фикусами. Сколько выдумки и усердия приложили хозяева, чтобы сделать свой дом уютным и нарядным. И право же, стараются они не только для себя, своей отрады, коль их домом засматриваются прохожие.
Все здесь радует глаз — и сам дом, и кружевные рябины под окнами, и приземистая банька на задах усадьбы, и колодец, на дне которого даже в полдень сверкают звезды.
Но иногда на этих же сельских улицах встретишь такое, что только руками разведешь. Вот среди прочих стоит добротный дом. Новый, бревна толстенные, не подсоченные, так и блестят медовой смолой на солнце. Огородик есть, а в нем с одного края высажены молодые черемушки, с другого — через колючую проволоку лезет на свободу обклеванная курами ботва моркови да редьки. С первого взгляда кажется, что хозяева еще не успели обжиться и потому все так не устроено — и сам дом, и около него.
Но вдруг с удивлением замечаешь, что крыша дома покрашена в разные цвета: одна половина — зеленая, другая — желтая. И наличники на окнах по-разному выделаны: где зеленая крыша — один фасон, где желтая — другой. А на той половине, где желтая крыша и и где редька растет за колючей проволокой еще и ставни заготовлены. Их пока не успели навесить, стоят они до поры, приваленные к стене. А потом уже видишь, что и ворот двое, и сделаны они тоже на разный манер. И еще, и еще разделения пошли, вплоть до отдельного, закрытого на замок колодца и надписи на калитке про злую собаку.
Все ясно: в доме живут два хозяина. Ну и пусть бы живут, чего здесь плохого, только чего же они насмехаются над своим домом? Посмотрит прохожий и уж не порадуется. «Ну и ну, — скажет, — работящие вроде люди, дом вон какой отгрохали, а не хватило совета, не дружны меж собой…» Тешут, малюют его всяк на свой лад, выказывают неуважение друг к другу и вообще к красоте какой-либо. Стоит такой дом среди прочих как бы рассеченный надвое, уродливо-некрасивый, просто жилище, и бросается в глаза именно тем, что его разделили.
ВСТРЕЧА
Был морозный декабрьский вечер. Седая мгла висела над городом. Провода, ветки тополей покрылись толстым куржаком. Выхлопы проезжавших автомобилей долго не рассеивались и чадными пластами качались в воздухе. Люди, укутавшись до глаз, спешили по домам.
Среди немногих торопливых прохожих в тот час по тротуару, освещенному желто-туманными фонарями, устало прыгала большая собака. Буро-пегая, с длинными обвислыми ушами. Не шла, не бежала, а именно прыгала, как спутанная лошадь, тяжело встряхивая головой. Лапы ее, то ли обмороженные, то ли такие когтистые, звонко стукали по асфальту, будто копыта. Люди шарахались от нее и оцепенело пережидали, когда она пройдет. Девушка, набежав на собаку, испуганно закричала, замахала руками; женщина с ребенком, услышав крик, заблаговременно перешла улицу…
Собака была очень худая и без одной лапы. Только богу, наверно, было известно, что она пережила, куда и зачем держала путь.
И вдруг упала. Точно так, как падает человек: поскользнулась, беспомощно вскинулась вся — и распласталась. Прохожие обходили, обегали ее, а она барахталась, раскатываясь лапами по стылому асфальту, и не могла подняться.
Рядом по дороге проносились в ярких огнях «Жигули», «Волги», грузовики. Завидев на тротуаре бьющееся животное, некоторые водители любопытства ради притормаживали. Но им нетерпеливо сигналили задние, и они снова нажимали на газ.
И тут съехала на обочину инвалидская коляска. В открывшуюся дверцу выставил сначала костыли, а затем ногу немолодой человек со следами давних ожогов на лице. Сидевшая с ним рядом женщина тоже вышла, обошла машину, помогла ему утвердиться на земле.
— Что же вы, товарищи, не пособите инвалиду?
Это он сказал не о себе — о собаке.
— Видите, она сама не может встать. Ну, крепись, крепись, ветеран, надо же нам до конца пройти дорогу…
Он, придерживаемый женщиной, подхватив под мышки костыли, помог собаке подняться. И та не противилась помощи. Слабо отряхнулась — опять чуть не упала! — и запрыгала дальше, до конца своей дороги. Люди в теплых шубах, инвалид с костылями, женщина рядом с ним смотрели ей вслед.
Когда собака скрылась в морозной мгле, инвалид сказал:
— Эти собачки, товарищи, между прочим, в сорок первом бросались обвязанные гранатами под танки. Москву помогали нам отстоять.
Такие-то дела, товарищи…
ПО ЯГОДЫ… НА ЛЫЖАХ
Зима нынче выдалась не то что малоснежная, а просто бесснежная. Ну, шутка ли: в январе можно было в лесу ходить в ботинках, не зачерпнув в них, а нескошенные травы на лугах — те и вовсе окостенело торчали во весь рост, белые от изморози. Вот в такую-то пору я и отправился в лес на прогулку.
Но зима есть зима, и какая прогулка без лыж? Пристегнул беговушки — и айда с ветерком по утреннему морозцу на знакомые просеки и еланки.
Бегу и не пойму: то ли это лыжи мои поют под ногами, то ли душа — так хорошо в лесу! Он весь просвечен розовым и голубым. За дальними горами только что поднялось солнце, и холодные лучи его мириадами блесток заиграли в ветвях деревьев, на стылых травах. Столько свету, столько огней, что хоть защитные очки надевай. Но я их нарочно не взял — разве увидишь такую благодать через темные очки?
Упарился уже. Свитер заиндевел, струится дымком и тоже весь в искорках — алых, синих, изумрудных. Сел на валежину, стянул вязаную шапку. И только стянул, сразу услышал весь лес. Где-то рядом стучал по сушине дятел, да так ладно стучал, будто и не еду добывал вовсе, а так, для веселья, на радость всем лесным жителям играл на барабане: «туку-тук, туку-тук, туку-тук…» Из старого сухостоя за болотом таким же согласным барабанным перестуком ему отвечал другой. Перелетая с куста на куст, звонко цвенькали синицы, им с березовых, низко опущенных вязей тонко отзывались младшие их сестрицы — московки, а тем — уж совсем еле слышным писком — крохотные, похожие на пуховые шарики гаички. Но вот заполошно затрещала сорока, и птички смолкли: низко над соснами, шумно бухая крыльями, пролетел ворон. Черная тень мелькнула по снегу. Он тоже не удержался, державно прокричал на всю округу: «кру-у-ум!»
Ворон улетел, сорока замолчала, и опять послышались нежные переклики синиц под аккомпанемент дятла.
А кто там еще, несмелый, подает голос? Оглянулся — и вижу: в густых зарослях шиповника, на самом высоком кусте, сидит нахохлившийся красногрудый снегирь в черной щегольской шапочке и печально, вполголоса кого-то зовет: «рюм, рюм, рюм…» Подружку, наверно, зовет.
Смотрю на снегиря и замечаю: все заросли шиповника — под стать снегириной грудке, сплошь забрызганы красным. Да ведь это же ягоды, еще не обклеванные, не тронутые птицами! Малоснежная и неморозная нынешняя зима милостива ко всем: косачи и рябчики собирают стылую бруснику прямо с земли, по-куриному разгребая лапами неглубокий снежок, залетные гости свиристели кочуют по садам и паркам, не столько объедая, сколько отрясая яблони-дички, щеглы обирают на пустырях репейники, чижи и чечетки — конопляники по закрайкам пашен. Так что до шиповника очередь еще не дошла, и сохранился он в полном осеннем изобилии.
Ну, раз так, то почему бы мне не пособирать ягод зимой?
Чтобы не спугнуть снегиря, осторожно подъехал к краю шиповниковых зарослей и по ягодке, по ягодке быстро нарвал полную шапку. Аж отвисла вся. Та же тебе корзинка, только без ручки. Держу в руках и диву даюсь: надо же, середина зимы, а я набрал ягод! Скажи кому — не поверят. Любо-мило даже поглядеть, понюхать эти зимние ягоды, сохранившие и цвет, и запах солнечного лета.
Вечером, сидя у теплой, жарко горящей печки, я пил чай, щедро заваренный шиповником, и вспоминал лучистый день в белом лесу, серебристые березы, хлопотливых синиц и печального снегиря, потерявшего свою снегириху.
ЗА СЕНОМ С ГАРМОШКОЙ…
Н. Г. К.
Опять я о зиме. Да и как не рассказать о таком случае: мыслимое ли дело — ехать за сеном с гармошкой? А вот наши мужики поехали…
Но это было потом.
А пока я сидел и удил на Чусовой ершишек. Ершишки клевали дружно, под ногами у меня топорщилась уже приличная кучка улова — на хорошую ушку, а то и на две.
С утра сильно морозило. Начал холод пронимать и меня. Чтобы согреться, я запрыгал вокруг лунки, прихлопывая рукавицами. Минуту прыгаю, другую, и так ладно у меня вдруг стало получаться, что даже какой-то ритм почувствовал в своих движениях. Отчего бы это? Точно пляшу под музыку.
Остановился перевести дух — и ушам не поверил: правда музыка! Зима, снежище по пояс, сосны и березы стоят в белых балахонах, а тут — гармошка! Ну ладно бы — гитара, на туристов можно подумать, их никакие холода не держат, но кто с гармошкой-то зимой в лес ходит?
Близ деревни я хорошо знаю окрестности. Помню все покосы, выпасы для скота, грибные и ягодные места. А покосы большей частью по заливным пойменным лугам Чусовой. Так что мне нетрудно было определить, где играют. Прислушался, так и есть — на шараповском покосе!
Иван Шарапов — сосед мой. Знаю, что у него есть гармошка и он частенько на ней играет. Но чтоб в лес брал с собой, не слышал. И до того мне любопытно сделалось, что забыл я про рыбалку и побрел рекой посмотреть на отчаянного гармониста.
Все ближе, ближе музыка. Теперь уже слышу, что не только играют, а еще и поют. Одни мужские голоса. Узнаю сипловатый басок самого Ивана Шарапова, петушиный фальцет его младшего брата Сереги, совсем безголосого тракториста Васюкова, а четвертого не могу разобрать. Кажется, пилорамщик Сашка Нестеров.
Цепляясь за кустовье, взобрался на крутой яр, где как раз начинается покос, и вижу такую картину: возле зарода стоит гусеничный трактор с прицепленными к нему длинными железными санями, на вершине зарода, уже очищенном от снега, сидит Шарапов и упоенно, избочив шею, прямо-таки выворачивает мехи двухрядки. Остальные трое, в распахнутых ватниках, в шапках набекрень, лихо отплясывают, как на сцене, как на помосте каком, на дощатом настиле саней что-то среднее между шейком и кадрилью. Только полы ватников веют! Само собой, тут же накрыт и пенек, подле которого теплится небольшой костерок…
— Вы чего, — говорю, — мужики, с ума спятили? Отродясь не видел, чтобы за сеном с гармошкой ездили.
Тут Иван перестал играть и вроде бы проснулся: узнал меня. Вместе с гармошкой ловко скатился с зарода.
— Давай, сосед, к столу. Праздник у меня великий. Гулять бы только, а тут сена дома не окажись. Вот и приходится совмещать…
— Какой, — спрашиваю, — праздник?
— Как какой? Неуж не слышал?! А еще сосед называется! Да сына мне Нюра родила. Вот такого! — и Шарапов показал — какого, как рыбак, широко раскинув руки. — Вчера был в больнице, обоих повидал. Во парень! — опять раскинул он руки.
— Так что же ты здесь веселишься, раз сына жена родила? К ней бы, к Нюре, и шел.
— Говорю, вчера был, как узнал. Цветов в теплице дали… Сегодня тещу турнул, пусть и она посмотрит. А у меня ни охапки сена дома…
Так и отпраздновали мы на пеньке в зимнем лесу рождение первого Иванова сына и даже сообща имя ему придумали — назвали Ильей. Чтобы рос таким же богатырем, как его былинный тезка.
Потом я снова пошел ловить ершей, а веселые мужики принялись складывать на сани сено. И ведь что интересно — весь зарод привезли, клочка по дороге не потеряли…
НОЧНОЙ РАЗБОЙ
Старательная белочка с большим усердием строила свое гнездо-гайно. Не спеша строила, с расчетом и хитринкой. Выбрала для него высокую ель. И не просто высокую, а еще такую, ветки у которой лишь на макушке росли. Да густые, непроглядные, как шатер. Сквозь них и неба не увидишь, не то что заметишь гнездо. А ствол ровнехонький, без сучочка.
Вот на такой-то ели, на самой верхушке в гуще ветвей, белка палочка по палочке выкладывала шарообразный дом с дыркой-входом посредине. Сколько раз спускалась на землю за строительным материалом — счету нет! Когда главная работа была закончена, принялась отделывать дом. Потолок и стены утеплила мхом, вплела брусничные стебли с листиками, пол застелила тоже мхом, но мелким, перетертым, да еще своей шерстью, выдранной с боков. А для украшения воткнула у входа сорочье перо с перламутровым блеском.
И жить бы да поживать белке в своем теремке, но случилась беда…
Вьюжной зимней ночью, когда белка крепко спала, укрывшись пушистым хвостом и наглухо заткнув входную дырку мхом, на ель бесшумно забралась куница. Лесная хищница еще ловчее лазает по деревьям, и если найдет беличье гнездо, спасения не жди. Ни убежать, ни спрятаться, ни защититься не может белка от куницы. Разбойница нашла вход и молнией стрельнула в него, выбив мордой мягкую затычку.
Затряслось, затрещало гнездо, посыпались на землю так тщательно пригнанные палочки-бревешки. Пискнула белка и затихла. Закапала на снег кровь…
Прямо в гнезде куница съела хозяйку, вытолкала за порожек, чтобы не мешались, ее остатки, а сама там же улеглась отдыхать. И долго бы она жила в чужом гнезде, да голод погнал снова на охоту.
А гнездо не опустело. Днем в него прилетела кедровка, повертелась, покричала, возмущаясь беспорядками, и давай перетаскивать в него из потайного места кедровые орешки. Снега-то навалило много, да еще заутюжило ветром, того и гляди, потеряешь под пеньком заготовленный с осени припас. Таскала, таскала да и выдала себя: на другой день, почуяв орешки, в гнездо забралась другая белка. Вот уж радости было: и дом готовый, и пропитания надолго!
ЗРЯ ТАК ПРО ЗАЙЦА…
Чего только про него, беднягу, не наговорили: и косой-то он, и трусливый, и, мол, под гору бегать не умеет — все кувырком да кувырком. Неправда это! Если бы он таким был в самом деле, то его давно бы перевели до последнего.
А врагов у зайца — хоть отбавляй. Его и лисы выслеживают, и волки гоняют, и всякие хищные птицы когти на него точат. На что крохотный зверек — ласка и та не прочь отведать зайчатинки. Я уж не говорю об охотниках с их ружьями и собаками.
То, что передние лапы у зайца короче задних, это все знают. Но под гору он носится — будь здоров! И на гору не хуже. А по ровному месту и вовсе: напуганный, как вихорек катится по снежному полю. Обязательно, что ли, называть трусливым, если хорошо бегаешь? Как иначе спасаться от многочисленных преследователей? Рогов у него для защиты нет, острых клыков тоже. Да и велик ли он? Только и осталось — удирать.
И совсем заяц не косой. Он просто, как и другие звери, живущие в лесу, больше доверяет слуху, чем глазам. Недаром у него вон какие длинные уши! Попробуй рассмотри, что там делается, кто крадется, если кругом кустарники, деревья, густая трава. А слух не подведет. Хрустнула веточка — у зайца ушки на макушке, прикидывает: где, в какой стороне? Хрустнула еще раз — вскакивает.
Случается, что, спугнутый собакой, заяц несется прямо на человека. Но это бывает лишь тогда, когда человек стоит неподвижно. Отсюда, наверно, и стали считать зайца косым: дескать, не видит впереди. А он всего-навсего, опять же как другие звери, просто не обращает внимания на спокойно стоящего человека. Тронься с места, взмахни рукой — твой «косой» задаст такого стрекача, что свора собак не догонит…
ЮЛА
Когда я был маленький, часто ходил с ребятами в лес по ягоды. Однажды, уставший, отстал от ребят и возвращался домой один. Тихий вечер затуманил перелески. В нагретом за день воздухе летали стрекозы. Я побежал за одной, свернул с дорожки в густую траву и тут неожиданно выпугнул маленькую птичку — юлу.
Серенькая, похожая на жаворонка, птичка отпорхнула на несколько шагов, ушибленно заломила крылья и упала, точно подбитая. Я бросился к ней и накрыл фуражкой. До сих пор помню: большие влажные глаза, полуоткрытый клюв и частое-частое дыхание. «Больная», — решил я.
Когда я снова вышел на дорожку, то увидел свою опрокинутую корзинку и рассыпанные ягоды. Наклонился собрать ягоды и осторожно положил птичку в карман. Но едва лишь это сделал, юла, будто верткая рыбка, шмыгнула меж пальцев и здоровехонько полетела. Изумленный, я только ахнул.
А причину такого странного поведения юлы понял уже много позднее. Птичка была спугнута с гнезда. Спасая свой дом с птенцами, она притворилась больной и, привлекая опасность к себе, упала в траву в стороне от гнезда. Какой, наверное, я был страшный в глазах этой отважной защитницы своего семейства! И как же она любила детей, если жертвовала собой!
ТРОПИНКИ
Разные они бывают. Одни тихие, скрытые зеленью, как бы крадущиеся в тенистой нависи черемух и ольхи, другие — торные, хорошо заметные, влекомо устремившиеся в дальнюю даль, третьи — задумчиво-неторопливые, медленно текущие по росным лугам к реке и дальше по берегу, туда, где сходятся все дороги.
Я люблю бродить по тропинкам. И по тем, что в лугах, и по лесным, и по узким, как стрела, стежкам, которые по меже пересекают наизволок хлебные поля. Эти полевые, самые прямые и самые длинные, тропинки мне больше нравятся. И не потому, что, когда идешь по ним, перед тобой с поклоном расступаются тяжелые колосья, не потому, что радостно рассыпаются под ногами синие звездочки васильков, и даже не потому, что тебя приветствуют из поднебесья переливчатым трезвоном жаворонки.
Полевые тропинки я люблю за прямоту, за всегдашнюю их устремленность. Им не пристало кривлять, не пристало кружить: кружить по полю — только хлеба путать. Они не праздничны, не прогулочны. Они для того, чтобы скорее пройти их.
И вот тут мелькает мысль: отчего бы нам, все время вперед идущим, не спрямлять тропинки? Те, что неудобны, не по пути. Ведь мы ходим по ним в силу привычки, в силу того, что они уже есть, кем-то когда-то проторены, может быть, просто случайно. А сделать первопуток, срезать лишние петли — редко кому в голову приходит.
Я всегда стараюсь прокладывать свои прямые тропинки. Вижу лишний крюк, бездумно округленный, и смело лезу вброд, в сырую траву или нетоптанный снег. Увидит мой след другой человек, прикинет, что так короче, и пойдет по нему. Потом еще и еще люди проходят, глядишь — новая тропинка народилась.
РОДИНА
По-разному ее ощущаешь, по-разному приходит то сокровенное, неподкупное и очень личное чувство принадлежности, сопричастности к ней. Порой это случается в самом малом и самом неожиданном. Вот и в тот раз…
Ноги скользили по сухим, потрескивающим сосновым иголкам. Будто в распахнутые ворота, прошел я меж громадных сосен с черными солнечными подпалинами у оснований и остановился на круче берегового откоса. Внизу по-весеннему полноводно текла Чусовая. На широкой ее глади переливались алые отсветы заката.
Земля дышала сладковатым запахом набухающих почек, прелой травой, березовым соком. Временами накатывались волны речной свежести, крепко сдобренной ароматом цветущей черемухи.
Черемуха. Она росла здесь повсюду — на покосных лужайках, в дерновине обвальных берегов, пробивалась в светлые березовые колки, в хвойное темнолесье. Поселилась и на старицах — тут ее было особенно много, так много, что иные кусты ухватились корнями за камни да так и повисли, замерли над самой водой. Малоприметное деревце в иное время года, теперь черемуха в лесу была первой красавицей. Без белого опушения не оставалась, кажется, ни одна, даже самая малая, черемушка. А большие, размашистые сплошь усыпаны белопенным цветением с нижних ветвей до вершины. И отсюда, с кручи берегового откоса, чудилось, будто на косогоре, на лугах и дальше по реке — всюду опустились на землю и недвижно забылись курчавые светящиеся облака.
По влажной квелой траве, осторожно минуя сине-сиреневые россыпи медуниц, я прошел на чистую еланку и, присев на замшелый валун, залюбовался-заслушался тихой музыкой леса.
Где-то в стороне ворковали горлицы. Их ласковая весенняя ворожба слышалась из щетинистого горельника, и я долго искал птиц глазами, пока не увидел всех на сухой еловой макушке. Издалека, должно быть, со старой гари, им вторил ленивым бормотанием тетерев. В теплых лужах по-своему славили весну лягушки. Неслышные днем, сейчас они повысовывали из воды глазастые головы и старались перекричать одна другую. Эти лягушечьи концерты бушевали повсюду, кваканье, урчание, всхлипы слились в сполошной бурлящий звук, похожий на дружный дождь. Над еланкой с тяжким гудением проносились бронзовотелые майские жуки, звонко стукались о деревья и, упав, затихали.
Мягкая мгла медленно опускалась на лес. На серой поляне явственнее обозначились желто-белые бутоны подснежников. Когда был день, они упорно следили за солнцем, поворачиваясь на тонких ворсистых стебельках, а сейчас свернули лепестки, поникли. Заснули к ночи, сохраняя тепло. Не зря народ называет этот вид подснежников еще и сон-травой.
Перед глазами чуть дрогнула ветка вербы. По ее лощеной, будто лаком покрытой коре карабкался шустрый жучок. И вдруг — щелк! Лопнула созревшая почка. Жучок темной капелькой мелькнул вниз. Через минуту разорванная рубашка почки раздалась, и я увидел, как поднимается из нее, расправляясь, светло-зеленый скомканный листочек.
Когда совсем стемнело и меж деревьями кудельными прядями всплыл туман, я поднялся с валуна и вольно-привольно вздохнул. В лесной избушке на берегу меня ждал запашистый чай с баранками, волглое сено на нарах да короткая ночь с думами о вечной молодости Родины.
Примечания
1
Лавда — торфянистый, илистый островок.
(обратно)
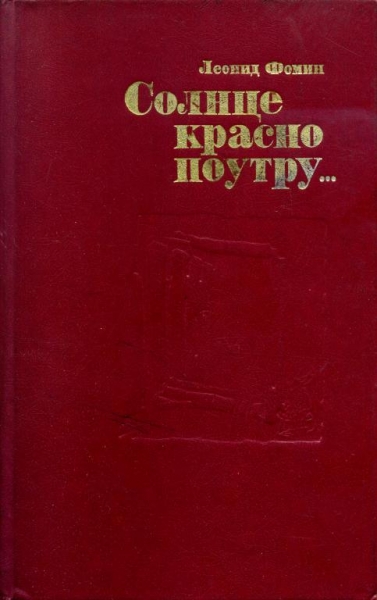

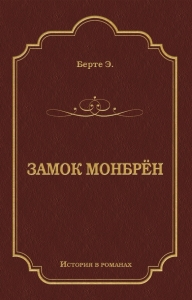


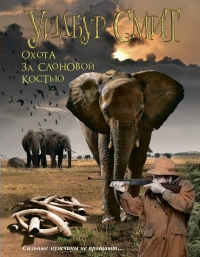
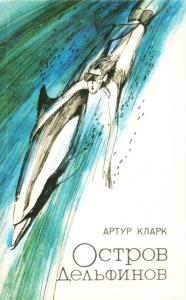


Комментарии к книге «Солнце красно поутру...», Леонид Аристархович Фомин
Всего 0 комментариев