Елена Крюкова Золото
"И в руках у меня сокрушается меч, и напрасно Вылетел дрот из десницы моей: не могу поразить я!" Гомер, «Илиада», песнь третья, стих 365ПРОЛОГ
Кромешную тьму разорвало красно-золотое полыханье огня. Древко чадящего факела было зажато в юной и нежной, но крепкой руке. Пламя выхватывало из тьмы сверкающие глаза, закругленье щеки, прядь русокудрых волос, летящую на сквозняке. Девушка, держащая горящий факел, – за ней, след в след, медленно шла белая, с черными пятнами, большая собака с тонким, загнутым крючком хвостом, – медленно подошла к гробнице. Продолжая держать факел, встала на колени. Наклонила голову. Ее подбородок коснулся ее груди, высоко вздымающейся под тканью короткой туники.
Так стоя, она вышептала одними губами молитву. Пламя нервно, порывисто рвало мрак над ее головой. Она выпрямилась, поискала глазами, куда бы воткнуть факел. Нашла углубленье в каменных плитах пола, выложенное бронзой. Вставила туда древко. Теперь руки ее были свободны. И она подняла их, и, снова упав на колени, прижалась лицом, лбом и руками, воздетыми, как в причитаньях мистерий, к золотому рельефу огромной гробницы.
– Всемогущие боги, – сдавленно воскликнула она, – боги!.. Если он умер навсегда и не воскреснет более, ни в этом мире, ни в обиталищах блаженных, сделайте так, чтобы я могла уйти вслед за ним без боли, по золотой нити счастья… и я возьму с собой в дорогу, в долгий путь то, что он так любил, в чем я являлась перед ним, в чем танцевала… что он дарил мне, разбрасывая передо мной по земле, сыпля мне на колени… из чего мы вдвоем пили вино… испили мы наш волшебный напиток, боги, и мы опьянены друг другом так, что и в смерти нашей…
Она не договорила. Пламя бешено рвалось, освещая качающуюся золотую массивную серьгу у нее в нежно-розовой мочке уха; она повернула лицо, прижимаясь смуглой щекой к холодному золоту гробницы, и ее губы и подбородок коснулись как раз того фрагмента рельефа, сработанного искусным мастером, где воин и царь, сжимая в руке меч, направлял его прямо в сердце разъяренному врагу. Кованое золото отсвечивало темным медом. Казалось, оно само излучало свет, само было застывшим пламенем, холодным огнем, куда девушка, плача, окунала лицо, руки, губы.
– Царь мой! – Голос ее зашелся в рыданье. – Как я любила тебя! Я не смогу на земле без тебя. Нет такого запрета, который я не переступила бы из-за тебя. И теперь мне никто не запретит соединиться с тобой. Жрецы приносят в жертву множество зверей и людей; и черное Солнце с неба глядит на кровь, что льется, и плачет пустыми глазницами. Лишь на острове Кеосе разрешено добровольно уходить из жизни, да и то по достиженьи большого возраста. Жить на земле, есть, пить, стариться… без тебя?!..
Ее нагая спина в вырезе туники дрогнула. Она зарыдала, прижавшись всем телом к гробнице, целуя золотую фигуру, как живого человека. Безмолвие было ей ответом.
За спиной девушки послышалось шуршанье сандалий по камням. Собака зарычала. Она, не поднимаясь с колен, обернулась. Прижала палец к губам.
– Ты, Дарак?.. тише… Я усыпила сторожей. Они не должны видеть, как жена уходит вслед за мужем.
– Ты ему не жена, – еле слышно донеслось из мрака. Голос хриплый, тусклый. Говорил мужчина. – Но воля твоя.
– Я ему больше чем жена. Дарак, возьми ковчег, что мы принесли с тобой, тот, что стоит у входа в усыпальницу, и поднеси сюда. Я хочу, чтобы мой царь поглядел, какая нарядная я приду к нему, как я помню о нем, о его драгоценностях, о кубках, из которых он пил вино фалернское, дамасское и иберийское. Я помню все. Я хочу последнего, яркого счастья.
Не выходящий из мрака глухо сказал:
– Может быть, ты передумаешь, Селена?.. мир так богат, так вкусен… так ярко в нем все, и каждый день мы живем как последний… Может быть, ты изменишь решенье?..
Девушка одним легким движеньем встала с колен. Стоявший во мраке мог рассмотреть ее всю.
– Нет, не изменю. Я ухожу вслед за моим царем.
Она стояла в безумствующем факельном свете, и тени ходили по ее голым рукам и ногам. Она была стройна и молода – не старше двадцати. Длинные русые, чуть вьющиеся волосы жидким золотом лились вдоль ее смуглых щек, по плечам. Глаза были черно-зелены, непроглядны и мерцали, как две звезды над морем. Рот был полуоткрыт, и зубы блестели. Стоявший во тьме не сводил глаз с ее обнаженных ног. Короткая туника не закрывала великолепье коленей, выпуклые золотые пластины бедер. Какое сумасшествие, пронеслась в голове его птица безумья, какое сладкое святотатство. Он овладеет ею тут же, здесь, у гробницы царя, ведь все равно он через минуту-другую выхватит из-за пояса короткий тяжелый меч, и по ее приказу…
– Не вздумай делать непотребное, Дарак. Я разгадала твои мысли. Ламид жестоко покарает тебя, если ты поднимешь на меня руку.
– Но, госпожа…
– Принеси ковчег!
Металл, зазвеневший в ее вскрике, пронзил его не хуже железных копий ахейцев. Стоявший во тьме удалился, и Селена слышала лишь шелест шагов по каменным плитам. Она погладила собаку, поднявшую умную морду к ней, по гладкой голове. Минуту спустя посланный вернулся. Черные руки протянулись из тьмы на свет, поставили к ногам Селены длинный и тяжелый ковчег. Она наклонилась и откинула бронзовую крышку. Пламя рванулось, и изнутри ковчега ударили мощные, слепящие лучи.
Стоявший во тьме вздохнул. Слишком тяжка на земле была ноша драгоценная.
Нет драгоценней под Луною живого человека и любимого, нет…
– Помоги мне.
Холодный, повелительный голос. Хоть она и не успела стать царицей, а была всего лишь наложницей, она имела царскую стать и царские повадки. Презренная рабыня, дочь торговки с Нижнего рынка в Эфесе…
– Изволь, Селена.
Он приблизился. Его черные руки скользнули по ней, надевая ей на талию золотой пояс с застежкой из камня Офир. Его черное масленое лицо приблизилось к лицу Селены, бросив тень на пылающую щеку.
– Надень перисцелиды!
Он опустился на колени. Маленькие золотые ножные браслеты защелкнулись на щиколотках. Селена склонилась и вытащила из ковчега тяжелую золотую диадему с искусно вставленными в массивные золотые узоры красными африканскими рубинами и квадратно ограненными египетскими изумрудами. Ее губы прошептали:
– Мой царский венец…
Черные руки, грубые пальцы услужливо подхватили, опустили диадему на буйство русых волос. Черный раб, усмехнувшись, вытащил из-за пазухи черное обсидиановое круглое зеркальце, поднес к ее лицу.
– Ты хороша, госпожа, как сама Эос… Все, что в ковчеге – кубки, кувшины, щиты, копья, светильники, мечи – туда, ему, в саркофаг?.. И твою маску… тоже?..
– Ты понятлив и смышлен, Дарак. Я не разрешу тебе положить туда его щит и его меч. Я это сделаю сама. Откинь крышку!
Черный раб послушно нажал могучим плечом на тяжелую мраморную плиту, обитую золотом. Сдвинул с места. Подхватил на руки и осторожно опустил на пол. Тонкий аромат разлился по усыпальнице. Жители Анатолии знали секрет захороненья своих вождей, чтобы тела оставались нетленными долго и источали благовонья, наподобье священных курений. Царь Ламид лежал в саркофаге как живой. Руки были сложены на груди, закованной в золотые латы. На лице царя стыла старым засахаренным медом золотая маска. Как он был красив, золотой, суроволицый, с плотным прикусом тонких губ, с высоким светящимся золотым лбом. Мастера спрашивали – сделать ли зрячими, цветными глаза, вставить ли в глазницы радужки из нильского лазурита, из нубийского сапфира. Она запретила. Слепые золотые веки прикрывали тайну их любви, глаза, летящие навылет, как копья в бою. Ее маска так же красива, и она себя в ней узнала. Великий мастер, спасибо тебе; она гляделась в выгибы золота, как в зеркало. Вон она, маска, валяется в ковчеге рядом со щитом Ламида. Селена наклонилась и вынула из ковчега огромный щит, сверкнувший темным, как львиная шкура, выпачканная в крови, красным золотом. По ободу щита бежали выкованные фигуры. Боги?.. Человеки?.. Воины в пылу битвы… Однажды царь взял ее в сраженье. О, как он не хотел этого делать! Она упросила… Она скакала рядом с ним на вороной кобылице – она, золотоволосая, бешено смеющаяся, испускающая победные кличи, величественная в своей ярости – даже бывалые воины испугались ее воинственной мощи, когда она скакала рядом с Ламидом, кричали ей: «Амазонка!..» Она погладила выпуклые фигуры на щите. Сколько раз защищал ты, кусок железа, своего хозяина в боях. Защити его от гнева богов, когда он выйдет на поля сражений там, между звезд, в обители блаженных.
Селена положила щит царю на грудь. Наклонилась и вынула из ковчега меч. Обернулась к черному рабу.
Меч лежал на ее руках, как младенец. Его пелены были – золотые ножны, изукрашенные аквамаринами, перлами и мелкими изумрудами-кабошонами. На рукояти была вычеканена женщина верхом на льве. В зубах льва горел крупный рубин.
– Вот этим мечом ты убьешь меня, – просто сказала она.
«Его мечом», – прошептали черные толстые, вывернутые губы.
– Я не смогу тебя убить, госпожа. Не смогу.
Синие негрские белки блестели в клубящейся тьме. Кровавые рубины на диадеме Селены сверкали нестерпимо.
Глаза и глаза встретились.
– Почему?!..
– Потому что я…
Раб сглотнул слюну. Ему запрещалось, и он преступил запрет.
– …люблю тебя.
Девушка отшатнулась. Видно было: меч тянет ей руки.
– Это только в твоем сердце живет, Дарак. Не в моем. Бери меч! Ты воин. Ты разишь без промаха. Думаю, что ты ударишь меня прямо в сердце. Бей под ребро, древним хеттским ударом. У нас в Анатолии…
Он бросился к ней и закрыл ей рот черной рукой. Она отпрянула от него. Вырвалась из рук, уже цепко схвативших ее. Отбежала в сторону от гробницы, по ступеням.
– Не хочешь ты – так я сама!
Черный раб дышал тяжело, часто. С высоты своего роста он глядел на Селену нежно, испуганно, жалеючи.
– Не надо. Положи меч. Я… сделаю это… ради тебя.
Она села на корточки. Положила меч у своих босых ног. Погладила ножны. Встала, и перисцелиды тоненько зазвенели.
– Прости, великий мир, и вы, боги, царящие в нем, – громко сказала она, повернувшись к лежащему в саркофаге, – и здравствуй, сужденный мне, светлый…
Какое прекрасное у тебя лицо и по смерти, возлюбленный мой. Ты прекрасен, ты счастлив. Как я счастлива тобою была на земле, так я счастлива буду с тобою в небесных объятьях. Люди созданы богами, чтобы любить друг друга или убивать друг друга. Другого не дано. Я люблю тебя. Я убью себя. Я приду к тебе. Мы полетим между светил.
Черный раб подхватил ковчег, натужась, приподнял его и высыпал в саркофаг царя все драгоценности, принадлежавшие Селене, любимой царской наложнице, купленной рабыне, девчонке с Нижнего рынка в Эфесе. Золотая маска Селены зазвенела, падая на цепи, браслеты, ожерелья, нагрудники, повернулась перевернутым лицом, и золотые губы усмехнулись. Верно ли я делаю, госпожа?.. Все верно, верно. Я так хотела. Все мое уйдет со мной. Она погрузила руки в россыпи огней, зовущиеся дорогими камнями. Камни, живые, горящие, глядели на нее тысячью глаз. Как она любила их! Ведь он их ей дарил. Он дарил ей себя, и это был величайший подарок. Он дарил ей свою жизнь.
Пора. Она вынула руки из моря цветных сполохов. Она стояла против Дарака, и одна грудь выскользнула у нее из-под легкой ткани туники, и сосок торчал темным маленьким фиником, но черный раб уже не замечал ничего. Он видел только – горят женские глаза, живые и бесстрашные, и смерть мужчина сжимает, тяжелую и обоюдоострую, в своем черном кулаке.
– Я простилась с земным. Можешь бить. Изловчись и ударь прямо в сердце.
Он с ужасом глядел на вздымающуюся нежную грудь. Смуглоту и розовость, солнечную медь загара испещряли тени, как письмена. Факел горел и чадил. Девушка смотрела на него. Он много людей убил в жизни, а еще больше зверей, и птиц ему приходилось стрелять, и гадам головы разбивать камнем; змею в ливийской пустыне он разбивал голову камнем, и змей глядел на него, как человек. Но эта девушка!.. Эта…
– Я не могу.
Она шагнула к нему. Улыбнулась.
– Дай я тебя обниму. Вот так. И ты воткнешь меч свой мне под ребро легко – тебе не надо будет применять силу… Дарак, верный мой!..
Она обняла его обеими руками за шею. Он обнял ее одной рукой. Другой рукой он держал меч царя – меч был уже обнажен, ножны, сброшенные, валялись у его ног. Он закрыл глаза. Она тоже. Его дыханье превратилось в хрип.
– Боги мои…
– Бей!
– Поцелуй меня…
Она приблизила губы к его губам, пахнущим солью и йодом, как морская трава, и тогда он ударил. Коротко, резко – снизу вверх. Он услышал легкий, тихий хруст раздираемой сталью плоти. Собака рванулась к нему, напавшему на госпожу, зарычала, вцепилась ему в ногу – он не чувствовал боли. Ему на черный живот, чуть укрытый вышитой бронзовой нитью перевязью, хлынула ее теплая кровь. Он открыл глаза и увидел, как Солнце всходит на ее лицо, озаряя его изнутри. Он увидел ее счастливую улыбку.
– Спасибо тебе, Дарак, ты храбрый воин, – услышал он прерывистый шепот, сжимая ее, умирающую, в объятьях. – Положи меня… рядом с ним… и меч… и меч между нами…
Он подхватил ее, обливающуюся темной кровью, на руки, положил рядом со спящим царем. Так, чтобы ее голова покоилась у него на плече, а рука лежала у него на груди. Так всегда спят возлюбленные. Так бы и он с ней спал, если бы… если…
Она захрипела, кровавый пузырь вздулся на ее губах. Потом последняя судорога изогнула ее тело, и она утихла. Еще минуту черный раб смотрел на обнявшихся, спящих вечным сном. Жилище блаженных отверсто им. А ему?!
Он поднял окровавленный меч. Взял обеими руками. Расширившимися глазами глядел на острие, повернутое к нему, к его горлу, к груди. Один миг. Это один миг, всего лишь. Не больше. Зато после – вот оно, блаженство. И ты уйдешь вслед за ними. Ты уйдешь вслед за ней, за Селеной. Ты понесешь между звезд ее царское покрывало, как не носил никогда здесь, на земле. Там ты не будешь ее рабом. Там ты сможешь взять ее на руки и нести целый век между звезд, и боги будут завидовать вам; и ты не посадишь ее на колени к царю Ламиду, ты посадишь ее на колени свои.
Одним ударом он вогнал себе меч туда, где, по исчисленьям лекарей, находился желудок. Повернул лезвие так, чтобы разрезать, разрубить острую боль. Надо убить боль, тогда придет блаженство. Собака, сидевшая близ саркофага, подняв кверху морду, тоскливо, протяжно завыла. Он воткнул меч еще глубже, достав до важной точки жизни, потом выдернул с криком из себя. Не упал сразу. Зажав рану рукой, с мечом в руке шагнул к открытому саркофагу. Взял золотую маску Селены, закрыл ей маской лицо, погладил золотой холодный лоб. Последним усильем положил, уже ничего не видя от боли, заволокшей зрачки, окровавленный царский меч с золотой рукоятью, где была выкована смеющаяся девушка, сидящая верхом на диком льве, вцепившись зверю в гриву, туда, между телами, лежащими в радостном вечном объятьи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕРТВАЯ ТРОЯ
Он взял билет на тот самый поезд. На экспресс Стамбул – Измир.
А думал, что перепутал. Нет, все верно. Бежать, не опоздать. Сколько на вокзальных часах?.. О, у него спешат, как всегда. Он торопится жить. Он гонит время, как встарь воины гнали плетью коня. Он знает цену времени. Ему ли не знать!
Настоящий археолог относится к жизни и смерти спокойно. Беспокойно он относится лишь к находкам. Находки – о, это способно взбудоражить душу, разрезать сердце пополам. Находки – это любовь. Ты ищешь любовь всю жизнь по белу свету – а она вот, рядом, под ногами, над головой. Это верно так же, как то, что он профессор Роман Игнатьевич Задорожный, доктор исторических наук, автор нашумевших книг об археологических открытиях на плато Расвумчорр, в устье Амура и в Северной Индии. А теперь вот Малая Азия, Турция, древняя Анатолия. Он здесь недаром. Он здесь был когда-то, десять лет назад. Нашел древнейшее поселение в Анатолии. Да, шумиху они тогда подняли. В Измире ждет его его друг, английский археолог Келли. Старина Келли обнаружил в Богом забытом Измире, в лабиринтах узеньких восточных улочек… что?.. Он едет узнать, что. Он согласен работать вместе с занудой Келли. Он – снова на древней земле Трои, и здесь может произойти все что угодно. Радость предчувствия открытия заставляла биться сердце, сушила, как жаркий ветер, губы. Археолог – это солдат. Ему – вечная битва. Он отнимает у времени драгоценности. Кладет их в вещмешок, в дорожный баул. Это потом их положат в сейфы; будут охотиться за ними с пистолетами, в черных масках; созерцать в музеях, на вернисажах и аукционах; выкладывать за них бешеные деньги. Солдат кладет находку в рюкзак и засыпает под смоковницей, приняв на грудь немного черного эфесского вина. Он всегда в пути. Солнце палит немилосердно.
А, вот и эти!.. турецкие лягушки, плохо по-английски квакают, он в сравнении с ними – просто оксфордец… Чиновники Стамбульского управления охраны древностей ринулись к Задорожному, поймав его уже на платформе.
– Простите нас, господин Задорожный!.. мы условились встретиться под часами, вы не дождались… Желаем вам провести время в Измире приятно… Когда вы возвращаетесь в Стамбул?..
У него был билет с открытой датой. Он пожал плечами. Солнце напекло ему высокий морщинистый лоб, загорелый до цвета темной меди, и на насупленные брови скатывались алмазинки пота.
– Не знаю, господа. Думаю, что через дня два-три. У меня там свиданье с… – Он не хотел говорить про Келли. У Кристофера Келли тоже было громкое, как и у него самого, имя. Они разыщут Келли в Измире, они не дадут им покоя. – …с другом. Все выясню, что надо, и вернусь. Искупаюсь в заливе. Говорят, в Измире очень теплая вода. И какая-то особенно синяя. – Он улыбнулся, оглядел чиновников. – Вы не забыли, у нас еще должна быть встреча со студентами исторического факультета Стамбульского университета?..
Ученые лягушки, почтительно квакая, проводили его в вагон, помогли отыскать купе. Заботливо сунули в руки целлофановый, издававший оглушительный хруст жесткий пакет с инжиром, крученой вяленой дыней, россыпями кураги, кусочками орехового шербета. Лакомства Востока. Ароматы Востока. Он вдохнул в себя воздух. В купе пахло будто ладаном. Нет, это был не ладан. Возможно, терпкие арабские духи – недавно тут сидела молодая турчанка, крепко надушенная под чадрой; вышла из вагона; благоуханье осталось.
– О, мерси, я недостоин!.. вы очень внимательны…
– Ешьте, господин Задорожный, стамбульцы без инжира не живут… это у нас вместо американской жвачки…
Когда господа из Стамбульского управления охраны древностей вышли вон, постояв на перроне, отирая потные лбы и щеки, на прощанье помахав для приличия знаменитому Задорожному пухлыми руками и даже платочками, и он только вытянул ноги, чтобы расслабиться, отдохнуть и, быть может, вздремнуть – судя по всему, он поедет один, – как в купе, чуть скрипнув дверцей, вошла молодая женщина.
Девушка. Такая молоденькая. Темный пушок над верхней губой. Не турчанка – гречанка. Без паранджи. Тяжелый пучок иссиня-черных волос, заколотый шпильками низко под затылком, у самой гибкой шеи.
Она улыбнулась, мазнув по спутнику беглым, легким, незначащим взглядом. Села в свободное кресло у окна. Задорожный окинул ее глазами сразу всю. Точно, гречанка. Низко скошенный лоб, с горбинкой нос, глаза как черные сливы. Таких темноволосых смуглых красавиц много в приморских городах Турции. Он подумал о том, что вот славная девушка, и усмехнулся сам над собой. Он по-мужски остро всегда чувствовал красоту, опьянялся ею – хотя бы на миг. Вот и теперь. Сердце бьется так, будто хочет выскочить из ребер. Смешно, почтенный профессор. Седые волосы на висках. Прорези морщин у плотно сжатого рта. Девушка чуть повернула голову. Скосила глаза. От нее не укрылись ни юношеская поджарость дочерна загорелого седовласого попутчика, ни безуминка восторженного блеска в его глазах.
Дорожное приключенье. Почему бы нет. Здесь, в Турции. Вдали от официозной Москвы. Если она заговорит по-турецки – он не будет за ней ухаживать. Он не знает языка. Если по-английски… «Никогда не загадывай ни на что, ни на облако, ни на яблоко, – говорила ему когда-то мать, – это предрассудки…»
– Простите, – сказала незнакомка с легким акцентом по-английски, – это ничего, что я сижу у окна?.. я люблю смотреть, как мимо летит земля…
– Вы гречанка? – вырвалось у него. Глупо. Он понял, что краснеет. Авось сквозь загар не будет заметно.
Девушка улыбнулась снова – теперь открыто, белозубо, не стесняясь. Ямочки вспрыгнули ей на смугло-вишневые щеки. Она вытерла влажный висок ладонью.
– Хрисула, – она протянула ему руку. Он с изумленьем взял ее протянутую руку и поцеловал. Задержал в своей. Поезд плавно сдвинулся с места, застучал колесами, набирая ход.
– Профессор Задорожный.
Он продолжал держать смуглую нежную руку в своей. Черные, стрелами, брови девушки поползли вверх, глаза восхищенно округлились. Ее лицо ясно говорило о радости, об удивленье. Что за черт! Не может быть, чтоб он был так в Турции знаменит, как российский Президент!
Господи Боже, что это у нее на запястье. Что это…
– Господин Роман Задорожный?! – Как смешна в ее вишневых устах его хохлацкая фамилия. – У нас… вас многие знают… Это вы… это вы руководитель сенсационных раскопок в Западной Анатолии?.. ну, тогда, десять лет назад… вся Турция гудела…
– Да, – кивнул он, по-прежнему не выпуская ее руку, – самое древнее поселение в этой части Азии. Десять тысяч лет назад люди здесь уже обжигали кирпичи, делали красивую посуду, лепили из глины богов и богинь… Вы богиня, Хрисула, – сказал он и засмеялся, сжимая ее руку. – У вас очень горячая рука. Вы можете обжечь.
Она, не выдергивая руку, смеющимися черными глазами глядела в его глаза.
– Я не богиня. Я простая смертная.
Он опустил взгляд. Браслет. Огромный, тяжелый, витой золотой браслет на хрупком смуглом запястье. Он не смог оторвать глаз.
Он наклонился над ее рукой, отвечая на еле слышное зазывное женское пожатье. Древний. Да, очень древний. Страшно древний. От браслета пахло тысячелетиями. Его мечта. Его несбыточная мечта – выкопать из-под земли в выжженной, насквозь ископанной Азии такую диковину. О, да, как дикий золотой зверь. Как змей, обхвативший тонкую девичью руку. Задорожный впился глазами в браслет. Его зрачки бегали, схватывая, анализируя, отмечая. Троя?! Нет, еще древнее. Древнее на тысячу, на две тысячи лет. Матовое золото. Непонятный узор, похожий на узор звезд. Рельефный рисунок, полустершийся: бегущий лев с разинутой пастью, на нем… всадник?.. всадница?.. Древнее Трои… на сколько?.. Сколько тысяч лет этому украшенью?.. Пять… шесть… семь… больше?!..
Хрисула вырвала руку. Ее глаза сияли и смеялись. Ее рот смеялся тоже.
– Вы слишком сильно сжали мне пальцы, господин профессор, – бросила она, поправляя на низко открытой груди дешевую побрякушку со стамбульского рынка. – Вам понравился мой браслет?..
У Задорожного дернулся кадык. Он закусил губу. Конечно, что же еще делать девочке, как не смеяться. Старый придурок, который, вместо того чтобы виться мотыльком вокруг прелестного цветка, сгорбился над безделушкой, приклеился к ней глазами. Он проклинал свой профессиональный интерес, но не мог отвести глаз от браслета. Черт бы побрал! Эта чернявая бойкая Хрисула наверняка уже послала его к черту. Туда ему и дорога, а не в Измир. Сейчас эта девчонка спрыгнет на первой же станции, и…
– Мне не то чтобы понравился ваш браслет, – стараясь говорить спокойно, ответил он. – Я в восторге от него. Я… потрясен. Вы, надеюсь, понимаете волненье археолога…
Да, она понимает. Она же понимает. Его же имя известно ей. Она простит его! Она расскажет ему, откуда у нее эта вещь, почему, зачем… Старина Келли рассказывал же ему, как однажды на базаре в Газиантеке ему под руку подвернулся старый, бородатый, как дервиш, пьяный нищий, и Келли купил у него редчайшую золотую монетку с профилем Александра Македонского. Такие монетки держали в руках Аристотель… царь Дарий… гетера Таис…
– Вы понимаете…
– Я понимаю, – ее темно-вишневые губки изогнулись луком. – Вы хотите спросить…
– Я все хочу! – Он почти выкрикнул это. – Я хочу знать, откуда у вас эта бесценная вещь! Ей цены нет, да нет, вы не понимаете… Я хочу знать, нашли вы его, вам подарили, вы… украли… или…
– Все гораздо проще. Семейная реликвия. Такие вещицы у нас в семье передаются по наследству. Из поколенья в поколенье. Традиция, – Хрисула озорно взглянула на него, погладила браслет ладонью. – Я, знаете, так привыкла к нему, он такой теплый, золотой… будто бы греет руку… как… как ваша рука.
Он снова взял ее руку в свою. Какая темная, мрачная, как коряга, его рука, так давно и долго ковыряющаяся в камнях и в земле, рядом с ее нежной, лепестковой лапкой.
– Нельзя ни продать, ни обменять, – покачала она головой, когда он, проведя пальцем по браслету, поглядел на нее исподлобья. Поезд трясло, качало, чуть подбрасывало на стыках. Скорость была уже большая. Когда мимо проносился встречный, за окном раздавался резкий хлопок, мелькала серая лента состава – и все. Он отчего-то подумал о крушенье. Если на такой скорости поезда столкнутся, будет железная кровавая каша. Никакой археолог не откопает никаких останков. Бог перемелет их в жерновах.
С каким странным акцентом она говорит по-английски. Да, бойко, да, быстро, за словом в карман не лезет, однако… Акцент не стамбульский. Американский.
Какая чушь. Девочка такая местная. Она из этих мест, с этой земли, проносящейся за окном – высушенной неистовым Солнцем, усеянной белокаменными, слепяще-известковыми постройками, с берегов этих пересыхающих летом речек, из-под шелестящих пыльных крон этих маслин и смоковниц. Она такая тутошняя, при чем тут Америка?..
Тепло их рук перетекало друг в друга. Он слышал, как в ее руке бьется ее кровь.
Надо найти способ. Надо найти. Ни продать, ни обменять. Придумай что-нибудь. Придумай быстро, Роман. Ты же можешь придумать.
– Я хотел бы… – его голос внезапно пронизался задыхальной хрипотцой, – взглянуть… на вашу семейную коллекцию, мисс. Только взглянуть. Ничего более.
Она покосилась на фотоаппарат, висящий у него на плече на тонком ремешке – он так и не снял его, усевшись в купейное кресло.
– Я понимаю, снимать нельзя… но… Если вы говорите правду и у вас дома много таких вещей… вы… вы даже не представляете себе, какая это ценность для мировой науки!.. Где вы живете?..
– В Измире.
– Вот чудеса. И я туда же еду.
– Я рада.
– Ваши сокровища… в Измире?..
– Да. У меня дома.
Она опять ожгла его взглядом. Он спохватился, выпустил ее руку, подвинул к ней хрустящий пакет со сладостями.
– Угощайтесь. Всякая ерунда, финики, инжир… Вы никогда не учились в Америке?..
Хрисула, запустив, как обезьянка, руку в пакет, помотала головой. Сказала с набитым инжиром ртом:
– Поедемте к нам домой. Вы все увидите. Разумеется, это… – Она проглотила инжирину. – …не без трудностей. Я постараюсь все устроить. У меня очень строгие мама и бабушка… ну, вы знаете наши греческие дома, патриархальный уклад… там у нас все, как при Одиссее, как при Архилохе, ничего не изменилось, особенно в турецкой провинции… Такому известному человеку, как вы, они-то уж разрешат показать кое-что!.. разрешат, я уговорю их…
Господи, какое счастье. Ему повезло! Да еще такая хорошенькая…
Прекрати, старый Дон-Жуан, эта смоквочка тебе не по зубам.
Наплюй на сомненья. Ее глаза горят огнем и внятно говорят тебе все. Они говорят тебе: мы приедем ко мне домой, мы будем пить кофе в тени дикого винограда на террасе, пить греческое вино, и кислое и сладкое, а потом тебе покажут коллекцию, и, возможно, ты уломаешь меня и сделаешь два-три снимочка, а потом тебя уложат спать на чисто постланную постель наверху, в мансарде, и я приду к тебе, обовью твою шею руками. Дурак, а Келли?! А твои дела в Измире?! Ты совсем спятил. Это все жара.
– Вот и прекрасно, – боясь поверить, наклонил он отблескивающую сединой голову. – Мне есть где остановиться в Измире…
– Вы остановитесь у нас, – Хрисула улыбнулась так, что сердце у него захолонуло. – Такой знаменитый господин не должен ни о чем беспокоиться. Я все устрою. У нас очень уютно. На самом деле бабушка и мать очень добры. Я зря вам их ругала. Вы сами увидите.
На миг перед ним скользнула тень опасности, как серая змея высохшей смоковницы, мгновенно пронесшаяся за окном. Не слишком ли все быстро?.. И поезд, и попутчица, и драгоценный браслет, выплывший из мглы тысячелетий… Подделка?.. Он не может ошибиться. Он не ошибался никогда. Время выделывает вещь так, что все трещины, сколы и щербины дышат летописью, одушевляют ее. У браслета есть дух. Как у живого существа. Задорожный, ты стал мистиком. Поди лучше в буфет, принеси воды спутнице. Плохо же ты за ней ухаживаешь.
– Вы куда, господин профессор?..
– Принести вам попить. Вы же умираете от жажды.
Она, улыбаясь, встала. Встал и он. Прежде чем он вышел за дверь, она закинула ему руки за шею, приблизила к себе его голову – она была с ним почти вровень, одного роста – и поцеловала его таким жарким и веселым поцелуем, что лицо, грудь и спина у него стали красные и горячие, как ошпаренные кипятком в бане.
До Измира оставалось совсем немного. Поезд замедлял ход. Они пили холодную ключевую воду, беседовали. Съели весь инжир. Иногда Хрисула поднималась из кресла, вставал и он, обнимал ее. Он чувствовал ребрами ее ребра. Когда он попытался посадить ее к себе на колени, она воспротивилась. Оттолкнула его, упершись ладонями ему в грудь.
– Господин Задорожный, – сказала она, кусая, как вишню, нижнюю пухлую губу, откидывая с плеча развившуюся, выскользнувшую из пучка прядь, – я не знала, что вы…
– …что я такой нахальный?..
– Что вы такой замечательный. Давайте есть курагу. Ее в пакете еще много. Еще и дыня. Мы сушим ее на крышах, и на нее садятся мухи, шмели, по ней бегают кошки и собаки. Вы не брезгуете?..
– Изми-и-ир!.. Изми-и-ир!.. – разнесся по всему вагону гнусавый голос проводника. Хрисула вскочила. Сгребла в горсть пакет с сушеными фруктами. Ого, запасливый ежонок, улыбнулся он.
– Выходим, господин профессор!.. Я сейчас поймаю такси, вы же не знаете турецкого…
Жара уже спадала, Солнце переставало палить столь нещадно. Однако вся рубаха у Задорожного на спине промокла, пока они тряслись в поезде, ели-пили и целовались. Переодеться бы, принять душ. Теперь у нее дома, у Хрисулы. Он идет в чужой дом. Не лишне было бы сначала, прямо с вокзала, позвонить старине Келли. У него есть его измирский телефон, а дом он сам бы отыскал в хитросплетеньи восточных узкогорлых улочек – Келли останавливался всегда у старухи Файруз, она дешево брала, в округе было спокойно, мало грабили и стреляли, а еще у старухи был сад, сплошь засаженный смоковницами, инжиру – ешь не хочу. У него хорошая зрительная память, как у всякого археолога. У него глаза – как два фотоаппарата… Но почему, почему эта девушка… и так все быстро и странно…
Подрулила машина. Хрисула наклонилась к ветровому стеклу. Она стояла к Задорожному спиной, и он не смог увидеть, как она перемигнулась с водителем такси.
– К пристани, и скорее!..
Да отчего же скорее. Отчего.
Они сели сзади, водитель, обернувшись, показал прокуренный желтый клык.
– Что он сказал?.. – Он обнял девушку. – Турецкий язык такой же красивый, как итальянский, жаль, я не выучил, лентяй…
– Он говорит, что мы с вами хорошая пара, господин профессор, – Хрисула, прижимаясь к нему, подняла смуглое лицо, блестевшее потом, он вдохнул ее запах и почувствовал, как пахнет от нее елеем и финиками, – а вы бы хотели, чтобы у вас была такая жена, как я, господин профессор?..
Он сильней прижал ее к себе. С женой он расстался полгода назад. Они прожили вместе двадцать лет. Она не изменила ему, и он не изменил ей; они просто выпили свою чашу до дна, и ни капли влаги не осталось.
Такси тормознуло у маленькой белой пристани. Вода в заливе была и впрямь синяя, совершенно синяя – такой кубово-синий, торжествующе-сапфировый цвет, переходящий в свет, Задорожный видел едва ли не впервые. Нет, стоп, еще в бухте Новый Свет в Крыму такая вода. Сапфир, изумруд, густо-синий и праздничный.
Хрисула выпрыгнула из машины. Потянула его за руку.
– Выходите!.. Мы должны переплыть через залив… на тот берег… Эй, лодочник! – крикнула она по-турецки. – Сюда!..
Белая лодка подгребла к камням, причалила к боку пристани. Белый цвет, ну да, он же отражает Солнце. Здесь, в Турции, в Греции, на островах Архипелага, народ спасается от Солнца тем, что красит все в белый цвет. И носит белые одежды. Как ангелы Божьи. Чудесная мода. А мы, в России, в вечных шубах, мехах… правда, зима у нас тоже белая, белый песец, лисий хвост…
– Садитесь, не бойтесь… я живу на том берегу…
Лодка шатнулась под его ногой, когда он вступил туда. Он чуть не упал в воду. Удержался. А Христос, между прочим, ходил по водам. Совсем недалеко отсюда, в Тивериадском море…
Лодочник, неряшливо-бородатый, смахивающий на русского вокзального нищего, греб по старинке, весла обдавали сидящих брызгами. Вечерело, и шар Солнца, как алый апельсин, скатывался в море, пропадал за изгибом темных скал, желто-белого известняка. Лодка ткнулась носом прямо в камни. Хрисула уже расплатилась, пока Задорожный вытягивал из кармана бумажник.
– Ехать дальше?..
– Да, еще немного… погодите, профессор, я сейчас поймаю машину…
Странно, до чего расторопная девочка. Его не покидало ощущенье – его поймали, как такси. Он косился на золотой витой браслет, пытался отбросить от себя это гадкое чувство. Ему показалось, что таксист, высунувшийся из-за стекла, посмотрел на Хрисулу, как на давно знакомую. Ну и что, тут, в Измире, все знают друг друга, как в русской деревне, здороваются на улицах; знают, кто когда женился, кто развелся, кто с кем спал, кто у кого родился, кто кого убил. Если уж в Москве знают… Какая разница. Может, этот парень ее бывший любовник. Ему это не важно. Ему важны сокровища. И он их увидит.
Едучи в машине, он пощупал фотоаппарат, побарабанил пальцами по кожаному боку кейса: там записные книжки, альбомы, карандаши, фломастеры, калька, копирка, небольшой «ноутбук». Он экипирован будь здоров. Старая выучка. Если ему даже не разрешат фотографировать ни в какую – он зарисует… Он почувствовал на колене руку Хрисулы. Ого, повадки опытной куртизанки. А ты бы как хотел, наивный русский романтик?.. В Трое, в Афинах, в Пантикапее, в Эфесе в баснословные времена были гетеры, и они процветали. Хрисула, судя по всему, красивая турецкая гетера. Тем лучше. Интересно, сколько она стоит?.. Дорожное приключенье, приключенье…
Машина кружилась по узким улочкам восточного городка так долго, что у него закружилась голова. Остановилась у маленького домика, утопавшего в зелени, изрядно подвяленной нескончаемой жарой. Хрисула сунула водителю бумажку и клюнула Задорожного в щеку.
– Приехали, дорогой. – Это английское «darling» странно резануло его. Вдруг так запанибрата?.. Ну да, интим, они уж целовались… Внезапно все это – его знакомство в поезде, браслет на тонкой руке, блужданье в машине по паутине прокаленных Солнцем улиц – показалось ему ужасом, бредом. Оранжевое Солнце во лбу бездонного неба, как одинокий глаз циклопа. И он перед домом, где ждут его сокровища. Ждут?.. – Добро пожаловать. Сейчас вы все увидите. Я вам все покажу. Вылезайте из машины. Проходите… Я открою дверь…
Она наклонилась к шоферу, что-то прошептала ему на ухо. Мужик со шрамом на щеке кивнул, крутанул руль. Пыль взвилась из-под колес и забила ноздри. Задорожный отер лицо ладонью. Откроет?.. Разве дома никого нет?.. Ни матери, ни бабушки?..
Хрисула недолго копалась с ключом. Дверь легко подалась под ее загорелой рукой.
– Входите. Вы гость. Вы войдете первым.
Он наклонился, чтобы не удариться головой о притолоку – все же он был высок, его жена ругалась в шутку: «Останкинская башня!..» – и вошел, впал в темное пространство восточного дома. Ни света. Ни искры. Светильников нет. И дома никого нет, похоже. Где он?.. В прихожей?.. Не видно ни зги, что за дьявольщина. Внезапно сзади резкий стук заставил его обернуться, и в тот же миг вспышка ослепила его, свет хлестнул его по лицу – фонарик?.. выблеск софита?.. Он зажмурился, и в тот же миг удар в печень согнул его пополам; его руки подхватили, завели за спину. Ногой втолкнули в распахнувшуюся перед ним дверь. Он тяжело дышал, хотел повернуться, хотел крикнуть: кто вы?.. за что?!.. – и понял ясно, непреложно: влип, попался. В комнате, куда его втолкнули, было темно, но можно было различить лица, руки. Далеко, в углу под потолком, горел светильник. Такие светильники жгли на Востоке в незапамятной древности, наливая туда жир и вставляя толстый фитиль. В тусклом свете, будто потустороннем, мерцали серьги в ушах мужчин, блестели зубы, настоящие и вставные. Синела щетина на щеках. Сколько их было?.. Трое?.. Четверо?.. Задорожный различил круглый стол, на столе – узкие высокие бокалы, длинногорлую темнозеленую, будто изумрудную, бутыль, лежащую на боку медную флягу. Притон, поздравь себя, Роман. Ты вляпался классически. Неужели и браслет – поддельный?! Нет, старик, ты же дока, ты не мог ошибиться, ты не ошибался никогда…
Он услышал сбоку частое дыханье. Хрисула. Она стояла тут же, рядом. Хорошо сработала девочка. Классический захват. Актриса, ты бесподобно сыграла свою роль. Только вот чем они поживятся, турецкие урки?.. У него при себе всего пятьсот баксов; карточка банка – в отеле, в Стамбуле, он забыл ее в кармане парадного смокинга и льстил себя надеждой, что до нее не докопаются ручонки горничных. Да, девочка, хороша ты, спору нет. Да, мы могли бы быть парой. Интересно, как мы смотрелись бы. Жаль, тут зеркала нет. Русский профессор с заведенными за спину руками; стамбульская шлюха, вся в поту, тяжело дышащая, умирающая от жары, сделавшая свое грязное дело. Хоть сейчас под венец.
– У меня нет никаких особенных денег, господа, – как можно холоднее сказал он по-английски, обливаясь потом, слизывая влагу с губы. – Возьмите пятьсот долларов, если вас это устроит. Ничем помочь не могу. Я…
Мужик, небритый, в синей щетине, с грубо заросшим рубцом, прочерченным через весь лоб, вразвалку подошел к Задорожному. На Романа наплыло его лицо. В мочке сверкнула капля золота, как у пирата. У, турок, как злобно он глядит. Кто так больно сцепил сзади его руки?! И не поборешься. Дурень, он не захватил с собой в Измир оружье. У него лицензия, у него отличный «браунинг» в Стамбуле, в отеле… Предупреждали ведь, что в Турции охотятся на русских, отстреливают русских, как осенних уток…
– Вдохни глубже, профессор, и расслабься, – на чистом русском языке сказал синемордый мужик с серьгой в ухе. – Нам не нужны твои деньги. Нам нужен ты сам. Живой, здоровый, веселый и умный. Поэтому не пикай. А веди себя прилично. Ты же хороший мальчик. Тебя же весь крещеный мир знает.
– И некрещеный. – Из тьмы выступил другой. Гладкое лицо. Будто фарфоровые щеки, как у девушки. Вездесущие русские, для чего вы с турками спелись. Добыча вечных баксов?! Ты же слышал – им не нужны твои деньги. – Вэлкам, вэлкам к нам, дарлинг. Ты же так хотел увидеть сокровища. Ты их увидишь.
Сокровища?! Значит, это не вранье?! Он обернулся к Хрисуле, мучительно выгнув шею. Она глядела на него неожиданно печально, нежно.
– Прекратите меня держать! Отпустите! – Он дернулся всем телом. – Если вы русские – объясните, где я! И кто вы! И зачем я вам!
– Затем же, зачем тебе сокровища. – Фарфоровый истукан взял безжизненно повисшую руку Хрисулы, поднес к лицу Задорожного запястье с браслетом. – Ты положил глаз на железяку. У тебя губа не дура. Такого добра у нас, мистер Задорожный, целый сундук. И мы подозреваем, что ему не одна тысяча лет. Мы напали на клад, и мы упускать его не собираемся. Это немыслимые деньги, ты понимаешь. Все мы это понимаем. Отпусти его, Ахсан! Куришь?.. Хорошие, хоть и турецкие. Пробуй.
Задорожный размял затекшие в железной, клещевой хватке кисти, пальцы, взял сигарету из золотого портсигара, изукрашенного алмазами. Шикуют ребята. Дешевка, игра в роскошь, игра в сладкую сытую жизнь. Ход над пропастью по тонкому канату. Натянут чуть посильнее – струна лопнет. Натяг ослабнет – свалишься в пропасть, разобьешь башку о камни. Когда это разбой был беспечным и безопасным, как бритва?.. Фарфоровый виртуоз поднес к его носу зажигалку. Он затянулся. Слава Богу, руки не дрожат. Какого дьявола им надо от него?! Сундук сокровищ… Если не брешут – где ж он?!
– Ты пленник, профессор, – медленно, будто жуя жвачку, сказал синемордый. – Немножко побудешь пленником. Ведь точно не был никогда.
– Ахат! Закинь его в камору, где сундук! – крикнул фарфоровый. Синемордый грубо рванул Задорожного за плечо.
– Покурил, и будя. – Он вынул у него изо рта двумя пальцами сигарету и бросил на пол. – Делу время, потехе… – Он толкнул Романа в спину. – Ступай! Туда! Вон! Открыта дверь!
Еще одна дверь, и в полную темноту. И пахнет горелым, будто недавно сожгли здесь шерсть или бумагу. Небритый Ахат ударил его по спине, и он чуть не упал через порог. Снова тусклый свет – теперь уже не под потолком: снизу, с пола. Керосиновая лампа. Он уж и забыл, как они выглядят. У них на даче, в детстве, была такая. Они с братом чистили ее стекло песком. Любили зажигать – в дождь, в непогоду… И посреди комнаты – крестьянский кованый сундук, и он делает шаг, еще шаг, еще шаг к сундуку… И среди тряпок, среди грязных лоскутьев, там, внутри, в сундуке…
Он поднял голову. Поглядел невидящими глазами. Прямо на него было наставлено дуло револьвера.
– Ты будешь работать на нас, великий профессор, – насмешливо выдавил фарфоровый идол. Револьвер сидел в его кулаке, как влитой. – Ты будешь работать на нас, а нет – я всажу тебе пулю в лоб прямо здесь, перед этим сундучком. Мы немало поработали, чтобы завладеть тем, чем мы теперь владеем. Правда, пришлось повозиться. Этот мужичонка оказался такой капризный. Мог бы остаться жить, между прочим, если б не так артачился. Он, собака, подстрелил одного нашего малыша. Я этого вынести не смог. Хотя, конечно, разумней было бы оставить его в живых и еще немножко потрясти. Мы бы вытрясли из этого дырявого мешка еще кое-какие сведенья о древних захороненьях. Теперь поздно.
По спине Задорожного потек пот.
– Кто нашел клад?!
Фарфоровый искривил губы. Поиграл револьвером.
– Один америкэн бой. Здесь, недалеко от Измира. Мы знаем, где, и копнем еще там сами. Мы взяли у него золото тепленьким, только что откопанным. Нам повезло. Нам никогда так еще не везло. Я, конечно, профан, но даже я понимаю, что золотишко – старее некуда.
– Кто нашел…
Он глядел в черную дырку дула.
– Крис Келли, старая перечница. Хитрый янки, сперва хотел нас обдурить, совал нам краснофигурные идиотские черепки с анатолийского побережья, потом начал палить. Недолго парень поиграл в бесплатном тире. Его картонного оленя быстро ранили стрелой.
Задорожный ничего не видел из-за яростных мгновенных слез, заслонивших ему тьму каморы. Крис. Старина Крис. Эх, Келли, он не успел. Кто не успел – тот опоздал.
– Ты будешь работать на нас. Мы запрем тебя здесь. Делай научное описанье вещичек. Мы не будем тебя торопить. Еду тебе будут приносить. Говорить с тобой не будут. Все бирюльки взяты из одного могильника. Так сам Келли сказал. Фотографировать нельзя. Можешь делать зарисовки и записи. И запоминать. Тренируй память, профессор. Это всегда полезно.
Как кривится фарфоровая рожа. Как в кривом зеркале. Как мигает керосиновый фитиль у него за спиной, под ногами, на полу. Ему неважно, где он будет спать, что есть. Его оставят наедине с сокровищами. И он будет знать про них все. Он будет видеть их, осязать. Он запомнит их. Он расскажет о них миру. Но ему не поверят. Придумать можно все что угодно. Какая изощренная пытка. Зачем им его записи и умозаключенья?! Зачем им его работа?! За какие деньги они продадут ее, куда… в научные журналы?!.. бессмыслица, бессмыслица… или они продадут сокровища… а его возьмут живым свидетелем?!.. Свидетельствую, ибо истинно…
Под куполом головы стоял легкий звон, как внутри Айя-Софии. Еще бы одну сигарету. Да ведь не дадут.
Синемордый Ахсан пощупал пальцем серьгу в ухе. В соседней комнате простучали каблучки. Туфельки Хрисулы. Боже, с каким бы наслажденьем он бы прильнул сейчас губами к живой руке, не к золотому браслету. Он клюнул на браслет, как щука – на блесну. Оставят ли они его живым?! Он сделает свое дело… и его шлепнут… как Криса?!..
– Ты будешь работать на нас.
Русские хари, ловцы знаменитостей, вы тоже на кого-то, падлы, работаете.
– Ты будешь работать на нас?!
Дуло револьвера глядело на него, и ему показалось на миг – там, внутри черного кружка, туннель в ничто, бесконечность.
… … …
Утреннее море было светлым, как внутренность перламутровой раковины, улыбчиво-нежным, и рябь скользила по нему, и свет сквозил со дна, сквозь переплетенья диких темно-зеленых водорослей, похожих на длинные русалочьи волосы; косы водорослей были видны с высокого обрыва, с глинистой кручи над самой кромкой прибоя. Море утром было светлым и тайным, как ее нежное имя – Светлана. Оно все вспыхивало радугой огней, потому что Солнце всходило все выше, все ярче заливало жидким золотом водную широкую гладь, и йодистый ветер налетал, опалял лицо, внезапно дул с севера порывом прохлады, и она, стоя на обрыве в черном сыром купальнике, подставляла ветру щеки. Утро! Это было ее утро. Она старалась проснуться задолго до момента, когда Сережа Ковалев забьет ложкой в медный таз и занудно заканючит: «Подъе-о-о-ом!.. Подъе-о-о-ом!.. Шесть часов, господа!.. На работу!..» Она просыпалась в пять и бежала к морю – купаться, одна. Она любила входить в море одна, одиноко и радостно, оставаться наедине с морем, отдаваться ему, смеяться, плывя и кувыркаясь, разрезать головой и руками солнечную золотую дорожку. Ночью дорожка на море была серебряная, и Светлане казалось – по ней можно пройти босиком. Она ходила купаться и ночью, но не одна – с поварихой Славкой Сатырос, с Ковалевым, с Князем Всеволодом. Всеволод Ефимович Егоров, которого все звали то «Князь», то «Прораб», трясся над Светланой, берег ее пуще глаза, как найденный в раскопе осколок драгоценной чернофигурной вазы седьмого века до Рождества Христова. Князю Всеволоду нравилось, как Светлана поет. «Певица, соловушка, даром что медсестра!.. Спой еще эту, цыганскую, „Невечернюю“, что ли… уж больно за душу берет…» Взяли медсестру в археологическую экспедицию, эка невидаль!.. неважно, кого взять, умела бы работать, копать, промывать черепки и иные находки в тазу, освобождая от земли и глины… А надо будет – где и рану перевяжет; и порошочек даст. В аптечке экспедиции имелись и ампулы с антибиотиками, и одноразовые шприцы – мало ли кого и как прихватит! Тамань, станица Тамань, позади Темрюк, впереди, через пролив, – старая Керчь… И могучее Солнце, сияя ярче, чем тысяча алмазов, восходит над неистово-синим морем, зовя в ту даль, откуда нет возврата.
Коля, Колечка Страхов, милый повеса с Якиманки, зачем ты сманил ее в эту волшебную экспедицию… Здесь так хорошо. Здесь море так пахнет йодом. Не тем, не больничным… Неужели когда-нибудь лето закончится, и надо будет отсюда уехать… Зато они привезут в Пушкинский музей много откопанных древностей… и люди потом, столетья спустя, будут глядеть на красоту, спасенную ими, спрятанную за стеклами музея… спасенную – ею, простенькой медсестричкой Светланой Костровой!.. За что ей такая честь… Колька Страхов был ее закадычным дружком, никаким не любовником, хотя все в экспедиции думали: хорошо таятся ребята, притворяются. Коля, распивая с ней вечные чаи в коммунальной скворешне на Якиманке, любил повторять: «Не дрейфь, Светулик, кто был ничем, тот станет всем». Коля, на ее взгляд, уже и был всем – на все руки от скуки: и разносчиком газет, и маляром, и слесарем, и электриком, а искусство любил превыше всего, и ее увлеченье пеньем поддерживал: давай, Светулик, жми во все лопатки, обскачи-ка Земфиру и Алсу, тебе памятник золотой благодарная публика поставит!.. Страхов строчил недурные стишки, и Светлана заставляла его писать тексты для рок-групп, где она подвизалась: гордись, мужик, что я тебя пою!.. Весной Коля невесть как скорешился с ребятишками-реставраторами из Пушкинского музея на Волхонке, те познакомили его с археологами, и все произошло в мгновенье ока. Поедешь на все лето работать в раскопе?.. Конечно, поеду!.. А что такое раскоп?.. Слово пугало мрачной погребальностью. В нем слышалась погибель. Коля объяснил, смеясь. Какое дивное лето! И эти вставанья в пять утра, и море, пахнущее йодистыми водорослями, и мытье черепков в медном тазу, и кислые яблоки, что на животах под рубахами притаскивают в лагерь Серега и Князь Всеволод, крадя их в беспризорных таманских садах, и звезды по ночам, похожие на плачущие от счастья глаза… А будет осень и Москва. И жить – непонятно на что. Из больницы она уволилась; в столичных непрестижных рок-группах, вчера из подворотни, где она пела, пробуя выразить себя – у нее был и вправду сильный, яркий голос, и на сцене, именно в рок-стиле и в рок-текстах, с их открытым сопротивленьем и трагическим флером, она чувствовала себя свободно – не платили ни шиша, ребята, пытаясь пробиться, сами искали спонсоров на закупку музыкальных инструментов, на аренду зала для концерта; здесь, в экспедиции, обещали дать деньжат, сам начальник обещал, профессор Задорожный, так повариха Славка сказала, а Светлана его самого еще и в глаза не видала, какой-такой этот великий профессор: она прилетела в Симферополь, а он как раз улетел в Стамбул на неделю, ребята сказали – нечто нашли в Турции примечательное, подробности письмом. Занесло ее!.. Археологи… романтики, спятившие на тайнах Времени, юродивые не от мира сего… Вечерами, у костра, она наслушивалась разных историй – и жутких, и смешных, и мистических, и дико-правдивых до жестокости, до последней обнаженки. Взрослый человек любит сказку. Он до того любит сказку, что его можно баюкать в палатке под свист ветра, как младенца, и рассказывать взаправдашние сказки – до полночи, до звезды…
«Светочка, идем к нам в палатку, расскажи нам историю!..»
«Светочка, посиди с нами, у нас, между прочим, домашнее вино есть и хамса, Колька в рыбсовхозе раздобыл…»
«Светочка, пощупай мне лоб, у меня, кажется, температура!.. ну вот не вру, ей-Богу, честное слово…»
Она, смеясь, проходила мимо мужских палаток, задирала голову к небесам. Крупные киммерийские звезды стремили из себя наружу, в густую бездонную тьму, раскидистые лучи, как полынные лапы, выпускали светящиеся стрелы. Хотелось петь долгую, бесконечную песню, подняв руки к звездному небу. Степь и полынь. И тимьян. И чабрец. И скоро, совсем скоро утро. Южная ночь темна и коротка. И она встает в пять утра и бежит на море – купаться одна. До медного гонга Сереги. До вопля: «Копа-а-ать!..»
Они раскапывали греческую колонию Гермонассу, и раскоп зиял прямо на обрыве над морем. Вылезая из раскопа, они видели море. Необъятно раскинутый по земле водный плат, и полоска суши вдали, туманная, призрачная: Керчь. Древний Пантикапей. Катерки жуками-плавунцами шустро бегали через пролив. В субботу Князь Всеволод разрешал предорогим работничкам отправиться в Керчь, погулять. Они все любили керченские гулянья. Гулянье по ночной Керчи было главным и единственным развлеченьем, если не считать купанья в море. Светлане казалось – она не идет по набережной, она кружится на карусели, и огни рассыпаются, плывут перед глазами, как светящиеся медузы в ночном море. Ребята смеялись, курили, покупали девчонкам дурацкие банки ледяной «Пепси» и «Фанты». В экспедиции была одна иностранка, миссис Моника Бельцони. Она была американка, а замужем за итальянцем. Ирена Кайтох тоже, конечно, была наполовину иностранка, хоть и в России жила. Муж поляк, она полька, а в России родились, в России и умрут. Курица не птица, Польша не заграница. Из перерусских русские. Ирена даже польского языка толком не знает, так, несколько расхожих слов, какая ж она полька. Она ездила на катерах с ними в Керчь; Моника не ездила. Ирена в экспедиции была не одна – с сыном Георгием, Ежи, Ежиком. Все так и звали мальчишку – Ежик. Он и не мальчишка, юноша уже, вытягивается весь в небо, и усики смешные растут, как волоски на кактусе. И пялится на Светлану, пялится. Море, жара, солнце, любовь. Первые вздохи, первые подарки. Светлана, проснувшись, обнаруживала у входа в свою палатку огромную алую розу; или бронзовый античный светильник, добытый в раскопе, и в нем горел, чадил на ветру фитиль, обмокнутый в рыбий жир, похищенный из ее аптечки; или сложенную вчетверо бумажку с нескладным стихом, подсунутую под потертый брезент. Автор стихов пребывал инкогнито, смущенно опускал взор, но Светлана доподлинно знала, кто это. Ирена не препятствовала увлеченью сына, лишь пожимала плечами. Юное лето промчится, будет другое лето, еще много лет и зим… Светлана однажды рассмеялась: «Ежик, ну я же старуха для тебя!.. ты же видишь, я старше тебя…» Они стояли на берегу, прибой лизал их босые ноги. Камни целовали ступни Светланы. «Я бы хотел быть этими камнями, – бледный от волненья Ежик кивнул на гальку у них под ногами, – чтобы к ним прикасались твои ноги. Чтобы ты шла по мне. И прошла». Она прищурилась. Солнечная вода слепила ей глаза. «Я чувствую, – сказала она тихо, – что мне предстоит полюбить в жизни того, кто много старше меня. Много старше. Так Бог отомстит мне за тебя. Что я тебе, мальчику, не могу ответить. Все это очень опасно, Ежик. Очень. И непонятно. И чудесно». Он радостно кивнул, с восторгом согласился. Да, да, чудесно! И пусть все так и останется!
Ничего никогда не остается так, как есть. Ничего.
Светлана жила в одной палатке с поварихой Станиславой Сатырос, гречанкой из-под Керчи. Карьера топ-модели хулиганке Славке Сатырос не улыбнулась. На поприще поварихи она чувствовала себя победительно. Вся Керчь, по слухам, знала Славку как портовую шлюшку, и она, гордясь шумом сплетен, особенно-то и не отрицала их. Славка была высоченного, мужского роста – за метр восемьдесят, как раз для подиума, – с худыми кобыльими ногами и густым «конским хвостом» на затылке, ходила в замызганной тельняшке; спряпала она отменно – перловка превращалась под ее пальцами в изысканное саго, простая уха – в тройную и ресторанную. Славка была врожденный талант, и все это понимали. Она попробовала было грубо пококетничать с Серегой Ковалевым, потом с Колей Страховым – и получила отбой. Но не растерялась. «Я самого Андрона обихожу! – крикнула она запальчиво, когда Ирена осадила ее в ее вызывающем ежевечерним верченьи задом перед мужиками. – Да, самого Андрона!.. И он меня увезет в Москву!.. И буду я кума королю и солнцу сестра!.. А вы заткнетесь тут все… а я буду…» – «Шеф-поваром ресторана „Арагви“!..» – смеясь, докончила Светлана. «А что? – выпятила Станислава грудь под тельняшкой. – Мы, керченские, лучше всех галушки стряпаем!.. и мясо вкусней всех жарим!.. и вино я умею делать – упьешься, это не вино, а песня!.. Я и сыр делать умею овечий… Да, да, вот только Андрона окручу… Мне Москва нужна, Москва…»
Кроме Славки, в экспедиции тельняшку носил еще один человек. Леон. Леонид Мурский. Он был неприметен, неряшлив, щеки у него были покрыты мягкой черной щетиной, которую он не брил, а выстригал ножницами, называя это бородой «гарлем». Волосы мотались у него вокруг башки, жирные, немытые, длинные. Лучше б он их постриг, думала с тоской и неприязнью Светлана. А Андрон, тот, на которого Славка положила глаз, был звезда. Андрон был поп-звезда. Трудно сказать, кто он был на самом деле. Заносчивый москвич, растиражированный миллионно, разнесенный экранами и радиоволнами во все концы; он пел разухабистые нахальные песни, кривлялся и изгалялся и соло, и в ансамблях, брился налысо, курил марихуану, шаманил и камлал на сцене в клубах дыма из сухого льда, и две группы почли за честь его пребыванье в них, а он кинул их, как женщин, и вдруг снялся сразу в трех фильмах молодых и сумасшедших режиссеров – и прогремел на всю страну. Он был еще молод, и ему было греметь да греметь; его беда была в том, что он не знал, куда греметь дальше. Каким ветром его занесло в Тамань, к археологам?.. Он и сам не знал. Кто-то поманил, кто-то соблазнил. Профессор Задорожный, видимо, был слишком добр. Блеск Андрона слепил и ему глаза. Эти руки – рабочие?.. Не смешите народ. Андрон, копнув земельку пару раз, вываливался из шестиметровой глубины раскопа наверх, скидывал джинсы, охал, стонал, растягивался на солнце. Пока другие копали, звезда загорала. Разделенье труда. Все правильно. Все справедливо. У Андрона была красивая, как у ангела, фигура. «Как у инкуба, – сердито поправляла Светлану Ирена. – Разве ты не видишь, что этот восходящий Люцифер – от дьявола?.. И никогда он Геспером не станет… Заносчивый хлыщик, блестящий прыщик…» Он божественно поет, возражала Светлана, а играет еще интересней!.. «Брось, – отмахивалась Ирена. – Это все энергия пола. Это ему силушку молодецкую некуда девать. Он не знает смыслов. Он презирает всех и вся. Он – кокет!»
Светлана смеялась. В экспедиции был еще один мужик. О, это была темная лошадка. Такая темная, прямо вороная. Никто о нем не знал ничего, но на ухо шептали друг другу: ну да, это он, тот самый, политический бандит, теневой владыка, жуткий Гурий Жермон. Да нет, это не он!.. Как же не он, когда он самый. Ты погляди хоть раз на него по ящику. Все повадки его. Да его ж не показывали ни разу по телевизору!.. Сколько хочешь показывали. Ну да, редко. Он прячется. Это тебе не то что Андрон – без мыла лезет всюду. Этот – молчит. Думает себе невесть что.
Жермон, играющий в политику; Жермон, ворочающий теневыми капиталами; Жермон, зачем-то оказавшийся здесь, на берегу Керченского пролива, в пустынной и полынной Тамани – что за чертовщина!.. А никакой чертовщины не было и нет; Жермон покровительствует археологам, Жермон сам следит за ходом раскопок, Жермон спонсирует погибающий от нищеты Пушкинский музей изобразительных искусств, и, может быть, это его, Жермона, темные денежки будут платить нам за земляные труды… Ну, уж это ты загнула!.. Ничуть. Мне сам Задорожный говорил… ну, не говорил прямо, конечно, а так, делал намеки…
А Моника Бельцони, с висящими белыми волосами вокруг умащенного дорогими кремами, не первой свежести лица, живет одна, в отдельной палатке, привилегированно, как и положено иностранке. И там, в палатке, у нее есть даже свой умывальник. И в волосы на затылке она вставляет черепаховый гребень. Моника – жена археолога, Ирена сказала. Какого-то сморчка-итальянца. Знаменитость сейчас в Москве. Соскучится Моника – в Москву к мужу слетает. Потом опять в Тамань прилетит. Долго ли умеючи, с мешком баксов под мышкой. Где ты будешь работать, нищая Светка, этой осенью. Где. Один Бог знает. Если знает – пусть скажет.
Вот пекло. Вот чертово пекло. Какое было чудное, ласково утро, и вот уже вся жаркая ярость мира обрушилась на берег и раскоп. Солнце пробивает насквозь все панамы, все наверченные на темя защитные тряпки, все соломенные шляпы. Солнце пляшет в небесах пляску святого Витта.
Светлана, разогнувшись, утерла лоб сгибом руки. Ее ладони были в земле. Она сидела на корточках перед тазом, в котором мыла найденные работниками осколки, черепки, утварь, украшенья. Воду в таз наливали холоднющую, добытую из колодца на краю Тамани и привезенную в экспедиционный лагерь на телеге – в распоряжении имелся гнедой тощий конь Гарпун, а утреннего водовоза выбирали каждый раз разного. Особенно старательным водовозом был Леон. Он наполнял водой все бочки и канистры, находил все пустые бутыли из-под «пепси». Понукая Гарпуна, трясясь на телеге в виду лагеря, кричал: «Воду кому!.. Воду кому!..» К полудню вода, налитая в Светланин помывочный таз, превращалась в кипяток. Она обжигала себе пальцы. Она, отмывая, держала в руках вещи, что держали в руках женщины, жившие за тысячу, за две тысячи лет до нее – обломок вазы, где хранили зерно, скол зеркала из гладко обточенного обсидиана или лабрадора, медное изогнутое кольцо, бронзовую гривну. Бронзовая гривна была хороша, так же как и бронзовый темный, почти черный браслет, отрытый замечательным и ловким Ежиком. Ежик сказал: вы никто не нашли ни одной золотой вещи, а я найду. Ежик был неутомим в поисках – даже Ирена удивлялась. «Парень, ты бы хоть отдохнул!.. иди бычков попаси…»
Близ лагеря, привязанные к колышкам, врытым в выжженную землю, тяжелыми чугунными цепками, паслись два бычка. Их кликали странно – Быча и Козя. Бычки были молоденькие, но у них уже торчали рога. Повариха Славка Сатырос боялась бычков, бегала мимо них, прикрыв глаза, визжа глупо, по-детски. Леон, придерживая коня, вылезя из-за бочек с водой, спрыгивал с телеги, подходил к бычкам, чесал у Кози за ушами, вытаскивал Быче из кармана корку хлеба.
Бычкам было тоже жарко. Все изнывали от жары. Скорей бы обед и купаться!
Море, щекочущие ноги водоросли грезились несбыточным сном.
А вон оно было, море – взгляд поднять, рукой подать…
– Я-а-а-а-а-а-а!
Дикий вопль потряс просторы, пропитанные жарой, как маслом. Все оторвались от копанья. Кричал Ежик. Он встал в раскопе во весь рост. Он что-то держал над взлохмаченной светловолосой головой. Его рот был раскрыт, как у галчонка, и он без перерыва кричал:
– Я-а-а-а-а-а! Я-а-а-а-а-а!
Серега Ковалев бросил лопатку, подошел к кричащему Ежику.
– Ты что, парень, сбрендил, что ли?.. ты что так вопишь, будто у тебя ломка началась?!.. Что это у тебя в руках, а?.. ну кончай ты орать, дай-ка я погляжу, что это у тебя…
Опытный Серега, археолог, понял сразу – это находка. Воспитанный Ежик никогда не стал бы так вопить; ну не приступ же аппендицита у него, в конце концов. Серега попытался дотянуться до поднятой Ежиком ввысь странной вещи. Она была не маленькая – вроде большой столовой тарелки. И выгнута, как тарелка. Вся в грязи, заляпана… Сквозь комья грязи и глины солнце высветило золотые пятна.
– Я наше-о-о-ол!.. Светлана, мой скорей в тазу!.. это же прелесть что такое…
Светлана, падая и спотыкаясь, бросилась к Ежику через рассыпанные камни раскопа, перешагивая через очищенные от насыпей глины городские кирпичные стены, пробегая босыми ногами по дну высохшего бассейна, по выцветшей мозаике, по древней цветной смальте. Ежик, с находкой в руках, прыгнул на край бассейна. Он протянул грязную тарелку Светлане, не Сереге. Светлана застыла внизу, на дне бассейна, впечатывая ступни в мозаичного дельфина, изогнувшего гладкую озорную спину, будто бы впрямь стояла верхом на играющем морском звере. Она приняла находку из рук Ежика, и дыханье ее пресеклось. Тяжесть металла тут же оттянула ей руки. Железо?.. Бронза?..
Она прижала тарелку к груди. Отковырнула ногтем глину. Чистое слепяще-желтое пятно, отразив солнечный луч, положило яркий отсвет на Светланино загорелое лицо.
– Золото! Ребята, золото! Ура!
Все, кидая заступы, мотыжки, лопаты, деревянные лопаточки, сбрасывая на ходу перчатки, бежали к Светлане, держащей в руках Ежикину добычу. Налетели на нее, как вихрь. Сгрудились. Загалдели. Пытались вырвать у нее золото из рук, полюбоваться, счистить глину – Серега не дал. Властно протянул руку:
– Света, мой! Вон твой таз! Сейчас все и увидим!
Она подбежала к тазу, встала на колени. Ей почему-то казалось – надо встать на колени, очищать находку от грязи, как бы молясь. Сердце у нее сильно забилось. Господи, ведь это…
Горячая, просвеченная солнцем вода в тазу быстро отмывала слои глины. Под Светланиными пальцами сияли, высвечивались в лучах солнца, под грязной водой, чистый лоб, крылья носа, золотые слепые веки, нежный улыбающийся рот…
Она встала с колен, выпрямилась над тазом. Подняла в руках драгоценность, чтобы видели все. Золотая маска молодой женщины, древней красавицы, глядела на притихших людей. С маски на голову Светланы, на белый платок, коим был обвязан ее лоб, капала вода. Будто слезы, внезапно подумал Серега Ковалев, щурясь на солнце.
– С ума спятить! Мушкетеры, ведь это же с ума просто сойти…
– Ежик, тебя директриса Пушкинского баксами с ног до головы осыплет!.. Купишь мамке норковую шубу…
– Ребята, маска, умереть-не-встать!.. маска царицы, скорей всего… глядите, по золотому вороту, около шеи, письмена… кто знает эту письменность?!.. Князь, ты?!..
Всеволод Ефимович осторожно взял маску из рук Светланы. Вгляделся пристально. Губы его шевелились, как у кролика, жующего траву.
– Неизвестные науке знаки, – наконец сказал он, поднимая голову, промакивая лоб закатанным рукавом просоленной рубахи. – Леш-ший… не разберу… похоже и на этрусское письмо, и на клинопись, и немного – на рисунки с Фестского диска… мы, ребята, ведь довольно далеко от Крита, так я понимаю?.. однако… ну, что это древнее Средиземноморье, это козе понятно… откуда она здесь?.. колонисты?..
– Не скифы?.. – деликатно спросил Серега, восторженно уставясь на маску. – Не скифское золото?.. Не звериный стиль?..
– Непохоже, – раздумчиво ответил Князь Всеволод, – непохоже… На что ж это похоже?.. Напоминает…
– Нефертити! – выкрикнул растрепанный Ежик, обводя всех сумасшедшими светлыми глазами. Веснушки на его носу ярче выявились на бледности, проступившей даже сквозь загар. – Это таманская Нефертити! Это же…
– Да, сынок, это открытие, – медленно сказал Князь Всеволод, поворачивая маску в руках, и золотые ложбины, выпуклости и впадины засветились, вспыхнули под солнцем. – Это открытие! Маска золотой царицы из Гермонассы! Царицы неизвестного государства… Смотрите, какое круглое лицо, как по циркулю выкованное, будто золотая Луна, а так красиво… и глаза стоят широко, разрез чуть раскосый, слегка восточный, глаз длинный, доходит до виска… маленький рот, короткий нос… волосы чуть вьются… да нет, не египетский, и не тюркский, все-таки средиземноморский тип… Крит?.. Эгеида?.. Нет, это не Тамань. Она попала сюда явно с корабля. Она привезена! Иначе мы бы нашли ее не внутри городского дома, а в гробнице. Ни одной гробницы мы еще в раскопе не находили, да и откуда ей тут быть, в оживленном городе, в греческой колонии?.. демос да охлос, да кучка аристократов, да торговцы, да моряки… Гермонасса никогда не была столицей никакого царства… да и надпись, друзья мои, не греческая, и даже не койнэ…
Все стояли молча. Затаили дыханье. Князь Всеволод покачал маску на руках, как ребенка. Обвел всех строгими глазами, насупил брови.
– Ну так, господа. – Не «друзья», не «ребята» – «господа»; значит, приказывать будет, он ведь теперь в экспедиции за начальника, пока Задорожного нет. – Очухивайтесь от потрясенья. Да, видно, это нам суждено – пережить это. Такое выпадает на долю не каждому археологу. Коля Страхов! – Он поискал Колю в онемевшей толпе глазами. – Сними фотографии. Ты или… – он снова пошарил глазами, – Леон, у вас же аппараты. Маска будет у меня в палатке. Уезжать сейчас из экспедиции, транспортировать драгоценность до приезда руководителя я не имею права. Все должен решить Роман Игнатьич. По моим подсчетам, он скоро будет. По крайней мере, неделя на исходе, он обещал быть в конце недели. Дисциплина должна быть на высшем уровне. Никаких истерик. Никаких поползновений, покушений. Никакой передачи информации. Все внутри лагеря. Зубы на замок. Если надо выболтать радость – нашепчите на ушко бычкам, Быче и Козе. Все все поняли?!
Ух ты, как зычно кричит, и вправду мог бы быть князем. Светлана вздрогнула, поежилась. Серега усмехнулся углом рта. Славка Сатырос шумно, как паровоз, вздохнула. Ежик шмыгнул носом.
– Все все поняли, Всеволод Ефимыч, – тихо сказала Ирена, – как тут не понять.
Светлана почувствовала жженье под лопаткой. Она чуть обернулась, скосила глаз. На нее умалишенным взглядом, мрачно и тяжело глядел небритый длинноволосый Леон. Она ощутила необоримое желанье побрить его немедленно. Опасной бритвой.
Они правильно сделали, что поехали с Жермоном на субботний вечер в Керчь. Все остальные так ухайдакались, что предпочли керченское традиционное субботнее гулянье банальному купанью в море прямо под обрывом, где раскоп, и созерцанью таманских крупных звезд вместо пантикапейских. Они с Жермоном оторвались от всех, улизнули. Какое счастье свобода. Призрачная; сияющая; жалкая; великая свобода человека, которому Бог отпустил, в сравненьи со звездами, лишь минуту жизни.
До чего у нее мятое платье, все помялось в рюкзаке, а в джинсах какое же гулянье по набережной. Да ведь можно и в джинсах; но кавалер придирчивый, да и она хочет побыть хоть чуть-чуть женщиной, а не «керамической дамой» над тазом с грязной водой. Кого ж еще было Гурию Жермону звать на гулянье, как не Светлану? Славка Сатырос тоже была девица с шиком, но ее портовый шик шибал в нос, столичный Гурий мог бы и рассердиться на ее «хиба так» и «чи шо», на острые кобыльи коленки напоказ. Правда, были еще иностранки – Моника и Ирена, да к Монике было не подступиться, она была ученая старая леди, ее пригласил сам Задорожный, ее муж был именитый археолог, ее все боялись, она говорила по-русски не слишком бегло, работала мало, солнца не переносила, все пряталась в жару в палатке; а Ирена хлопотала вокруг своего мальца: надень шорты, надень майку, читай к экзаменам книжки, не перегрейся!.. – какие фанатичной мамаше променады. А острый мужской глаз Жермона искал, щупал, вылавливал. Он выловил Светлану безошибочно. Красивая капустница в свободном полете. Он понял: она одинока и в соку, и никакой Коля Страхов тут ни при чем. Прошвырнуться по вечерним улицам Керчи, что может быть невинней?.. Разве игра в «подкидного дурака» у костра на берегу. До смерти надоел «дурак». Красивая девушка достойна большего. Светлана на удивленье легко согласилась. Ей тоже хотелось смены декораций. Ах, мятое платье, мятое! Она разглаживала его ладонями на коленях, на бедрах, плевала на пальцы, терла складки. Ни черта синтетики в натуральном шелке, мнется, будто собаки его жевали!
Они приплыли в Керчь уже на закате, пересекли пролив на верткой «комете», бегавшей два раза в сутки между Таманью и Керчью. Светлана, садясь в катер, больно стукнулась головой о железную дверь. «Ничего, это к счастью, – утешил ее Жермон, – найдем еще одну золотую маску. Царицу нашли, теперь надо царя!..» Она слабо улыбнулась. Когда они высадились на керченской пристани, Жермон намочил платок в морской воде, и она приложила его ко лбу. Лоб живой, не золотой. Хорошо быть золотой маской, у тебя ничего не болит.
Куда пойдем?.. Да куда хочешь. Светлана не нашла ничего более оригинального, чем посидеть на палубе плавучего ресторана «Фрэзи Грант». Они поднялись по трапу, по укрытым коврами лестницам на нос корабля, стоявшего на приколе, превращенного в модную харчевню. Разбитной официантик подскочил к ним, изогнулся в поклоне: «Осетринки, икорки… свежих абрикосов?.. Что пить будем?..» Жермон, усмехаясь, глядел на Светлану. Да, девочка бедная, это сразу видно, за версту. Она будет стесняться. Комплекс нищеты. Не скоро она от него избавится. Да, так и есть. Она потупилась, потом подняла глаза: «Ничего не надо, Гурий, прошу тебя, возьми два кофе… можно с коньяком… и с лимоном». Глаза-глазищи. Он впервые видел такие. Большие, широко распахнутые, как у говорящей куклы, серо-зеленые, как прозрачные озерца в осеннем лесу. И вся она была не летняя, знойная – осенняя, северная. Ему хотелось запустить руку в ее русые, чуть с золотинкой, с болотной празеленью, волосы, погладить их. Ему сейчас до полусмерти захотелось этого. Брось, Гурий. Ты стольких баб в жизни перегладил и перещупал. Зачем тебе эта нищая медсестричка. Ты уже женился, обжигался, нарывался. Лучше быть свободным. И ее оставь свободной. Но поимей. Ты же богат, и тебе все принадлежит. И она?! И она.
А она, она сама знает об этом?!
– Хорошо, дарлинг. Кофе так кофе. Ну, к кофию два бутербродика с икоркой. Мы же все-таки на море. И мы отдыхаем.
– Я не дарлинг. Я Светлана.
– Скажите пожалуйста, какие мы капризные. Ты хоть знаешь, что значит это словцо?.. я же ласково…
– Знаю. Я не неграмотная. Я…
– Ты просто маленькая стеснительная девочка. Раскрепостись и наслаждайся. Сегодня вечер наш. Не могу поверить, что ты поешь рок-музыку! Ведь там же надо так обнахалиться на сцене, так вывернуться наизнанку… а ты такая скромная…
Светлана и Жермон уселись за столик на самом носу, так, чтобы видеть черную, всю в синих и золотых масленых бликах, колышащуюся под вечерним бризом воду, огни набережной, огни звезд над головой. Светлана взяла в пальцы ножку ресторанного бокала, Жермон, будто бы небрежно, бросил руку на крахмальную скатерть и коснулся рукой ее руки.
– Совсем наоборот. – Светлана осторожно отодвинула руку. – Если ты сдерживаешь страсть, она воздействует сильнее. Необязательно вихляться и орать, размахивать руками. Ты на сцене все должен делать голосом. Так Горшок говорит.
– Кто, кто?.. Горшок?..
– Да, Горшок. Руководитель группы «Ироникс». Классный композитор, между прочим. У него будущее.
– А у тебя?..
Официантик принес кофе и два хиленьких бутерброда с черной икрой на тарелочке. Жермон презрительно взял за хвостик увядшую укропную ветку.
– Керчь, юг, жалеют овощей!.. смешно… – Он швырнул траву за борт. – У тебя-то, детка, есть будущее?
Светлана поднесла к губам чашку с кофе, вдохнула коньячный запах. Жермон увидел, как она густо, по-девчоночьи, покраснела. Вместо ответа она спросила его:
– Чем ты занимаешься в жизни, Гурий?..
Девочка переводит разговор, похвально. Он стукнул чашкой о ее чашку, будто чокнулся.
– Может, винца?.. Легонького, сухенького?.. Мы же гуляем?.. Я занимаюсь всем, чем не разрешено заниматься. Такова моя планида. Я играю в политику и делаю на этом большие деньги. Официант, вина!.. Принеси хорошего абхазского «Псоу», парень… С него не задуреешь, а вкусное… Деньги, слышишь, детка, деньги. Сейчас тот, кто не умеет делать большие деньги, погибнет. Я не хочу сыграть в ящик. Я хочу жить. Правда, есть тут небольшой риск. Тех, кто начинает делать слишком большие, на взгляд соседей, деньги, отстреливают. И отстрел людей – это сейчас вид спорта, ты в курсе. Охота. Охота на кабанов. Охота на лис. Охота на изюбря. Охота на крыс и мышей – есть и такая. Охота на крокодила. Охота на пиранью. Охота черт знает на кого. Есть охота и на самого опасного зверя. У него семь голов, двадцать ног, из пасти валит огонь, а с хвоста сыплется золотая чешуя.
– На дракона, что ли?..
– Пусть на дракона. И эти звери все, дарлинг, – люди. На самом деле все это люди. А еще верней, они все прикидываются людьми, внутри же у них сидит в каждом зверь. Все оборотни. Все клацают зубами. Все хотят друг друга пожрать.
– И ты тоже оборотень?.. Ты тоже… живешь в этом зверинце?..
– В этой дикой саванне, дарлинг, в прерии. Спасибо, парень!.. то самое вино, правильно, не разливай, я сам даме налью, не хватит бутылки – еще закажем… запиши… ну, тогда еще бутербродиков и твоих чертовых свежих абрикосов… здесь им еще рано, из Анапы, что ли, привезли?.. – Жермон налил вина в бокалы из откупоренной бутылки. Светлана задумчиво глядела на его жесткие, как клещи, руки, разливающие вино, на черно-золотую игру воды за бортом. – Я организую новые партии, добываю деньги на их раскрутку, влезаю в правительство, влезаю в Думу, и мне хорошо, я имею то, что имею. Я всегда хотел власти. Еще тогда, ребенком, когда мой отец бросил мою мать и стал губернатором славного города Сочи, здесь, на юге. И я сказал себе: я захвачу власть побольше, покрупнее, папаня!.. я буду вращаться на орбите повыше тебя, ты головенку задерешь, чтобы меня наблюдать…
– И как?.. Наблюдает?..
Он поднял бокал. Кинул в Светлану ножевой прищур.
– Он умер год назад. Этим летом година.
Выпил, не чокаясь. Светлана тоже отпила из бокала.
– Зачем ты здесь, Гурий?..
– У меня ощущенье, дарлинг, что я ужинаю не с очаровательной девушкой, а со Штирлицем. Ты еще медсестра, не врач, и рано тебе собирать анамнез. Твое дело вкалывать укольчики в попочку. Однако ты и впрямь тихая нахалка!.. Не твое, конечно, дело… Я оплачиваю эту экспедицию. Я оплачиваю тебя, Задорожного, Ирену, Всеволода, Серегу и всех остальных охламонов со всеми потрохами. Транспорт, вывоз находок, работу реставраторов в музее, выставку новых поступлений, рекламу… Я скрытый шеф. Я исторический мафик. Ты довольна?.. Твое любопытство удовлетворено?
– Это… у тебя… хобби?..
– Много будешь знать – скоро состаришься, дарлинг. А я хочу, чтобы ты не старела. Потанцуем?..
Обволакивающие волны музыки набегали изнутри корабля. Редкие пары кружились по дощатому корабельному настилу, застланному красным ковром. Вино ударило Светлане в голову, она коснулась щекой плеча Жермона. Он дышал ей в затылок.
– И ты всю жизнь будешь играть в политику?..
– У мужчин свои игры, детка. Не лезь в них. Женщина должна хорошо стряпать, великолепно делать уколы и танцевать в постели ламбаду и самбу. Большего ей не дано.
– А Тэтчер?.. а Хакамада?.. а Олбрайт?.. а…
– Дуры бабы. Весь мир смеется над ними. Все равно все, что делается за кулисами мира, делают умные мужики.
– Звери, ты хочешь сказать. А ты какой зверь?..
– О, я самый страшный зверь на свете, дарлинг.
Он все сильнее притискивал ее к себе, чувствовал под тонким шелковым платьем ее груди, жар ее живота. Залетная медсестричка, керченский ресторанчик, ночь и вино! Красиво жить не запретишь. Как же он отдыхает от московского ужаса. Еще месяц блаженства – и он окунется снова в родной вертеп. Вацлав не похвалит его за похожденья. Вацлав не похвалит его за задержку. Он обещал быть в Москве в конце июня, а торчит в Тамани уже пол-июля. Нужна ему похвала Вацлава! Он лишь контролирует его жену. Да и Задорожного надо из Турции дождаться. Время идет. Время капает с ложки медным медом, медленной медью. Золотыми каплями черноморских звезд. Понт Эвксинский, твою мать. И эта медсестричка, эта кукушечка… какие глаза, как блюдца…
Они не допили бутылку. Бутерброды и абрикосы так и остались лежать на тарелке. Жермон сунул под тарелку счет и зеленую бумажку. Официантик немедленно подскочил, увидя долларовую купюру, раскосые глазки его загорелись: сдача, господа, разве вы не… Жермон уже стаскивал Светлану вниз по корабельному трапу. Гулять, гулять! Сегодня их ночь! Они уже опоздали на последний катер, уже… лучше поздно, чем никогда…
Развалины Пантикапея встретили их недружелюбным, устрашающим молчаньем. В лунном свете призрачно мерцали ребристые, будто срезанные великанским ножом, обломки колонн, украшавших некогда царский дворец. Митридат, царь Понта, построил сей дворец для любимой жены своей, Ифигении. Умерла ли Ифигения молодой?.. Вынянчила ли внуков?.. Звездное покрывало, сухая душица, крымский дерн прикрыл ее кости, и ветер не выветрил их. Луна выкатилась на полночный небосвод, полная, победная, красно-золотая, как спелое яблоко. Светлана протянула руку. Подставила Луне.
– Ее можно взять на ладонь, смотри…
– Ты пьяна, дарлинг. Ты удивительно пьяна. Ты страшно хороша.
– Страшно?..
– Женщина, это тоже зверь. Она страшна для мужчины. На древних фресках бабу всегда изображали верхом на звере. На каком хочешь. На волке, как Лилит… и она вцеплялась ему в холку… на коне, само собой… на тигре, в Индии… на льве…
– Ты политик или историк?..
Он обнял ее за плечо. Они брели по камням, сбивая каблуки. Ее шелковую юбку задрал ветер с моря, обнажил колени. Она ни о чем не думала. Ей было страшно и весело. Она впервые была с мужчиной на берегу моря. Дожить до двадцати годов… и целоваться только со школьными прыщавыми парнягами, и лишь целоваться, в то время как ее сверстницы влюблялись и разлюбляли, делали аборты, закатывали любовные истерики, рожали, изменяли мужьям… Ты просто старая дева, Светланка, ну что ж у тебя так бьется сердчишко, как у зайца… Женщина – это никакой не зверь, это просто маленький жалкий зверек, и он дрожит и трясется, и ждет, и надеется, и верит…
Он же еще не любит, слышишь. Он же еще не любит.
– Я мужик. – Он взял ее за плечи и повернул к себе. – Какая Луна, черт бы драл. Как твои волосы блестят под Луной. У тебя глаза как изумруды. Как у кошки. Ты кошка. Я понял. Ты львица.
Она дрожала уже очень сильно. Он вминал пальцы в ее загорелые плечи. Его рука скользнула по ее груди, вниз. Ветер помог ему. Пальцы отогнули паутинный шелк. Она почувствовала живой пятипалый ожог на напрягшемся животе.
– Гурий!.. пусти…
– Мы все равно опоздали на катер. Не кричи.
Она сама не поняла, как он согнул ее, сломал, заставил опуститься на землю. Спиной она ощутила острые камни. Обломки всесокрушающего времени. И они, двое, мужчина и женщина, на камнях, на берегу. Колонна Митридата нависла над ними. Звезды вошли в ее глаза, как пытошные иглы. Чужие губы и зубы вобрали под шелком в себя ее вставший дыбом сосок. Пьяное вино горечью и блаженной болью разлилось по телу.
– Нет!..
– Да…
Его рука раздвинула под юбкой ее бедра. Из последних сил она вцепилась в его запястье, отталкивая его. Браслет из живых отчаянных рук, мучительный браслет.
… … …
Тэк-с, закурим, закурим. Еще одну – и все. Еще одну, последнюю…
Разграбил монастырь в Ладаке. Поживился на раскопках скифских курганов. Скифское царское золото в музеях – капля в море в сравненьи со скифским золотом, что он пригреб себе под живот, утянул, продал на подпольных аукционах в Москве, Варшаве, Париже, Нью-Йорке. Золотые звери, львы, олени, кабаны, золотые кони с закинутыми в скачке головами, золотые рыбы, сплетшиеся хвостами в любовной игре. На его счету – стащенные из-под носа у разгильдяев-индийцев украшенья Великих Моголов, хранившиеся пуще глаза в Тадж-Махале. Драгоценные сибирские староверские иконы в золотых окладах – без счета, он эти семечки, этот мусор и не считал; хотя на Кристи за одну его ужурскую иконку святого Иннокентия мистер Ефремиди и давал десять миллионов баксов. Нет, Вацлав Кайтох отнюдь не был дилетантом. Он презирал дилетантов. Он был виртуоз, он был бешеный, отчаянный игрец на опасном, как лезвие, инструменте. Инструмент маячил в ночи – страшней виселицы, пули. Инструмент назывался – Время, и Время стоило так же дорого, как его собственная, Кайтоха, бесценная жизнь.
Он жадно поднес сигарету ко рту. Втянул дым. Напитавшиеся вмиг табаком тоскующие легкие блаженно расправились. Каждый оттягивается по-своему. Он и пил водку, и ширялся по молодости, по глупости. Он понял: если хочешь стать хорошим грабителем могил, надо быть в отличной форме. И он разрешил себе только куренье. Пачки «Кента» ему хватало на день. Это была его норма, как овес в торбе у морды коня, больше он себе не позволял.
Да, он был не кустарь-дилетант. Он прилежно учился. У него были хорошие учителя. Взгляд его блуждал за окном офиса на Новом Арбате; он рассеянно следил, как бежали, как водомерки, внизу, по шоссе, машины, как мельтешили люди, торопливо разворачивая над головами зонты – начался дождь, изнывающая от жары Москва наконец-то напьется и задышит, влага прибьет пыль. Время, время. Пыль времени, грязные дороги столетий. Неужели когда-нибудь и этот чертов мегаполис исчезнет под слоями погребальной земли, как новая Троя. И кто-нибудь, какой-нибудь безумный Шлиман, ее раскопает. У него были отличные учителя, и он прекрасно знал, что среди грабителей древних могил были не грязные бандиты – просвещенные монархи, знаменитые ученые, крупные политики, международные авантюристы. Кайтох, ты тоже авантюрист. Авантюрист?.. Он усмехнулся. Затянулся. Пятерней откинул прядь свисающих на лоб сивых волос. Старый сивый мерин, нет, ты не авантюрист. Ты прожженный политик, ты холодный, как лед, жестокий профессионал. У тебя блестящие помощники. Твоя правая рука – Бельцони. Твоя левая рука – Жермон. Твоя левая пятка, Кайтох, – ну, что греха таить, – твоя верная женушка Ирена, дура баба, дай Бог ей здоровья, сынка на ноги поднять. А твоя пушка у тебя в кармане… да, конечно, Касперский. Доктор Касперский, натасканный, как собака, на запах древнего золота. Ты посылаешь его на самые грязные дела. Там, где нужно просто прицеливаться и стрелять. А как же в нашем деле без ствола?.. или без ножа… Нож, как тысячелетья назад. Его губы опять покривились в ухмылке. Еще бы он Касперского луком снабдил и стрелами в колчане. Вот бы клиенты похохотали всласть. Перед смертушкой.
А этот пройдоха Бельцони, возомнил себя его конкурентом. Да если понадобится, он этого конкурента вырубит одной левой. И он не встанет из нокдауна. Он превосходно знает, что Бельцони работает на английского консула в Каире господина Сола Тернера, брата знаменитого Теда Тернера, владельца крупнейших мировых СМИ; и у проклятого итальяшки есть еще под мышкой один живчик, синьор Дроветти, нефтяной магнат, в свою очередь грабящий древние восточные захороненья по порученью французского консула. Длинны щупальца европейских дипломатов, Кайтох! Они все пытаются перебежать тебе дорогу, хандловый поляк. Армандо Бельцони наворочал дел прямо у него, Кайтоха, под носом. Он и не уследил. Он, такой тиран и педант… Армандо обирал памятники, как медведь малинник. Он тащил, как суслик, себе в нору все, что плохо лежало – от драгоценных египетских синих и зеленых лазуритовых скарабеев, от золотых фараонских уреосов до огромных саркофагов хеттских вождей, затерянных в выжженных анатолийских полях. Бронзовые фигурки, литые золотые и серебряные рельефы, головы владык, изогнутые в предсмертной судороге тела животных, раненных копьями, стрелами… Бельцони крал без зазренья совести сокровища из его, Кайтоха, могильников и продавал выгодно, удачно – в Берлинский музей, в Британский музей, в Лувр, в частные коллекции Рокфеллеров, Тернеров, Гуччи, Крегеров, Фордов. Армандо ухитрился стянуть даже колокола из монастыря в Ладаке – золотые колокола, что Кайтох припрятал, перед отправкой в Россию, у тибетского старика-ламы. За Бельцони не заржавело убить старика. Своими ли руками он это сделал?.. Какая разница. Лама с простреленным черепом лежал в Ладаке на пороге монастыря, Бельцони с колоколами в чемодане трясся в транссибирском экспрессе «Владивосток – Москва». Черт с ним. Пусть гуляет, бесится, крадет по мелочам. Если цапнет что покрупнее – получит по рукам. Верней, больше не получит ничего и никогда, ибо навек закроет свои прекрасные итальянские глазки. У Кайтоха есть надежное убежище – Швейцария. Швейцария – его крыша. Банк в Цюрихе. Вилла в Монтре. Нейтральная страна. Никто не докопается. Если что – он будет жить там с Иреной под другим именем. Швейцарский паспорт смастерить и купить – копейки. Он с Иреной уже обеспечил не только себя и Георгия, но и своих далеких потомков. Того и гляди, в необозримом будущем земляне учредят Кайтоховскую премию, на манер Нобелевской. За что ее будут давать?.. За открытия в археологии?.. А может, за удачный грабеж сокровищ?..
Тимурленг, Железный Хромец Тамерлан, тоже был вором. Он тащил из подлунного мира себе в Самарканд все, что смог награбить, унести, увезти на спинах степных лошадей. Из Бруссы себе в столицу он приволок бронзовые двери, украшенные золотом и эмалью, с изображеньем апостолов Петра и Павла. Эти высокие двери – такие высокие, что в них можно было въехать на коне, – он приделал к войлочной юрте своей любимой жены. Что бы ему, Кайтоху, приделать к заднице ненавистной Ирены?.. Он устал от нее за столько лет. Но менять жену не захотел. Старой кастрюле – старая крышка. Георгия жалко. Мальчонка любит мать. А он слишком любит Георгия. Жаль, он не нарожал еще детей от разных баб. Так ли поступали библейские патриархи, грозные древние цари! Иеровоам родил Еноха, Енох родил Ахава… Вацлав родил Георгия. Одного Георгия, хоть и переспал с половиной бабенок старушки Земли. В своих странствиях по свету он овладевал разномастными женщинами. В Тибете ему подсовывали малюток-таек в подпольных борделях. Лучше полек и француженок он никого не пробовал. Изящны, тонки, умны в постели, загадочны – никогда не покажут мужику ни краешка грязного белья, лишь таинственные белоснежные кружева.
Его учителя… Он учился у Тамерлана и Наполеона, разграбившего пол-Египта, у Гитлера и Геринга, расхитивших пол-Европы в заварушке Второй мировой. Что там Батый и Тамерлан! Он-то все знает про тайные хранилища Германии, Австрии, Швейцарии. Он поднаторел в своем страшном ремесле, и его находила удача за удачей. Удача ждала его всегда – там, завтра, за поворотом, на восходе солнца. Он тщательно исследовал Анатолийское плато в Турции – место рожденья и гибели многих цивилизаций и городов древности. Троя, дивная Троя! Ты тоже там цвела и шумела, рядом… Колыбель человечества? Люди всегда искали ее. Быть может, каменная колыбель затаилась под землей в Анатолии, и Время спало в ней, шевеля костяными ручонками, вздымая ребра детского скелета в мерном дыханье. Быть может, она ждала того, кто найдет ее, в горах Саян, в Тибете, в сердце Азии. Найти и завладеть. Это воля мужчины. Земля – женщина, она всегда украшала себя сокровищами. Люди нагружали драгоценностями, отправляя в Мир Иной, любимого вождя, дорогую жену, усопшую милую мать, думая, что там, в Ином Мире, побрякушки понадобятся умершим. Как жестоко ошибались бедные люди. Сокровища надобны живым. И лишь живым. Он тоже будет мертвым, Вацлав Кайтох. И, пока он не стал мертвецом, не превратился в гремящий костяной мешок – грести, грабить, присваивать, овладевать! Владеть. Вот высшее счастье. Выше счастья власти и воли ничего нет на земле. Никакая любовь, никакое совокупленье, содроганья зверя о двух спинах не сравнятся с властью. Тут тебе и вся любовь, и весь мир. И все деньги мира, россыпи золота, ночные золотые огни в кромешной тьме внизу, там, у подножья многоглазой каменной пирамиды, упирающейся в черный зенит.
Он, Кайтох, откроет свою Трою. Это будет только его Троя. Только его. Он никому ее не уступит. Он убьет Бельцони, если он сунется. Он отшвырнет локтем Жермона. Он разрушит любые крепости, стоящие на его пути. Это его путь. У каждого свой путь, и свернуть с него – не во власти человека.
Он докурил сигарету, замял в пепельнице; поднес пропахшую табаком руку ко лбу и перекрестился по-католически – слева направо, всей ладонью, потом прижал ладонь к губам. Матка Боска видит все его кровавые дела; все его копошенье в золотых игрушках; и до сих пор она не покарала его, и Езус Христус тоже. Главное – не забывать заходить в костел, что в Большом Гнездниковском переулке. И ставить свечу-громницу. В конце концов, он старается не только для себя. Он спасает то, что другие люди, звери и варвары, могли бы уничтожить, изрубить на куски, сжечь без следа, взорвать, бросить на дно моря.
Макинтош на плечи; беглый взгляд на часы на руке. Касперский в Турции, он занимается Задорожным; шофер опаздывает. Когда Касперский в Москве, он подвозит его домой. Красивый у них с Иреной дом на Каширке, ничего не скажешь. Поместье. Рядом американский поселок Росинка, там живут те, кто работает в посольстве. Посол – его друг. Они с Иреной иногда ходят к Кеннетту Фэрфаксу есть жаренное на мангалах мясо и пить холодное пиво, доставая банки из ведер со льдом. Ежи будет учиться в Нью-Йорке, решено. Пусть глотнет заокеанской цивилизации. Старая Европа – сама уже почти могильник. Вот ужо он займется раскопками. А Америка девственна. Она еще свежа, дика и нетронута. Три небоскреба в Нью-Йорке и парочка ракет в Хьюстоне – еще не дефлорация. Америка ждет того, кто овладеет ею. Это должен быть человек, самый богатый в мире. И самый умный. Ежи дурак. А у него, у Кайтоха, уже слишком мало времени. Надейся, поляк, по-русски на авось.
Дверь хлопнула. В погруженную в летний сумрак комнату вошел человек. Дождь шумел, нежно шуршал за окном. В открытое окно залетал острый запах тополиной влажной смолы.
– Машина внизу, господин Кайтох.
Он поправил перстень-печатку с алмазами на безымянном пальце. Италия, Венеция, шестнадцатый век, кольцо дожа. Подарок подхалима Бельцони.
– Идем, я уже проголодался.
Он спустился с шофером вниз с пятнадцатого этажа в бесшумном лифте. Ком подкатил к горлу. Захотелось плакать. Зачем он вспомнил Ирену. Ее не теперешнюю, нет, – девочку с косичками на концерте Эдиты Пьехи, которую он подцепил и затащил к себе домой, изнасиловав в первый же вечер.
… … …
Наедине с сокровищами неведомого царства, в тюрьме, взаперти, жить, дышать, есть, спать. Это так трудно. Это же невозможно, Боже.
Крестьянский турецкий сундук, обитый кованой медью. Прямо как у нас в России. Он забывался на миг тяжелым, беспросветно-черным сном, просыпался, весь в поту, задыхаясь – в каморе было очень душно. Окна не открывались. Стекла были зарешечены. За окнами шумел на жарком ветру сад. Хотя бы глоток воздуха, ветра. Он обливался потом, чертыхаясь, стаскивал с себя и отжимал рубаху прямо на пол. Ходил по каморе голый, сначала в джинсах, потом в плавках. Проснувшись, сразу бросался к сундуку. Господи! Кольца, нанизанные на кривую медную проволоку, княжеские перстни. Тысячи лет назад мастера-ювелиры могли делать такие шедевры, что и не снятся нашим Левшам. Громадная шпинель, вставленная в золотую оправу в виде распахнутой львиной пасти, потрясала его. Лев держит в зубах сгусток крови, кусок жизни! Чье-то красное, живое сердце… все страданье и весь праздник видны напросвет… Вот чаша, всем чашам чаша… Как потир из Троице-Сергиевой лавры, только еще массивнее, еще царственней… Он бережно, как ребенка, брал чашу в руки. Налить бы в нее вина. Холодного вина. Или колодезной воды. И он выпил бы воду, как лучшее вино. Он подбегал к двери, неистово стучал, кричал по-русски: «Сволочи, принесите мне воды!» Раздавался шорох, переговариванья, смешки. Приходила девушка – не Хрисула, другая, безмолвная турчанка, до самых глаз закутанная в полупрозрачную черную паранджу, – приносила на замызганном подносе кувшин с водой, пахлаву, тонко нарезанное вяленое мясо. Его кормили хорошо, даже слишком хорошо. Он не терпел восточные сладости, а его заваливали сладким. Когда фарфоровый истукан просовывал в дверь рожу и, сладко улыбаясь, справлялся: как там наши научные изысканья, профессор?.. – он, голый, весь мокрый и блестящий от пота, стоя над сундуком, в окруженьи разложенных на полу рукописей, листов из блокнота, начатых и законченных рисунков, торопливых бешеных записей, кричал ему: «Забери назад все свои финики, сука!.. Свари мне лучше тюремную баланду, как в славной русской каталажке!.. Как в ГУЛАГе!..» Он обнаружил, что умеет материться. Да, Роман Игнатьич, вот так ломаются люди. Ну, врешь, меня голыми руками не возьмешь. И я не сломался. Я выкарабкаюсь отсюда. Я собираю информацию для людей, которые, сволочь ты фарфоровая, щенок породистый, займутся вами.
Он склонялся над сундуком. Брал в руки карандаш. Клал на голое колено картон, листок бумаги, выдранный из альбома. «Никон» у него отобрали еще тогда, когда эта шлюха привезла его сюда. Вот он, ее витой браслет, в сундуке. Она, улыбаясь, сняла его с руки и положила в сундук. Медленно, насмешливо, неотрывно глядя на него, ему в глаза.
Он досконально изучил браслет. Он несомненно царский. Он не греческий, нет. Он рисовал его, рисовал – крупные витки металла, золотую косичку, щербины письмен, бегущего льва со всадником на спине. Лев и всадник! Или – всадница… Он всматривался в фигуру, сидящую верхом на льве. Кто же это?.. Охотник?.. Божество?.. Повернув неожиданно браслет к тусклым лучам керосиновой лампы – в нее турчанка аккуратно, каждый день, подливала керосину, – он увидел внезапно, как блеснули в мрачном тоскливом, будто подземельном, свете длинные волосы, развевавшиеся за плечами, за спиной всадника. Женщина?!.. Он поднес браслет ближе к глазам. Да! Так и есть! Как же он не понял – нежно выгнутое бедро, маленькая стопа, длинные тонкие пальцы в гриве зверя… Богиня… или царица?.. Почти нет на ней украшений… боги всегда изображались без украшений, их красота исторгалась из их нетленных тел сама собою… стоп, стоп!.. Рассмотри ее голову, Роман… видишь, видишь – обруч?.. диадема… еле видный ободок вокруг золотых волос… Диадема, знак царской власти… Царица, владычица неизвестного, забытого государства…
Он точно занес на листы ватмана, в альбомы и блокноты все письмена, все знаки, встречавшиеся на золотых сокровищах. Непонятный, мертвый язык, который не знал ни он, ни кто другой в мире. Он жадно пил из кувшина, вознося его над головой, выгибая шею, двигая кадыком. Он жрал это чертово вяленое турецкое мясо, лопал икру, что приносили ему в маленьких серебряных вазочках, давился еще теплыми лавашами, с ненавистью глядел на горсти рассыпанных по подносу фиников. Клинопись, иероглифы, тайные клейма! Господи, он забыл перерисовать еще вот этого золотого зверя. Кажется, бык; рога мощные, как у тура… или горного козла-архара. Нет, бык, судя по могучей груди, по тонкому хвосту, взвитому над сухими задними ногами. А что это под ним… еще золотая фигурка… лев! Ну да, лев! У какого древнего народа лев был божеством?! А?!.. ты, профессор кислых щей, а ну-ка, поднатужься… львы здесь, в Анатолии?.. почему бы нет, Африка рядом…
Сколько времени он в заточеньи?.. Неделю?.. Больше?.. Сколько еще сокровищ не зарисовал, не рассмотрел он?.. Шлиман, увидя впервые сокровища царя Приама, так не рыдал, стоя на коленях перед ними, как перед святыней – от радости открытья, от ужаса бессилья… Он уже о многом догадался. Вещи все были из одного могильника. Похоронены были владыка и его жена – вещицы в саркофаге, откуда наверняка они перекочевали в сундук, принадлежали и мужчине, и женщине. Золотые наконечники копий, колчаны, изукрашенные золотом и аметистами, соседствовали с женскими золотыми гребешками, с гривнами, одеваемыми на грудь, даже с маленькими ножными браслетами – перисцелидами, что надевались на женские щиколотки, – украшенными крохотными золотыми колокольчиками. Царица шла, и при каждом движеньи браслеты издавали легкий звон… Боже мой, Боже…
Он запустил руку в сундук. Дно сундука было уже близко. Все драгоценности, рассмотренные, зарисованные и описанные им, уже лежали по всей каморе, где угодно – на полу, на колченогих стульях, на столе, на подоконниках. Оставалось совсем немного. А это что такое?.. Скелет… Они вытащили кости людей, но не смогли выбросить кости животного… Собачий скелет. Маленький верный пес. Любимая собака царской четы. Ее тоже положили вместе с ними.
Задорожный осторожно выпростал кости из груды золота, сложил на бумагу. Когда-то они были внутри живой, радующейся жизни плоти, собака бегала, кусала врага, приветственно лаяла, ласкаясь к хозяину. Скажи, собака, кто был твой хозяин?.. Роман морщил лоб, пытаясь понять. Вот крошечная фигурка женщины-жрицы. Одежда странная. На Крите, он знал, носили юбки и открывали наголо грудь. Здесь жрица закутана в кусок ткани наподобье индийского сари, но это не сари. Какая простота! Никакой вычурности, никчемности… Нет, это не греки, не египтяне, не хетты, хотя кое-что похоже, похоже… О, серебряный кинжал, на рукоятке – изображенье прыгающего в море дельфина… И ни одного изображенья, изваянья корабля! Морская цивилизация – без кораблей, без воспеванья моря?.. Греки тоже любили дельфинов, обожествляли их, но рисовали их немного иначе… Вот сосуд, формой напомнивший ему гончарные изделья из раскопанного государства царя Креза… Странные изогнутые светильники в виде турьих рогов… Золотое нагрудное украшенье – такие, отправляясь на смертную битву, надевали воины Урарту… Нет, это и не Урарту! Другой узор! Иные знаки!
Что же там еще, что еще?.. Он заглянул в темный сундук. По его обнаженной спине пот тек уже ручьем. Он то и дело стряхивал капли пота с лица. Его седые волосы, отросшие в застенке, сияньем встали вокруг головы. На дне сундука лежал большой золотой слиток. Он протянул руки, взял, вынул. Не слиток! Маска!
На него глядело надменное золотое лицо. Властный прикус тонких губ. Высокий лоб. Красивый вырез ноздрей крупного, гордого носа. Глаза узкие, длинные, чуть скошенные к вискам, широко расставленные. Вокруг лба – диадема с тремя зубцами. Лицо, лик, личина… Он дрожащими пальцами, боясь поверить себе, погладил маску.
Он глядел на лик древнего царя, а царь слепыми золотыми глазами глядел на него. Они глядели друг на друга – живой и мертвый.
И Роман понял, что глядит в зеркало.
Царь был как две капли воды похож на него.
Он был как две капли воды похож на царя.
Ему стало плохо. У него все завертелось перед глазами. Он хотел положить тяжелую маску обратно в сундук – и не смог. Он ничего не понимал. В его висках билось: да, да, да, он нашел себя, это он, это он. Да, он жил тогда. Да, он жил всегда!
Люди не боги, господин профессор Задорожный, ой, не боги. Ты загнул, казак, не ту оглоблю. Древний царь неведомой земли! И ты! Три отрока горели в пещи Вавилонской, Сусанна купалась в бассейне, а старцы глядели на нее… А вы были братья, там, на небе, как две звезды. Ой, бредишь ты, Роман Игнатьич! Рюмочку бы тебе сейчас хлобыстнуть… родной горилки, с красным перчиком…
Дверь стукнула. В камору вошел тот, гладкорожий. До чего выхолен, гад, а. В руке револьвер. Он поигрывал им, мял его, как эспандер.
– Хороша мордочка, ты не находишь, профессор?.. – Фарфоровый манекен ткнул стволом револьвера в золотую скулу. – Ты уже определил, кто это?.. долго, долго ты копаешься… запоминаешь во всех подробностях все?.. все равно тебе спецы не поверят, а народ ты заинтригуешь… народ, он падок на рекламку, как муха на мед… ты понял, почему мы тебя тут держим, знаменитость недорезанная?!..
Задорожный, подняв голову от маски, что держал по-прежнему в руках – пальцы побелели от напряженья, – тупо, тускло поглядел на красавца. Он молодой, а ты старый, Роман. Все его – при нем. Вся жизнь – при нем. А у тебя – уже на дне дорожной торбы. На дне сундука. Вот она вся, твоя жизнь – твоя золотая маска.
– Я попрошу тебя, подонок, выпустить меня отсюда сразу же, как я закончу изученье этой уникальной…
– Не бойся, папаша, все твои записки сумасшедшего отксерокопируют и к делу пришьют! – Фарфоровый откровенно смеялся. Револьвер блестел черно, лаково. – Если ты не допер еще, что к чему, значит, ты совсем дурак… или святой!.. Вас в Совдепии всех святыми воспитывали… А мы не хотим возносить хвалы властелину, когда тот нас колесует. Мы сами хотим его колесовать. И сами будем властвовать. Да мы уже владеем всем. А вы, идеалисты…
– Да, мы идеалисты. У нас была Вифлеемская звезда, пащенок, – холодными губами проговорил Роман. Положил маску на дощатый стол. – Не красная, гад, запомни – Вифлеемская. К какой звезде идете вы?! К Богу или к маммоне?!
Фарфоровый, глумясь, приставил револьвер к его виску. Роман вздрогнул от прикосновенья ледяного дула.
– Ты, кончай забавляться…
– Кончаю. – Красавчик отступил на шаг, оценивающе обмерил глазами голого, потного, в одних плавках, Романа. – Жизнь бесконечна, запомни. И в ней все забавляются. Каждый кейфует, как может. Хочешь поразвлечься, профессор?.. – Он протопал к двери, припечатывая половицы тяжелыми, похожими на военные, ботинками, резко распахнул ее, свистнул, будто подзывал собаку. На свист отозвалось шуршанье ткани. Чьи-то ножки просеменили по коридору. – Я так догадался – тебе приглянулась наша Хрисула, так получи ее… ты поработал славно, отдохни, ты заслужил… это тебе вместо вечерних фиников…
Задорожный отшатнулся. В дверь вошла гречанка. На ней была длинная черная шелковая юбка, расшитая по подолу золотыми звездами. Грудь и спина были обнажены. До пояса на ней не было надето ничего.
Критский наряд, прошелестели его враз пересохшие губы. Они нарядили ее древней критянкой. Зачем этот маскарад?.. Ну да, это же ее работа… каждый отрабатывает свой хлеб, как умеет… ей, бедняжке, платят за это… Господи, каково же быть женщиной на этой земле.
– Оставляю вас вдвоем, голубки, поворкуйте, – хохотнул фарфоровый, шагнул за порог. – Замечаю время. Если что не понравится – ты нам, папаша, скажи. Исправим.
Дверь нагло хлопнула. Они остались в каморе одни.
Он подошел к Хрисуле, подошел близко, дерзко. Его грудь была гола и мокра. Ее – поднималась часто, порывисто. Вокруг сосков мерцали темные круги. От ее тела сильно пахло розовым маслом.
Они стояли близко друг к другу, и он чувствовал ее тепло. Она слегка приоткрыла рот, глядя на него, и под губой у нее чуть поблескивали зубки, как у зверька.
– Ты давно на них работаешь?..
Он спросил это тихо, по-английски. Она не опустила глаз. Он рассмотрел ее глаза. Карие радужки с золотыми крапинами. Чуть синеватые белки. Веки чуть скошены к вискам, как у царской маски.
– Давно, – выдохнула она. – Это русская антикварная… археологическая мафия. Они изловили меня в Стамбуле, в ресторане. Они тогда работали в Греции. В Греции раскопали уже все, что можно раскопать. Турция была еще терра инкогнита. Турция дикая, тут много диких, заброшенных мест, как в России, пустынные пространства. Хеттам было где разгуляться. Османцам тоже.
Она смотрела на его голую грудь. Подняла руку, провела ладонью по выпуклой пластине мышцы. Рука заскользила, как по маслу.
– Ты вспотел…
– Не виляй. Ты не ресторанная шлюшка. Ты хорошо образована. Где ты училась?.. В Чикаго?.. В Виндзоре?..
– Тебе незачем это знать. Шлюхи тоже могут быть весьма образованы.
Он вспомнил знаменитых гетер – Аспазию, Таис, Сапфо, Лесбию. Устыдился. Почему бы девочке не знать английский, не знать историю своей родины. Она же не вокзальная подстилка за динар. Она отловила его в поезде, сыграв не хуже, чем в голливудском кино. А сейчас? Она играет и сейчас?.. Или она пришла к нему потому, что хочет его?.. Она не снимала руку с его груди. Рука скользила все ниже. Она с ним одного роста. Как все пошло, плоско, страшно. Вон оно, его ложе – нищая деревенская постель, укрытая овечьим вязаным одеялом. И керосиновая лампа мигает, тлеет. Светильник, древний лампион.
– Как ты думаешь… – Он спросил то, что не должен был спрашивать. – Я останусь жив? Меня убьют?..
Она подалась чуть вперед. Ее приподнятые соски коснулись его торчащих под кожей ребер. Да, мощен и строен божественный царь бесконечных просторов, тысячу жен он имел и пятьсот чернокудрых наложниц. Ее прикосновенье заставило его дернуться всем телом. Внутри него, как в светильнике, зажегся огонь. Продажная тварь! Она получает за это деньги! Деньги…
– Я не знаю. Я ничего не знаю, поверь мне. Если бы знала – сказала.
Он схватил ее в объятья. Он сам не помнил, как у него это вырвалось:
– Спаси меня! Освободи!
Она легко потрогала губами его потную ключицу.
– Но тогда убьют меня. Доктор Касперский сначала поимеет меня, потом выстрелит мне в живот, потом в рот. Он сам так сказал. Он знал, что ты меня об этом попросишь.
Он изругался вслух по-русски. Потом добавил по-английски: fucking mother. Хрисула кротко заглянула ему в глаза. Потом нагло просунула руку ему между ног.
– Мы теряем время, профессор. Я же вижу – ты хочешь меня. Зачем людям притворяться.
Он застонал, весь искривился, с силой, преодолевая невидимое страшное препятствие, будто толкал телегу, отшвырнул ее от себя.
– Затем, что если б люди совокуплялись под каждым забором, Бог бы совсем отвернулся от земли. Я же здесь истязуемый! И ты приходишь сюда по приказу истязателей! Где же тут наслажденье, Хрисула! – Он уже хрипло кричал, не сдерживаясь, как пьяный. – Где же тут удовольствие! Или ты машина! Ты механическая кукла! Ты просто классная проститутка, и тебе все равно, кто движется в тебе, кто насаживает тебя на себя, под какой лавкой ты раздвигаешь ноги!
Она опять подалась к нему, к его искаженному лицу. Ловила его за руки. Ее пот, смешавшись с растекшимся по телу розовым маслом, ударил ему в ноздри.
– Ты думаешь, я только раздвигаю ноги, да… да, я действительно их раздвигаю… я раздвигаю их всю жизнь… всю жизнь!.. и это меня Бог создал такой, да, такой… а зачем же он меня такой вот создал, а?!.. за мои грехи?!.. но ведь я была маленькой хорошенькой девочкой, я не грешила, я ходила в школу, я вышивала и вязала, я любила маму и бабушку… я не хотела раздвигать ноги перед каждым, слышишь?!.. мы никто этого не хотим!.. но так получается, так все выходит, так…
Она поймала его руку, не выпускала. Он сжал ее руку до хруста. Вспомнил, как сжимал ее руку в поезде. Она опять положила ему другую руку на потный, поджарый живот, ощупала напряженные до боли мышцы, прижала ладонью. Он застонал.
– Это невозможно… так же нельзя, Хрисула… что ты делаешь…
Она встала на колени перед ним. Он положил руки ей на плечи, потом, сжав обеими руками ее виски, отодвинул от себя ее голову, ее жаждущие, протянутые, продажные губы. Она в ярости хотела встать, ударить его по щеке – он это понял, почувствовал, как напряглась, готовая взлететь, ее смуглая рука; он опередил ее, упал на колени рядом с ней. Два голых человека на коленях друг перед другом. Ее черная юбка разлетелась в стороны – искусный разрез, браво портному. Он видел, как блестят на черных курчавых волосках между ног капельки влаги.
– Я хочу тебя, – прохрипела она ненавидяще, – а ты не…
– Я не оскорбляю тебя. – Он положил ладонь ей на рот, заклеив его, готовый вытолкнуть крики, ругательства. Она сперва укусила ладонь, потом поцеловала. – Я хочу тебе помочь. Я хочу… я не знаю, что… я хочу, чтобы все было не так!.. не так… ведь есть же, есть же, в конце концов, Бог, так опоганенный, так… – он подыскивал английское слово, – так оплеванный нами…
Она согнулась. Спина ее выгнулась голым живым колесом. Лопатки торчали беспомощно. Она зарыдала, упрятав лицо в ладони. Может быть, ее слезы – яблочный сок? Он погладил ее по загривку, как зверя – там, где торчал позвонок и дорожка золотистого пушка сбегала вниз по хребту между лопаток.
– Бог, Бог… – пробормотала она по-английски, потом добавила по-гречески: – Теос… Где пребывает Бог, когда на земле люди убивают именем Его?! Когда люди готовы удавиться за золото, как эти… мои хозяева… за мертвые, никому не нужные желтые слитки, на которые можно купить все, все, ты понимаешь, профессор, – все!..
Он взял ее голову в ладони, стоя перед ней на коленях. Заглянул ей в глаза, блестевшие от слез. Синеватые белки светились. Соленая влага катилась по скулам, по подбородку. Он наклонился и слизнул слезу.
– Соленая, – прошептал он. – Как море.
Она рванула на себе юбку. Взяла его руку и положила себе на живот, горячий, как печка.
– Я сама как море… я вся прибой… хочешь – проверь…
Она стала целовать его, еле касаясь губами губ. Он целовал распухшие от слез губы, прижимая пылающий живот к ее продажному бедному животу, мгновенно и остро жалея ее, смертельно и жадно желая ее всю, сейчас, сразу, без остатка, и, кладя ее на холодные грязные половицы, не на утлое тюремное ложе, узкое, как долбленка, он подумал о том, что вот Бог, наверное, и есть любовь, если только этим люди могут сказать друг другу то, что не могут вымолвить языком; утешить и простить друг друга.
… … …
Ирена дождалась, пока Ежик заснет. Он долго ворочался на надувном матраце, вздыхал, бормотал. Наконец она услышала его тихое сопенье. Бедный мальчик, он влюблен в эту красивую сучку. А она не преминула, загуляла. Укатила на всю ночь в Керчь с этим Гурием, с думцем недорезанным. Думают они в Думе, да мы их всех передумаем все равно. Они думают – они держат кормило власти. Ан нет, просчитались, господа. Его держим мы.
Вчера она ездила на тряском вонючем автобусе в Темрюк, поговорила по телефону с почты, запрятанной в недрах покосившейся мазанки, с мужем. Кайтох сразу все понял. «Кто сделал снимки?!» – рыкнул только. «Леон и Страхов», – быстро ответила она. «Возьми снимки у того и у другого. Спрячь. Укради маску у мужика, у которого она в палатке. Сделай все шито-крыто. Сможешь?!» Она услышала по голосу – он волновался. Может быть, даже курил, кусал сигарету. «Хорошо, – сказала она, судорожно глотая слюну, но голосом улыбаясь и успокаивая его, – я все сделаю, ты не должен беспокоиться». Никто никому ничего не должен. Маска должна быть у нее. И она должна переправить ее в Москву.
Она натянула джинсы и выползла из палатки. Полночь, чуть за полночь. Вега, Денеб и Альтаир льют синий свет на землю. Вега в зените. Звезды аргонавтов, созвездья Архипелага. Которая палатка этого… Прораба?.. Вот уж он точно Прораб, никакой не Князь. Она облизнула губы. Ей предстоит его совратить. Занятье не из приятных, ежели мужик тебе не по нраву. Лучше лететь в горящем самолете, чем ложиться под не нравящегося мужика. Что бы ей такое придумать, как оправдать ночной визит. Главное – ввязаться в серьезный бой, так, кажется, сболтнул Наполеон?.. Серьезный бой. Кайтох не вооружил ее напрасно. И еще здесь болтается эта поганая Моника. Белая вошь, английская ведьма. И с нее ей тоже надо глаз не сводить.
Она подошла к палатке Сереги и Егорова. Палатка была закрыта на «молнию». Ирена расстегнула «молнию», просунула голову в душную тьму. Тихонько позвала:
– Всеволод Ефимович!..
Нет ответа.
– Всеволод… – Молчанье. – Ефимович!.. Проснитесь!..
Неужели спят в такую рань?.. Утрудились.
– Всеволод…
– О Господи, – низкий, хриплый голос Князя Всеволода; слава Богу, он здесь, не пошел купаться на море, некому его соблазнять – эта вертихвостка-медсестричка укатила в Керчь с Жермоном. – Кого еще там…
– Всеволод Ефимыч, – Ирена постаралась вложить в голос неслыханную нежность и мольбу, – вы мне нужны. Я случайно… совершенно случайно… нашла… ну, я не могу вам здесь об этом говорить…
Князь Всеволод, потягиваясь, на ходу застегивая ремень, вышел из палатки.
– Что еще… ах, Ирена, простите, это вы… я не разобрал впотьмах, чей голосок ангельский…
Она взяла его за руку. Потянула за собой.
– Идемте, – бормотала она, – идемте… Я вам сейчас это покажу… такое… такое… я сама очумела, когда нашла…
– Да что такое?.. Еще одну золотую маску?..
– Лучше, Всеволод Ефимыч, лучше…
Она тянула его за собой все дальше, все властнее. Туда, в заросли степного вереска и тамариска. На ковер высохшей на солнце душицы. На самый край обрыва. Далеко от всех глаз и ушей. Он позволял себя вести, покорно, недоумевающе. Когда она обернулась к нему, он увидел, как Луна просветила голубым призрачным светом насквозь, до дна радужки, ее сумасшедшие польские глаза.
Когда он заснул здесь, прямо на берегу, утомившись в потной и сладкой любовной борьбе – она расстаралась вовсю, извивалась под ним, кусала его и царапала, садилась на него верхом, едва он просил пощады и передышки, снова начинала его неистово целовать, – она прокралась к нему в палатку тише мыши. Серега Ковалев сладко спал в спальном мешке, похрапывал. Ирена не разбудила его ни шорохом, ни звуком. Она сама себе казалась призраком. Пошарив под подушкой, под матрацем у Всеволода, она вытащила золотую маску. Сунула ее под куртку, наспех накинутую на голое мокрое тело. Тяжка ты, любовная работа. Кайтох и не подозревает, какими путями она добывает сокровище. Врешь, он подозревает. Он все прекрасно знает. Не лукавь.
Золото холодило голый живот. Нутро остывало от жаркого натиска. Женщина, утлый бочонок, продажный сосуд. На сколько миллионов баксов потянет эта железяка?! Ее дело маленькое. Ее дело – сейчас вернуться в палатку, быстро, не мешкая, собраться, упаковать маску в чемодан, оставить Ежику записку. Так же бесшумно прокрасться в палатки Леона и Страхова, нашарить пленки – она знала, пленки отсняты и у того, и у другого, лежат в футлярах в их логовах, где-нибудь в карманах курток. Страхов, воодушевленный, хотел мотануться в Темрюк их проявить и напечатать снимки. И идти, идти скорее, бежать. Выбежать на дорогу, на пыльный шлях. Голосовать. Сесть в первую попутную машину – куда угодно. До Темрюка. До Екатеринодара. До Анапы. До города, где есть железнодорожный вокзал.
… … …
Ах, щетина, щетина. Мягкая ты моя, свинячья ты моя щетина. Бритва тебя не берет, только ножницы. Да и выгодно, экономно – лезвия не надо все время покупать.
Почему он назвался Леон? Он и сам не знал. Под американца канал. Под Запад. Длинноволосик, то ли бывший рокер, то ли тоскующий хиппарь, а может, и скинхэд, а может, и рэпер; то ли инструктор, то ли фотограф; то ли проходимец-прихлебатель, однако держится надменно, и никогда не отлынивает от дежурства по кухне. Славка Сатырос его обожает, и он, подражая ей, тоже ходит в тельняшке. Два полосатика, две штопанных обтрепанных зебры. Варят в котлах каши, мешают супы поварешками. Светлана меньше всех знала, отчего он – Леон. Леон ведь это «лев» по-латыни… или по-гречески?.. Ты не полиглот, Светлана, ты спятила от жары и работы, ты не глядишь в сторону сволочи Жермона, ты хочешь покататься на лодочке, искупаться в море вечерком. Вот он подходит к тебе, длинноволосый придурок Леон, и взгляд его рассеян, и что он от тебя хочет?.. а хочет он от тебя, чтобы ты покаталась с ним на лодке, чтобы вы сели в надувную резиновую лодку и покачались на волнах, и он смастерит удочку и вы, быть может, подергаете бычков. Он угадал твое желанье. Так как, Светлана?.. Никак, Леон. Я устала. Я не хочу на лодке. Буду лежать под кустом крыжовника, где пасутся Быча и Козя, а ты мне собирай крыжовник да скармливай, руки шипами коли.
Она все-таки пошла с ним кататься на лодке. Длинноволосик молчал, а море ее убаюкало. Она растянулась в лодке, легла на резиновое днище, потом свернулась калачиком. Она не боялась Леона. Хиппарь, спокойный, как слон, он никогда не полезет, не лапнет. Вот он сидит на носу лодки, забрасывает в море леску с грузилом. Ничего не клюет. Рыба спит. Рыба хитрая. Рыба хочет жить. Светлана погружалась в дрему, закатное солнце целовало ее веки. Князь Всеволод сказал – завтра должен бы уже прилететь Задорожный. Вот ему-то радость будет, золотая маска. И кто ее нашел?.. Ежик, славный Ежик ее нашел… Как припекает, даром что вечер… спать, как хорошо спать…
Лодку слегка покачивало на волнах. Золотое море мурлыкало Светлане колыбельную. Леон пристально смотрел на странную, длинную царапину, еще незажившую, видную из-под короткой пляжной юбки, тянущуюся от колена вверх по бедру, будто зверь провел, играя, острым когтем.
– Всеволода убили!
С перекошенным лицом Славка Сатырос бежала от края обрыва. Она делала отчаянные взмахи руками – звала за собой. Слова у нее кончились. Она мычала, ревела, как корова, показывала рукой туда, в сторону моря. Поднимался ветер, резкий ветер. Мял и трепал палатки. Если ветер поднимется еще больше, палатки сдует, унесет в море, размечет по сухой земле.
– Что, что такое, Славка?!.. что городишь ты…
– Да там он лежит! Там!.. Ночью пошел, может, покурить… а на него напали… нет, не местные это… местные не будут… это заезжие бандиты… я нюхом чую… а-а-а-а!..
Люди бежали к обрыву, не чувствуя под собой ног. Море накатывало буйный, белопенный прибой. Выбрасывало на берег комки водорослей, спутанных, как перекати-поле. Князь Всеволод лежал там, где лежал ночью, так и остался вечно спать, обессоченный любовью, – животом на земле, спиной вверх. На его голой спине переливалась темной запекшейся кровью, зияла страшная рана, нанесенная камнем. Ножом так не бьют. Кости, плоть были крепко размозжены; судя по всему, ударявший бил сколом гранита, острым булыжником, как древним рубилом. Люди поискали глазами вокруг. Окровавленный камень валялся поблизости. Убийца даже не удосужился бросить его в море.
Люди стояли около мертвого тела в смятении. «Светлана!.. Где Светлана!.. Быть может, еще можно помочь… Она же медсестра, подскажет…» Когда она склонилась над ним, она поняла – он уже похолодел, и не было ни пульса, ни дыханья. Она велела принести миску с водой, побрызгала ему в лицо. Нет, не шевелится, не дышит. Она поднялась с колен. Обвела всех невидящим взглядом.
– Не надо перевязывать рану, – прошептала она беззвучно стоявшему с бинтом и пузырьком йода в руках бледному Сереге. – Все кончено. Это смерть. Она очень простая, смерть. Каким гадам понадобилось…
Она не смогла договорить. Зажав рот рукой, побежала прочь. Все смотрели, как она бежит по обрыву, как, взмахивая руками, сбегает, скользит по сухой земляной осыпи вниз, к шумящим соленым волнам, к предгрозовому буйству широкой воды. Так, с зажатым рукой ртом, она и зарыдала, глядя высветленными глазами далеко в море. Она видела много смертей в больнице. Она хоронила бабушку, отца. Но то были тихие смерти, свои. Убийство она видела впервые.
… … …
Ему не завязали глаз. Его катили по ночной автостраде с незавязанными глазами – все равно он не знал дороги, не знал местности, а если б и знал, не узнал бы ее ночью, когда все кошки серы. Его везли в машине молча, и молчанье тюремщиков обдавало его злобой. Он понимал, с каким бы удовольствием его убрали… убили, называй вещи своими именами, Роман. Однако он был им нужен – он это тоже понимал. Им было нужно, чтобы он жил. Чтобы он что-то делал. Что? Он был тупой, он пытался догадаться, скрежеща зубами. Они отдали ему все рисунки и описанья, скопировав их. Они не отвечали на его то яростные, то ледяно-надменные вопросы, что он задавал и по-русски, и по-английски. Они будто оглохли и онемели. Ахсан, Ахат и этот фарфоровый тушканчик. Куда они везут его?.. Руку на отсеченье, в аэропорт. Его кейс при нем. Его паспорт, с билетом на самолет внутри, при нем. Билет с открытой датой.
Да, так и есть. Громадная светящаяся надпись: «ISTANBUL» – вынырнула из смоляного ночного мрака. Стамбульский аэропорт, старик, поздравь себя. Они оставляют тебя живым, эти мерзавцы. Они забрасывают его в самолет, вышвыривают из Турции. Он все равно узнает, кто они. Восточные чернявые парни – так, шелупонь, шестерки, овчарки. Этот фарфоровый, восковой красавчик, так любящий играть револьвером, как младенец – погремушкой, рангом повыше. Заметно по манерам. Вспомни, Роман, видел ты его в Москве?.. Нет?.. И где?.. У него слишком запоминающееся лицо. Лицо мраморного греческого божка. Если бы такая ходячая статуя появилась в его московском окруженьи, он бы его точно запомнил.
В черном небе завис гул самолетов. Грозный небесный рык, ночное рычанье Великого Льва. Далеко разносился мелодичный, сладкий, как рахат-лукум, голос дикторши, объявляющей рейсы. Красавчик разлепил изогнутые сердечком губы, соблаговолил заговорить, поворачивая голову к Задорожному, не отрывая рук от руля.
– Аэропорт, профессор. Надеюсь, тебе у нас понравилось. Надеемся также, что и тебе понравились наши причиндалы. Ты не забудешь их?.. «Не забуду мать родную», все правильно. Если тебя станет тошнить в небесах, не забудь про пакетик. Он в сеточке на спинке переднего кресла. Вообще ничего не забудь. Пей глюкозу от склероза.
– Издеватель, – процедил Роман сквозь зубы. – Я найду тебя в Москве.
– Руки коротки, ваше-ство. Обдумай все, что ты видел и слышал. Захочешь что-нибудь сделать – сделай. Мы не будем препятствовать. Мы поощряем всяческие инициативы своих подопечных. Не вздумай подключать к поискам нас, грешных, ФСБ, угрозыск, бездарную милицию и тому подобные иерархии. Наша пирамида будет покрепче. Мы замочим тебя вместе с твоей ФСБ. Надеемся, что ты и это понимаешь. Ты ведь ученый. – Он выдохнул, как выдыхают табачный дым, – и добавил презрительно: – Ученый кот. И ходишь ты по цепи. А к дереву тебя…
Он, не снимая с руля руки, другой рукой вытащил из кармана рубахи зажигалку и пачку сигарет. Ловко вытянул сигарету зубами из пачки. Щелкнул зажигалкой. Заглотал, как уж молоко, сизый дым.
– …мы привязали.
Фарфоровый затормозил у парапета, на стоянке. Салон машины уже наполнился едким дымом. Что за дерьмо он курит, этот фанфарон. Задорожный крепче сжал в руках кейс. Они… будут сопровождать его до самой регистрационной стойки?..
– Выходи. Финиш. Игра стоила свеч.
Он вывалился на асфальт. Подхватил кейс под мышку. Драгоценные рисунки, они там, внутри. Они разрешают ему увезти их с собой в Москву. Абсурд! Проще было бы отобрать. Зачем они оставили ему материалы?.. Ну да, без фотографий никто все равно не поверит, скажут: иди гуляй, профессор Задорожный, со своими рисуночками, может, они тебе приснились, как Гойе – «Капричос».
Восточные усачи молчали в темном бензинном нутре машины. Фарфоровый осклабился. Роман стоял с кейсом под мышкой, испепеляюще глядел на него.
– Запомнишь керосиновую лампу, док?.. не правда ли, романтика?.. а Хрисулу, а?.. Сознайся, ты предлагал ей помочь тебе бежать?.. Скажи, а здорово она…
Самолеты гудели над головой. Взлеты, посадки. Люди перемещаются по лику земли. По лику многострадальной Геи.
Задорожный крикнул:
– Заткнись!
– Что орешь, профессор. Хочешь, чтобы полиция подвалила?.. Я скажу, что ты голубой, что приставал ко мне и к моим друзьям в машине, когда мы подвозили тебя до аэропорта. Я, в отличие от тебя, ученый лемур, знаю турецкий язык. Поверят мне, а не тебе. Танцуй потом на таможне. Билет у тебя с собой. В твоем паспорте. Ты уже сам сто раз поглядел. Ближайший рейс на Москву…
Он вскинул запястье к глазам. Задорожный все еще не верил, что фарфоровый отпускает его. Вот он повернется, пойдет к стеклянным дверям аэропорта, а фарфоровый возьмет да и выстрелит ему в спину. И ни люди, ни Бог уже ничего не сделают. Он пойдет, а эта сволочь выстрелит… кровавое пятно на рубахе… крики публики… Вечный, горячо аплодирующий амфитеатр, театр смерти.
– Как раз полетишь. Мы подгадали. Даже ждать тебе не придется. Привет Москве. – Фарфоровый показал еще раз ровные белые зубы. – И помни, док, осторожность и еще раз осторожность. Будь умницей. Мы следим за тобой. Береги свою драгоценную… – он похабно повел вверх губой, обнажая клык, – жизнь. Она стоит теперь много мешков баксов. Ступай, седой граф! Не кашляй!
Он сделал Роману ручкой. Роман едва удержался, чтобы не ударить его. Фарфоровый повернулся кожаной спиной, передернул плечами, полез в машину. Не торопился заводить мотор. Ждал. Он ждал, пока Роман сдвинется с места, пойдет, войдет в аэропорт. И Роман пошел. Пошел сначала медленно. Потом все быстрее, размашистее. Прижимая черный кейс к исхудалому боку, к торчащим под пиджаком, под рубахой ребрам. Ночь была жаркая, влажная. Когда он вошел в зданье аэропорта, он почувствовал, что его рубаха насквозь мокра. Никто не выстрелил ему в спину.
Они требовали датировки ценностей.
Они требовали от него точной датировки ценностей.
Они кричали ему: «Нам достаточно и сорока веков!..» Он брал в руки браслет, маску, перстень с рубином, и руки его дрожали. Он пытался им объяснить, втолковать. Он шептал: как вы не понимаете, эти вещи старше, много старше, да, я вам говорю, они старше намного, это допотопная древность, это… иная цивилизация… нужен радиоуглеродный анализ, нужны приборы… исследованья, замеры, комиссии… тогда я могу назвать точную датировку… Девятый век до новой эры?.. Десятый?.. А может… еще древнее?..
Они перемигивались. О, это будет дорого стоить. Это потянет черт знает на какую кучу долларов. Никакой Рокфеллер не купит. Пуп надорвет. Тогда эти железки, выковырянные из турецкой земли… бесценны?!..
Бесценное в мире есть. Да, есть. Да не про вашу честь. А про чью?! Про чью?!
Самолетный гул залеплял уши. Он перекатывал голову по мягкой кресельной спинке. Его и вправду тошнило. Как бы не понадобился пресловутый пакет. Он снова закрыл глаза. Уснуть, уснуть. Уснуть… это ведь – на миг – умереть…
Он судорожно разлепил веки. Внизу, в иллюминаторе, высились снеговые горы освещенных резким белым солнцем облаков. Под облаками густым сапфиром просвечивало море. Грозный, яркий Понт. Корабли плывут по нему во все концы, как плыли встарь. Моряки борются с волнами. Жены и возлюбленные ждут их на суше. Разница в том, что он глядит сейчас на море с высоты, будто он – божество, а земли все открыты, ничего неизведанного, тайного нет. Все тайны остались лишь во Времени. Время – вот неоткрытая земля. Вот новая планета. На нее высаживаются только такие безумцы, как он.
Его брови сошлись подо лбом угрюмо. Морщины глубже прорезались около рта. Его никто не ждет дома. Никто. Ни жена, ни дети, ни собака, ни кошка, ни птичка. И возлюбленной у него нет. Нет даже и гетеры. Он вспомнил запах Хрисулы, ее волос и губ, капельки розового масла на ее груди. Он спал с рабыней, и он не спас ее, не выкупил ее. Ни одного обола не осталось у него за душой. Пятьсот долларов фарфоровый с удовольствием прикарманил. Надо позвонить из Москвы бедным турецким управленцам, попросить, чтобы забрали вещи из отеля и переправили ему почтой или оказией; банковская карточка в пиджаке, револьвер…
С дипломатической почтой можно переправить любое оружье, хоть лазерное, хоть ядерное… Турецкие поросята найдут способ… Он вынужден сказать им по телефону хотя бы о гибели Кристофера Келли… а больше и ничего… не надо ничего говорить… пока надо молчать, молчать, сцепив зубы…
Море ударяло под ребро синим острым мечом света в прогалах облаков. Самолет летел ровно, не кренясь на крыло, облачные сугробы вздувались и таяли, разбегались смешными барашками. Пена. Морская пена. Прибой нахлынет и отхлынет. Биенье времени. Что ты так переживаешь, Роман, и ты умрешь. И все умрут. Прибой слижет все рисунки на песке. Так что ж ты так бьешься, что ж тянешь из моря Времени свой жалкий невод?!..
Странник долетит до Москвы. Потом – до Симферополя. Или до Екатеринодара. И – на перекладных – туда, в Тамань. Он бросил экспедицию. Это негоже. Не Бог знает что можно раскопать в Гермонассе, там раскоп старый, уже все повытащено, что можно. Но он взялся за гуж.
Гул высверливал в черепе дырочку, как в золотой, в той маске царя. Как он на него похож. Мать говорила, что одна из ее бабок была турчанка… или гречанка?.. Она забыла ее имя… Где-то в бессчетных бумагах завалялся старый дагерротип… Гул, гул… спать, спать. Им достаточно сорока веков. Ему достаточно и часа крепкого, без сновидений, сна.
… … …
– Ежик, где мать?..
– Не знаю. Уехала.
Серега Ковалев остался в лагере за старшего. Он стоял напротив Ежика и пронизывал его глазами. Как так! Уехала и сыну ни слова не сказала!
– Когда?.. Почему я ничего не знаю?.. Она же работник экспедиции…
– Я ничего не понял. Ночью. Я проснулся – вижу записку на книжках.
– Записка у тебя?..
Ежик наморщил лоб, замялся, покраснел. Веснушки залило розовой зарей.
– Нет… да… я поищу… или нет… да, точно нет… Я вспомнил. Я ее потерял. Я, когда читал, вышел из палатки, и у меня из пальцев ее вырвало и ветром унесло.
– «Ветром»! – передразнил его Серега. Русые, с проседью, буйные волосы Сереги курчавились надо лбом, как руно у барана. Он сунул в них пятерню. Сморщился. – Что маменька, что сыночек!.. Откуда только вас таких Задорожный набрал… Правда, это ведь ты золотую голову нашел, ну, извини… это ветер и виноват, значит. Что в записке-то было?
Ежик потупился. Напрягся.
– «Срочно уехала в Москву, говорила с папой по телефону, плохо с бабушкой, вернусь при первой же возможности», – процитировал мальчишка. – Вроде бы так… ну, еще там «целую, мама»…
– Н-да, – помял рукой подбородок Серега, – бабушка занемогла, это, брат, дело серьезное… Ну, она ж не может не поехать к матери, если та при смерти. Смерть настигнет внезапно и не спросит. Вон как Князя…
Серега повернулся и пошел в палатку. Ежик стоял на ветру. Его рубаха отдувалась, как парус. Сегодня он так и не поговорил с прелестной Светланочкой. Она молча работала в раскопе, мыла черепки в тазу, не поднимая глаз. Потом ушла к себе в палатку и закрылась, не вылезает. Она все плачет, оплакивает бедного Всеволода Ефимовича. Егорова похоронили тут же, рядом с раскопом, на обрыве, насыпали могилку, поставили крест из самшита – Серега срубил. Никому решили ничего не сообщать. Егоров жил один, родни у него не было никакой. Старый симферопольский археолог, экспедиционный волк. Давно работал с Задорожным, раскапывал с ним скифские курганы, мотался на Амур, к гольдам и нивхам. Он умер в работе, как актер на сцене. Да, вот горе Задорожному будет. А разбойников этих не поймают уже за хвост. Камнем пропороли спину – и ищи-свищи.
Ежик сел на сухую теплую землю, обхватил колени руками. Тихо… Лишь прибой шумит внизу, под обрывом.
И вдруг он услышал голос. Кто-то пел песню. Женщина. Далекий голос пел и плакал, потом песню разрывало надвое молчанье, потом мелодия возобновлялась, и река песни текла дальше, втекала в широкий простор моря и неба. Кто поет?.. Славка Сатырос?.. Она пела украинские песни у костра, Ежик помнил… «Ой, на горе тай женци жнуть, а по-пид горою, по-пид зеленою козаки идуть!.. Козаки идуть!..» Нет, это не Славка. Какой сильный голос! Он летит над морем. Тает в вышине… Песня обрывается, будто женщина плачет…
Ежик прошел мимо свежей могилы Князя Всеволода. Украдкой потрогал самшитовый оструганный крест. На поминках пили водку, Серега привез из рыбсовхоза целый ящик, и Ежик впервые в жизни пил водку, благо мамаши рядом не было. Он видел, как Жермон тяжело глядит на Светлану. Он заревновал. А Светлана на него не взглянула ни разу. Она выпила свой маленький граненый стакан водки, утерла губы рукой, закрыла глаза, и Ежик увидел, как по ее загорелым щекам текут светлые слезы, и ему захотелось собрать их губами. Если б он был маленькой птичкой, она бы могла взять его в руку… посадить себе на грудь…
Он вышел из-за скалы – и увидал внизу, под обрывом, на песке, Светлану. Она сидела на вымытой морем, обдутой ветрами белой, как кость, коряге и пела. Она пела, закидывая голову, посылая голос вечной синеве, забирающей в объятья всех равно – и живых, и мертвых. И голос лился и дрожал, звенел и мерцал, как звезда. Как первая звезда, взошедшая над морем над головами юноши и девушки, еще не знающих, что такое любовь, но предчувствующих, что потребует она крови и жизни.
… … …
Тряские русские поезда. Корявые, век не ремонтированные железные дороги. Грязные прокуренные вагоны. Дырявое белье – даже в фирменных составах. И теперь проводницы, если им пассажир сунет в лапу денежку, разрешают в поезде и водку пить, и все пьют, и едят вечные вареные яйца, макая их в соль, рассыпанную на газетке, и режут сало, и хрупают огурцами, и чистят вечную воблу, прихлебывая пиво, и ведут тягомотные разговоры, и разгадывают гадкие кроссворды. Дорога – пытка. Сутки, всего лишь сутки до Москвы. Ну, чуть побольше. Ну потерпи же, Ирена!
Рядом с ней попутчики резались в карты. Восточные мужички, татарского вида. Все россияне татароваты, по всем прошлась борона Чингисхана. Даже до Польши, до Литвы татары добрались. Кайтох говорил – у них в роду татары есть; там, в древности, так смешались крови, что теперь из солянки маслинку не выкинешь… Они приглашали ее поиграть с ними: что скучаешь, красавица, давай, присоединяйся!.. Она отворачивалась. Глядела в окно. Как медленно стучат колеса. Если они хватились маски, все, ей несдобровать. Ее сцапают на первой же крупной станции.
Но, о счастье, они проехали уже и Белгород, и Орел, вот уже и к Курску подъезжают, и ее никто не снял с поезда, значит, никто не обнаружил пропажу, а эти, картежники, все режутся, им все нипочем – ночь-полночь, охота пуще неволи, игра пуще дороги. Бессонные. Она засунула руку в карман плащовки – в вагоне, несмтря на дневную жару, холодало к ночи, – пощупала футляр с пленками. Ей удалось стянуть обе пленки. У Страхова и у Леона. Как крепко все же спят мужики. Баба бы давно проснулась, если бы у нее в палатке в вещах кто-то шарил. Или это она такая техничная. Фокусник Кио. Да, ей уже в цирк пора. Когда-нибудь она убьет Кайтоха. За эту жизнь. За эту собачью жизнь, которую она ведет. Слава Богу, Ежик еще ничего не знает. Но ведь узнает же он когда-то. Нет, скорей, скорей отправлять его в Англию. Пусть мальчик живет на Западе, учится спокойно. Они с Вацлавом все равно тут как на вулкане. Огненная лава сметет их в любой миг. И она к этому готова.
– Ребята, давайте ваши карты. Сдавайте. Сражусь с вами. Все равно делать нечего. И не спится. И… водки у вас нет?..
Широкоскулый татарин оживился. Мадам желает!.. Щас все будет, краля, в лучшем виде. Он полез куда-то под лежак. Вынул початую четвертушку.
– Занавесь нас простынкой, вагон-то весь на просвет, все шастают, – бросил он такому же раскосому, нагло улыбающемуся другу. – И карты сдадим, и по маленькой нальем!.. Выигравшему или как?.. Всем сразу?..
– Всем сразу, и огурчик у нас есть…
Они выпили, зажевали разрезанный на куски свежий огурец, и Ирена почувствовала, как разжалась в груди сжатая когтистая лапа, сердце отпустило. Ей показалось все не таким уж страшным. Страшно жить, да. Страшно умирать. Пока мы не умерли – давайте сразимся в картишки, выпьем дешевой водочки, согреемся, поболтаем о хорошем.
Они бросали на стол карты, хохотали, шутили, татары цапали ее за руки, как медведи, широкоскулый наливал еще по рюмочке. Мужики не знали, что с ними играет в карты и хохочет, икая от выпитой водки, что рядом с ними в плацкартном вагоне скорого поезда номер сорок один «Екатеринодар – Москва» едет, румяная, чуть пьяненькая, да она еще не старая, а вовсе даже прехорошенькая, одна из богатейших женщин мира. И что в ее сумке, под вагонной полкой, – сокровище, за которое можно, если постараться, купить сам мир – весь мир, изгаженный, уцененный, не стоящий ни гроша из широкого кармана Бога.
Поезд прибывал в Москву утром. Курский вокзал, перрон. Так, взять такси, быстро домой. Она даже не будет звонить Кайтоху. Он в офисе. Черт с ним, пусть там и сидит до вечера. Вечером он все узнает. Она заслужила отдых. Она будет спать сутки без просыпу. А потом пойдет в сауну. И будет сидеть там над жаркими булыжниками каменки до той поры, пока все в ней не прокалится сначала докрасна, потом добела, как в кузнечном горне.
Она подкатила на машине к особняку на Каширском шоссе, расплатилась с водителем. Прищурилась, глядя на дом. Да, мой дом – моя крепость. У них не дом, а просто дворец в Виндзоре, Сан-Суси, Грановитая палата. Кайтох нанял лучших архитекторов. Он расстарался для нее и Ежи. Она старается для него и для Ежи тоже. Значит, все справедливо?.. Она подхватила сумку. В этом мире в любви и в добыче каждый старается для себя.
Когда она зашла за ажурную чугунную решетку и закрыла за собой калитку, любуясь заботливо подстриженной садовниками июльской травкой, ее кто-то тронул за локоть. Она резко обернулась. Армандо Бельцони. Этот итальяшка. Сколько уже он насолил Кайтоху. Почему Вацлав не уберет его с дороги?.. Жалеет?..
– Буона сера, каро, – не слишком любезно проронила Ирена. – Ты тут меня, что ли, ждешь?.. Откуда ты знаешь, что я должна была приехать?..
Она осеклась. Моника. Ну да, Моника. Она же осталась там, в лагере. Она следила за Моникой, а Моника – за нею. Пока Кайтох вожжается с Армандо, в их бизнесе порядка не будет.
– Прости, что встречаю тебя без духового оркестра, – насмешливо сказал Бельцони по-русски, чуть коверкая слова. За ваксовыми пятнами черных солнечных очков не было видно его глаз. – Недосуг было заказать. И без торта. Зато у тебя для меня есть золотой тортик. В сумочке.
Он протянул к сумке руку в черной перчатке. Ирена крепче сжала сумку, отшатнулась.
– Убери лапы! Я привезла это Кайтоху!
– Кайтох, Кайтох, – проворчал Бельцони, постукал себя черным кожаным пальцем по губам, улыбнулся. – Всюду Кайтох. Вечный Кайтох. Он мне надоел. Но я же работаю с ним в паре, деточка. В одной упряжке. Отдать мне – все равно что отдать ему. Ты же знаешь это. Ты же умница.
В его веселом голосе она услышала: отдай сейчас же, не то я вытащу из кармана пушку, и ты ляжешь тут же, перед своим роскошным поместьем, на своей постриженной по-английски, как пудель, изумрудной травке. А потом ляжет Кайтох в своем офисе. А потом ляжет Ежи. Там, в Тамани. Вы ляжете все трое. Вы отдохнете наконец.
Он сунул руку в карман. Его улыбка превратилась в оскал.
– Бельцони, – вымолвила она пересохшими, пустыми губами, – ты дьявол.
Он протянул руку. Черная кожаная пятерня растопырилась.
– Я жду.
Она, задыхаясь, поставила сумку на гравий ухоженной дорожки.
– Прямо здесь?..
– А почему нет. Все на виду. Меньше подозрений. Жена друга передает другу собственноручно испеченный пирог со свежими вишнями. Со свежими золотыми таманскими абрикосами. Они готовятся к пирушке.
Он подмигнул ей. Она выругалась грязно.
– У тебя испортились манеры. Кстати, пирушка скоро. На днях. Из Турции доктор Касперский уже переправил все до золотой пылинки. Касперский – блеск, он всегда честно играет. Надо повысить ему оклад.
Она поняла: пирушка – большая подпольная распродажа. И они не боятся… здесь, в Москве?.. Как изменились времена. Раньше вывозили сокровища куда угодно – в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Париж… Теперь магнаты нагло собираются в Питере и Москве. Никто ничего не боится. Верней, страх дошел до отметки, где он превращается в вызов. Когда перейден болевой порог, уже нет боли, так она велика и безумна.
Ирена наклонилась к сумке. Расстегнула застежки. Откинула кожаный язык.
– Бери.
Он склонился, вытянул жадные руки.
– Этот сверток?..
Она кивнула. У нее пересохло в горле. Очень может быть, что Кайтох больше не увидит золотую царицу.
– Ты гад, Бельцони.
– Не гаже тебя. У тебя фотографии?..
– У меня пленка.
– Давай сюда.
Ирена порылась в кармане, протянула ему футляр с пленкой Страхова. У нее в кармане оставалась пленка Леона.
Вороби прыгали по подстриженной траве, чирикали, выуживали невидимых червячков. Ирена ощутила во рту горечь. Когда они резались там, в поезде, в карты, последний кон, пан или пропал, ей в конце игры выпал туз пик, и тот татарин, широкоскулый, обнажая щербатые широкие, лопатами, зубы, сказал: «Ударят тебя, краля, чугуном по башке!..» Дождалась.
Она молча повернулась, подхватила сумку, пошла в дом. Поднялась, шатаясь, по беломраморной лестнице. Все вокруг молчало, давило роскошью. Она прошла к себе в спальню. Не раздеваясь, бросилась на кровать. Застыла. Бельцони урвал самый лучший кусок с пиршественного княжьего стола. Бельцони не может без этого. Она попросит Вацлава, чтоб он Бельцони убрал. Она измучилась. Она вся трясется. Она загремит в больницу с инсультом.
Когда Кайтох вошел в спальню, она вся уже корчилась в невыносимых рыданьях. Ее выворачивало наизнанку. Она каталась по постели, кусала подушку, рвала и царапала одеяло, выгибалась, захлебывалась слезами, билась головой об стену. Кайтох ринулся к ней, схватил, крепко сжал. Она вырывалась, кричала, визжала.
– Успокойся! Успокойся, прошу тебя! Да успокойся же, Ирена!
Она билась в его руках, как рыба, вытащенная из моря.
– Я не удержала… не сумела!.. он бы… убил меня… убил… убил, я знаю…
– Кто, что?!.. прекрати, говорят тебе…
Он грубо, больно встряхнул ее. Она икнула, поперхнулась, на миг перестала рыдать и выть. Ее глаза из-за спутанных волос блестели слезными белками, бессмысленно глядели на Кайтоха. Парадный портрет отчаянья. Ну, да его жена и раньше, бывало, закатывала истерики. Но чтоб такую… по всем правилам…
– Что стряслось, Ирена?!
– Он забрал ее у меня… за… брал…
Она снова захлебнулась в рыданьях. Упала головой в подушку. Кайтох глядел, как ее спина судорожно дрожит, как ходят под рубашкой лопатки. Забрал. Кто и что у нее забрал?.. Плачет. Значит, взяли дорогое. Самое дорогое. Самое… ну да…
– Бельцони?! Маска?!
Он представил, как на этой дрожащей узкой спине под рубашкой расплывался бы не пот, а красное кровавое пятно. Бельцони прострелил бы насквозь его жену, и не охнул бы. Он убивает весело, с итальянским шармом. Того монаха, ламу, он сам убил, Кайтох теперь понял.
– Да, да, да, да… да, проклятье!..
Она завертела головой, забилась на мокрой от слез подушке. Кайтох стал холоден как лед. Глаза его сузились. Он подобрался, как волк в лесу зимой пред прыжком.
– Ты не отдала ему пленки?!
– Отдала… одни… другие – возьми… в кармане… в куртке… вот здесь…
– Ты, дура моя, не плачь… благодари Бога, что осталась жива, что этот макаронник не продырявил тебе ребра… а он мог, я знаю его… он от меня далеко не убежит с этой маской… я…
– Ты, ты!.. Всегда только ты!.. Все!.. К черту!.. Надоело!.. Катитесь вы все!.. Уеду!.. Одна уеду!.. Куда угодно!.. На Мальдивские острова!.. В Швецию!.. В Америку!.. В твою Швейцарию!.. И буду жить одна!.. Разведусь с тобой!.. Ежик выучится, он уже взрослый… Только оставьте, оставьте, оставьте меня в покое!..
– Истеричка, плюнь, разотри… Я твоего Бельцони поставлю на место… – Его щеки лихорадочно горели. – В конце июля аукцион… Он не сможет никуда вывезти маску… он не захочет… Ну да, он вывалит, сука, свои условья… а это уж мое дело, пойду я на них или не пойду… у меня, знаешь, тоже есть ведь всякие пугачки… я его напугаю, Ирена, ну не плачь… ты и так много сделала… я тебя не виню…
Она села в подушках. Ее глаза выкатились из орбит, как у безумицы.
– Я ее больше никогда не увижу! – душераздирающе крикнула она.
И он понял: она больна. Она больна тою же болезнью, что и он. Ржа наживы, рак алчности проник в нее, разросся в ней. Она уже не сможет жить без охоты за древностями, без созерцанья вожделенных сокровищ, без их продажи, без буйства бешеных денег на счетах. Она будет все время хотеть их гладить, осязать, восхищаться ими, красть их в ночной кромешной тьме, биться за них. Он научил Ирену стрелять. Почему он не научил ее спокойно улыбаться, если стреляют в тебя!
– Увидишь. Брось реветь. Я обещаю тебе это.
Он оставил ее распростертой на постели, в слезах. Спустился вниз. Повертел в руках пленку, вынутую из кармана Ирениной куртки. Срочно проявлять и печатать. Касперский привез сокровища из Анатолии. Маска. Там тоже – золотая маска. Мужская. Царская. Если золотая маска, найденная в Тамани, и золотая маска, найденная в Измире, похожи – у него в руках открытье. Он этого ждал. Он этого хотел. Идиот Бельцони! Он его сделает, как мышонка! Мышеловка – у него в руках. И он поставит такой капкан, что зарвавшийся итальяшка будет хрипеть, плакать и просить прощенья. Бессмысленные слезы Ирены. Их игра – мужская игра. Жаль только, что они не за живую бабу сражаются, а за желтые железки – не как те герои, тогда, в Трое.
С пачкой фотографий в руках он замер прямо в машине. Рядом с ним на сиденье лежал револьвер. Недавно он купил себе новую модель «беретты». Она устраивала его тем, что в ней помещалось много зарядов, можно было поливать того, кто сунется, не хуже, чем из автомата. Нет, Бельцони на него, живого, не полезет. Бельцони умный. Умный и хитрый, как змея.
Он рассыпал снимки на коленях. Сердце у него екнуло, дрогнуло, остановилось, пошло, застучало в бешеном, кастаньетном ритме. Эти слепые золотые глаза, широко расставленные! Эти надписи по золотому вороту одежд, чуть ниже шеи, над яремной ямкой!
Скорее в дом. Сокровища у него дома. Под сигнализацией. За семью печатями. В сейфах. Еще ни разу не было случая, чтоб находки украли из его особняка. Даже Ирена не знает, где они и как охраняются. Ирена, бедная, больная. Он отправит ее на Канары. Или на Майорку. Ей надо купаться в море. Море в Тамани было у нее под боком. Чего ты хочешь, Кайтох. Беги скорее, скорей туда, к сейфам. Рассматривай. Сличай.
Когда он вынул из сейфа укутанную в белую бязь маску царя и развернул ткань, а рядом положил фотографию маски, найденной в Гермонассе, он ахнул как-то по-бабьи, прижав ладонь ко рту. Матка Боска! Все ясно. Яснее некуда. Та же рука мастера. Тот же тип лица. Глаза чуть раскосы, стоят широко, круглый лунный очерк щек, мягкий подбородок. Те же украшенья – длинные серьги в ушах, диадемы на лбу. На маске, вынутой из сейфа, в диадеме вместо камня надо лбом зияла пустота; на сфотографированной в Тамани маске тускло мерцал крупный рубин. Рубин, камень льва. Ясно, царь и царица. Таманская маска – женская. Измирская – мужская. Царственная чета, захороненная там, в Анатолии… вот бы еще прочитать надпись на золотом вороте! Да он ведь не дипломированный археолог. Доктор Касперский все сделал как надо. Он изловил в сети Задорожного и получил описанья и датировку сокровищ. Большего им и не надо пока. Дальше Задорожный все сделает сам. Он пока не знает, что он будет делать, зато Кайтох все знает очень хорошо. И надпись прочитают. Не сегодня, так завтра. Когда Задорожный вернется в Тамань и сделает то, что он должен, по расчетам Кайтоха, непременно сделать, тут-то он его и накроет, как бабочку сачком. А Бельцони он накроет гораздо раньше. Считай, вшивый лаццарони, что я тебя уже прихлопнул.
Кайтох погладил висок, щеку золотого царя. Ничего, владыка, на распродаже ты воссоединишься со своей законной супругой. Он продаст вас вместе. Только вместе. Он не разъединит вас, царей, на продажном помосте, как плачущих, цепляющихся друг за друга рабов. Бельцони сам принесет ему масочку на подносе, с поклоном. Халдеи всегда были мелкими воришками. Они всегда ждали от клиента на чай.
… … …
Ежик места себе не находил. Он таскался за Светланой повсюду. Серега хмурился. Мать уехала, пацан отобьется от рук… Только бы Светланка его не заманила в кусты… Или пусть уж лучше заманит. Когда-то ведь надо становиться мужиком. Что за странная эта московская девка! То была веселая, все пела, с шутками и прибаутками мыла обломки ваз в своем медном тазу, а тут вдруг – молчит, изредка всплакнет… Смерть Егорова будто пришлепнула всех пыльным мешком. Да, подумал Серега, невесело все это. Но они правильно решили – никуда не сообщать. Ведь не сегодня-завтра возвращается Задорожный. Он поставит все на свои места. А пацан… что ж пацан!.. Пацанам – влюбляться, девкам – слезки точить… мир так устроен… да он-то мал для нее, а тут Жермон, прожженный кот, на нее глаз кладет… Ох, трудно в экспедиции, люди-людишки – экипаж на корабле, каждый со своими заморочками, со странностями, а тут еще мужики в баб, как назло, всегда влюбляются, и вместо работы – драмы, трагедии, рванье волос, ночные убеганья на море… Кто, кто убил Князя Всеволода?!.. Какие залетные разбойнички… кому он, пожилой уже дядька, тихий-мирный, мог понадобиться ночью, на берегу моря, на обрыве, недалеко от раскопа, от палаточного лагеря… сидел, должно быть, курил, глядел на красный огонек папиросы, на тихое, туманное море…
И Светлана тоже думала: кто же, кто?.. Она после работы, когда вечерело, уходила в степь, ложилась на спину, глядела в небо, грызла травинку. Жук, гудя басовито, как самолет, садился ей на загорелый лоб. Кто же, кто… а тебе-то какое дело, вон там, на обрыве, могила… Не царский могильник, не роскошная гробница – простая могила человека, убитого случайно, из озорства, из издевки, по пьяни… Убили камнем – значит, пьяные были. Тогда, сразу после поминок, она думала: а может быть, это… Ирена?.. Дикая мысль пролетела летучей мышью и скрылась. Почему – Ирена?.. Потому, что она внезапно, тайно, ночью уехала – тою же ночью, как Всеволода убили?.. Да, да, да… Убила… зачем?.. Женщина, нежная, слабая, – как она может ножом, острым камнем пробить живую грудь человека?.. Не может быть. Но отчего она уехала?.. Отчего?..
По сухой полыни прошуршали шаги. Ну да, Ежик. Вездесущий Ежик. Что ж ему делать, как не преследовать ее. Он ее не утомляет. Ей с ним хорошо. Вот только он страдает, когда она исподлобья глядит на него смеющимися глазами.
Она повернула голову. Никого. В зубах торчала травинка. Светлана выплюнула ее, поднялась с земли. Жара спадала, не грех было и искупаться. Она сбежала по обрыву вниз, свистнула бычку Козе, стоявшему на цепи, навострившему рожки. Никого. Лагерь пообедал и дрыхнет. Все еще подавлены гибелью Прораба. Мало разговаривают друг с другом. Вот зайти сюда на кусты… и раздеться совсем, догола. И в воду. В воду, что обнимет… успокоит, смоет всю грязь…
Она быстро стащила с себя платье, лифчик, трусики, сбросила сандалии. Бросилась в море сразу, с разбега, долго не думая. Теплая вода, у берега – серая, пенная, дальше – чуть в изумрудинку, зелено-прозрачная, обняла ее так крепко и любовно, что у нее от радости перекатилось в груди сердце. Она вдохнула соленый воздух и поплыла. Она любила плавать и плавала хорошо, кувыркалась, как рыба. Большая смуглая рыба, царица осетров, с золотой короной на голове, с зелеными человечьими глазами. Расскажи эту сказку Ежику, дорогая, на ночь, чтоб он крепче спал в своей одинокой сиротской палатке. Скоро приедет его мать, и тебе нечего поощрять парня. Ты же старше его. Ты намного старше. Намного… это на сколько?.. В юности и год – это уже много, так много…
Она плыла прямо на солнце. Потом перевернулась в воде. Раскинула руки и ноги. Лежала в море на спине, и море ласково поддерживало ее, выталкивало из себя, держало на зеленой ладони. Она набрала в грудь воздуху и нырнула, открыла глаза под водой. Водоросли, их длинные ленты колыхались вокруг нее. Подводное царство. Всегда были царства и государства, и на земле, и под водой. И на небесах – уж подавно. Царь Небесный… кто сейчас глядит на нас с небес, все видит про нас и знает?..
Она задохнулась, вынырнула, схватила ртом воздух. Маленькая рыбка, играя, плеснулась перед ней. Вода блестела жидким золотом, она словно купалась в золоте. Как прекрасно быть царицей… древние царицы вот так же плавали в море, а когда выходили на берег, прислужницы одевали их в белый виссон, в затканный золотом дамасский шелк…
Она плавала до тех пор, пока не почувствовала озноб. Солнце медленно, царственно закатывалось за край моря. Жидкое золото превращалось в оранжевую медь. Водоросли обнимали руки и ноги властными щупальцами, будто подводный спрут хотел утащить ее на дно. Мелкие медузки леденисто касались живота. Она подплыла к берегу, нащупала ногами песок, камни. Стала медленно выходить из воды, отражаясь в розово-зеленых, халцедоновых бликах.
И Ежик, стоявший за кустом, у срезанной ветром скалы, увидел сначала светловолосую, с заколотыми на затылке мокрыми косами, голову на высокой загорелой шее; потом – высокую грудь с заостренными, как пирамидки, сосками, молочно-белую рядом с медной южной смуглотой ключиц; потом – тонкую талию, чуть выгнутый, как древний щит, живот с двумя смешными родинками у пупка; потом – русо-золотой, как руно, треугольник волос между загорелых, медленно, как во сне, движущихся ног; бедра, выпуклые, роскошные, – крутые бедра, которых Светлана вечно стеснялась, особенно на сцене, ведь в моде были худые и поджарые рокерши… Она выходила из воды, она медленно и торжественно выходила из воды, и в ее поднятии из вечерних волн была такая тайна и молитва, что Ежик перестал дышать. Он хотел было крикнуть: подожди, не выходи из моря, ты ведь вся голая, а я же стою тут!.. – но он онемел, не мог шевельнуться. И, когда Светлана вышла из воды вся, она увидела его.
Они стояли друг против друга – мальчик, влюбленный в девушку, и девушка, не влюбленная ни в кого. И она поняла: если она сделает сейчас неверное движенье, погибнет либо она, либо мальчик: он погубит в себе то святое, что лилось сейчас на нее из его глаз, что одушевляло всю природу вокруг и их двоих внутри природы.
И она закрыла рукой грудь, а другой рукой – треугольник золотых волос внизу живота; и щеки ее порозовели; и она тихо прошептала, но он все равно услышал: «Отвернись, я сейчас оденусь». И он, дрожа, сделав слепой шаг к ней, весь устремленный и протянутый к ней, отвернул лицо. И он почувствовал, как его плеча коснулась нежная мокрая ладонь. И он повернул голову и, не глядя, зажмурившись, поцеловал прижавшиеся к его плечу соленые девичьи пальцы.
… … …
– Андрон, а ты когда-нибудь будешь работать в раскопе?.. или ты приехал сюда…
– Ну да, я приехал сюда балдеть! Мне трава не расти! Роман взял меня сюда потому, что я великий Андрон, а не потому, что я должен тут вместе с вами ручки пачкать в античном дерьме! Роман мой друг, между прочим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу…
– Я вот что скажу тебе. – Серега жестко прищурился, измерив «звездного мальчика» взглядом, как портной – раскраиваемую ткань. – Если ты будешь тут выкомаривать и бить баклуши – ты уедешь завтра же. Ребята говорят меж собой: хоть он и «суперстар», а работать должен наравне со всеми. Понял?
Красавец Андрон пожал плечами. В набедренной повязке, как неподдельный античный раб – даже не в плавках, – вся грудь увешана цепочками, крестиками, «куриными богами» на черных шнурках, бусами из мелких ракушек, ожерельями из абрикосовых косточек и другими «феньками», загар лаково-бронзовый, хоть сейчас ставь натурщиком перед студентами Академии художеств, – а взгляд какой презрительный, да он в гробу видал всех в этой экспедиции, в этой богадельне, землековырялке!.. – масленый взгляд, густые, как у девчонки, ресницы, вызывающая стойка – бедра и таз чуть назад, живот чуть вперед, нате, глядите, какой я мужик, блеск, отпад, – Андрон стоял перед Серегой отнюдь не как солдат перед генералом; он играл роль «звезды» везде, и здесь тоже, он так врос в шкуру «звезды», что выдрать его из нее с корнем не могло ничто. Кто это тут ему вздумал нотации читать?!.. а ну, отвали…
– Отвали, – выцедил Андрон сквозь зубы, будто выпустил марихуановый дымок. – Иди сам трудись, трудоголик. Считай, что я тут у тебя на твоем коровьем довольствии. Мне просто нравится, как варит кашу Славка Сатырос. У тебя отличная повариха. А все остальное хреновое. Не мог для работников палатки четырехместные закупить, немецкие. Живем, как в нужниках. Благо юг, жарко. Не тронь меня! Не нравится, что я волыню?.. Я, между прочим, музыкант. Я готовлюсь к концертам… учу программы…
– Знаю, знаю, – Серега махнул рукой, – как ты со Славкой готовишь программы… там, у рыбсовхоза, на бережочке!..
– Мы там едим хамсу, – не моргнув глазом, ответил Андрон и потрогал маленькую рапану на цепочке у себя на груди. – Я любитель хамсы. И кильки. Пряного посола.
Его наглые, беспросветно-черные, масленые глаза смотрели на Серегу невинно и порочно. Красивый невинный циник, не знающий о том, что цинизм неизлечим, как СПИД. Что с ним сделаешь!
– Хочешь, концерт для вас всех сделаю?
– Что, что?.. – Ковалев даже вытянулся, как гусь. – Концерт?..
– Ну да, концерт. Спою для вас. Все для вас, сударь! – Андрон раскланялся, как шут гороховый. – Кое-то из старого репертуарчика, кое-что из новья. Звиняйте, дядьку, бананив немае, то есть, конечно, музыкального сопровожденья. Ты же знаешь, мужик, что у меня есть мои ребята, и я без них как без рук, выступленья а капелла – не в моем стиле. Ну да черт с тобой. Лето, жара, эта ваша чертова Гермонасса… Экзотика! Я вам спою… еще на «бис», так и быть!
Серега воззрился на Андрона, судорожно сглотнув. Великий Андрон будет петь здесь, в дикой таманской степи! И для кого – для кучки баб и мужиков, копающихся в земле и обалдевших вконец от жары! И бесплатно! И без своего басиста Демиса, изумительной красоты грека из Афин, все болтали – «голубого», которого он подцепил на гастролях, и без своего ударника Раду, изумительной красоты молдаванина из Кишинева, что сам к нему приклеился, разогнав всех прежних ударников; и без своих двух граций – Райки и Файки Саид-Шах, дочек индийского имама и русской актрисы, черненьких девочек с шоколадной кожей и красными священными индусскими точками во лбу, на бэк-вокале, – без Райки и Файки какие были песни Андрона?!.. – и без двух тощих кордебалетных змеюк Лиры и Виктора, создававших подтанцовочный ненавязчивый фон… один! Серега вспомнил старый анекдот. «Без ансамбля! Сам, бля!.. Один, бля!..» Вот так поворот, и мотор ревет. Им всем подфартило, выходит?.. Недаром Андрон экспедиционный хлеб ест, археологическую кашу лопает.
Серега усмехнулся. Выгоревшие бараньи кудри над его лбом, как копна сена, качнулись вниз в знак согласья.
– Тебе сцена нужна?.. ребята помост срубят…
– Не нужно мне ничего, – поморщился Андрон. – Я могу петь хоть стоя, хоть лежа, хоть в степи, хоть в лодке в море. Хоть когда занимаюсь любовью, прямо на бабенке. Мне даже нравится простор. Интересно, проверю, – а голос не гаснет на свежем воздухе?.. Мариан Андерсон, говорят, пела в Нью-Йорке у статуи Свободы на площади – и толпы народу собирались и слушали ее, и слышали, вот что странно!..
И Андрон закатил почтеннейшей публике свой концерт, как доведенная до отчаянья дамочка закатывает истерику. Он закатил его один так, будто сто оркестрантов трудились и потели. Серега прикусил язык и взял все свои слова о лентяйстве и баклушах обратно. На этот Труд стоило взглянуть. Это стоило услышать.
Андрон собрал всех после обеда, к вечеру, на ровной поляне за лагерем, на обрыве, поросшем тощенькой сухой травкой. Все расселись прямо на земле, скрестив ноги, по-восточному. Ветер с моря дул, ласково обдувал публику. Моника, воткнув в белые волосы неизменный черепаховый гребень, длинными зубами, как лошадь, улыбалась Гурию Жермону. Коля Страхов придирчиво глядел на голую спину Андрона, ставшего поодаль, уставясь в морскую даль – вдохновлявшегося. Серега Ковалев уселся рядом со Славкой Сатырос, явившуюся на концерт поп-звезды все в той же тельняшке – больше одежонки у нее не было, что ли?.. Леон, мрачно сидя в стороне, под высохшим, мертвым пирамидальным тополенком, ковырял сухую землю пяткой. Серега оглядывался – не было Ежика и Светланы. А, вон они идут, поднимаются вверх по обрыву, Ежик подает Светлане руку. Хороша Светка, вот оторва!.. То с Гурием ночью в Керчи пропадает, то мальчонке мозги пудрит, пока мать в отъезде… Да, купались вместе; у Светки волосы все мокрые. А потом на песочке… Да нет, брось, Серега, не может Светка быть такой! Все может быть. Ты же сам знаешь. Это жизнь.
Светлана и Ежик сели на землю в сторонке, скромно. Они сами не знали, что будет, почему все собрались тут, на поляне. Андрон повернулся. Закинул руки за спину. Развернул грудь колесом. Дернул торсом, и все «феньки» на его тарзанской груди затряслись и запрыгали.
– Я! Иду! И мой стеклянный глаз! Я! Иду! Пародия! На вас! – закричал он натужно, присев, неприлично выставив два пальца напротив вздыбленных под плавками чресел: весь его концертный наряд был – плавки и «фенечки», и более ничего. Все вздрогнули. Начиналось действо. Андрон начал его так мощно, ярко, стильно и непотребно, что у людей, особо обостренно относившихся к любому проявленью дурновкусия и пошлости, захолонуло в груди. Весь вызов, вся черная, со срезанными кончиками пальцев, расшитая металлическими клепками перчатка, брошенная в лицо времени и стране, то ли погибшей, то ли воспрянувшей – еще никто не знал, – вся гадость, превратившаяся в искусство, вся помоечная чернота, превратившаяся в выблеск культуры, все сухие корки бомжей и все кровавые алмазы богатеев, все смерти в подворотнях от ножа и все марихуаны, выкуренные в салонах elegant, – все это обрушилось из изгалявшегося, орущего, кривляющегося, по кричащего, то шепчущего еле слышно Андрона на слушателей, рассевшихся на полынной степной земле, и это и была разгадка тайны времени, нагло и властно востребовавшего у человека Полной Свободы Выраженья – взамен за Полную Подчиненность Идолу. Андрон хрипел и плакал. Андрон кричал, выкрикивал и выпевал в степь такие тексты, что и не снились благопристойным Бобу Гребенщикову и Виктору Цою. Наступило время Новой Классики – классики хулиганства, классики-во-все-тяжкие, классики сонного сексапильства, срамного обнаженья, сыпанья ругательным и сногсшибательным рэпом, классики говорить пошлость за пошлостью – пока вы, слушатели, зрители и поглотители меня, звезды, не почувствуете наконец, что есть Пошлость с большой буквы, и это уже – искусство и инсталляция, потому что время безжалостно срубило красоту под корень, а пьедестал остался – ну, что прикажешь делать с ним?! Влезай на пьедестал, ребята! Кричи, надрывай пуп! Это наше время! Это время Великой Пошлости, и, чем пошлее ты выругаешься, чем ты сильней отклячишь задницу или выставишь вперед едва прикрытую передницу – тем влюбленней к тебе ринутся, тем сильней тебя раскупят, тем громче крикнут тебе из зала: «Давай, Андро-о-о-он!..»
Серега пошел красными пятнами. Моника сидела, как завороженная: вот это дает русская поп-стар! Славка глядела большими глазами, мордочка у нее была отчего-то грустная и кислая, будто она выпила яблочного уксуса. Серега вспомнил: она клялась и божилась, что охмурит московского залетика. Эх, повариха, повариха… До чего вы наивны все, провинциальные девчонки… Проживешь ты, Славка, где-нибудь в Керчи или Феодосии, в Судаке или Джанкое столовской стряпухой, кафешной судомойкой, да так и помрешь на пороге портовой забегаловки… Эх… Светлана, не глядя, не сознавая, вцепилась в руку Ежика. Что он творит, этот Андрон! Что творит! Вот оно, настоящее искусство, Светланка, оказывается. Не твой мрачный рок. А вот эта вызывающая, захлебывающаяся в собственной великолепной пошлятине попса, так понятная всем, так быстро съедаемая, сжираемая всеми, так лежащая на поверхности – бери и жри, хватай и пей, и денег не жалей! Одноразовый шприц! Сладкая дешевка! Пирожок с цианистым калием за три рубля! Налетай, с пылу-с жару!
– Три черных тюльпана ты мне подарила, и три черных ночи тебе я подарил! – надсаживался Андрон. – Ты чертова стерва! Меня ты любила! И я тебя, сука, сегодня убил!
– Нынешний вариант Кармен, – пробормотал Колька Страхов, – любил, убил… Как бы тебя самого не убили, парень… уж больно ты бешеный…
Светлана все крепче сжимала руку замершего от страха и счастья Ежика. Она отзывалась на все вскрики и выгибанья Андрона всем телом, она молча, напрягая связки, повторяя за ним мелодии, пела вместе с ним. Сколько сил он тратит! Что за ужасный репертуар! Адская смесь дурьей попсы, дерзости рока, ритмичного чесанья языком, как в рэпе. Черный коктейль. Неужели это и есть эстрада Нового века?! А как было там, давно, в тех колодцах времен, куда и заглянуть было страшно?.. «Хлеба и зрелищ!» – кричали римляне в вонючих, усыпанных опилками и огрызками цирках, где пахло львиной мочой и пролитым из бурдюков вином, а еще кровью – дикие звери загрызали живых людей, бедных христиан или проклятых рабов, – и римлянам их кесарь давал сполна и хлеба, и зрелищ. Андрон шатнулся, похабно выгнулся, засунул руку между ног, и внезапно Светлана увидала в его глазах – о, даже слегка подкрашенных, и в такую жару краска растаяла, стала стекать с век вниз, по щекам, как черные слезы! – такую боль и печаль, что ей стало страшно. Она чуть приподнялась с земли. Выпустила руку замороженного в задыханьи любви Ежика.
– Меня-а-а убьют!.. И кровь подотрут!.. И кости соберут!.. Лицо раздавят сапогом, а в сердце наблюют!.. – вдруг крикнул Андрон и заломил руки, как античная актерка перед шумящей раковиной амфитеатра. Светлана вздрогнула. Чего это ради он так… ведь это не песня наверняка, этого в тексте нет, она чувствует, знает – это импровизация! В глазах Андрона плясало безумье. Безумен был и античный Орфей. У каждого времени – свой Орфей. Только убийство… убийство – оно всегда одно и то же, во все времена… Князь Всеволод… Там, за спиной, на обрыве – его могила… Кто придет к нему сюда, на могилу?.. Кто прошепчет над ним молитву, кто его отпоет в церкви?.. Он же был совсем одинокий, а они все и не знали… «Приеду в Москву – закажу панихиду по рабу Божьему Всеволоду», – подумала Светлана, и тут Андрон упал. Он упал плашмя на землю и застыл. Как мертвый. Он изображал мертвого, это было ясно. А может… а вдруг?!..
Коля Страхов медленно, лениво захлопал в ладоши в наступившей тишине, нарушаемой лишь легким свистом ветра. Серега Ковалев бросился к распростертому на земле смуглому телу, залитому, будто маслом, блестящим потом.
– Андрон!..
Андрон поднялся, шатаясь. Веки его были красны. У него был вид человека, только что переплывшего Керченский пролив без лодочной страховки и без подкрепленья на плаву витаминами и алкоголем. Он тяжело дышал. Моника, накрутив на палец прядь белых волос, смотрела, как течет по блестящим мускулам его живота пот ручьями. Его растрепанные волосы овином встали вокруг головы. Он небрежно кивнул и глазами, приобретающими снова осмысленное выраженье, презрительно, как всегда, оглядел слушателей.
– Вот и вся песня табунщика, – процедил он, чуть выпятив нижнюю губу. – Премного благодарен собравшимся. Вы… довольны?..
Все вскочили с земли. Кинулись к Андрону. Мужики хлопали его по плечам, трясли ему руку. Женщины отводили взгляд от его встопорщенных плавок, потом опять косились. Андрон сдернул с себя «феньку» с рапаной и надел на шею Ежику.
– Парень, возьми ракушку, просверлишь дырку, будешь свистеть. На моих концертах, – бросил Андрон, задыхаясь.
А в ушах Светланы все стояло: «Меня убьют, и кровь подотрут…» Это вылетело из него внезапно, она же поняла. Кто-нибудь еще… понял?..
– Ну, это дело надо отметить! – Серега был весь красный как рак. – Я припрятал… от похорон Всеволода Ефимыча… три бутылки водки… пошли, выпьем, что ли…
Леон хмыкнул. Дернул головой, откинув прядь засаленных смоляных волос со лба.
– А ты запасливый Винни-Пух, Сергей. Я бы не прочь выпить. Тут с вами, в этой экспедиции, захиреешь совсем без допинга. Давай, двигаем в лагерь. Ты классно поешь, Андрон!
– Ты меня первый раз, что ли, слышишь?.. – Андрон надменно вздернул губу. – Непросвещенный, кролик…
– Просвещенный. Я слышал твои записи. Видел тебя по ящику. У меня нет времени… и денег ходить на концерты. Я бедный Йорик.
– Ты, бедный Йорик!.. знаешь, какое сейчас самое прибыльное дельце?.. Иди знаешь куда?.. Работать шпионом. Шпионы сейчас много получать будут. Шпионы и менты. Ментовское время сейчас наступит, фээсбэшное. Что по нищим экспедициям мотаешься, подавайся-ка ты в менты, в шпионы… или в шоу-бизнес. Есть у тебя талантишко хоть какой?.. ну, к себе в группу я тебя не возьму, у меня кордебалет уже есть… а вот шпионство…
Андрон откровенно смеялся над ним. Леон покосился мрачно. Нефтяные волосы, жирно отблескивавшие в свете закатного солнца, опять упали ему на лоб.
– А у тебя шпионский талант есть?..
– У меня – есть. – Андрон позвенел «фенечками». – Я вот тут кое-что приметил, когда еще никто ничего не приметил. Когда все дрыхли без задних пяток.
– Это что же?..
– А то. В ночь, когда Всеволода убили, я не спал, между прочим. Захотел травки покурить… вывалился из палатки… и увидел.
Леон медленно шел рядом с Андроном. Светлана с Ежиком шла поблизости. Она слышала все, что они говорили.
– Что увидел?..
– Подошел сначала к раскопу. Мне показалось, что в раскопе кто-то есть. Ну, думаю, травка моя, глюки… Нет, точно, гляжу, тень… копошится. Я отошел… курю себе дальше… хм, думаю, кто-то тайно хочет расковырять драгоценность, с фонариком… себе в карманчик… и тень – р-раз! – из раскопа… и я за ней… да я на том краю раскопа стою, а человек – на другом… и не пойму, мужик или баба, в штанах вроде, да у нас все в штанах ходят… и тень шарахнулась между палаток – туда, в степь… к морю… и все, и пропала. И я понял, что это чужак к нам забрел, может, таманский пьяница какой, в раскопе, на дне бассейна, заночевал, а рассветать стало, вон выбирался… но каков шпион я, а?!..
Андрон не заботился о том, слушает его Леон или нет. Он молол языком самозабвенно и для самого себя. Он был артист, что опьяняется монологом. Зато Леон стриг ушами вовсю – Светлана видела. Смолчал. Ничего не сказал.
Они все собрались за столами, за которыми обедали каждый день – за дощатыми, наскоро сколоченными из случайных досок, из ящиков, из тары, из фанеры столами и скамьями, под холщовым тентом от жары, поддерживаемом рейками, и Славка Сатырос соорудила быстренько нечто вроде закуски, легкого ужина – холодная картошка в мундирах, оставшаяся от обеда, соленая хамса, огурцы, купленные у бабки на пыльной таманской площади – вранье, надранные в окраинном огороде нелегально, – в тарелке, горкой, кислые абрикосы; еще вскрыли консервы – неприкосновенный, аристократический запас из залежей самого царя-императора Задорожного, хранившихся в Серегиной палатке, – и ртутно-тяжело блестевшая в бутылях водка подчеркивала изящество сурового степного натюрморта.
– Мужики, казаки! – крикнула Славка разбитно. – Валяйте тостяру за нашего… – Она влюбленно оглянулась на Андрона. – За нашего славного…
Славка закашлялась. Серега хлопнул ее по спине. Светлана ошалело глядела, как ловко, будто век работал официантом-халдеем, разливал по стаканам водку Леон. Разлив горькую, он поднял стакан высоко, улыбнувшись тонкими, поджатыми губами. Его неряшливая щетина на щеках, выстриженная тупыми ржавыми ножницами, напоминала Светлане вымазанный сажей кривой колобок.
– Дорогие друзья! – откашлявшись, прохрипел он. – Дорогие… э-э-э… господа археологи!.. и те, кто волею судеб разделяет этим летом их, можно так сказать, тяжкий труд, но благородный, да-а-а-а… Итак!.. ну, вот… что я могу сказать?.. я могу сказать только то, что сегодня мы слышали… э-э-э… и даже видели, что еще интереснее… да, видели то, что можно назвать одним словом – чудо… да, да, и это не слишком громкое слово для… ну, Андрон, ты уникальный мужик!.. и ты показал нам сегодня то, в чем мы сами боимся себе признаться… ты показал нам нашу… м-м… наше нутро… наш… колодец, куда мы боимся заглянуть… а ты заглянул, ты смелый… мы все кричим тебе: браво, Андрон!.. и пьем за твою смелость… за смелость, в общем! За смелость, да!
И все за дощатым столом стали кричать: за смелость, за смелость!.. – и поднимать и сдвигать стаканы, и выпили, и стали быстро, судорожно закусывать всякими закусками, что были на столе – и картошкой, и огурцами, и хамсой, и абрикосами, – а выпив, вдруг притихли, загрустили, стали оглядываться на могилу Князя Всеволода: приближался девятый поминальный день, и Сереге предстояло опять тащиться в таманский сельмаг за новой порцией водки, выходит, что так. Андрон положил руку на плечо Леона. Выпитый стакан водки затуманил ему шмелиные глаза.
– Ты ужасно хороший, Леончик, – мурлыкая, как кот, Андрон придвинул башку к небритой щетине Леона. – Ты стильный. Обожаю стильных людей. Да здравствуют стильные люди. Они всегда оказываются наверху. Люблю эту миссионерскую позицию. Она наиболее сексуальна, хоть и традиционна. Потому что она дает тебе почувствовать свою власть. Власть, ты слышишь, власть.
– Спасибо, друг, – небрежно сказал Леон, поглаживая ладонью щетину, – я сам не знал, что я такой.
Ежик стоял рядом со Светланой. Он все еще переживал то, что было на берегу. Ему казалось: ему снился сон. А потом этот концерт Андрона в степи. Ну почему, почему Жермон смотрит на Светлану так подозрительно… так подло?!..
Гурий Жермон сидел на краю стола. Его взгляд, вонзенный в Светлану и Ежика, был так тяжел, что Серега, случайно наткнувшийся на него, разом вспотел. Эк разобрало мужика!.. И что это все они на бедняжку медсестричку, просто как мотыльки на огонь?.. Что такое в этой московской девочке, непритязательной медичке, приехавшей сюда и подзаработать, и отдохнуть, и поднабраться впечатлений, – зеленые, как крыжовник, глаза, русые косы на затылке?.. слишком смуглая, как индианка?.. слишком широкие бедра, слишком тонкая талия?.. С виду – ничего особенного, так, девчонка как девчонка, тысячи таких, а присмотришься – вся солнечная… Чем она так притягивает к себе?.. Серега и сам бы не прочь ухлестнуть… да у Сереги – невеста в Костроме…
Через мгновенье, когда зелье разлилось по жилам, все зашевелились, загудели, кто-то запел, кто-то зашутил, Андрон сам полез с новым тостом; Гурий, продолжая тяжело глядеть на Светлану, схватил горсть абрикосов с тарелки и затолкал себе в глотку, как кляп; Светлана ударила Ежика по руке, когда он потянулся к стакану: нельзя!.. хватит… Минутная грусть исчезла, растворилась в застольном гуле и шуме. Первые звезды повысыпали на небе, мерцая и искрясь, и южная ночь опускалась властно и стремительно, как темный полог. Власть! Леон сказал – власть… Светлана не знала, что это такое. Власть царя, власть генерала, власть патриарха, власть олигарха… власть мелкого чиновника над большим художником… власть матери над дочерью… надсмотрщика над рабом… Неужели это так опьяняет – власть?.. Неужели это самое большое наслажденье в жизни?.. Жермон говорил – большое… противный Жермон… не смотреть в его сторону, не смотреть…
Застолье в честь концерта Андрона гудело допоздна. Когда небо стало уже совсем темным, черно-синим, а из-за горизонта показался зловещий красноватый Антарес, завеселевший как следует Серега скомандовал:
– Эй, слушай меня!.. я – Командор… слушай мои шаги… приказываю: всем спать… расползаться по палаткам…
Да и всем улечься хотелось. Все были только рады приказу.
И через пять минут из палатки Андрона раздался дикий вопль.
Кричала Славка Сатырос.
Она кричала так страшно, так неистово, что весь полупьяный, собравшийся уже сладко задремать после сегодняшних впечатлений лагерь археологов дрогнул.
Это был крик человека, увидевшего голову Медузы Горгоны – да так и застывшего со страшным криком в зубах, в глотке.
– А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а!
Ужас объял людей. Они не пошли из палаток – поползли. Коля Страхов бежал, споткнулся, упал. Моника вылетела из палатки всклокоченная, похожая на белобрысую ведьму. «О, годдэм, ит из дизайтер!..» Да, это катастрофа… Катастрофа?! Здесь?! Сейчас?! Вечером, в спокойном лагере экспедиции, под ясными звездами Киммерии?!
Когда они влетели в палатку Андрона и схватили орущую и дергающуюся Славку, оттаскивая ее от страшного, вытаскивая прочь, чтобы она невидела, они поняли все.
Андрона убили жутким чеченским ударом – ему перерезали горло поперек. Длинная дикая красная улыбка зияющей раны заставила закричать и Монику, забить себе рот кулаком. Он лежал, красивый, еще теплый, неостывший, уже не шевелился. Колька Страхов, с расширенными зрачками невидящих глаз, захрипел:
– Светлану!.. Светлану скорее!..
Она и сама уже бежала – и Ежик бежал за ней, на ходу расстегивая чемоданчик походной аптечки. У нее не было в голове никаких других мыслей, кроме одной: остановить кровь. Еще не поздно. Еще можно успеть. Успеть. Остановить!
Она, влетев в палатку – были принесены все карманные фонарики, все свечи, что нашлись у археологов, и зажжены около матраца, на котором лежала поп-звезда, – нашарила в аптечке шприц и камфору, ввела сразу пять кубиков. Схватила еще ампулу с промедолом, отломила стеклянный кончик зубами, с хлюпаньем втянула в шприц лекарство. Воткнула иглу в руку. В уже мертвую руку.
На перерезанное горло она не смотрела. Ее руки сами находили в аптечке вату, бинт, спирт, йод. Ее руки сами делали перевязку. Перевязывали уже мертвое горло.
Она делала все сестринские манипуляции четко, жестко, на автопилоте, как делала в больнице всегда, и она знала, что делает все мертвому, как живому. Она старалась. Она спешила. А спешить было уже некуда.
Славка Сатырос глядела на все, что она делает, бешено выкатившимися глазами. Она мычала, уже не кричала – Серега Ковалев зажал ей рукой рот. Заштопанные на локтях рукава ее тельняшки мотались ниже скрюченных пальцев. Тельняшка была ей велика. Ей, дылде, дубине стоеросовой.
– Господи!.. Гос-споди…
Жермон. Господа поминает. Как тут не помянуть. А уж он ли не навидался политических и денежных убийств. Сейчас в машине банкир или бизнесмен, столичный адвокат или заграничный инвестор так просто не проедет – есть риск, что его изящно, незаметно уберут: пистолеты с глушителем выпускаются уже такие, что выстрела может не услышать даже сидящий в соседнем автомобиле, только увидеть – разбитое стекло, окровавленное тело в машинном нутре. Призывай или не призывай Господа, уже все равно. Люди семимильными шагами бегут к пропасти, и путь их умащен кровью. Каин уже сто веков подряд убивает Авеля, брата своего. А у них одна мать была, Ева. Что ж ты, Ева, не доглядела?.. Эх ты, Ева, Ева…
Эх ты, Светлана. Что ж тебя как плохо в училище учили. Что ж ты человека оживить не можешь. Воскреси! Просят же тебя! Все же на тебя – видишь, как смотрят!
Она обернулась. Сполохи от свечного рвущегося пламени ходили по ее лицу, острый свет карманного фонарика пронзал глаза. Мертвый певец Андрон лежал на матраце с перевязанным горлом. Ей подумалось: так его и похоронят, с рукой, наколотой ее уколами, с горлом, ею забинтованным так плотно, будто после операции. Убийство, оказывается, тоже операция. Только после нее человек не просыпается, как после наркоза.
Это горло уже больше никогда не станет петь песни. Не споет. Ни одной.
Как все просто. Как просто все, Господи.
Умереть во славе, во цвете лет. Счастливчик?..
Кровь, еще сочащаяся, пропитала повязку. Вот такие лежали больные в палате интенсивной терапии после операций на щитовидной железе, и Светлана помогала реаниматорам, она и реанимационной сестрой тоже успела поработать. Она видела, как оживляют людей. Вынимают их из комы, из клинической смерти. У вынутых – такие глаза иной раз бывали. Удивленные, подернутые пеленой небесной радости, полные запредельной боли, раздосадованные… видевшие то, чего видеть нельзя. Безрадостные – когда они осознавали, что их вернули.
– Он умер, – сказала Светлана тихо. – Умер, понимаете. Ничего не будет. Он умер.
– Колька, быстро, на дорогу, лови машину, в Темрюк, в Лабинскую, на операцию!.. – закричал Серега. Светлана помотала головой. Ее щеки стали бумажно-белыми, куда и загар девался.
– Не надо, Сережа. Не мучь себя и всех. Все… это все…
– Может быть, еще можно!
Это отчаянно крикнул Ежик. Светлана повернула к нему лицо. Ее глаза были сухи.
– Кто его убил? – спросила она тихо. – Кто?..
Все стали глядеть друг на друга. Это было страшно, печально и смешно вместе. Это было странно. У Гурия затряслась нижняя губа. Леон покашлял в кулак. Колька Страхов исподлобья, как бычок, окинул взглядом склонившихся над телом Андрона.
– А разве это из наших кто?..
– Тот, кто убил Всеволода!
Это крикнула по-русски белобрысая Моника. Крикнула – и заплакала, закрыв лицо руками.
Светлана повернула лицо к Монике. Она стояла по-прежнему на коленях около тела Андрона, будто молилась. Еще одна молитва – за усопшего. Что теперь им делать?! Сереге – ехать срочно в Темрюк, вызывать к телефону все не едущего, черт побери, Задорожного, мчаться в таманское отделенье милиции, приводить ничего не понимающих спросонья дежурных таманских ментов, взрывать страшным скандалом все вокруг?! Им – не спать у тела, ждать правосудия, копать новую могилу… или отправлять тело в Москву, чтоб Андрона с почестями, с помпой и громом на всю страну похоронили родные и близкие?!.. на одном из престижных кладбищ столицы, на Ваганьковском, на Новодевичьем… Или…
Или снова ничего, никому. До приезда Задорожного.
Почему он не едет?! Может, он тоже какой-нибудь античный миф?!
– Моника, – сказала Светлана тихо, – Моника… Мы же не знаем, кто убил Всеволода… Кто-то чужой…
– В Тамани бандиты! Они нападают на археологов! Они нас выследили! – Колька Страхов стучал зубами, как на морозе. – Точно вам говорю, они нас выследили! И они знают, что мы нашли золотую маску, черт подери! Кто-то из наших спокойненько набрехал кому-то из местных! Ну, признавайтесь, кто чесал языком?!.. молчите все, да?.. молчите…
– Вот ты сам и чесал, – спокойно и жестоко, как палач, проронил Гурий.
Колька воззрился на Жермона. Оскалил зубы. Щербина меж его резцов, над которой так потешалась Светлана, называя Кольку то зайцем, то Аллой Пугачевой в детстве, зияла хищно. Почудилось, он сейчас укусит Жермона.
– Нападаешь?!.. ты, политическая проститутка…
– Ну, ты!.. не зарывайся…
Жермон сунулся к Кольке. Здесь, в палатке, над убитым! Светлана вскочила с колен, встала между мужиками.
– Не смейте! Петухи несчастные!
– Разберемся, – тяжело выдавил Серега, – разберемся. А кстати… – Его голос вдруг враз охрип, сел. – Как там наша маска?.. проверить…
Люди загомонили. В воздухе повис тяжелый ропот и сразу же сгас. Всею толпой побежали в палатку к Сереге – глядеть, на месте ли драгоценная маска, не стащили ли ее те убийцы и грабители, что прикончили Андрона.
Славка Сатырос осталась одна возде тела. Славка не побежала глядеть, цела ли маска.
Славке было все равно, сохранена ли золотая драгоценная маска, нет ли; Славка осталась возле Андрона, возле великого певца, московской знаменитости, возде хорошего, просто бесподобного парня, которого убили, – вот гады!.. вот стервы!.. эх, ей бы увидеть хоть одну такую стерву, хоть одного заморыша… своими бы руками она… Она поглядела на свои руки. Много эти ручки, облезлые от солнца, мозолистые, стертые в кровь веслами, накрашенные для гулянок дешевым лаком для ногтей, сготовили на свете еды, сварганили питья. Много людей накормили. Руки, руки, что ж вы, руки, не сделаете такое, чтобы воскресить. Христос же вон делал. Людям не дано быть богами. Это и хорошо, наверное, а то бы все всех воскресали, и вся земля наводнилась бы людишками, и никто не умирал бы никогда, и все бы задохнулись друг от друга. В мире все продумано. Андрон… зачем убили тебя, лучше бы – ее… и она бы тогда перестала мечтать о Москве, о том, что вот такой король, как ты, ее замуж возьмет… ее, каланчу, метр восемьдесят, как раз для подиума, для конкурсов красоты и показа моделей… Что ж ты, Андрон, не сдержал своего слова, не пожил с ней даже как с любовницей… а она и на любовницу была согласна, только бы – с тобой…
Славка Сатырос наклонялась над телом, обхватывала себя за голову руками, раздирала себе щеки ногтями и плакала, причитая. Она не подозревала, что вот так плакали древние античные плакальщицы; что вот так плакала любящая Андромаха над телом убитого Гектора. Она была Сатырос, она была гречанка, и ее кровь взыграла. Она поднимала залитое слезами лицо к брезентовому потолку палатки так, будто над ее головой был царский чертог, потолок, украшенный лепниной, позолотой и священными каменьями.
– Ее нет! Проклятье! Ее нет!
Серега чуть не рвал на себе волосы. Все, столпившиеся вокруг палатки и внутри нее, потрясенно молчали.
– Ее нет, слышите!
Серега выбежал вон из палатки, в ночь. Светлана поразилась, как же отчаянье может исказить прежде красивое лицо человека. На Серегу было страшно поглядеть. Было ощущенье, что его убивают, а он корчится под ножом. Может быть, вот так же корчился в судорогах Андрон, когда ему располосовывали глотку.
– Ее нет, маски нет! Это все! Это все, слышите! Это конец!
– Ну что ты, Серега, – подал тихий голос Леон, – еще не конец…
Светлана глядела, как он мечется от палатки к палатке, схватившись руками за кудлатые бараньи волосы – бедный Серега, оставшийся за начальника экспедиции и не уследивший самую главную находку.
– Сволочи, они знали, что у нас! Они знали, где! Это грабители! Они и правда следят за нами! Они выслеживают! Выслеживают, понимаете! Это дело серьезное… о, как же я лопухнулся! Надо было все равно отвезти маску хотя бы в Екатеринодар… и сдать там в банк какой-нибудь чертов, в хранилище, в ящик, в банковский этот чертов сейф… в ячейку… и лежала бы она там в сейфе преспокойненько!.. а я… понадеялся, что здесь тихое место, что здесь просто пустыня… что здесь одни бычки, мать их, пасутся… черт, я идиот! Я идиот! Меня повесить мало!
– Спокойно, Серега, возьми себя в руки… да, это потеря… но ведь живого человека нет, Андрона убили, а ты о какой-то золотой железяке плачешь…
Кто это сказал?.. Гурий?.. Светлана, прижав ладони к воспаленно пылающим щекам, поглядела на Гурия. Она поглядела на него впервые с тех самых пор, как они ездили на катере в Керчь – поразвлечься.
Как точно он сказал. Живого – убили. А железки, а золотишко – его еще много лежит под землей, валяется по земле. И что. Зачем люди сделали из него святыню, поклоняются ему. Зачем сражаются из-за него, убивают друг друга из-за него. Неужели людям мертвое дороже живого?!..
– Гурий, – шепнула Светлана, – ты прав, эта маска… ну ее… Сереженька, ну ты не убивайся так, это ж все должно было, значит, случиться, ты же не виноват…
Серега вцепился руками себе в волосы. Под звездами, на полынном, на йодистом морском ветру, он кричал и плакал, обвиняя себя в семи смертных грехах, а люди столпились вокруг него, пытаясь утешить – кто словами, кто молчаньем, взглядом.
И наперерез Серегиному плачу под звездным небом, наперерез горькому ветру, мешавшему запахи чабреца и водорослей, оттуда, со стороны шляха, со стороны таманских садов, прямо к обрыву, к палаточному лагерю, пережившему два ужаса подряд, сбившемуся в кучку в тревожной дикой ночи, шел худощавый поджарый седой человек в расстегнутой рубахе, с рюкзаком за плечами, шел широко и размашисто, впившись пальцами в рюкзачные ремни, прищурясь, пристально глядя вперед, и он приближался, и люди поняли – да, это к ним, это идут сюда, – и, когда он приблизился так, что можно было его рассмотреть, Серега оторвал руки от отчаянно перекошенного лица, вгляделся и закричал:
– Роман Игнатьич! Роман Игнатьич!
А Задорожный все шел большими, семимильными шагами вперед, к ним, почти бежал – он понял, что-то случилось, и ему надо было быстрее подойти, приблизиться, окунуться сразу, с головой, как в море, в страх, исходящий от людей, от застывшей, сиротски раскрытой, как пустой ограбленный карман, палатки.
Да, это был Роман Задорожный. Он наконец-то приехал.
Он попал воистину с корабля на бал. Или с бала на корабль – так было вернее.
Добежав до стоящих у Серегиной палатки, он сбросил рюкзак на землю так быстро, что у Светланы замелькало в глазах. Первая, по кому мазнули его ищущие, встревоженные глаза, была она, ее напуганное лицо. Он потом поглядел на закусившего губу Серегу, на всех остальных, быстро всех обвел глазами, – и оглянулся опять на нее. Она вспыхнула вся, до корней светлых, забранных в косы на затылок, волос.
– Здравия желаю всем, дорогие! Что стряслось?!
– Черт знает что стряслось, герр профессор, – угрюмо бормотнул Колька Страхов, понурив голову. – Черт тут поработал у нас, это точно, пока вас не было. С чего и начать-то…
Профессор Задорожный положил руку на плечо дрожащего, как лисенок, Сереги. Серегины скулы блестели. Он плакал.
– Роман Игнатьич… тут… сегодня Андрона убили… а давеча – Всеволода Егорова… и… стащили… одну штуковину… ну, на уровне открытия, понимаете… мы так хотели вас обрадовать… такая классная, ну просто изумительная штука!.. золотая маска… женская… черт знает какого времени… и не греческая… завозная, судя по всему… просто за такой, как за золотым руном, путешествовать на «Арго» надо… и вот мы ее откопали… Ежик откопал… и так обрадовались… и хранили, хранили… и про… прошля-пили…
Он отвернулся. Леон крикнул зло:
– Мы прошляпили живых людей, Серега!
Гурий ожег Леона глазами. Моника, поправляя белые спутанные волосенки, кинулась к Задорожному:
– О, синьор Роман, кэ маледицьоне…
Она в волнении переходила на язык своего мужа. Скорчилась, прижалась к Роману, стала сухонькая, маленькая. Задорожный прижал ее к себе, погладил волосы рукой.
– Как?.. Когда?..
– Всеволоду скоро девять дней. Андрона – сегодня. Вот сейчас, Роман Игнатьич. Перед вашим приездом. Как вы добрались ночью?.. так поздно…
– На попутке от Екатеринодара. Я прилетел в Екатеринодар. Решил добираться через Темрюк. Так мне показалось скорей, чем через Симферополь – Керчь. Ну, ребята, вы меня огорошили. Где Андрон?..
– Там, в палатке. – Серега кивнул головой, утирая нос кулаком. – Там… лежит… Света его перевязала… у него горло… распахано, как пирог…
В лунном свете было видно, как Роман побледнел. Он стал лунно-бледный, и все глубокие морщины на его лице выявились, набежали письменами.
Светлана глядела на него. С тех пор, как он приехал, она глядела только на него.
– Покажите!
Светлана выступила вперед. У нее пересохло в горле.
– Профессор, – она смотрела ему прямо в глаза, – я медсестра. Я констатировала смерть. Он неживой. Пойдемте. Поглядите на него…
Роман, сам не осознавая, что с ним, взял ее за руку. Он еще не совсем очухался от измирских впечатлений. Он с трудом привел себя в порядок в Москве, затратив на это лишь сутки, и сразу вылетел в Екатеринодар. Прибыл барин, называется. А усадьбы-то и нет. Верней, усадьба цела, да дворовых в ней разбойники перебили.
Он взял ее за руку так, как брала его за руку Хрисула в стамбульском поезде. Он слышал, как по их пальцам перетекает кровь. Живая кровь. Самое драгоценное, что есть на свете. Драгоценней золота. Самого золотого золота.
– Идемте.
– У него перевязано горло… Это я перевязала…
– Вы все сделали правильно.
Он повел ее под звездами к палатке Андрона, так и держа за руку. Археологи поплелись за ними, как утята – за утицей. Светлана откинула полог. Свечи у изголовья Андрона еще горели. Славка Сатырос все еще сидела у тела, уже не плача и не причитая – молча, засунув сложенные лодочкой руки между сжатыми коленями. Светлана и Задорожный вошли в палатку вместе, чуть пригнувшись, пролезая под лоскутами брезента, и больно столкнулись лбами. Прядь Светланиных волос коснулась щеки профессора, и он вздрогнул. Она чуть сильнее сжала его руку.
– Вот, – беззвучно шевельнулись ее губы. – Горло… перерезаны все жизненно важные артерии… одним махом…
– Какой странный, восточный удар, – тоже беззвучно, одними губами сказал Задорожный. Кровь пульсировала в сплетенных пальцах, мужских и женских, билась, горела. Тихо горела, догорала толстая витая свеча у щеки мертвого Андрона. – Так режут горло на Кавказе, в Чечне. Как баранам… Что, если это кто-то оттуда?.. все же там идет эта невозможная, эта вечная, эта проклятая Троянская ли, Чеченская война… и мы тут копаем земличку, а они там… копают могилы друг другу…
Он выпустил, как выбросил, из руки руку Светланы и повернулся к онемевшему, обессилевшему Сереге, стоявшему за его спиной, не знавшему, что сказать.
– Судя по всему, ребята, это кавказские люди тут поиграли ножичком, – Задорожный еще раз поглядел на бледное, красивое лицо Андрона, лежавшего со сжатыми губами, с закрытыми глазами – Светлана успела их прикрыть еще тогда, когда перевязывала перерезанное горло. – Чего ради?.. непонятно. А Всеволод?.. Вы где похоронили его?.. В Симферополь тело отправили?..
– Здесь, профессор, – Серега наклонил голову. – На холме. Прямо на обрыве. Над морем… пусть слушает вечно прибой…
– Хотел бы я быть похороненным над морем, – усмехнулся Задорожный. – Воля, простор… С Андроном сложнее будет. У него пол-Москвы родни. Они меня все, разумеется, повесят на первой же березе, когда узнают. А телеграфировать я им обязан. Пусть прилетают. И сами решают. Экспедицию я сворачивать не буду. Ни в коем случае. Тем более, что вы здесь нашли…
Он снова поглядел на Светлану. Она встретила глазами его взгляд.
– Эту маску. Золотую, ты сказал, Сережа?..
– Из чистого червонного золота, Роман Игнатьич.
– Ну вот видишь. Мы просто не имеем права уезжать отсюда. Это я тебе говорю как ученый. Я…
Он замолчал. Светлана почувствовала через рубаху, через кожу, через полутьму страшной палатки с мертвецом внутри, как сильно, неистово забилось сердце этого человека. Его все так ждали, и он упал как с неба. Сколько ему было лет?.. Она не видела, не понимала. Она видела сиянье седых висков. Она видела – морщины режут лицо ножами. Но она хотела глядеть на эти волосы, на эти морщины; глядеть в эти глаза, так обнимавшие ее, что уже никакие руки никаких мужчин мира ей были не нужны.
– Я могу много рассказать, Сережа, но не теперь. Теперь надо действовать, а не разговаривать. Кто едет в Темрюк на попутке?..
– Я.
– Не стоит, ты слишком не в себе, тебе надо успокоиться. Страхова пошлю. Он парень бойкий. Или Леона. Оставайся в лагере. Вас, кстати, как зовут?.. – Он обернулся к Светлане. – Как это хорошо, что вы медик… это во всех отношеньях хорошо…
– Светлана.
– Прекрасно.
«Он сказал „прекрасно“ так, будто сказал мне: я люблю тебя», – подумала Светлана и испугалась. Слишком страшно все было. Это второе убийство. Эта кража золотой маски. Этот приезд начальника, так глядящего на нее, что ей хочется броситься ему на шею. Ей еще никогда не хотелось никому броситься на шею. Никому.
– Светланочка, сделайте, пожалуйста, укол Сереже… какой-нибудь успокаивающий, вы же видите, он все время плачет. Что у нас из успокаивающих в аптечке есть?..
– Вы же все равно не понимаете в названьях лекарств, – снова беззвучно, одним шелестом губ, сказала Светлана. – Что толку, если я вам скажу, что у нас есть.
Какая дерзость, что ты мелешь, билось в ней неистово, страшно. Что ты городишь, ты же оскорбляешь его, повелителя, шефа, руководителя, владыку. Он же тут царь. А ты презренная рабыня. Ты всего-навсего лекарка, знахарка. Ты должна отводить порчу и заговаривать кровь. А еще снимать сглаз, утишать колики и перевязывать перерезанные кавказцами глотки великим певцам. Ты вовсе не певица, коей ты себя возомнила. И ты никогда не споешь царю. Заткнись, сожми губы, закрой зубы на замок, больше ничего не лепечи. Ты, дура!
– Да, – покорно кивнул он вдруг головой. – Да, вы правы, я ничего не понимаю. Вы сделайте, что хотите. Хоть физраствор. Если укол сделаете вы, он все равно успокоит. Даже если вы наберете в шприц морскую воду.
Славка Сатырос сидела неподвижно, как изваянье. Как изваянье верной рабыни у мумии фараона. Фараон лежал как живой; Славка была как мертвая. Ее лицо не двигалось. Ее глаза не моргали. Иногда вздрагивали только ее губы, шептавшие: зачем ты ушел в Мир Иной. Зачем. Зачем.
Две смерти в экспедиции, это было серьезно. И похищенная убийцами золотая маска – это тоже было серьезно.
Серьезней некуда.
И он один, он, Роман Задорожный, должен был решить сейчас – оставлять экспедицию на Тамани, в раскопе Гермонассы, или убирать ее к шутам.
И только он один, Роман Задорожный, знал: золотая маска, найденная здесь, сама приказывает им всем тут остаться. Никуда не сниматься с якоря. Если они свернут манатки – мир лишится разгадки той дикой и прекрасной загадки, что загадали ему эти подонки в Измире. В память Криса. В память бедного Кристофера Келли он должен остаться и откопать еще что-нибудь. Что-то такое, что прольет внезапный и ослепительный свет на ужас, внутри которого, как во мраке гробницы, блуждает он – без зажженного смоляного факела.
Поговорив со всеми и, как мог, успокоив всех, отправив Колю Страхова ловить машину, всучив ему текст телеграммы и адрес родителей Андрона, Роман вышел из своей палатки и, вынув сигарету из пачки, любимый «Кэмел», жадно закурил. Дым обволок легкие и затуманил голову. Да, древние правы, что курили куренья, воскуривали благовонья и фимиамы. Это и вправду утешает.
Нет, он не может посвятить всех в то, что произошло в Турции. Это было бы слишком глупо. Это пока его тайна, в конце концов.
В нем, глубоко внутри, возникла мелодия. Далекий голос пел старинную казачью песню. «Ой, на горе тай женци жнуть… а по-пид горою… по-пид зеленою… козаки идуть!.. козаки идуть!.. Попереду Дорошенко, веде свое вийско, вийско хорошенько…» Роман, ты казак. Ты же казак, Роман. Ты же крепкий сильный казак, дерзкий, смелый, хоть ты и пообтрепался в бурях жизни. Да твоя Запорожская Сечь – впереди. Твое царство еще не наступило. Ты должен отыскать измирских бандитов и бесценный клад, похищенный ими. Ты должен остаться здесь и продолжать копать. Ты должен разгадать странные, жестокие убийства Всеволода и Андрона. Ты должен…
Перед его глазами встало смуглое женское лицо. Зелено-серые глаза засмотрели ему в душу. Губы раскрылись, зовя. Он весь подался вперед, будто девушка была тут, рядом. Вот как, погоня за призраком. Только этого не хватало. Ты спятил. Ты просто очень одинок, Роман. С тебя же достаточно измирского приключенья. Все началось с этой чернявой гречанки в поезде. Может быть, эта русокосая медсестричка – тоже начало очередного ужаса?.. может, она связная, наводчица убийц… Он затянулся, выдохнул, задрал голову к звездам. Звезды острыми иглами вошли в его зрачки, посыпались на его затылок, как золотое зерно. Какая звездная ночь. Как горят созвездья Орла и Лебедя. Лебедь, он вытянул длинную шею в долгом полете в черную вечность. Вечность. Он содрогнулся. Дым вился вокруг его лица – зеркальным отраженьем дыма Млечного Пути в вышине. Он, не отрываясь, смотрел на звезды. У него заболела шея. Он опустил глаза, увидел сухие бастылы полыни и душицы под ногами. Трава умирает каждый год и возрождается вновь. А у него уже седые волосы. Седые, как эта полынь. А счастья нет. Он прожил жизнь – и не узнал, какое оно, счастье, на вкус. Женщины мерцали вокруг него, как звезды; он спал с ними, он радовался им, благодарил молча каждую за то, что она была у него; он жил с женой, потом расстался с ней; а счастья он не знал. Что ж, так суждено. Тысячи людей проходят по лику Геи и не узнают счастья; и не ропщут, несут свой крест. Почему, почему убили этих двоих?.. Кто?..
Он сделал последнюю затяжку и бросил окурок в полынь. Трава тихо затлела. Он наступил на красный огонек ногой. И услышал шорох.
Около своей палатки стояла медсестра Светлана и, копошась во тьме, расстегивала «молнию» палаточных дверей. Ее платье прилипло к спине. Должно быть, она ходила купаться на море. Ночью?.. В столь поздний час?..
Она почувствовала его взгляд и резко обернулась. Его ударили прямо в грудь ее светло-озерные, светящиеся в ночи, как у кошки, глаза. Минуту они глядели друг на друга. Она пошатнулась, будто кто толкнул ее. Закрыла лицо рукой. Скользнула в темень палатки.
– Как выглядит эта маска, черт побери?!.. Вы отснимали ее?!..
Экспедиция молчала. Леон, помяв щетинистый подбородок рукой, подал угрюмый голос:
– Снимали. Я снимал. И еще Страхов. У меня пленку украли. Тогда же, когда украли у Всеволода маску.
– Страхов! Где Страхов!.. Найдите Страхова. Мне нужны снимки. Он поедет в Темрюк и отпечатает их. Коля!..
Не прошло и суток, как Колька Страхов раскладывал перед Задорожным вереницу снимков золотой маски. Веселый Колька Страхов, оказалось, жадно и запасливо отснял еще одну пленку с золотой маски, продублировал снимки, как дублирует кадры хороший режиссер в кино. И у него тоже украли одну пленку; зато вторая осталась – в другом кармане куртки. Как полезно повторять и повторяться. А еще говорят – это банально. Роман сумасшедше впился в фотографии глазами. Отлично как Коля снял. Кодаковская пленка, яркое освещенье, солнечный день… Маска глядела с фотографий как живая, будто то был не обычный снимок, а рельефная голограмма. Коля снимал «Зенитом», старым, верным и добрым псом «Зенитом», с разных точек, в разных ракурсах, и крупным планом, и с отходом, вполне профессионально, как настоящий археолог-эксперт. Каков молодец. По спине Задорожного бежали иглы мороза. Он чуть не закричал, когда увидал маску на фотографиях. Она, царица! В Измире – царь, а вот и она, владычица! И где – здесь, в понтийской Гермонассе, в виду Пантикапея! Как она попала сюда?! На каких кораблях?! А может, их царство было здесь, и это было задолго до Гермонассы, задолго до Трои, а потом их потомки переселились в Анатолию, а истоки, сердце, средостенье было – тут?!
Фотографии лежали на прокаленных камнях. Роман рассматривал их, все больше убеждаясь в том, что это открытие – сенсация для всего мира. И те сволочи, те отморозки в Турции это прекрасно поняли – не хуже, чем он. И быстренько прибрали драгоценности к рукам. Что теперь делать ему? Жить. И действовать. Действовать быстро, четко, умно, жестко. Делать то, что может сделать сейчас только он.
И был рабочий день, и был отдыхальный вечер, с ужином за длинными дощатыми столами; и были печальные, тревожные разговоры у костра; и были взгляды, что бросали начальник и медсестра друг на друга из-за языков пламени, взлизывающих в черную, синюю тьму; и была ночь.
И было утро.
И наутро Колю Страхова нашли в палатке убитым. Колю убили ударом в сердце, под ребро, снизу. Рана была ножевая, кинжальная – так, же, как и перерезанное горло Андрона. Странное и страшное было в том, что Коля лежал навзничь, и в его руке, будто бы он сам убил себя, был крепко зажат восточный, чуть искривленный нож, на рукоятке которого, когда его вытащили из Колиного кулака и разглядели, было вычеканено еле видно: «Made in Turcai».
Фотографии золотой маски у Романа из кейса исчезли. Все до одной. И драгоценная пленка тоже.
… … …
Он, сжав зубы, встречал прилетевших родных Андрона и Страхова.
Он заказывал в Темрюке гробы, отправлял тела убитых в Москву, сопровождал траурный кортеж в екатеринодарский аэропорт, утешал неистово рыдающих женщин, на свои деньги покупал билеты прилетевшим.
Он безмолвно взглядывал на Светлану: помоги!.. – и та беспрекословно лезла в аптечку, вытаскивала успокаивающие, колола сердечные, рассыпала по ладоням дрожащих и трясущихся матерей горсти валидола, гладила по плечу, обнимала, шептала слова жалких утешений. «Мало нам Чечни, так и здесь, на раскопках, убивают!..» – задушенно крикнула неожиданно маленькая, как одуванчик, мать красавца Андрона, кусая промокший насквозь от слез платок. Да, все было так страшно и дико, что Роману хотелось завыть, как волку. Сесть на обрыве, поднять лицо в небо и завыть. И выщипать у себя на голове свои коротко стриженные седые волосенки. Провались все на свете. Золотые сокровища, что Келли нашел в Измире, и эта маска, отрытая здесь, связались воедино кровавой нитью, заловились в выпачканную кровью сеть. Кто сплел сеть?.. Кто – рыбак?..
Рыбаки, рыбы, рыбсовхоз… Вернувшись из аэропорта, он долго сидел без движенья перед палаткой на белом сухом камне, глядя остановившимися глазами прямо перед собой. Обезумевшие матери Андрона и Коли пообещали возбудить уголовное расследованье. Он поддержал их в этом начинаньи, лишь попросил: чуть повремените. Я закончу работу. Я сам помогу вам открыть тайну свершившегося ужаса. Рыба, рыба, он так захотел вдруг рыбы, ухи… Морской, крымской, степной, казацкой ухи, с лучком и перчиком, с плавающими пузом вверх бычками и янтарными пятнами кефального жира… «Светланочка, попросите Ежика запрячь Гарпуна, пусть привезет рыбы из рыбсовхоза. Я дам денег. Сделаем нормальный обед. Как Славочка чувствует себя?.. Оклемалась?..»
Гарпун пасся на обрыве, неподалеку от Бычи и Кози. Ежик, мрачнея, подвел его к телеге, запряг. Покатил в рыбсовхоз, и за телегой по дороге потянулся шлейф светлой золотой пыли. Светлана стояла рядом с Задорожным. Какая смертельная тишина царила в степи. Было слышно, как тонко, слабо стрекочут истомленные жарой кузнечики, как шуршат на низовом пылающем ветру высохшие стебельки чабреца. Роман поднял глаза. Она словно всегда ждет его взгляда. Опять эти крыжовничины. Нет, он определенно сошел с ума. И эти смерти. И жара. И ужас невосполнимой потери.
– Светлана, вы…
Она глядела на него, будто пила глазами его взгляд.
– Вы почему не в раскопе?.. рабочее время, полдень… Не смотрите на меня так… Я чувствую себя хорошо, мне не надо никаких уколов, никакого валидола…
Она молчала.
– Идите, мойте черепки. Ваше дело сейчас – работать. У нас исчезли рабочие руки. – Он намеренно говорил жестко, жестоко. – Надо копать. Вы понимаете, что мы напоролись на золотую жилу?.. так, как напарываются золотоискатели… как геологи натыкаются на кимберлитовую трубку… Поймите это! Ступайте работать! Нам сейчас надо все делать быстро, очень быстро!
Он почти кричал. Светлана отступила на шаг. Он вдруг понял: еще одно ее движенье – и он вскочит и сожмет ее в объятьях, крепко, бесповоротно.
– Хорошо, Роман Игнатьевич. – Она наклонила голову, и на солнце золотом блеснули ее уложенные на затылке огромным кренделем косы. – Я иду в раскоп. Если я вам не нужна…
«Нужна!» – хотел закричать он.
– Идите… солнце в зените… Нам еще повезет, вот увидите.
Когда она повернулась и пошла в раскоп, он, глядя ей в спину, на ее лопатки, двигающиеся под выгоревшей майкой, на ее обрезанные до колен старые, просоленные морем джинсы, подумал: вот идет моя жена.
Подумал – и ужаснулся.
Она долго не могла уснуть в палатке. Славка Сатырос, сварившая по просьбе начальника отменную уху из кефали, мирно сопела рядом с ней. Она перебирала впечатленья дня – смутное, плывущее лицо Ежика, безошибочно почувствовавшего ее тягу к приехавшему руководителю экспедиции, злобные пререканья Жермона и Сереги из-за тары для находок, рыбный обед, сварганенный погрузившейся опять в трагические размышленья Славкой, вечернее купанье, рука Задорожного, протянутая к ней: «Дайте парацетамол, Светлана. У меня жар. Так, ерунда. Это просто я переутомился, это не солнечный удар». Кладя таблетку парацетамола в его ладонь, она отдернула руку, как от огня.
Когда ее будильник запикал под ее ухом в пять утра, как цыпленок, она вылезла из спальника, как и не спала. Или она и в самом деле не спала?.. Бессонница, подруга. Так вот ты какая. Она сбегала на море, как всегда, быстро искупалась, захолодавшая за ночь вода смыла с нее ночные миражи. Растеревшись досуха, докрасна махровым полотенцем, она весело взбежала по обрыву, появившись в лагере как раз в тот момент, когда Серега бил поварешкой в ее медный таз и кричал: «Подъе-о-о-ом!» Она с размаху ринулась в раскоп. Спуститься на дно раскопа было уже очень сложно – вглубь, в землю, ребята врубились уже не на пять-шесть метров, а гораздо глубже. Задорожный сказал, что раскоп Гермонассы – один из самых глубоких археологических раскопов Европы. Она карабкалась по разрытым крепостным стенам; по разрушенным кирпичным кладкам древних домов; ступила на мозаичное дно княжеского бассейна; больно уколола босую пятку о краснофигурный черепок, еще не отмытый ею в тазу. Вот он, земляной скос, около которого стоит ее медный помывочный таз, и уже около таза лежит груда драгоценных, любопытных черепков, осколков, обломков, представляющих музейную ценность; она отмоет их, и все увидят фигуры богов и героев, прекрасных женщин и виноградные гроздья, а однажды она отмыла край чернофигурной вазы и обнаружила там непристойную любовную сцену, над которой сначала долго смеялась, а потом, загрустив, думала, пристально глядя на изогнувшиеся в порыве фигурки мальчика и женщины, склонив голову к плечу.
– Керамическая дама! – возопил Серега, обнаружив ее на месте, около медно поблескивавшего на солнце таза, выпрошенного на лето у старухи, хозяйки бычков Бычи и Кози, седой Савельночки. – Вы уже на посту!.. Светик, ты пока не мой черепки, а… ты пока поработай лопаточкой, а?.. рабочих рук не хватает сейчас, ну, ты ж понимаешь… немного, ладно?.. а потом садись и мой…
Она все поняла, схватила лопату. Мягкая в глубине земли глина стала маслом резаться, подаваться под ржавым лезвием лопаты. Она рыла и рыла, вгрызалась внутрь земли, и ей нравилась эта мужская работа, это проникновенье внутрь земляной плоти, это отмыканье, слой за слоем, земляных погибельных тайн; вот так и все мы станем землей, прахом, и Екклесиаст прав – из праха человек вышел и в прах возвратится… Все мы станем землей… Она копала и копала землю, и между ее лопаток струился пот, и она понимала теперь труд землепашца, землекопа, крестьянина, охотника, солдата; она понимала и труд гончара, и труд бондаря, и труд корабела, и труд могильщика, что ставит комом земли черную точку над золотой и сверкающей жизнью. Она понимала теперь Мастера. Она чувствовала запах земли. Земля пахла возбуждающе – свежей, только после купанья, кожей, полынно-горькими корнями, пряным и перечным тестом тысячелетий.
Она стала совсем мокрой, как мышь. Она ритмично поднимала и опускала лопату, отваливала пласты земли. Разбивала их лезвием. Отодвигала ногою, пальцами твердые комья, отшвыривала камни, сколы кирпичей. Она врубалась в землю далеко от крепостной стены. И тут ее лопата наткнулась на твердое. Она чуть не упала животом на древко лопаты, внезапно остановившись, прекратив размеренные взмахи. Железо! Или…
Она села на корточки. Стала, как собака – когтями, рыть ногтями яму, отрывая голыми руками брус железа, помешавший ей копать дальше. Сначала освободилась металлическая загогулина, заторчавшая из срезанного земляного края. Древняя посудина?.. Мало ли у жителей Гермонассы было всяких ваз, амфор, кратеров, киликов… Светлана взяла деревянную лопаточку, валявшуюся около таза, и стала откапывать железную штуковину, отбрасывая землю со всех сторон. Уже через минуту ей стало ясно, что железная загадка длинная, наверное, бронзовая, и лежит в земле плашмя, и это не посудина, не чаша, не килик, а это…
Что это?!.. Что… это…
Она рыла и рыла, сжав зубы до боли. Она уже понимала – она наткнулась в земляном море на крупного тунца. Ну, еще немного… еще капельку… железяка подается, она уже может запустить в землю руки, может вцепиться в нее черными ногтями, потянуть, рвануть на себя… ну, еще усилье… ну…
Она, рванув железку на себя, не удержала равновесья и упала с корточек на спину, крепко зажав в руках то, что она вырыла из-под земли. С края раскопа, из-за круглого парапета бассейна, на нее насмешливо глянул небритый Леон.
– Что, бутылочку зажилила у Славки и втихаря похмелялась?.. а может, медицинский спиртик весь грохнула?..
Леон заткнулся, когда она встала на ноги, держа в руках тяжелый, длинный, весь облепленный землею, бронзовый меч в бронзовых ножнах. Великолепно сохранившийся. Настоящий. Боевой. Царский.
Она стояла под солнцем, держала в руках меч и молчала.
И все, кто был в раскопе – ведь они прекрасно видели, что она нашла, и как она встала, держа в руках меч, – постепенно замолкли, выпрямились и стали смотреть на нее. И все молчали. И Светлана молчала. И молчало белое, неистовое солнце вместе с ними, над их закутанными в холстину, войлок и солому потными головами.
– Светка, – наконец подал хриплый голос Серега, – ты это… что?..
Он мог бы и не спрашивать. Все видели – это чудо.
Задорожный, бросив чистить метелочкой почти целую чернофигурную вазу, отрытую вблизи бассейна, стерев стекающий со лба на брови едкий пот, прищурясь, глядел на Светлану, застывшую с мечом в руках, и святотатственно подумал: да, вот, это и есть награда за троих убитых, это и есть Божья награда, отплата за страданья.
И тотчас же пронизала мысль: награда-то награда, а за эту радость ты можешь и заплатить сполна. Новой монетой. Столь же золотой.
Задорожный, не видя, куда наступает, как идет, раздавливая откопанные Серегой и Ежиком черепки, подошел к застывшей, как античное изваянье, Светлане. Он тихо подложил свои ладони под ее, держащие меч. И она вздрогнула и посмотрела на него, и глаза ее сказали: «Ты царь мой. Бери. Владей. Это твой меч. Твой».
Он разлепил губы. Она опередила его.
– Отмыть?.. он весь в глине…
– Да… скорее…
Он взял меч из ее рук и понес к медному тазу. Все глядели на них, как на призраков, на восставших из черноты времени владык Гермонассы. Светлана скрючилась около таза; они стали мыть в тазу меч вместе, будто вместе стирали белье, и Светлана терла бронзу скребницей, оттирая тысячелетнюю грязь; и, когда из-под отмытой глины сверкнуло красно-желтое, слепящее, из всех глоток вырвался дружный вопль:
– А-а-а-ах!..
Золото. Это было золото.
Меч был и вправду царский.
Это было настоящее червонное золото, крепкой мастерской ковки; златокузнец выковал фигурную рукоять, мощные, массивные ножны, красивый эфес. Задорожный опустил меч снова в таз, потер ладонью в теплой воде. Поднес опять к глазам. На рукояти была вычеканена фигура девушки. Девушка сидела верхом на льве. У льва в зубах сиял красный крупный рубин. Камень был наполнен таким чистым, беспримесным светом, что Задорожный закусил губу – только сейчас из-под огранки, из мастерской ювелира.
– Господи, – шепнула Светлана, – Господи Боже мой… и это я… нашла?!..
– Это вы нашли, Светланочка. – Задорожный глядел на нее, прищурясь. Она не могла рассмотреть выраженья его глаз. Солнце безжалостно озарило все его морщины на задубевшей от загара коже, серебряный блеск стриженных висков. – Я вас поздравляю. Я себя поздравляю. Я поздравляю всех нас. Я…
Он задохнулся – оттого, что она смотрела на него.
– Я весь мир поздравляю…
Он наклонился над мечом.
– Золотые ножны… Не греческий канон… Нет, таких мечей греки не делали… Я не припомню такого канона мечей даже в крито-микенскую эпоху… Ахейцы?.. Эпоха Трои?.. – Он наклонил голову над мечом еще ниже. – Как превосходно выделаны ножны… Эти изумруды наверняка египетские, только в египетских копях в то время добывали такие крупные изумруды… И аквамарины, да… греки тоже очень любили аквамарины, они украшали им даже конские сбруи, у Александра Македонского был конь, Боанергос, так Александр повелел изукрасить его сбрую аквамаринами… но жемчуг, жемчуг!.. Жемчуг, Светлана!.. – Он обернулся к ней. Она прочитала в его глазах: я потрясен, я не нахожу слов, я… – Такие перлы, Светланочка, находили только в южнорусских реках… в тех, что текут по Восточноевропейской равнине… в Борисфене, в Танаисе…
Она хотела спросить: а что за реки Борисфен и Танаис?.. – как вдруг все, работавшие в раскопе, как сбесившись, как сойдя с ума, размахивая руками, выкрикивая безумные и радостные кличи, вопли, зайдясь в неистовом: «Ура-а-а!..» – ринулись к ним, стоящим с золотым мечом в руках, и Задорожный чуть не упал, опрокинутый наземь восторженной толпой археологов.
– Меч, меч!..
– Черт побери, настоящий…
– Ну не картонный же, Ежик!..
– Дайте потрогать…
– Вы такие сумасшедшие, ну разве можно так орать!.. до самой Керчи слышно…
– Бери выше, до самого Судака…
– Ребята, а что, если это нам снится?..
– Как сверкает!..
– О, Dio mio, what is a beautiful… как это по-русски?.. меч?..
– Да, недурная игрушка… а тяжеленький, должно быть… Роман Игнатьич, дайте подержать…
– Его и взять-то в руки страшно!..
– Богатыри брали…
– А еще говорили, что раньше людишки были слабосильные и малорослые и мало жили, в сорок пять лет мужик уже был стариком…
– Господа, вот это да!.. Светик, ты просто самоцветик!..
– Девушка верхом на льве… и у льва в зубах рубин!.. что бы это значило?..
– Что бы это ни значило, старик, – он наш, наш, наш!..
Роман и не скрывал счастья, затопившего его с ног до головы. Маска уплыла, зато меч! Люди убиты, зато этот меч… Он им послан Богом, это уж точно. Музей будет гордиться. Такая находка на международных аукционах – недосягаемая, чудовищная роскошь, музею ее никогда не купить, даже если он продаст половину коллекции. Музей не поднимет такую стоимость. Эта девочка, Светлана, преподнесла великий подарок России. В Москву будут приезжать люди со всего мира, чтобы полюбоваться на меч царя из Гермонассы. Находка бесценна.
Они со Светланой переглянулись. Они подумали оба об одном и том же.
О том, какой жертвы потребует потревоженное копошащимися в земле людьми божество Гермонассы за то, что отдает людям безвозмездно свое сокровище.
– Надо прочитать надпись, вот тут, на ножнах… Она вычеканена довольно рельефно… Буквы… или иероглифы… видно ясно, разобрать возможно… Сережа, ты… прости, я все тебя на «ты», маститого археолога… вы знакомы с этой письменностью?..
– Если вы не знакомы, Роман Игнатьевич, то уж я тем более не знаком. Первый раз вижу такое письмо. Иероглифическое, конечно, вот, видите, тут буквицы, похожие на рисунки, все это символы-знаки… ну, буквы всех на свете алфавитов выросли из изображений всяких предметов, вы же знаете это лучше меня… Давайте всмотримся… может, мы найдем кое-какие аналоги?..
– Глядите, глядите, Сережа… Нет, роюсь в памяти, не нахожу ничего похожего… Да, иероглифическое письмо… Не греческое, не ахейское, не дорийское, не хеттское, не арамейское… не критское, ну, это же не Фестский диск… не этрусское… копошитесь еще в своей башке хоть вы, Сережа!..
– Не финикийское, не вавилонское, не шумерская клинопись, – шепотом продолжил Серега, – не египетское, не нубийское, не санскрит, не майя, не кушаны, не бактрийцы… И уж, конечно, Роман Игнатьич, не уйгуры, не тюрки, не китайцы, хотя у китайцев будь здоров иероглифы… не иранцы, не каспийцы… не сирийцы… и не готы, нет, и не кельты с их кружевной вязью…
– И не арабы!..
– И даже не древнейшие азиаты, дравиды… кто же тогда?.. Кто?..
– Знаете, Сережа, – Роман даже стал хрипеть от потрясенья, как простуженный, – мне кажется, мы с вами имеем дело с неведомым государством, с неоткрытым языком и с очень развитой культурой… и достаточно могущественным в древности… возрастом гораздо древнее Трои… – Перед его глазами опять встали золотые маски – та, измирская, и похищенная, из Гермонассы. – Если мы разгадаем эту загадку… человечество нос к носу окажется с пересмотром своей истории!.. окажется, что этот язык, эта письменность, эти знаки на мече – наш истинный праязык, отец всех языковых семей Земли… что легендарная Атлантида – младшая сестра либо родная дочь этой цивилизации… что возраст культурного человечества гораздо древнее, чем это вычисляли по находкам позднейшего времени… что…
Он прижал ладонь к лицу.
– Что колыбель человечества действительно существует, и что, быть может, сейчас в мире существует нераскопанная сокровищница, еще не раскрытое капище древнейшей цивилизации Земли… представляете, если это царство погребено где-то под землей?.. ох и охота начнется, Сережа… ох и охота…
Он содрогнулся, вспомнив измирских охотников.
– И вы хотя бы приблизительно не можете расшифровать ни один знак из начертанных на мече, профессор?.. – У Сергея пресекся голос. – Как же… нам теперь быть?..
– Никак. – Задорожный разогнул усталую спину. Меч лежал прямо перед ними на матраце в палатке. Перед мечом горела свеча. Внутренность палатки профессора напоминала вход в древние молельные катакомбы, и светильник пылал, освещая коленопреклоненных людей. Археологи стояли на коленях. Они молились Времени. – Я прячу меч тщательно. Храню его, как зеницу ока. Он – со мной в палатке. Считайте, что мой кейс – это сейф. У меня, Сережа, есть с собой «браунинг». Если кто сунется… – Он улыбнулся. – Да никто не сунется. Кажется, хватит смертей. Дань уже взята. Будем думать о лучшем.
Они поднялись с затекших колен. Задорожный пожал руку Сереге.
– Спокойной ночи, Сереженька. Завтра рабочий день. Нам сейчас будет гораздо труднее, нежели раньше.
В голове гудело. Он подумал: а не искупаться ли мне. Стояла ночь, не глубокая, ранняя – едва перевалило за полночь, Персей и Кассиопея еще торжествовали в синей черноте над морем. Роман переодел плавки, захватил полотенце, подумал и снял джинсы. Лагерь спит, никто не увидит профессора голяком. А если и увидит – пусть смотрит. Фигура у него будь здоров. Если он потеряет профессорскую кафедру в Университете, он будет работать натурщиком в Суриковке. Да и такая жара, даже ночью, духота и марево, как от костра, какие тут джинсы, так надоели одежды, эти вечные человечьи шкуры.
Перекинув полотенце через плечо, он спустился по обрыву к морю. Бычков Бычи и Кози уже не было, на земле, привязанные к колышкам, валялись только цепи – хозяйка приходила, отвязывала их на ночь, уводила в хлев. Роман задрал голову, рассматривая звезды. Глубоко вздохнул, расправляя грудь. Какое чудо побыть одному! Человек среди людей – загнанный волк. Или загнанная лошадь. Не дай Бог стать загнанным тараканом на тараканьих бегах. Ими, кажется, занимались в Стамбуле первые, несчастные русские эмигранты?..
Он бросил полотенце на песок. Шагнул к воде. Вода ласково обняла его щиколотки, его колени. Как женщина. О Роман, ты неисправим. Ты опять думаешь о женщине. Да, брат, выходит так, что ты слишком одинок.
Он погрузился в воду весь, целиком – и поплыл, шумно выдыхая, широко выгребая, разрезая наклоненной вперед, по-бычьи, головой темную воду. Сделав несколько взмахов руками, он почувствовал: в воде, рядом, кто-то есть. Человек. Он плывет. Он плывет в море рядом с ним.
Он подгреб к плывущему, заплыл вперед и увидел, что это женщина. Мокрые волосы были забраны на затылке в тяжелые, кренделем, косы. Зеленые глаза на слабо светящемся в свете звезд и моря лице казались почти черными. Светлана!
Она тоже увидела его. Она не перестала плыть. Да ты не робкого десятка, девочка. Ты не испугалась человека, подплывшего к тебе в море. Не закричала. Не побледнела. А может быть, ты знала, что он пойдет сегодня ночью купаться, и сама пошла на море, и вошла в воду, и вот вы встретились в воде, как тритон и нереида?.. Светлана сделала в воде движенье к нему. Он тоже приблизился к ней. Они подплыли близко, слишком близко друг к другу.
Они не успели ничего друг другу сказать. Миг – и их лица, их губы и руки соединились над бездной живой, прозрачной тьмы. Они светились во тьме телами. Они слились в воде так страстно, что задохнулись, и Светлане пришлось вырваться из объятий Романа – так большая рыба бьет, хлещет хвостом, вырываясь из сети.
Она отплыла, вся горя. Он видел, как светятся ее глаза. Он поднырнул под нее, как дельфин, и снова оказался перед ней. Они опять поцеловались в воде – на этот раз нежно, еле слышно. Их скользкие, соленые губы нежно, жарко скользили друг по другу, языки робко и пылко находили друг друга; мокрые лица, щеки прижимались, впечатывались друг в друга. Они снова отпрянули друг от друга, и тут нырнула Светлана. Он тоже нырнул. Вынес ее на плечах на поверхность, как ныряльщик выносит из моря утонувшую корабельную амфору.
– Не хватало, чтобы ты утонула, – прошептал он прерывисто и обнял ее. Она легла на него в воде. Он чувствовал, как бьется, будто пойманная птичка в кулаке, ее сердце.
– Пустите меня, – прошептала она солеными губами, лежа на нем в темном и теплом море, в невесомости, на весу, а сама все крепче обнимала его.
Он поплыл вместе с ней к берегу. Он чувствовал, как сила звезд и света собирается в нем, становится мечом, острием, золотой иглой. Он вынес ее из моря на берег на руках, и она сидела у него на руках, как ребенок, пока он, медленно ступая по каменистому дну – то песок, то камни чередовались на таманском побережье, – выносил ее из воды.
Когда он поставил ее на ноги, она сама обняла его. Он почувствовал на своей груди ее грудь – нежную, юную, с остро вставшими, как чечевицы, сосками, и биенье ее бешено бьющегося сердца оглушило его, как оглушает биенье бубна. Запустив руку ей за спину, он нашел завязки купального лифчика, дернул. Никчемная тряпка упала на песок. Трусики, ведь есть еще чертовы трусики. Они оба не помнили, как исчезли, стянулись трусики. Она стояла перед ним нагая и вся дрожала. Ей не было холодно – она вся горела. Она покрыл бешеными поцелуями ее тело, уже такое родное. Он вспомнил Хрисулу. Он вспомнил, на один бешеный, безумный миг, всех женщин, с которыми он был в любви когда-то.
– Роман Игнатьич… Роман…
– Чудо мое…
Они оба, не выпуская друг друга из рук, опустились на песок. Сырой, чуть захолодавший ночью песок. Он наклонил голову, скользнул губами по ее выгнутой нежной и теплой шее, ниже, еще ниже. Будто впервые он целовал грудь женщины. Боже, да она ведь золотая. А сосок похож на ягоду. Груди твои – два голубя, да; и две сладких ягоды, две виноградины тоже. Счастье, что я их вкушаю, вбираю в себя; что я их касаюсь губами своими. За что мне такое неземное счастье.
– Боже… что вы делаете… что ты…
Он осязал ее всю. Его руки ходили, блуждали по ней, как блуждает человек по лестницам роскошного дворца, куда он, нищий и маленький, попал случайно, и вдруг ему говорят: это все твое, бери, владей, – а он никому не верит, и себе тоже. Он обнял ее за талию, такую тонкую. Она медленно стала наклоняться, ложиться на песок. Мгновенная мысль пронеслась в его голове: простудится!.. – а он уже трогал ее нежный живот, целовал благоговейно, как верующий целует святыню, ее ребра, ее пупок, и его губы нашли ее нежную, горячую, раскрывшуюся, раздавшуюся под его жадными губами раковину, – о, как медленно, как тихо раскрываются створки. Как горячо, солено там, внутри. Как в море. И там, внутри, – жемчуг. Драгоценный морской жемчуг. И он ныряльщик. Он должен нырнуть очень глубоко, и взять в руки слишком благоговейно, и вытащить, задыхаясь, и раскрыть осторожно, бережно. Тогда тайна будет жить. Иначе она умрет. Тайна жизни умирает в грубых руках.
Он прикоснулся языком к жемчужине. Девушка раздвинула чуть шире ноги, слегка застонала. Морская вода, соленая влага. Он чувствовал – она слишком уже принадлежит ему, до последней капли ее соленой, как море, крови. Он оторвал лицо от ее раскрывающегося перед ним, перед его губами лона. Она рывком села на песке, взяла его голову обеими руками. Наклонилась. Сама, изогнувшись, припала губами к его губам, прикоснувшимся к тайне жизни. Он втянул, всосал в себя ее губы, ее язык так неистово и страстно, что они долго не могли отлепить друг от друга слившихся, сросшихся лиц.
Он положил руки ей на нагие груди. Она тихо засмеялась. Он как впервые слушал, слышал счастливый смех женщины, полюбившей, отдававшейся.
Он лег на песок, увлек ее за собой. Теперь они лежали друг против друга на песке – уже перепачканные песком, соленые, влажные, пылавшие, как две головни, вынутые из костра. И она протянула руку и стала его гладить сама, будто бы она была слепая; будто бы изучала, капля за каплей, волосок за волоском, его тело – целую страну, куда ее допустили, ввели за руку, сжали руку и сказали: «Это твое, владей и царствуй». Ее рука заскользила по груди его, по тощим ребрам, осязая песчинки, прилипшие к коже, выпуклости и впадины, уже до боли дорогие; скользнула вниз; сжала, не веря себе, своей дерзости и ужасу, живое острие, живой горящий мужской меч, затаенный и мощный, ждущий, напрягшийся. Меч в руке Бога. Бог разит мужским мечом женскую податливую плоть, высекая огонь жизни, рождая людей на свет.
Она стала сжимать живое острие все тесней, ладонь заскользила по мокрой коже, зрячая рука видела все ложбины и складки, слышала биенье крови в сосудах, перевивших корень жизни. Он выгнулся на песке, и она впервые в жизни услышала стон мужчины, которого ласкают, молясь ему, как чуду, любимые им руки. Она другою рукой закрыла ему рот, и он поцеловал дрожащие пальцы. Взял своей рукой ее руку. Вобрал пальцы в рот – один за другим. Она хотела вобрать в себя его, а он – вобрать ее; они хотели проникнуть друг в друга, заполучить друг друга без остатка, ибо они уже любили друг друга – а сами еще об этом не знали.
– Я поцелую тебя так же, как ты меня…
Он, услышав ее голос, подумал – это с неба говорят звезды. Это все вокруг говорит: камни, песок, чабрец, прибой. Природа держала их в ладонях, как ныряльщик держит раковину с жемчужиной. Она наклонила голову и стала целовать его – шею, грудь, плечи, ее губы скользили по ребрам, ее зубы, пугаясь сами себя, нежно кусали его маленькие соски, удивлялись: Боже, у тебя тоже есть сосцы, но женщина ими кормит, а мужчине – зачем же они?.. – и вот она исцеловала его впалый, загорелый живот, вот она склонилась ниже, и живой меч ткнулся ей в губы, как тычется головкой маленький зверь в бок большой матери, как тычется рыба в ячейку сети; как тычется плачущий ребенок лицом – в материнские руки. Она почувствовала тут, что он – ребенок. Он, так намного старше ее, что она могла бы быть его дочкой… внучкой?.. Ей было все равно. Время потеряло очертанья. Время утратило перечную, горькую остроту. Этот человек вышел из тьмы времени на свет, и вот она целует его ночью на берегу, и он моложе всех самых молодых людей на свете, потому что он силен и счастлив безумной любовью, потому что он любит.
Она, стоя на коленях перед ним, лежащим, подняла голову. Он сжал пальцами ее пальцы.
– Я люблю тебя, – сказал он просто. – Иди ко мне.
– Погоди, – сказала она. И он все понял. Она не хотела спешить. Она хотела как можно дольше продлить все, что предшествовало слиянью. Слиянье – это ужас, это смерть и рожденье. Это страшно. Может быть, это праздник. А может – паденье в пропасть. Надо повременить. Надо обрадовать его ночью, звездами. Надо… спеть ему, потанцевать…
Она не знала, что вот так, века, тысячелетья назад, развлекали танцами и песнями юные девушки своих нетерпеливых возлюбленных, хорошо зная древнюю мудрость – ожиданье распаляет страсть.
Она вскочила с песка. Он сел на песке, любуясь ею. Он все понял. Он слишком чувствовал ее, чтобы не понять, что она хотела.
– Сиди так… слушай!..
Она на цыпочках отошла к кромке прибоя. Море вымыло на плоском берегу ровную площадку, куда прибой взлизывал, как огонь, лишь во времена жестокого ветра. Сейчас на этом месте жесткий, чуть сырой песок позволял топтаться животным, приходившим сюда в жаркий день искупаться в море, мальчишки жгли тут костры; она склонилась, собрала в кучку немного хворосту, жалобно сказала:
– Зажечь нечем…
Он, улыбаясь, пошарил воруг, отыскал кремень. Ударил камнем о камень. Высек искру. Умело раздул ее. Через минуту костер на берегу уже пылал. Она с восхищеньем глядела на возлюбленного. Его суровое лицо в свете костра приобрело величавые, царственные черты. Она встала над костром, свела руки над головой и стала совсем похожа на древнюю амфору.
– Вино в тебе, – сказал он глухим голосом, – ты знаешь, вино в тебе, и я – пьяный…
– Я тоже, – шепнула она. Снова встала на цыпочки. Покачнулась. Изогнулась вся. И, танцуя, двигаясь так, как подсказывало ей чувство, ничего не зная, а только лишь чувствуя и делая то, что приказывали ей толчки охмелевшего сердца, она пошла, пошла, пошла по песку, по песчаному кругу, сведя руки над головой и покачивая бедрами, зная, что вот он глядит сейчас на нее, и все ее тело под его пристальным взглядом расцветает и поет, что так никогда не было у нее в жизни – и, может, больше не будет уже никогда.
– Я пьяна тобой, я тобой пьяна… Я твоя любовь, я твоя жена… Я люблю тебя, только я одна, и глядит на нас лишь одна Луна…
Она пела то, что немедленно, сейчас приходило ей в голову. Она сочиняла на ходу. Она никогда не пела такой песни, и слова приходили к ней сами, и мелодия билась в ней, ища выхода, и она давала ей выход – голос ее летел над морем, вился и страдал, молился и радовался, и это была только ее песня, больше ничья, и она дарила ее ему; она дарила ему всю себя, здесь, у моря, перед разожженным им костром, и в сполохах огня она видела его лицо, и оно улыбалось.
Пламя вспархивало, как золотая птица. Она мчалась вокруг костра, кружилась. Ее ноги вздергивались, руки летели; казалось, она взлетит в танце. Внезапно застывала, будто видела то, чего видеть нельзя. Зеленые глаза на смуглом разрумянившемся лице горели, как две просвеченные насквозь солнцем виноградины. Он не мог дольше глядеть на ее красоту. Он вскочил, бросился к ней. Она обвила его руками. Ее руки захлестнули его, как языки огня.
Они, задыхаясь, целовались у костра так, будто потеряли друг друга в жизни – и нашлись, будто умирали – и вот воскресли. Он чувствовал, как она вся дрожала и горела. Она была вся в поту, в песчинках, в потеках морской соли. Целуя его, она закрыла глаза. Он словно обезумел. Он весь превратился в пламя. Он не мог больше ждать. Он схватил ее на руки – и так понес ее в гору, вверх, на обрыв; и, взлетев с нею на руках одним махом на обрыв, он поглядел с ней вместе с обрыва вдаль, на море, на ночное небо, полное звезд, как жемчужин, как золотого снега, – и она держалась рукой за его шею, и он чувствовал, как любимое тело тянет тяжестью вниз, к земле, а глаза зовут вверх, к звездам.
И он подумал о том, что смерть совсем не так страшна. Она – счастье, если умираешь вместе с любовью и в любви.
Он пронес ее на руках в палатку. Луна в последний раз улыбнулась им с небес. Они остались одни, вдвоем, в кромешной тьме.
– Погоди, сейчас я зажгу свечку…
Он наощупь разыскал витую толстую свечку, спички, зажег. Неверное пламя озарило их обоих, голых, забывших на берегу все свои тряпки, полотенца. Он пробормотал:
– Ничего не бойся, ничего, ложись… а я сяду рядом, я буду просто на тебя глядеть…
Их обоих колыхала неистовая дрожь. Она легла. Он глядел на нее, она глядела на него.
Они глядели друг на друга, и их глаза входили друг в друга, они целовали друг друга глазами, они умирали от любви.
Он упал рядом с ней на матрац, застеленный развернутым спальным мешком.
– Погоди…
– Как ты хочешь, любовь моя!.. я могу не коснуться тебя…
Они прикоснулись друг к другу телами, руками. Обожглись. Они оба горели так, что все тряпицы в палатке и брезент могли воспламениться. Она нежно выдохнула ему в лицо:
– Давай… посмотрим на меч… он же здесь, у тебя… я знаю…
Он крепко обнял ее. Из ее груди вырвался громкий стон. Он шепнул:
– Сейчас… я достану его… он там, в моем кейсе…
Они, голые, лоснящиеся в свете свечи, смуглые, стройные, глядели, как заколдованные, на меч, вынутый им из тайника. Она погладила пальцами выпуклый рельеф золотых ножен.
– Обнажи… обнажи его!..
Он выдернул его из ножен одним махом. И она поднесла руки к щекам, зажмурилась и чуть не закричала от блеска, великолепья, ужаса и счастья.
Меч, пролежавший в земле тысячи лет, выдернутый из ножен, был прекрасен, как вчера выкованный – блестел чистым, грозным металлом, тяжелый, четырехгранный, и такой шлифовки ни у греков, ни у воинственных ахейцев, ни у хеттов он тоже не упомнил. Меч торжествовал, оставшись наедине с двумя любящими, и он говорил им: я смерть, а вы – любовь, ну так давайте быть вместе всегда, до скончанья века. Любовь и смерть всегда рядом, вы разве об этом не знали, вы, несмышленые человечьи созданья. Вы сами сделали меня, да; но я – бич Божий, я меч, и ангел, изгоняющий людей из Рая, держал меня в руках; и мною наказывали и воздавали; и мною повелевали и прощали. А те, кто не хотел прежде времени принадлежать друг другу, кто молился друг на друга, как на святыню, клали меня между собой, ложась спать, – вы разве не знали об этом?..
Он побледнел. Она прошептала:
– Давай ляжем… и положим его между собой…
Он, заглядывая ей в глаза, положил руку ей на развилку ног, где вилось нежное золотое руно, и его ласкающий палец проник туда, внутрь женщины, где полдневный жар сливается с полночным; где тьма обращается в свет, чтобы там, во тьме, зачался и расцвел, как цветок, ребенок. Она выгнулась и застонала под его лаской, и в ее стоне он услышал боль.
– Да, так делали они, давно, тогда… те любящие… древние… Я понял… Ты – девушка… ты боишься, и тебе больно… мы тоже так поступим… он охранит нас… как ты хочешь… как хочешь…
Они, дрожа, легли рядом и положили обнаженный меч между своих горячих тел. Закрыли глаза. Он поднялся, укрыл ее простынкой. Она сбросила простыню. Они снова легли, взявшись за руки; их дыханье сначала выровнялось, а потом снова стало учащаться, и вот они уже больше не смогли дышать. Они стали задыхаться. Ее колено легло на холод меча. Она отдернула ногу.
– Как лед… я обожглась об это чертово железо… я больше не могу, слышишь…
– А я?.. иди, иди… иди, моя любовь, не бойся…
Они обняли друг друга. Он, взяв ее в объятья, перекатил ее через холодный меч на себя. Раздвинул ей ноги руками. Нежно поцеловал в грудь. Она сама, не помня себя, не осознавая, что делает, ослепнув от ужаса и чуда, сидя верхом на нем, как та девушка – на льве на рукояти меча, подставила ему вконец раскрывшуюся влажную раковину, и его живой меч проник туда, где сгущалась тайная тьма, пробив живую тонкую преграду, ударил нежно и сильно, и она сама села на него, чуть не потеряв сознанье от ослепительного света, ужаса, боли и счастья; и кровь хлынула из нее, из разверстой женской раковины, на его золотой загорелый живот, помечая собою, своей текучей красною болью, освящая и скрепляя любовь, всегда начинающуюся, не кончающуюся никогда.
… … …
– Дай мне зеркало, Стенька. Я хочу ощутить зеркало.
Она слышит вздох. К ее коленям подкатывается живое, крохотное, услужливое, покорное. Зеркало – в ее руках. Повертеть его так и сяк, ощупать, погладить. Поднести его к лицу. Так, чтобы ощутить его напротив лица. Нет. Не получается. Прижать его к лицу, расплющить о гладкое стекло нос, ощутить бровями, ноздрями, щеками, скулами холод, холод, холод. Холод и тьму.
А потом, разъярившись, бросить. Бросить зеркало об пол, прочь от себя, и разбить. Плевать. Муж купит новое. Она сама купит новое. Зачем ей зеркало. Никчемная вещь.
– Что вам принести, госпожа?..
– Апельсин. Я хочу, чтобы ты принес мне апельсин.
Шорох шагов по паркету. Он несет апельсн. Вот он уже его принес, ты ведь чувствуешь, ощущаешь, как в твои руки тыкается эта влажная, дырчатая, будто в порах, мягкая пахучая кожура. Как сильно он пахнет. Он мертвый. Его сорвали с дерева. И он забыл свое дерево. Нас всех сорвали с дерева. И нас тоже съедят.
– Почисть мне его, Стенька! У меня ногти болят его чистить…
Шелест раздираемой кожуры. А что бывает, когда с человека снимают кожу?.. А ничего. Человек корчится, кожу сдирают, и остаются одни живые красные мышцы, живое мясо. Кто дал нам право снимать скальп с апельсина?.. с мандарина?.. с лимона?.. с чего, с кого угодно… Никто не Бог. Никто не знает, зачем все создано. Она может нюхать. Она чувствует, как широко раздуваются ее ноздри.
В ее руки катится мягкий, влажный шар. Апельсин уже голый. С него уже сняли скальп.
– Спасибо, Стенька. Ты мне друг. Ты мне…
Горло перехватывает. Только бы не заплакать, это будет очень смешно. Слезы текут по щекам, белая водичка. Как текут по щекам слезы?.. Она вытирает их рукой. Она вытирала рукой слезы со щек мужа; со щек врачей; со щек крошечного существа, что верней собаки вьется у ее ног.
– Ты мне единственный друг. Ты у меня единственный.
Он целует ей руку. Какое приятное прикосновенье губ. Когда целуют, это всегда так приятно. Будто двумя перышками щекочут. Поцелуй – это птичка. Она перелетает от человека к человеку.
Отдернуть руку, не дать ему забыться, а себе – заплакать снова.
– Уйди! Отдохни. Ты устал со мной. Я надоела тебе.
Шарканье шагов. Она сама приказала сшить ему мягкие туфли. Как тогда, в тех покоях, древних, такие же существа ходили в таких же мягких, то ли бархатных, то ли войлочных, туфлях. Ушел?.. Тишина. Слава Богу. Она одна. Ощупывая стены руками, подойти к столу. Так, что у нас на столе?.. Ага, два ананаса… мобильный телефон… стопочка бумаги – кто это пишет, это, может быть, она ночью встает и пишет, пока никто не видит, карандашом на вытянутом из стопки листе, а потом ложится спать, а потом, утром, муж находит на столе ее слепые, дикие, бессмысленные каракули и плачет, плачет, склонясь на листком… и никто не знает, что у нее в столе. В ящике стола револьвер. Она никому не разболтала. Только единственному другу. Друг не предаст. Если предает друг – значит, тебя предает Бог.
Бояться боли?!.. ты ведь испытала такую боль… вся боль по сравненью с твоей болью – не боль. Сладкая водичка.
Тихо, тихо. До чего тихо. Безошибочно определить, который час; это большое искусство, это уметь надо. Есть, правда, у нее часы, без стекла, можно положить пальцы на стрелки и все ощупать. И узнать, сколько еще часов она прожила на свете. Каждый человек боится умереть. Боится и она. Зачем она заставила охранника продать ей револьвер?.. Она наврала. Она сказала: мужу нужно, ему нравится эта модель, я подарю ему на день рожденья. Она почувствовала, что охранник улыбается. Он ей ни капли не поверил. Ему нужны были деньги. Или он пожалел ее. Да, да, он пожалел ее. Это ужасно. Если ее кто-нибудь еще пожалеет, она залепит жалельщику пощечину. Чтобы ее возненавидели. Лучше ненависть и любовь, чем жалость.
Она осторожно открыла ящик стола, нащупала револьвер. Охранник уверил ее, что револьвер настоящий, не газовый пистолет, и заряжен. Ей так нужен револьвер. С ним она меньше боится жизни. Смерти она уже не боится. Ведь она уже пережила смерть.
С тех пор, как она услышала, как свистят пули, попадаемые в твое тело, в тебя, она больше не боялась смерти; она только думала – как это плохо, что не всех мертвых воскресают, как вот ее, и что на всех Лазарей нет своего собственного Иисуса. Она тихо улыбнулась, любовно ощупала револьвер. Она не знала его марки; лишь бы он выстрелил, когда это понадобится. Погладив оружье, она снова положила его в ящик. Спи, железо, спите, пули; вы все пригодитесь, но не сегодня, а пока отдыхайте. Ее убивали вместе с мужем. Муж жив, и она жива; что ей еще надо? Ей надо еще многое. Ей надо живого лебедя в бассейн. Ей надо золотой перстень с рубином. А если с простой стекляшкой?.. Тебе же не все равно, самоцвет или ограненная стекляшка будет торчать у тебя в перстне?.. Не все равно. Пальцы чуют цвет. Она пробовала. Она отгадывала пальцами даже цвет карточных «рубашек», не только картежную масть. Муж сначала смеялся, потом плакал. Слишком много слез вокруг нее.
Она даст всем много денег. Она купит деньгами улыбки вокруг себя.
Она, криво улыбнувшись, подошла к окну. Лицом, поднятым к окну, она видела свет.
… … …
К ее мужу, Кириллу Козаченко, приходило много народу; их дом был не закрыт на все замки, а гостеприимен и щедр. Козаченко любил гостей, любил застолья, любил круговращенье публики вокруг себя; она думала, что в нем погиб артист – это желанье показаться, выглядеть лучше всех, пустить пыль в глаза, играть голосом и улыбкой, перевоплощаться… Однажды он сказал ей – тогда, когда она была еще зрячая, до их расстрела в машине: к нам на обед сегодня придут итальянцы, прикажи на кухне сделать какие-нибудь итальянские блюда. Она раздобыла книжку «Кухни народов мира», долго изучала национальную итальянскую еду, смеялась: как это, torta – она думала, это торт, а это оказалось старинное флорентийское блюдо, сначала жарились кусочки цыплят вмеремешку с нарезанной колбаской и запекались в маленькие пирожки, потом эти пирожки обжаривались в масле с луком и запекались, в свою очередь, в раскатанный огромный кусок теста, и это и была громадная торта с начинкой из пирожков, ха-ха!.. Торту она готовить не рискнула, на первое сделала равиоли, на второе – мясо по-веронски с томатным соусом и луком. И подала много, много разных фруктов и соков – Италия ведь солнечная страна, там апельсины дают урожай два раза в год, если лето жаркое. Пусть не скучают здесь, в Москве, где в подмосковных садах скромная вишенка поспевает лишь к концу июля. На том обеде было много всякого другого народу, Козаченко всегда накрывал огромный стол в светлой, праздничной гостиной, обставленной, кстати, белой итальянской мебелью из модного салона «Капуччино»; она все искала среди звенящих вилками и ложками – итальянцев, прислушивалась к речи: когда же заговорят красиво и мелодично, как в опере?.. Прямо напротив нее сидел черноглазый, слегка лысеющий мужчина, у него по улыбающемуся лицу расползались веселые морщины, как паутина, он изо всех сил старался сохранить представительность, и все равно у него был хитрый, продувной, как у Фигаро, вид. Она наклонился к хорошенькой соседке, взял из центра изысканно сервированного стола – она сама распорядилась поставить к каждому прибору крохотную вазочку с живыми незабудками, и даже дать для рулета двузубые вилочки, – вазочку с мороженым, промолвил: «Prego, signora». «Вот они, итальянцы!» – подумала она весело – и заговорила с ним через стол по-английски.
Застольный разговор тек непринужденно и живо – Козаченко был мастер домашних сборищ, он умел завести приглашенных и рассказами, и шутками, и легким столовым вином, и бросал, как кости, важные реплики, из которых люди, ему нужные, делали выводы – обед всегда был продуман и небесполезен, после такого обеда он заключал вереницу новых договоров, выгодных сделок, а те, кто поднимал у него за обедом бокалы, говаривали потом в кулуарах: «Козаченко – прелестный человек, он такой радушный хозяин». Жизель Козаченко имела на том обеде успех – все глядели на нее, все обращались к ней, все восхищались ее платьем, ее уменьем готовить – да, тогда еще, зрячая, она на кухне делала многое сама, втиралась в поварское производство; она любила стряпать пироги, но боялась растолстеть, и все время крошила себе салаты – для поддержанья фигуры. В застольной беседе, обмениваясь улыбками с симпатичным итальянцем через стол, она узнала, что тот – археолог. «О, как это романтично! – воскликнула Жизель, накладывая в розетку варенья из розовых лепестков, привезенного Кириллом из Тегерана. – Вы ковыряетесь в древностях… Вы живете не в нашем времени, а где-то далеко, очень далеко… Скажите, вам не хотелось бы жить раньше?.. Не сейчас?.. Сейчас же такой безумный мир, все говорят – мы катимся в пропасть, верующие считают, что приближается конец света, что вот-вот придет Антихрист… а вы как думаете?.. Может быть, раньше лучше было?..» Черноглазый живой итальянец зачерпнул из розеточки ложкой сразу все варенье и отправил в жадный подвижный рот. Нет, он совсем не так стар, как показалось ей на первый взгляд. У него морщины наполовину от смеха. Оттого, что он много улыбается и смеется. «Человеку свойственно думать, синьора, что раньше всегда было лучше. У человека ностальгия по прошлому. Он не жил в нем, и он издали, из будущего, видит только красивые, роскошные черты, присущие прошлому: нарядные одежды, иной уклад жизни, традиции, которые разрушаются по мере приближенья к настоящему. И мы думаем, что вот там, давно, был золотой век, райский век… А ведь там, в давнем времени, были такие же страданья. И войны. И безумья. И эпидемии. И ужасы. И смерти. Человек все так же умирал, как и сейчас. Как будет умирать всегда. Так где же тут лучшая жизнь?.. Позвольте сделать вам комплимент, синьора, вы прекрасно говорите по-английски!..» – «Я одно время поучилась в Нью-Йоркском университете, – улыбнулась Жизель. – Вы льстите мне, мой английский довольно плох. Вот в Италии я бы хотела побывать. Я представляю себе Италию такой солнечной, что глаза слепит… что они ничего не видят от солнца…» – «О да! – с гордостью кивнул собеседник, прожевывая ломтик ананаса. – Италия – она такая!.. Я вот, знаете, не могу долго жить без моря. Здесь, в Москве, я скучаю без моря; когда я долго не вижу моря, его простора, его влажной синевы, не купаюсь в нем… я ведь хороший пловец, я делаю большие заплывы… то я начинаю тосковать. А вы, вот вы любите море?.. Вы действительно ни разу не были в Италии?.. О, приезжайте, вам надо увидеть Вечный город, вам надо поплавать в гондоле по венецианским каналам… вам надо постоять во Флоренции на мосту через Арно – там, где стояли Данте и Петрарка…» У меня еще будет время, улыбнулась она, я все еще это увижу.
Теперь она больше не увидит Италии. Никогда.
На том обеде она болтала с итальянцем непринужденно и кокетливо, и к концу обеда, когда уже подали кофе с рулетом, он уже глядел на нее огненным взором. Все его морщинки пришли в движенье. Он уже начинал ухаживать за ней, извинился перед соседкой и пересел к ней, к Жизели, поближе. Она покосилась на его золотое обручальное кольцо на безымянном пальце. Он сжал руку в кулак. «Ах, не глядите так, – жалобно попросил он. – Мы, итальянцы, народ горячий. А моя жена – мудрая женщина. Я ее обожаю. Вы с ней подружитесь». Он не сводил с нее глаз. Жизель беспечно улыбалась ему. Она даже не называла его по имени, болтая с ним за обедом, хотя он и представился ей: Армандо, просто Армандо, и все.
Потом, после обеда, уже вечером, в постели, она спросила мужа, кто такой этот брюнет, масленоглазый итальянец, весь вечер протрепавшийся с ней за столом. Козаченко пожал плечами: археолог Бельцони. Друг нефтяного магната Дроветти, с которым он, Кирилл, на паях. Милый малый, ты не находишь?.. Она поправила на плече кружево ночной сорочки. Бельцони. Знакомая фамилия. До боли знакомая. Что-то из давнего времени, из прошлого, которое все равно лучше было, чем сегодня, – из ее юности.
… … …
Ей снились странные сны.
Ей все время снились странные сны.
С тех пор, как ей выстрелили в голову, она чудом выжила и ослепла, она стала видеть мир и время внутри себя; и ей снились странные сны.
Она видела высокие покои, стены с лепниной, золотую инкрустацию на столах, сработанных из черного и красного дерева; золотую посуду, мощные кувшины, стоявшие прямо на драгоценном полу, выложенном самоцветной смальтой. Резвые служанки перебегали из одних покоев дворца в другие, исчезая со смехом в длинных анфиладах. Согбенные рабы несли на смуглых, облитых потом плечах тяжелые ларцы с тканями, винами и драгоценностями, привезенными из других земель на больших кораблях; рабам повелели разгрузить корабли, и вот они таксают дорогие грузы во дворец, и тащат в царские покои, и не дайте, всемогущие боги, уронить им с плеч хоть один ларец или сундук – каменья и золото, шелка и кувшины рассыплются по полу, разобьются, и бедного раба забьют до смерти плетями, в кожаные хвосты которых вшиты свинцовые шарики. Она видела большой золотой царский трон, и неведомый ей человек, с плотно сжатым ртом, в золотом венце с зубцами, в белых, расшитых золотой нитью одеждах, сидел на троне; и у его ног, склонившись в поклонах, распростершись ниц на холодном мраморном полу, стояли, сидели, лежали люди – его слуги и подданные. Они поклонялись ему, как солнцу и Богу; просили у него защиты, как дети просят защиты у отца. И пред лицо царя вводили раба, приговоренного к казни; строптивых матерей, не желающих отдавать детей в наемное войско, чтоб уплывали они на кораблях в чужие земли, что надо покорить, и находили там свою смерть; и вора, укравшего амфору с дорогим вином; и голодную нищенку, что сидела на ступенях дворца, протягивая руку к дворцовым окнам, моля о куске хлеба. Царь должен был всех судить. Царю была дана такая власть и право.
Она видела и смеющегося царя, не только на троне, сурового и судящего – она видела, как в покои вбегала румяная русоволосая девушка, почти девочка, и бросалась к нему, протягивая руки, и садилась к нему на колени. К ним обоим, слившимся в объятьи, подходила собака – большой белый, с черными пятнами, пес с загнутым кверху крючком тонким хвостом; собака была драгоценной заморской породы, и царь ее очень любил: она видела, как дрожит от любви его рука, когда царь гладил пса по гладкой умной голове. Собака глядела умным темным глазом на то, как целуются двое людей. Когда они делали это уже слишком долго, пес взлаивал, и они, отпрянув друг от друга, весело хохотали.
Жизель видела во сне все это каждую ночь. Ей было удивительно – зачем, почему она видит такие сны.
Однажды Жизель увидела во сне, как в покои царя ввели живого льва, еще молоденького львенка, подростка. Девушка, что целовалась с царем, сидела у его ног на леопардовой шкуре. Увидев льва, она вскочила, подошла к зверю радостно, запустила пальцы в его шкуру на загривке. «Царь! – сказала она, и Жизель так ясно и близко услышала голос, будто это она сама говорила. – Я так люблю льва моего! Прикажи, чтобы мастер изваял меня, как мы с ним играем и возимся, как я катаюсь верхом на нем!.. Прикажи изваять наши фигуры на рукояти меча, и это будет мой меч, я буду с ним ходить с тобой в сраженья!..» Царь нежно улыбнулся. «Ты не воин, ты женщина, тебе незачем ходить со мной в сраженья. Я прикажу выковать меч и сделать на его рукояти фигуру твою и льва, но это будет мой меч. И я буду сражаться им во имя тебя. Во имя тебя, свет мой, я поражу всех моих врагов». Молодой лев подошел к царю, потерся головой ему о колени, как большая кошка. Лег у его ног. Девушка легла рядом со львом, обняла его, как обнимают человека, положила голову ему на золотисто-коричневый бок.
У царя был пес, у светловолосой девушки был лев. Почему Жизели казалось, что это она сама говорит, когда девушка, видимая ею, говорила во сне?.. Куда уходят люди, если они навек уходят с лица земли?.. Может быть, они приходят к другим людям в их снах. И живые начинают говорить голосами ушедших. Быть может, это единственная цепь, еще не порванная нить, связывающая погибшие времена.
А время умирает?.. Умирает, так же, как человек, Жизель?..
После таких снов она вставала с постели поздно. Карлик не смел будить ее. Он приходил к ней, когда она уже сидела в постели с остановившимися глазами, невидяще застывшими. С тех пор, как она ослепла, у нее все время были замерзшие глаза. Карлику хотелось согреть ей веки ладонями, покрыть глаза горячими поцелуями; зажечь у нее, прямо перед глазами, свет – свечу, лампаду, – чтобы живой огонь отражался в замерзших радужках, согревал ей изнутри вымерзшую, больную душу.
«Что вам принести, госпожа?.. Вы уже проснулись?..»
«Яблоко, Стенька. Просто яблоко. Ни чаю, ни кофе. Я ничего не хочу. Яблоко».
Она вспомнила, как в своем сне она сама – или та девушка?.. – приносила царю на ладони яблоко. В одной руке – яблоко, в другой – гроздь винограда. Царь срывал виноградины губами и губами же вкладывал возлюбленной в рот. Она, проснувшись, помнила вкус винограда у себя на губах. Она сходит с ума, этого не может быть. Это всего лишь сон из прошлого. Это детская сказка. Этого не было никогда.
Но яблоко имело вкус, и виноград сизо отсвечивал, источая терпкий аромат, черно-синими боками. И во сне она опускала взгляд, и во сне она видела. Она видела, что ноги у нее покрыты до колен виноградным темным, как кровь, соком: царь учил ее давить ногами виноград в огромном чане, и она давила виноград и смеялась, и царь, приблизившись к чану, зачерпывал надавленный сок рукой и пил, омочив в нем губы, а потом вставал на колени и прикасался губами к ее перепачканным в соке голеням и ступням, и она клала царю руку на голову, смеялась и шептала: не целуй мне ноги, я ведь не богиня, я простая смертная, и я умру, как все.
… … …
…Над морем стояло раннее утро. Конец марта, и год на дворе сорок первый. И армада итальянских военных кораблей шла в Эгейском море курсом на зюйд-ост, и предводительствовал новейший военный корабль «Витторио Венето», что вел за собой шесть тяжелых крейсеров, два легких и тринадцать эскадренных миноносцев.
На гафеле линкора развевался флаг командующего итальянским флотом адмирала Якино, а на палубе корабля, любуясь нежным весенним морским утром, стояла красивая женщина, и платье ее развевал ветер. Женщину звали Цинтия. Она была англичанка. Она была подругой адмирала, в довоенное время они отдыхали вместе на курортах; возможно, она была его любовницей, да, скорей всего. Команда не должна была об этом знать. Никто не должен был знать, как, зачем, во имя чего Цинтия попала на корабль.
Ветер усиливался. Поверхность воды измяла рябь. Солнце поднималось все выше, ничто не предвещало ни бури, ни тумана. Эскадра вышла в море для нанесенья удара по английским транспортным судам.
Женщина отогнула от маленькой шляпки вуаль. Ее юбку безжалостно трепал порывистый ветер. Пусть моряки смотрят на ее ноги. Они красивые. Муссолини ждет легкой победы?.. Он не получит никакой победы. Она постарается, чтобы победы не было.
Красивая белокурая женщина на палубе – ее волосы были слишком светлы, почти белы, как снег или лед в горах, – была английской шпионкой. Она разбиралась в навигации, в лоциях; при ней были подробные карты передвижений эскадры по Средиземному морю. Она знала, что они сейчас находятся приблизительно в восьмидесяти милях восточнее Сицилии. О, Сицилия, Италия. Если она выживет, если ее не убьют на этой войне, она обязательно поедет в Италию. Ей так хочется покататься в гондоле по сладостной Венеции.
При ней, в ее каюте, была и рация. Рацию могли обнаружить в любой момент. Она слишком рисковала. Командующий английским флотом Адмирал Каннингхем получил от нее подробное донесение о противнике. Через три часа после полученья ее сообщения из порта Пирей вышли, по приказу Каннингхема, четыре английских легких крейсера и четыре эсминца под командованием вице-адмирала Прайдхем-Уиппла. Они вышли наперерез итальянской фашистской эскадре.
И белокурая женщина на палубе напряженно всматривалась в солнечную морскую даль, не появятся ли родные корабли. Если ей суждено погибнуть в бою, она никогда не увидит больше своей маленькой дочки. Ее дочечка, там, в Лондоне!.. Малютка Моника… Ты забыла, верно, свою бедную мамочку, маленькие дети так быстро отвыкают от родителей, если те покидают их… Откуда ни возьмись, посреди безветрия и солнца, стал налетать туман. Солнце стало похоже на медленно крутящуюся, мерцающую жемчужину в уксусе. Вон они! Вон они, корабли! Впереди «Формидебл», она знает!..
Она повернулась, чоб идти прочь с палубы. Над итальянской эскадрой в небе появились английские бомбардировщики. Они атаковали «Витторио Венето», и Цинтия видела, как вспучивается вода вокруг корабля; но ни одна из торпед в корабль не попала. Как было бы прекрасно умереть на палубе, видя, как уничтожают врага. Как мил этот адмирал Якино, и какой он великолепный любовник. Как все было бы хорошо, если б не война. Зачем люди делают друг из друга врагов?.. Это закон войны. Как все было мило и роскошно, когда был мир. Мужчины должны воевать. Она – одна из немногих сумасшедших женщин, кто им в этом помогает.
Летчикам мешает туман, это ясно. Благодари Бога, Якино. Скоро ребята возобновят атаку. Она хотела удалиться в каюту, открыла палубную дверь, как ее запястье было схвачено точно клещами.
– Мисс Цинтия?..
Она улыбнулась, и мужчина, вцепившийся ей в руку, в который раз поразился – зубы ровные, будто жемчужные, низка из перлов – один к одному.
– Да, адмирал Якино.
– Вы видите, атака.
– Да, адмирал.
– Прекратите ваш театр одного актера, Цинтия, – зло резанул он, еще больнее вцепляясь ей в руку, и она сморщилась и ахнула, пытаясь руку вырвать. – Это все игра в вежливость для несмышленышей. Вы спали со мной, но я разгадал вас. Мой помощник нашел у вас в каюте то, что и следовало там найти. Зря вы вышли подышать воздухом на палубу. – Он скривил губы. – Не умерли бы, не подышав воздухом. А теперь я боюсь, Цинтия, что вы скоро не будете больше дышать никаким воздухом. Ни морским, ни речным, ни сухопутным. Вы побледнели!.. Извините. Я, кажется, сделал вам больно. – Он слегка ослабил хватку. – Я не выпущу вашей руки. Это правая рука, и, вероятней всего, у вас под юбкой, мисс, – хороший дамский револьвер последней модели фирмы «браунинг». И вы наверняка обучены вытаскивать его слишком быстро.
Она смотрела прямо в глаза адмиралу. Лицо Якино было перекошено бешенством. Его помощник Риккарди вскрыл в отсутствие мисс Цинтии ее каюту и обнаружил там рацию. И еще шифрованные записи; рацию и записи унесли в каюту адмирала, а на его вопрос, где мисс, был получен насмешливый ответ: «Гуляет по палубе, синьор, присматривает морячка для утех». Цинтия выглядела очень аристократически, совсем не как уличная кокотка, – отчего моряки чувствовали в ней шлюху, продажную тварь?.. Необъяснимо. Он, Якино, любил спать с ней. Он никогда не любил ее.
– Вы проводили со мной ночи, Джакомо, – спокойно сказала она, и ветер взвил белую чуть вьющуюся прядь ее волос, вырвал из-под черной шляпки. – Смею надеяться, что я радовала вас.
– Это ничего не значит, Цинтия. По приговору военного трибунала вы будете расстреляны. Может быть, в двадцать четыре часа. Вы обрекаете эскадру на гибель! Нашу смерть сделали вы! «Витторио Венето» может погибнуть, но вы умрете раньше!
Она закрыла глаза. Моника, девочка, кто же расскажет тебе о матери.
– Пустите меня, – сказала она еле слышно, и губы ее дрогнули. – Я же никуда не убегу с корабля. Я не отвяжу шлюпку, не спущу на воду, не удеру. Вы правы, у меня с собой револьвер. Возьмите его. – Она сунула руку в глубокий карман юбки. Протянула ему «браунинг» на ладони. – Я должна переговорить с одним… матросом с вашего корабля. Он мой друг. Я сдружилась с ним. Я хочу попросить его… вы же все равно не сделаете этого…
Она глотнула ртом сырой соленый воздух, уже пронизанный капельками тумана; адмирал пристально, тяжело глядел ей в красивое, чуть скуластое лицо.
– Я попрошу его запомнить все, что я ему скажу о себе, и передать это потом на суше… в Англии… моей девочке. Ей же никто не сможет рассказать. И адрес ему оставлю.
Она замолчала. Якино спросил помрачневшим, тихим голосом:
– У вас есть в Англии дочь?
– А вы что, думали, что мне навсегда шестнадцать лет, как Дженни из старинной шотландской песенки?.. Моя дочь мала еще, это верно… Я родила ее не в браке, не от мужа. Моя жизнь, как вы поняли, не предполагает замужества и тихого семейного счастья. Я родила ее… – Она мечтательно улыбнулась, закрыла глаза. Якино снова удивился ее лунно округлому лицу, ее скульптурно вырезанным, как на древней царской маске, векам. Черты ее свежего молодого лица были почти идеальны. Ее мог лепить Канова. – …от ветра, от сильного весеннего ветра в Уэльсе…
Якино выпустил ее. Кивнул. Ему было трудно сдержать резко нахлынувшую жалость. Эта женщина рискует погубить его эскадру, но он спал с ней, он привязался к ней, он вдыхал ее запах и входил в ее чрево, и он будет помнить ее. Цинтия… Лунная…
– Ступайте, – тяжело проронил он. – Идите к вашему матросу. Вы говорите с ним по-английски или по-итальянски?..
– По-итальянски, – потупилась она. – Я же хорошо знаю язык.
– Вот как! Я этого не знал. Со мной вы всегда говорили по-английски. Стерва.
Он повернулся, пошел прочь по железной палубе. Цинтия рванула дверь на себя. Моряк, ее друг, работал в машинном отделении. Он был всегда весь перепачкан мазутом. Он был лучше и благородней всех высокородных господ, которых она знавала на перекрестках Европы.
Лязг и скрежет обрушился на нее; она, спускаясь по замасленному трапу, закрыла глаза опять, подбирая в кулак юбку. На мгновенье, подобное вспышке молнии, равное вечности, она увидела перед собой будущее своей маленькой девочки, играющей в куклы там, в туманном и дождливом мартовском военном Лондоне. Она увидела обрывистый, глинистый берег, поросший выжженной травой, бастылы полыни, сухие цветочки тимьяна, пучки мотающейся на ветру душицы. Увидела двух молодых бычков, пасущихся на обрыве; и лежащую навзничь около пасущихся быков, с закинутой за голову рукой, худенькую белокурую, не так уж и молодую женщину, слишком похожую на нее. Это – ее дочь?! Она, из туманной дали моря и времени, с закрытыми глазами, дрожа, спускаясь в машинное отделение линкора «Витторио Венето», видела ясно: это лежит в сухой траве ее дочь, и у нее насквозь пробит бок ножом. И кровь течет по платью из-под ребра. Она открыла глаза. Лязг машин был невыносим. Она зажала руками уши. Если ей сужден расстрел, то пусть лучше ее расстреляют. На свежем морском воздухе, на ветру, что так она любила вдыхать; на палубе, в виду большого простора. И непременно ночью. Да, лучше всего ночью. Под Луной. Чтобы она задрала к небу лицо и увидела Луну. Луну, чье имя она носит.
… … …
Светлана сидела, обхватив ноги руками, около их с Романом палаточного ложа. Он спал, раскинув руки, будто распятый. Она стерегла его сон.
У изголовья горела свеча. Светлана знала: под подушкой «браунинг». Она напряженно слушала тишину вокруг палатки. Если кто-нибудь будет подкрадываться, она… будет стрелять без предупрежденья – или разбудит Романа?.. Светочка, ты же ни разу в жизни не отрубила голову курице. Ты сможешь выстрелить в живого человека?.. Нет?..
Она помахала головой, отгоняя сон. Спи, любимый, спи, пусть тебе приснятся радостные сны. Когда кругом горе, должны сниться радостные сны. Иначе человек может сойти с ума. А ей, как назло, лезут в голову разные печали. Перед ней, как наяву, встали ее подвалы, где она пропадала, репетируя с ребятами рок-репертуар. У нее в ушах навязли обрывки текстов, что пела она бесконечно, и теперь, вдали от них, она пугалась их, они обнажали перед ней весь ужас дороги, по которой она бежала вместе с неприкаянными, бедными, мечущимися мальцами и девчатами. «Меня уже нет, но ведь я все-таки есть… На лбу моем число Зверя – шестьсот шестьдесят шесть…» «Переверни крест, в чаше твоей – кровь… Все умерло окрест, и умерла любовь… Мы – панк-рок!.. Мы – панк-рок!.. Нас никто не сберег!.. Каин Авеля убил – вышел, вышел срок!..» Надо было приближать орущие, кричащие губы к микрофону и петь, петь, стонать, вопить о неизбежности гибели. О пути, что ведет в бездну инферно. Зачем она это делала?.. Потому, что это пели все. Эту музыку играли все. Это веру исповедовали все. Веру во что?.. В то, что придет Сатана?.. Она втихаря смеялась над этими мальчиками, одетыми во все черное, в черные балахоны с черепами, в черные глухие рубахи: они всерьез кричали, что скоро прибудет Антихрист, и что они – его апологеты. Горшок однажды прочитал ей «Отче наш» навыворот и заржал, как конь. Она отшатнулась. Его подопечные ударяли на сцене по барабанам и тарелкам, нечленораздельно вопили: «Satareal! Satareal!..» Светлана положила Горшку руку на плечо и сказала тогда: «Вот ты вопишь, Горшок, а он же тебя не слышит. Зато тебя слышит Бог. И жалеет тебя». «Скажи пожалуйста, какая жалостливая!.. – крикнул ей Горшок в лицо. – Мне важно, чтоб ты сделала к четвергу мой текст, едем выступать на Гребной канал!.. Туда и байкеры из Питера приедут!.. Ты должна быть в хорошей форме, Рыбка!..» У всех у них были прозвища. Они звали ее Рыбкой. Она не возмущалась. Рыбка так Рыбка.
Однажды Рыбка махнет хвостом и уплывет. И никто из черных мальчиков больше не поймает ее.
Господи, как хочется петь, а тут кругом одни смерти начались. Нет, это ужасное лето. Видно, парад планет какой-то. Или еще какая беда, астрологи это все вычисляют. Бабушка говорила просто: молиться надо, и вся нечисть уползет во ад. Вот и докопались они в Гермонассе до ада. И полезли из-под земли темные, страшные силы, и разгулялись в широкой степи, и не остановишь их. Спи, Роман. Как ты сладко спишь. Как непонятно, неистово и могуче на них снизошла, слетела Любовь – будто бесплотный ангел раскинул широкие крылья над морем, и в солнечной сени этих крыл они замерли, прижавшись друг к другу. Сливаются тела; соединяются души. А песня звучит одна. У них на двоих один голос. Она будет петь эту песню. Она победит песней – мрак.
Их никто не убьет. Они не умрут.
За палаткой хрустнула ветка. Или это разорвался сухой стручок акации… Светлана вздрогнула и поправила на Романе простыню, сползшую с загорелого плеча. Спи, отдыхай, любимый, рано утром ты встанешь, как и не спал. Душа твоя бессонна. Она, Светлана, маленькая Рыбка в океане обмана, неправды и горя, не умеет молиться, но она будет молиться за тебя.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗОЛОТАЯ МАСКА
Это была та самая «пирушка», о которой так насмешливо говорил Бельцони Ирене. Сокровища, украденные в Измире у убитого Кристофера Келли и в иных местах планеты у других археологов, расплатившихся жизнями за добычу уникальных, счастливых находок, Кайтох сегодня показывал высшему свету, московской знати – и иностранным гостям, многие из которых предпочли, будучи приглашенными на таинственные смотрины, быть все-таки засекреченными, просили не разглашать их имена. Это была еще не распродажа. Распродажа должна быть впереди. Это – прикидка, похвальба; это развернутый веер, где каждое павлинье перо дрожит, горит и трепещет, призывая и маня, это парад соблазнов – для тех, кто мог за баснословные деньги купить соблазн, взять его тепленьким, голыми руками.
Кайтох пригласил на «пирушку» финансовую и политическую знать. Элиту олигархии. Владык теневой экономики мира. Влиятельных банкиров. Тайных и явных управленцев. Красивых жен богатых мужей. Знаменитых актрис. Кинозвезд и поп-старз. Крупных военных, сделавших немыслимые барыши на бесконечно идущей кавказской войне. Кайтох зажег все люстры, способные гореть над головами всемирно известных богатеев, и хотел заставить их опьяниться смертельным блеском этих люстр, и раскошелиться, и вынуть из закромов, со счетов и из масленых карманов все, что прикоплено было им на хитрости и крови, на каторжном, до седьмого пота, труде и на легком, как мотылек, пошлом и наглом обмане. Единственное сокровище на Земле – Время. И он, Кайтох, его продает. Ни за понюх табаку. Что деньги? Тлен и суета. А то, что достойно быть, Время, – теперь будет лежать в закромах у богатых, тешить их душу. И они будут уверены, что владеют Временем. Ведь владенье Временем – самый большой соблазн. Ведь Время – главный враг. Кто бы не хотел, чтоб лицо его не испещряли морщины, чтобы не белели и не выпадали волосы, чтобы любовная сила сохранялась до конца его дней. И вот Время отнимает все сокровища человека. А потом – и его самого стирает с лица земли, как пыльцу сусальной позолоты, как ветер стирает высохший мох со лба высокого валуна. У человека, который держит в сейфе, в домашнем музее, под стеклом, за решеткой драгоценности Времени, страх перед Временем может притупиться. И он, Кайтох, – тут лекарь. Он лечит людей от страха. От страха смерти. За это – никаких денег не жалко.
Скоро он будет самым богатым человеком в мире. Зачем ему деньги? Он – ими – спасается от страха смерти? Ведь на жизнь ему, Ирене и сыну хватило бы сполна уже давно. А он грабит древние могилы. Перепродает святыни. Вынимает из-под носа у бедняг ученых их открытия, превращая их в звонкую монету, в дорогую стабильную валюту. Он делает это потому, что он должен показать людям: глядите, как все просто. Вы платите деньги за Время. А не можете его поймать. Оно неуловимо. Оно неисследимо. Оно стоит очень дорого, но оно невидимо и неощутимо.
ПОТОМУ ЧТО ЕГО НЕТ.
«Ирена, очнись, прекрати плакать. Ты же знаешь, как я припугну Бельцони. Я отправлю в Тамань доктора Касперского».
«Ну и что, доктора Касперского?..»
«Там, в экспедиции Задорожного, его жена, Моника. Моника работает на Бельцони. На кого же работать жене, как не на своего мужа. Вот ты же работаешь на меня, правда, котик?..»
«При чем тут Касперский?..»
«Как же ты не понимаешь, глупая ты моя девочка. Касперский будет моим железным крюком. На который я вздерну Монику. За ребро. И она будет висеть на нем и истекать кровью. Если, конечно, Армандо не…»
Ирена смотрела на мужа. В ее глазах стыли, переливались мертво и перламутрово восторг и ужас. К подъезду их особняка на Каширке подкатывали лимузины и мерседесы, дамы в мехах и шелках выпархивали из бархатных внутренностей машин, поднимались по беломраморной лестнице, устланной бухарским ковром. Ирена смотрела, как по лестнице, запахиваясь в нежный паланкин из серо-голубых сияющих норок, поднималась черноволосая красавица-ассирийка Джина, знаменитая художница, исцелявшая своими эзотерическими картинами, стоившими на выставках и аукционах очень дорого. Черные, как два яшмовых кабошона, глаза Джины сияли, она оглядывалась вокруг с любопытством ребенка, которого привезли в магазин игрушек, и он, восторженный, хочет скупить сразу весь магазин. Слишком худа, придирчиво подумала Ирена, и ключицы слишком торчат. Скелет, доходяга, Освенцим. Она в сравненьи с ней – просто Афродита Милосская. А вон идет магнат Кирилл Козаченко. Половина денег всея России, выкачанных им за последние годы из богатых и из нищих, – в австралийских и швейцарских банках. Козаченко всерьез думает, что он – владыка мира. И он не догадывается, что владыка мира – ее муж, незаметный Вацлав Кайтох, с незаметным офисом на Новом Арбате в одной из высоток-«книжек».
Козаченко вздумал однажды за ней увиваться. Она отшила его безбоязненно. Она знала: если дойдет до дуэли, муж сам выберет оружье и способ сраженья. Поэтому она не волновалась. Грустно было только, что Вацлав все меньше обращает вниманья на нее, когда они остаются одни. У них уже давно не было страстных ночей. Все естественно?.. Всесокрушающее время?.. А это, кто это взбирается по лестнице, судорожно вцепляясь в перила, останавливаясь отдохнуть на каждом шагу?.. А, это старая графиня Шереметева, одна из потомков графов Шереметевых, сейчас все возвращают себе титулы, привилегии, званья, все жадно бросились восстанавливать все, разрушенное до основанья; и, Господи, Ты сказал, что это – хорошо?.. Седые букольки графини тряслись вдоль висков. Ей было лет девяносто пять, не меньше. Она была ровесница убиенного в Екатеринбурге Цесаревича Алексея. Кайтох знал, как она невероятно богата, поэтому и зазвал ее на смотрины. Она все Смутное Время России, почти весь век, провела в Париже, а свое чудом спасенное, а после и громадно приумноженное состоянье хранила в одном из знаменитейших французских банков «Credite Agricole». Кайтох надеялся ее растрясти в первую очередь – ему было известно, как старуха падка на драгоценности, особенно на антиквариат. Антиквариат, которому более пятидесяти веков! На это бабушка Шереметева должна была взглянуть, хоть перед смертью. И, может, что прикупить – не в подарок внучке либо правнучке, не в память потомку, нет: для того, чтобы каждое утро, просыпаясь, с трудом поднимаясь с постели, кряхтя, мучительно вливая в себя чай со сливками, лекарства, оживляющие снадобья, она глядела на древнее золото, улыбалась через силу и думала: вот я владею Временем, вот оно у меня в высохших руках, а не я – у него.
Цвет мафии собирался у них в особняке. Господа ничего уже не боялись. Время боязни и осторожничанья прошло. Мафия думала, что взяла силу. Что взяла власть. Что она – наверху; все остальные – внизу. И что пирамида незыблема, ее никто не взорвет так просто. Что никто не вольет в рот ни яд, ни расплавленный свинец, кроме своего же брата мафиозо, ибо есть противоядие, есть абсолютное оружье.
Как она заблуждалась, мафия. Ирена понимала это. Ирена глядела на мафию взглядом со стороны, издалека; она глядела на собственный мир, на свой клан взглядом древней царицы, золотой маски, которую она сама украла и привезла из Тамани. Она не знала, что в Тамани убиты Егоров, Андрон и Страхов. Кайтох дал ей понять, что убьет Монику, если Бельцони не вернет присвоенное. Знать все до конца Ирене было не нужно. Она и не хотела знать.
Она только глядела, как денежная знать поднимается по лестнице, и, закусив губу, наблюдала, как сияет шиншилловая накидка на плечах великой актрисы Ингрид Зуппе, вдовы Ингвара Бирмана, как вздымается ее полуобнаженная грудь в дерзком до последней степени декольте. Еще б немного, и платье могло было быть без лифа. Ирена помнила нашумевший, двадцатилетней давности, шведский фильм «Черника» с Ингрид в главной роли. Там впервые женщина разделась, мужчина обнажился, и впервые акт во всех грубых, сумасшедше натуралистических реалиях был заснят на пленку. От порнографии его отличало то, что его отснимал художник. С тех пор волна наготы захлестнула мир с киноэкрана. И мир перестал ей удивляться. Мир перестал соблазняться Эросом – торговцы Эросом не подумали о том, что народ можно перекормить арахисом в сахаре, и люди захотят ржаного хлеба. И Эрос умер. Мало кто покупает дешевые любовные романы. Мало кто крутит порнушку. Они же все обнажены под шелковыми блесткими платьями, под топорщащимися мехами, Ирена. У всех нагие тела. У всех. И у всех были точно такие же нагие тела тогда, в Трое, в Афинах, в Мемфисе, в Мохенджо-Даро, в Тире и Сидоне, в Галилее. И художники их писали. И златокузнецы выковывали их по золоту, по бронзе, по железу. И мастера украшали им пальцы перстнями. И портные одевали в струящиеся нежные ткани. А люди не хотели, чтоб их живописали, ваяли, выковывали из золота. Они хотели любить друг друга – живые. Как и теперь. Как и всегда. Так что же изменилось в мире, Ирена?! Что?!
В небольшом парадном зале их с Вацлавом особняка, на втором этаже, был устроен вернисаж-показ. На витринах, под стеклом, лежали драгоценности из Измира и золотая маска из Тамани. Обе маски, царя и царицы, лежали рядом. «Это супруги, они неразлучны», – ослепительно улыбаясь, объяснял Кайтох старой бабке Шереметевой, вцепившейся высохшей птичьей лапкой в витрину, трясущей головой, похожей на выкопанный из земли сосновый корень. Бельцони, стоявший у витрины с россыпью перстней из измирского могильника, столь заинтересовавших знаменитую Джину, что она ни на шаг не отходила от сияющих за стеклом древних колечек, незаметно подмигнул Кайтоху. Кайтох и усом не повел. Начинать так начинать.
Ни одного стула не предусматривалось в гостиной. Это был фуршет, раут. Все должны были важно слоняться по залу, вежливо торчать у витрин, оживленно болтать под картинами старых мастеров, в изобилии увесивших стены особняка. Кайтох хлопнул в ладоши, призывая общество к вниманью.
– Медам, месье! Леди энд джентльменс! Дамы и господа! – возгласил Кайтох, порозовевший от радостного волненья. Даже его залысины налились вишневым цветом. Тусклые глаза очистились, просияли. Вернисаж был для него, как игла для наркомана. Ирена смотрела на мужа и не узнавала его, мрачного, скучного, жестко сцепившего губы замком. Перед ней был снова польский красавец, шляхтич, хоть сейчас танцуй краковяк, который так прельстил ее тогда, давно, на концерте Эдиты Пьехи. – Вниманье, аттансьон!.. Мы представляем сегодня здесь уникальную коллекцию старинных вещей из царского могильника, раскопанного в окрестностях Измира, в турецкой Анатолии, совсем недавно, в июне!..
В июне люди Кайтоха изловили Задорожного в Турции, пронеслось в голове Ирены. Или – в июле?.. Разве это так важно. Моника, Моника. Она не знает, что она под колпаком. Хоть она и ведьма, Моника, хоть у нее и три жидких белых волосика на куриной головенке, все же Ирене жаль ее, если… Это всего лишь ход конем, Ирена. Бельцони отдаст маску. Он вынужден будет отдать ее. Сейчас он принес ее на вернисаж, потому что он тоже хочет поиметь с вернисажа свой куш, продать золотую бирюльку, и продать дорого; но после вернисажа он, под прикрытием хорошего бодигарда и автомата последней модели, вынет ее с черного бархата витрины и уберет в сейф, а сейф – в сумку, и мило улыбнется Кайтоху, и сделает вид, будто ничего не произошло, и медленно, ожидая выстрела в спину или, еще лучше, в грудь, снизу, из-под мраморной лестницы, удалится, растворится в ночи. Кайтох прав. Ему надо сказать: маску на стол, иначе труп Моники привезут тебе расчлененным на части в дорожной сумке. Или его расклюют таманские вороны, на выбор. Кайтох знает – Бельцони очень привязан к жене. Они просто не разлей-вода. Ему, с его комплексом женственности и детскости, при всей его изворотливости и ушлости, Моника заменяет мать. Нет, он не захочет, чтобы ее убили. Не захочет!
– Дамы и господа, – звенел под сводами зала голос Кайтоха, – представляемая вам коллекция – единственные в мире, подчеркиваю, – единственные в мире останки, следы исчезнувшей пятьдесят веков назад древнейшей цивилизации Европы и Средиземноморья, царства, располагавшегося на территории современной Турции и достигшего расцвета еще в начале третьего тысячелетия до нашей эры, господа, слышите!.. Драгоценностям, выставленным здесь, более пятидесяти веков. Это государство торговало с возникшим позднее Египтом, с городами Малой Азии, с Критом и Индией, с Гипербореей и Арктидой; ученые подозревают, что неизвестное истории государство было последним отпочкованьем исчезнувшей в водах Мирового Океана Гондваны, наследником Лемурии, и укрепилось на оконечности древней Лавразии, у Мраморного моря, в середине четветого тысячелетия до Рождества Христова… Оно сообщалось с существовавшим в те баснословные времена погибшим опять же на дне Океана континентом… или островом… Атлантидой и, возможно… ученые не отрицают этого… было двойником Атлантиды, ее спутником-сателлитом… ее правой рукой… или даже, возможно, колонией, ибо предметы, найденные здесь, не идентифицируются ни с одними известными предметами, принадлежащими древним средиземноморским цивилизациям тех тысячелетий, в радиусе приблизительно сорока – пятидесяти сотен лет!..
– Пятьдесят сотен лет, – услышала Ирена рядом с собой шепот, – пятьдесят сотен. Помилуй Бог, неужели Земля уже столько времени жива. И еще не умерла.
Ирена оглянулась. Рядом с ней замерла, впившись в Вацлава, говорившего тронную речь, широко раскрытыми глазами, молодая женщина в богатом платье из золотой парчи, похожем на ризу священника, только сильно открытом. Песцовое боа нежно обнимало ее плечи. Ирена подумала: сколько же мужчин целовало эти плечи, прежде чем их владелица поднялась по мраморной лестнице, где такие тяжко-высокие ступени, к ужасу и торжеству власти над людьми, что дают только деньги. Жена Козаченко?.. Жена олигарха Утинского?.. Горенфельда?.. Маленький человечек стоял возле нее, держал ее за руку. Человечек в бархатном кафтанчике, с выгнутыми ручками, с ножками как ухваты. Ножки, рахитично согнутые колесом, были обуты в странную обувь, с загнутыми кверху носами. По шее стлался кружевной воротник, как язык снега по ямине оврага. Лилипут?.. нет, это карлик. Карлик, Ирена. Карлик в бархатном кафтане. Все возвращается – забавы царей, утехи князей. Нет ничего нового под Луною.
Женщина шевельнула головой, карлик заботливо сжал ее руку, как бы направляя ее взгляд, предупреждая ее сомненье, прошептал что-то нераскрывшимися губами, сквозь зубы, и тут Ирена поняла, что женщина слепа.
Слепая стояла неподвижно, чуть приподняв страдальческие брови, широко раскрывала незрячие глаза и жадно вслушивалась в речь Кайтоха. Она опять прошептала: пятьдесят сотен лет, о, черт возьми. Карлик поднял толстенькое скуластое личико и угодливо пробормотал: «Госпожа, не посмотрите?.. я попрошу господина Кайтоха…» Как же она будет смотреть, тоскливо подумала Ирена, а карлик уже колобком подкатился к Кайтоху, поманил его корявым пальчиком, что-то нашептал ему на ухо, опять откатился к госпоже, и Кайтох, продолжая улыбаться и говорить про великие немыслимые тысячелетья, отступил назад на шаг, приподнял на витрине стекло, и слепая подошла, ведомая карликом, и карлик взял ее руки и положил на сокровища, что лежали внутри витрины на черном бархате, и слепая стала ощупывать их пальцами. Она ощупывала пальцами, будто лаская, будто целуя, золотые лица царя и царицы древней забытой земли.
Карлик торчал у ее ног, напряженно следя за выраженьем лица госпожи. Кайтох, косясь на странную пару, возвысил голос:
– Профессор с мировым именем Роман Задорожный тщательно исследовал находки! Ксероксы с заключений профессора Задорожного, подробные описанья найденных предметов, точная датировка ценностей демонстрируются вам, уважаемые господа, на стендах над витринами!.. Вы можете ознакомиться с мненьем одного из мировых научных исторических светил… То, что показывается на нынешнем вернисаже, не имеет ничего общего с грубыми и кустарными подделками, столь процветающими нынче на рынке торговли сокровищами… все без обмана, господа… все – без обмана!..
Ирена смотрела, как щеки Кайтоха покрываются красными пятнами. Он входил в раж. Она испугалась, как бы его не хватил удар. Он уже выкрикивал, как пьяный. Слепая, ощупывая обе золотые маски, слушала морщась, напряженно.
– Пятьдесят веков или даже больше!.. Господа, приценивайтесь!.. Уникальны в показываемом собраньи сокровищ две золотые маски царя и царицы! Думаю так, что на сегодняшний день это – самые дорогие сокровища из найденных в раскопках древних поселений! Распродажа впереди, мы намеренно не называем сегодня цены… вы свободны в выборе!.. Вы можете облюбовать любой предмет из уникальной, потрясающей коллекции, о которой современный крупный ученый, светило науки, сказал просто и точно: она – бесценна!.. облюбовать, запомнить, полюбить, и он на распродаже – ваш!..
Ирена видела, как слепая жалко улыбнулась, кладя руку на лоб золотой царицы и беспомощно вертя головой, одними губами призывая карлика.
– Жизель Козаченко, – сказал за спиной Ирены жесткий, с подхрипом, голос. – Бедная. Ослепла после покушенья. В нее и Козаченко стреляли, когда они ехали в машине из театра. Ему – с гуся вода, ей попали в голову, пуля повредила зрительный нерв. Считай, отделалась легким испугом. Сейчас бы лежала в могилке. Карлика таскает повсюду с собой. Как собаку-поводыря. Хороший оклад у мальца, пристроился. Как сыр в золотом масле катается. Да Козаченко глядит сквозь пальцы на то, что карлик с его женушкой по ночам кувыркается. Чем бы слепое дитя ни тешилось…
Ирена почувствовала дурноту. Темнота подкатила к ее горлу, к ее глазам. Воздуха, надо глотнуть воздуха. Скорее на воздух. На балкон. Выбежать!
Она неверными шагами, еле удерживаясь на высоких каблуках, пошла к балкону. Краем косящего глаза она увидела, как ее муж подошел к своему врагу.
– Ну как, синьор Армандо?..
– Отлично, синьор Кайтох. Все идет как по маслу. Я и не предполагал такого успеха. Публика просто не отрывается от витрин. Вцепились, как клещи. Шутка ли сказать – самые грандиозные сокровища, извлеченные из земли за последние сто лет, со времени раскопанной юродивым Шлиманом Трои! Гляди, гляди, Вацлав, как мадам Бирман-то впилась в золотой кувшин… как пиявка!.. Все, считай, они у нас в кармане. Послушай, заниматься… – Бельцони наклонился к его уху, к розовой залысине. – Заниматься кражей древностей гора-а-аздо выгодней, чем пошлой наркотой или «живым товаром»… ты не находишь?..
Кайтох удовлетворенно осмотрел гудящий зал. Денежная мафия жужжала, как улей; господа наклонялись над витринами, придирчиво разглядывали золото, стучали по стеклу пальцами, вертели головами, улыбались, скалились, воздевали руки, искривляли задумчиво брови. Кайтох сделал верный ход. Он заинтриговал всех. Он не назвал ни одной цены. Думайте что хотите, господа. Это – тайна. Вы сами видите: сокровища – подлинные. И цены будут подлинные тоже. Немного погодя, потерпите.
– Нахожу, Армандо. Я всегда нахожу в мире то, что плохо лежит. Я думаю, что скоро политическое благополучье страны будет измеряться стоимостью сокровищ, которые ей удалось не разбазарить, не вывезти вон, не распродать по дешевке тем, что ближе всех, под локтем, окажется с легкими и пустыми денежками… или, напротив, удалось нахально слямзить на стороне и нагло присвоить. Завоеватель всегда прав, Армандо. Ты-то сам ведь знаешь это. – Кайтох измерил Бельцони презрительно-торжествующим взглядом. – Все старо, как мир, Армандо. Моника в Тамани?..
Бельцони сощурился, будто на солнце. Вытащил из кармана портсигар. Выковырял из-под резинки пальцем сигарету.
– Да. Она там.
– Какие находки есть еще?..
– Не хочешь закурить?.. Нет?.. Ты… – Бельцони нервно затянулся колючим дымом «Мальборо». – Ты так следишь за всеми раскопками в России, Вацлав?.. ты просто диктатор какой-то, крокодил, ты египетский бог Себек…
– За самыми стоющими, Армандо. За барахлом я не слежу. Как там у нас… на благословенном Богом юге?.. я, кажется, спросил…
Бельцони понял, что таиться больше нечего. Надо хвастать. Бить под дых и без промаха. Пока идет и гудит вернисаж, надо послать Вацлава в нокаут и сделать его. Пусть он знает, что он, Бельцони, перехватил инициативу. Что сведенья – у него, так же, как и женская маска. И будь он проклят, потомок Макиавелли и Казановы, если он не получит здесь и сейчас того, что по праву, по законному праву целой жизни, посвященной грабежу сокровищ, принадлежит ему.
«Твое право первой ночи, – зло думал Кайтох, вдыхая дым горящей в зубах Бельцони сигареты. – Ты ошибся, макаронник. Оно мое».
– Отлично, Вацлав. Просто маньифико, мольто бене. Они откопали недурной меч. Моника думает, что царский. Моника телеграфировала мне, что съездит в Керчь, отсканирует фотографии меча и отправит мне сюда, в Москву, e-mail с картинками с машины ее керченского дружка.
– Дай сигарету. – Кайтох протянул руку. – Ты не ревнуешь?..
– К кому, Вацлав?.. Моника, старая сивая кляча, может спать хоть со всем миром. Она же делает это ради меня. – Бельцони любовно искривил губы, втягивая дым. – Она же моя милая мамочка, Вацлав, это же столько заботы, я тебе не могу передать. Что бы я в жизни делал без Моники. Благодарю судьбу, когда я встретил ее у Понто Риальто, американскую белобрысую дуру…
Так, все хорошо. Все правильно. Он ее обожает. Пора. Давай.
– Ты будешь так же благодарить судьбу, Армандо, если вдруг Монику нежно уберут из твоей жизни?
Бельцони побледнел. Он понял сразу. Он был парень из понятливых.
– Кто?..
– Неважно, кто. Тот, кто хорошо стреляет. Тот, кто любит всласть помучить бабу, прежде чем выстрелит ей сначала в живот, потом в рот из хорошего смазанного кольта.
Бельцони белел прямо на глазах. Кайтох подумал – он сейчас грянется в обморок.
– Хочешь маску… да?..
– Это ты хочешь Монику… за маску и заодно за меч, так?.. Я верно тебя понял, дружище?..
Они скрестили взгляды. Кайтох думал – он обратится в пепел под жалко, умалишенно горящим, проклинающим взглядом Армандо.
Господа в смокингах, дамы в боа и пелеринах, в длинных парчовых и шелковых платьях, с веерами в руках, в черных светонепроницаемых очках и в равнодушно отблескивающих контактных линзах, с морщинистыми, как у черепах, веками и щеками и с роскошными бело-розовыми плечами, в галстуках-бабочках, с низками слепящих алмазов и винно-красных гранатов на шеях и запонками в обшлагах, что стоили миллион долларов, склонялись над сокровищами, шуршали и гудели, смеялись и ворчали, спорили и вздыхали, подозревали и приценивались. Люди ко всему приценились. Они уже все купили глазами – все, что лежало на чернобархатных витринах. И слепая Жизель, жена богача Козаченко, тоже приценилась. Ей больше всего на свете понравилась золотая маска царицы. Она была нужна ей превыше всего в мире.
Ирена больше не могла. Она задыхалась. Прошуршав жестким шелковым платьем по паркету, простучав каблучками, она рванула на себя балконную дверь. Когда она открывала стеклянные створки, Кайтох подумал: а вдруг она выйдет на балкон, а там кто-нибудь снизу, с земли, из теплого летнего вечера вдруг выстрелит в нее. Прямо в грудь.
… … …
…Они сидели у вечернего костра втроем – Моника, Светлана и Леон. Задорожный, составлявший им компанию, отошел покурить. Они со Светланой не могли глядеть друг на друга после того, что произошло. Они казались друг другу и сами себе – небожителями, богами. Они хотели сохранить внутри себя то счастье задыханья и благоговенья, охватившее их, когда они тою ночью расцепили горящие, счастливые, жаждущие друг друга тела. «Мы – одно», – испуганно думали они про себя, и это была святая правда. Роман боялся прикоснуться к Светлане. Он боялся приблизиться к ней, страшился, что неверным, неосторожным движеньем, неловким словом погубит счастье безмолвной молитвы, охватывавшее их при одной мысли друг о друге. Они слишком сильно желали друг друга, чтобы отдаться друг другу еще раз, тут же, сразу, после Ночи Ночей. Они сохраняли себя, как сохраняют драгоценное вино в сосуде. Огонь лизал им ноги. Звезды стояли над ними. Время, испытывавшее их кровью, страхом и желаньем, остановилось вокруг них, застыло.
Роман отошел покурить, а белобрысая Моника – ее висячие космы совсем выгорели, до цвета серебристой жухлой полыни, до прозрачности паутины, – обхватив острые, как ножи, коленки руками, глядя в огонь, то на ломаном, хотя и беглом русском, то на английском, то на итальянском пыталась поведать ночным слушателям историю своей жизни. Что толкнуло ее на откровенность?.. Предчувствие?.. Мало ли что мы предчувствуем… Нам не дано увидать будущее. Созвездья складываются в узор. Рыжие и золотые пряди огня вьются по ветру. Женщина у костра говорит, и неважно, на каком языке – на древнем, мертвом, или на живом, веселом. Она говорит о жизни – о чем же еще говорить людям в звездную, в лунную ночь у ярко пылающего степного костра?..
– Моя мать была шпионка… О, натуральная шпионка, ее называли потом – английская Мата Хари… Ее звали Цинтия. Просто – Цинтия, и все… Она работала на английский флот, ее засылали в самое логово к немцам, она пробралась даже на корабль «Адмирал Шеер», плавала там с немецкой командой по Северному Ледовитому океану… по русскому Северному Морскому Пути… О, если бы видели my mother!.. Моя мать… была похожа на Луну… такие белокурые волосы вокруг круглого веселого лица, и чуть, совсем на uno soldo, вьются… и глаза большие, похожие на миндаль… знаете, такие орехи есть, миндаль… они здесь растут, в Тамани?.. нет?.. ее глаза были как эти орехи… И потом ее забросили на итальянский линкор «Витторио Венето», этот корабль вел эскадру… они вышли в море, чтобы ударить по английским судам, перебрасывавшим войска и военную технику из Египта в Грецию… адмирал Якино думал – вот она, победа… легкая победа… и она, Цинтия, не дала уничтожить английский линкор «Велиент»… а вся эскадра итальянцев, почти вся, погибла… это была загадка войны, ее до сих пор разгадывают историки… погиб и крейсер «Фиуме», и крейсер «Зара», и тяжелый крейсер «Пола»… а мама ночью, в море, при свете Луны… мне сказали, тогда была лунная ночь, пыталась бежать на лодке на «Велиент», но маму схватили, итальянцы разгадали ее маневр, ее приговорили к смертной казни… и расстреляли… там, на палубе корабля… поврежденного торпедами «Витторио Венето»… а я была тогда little girl, и я была, как это по-русски, не-смыш-ле-ная?.. я не понимала, как это – расстрелять… пострелять, выстрелить – это я понимала, а рас-стрелять?.. это было… о, ну, как игра…
Костер горел жарко, пламя взвивалось высоко, мощно, дрова – акация, туя, сухие яблоневые ветки – гудели и потрескивали. Как хорошо было жить! Как чудовищна казалась мысль о смерти. Как непредставимо было, что убили троих из команды Задорожного на славном земляном корабле.
– Расстрел Цинтии… она стояла на палубе, а на нее навели ружья… И итальянский капитан крикнул: у вас есть последнее желанье, Цинтия!.. И она засмеялась, поправила белые волосы и сказала: я не хочу, чтобы меня расстреливали сейчас, при свете Солнца, я хочу, чтобы меня расстреляли при свете Луны… И капитан, он был бла-го-ро-ден, он велел морякам дождаться вечера, а потом ночи, погода была ясная, и над морем стояла большая Луна, moon… И, когда Цинтию вывели на палубу во второй раз, она счастливо засмеялась и крикнула: здравствуй, мать моя, Луна, я наконец-то ухожу к тебе, я все сделала на земле, что ты мне велела… И смотрит на Луну так любовно, amoroso, и закинула лицо… И солдаты подняли ружья и нацелились в нее, и дали залп, и она крикнула и стала падать на доски палубы… и они увидели, что Луна скатилась с небес, скатилась прямо в море, исчезла с неба, а море все стало красным, как кровь, все окрасилось кровью… Так мне рассказал тот моряк, что был тогда там, на «Витторио Венето»… спустя много лет… разумеется, это легенда… как я плакала!.. мне было жалко мать, а еще больше – Луну… мне казалось: ее разрезали, Луну, и из нее течет в море кровь…
– Так вам уже так много лет, Моника?.. – невежливо спросила Светлана и покраснела в свете пламени костра. – В каком году был расстрел?..
– В сорок четвертом, o my God… а я родилась в сорок втором…
– Вы прекрасно выглядите, Моника, – глухо, хрипло сказал Леон. – Вы выглядите на мильон долларов. Я бы даже сказал – на два мильона.
– И что же было дальше?.. – Светлана затаила дыханье. – Как же вы жили дальше?..
– Дальше… – Моника закрыла глаза. Пламя освещало ее лоб, бледные впалые щеки. Сейчас ей, напротив, смело можно было дать все ее пятьдесят восемь: огонь безжалостно выхватил из мрака всю лепнину времени, весь антураж войн и голода, несбывшихся надежд и разрушенных иллюзий. – О, дальше… Дальше я повидала всю Европу, о май год. Всю Европу. Я жила тяжело и открыто. Я не боялась… ничего. Меня растил отец, а в тринадцать лет я пошла работать гладильщицей в прачечную. Потом – проституткой. Я работала в Лондоне проституткой. О, это очень, о-о-очень тяжелый хлеб. Веселый… иногда мы так веселились с подругами… with my dear friends!.. Мы выходили в Гайд-парк на свежую весеннюю травку… и там валялись, кувыркались, устраивали завтраки на траве… и police, вместо того, чтобы наказать нас, веселилась с нами… полисмены ложились с нами на траву и пели народные английские песни… правда, это мы напоили элем одного полицейского, ну, он и пел песни… я подпевала, Светлана, вы тоже поете?.. о, спойте… спойте чуть-чуть, a little… прошу вас…
Светлана набрала в грудь воздуху. Она не знала, что будет петь, но песня сразу вырвалась из нее – и полетела вдаль, над притихшим ночным лагерем, над ярко горящим в степной ночи костром.
– Прощай, радость, жизнь моя! Знаю, едешь без меня. Знать, один должон остаться, Тебя мне больше не видать… Темна ночь, ох, ноченька!.. Ой, да не спится… Помню, помню майский день, Как купаться вместе шли. Как ложились на песочек, На желтый, на мелкой песок… Темна ночь, Ах, ноченька!.. Ой, да не спится…Светлана пела, и голос несся вдаль вольно и горестно, и горечь песни вдруг обращалась в неистовую сладость: нет, не так, все выдумка, она меня простила, она меня истинно любит, а просто это я пою грустную песню в разлуке с ней, пою, плачу и умираю от любви… Она пела и слышала – Роман подошел сзади к костру.
И она пела для него, и он смотрел на нее сквозь огонь; и лицо ее, румяное от огня, смуглое, родное, он хотел взять в руки и исцеловать все, каждую родинку, каждую раннюю морщинку, каждую ямочку на щеке, все брови и ресницы, выгоревшие на солнце, золотые, нежные.
И Моника подперла щеку рукой, как русская баба, и тихо слушала. Ах, зачем она делает всегда то, что приказывает ей Армандо. Зачем она всю жизнь его так любит. Да, он вытащил ее со дна жизни там, у Понто Риальто, где она подрабатывала путаной – она, тогла уже не англичанка, а американка, рванувшая обратно в Европу пытать счастья в жаркой Италии, омытой морем, просвеченной солнцем. И она всю жизнь благодарна ему. Она всю жизнь отрабатывает ему свое счастье. Счастье?.. А какое оно – счастье?.. Вот люди рядом с ней счастливы. А она стала сейчас шпионкой, как ее мать, Цинтия. Дети наследуют родителей. Вот и старый век прошел, и новый течет. Время течет сквозь пальцы, как мелкий желтый песок. Золотой песок.
Он пришел в палатку. Они разворошили догоревший костер веткой. Пожелали друг другу спокойной ночи, разошлись. Роман зажег в палатке карманный фонарик, положил его на брезентовый пол. Не слишком ли много впечатлений, мистер доктор исторических наук, за последние полмесяца. Каково хоронить людей. Своих людей, из своей экспедиции. А может, он уже стар, и пора завязывать с этим делом?.. Тридцать одна экспедиция за плечами… Пора на покой?..
В нем взорвалось, взбунтовалось. Он закусил губу. Судорожно нашарил в кармане рюкзака записную книжку. Выхватил ручку. Его осенило мгновенно. Он напишет сногсшибательную статью. Подобную взрыву бомбы. Об уникальных находках в Измире и о криминале в археологии. Он бросит эту гранату под твой непрошибаемый танк, фарфоровый красавчик.
Он стал писать, быстро, зло, широким, размашистым почерком. В нем все горело, клокотало. Умирать?! Оставить поиски древних цивилизаций, неведомых сокровищ?! Никогда! Пусть статью обнародуют, а за ним будут охотиться! Он повсюду будет ходить с оружьем. Он или отстреляется, или погибнет от их рук, но он скажет миру правду.
Когда он, как в лихорадке, дописывал последние строчки, запечатлевая бешено бьющуюся мысль, брезент откинулся, и ночной воздух ворвался в палатку. На пороге стояла Светлана. Она быстро скользнула внутрь, и Роман поймал ее, дрожащую, в руки сразу, как большую птицу, как золотую рыбу, играющую в море своим радостным, сверкающим телом.
Они даже не смогли расцепить объятья. Упали, сплетясь, на спальник, расстеленный на полу палатки. Фонарик загас. Они сбрасывали друг с друга тряпки, как сухие листья. Когда они остались наконец голые и вонзились, вошли телами друг в друга, засмеявшись от радости, им показалось – они только что родились на свет.
… … …
Задорожный отправил факсом из Керчи статью, написанную им, в «Новую газету», культурному обозревателю Олегу Рыбникову, своему давнему другу.
Поехав катером в Керчь, он захватил с собой в рюкзаке меч. Он не рискнул оставить его в лагере.
Он никого не подозревал – он знал, что так будет лучше.
Спокойней для всех.
Гурий мрачнел день ото дня. Ежик слонялся, как неприкаянный, после работ в раскопе. Славка Сатырос бодрилась, даже улыбалась, шутила и беззлобно материлась, мешая поварешкой кашу, а на ее лице была написана такая невытравимая тоска, что хотелось крепко ее обнять и заплакать вместе с ней. Серега Ковалев рыл землю как проклятый. Он превратился в живой таран, в живой бур. Он говорил угрюмо: я терминатор. Лопата плясала в его руках. Он будто поставил себе целью отрыть в раскопе еще три таких меча и четыре золотых маски, по меньшей мере, а также царский трон, золотую гробницу, царскую корону и золотую сбрую царского коня. Почему эта нагая девушка, смеясь, сидит верхом на льве?.. Что, у них в царстве коней не было, что ли?.. Леон стриг бороду ножницами, сидя перед отломанным от старой машины узким зеркалом, пошевеливая босыми пальцами. Жара не спадала. Дождя все не было. Выжженная земля просила пощады. Абрикосы от жары превращались в садах, на ветках прямо в урюк. Сливы, поспевая, со стуком падали на землю. Мощная, как баобаб, шелковица, стоявшая у самого пыльного шоссе, бесхозная, как кошка, что гуляет сама по себе, сбрасывала наземь красные и черные гусеницы приторно-сладких ягод, как красавица сбрасывает серьги. В сизом колышащемся, огненном степном мареве сгущалось грозное, чему не было имени.
Жаркий полдневный ужас рождал виденья, вереницу туманных и пугающих призраков, ходивших стаями над морем, вившихся дымом над обрывом за палатками. Женщины просыпались ночью с криками: «Спасите!.. Убивают!..» Моника высовывала белокосую голову из палатки, нюхала воздух. Фотографии золотой маски, сделанные беднягой Страховым, были у нее в чемодане. Никто и не подумал о том, что она могла залезть, как скорпионша, в кейс начальника. Фотографии найденного меча тоже были у нее. Она на сей раз не утаскивала ничьей пленки, ничьих отпечатков. Она просто сфотографировала меч сама. Не тайно. Не украдкой. Открыто. Свободно. С милой улыбкой. Вытащив свою черную «мыльницу» «Konica» из сумочки. Объяснив свою просьбу тем, что ее дорогому мужу, профессору Бельцони, весьма интересно будет узнать, какой успех ждал великого Задорожного здесь, где встречаются Крым и Кавказ. Ведь вы не будете делать тайну из этой находки, господин Задорожный?.. Ведь вы передадите меч Пушкинскому музею, не правда ли?.. Ведь ваша экспедиция – не частная лавочка, так я понимаю?.. И Бельцони будет польщен тем, что вы ему, как, хм, достаточно крупному специалисту в археологии, бросаете такую золотую карту на стол… это же ваш выигрыш, профессор!.. Пока Задорожный открывал рот, чтобы хоть что-нибудь сказать, Моника уже беззастенчиво нажимала на кнопку. Раз, два – долго ли умеючи. Улыбка обнажила дырку между зубами, сбоку рта. Что ж ты, американка, так закрутилась, что хваленые белые до синевы голливудские зубы себе в Нью-Йорке не вставила.
Пусть щелкает, подумал Задорожный устало. Главное – меч у него. И он должен сберечь его до конца. До конца… когда они все соберут шмотки, свернут палатки…
Когда он вернулся из Керчи, Моника подошла к нему. О, мистер Задорожный, будьте так любезны… я хотела бы съездить в Керчь тоже… вы знаете, я попрошу вас, отпустите меня завтра в Керчь, у меня есть одна маленькая проблема… женская, видите ли… ну, это не разговор между мужчиной и женщиной… это медицинский вопрос… и милая Светлана, хоть она очень мила, и, я верю, знающая медсестра, тоже не сможет мне квалифицированно помочь…
«Езжайте», – кивнул он. А что ему оставалось делать.
Моника отправилась в Керчь. Держа в руках записную книжку с адресом и поминутно спрашивая народ: как пройти, как проехать?.. – добралась до явочной квартиры. Позвонила. «Кто?..» – выкрикнули за дверью. «Я привезла вам свежей икры», – сказала она по-русски условленный пароль. Ей открыли. Она видела этих людей впервые. Ее пригласили в комнаты, грязные, тесные, темные, с низкими потолками. Комнаты были все сплошь забиты книгами – книги стояли на стеллажах, в шкафах, на этажерках, лежали неряшливыми горками прямо на полу. Хозяин, открывший ей, высокий мужик, сутулящийся от собственной высоты, с тонким чуть загнутым хищным носом и тонкими поджатыми губами, оценивающе глянул на нее. Моника поняла – она стара для него; впрочем, он же не знает, сколько ей лет, а маленькая и тощая собачка все до старости щенок. Тонкогубый мужик подвел Монику к компьютеру. Склонился над клавиатурой, сгорбился, вошел в Internet. «Все, hot mail, горячая линия, бесплатная почта. Валяйте ваше сообщенье, а я пока отсканирую ваши изображенья. Где они?» Моника пошарила в сумочке, вынула сделанные снимки. Когда на экране монитора показался увеличенный фрагмент меча – рукоять с девушкой, сидящей верхом на льве, – тонкогубый мужик улыбнулся одним краем рта, как греческая маска.
«Стильная вещица!.. Давайте ваш электронный адрес! Куда отправляем?..» Моника сама села за компьютер, набрала свой собственный e-mail. Бельцони сегодня же, придя домой, распотрошит почтовый компьютерный ящик и вынет ее почту. Она из-за плеча поглядела на тонкогубого хозяина. А что, он не так уж и плох. Она встряхнула плечиком, выбившимся наружу из-под открытого ситцевого платья. Гляди, мужик, у меня еще плечики ничего. И губки намазаны перламутровой помадой. И вообще ты, stupido, не понял ни черта, что я иностранка. Ведь я говорю по-русски уже почти без акцента. Моя мать, англичанка Цинтия, тоже великолепно говорила по-итальянски, никто ее на кораблях от итальянки не отличал. Хотя она и была беленькая. Повадки старой путаны проснулись в Монике, вылезли наружу. Мужик клюнул. Он положил руку ей на плечо. Она скинула руку.
«Нет, нет!.. Никакого чая, кофе. Я не могу. Я опоздаю на последний катер в Тамань», – говорили ее губы, а ее глаза говорили: обними, ведь уже так мало земного времени осталось, ведь я же уже старуха, ведь фитиль веселья прогорел весь, без остатка. Когда тонкогубый привлек ее к себе, она уперлась в его грудь руками, отталкивая его, а губы с готовностью подставила для поцелуя. Этот связной будет нужен Бельцони. Задорожный ни в коем случае не бросит рыть тут, в Гермонассе. Хорошие отношенья не помешают. Женщина – это просто вазочка с розовым вареньем вовремя, к столу, к душистому чаю.
… … …
Хруст, как простуженный хрип, газеты, нервно развернутой, чуть было не разорванной. Черная газетная «шапка»:
«НАМ ДОСТАТОЧНО И СОРОКА ВЕКОВ».
Вот оно! Задорожный наконец-то раскололся!
Долго же ждал Кайтох, когда этот упрямый казак расколется. Ну вот, и написали запорожцы гениальное письмо турецкому султану. Все похабное, скандальное, уснащенное матюгами. Нет, конечно, не было матюгов в статье Задорожного, не было. Однако его сильно прорвало, как плотину. Вся накопившаяся горечь, весь гнев хлынули и затопили окрестности почившей на лаврах науки. А разве археология, помилуй Бог, это наука?! Это же ювелирная мастерская которую все время грабят! Где убивают огранщиков; где насилуют прекрасных заказчиц; где моют в крови простые булыжники, и они становятся рубинами, сапфирами и алмазами, а корявые железки – червонным золотом. Отличная статья! Именно такая, какую Кайтох и ждал.
Он хрустел газетой, впиваясь в статью глазами. Он позвал:
– Ирена! Ирена! Или сюда! Хорошо, что ты еще не улетела на Кавказ! Задорожный вывернулся просто наизнанку! Ну, наконец-то… Долго же мы ждали… Все, скандал! Полный и окончательный! Он взбесился, он же не знает никого, кто ему скрутил ручонки, он не знает наших имен… и у него нет фотографий и нет хотя бы одного подлинника из Измира!.. ну он и затанцевал, загарцевал, как конь… У него есть сейчас, правда, козырь. – Кайтох покривил губы. – Бельцони ляпнул, что они там откопали меч. Моника наверняка прислала по компьютеру его изображенья. Гляди, Ирена, как белая вошь перебегает тебе дорогу. Она верная жена… и расторопный работник. А ты?..
– Дай сюда газету. – Ирена грубо выхватила из рук Кайтоха «Новую газету». – А я, конечно же, нерасторопна. Я просто гречневая каша. Такую нам варила Славка.
– Кто, кто?..
– Славка Сатырос. Повариха. Когда прикажешь мне лететь?.. Я собираюсь лететь завтра. – Она бегло скользила взглядом по черным змейкам газетных строчек. – Я уже соскучилась по Ежику. Он, между прочим, там один. И он на беду еще втюрился. В одну тамошнюю девицу, в медсестру. – Она бросила газету на колени мужу. – Классно пишет Задорожный! Вам всем пощечина…
– Эта пощечина, милочка, стоит много миллионов долларов, – насмешливо сказал Кайтох, поглаживая скомканный газетный лист. – На это-то я и рассчитывал! Такому серьезному заявленью эти остолопы поверят! Он же не триллер пишет, а чистую правду. То, что было на самом деле. Он же ученый с мировым именем. Он же не базарный писака, кропающий историйки на потребу. Ты думаешь, наши богатеи не читают газет?.. Я, главный богатей, их же читаю!.. И они поймут, что их не надули! Что наш вернисаж – настоящий! Что это все – не Рождественские побрякушки, не елочные сусальные шарики и цепочки, сработанные в подпольных мастерских Москвы, а настоящее древнее золото, Золото с большой буквы! Ты представляешь, это же суперреклама! Теперь-то они раскупят все, оторвут с руками, с ногами… вырвут у меня из глотки, если я начну артачиться… выдернут с потрохами!.. Ирена, мы уже миллиардеры, ты понимаешь это?! – Он кричал. Пена выступила на его губах. – Мы хоть сейчас можем купить себе дом на Майорке, в Париже, в Сан-Франциско, в Лондоне, где хочешь, и переселиться туда, и жить спокойно, безбедно, зная, что и Ежик, и все потомки наши… будут… – Он захрипел. Его глаза сияли. – Будут первыми людьми мира, ты понимаешь это! Первыми!
Ирена смотрела на него жалобно. Она хотела что-то сказать. Не смогла.
– Ты видишь будущее?!.. Видишь?!..
– Я вижу, ты болен, Вацлав, – сказала она тихо. – Мы оба больны. Мы очень больны. Мы больше не выздоровеем. Мы погибли. Золото съест нас. Оно сожрет нас. Неужели ты не видишь, что от тебя остался уже один скелет?
Он с ненавистью покосился. Вскинул плечи под расшитой золотыми звездами, полосатой американской шелковой рубахой.
– Праведница!.. А кто подсыпал снотворное в стакан Илзе Эмбовице, когда надо было похитить побрякушки графини Коссель из замка в Тракае! А кто оставил Касперскому адрес Ивана Зайцева, чтобы доктор Касперский явился и замочил его просто влет! А кто…
Она схватила его за руку. Сжала крепко. Ей показалось – сейчас из его холодных пальцев брызнет кровь.
– Да, я! И я выдохлась, Вацлав! Я чувствую – еще немного, и я сойду с ума.
– Слабачка! Я-то думал – ты стайер! А я рад, я счастлив, что теперь не придется, ничтоже сумняшеся, везти сокровища куда-нибудь в Америку, их можно дорого, дороже некуда, продать в Москве, не отходя от кассы, не выезжая из родного дома – цены же после появленья этого пасквиля Задорожного в «Новой газете» вырастут в сто раз!.. а может, и больше… Это же снежный ком, Ирена! Все катится…
– Да, все катится. – Она бросила его руку и отошла к окну. – Все катится, Вацлав. И мне пора выкатываться.
Он утер ладонью рот. Поковырял ногтем зуб. Он был еще очень возбужден.
Что-то в ее тоне не понравилось ему. Очень не понравилось.
– Куда это?.. Уж не на развод ли ты собралась подавать?.. Я разонравился тебе как герой-любовник?.. ну, да всему свое время, Ирена… Время, знаешь, разбрасывать камни… мы уже все, что могли, разбросали, теперь собирать надо…
– Не бойся. Я не разведусь с тобой. Ты же без меня умрешь. Как и Бельцони без Моники. – Она улыбнулась нежно, слабо. – Да и Ежику травма. Оставим все как есть. Мне надо выкатываться в Тамань. Позвони в Домодедово, узнай, когда завтрашние рейсы в Екатеринодар.
Она стояла и смотрела вниз, через зеленый подстриженный английский газон, вдаль, на шоссе, где неслись, обгоняя друг друга, машины, как железное бешеное стадо. Вот так и люди. Они стремятся обогнать друг друга, а сами, сойдя с дистанции, умирают под деревом, под южной акацией с золотыми цветами, от остановки сердца, от разрыва аорты. Или, налетая друг на друга, наскакивая, врезаясь на полном ходу, расшибаются в лепешку, не успевая понять, что же произошло, зачем вместо них на дороге, близ кричащих людей, высыпавших из встречных машин, – лужа крови, месиво из костей и железа, кровавая каша под колесом.
… … …
Над ночным Стамбулом стояла полная Луна.
В луже крови, в лунном свете, в подворотне одной из узких и запыленных по уши стамбульских улочек около мечети Айя-Софии, подвернув под себя неловко, странно обнаженную ногу, лежала красивая смуглая девушка, закинув кверху, к мертвенному лунному свету и мерцаньям фонарей, лицо с приоткрытой, покрытой черным пушком губой. Она была мертва. Она лежала, выгнувшись странно и жалко, и ее черные густые волосы, развившись, купались в крови, стоявшей красным озерцом под затылком, как черные водоросли. Ее, видно, убили, когда она бежала – сбили влет, как птицу. И она упала навзничь, и больше не встала. Крови натекло изрядно из простреленной навылет груди.
Кто-то далеко, гортанно кричал в узком горле извилистой улицы: «О-о-о-оэй!..» Сухой ветер гулял вдоль дороги, взвивал мусор, листья смоковниц, окурки. Через ночную улицу бежала женщина, до глаз закутанная в паранджу, с мальчиком, крепко держащимся за ее руку. Они увидели убитую. Замедлив шаг, осторожно подошли к ней. Мальчик, засунув грязный палец в рот, спросил:
– Мама, а тетя просто отдыхает?.. Зачем она лежит в варенье?..
Мать дернула его за руку, приказывая замолчать. Наклонилась над лежащей. Расмотрела красивое лицо убитой. Поцокала языком. На убитой девушке было такое хорошее платье, прямо загляденье. Фарида себе такое не могла никогда ни сшить, ни купить. Будто из золотой парчи, все сплошь блестящее… будто сработанное из куска чистого золота… Платье странно, призрачно светилось в непроглядной стамбульской ночи, под фонарями, и желтое сиянье стояло вокруг убитой. Юбка задралась, и была видна вся великолепная, выхоленная стройная, как у породистой кобылицы, нога. «Проститутка, – подумала Фарида, поправляя паранджу, – портовая проститутка, не иначе. Их всегда так убивают. А платье жалко. Его можно бы и снять. И отмыть от крови… эта металлическая золотая парча ведь не натуральный шелк, искусственный, наверное, легко отмывается…»
Она ужаснулась своих мыслей и покосилась на мальчика, чернокудрого, красивенького, как божок, только замурзанного донельзя, сейчас в баню. Варенье!.. Ребенок еще не знает, что такое такая кровь. Он веселится… глазеет на эту барышню, лежащую в крови. Фарида наклонилась еще ниже. Ей показалось… да, это так и есть. На обнаженной груди девушки проблеснула золотая цепочка. Золотая… Мало ли в Стамбуле на девках дешевого, сусального золота, что можно купить на стамбульском рынке за пять, за шесть драхм у пьяненького растрепанного, как дервиш, лавочника… Фарида потянула цепочку на себя. Цепочка блеснула в лунном свете. Это золото настоящее. Она-то уж знает. У нее дядя был меняла. Она девочкой все пропадала у него в лавке, полной восточных древностей, загадочных и страшных масок, индийских ваз и персидских женских украшений, стирала пальчиком пыль с пузатых пустых бутылей, оплетенных корзинами. У дяди на медном гвоздике в резном шкафчике, что он открывал, важно подняв палец, фигурным ключом, висели женские нагрудные цепочки. Цепочек было много, целая связка. Все они были золотые. «Настоящее золото, – воздевал коричневый корявый палец дядя, – оно всегда отливает чуть в красноту, несмотря на яркий желтый оттенок. Есть, правда, и белое золото, есть золото, смешанное с платиной, его бывает трудно от платины отличить… или от дешевого сплава, которым дурят головы торговцы на рынке в порту… Чуть в красноту, поняла?.. но никогда – не до бронзы… не путай золотой с бронзой, она темная, как неприличный загар, как темно старое, сморщенное печеным яблоком лицо… Такой отблеск, знаешь, бывает на очень темных или на русых женских волосах: чуть рыжинка, красная искра… алый отлив… апельсин…» И дядя давал ей апельсин – прекрасный, отборный, сочный, из тетушкиного волшебного сада.
Те волшебные годы промчались. Она родила мальчонку от портового грузчика. Она осталась одна, замуж не вышла. Чем жила она на свете?.. Когда дядя умер, всю его лавку древностей растащили, расхитили: где – родня, где – уличные мальчишки. Она, сжав зубы и губы, успела схватить только с того медного гвоздя связку цепочек. Так и продавала их потихоньку – то хорошим людям, то плохим; а еще приторговывала на рынке хурмой и инжиром, мыла полы и натирала паркет у богатых, а еще плела корзинки, а еще… Ей не хотелось вспоминать про мужчин, что были у нее. Она не стала продажной шлюшкой, вот как эта девка. Она не сняла паранджу.
Да, цепочка на путане золотая… Пальцы, знавшие толк в золоте, тянули с мертвой шеи, тянули. Фарида потянула еще – и вытянула медальон. Тоже золотой?.. Луна высветила его – круглый, желтый, с темными рельефом, неровный. Старинный?.. древний… да, это старая вещь, быть может, даже очень старая… Фарида, дрожа, не обращая вниманья на крики и хныканья мальчика, что хватал и тащил ее за юбку, осторожно сняла с шеи у мертвой девушки золотую цепочку с медальоном. Пальцы сами нашли застежку. Пальцы сами открыли. Крышка откинулась на удивленье легко. Фарида заглянула внутрь. Ну да, конечно, фотография. Девка носила на груди фотографийку мужика, хахаля. А может, это ее брат, Фарида, не кощунствуй; а может, это умерший муж… Ты не знаешь ее судьбы. Несчастная. Аллах да смилостивится над ее душой. И над твоей тоже, Фарида, разве можно снимать с мертвых то, что им принадлежит по праву?!..
Она стояла под фонарем, около распростертого на асфальте в пыли тела, глядела на лицо мужчины в старом медальоне. Длинные черные волосы, висящие по плечам, неряшливая бородка в стиле «гарлем», постриженная ножницами нарочито небрежно. Какой мрачный, наглый взгляд. Вот ленивец, это уж точно. И свою девушку измучил. У него вид сутенера. Зачем мужику длинные волосы, это бабе пристало.
Лунный призрачный свет заливал мертвую и двух живых. На запястье девушки Фарида заметила красноватый след от тугого браслета – видно, кто-то уже стащил украшенье, может быть, сами убийцы. Фарида сжала в кулаке медальон. Портрет она выбросит, а золото наденет. Поносит немного, красиво смотриттся золото на черном наряде, потом продаст. И у них с Фаттахом будут снова динары. И мальчик снова будет есть коровье масло и хорошее мясо. Прощай, бедняжка. Не повезло тебе. А платье – жалко. Снимет все равно кто-нибудь. Хоронить тебя будут голую, простыней прикроют. Уж больно соблазнительно блестит драгоценная золотая парча.
Фарида повернулась и пошла по мостовой, волоча за собой хнычащего мальчонку. Медальон холодил ее сжатый кулак.
… … …
Светлана, стоя под падающими отвесно струями сооруженного Серегой из старой садовой лейки душа, – Ковалев придумал душ, чтобы можно было наскоро ополоснуться прямо во время работы в раскопе, не ждать вечера, чтобы бежать на море, и не томиться, – поднимая к безоблачному, раскаленно-сиреневому небу руки – ни облачка!.. хоть бы дождевая тучка набежала, о грозе уже и не мечталось!.. – думала о Жермоне. Она подумала вдруг, голая, поворачиваясь под теплыми солеными струями, льющимися из дырявого чана – Серега натаскал в «душ» морской воды, – что Жермон – убийца. Что это он – убил.
Она выскочила из деревянной кабинки, растерлась полотенцем, промокнула мокрый купальник. На лавочке около душевого закутка лежал венок из виноградных листьев и гроздь первого, еще кислого, винограда. Кто?.. Роман?.. Ежик?..
Тот, о ком она только что подумала, взял да вышел из-за куста тамариска. Вразвалочку подошел к Светлане.
– Та-ак, недотрога, – просвистел он сквозь зубы, – та-ак, птичка певчая. Меня, значит, ногой в пах, а под начальничка легла. Знает крошка дело туго. Знает кошка, чье мясо жрет. Да только со мной, кошечка зеленоглазая, ты ела бы совсем другое мясцо. Повкуснее.
Светлана возмущенно, яростно натягивала на себя джинсы, прямо на мокрые трусы. Влезала в выцветшую майку, на груди которой было размашисто написано: «SELENA». Кинула на Жермона острый, отталкивающий взгляд.
– Мне не нужна твоя пища, Гурий. Я ее не прожую. Жуй ее сам. Пусти. Я пойду работать дальше.
– Хочешь теперь царскую корону отрыть, кротиха?..
– Не оскорбляй меня. Отойди.
– Ты меня давно уже оскорбила, и я тебя не виню.
– Спасибо за прощенье. – Она отжала мокрые косы. – Великодушный.
Жермон сделал шаг к ней. Его глаза резанули по ней. У нее было ощущенье, что ей взглядом перерезали горло. Как Андрону – ножом.
Она отшатнулась. Если это он убил?!
Зачем он здесь торчит, он, теневой политик, подгребший под себя банки, счета, партии, журналистов, рекламу, инвесторов и кого угодно, здесь, в выжженной степной Тамани, на раскопках греческого города, ах, ну да, он же спонсор, он же субсидирует Задорожного… Роман с ним повязан… Роман ему должен, он необходим Роману… не дай Бог ей сказать сейчас что-нибудь такое, отчего он отнимет у Романа все деньги, кинутые им на обеспечение экспедиции, и тогда…
Брось, Светлана. Гурий все равно навредит Роману. И тебе тоже. Он подкопает яму под вас обоих. Потому что он знает все про вас. И все знают все про вас. На маленьком высохшем пятачке земли разве скроешься.
– Гурий, – она облизнула растрескавшиеся темные губы, – можно я задам тебе один вопрос?..
Она спросила это так резко и жестко, по-мужски, не вкрадчиво, по-женски, не наивно, по-девичьи, что теперь отшагнул от нее он. Его черные маслянистые глаза обхватили ее лицо, по которому он скучал, ее грудь и бедра, по которым он томился, изругивая, костеря себя последними словами.
– Ну, спрашивай. От меня не убудет.
– Гурий, это ты убил ребят?
Жесткий голос, рубит его на куски. Просто казачка с шашкой наголо. Бедная девочка. Как ее тут здорово тряхануло. Не выдержала. А крепилась. Медсестра профи, как она хорошо держалась возле трупов. Сразу видно – к смертям приучена. Как она мертвого Андрона в мышцу накалывала, лошадиные дозы камфоры вводила. Думала – живой.
– А ты как думаешь, козочка?..
Он, скользкий и обтекаемый, привыкший насмешничать, скрывать, острить, – палец в рот не клади, оттяпает всю руку, – нагло и изящно ушел от ее прямого, жестокого вопроса. Растопырь карман шире, девчонка. Так тебе убийца и скажет, что это он убил. «Да, это я убил, вяжите меня!..»
– Я никак не думаю.
Она повернулась и пошла прочь, перекинув полотенце через плечо. Он не дал ей уйти так просто. Схватился за край полотенца. Рванул к себе. Она чуть не упала назад, затылком на камни.
– Ты идиот, Гурий! – Она вырывала полотенце у него из рук, он не отпускал. Она тянула к себе – он подходил, вися на полотенце, как на аркане. Она подтащила его к себе, задыхаясь, испепеляя взглядом. – Что ты от меня хочешь! Гуляй! Не приставай ко мне!
Жермон цапнул ее за локоть. Вдавливая пальцы в ее загорелую руку, грубо привлек к себе. Сжал ее плечи. Задышал ей в лицо, как пьяный.
– Ты с ним спишь, я знаю. Спишь! А со мной не захотела!
– Это мое право, Гурий. Извини. Иди в раскоп. Пусти, ты наставишь мне синяки на плечах.
Жермон выпустил ее. Мужчина и женщина, какая чушь. Все это благоглупости, на самом деле. Пчелиное роенье, мышиная возня, вечная игра в страсть бесстрастной природы. Вот вернется он в Москву и надерется всласть в своей сауне, попарившись, можжевеловой водки. Эта девчонка вылетит из его башки после двух-трех ночей с отменными путанками с Малой Бронной и с Яузы. Клин клином вышибают! Дьяволова экспедиция! Задорожный за его помощь ему должен ему золотой памятник поставить. Так и быть, на покупку слитков он ему даст. Взаймы. Слишком много спонсорства. Слишком много людишек сейчас жиреют, едят и пьют и мягко спят за счет других людей, богатых. Ну и что, что он богат? Значит, он так и должен отваливать из своего кармана нищим, неимущим?.. Бог что, выдумал коромысло, и оба ведра, и золотое и жестяное, должны быть полны золотой водой доверху?.. Но так же не бывает, люди, дорогие. В том-то и весь смысл политики – разбить уравниловку, вернуть благородную разницу. Если б Бог в первые дни творенья создал все твари живые одинаковых размеров, клоп был бы величиной со слона. Как бы ты тогда, человек, своего клопа ночью прихлопнул.
Светлана сорвалась в раскоп, будто хотела разбить себе голову. Жермон обтер ладонями вспотевшее лицо. Он перехватил взгляд Задорожного, сидевшего на краю бассейна с деревянной лопаточкой в руках. Он глядел на идущую к медному тазу Светлану так, как древний грек глядел, коленопреклоненный, на стоявшую в Парфеноне во весь рост, обложенную золотыми пластинами Афину Палладу.
…Гурия Жермона нашли убитым на брезентовом полу палатки. Бедный, опьяненный призрачной властью, забавлявшийся на досуге археологией политик, он так и не сыграл главную партию в новой торжествующей и наглой финансовой симфонии измученной сменой бездарных дирижеров, отчаявшейся России.
… … …
Никто не видел ничего.
Никто не мог сказать ничего связного – как, когда это произошло. Серега помнил – сначала Светлана ушла в душ, ополоснуться, потом туда, за нею, увязался Жермон, сказав: «Пойду окачусь водичкой вслед за Светкой, жара такая, что мозги набекрень». Потом Светлана пришла в раскоп, потом… Что было потом, не помнил толком никто. Работали. Работали?.. Ну да. Все работали. Все вгрызались в раскоп, как мыши – в сыр. А потом Славка Сатырос и Леон, что при ней бессменно исполнял роль кухонного мужика, призывно забили на краю раскопа поварешками, как кастаньетами, приглашая всех на обед. А потом… Кто первым ворвался к нему в палатку? Кому он понадобился?.. И это уже никто не помнил. Словно тяжелое черное невидимое марево накинулось, как прозрачный креп, на лагерь, истомленный под лучами жестокого, беспощадного солнца.
Светлана не могла подойти к телу убитого, когда Ежик, с заострившимся носом, сам будто только выпрыгнул из палаты интенсивной терапии, выведенный из глубокой комы, – она помнила хорошо, как выглядели такие больные, – примчался к ней и Славке в палатку и, заикаясь от ужаса, сказал все. Она не сдерживала слез, хлынувших градом. Она не хотела ничего слушать, ничего – ни подробностей о ране, которая была колотой, такой же, как у Коли Страхова, – сердце, пробитое одним ударом, под ребро; ни обсуждений того, нужно или не нужно приглашать сюда московских спецслужбистов, чтобы они хорошенько подзанялись разгадкой тайны; она просто сидела и плакала, и слезы лились из ее глаз неостановимо, рекой. Задорожный созвал на скорый совет весь лагерь. Он сел на полынной поляне, все стояли вокруг него. Глядели на его ссутуленную сухощавую обнаженную спину. «Садитесь на землю, не стойте, – сказал он тихо, – нам всем есть о чем поговорить». Все сели. Задорожный обводил взглядом лицо каждого. По очереди. Ну разве может Ежик быть убийцей. А Славка. А Серега, с его осунувшимся от внезапного горя лицом, с глазами, кричащими в крик. А Леон, вечно небритый, старый хиппарь, Славкин помощник по кухне, надменный стиляга, нечесаный бородач, добрая душа. А Моника, белобрысая чехонь, иностранная козявка, все время теряющая свой черепаховый гребень, выпадающий из вылезших порядком волос. Научная дама, она-то тут при чем, бедолага?.. Еще была Ирена… Ирена… Где Ирена?.. Ежик уже волнуется не на шутку – от матери ни слуху ни духу. Исчезла, и концы в воду. Роман снова и снова ощупывал глазами лицо каждого, и люди выжидательно, затаив дыханье, глядели на него. Нет, это сделал не их человек. Никто из экспедиции не смог и никогда не сможет этого сделать. За ними следят чужаки. Они на крючке. На прицеле. Их держат на пушке, и, чуть они ворохнутся в сторону…
Его прошиб холодный пот. На прицеле.
Это они, точно.
Они, его измирские мучители.
Откуда они знают, что он здесь?!
Твои перемещенья по лику родной земли, Роман Игнатьич, вычислить совсем не так уж и трудно. Были бы люди наняты и подосланы, а остальное приложится. Ты ведь сам знаешь, до чего проста эта механика. Тебя же вычислила Хрисула в поезде, как голубя с меткой на лапке, хотя ты не голубь, и лапка твоя не окольцована. Это они. Будь уверен, это они. И они делают кровавую кашу из твоих людей, Роман, чтобы…
Чтобы – что?!
Он чуть не застонал. Очнулся. Махнул рукой.
«Ну, дорогие мои, влипли мы еще как… по первое число… давайте-ка собираться, складывать палатки…» Так бы надо сказать, конечно, так.
Все молчали. Он ясно услышал в молчаньи: приказывай.
И он сказал твердо и глухо, и голос его разнесся с обрыва над морем:
– Мы остаемся. Я приглашаю к нам засаду. Вызову двух-трех хороших ребят из Екатеринодара. Мы обезопасимся. Я снабжу их палатками. За нами охота, это понятно. Дамы и господа, простите меня, я сам не знал, что я так привлекаю убийц. Ведь всех здесь убивают… поймите это, я сам это уже понял… из-за меня. Из-за того, что это моя экспедиция.
Все молчали. Все молчали, опустив глаза в растрескавшуюся, как губы, землю.
– Согласны, Роман Игнатьич. – Серега поднял голову. – Давайте к нам ментов. Может быть, они изловят волка… спутают ему ноги. Я слышал, у вас у самого есть револьвер. А может… – Серега облизнул губы, передохнул. – А может, если у нас есть оружье, мы и сами справимся, Роман Игнатьич?.. и не надо мотаться в Екатеринодар, не надо никого звать… а то они… сами нам все тут прикроют… заставят нас убраться… а теперь, когда мы нашли меч, когда мы на пороге открытия…
– Открытие! – крикнула Славка Сатырос. – Вам бы только открытия открывать, полоумные ученышки!.. Вам бы лишь… свое удовольствие справлять! А человеческие жизни вам не в счет! Жестокие!
Славка размазала слезы ладонью по лицу. Светлана погладила ее по плечу, по полосатой тельняшке. Леон, такой же полосатый, придвинувшись к ней, погладил ее по другому плечу. Роман печально поглядел на них.
– Слава, вы правы. Я приглашу милицию…
– Не надо! – Серега часто дышал. Ручейки пота текли у него по лбу, и он смешно стряхивал их кончиками пальцев. – Мы сами! Я каждую ночь готов сидеть в засаде с вами, Роман Игнатьич, не спать, следить… вы же понимаете, стоит нам подключить сюда государство, милицию, власть, как нам все прикроют! Все, вы понимаете! Все!
Задорожный нахмурился. Серега прав. Но и люди тоже не свиньи на бойне. Он не имеет права больше рисковать людьми. Тело Жермона, сейчас, на жаре, пока ждут положенных по православному обычаю двух дней до похорон… Опять звонить в Москву. Опять оплата срочных рейсов. Опять встреча рыдающих родных. У Романа зазвенело в голове. Жермон был его покровителем, он, при всей его политической безалаберности и мафиозном копаньи в зарубежных банках, живо интересовался археологией, таскался за ним по свету, пребывая то в одной его экспедиции, то в другой… Жаль Жермона. А Всеволода – не жаль?! А Колю – не жаль?! К тому же все московские, да и все российские газеты пестрят скандальными, крупно набранными заголовками – «СМЕРТЬ ОТ БАНДИТСКОГО НОЖА ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА АНДРОНА», «ПОП-ЗВЕЗДА АНДРОН ГИБНЕТ ОТ РУКИ НЕИЗВЕСТНОГО КАВКАЗСКОГО ГОЛОВОРЕЗА В ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕРМОНТОВСКОЙ ТАМАНИ…»
– Мы остаемся, – сказал он. – Остаемся. Решено. Мы с Сережей будем каждую ночь сидеть в засаде. Днем за лагерем и за людьми будет следить Леон. Сережа, Леон, вы поняли меня?..
В наступившей тишине было слышно, как близкое море намывает на каменистый берег прибой под обрывом.
– Ну не плачь, не плачь… Только не плачь, пожалуйста… не плачь… ну я тебя прошу, не плачь…
Роман, прижав Светлану к себе, утешал ее, как издревле мужчины утешали своих возлюбленных. Он нежно прискивал ее к себе, ощущая, как пахнут сеном и горечавкой ее волосы, целовал ее в крендель золотых кос, в пробор, в закрытые глаза, из которых по смуглым щекам текли потоки слез. Гладил по плечам, чувствуя их неизбывный жар; чувствуя, как и в горе, в рыданье, в слезах она была по-прежнему желанна, все так же любима, и сама, сквозь рыданья, побеждая захлеб горя и потрясенья, прижималась к нему, любя его, желая его, предеваясь и подчиняясь ему, мужчине, возлюбленному.
– Светлана моя!..
Она обвила руками его шею. Вдохнула терпкие запахи его палатки – он всюду понатыкал букетиков душицы, полевой гвоздики, полыни, дрока, иного разнотравья, чтобы в палатке дурманно и духмяно пахло цветами, чтобы ей, Светлане, было приятно и радостно.
– А я с ним… с Жермоном… в Керчи… кофе пила!..
Она опять залилась слезами, теснее прильнула к Роману.
Она не сказала ему про ту страшную, уродливую сцену меж нею и покойным Гурием там, на ночном берегу, среди пантикапейских колонн. Зачем ему об этом знать? Это ее тайна. Бог спас ее от последнего ужаса, чтоб отдать ее цвет, ее кровь, плоть и душу тому, кого она полюбила впервые, сильно и навсегда. И это Бог подарил ей подарок. А могло быть все по-другому. У других и бывает чаще всего по-другому. Сначала настрадаются, потом встретят судьбу. А она встретила судьбу сразу. Навсегда… Ее руки, пальцы блуждали по затылку Романа, перебирая его поседелые жесткие волосы. Много старше?.. А ты помнишь, Светланка, что ты говорила Ежику тогда, на берегу?.. Забыла?.. И что такое навсегда, Светлана?.. Как и чем ты можешь поклясться, что ты полюбила Романа навсегда?.. Ты любишь его сегодня, сейчас. И ты доподлинно знаешь, чувствуешь это. Зачем же ты думаешь о Времени, о всесокрушающем Времени, которое, быть может, и пощадит твою любовь, убьет ее, сожжет, развеет ее прах по ветру?..
Навсегда… На всю жизнь… Роман отвел ее голову от своего плеча. Взял ее лицо рукой. Заглянул в ее любимые, зелено светящиеся глаза-изумрудины, глаза-крыжовничины, залитые слезами, плывущие, горькие.
– Я не допущу больше, Светлана, чтобы в моей экспедиции кто-то погиб, – едва слышно поклялся он. – Слышишь?.. такого больше не повторится…
Он нашел губами ее губы.
За брезентовым пологом палатки, на маленьком кусте акации, звонко чирикнула ласточка-береговушка.
… … …
Прошла неделя. В Гермонассе было все тихо. В Тамани – тоже. Окрестности просматривались с обрыва насквозь. Каждую ночь Серега и Роман не смыкали глаз – Роман, вооруженный револьвером, сидел в палатке, оставив открытой прорезь «молнии» – сзади, чуть посапывая, спала Светлана, и Роману казалось – он не столько сидит в засаде, сколько охраняет сон любимой; Серега так же бодрствовал в своей палатке, стоявшей напротив палатки начальника; никаких нападений, поползновений, посягательств на жизни и покой археологов больше не было. За Гурием прилетели из Москвы – но не родные, а политики, его друзья; в деньгах, предложенных Романом, они не нуждались. Они сами предложили помощь – людей, оружье. Роман поблагодарил. Конечно, люди, прибывшие для охраны экспедиции, принадлежали бы отнюдь не государству, а частным компаниям; однако Роман не знал, чем бы закончилось их пребыванье в Гермонассе. С мафиози работать невозможно. Сегодня он твой друг, а завтра… И с кого бы они стали брать деньги, и сколько бы запросили?.. Оставшись без Жермона, а значит, временно и без денежных вливаний, Роман призадумался о будущем. Его имя известно в мире, и субсидии на продолженье работ он сможет найти, дайте срок. А Пушкинский музей столь беден сейчас, что не может сам, без спонсоров, позволить себе делать новые закупки картин старых мастеров, скульптурных подлинников, драгоценностей раскопанных курганов и гробниц. Музей сам радовался тому, что у него, музея, есть Задорожный, а с ним и помощник Жермон. Жермона убили. Надо думать о деньгах, Роман. Надо думать о деньгах. Надо жить, работать, кусать кусок хлеба. А Светлана?.. Девочка хочет учиться петь… О будущей жизни они не говорили – о свадьбе, о жилье, о быте. Все сохранялось, как сокровище, в закрытом на замок сундуке молчанья.
Днем люди работали, а ночью было все спокойно. Звезды радостно светили над погруженным в сон лагерем. Море тихонько шумело, шепча прибоем на ухо земле ласковые, любовные слова. Как только небо обнимал золотокрылый рассвет, Роман совал «браунинг» под подушку, сбрасывал с себя джинсы, падал на матрац рядом со Светланой, и они оба забывались в том блаженном, божественном море объятий, улыбок, ласк, поцелуев, стонов и слез, которое в мире людском зовется – любовью.
Роман успевал днем соснуть – после обеда. Светлана сидела около него в палатке, стерегла его сон. Когда чья-то голова просовывалась в душную, накалившуюся но солнце палатку, Светлана махала рукой: уйдите, сгиньте, начальник отдыхает!.. Все знали все про них. Все любовались на них и, быть может, завидовали им – большой любви всегда завидуют, и есть люди, что сорадуются чужому счастью, как ангелы, а есть те, кто не прощает чужого любовного блаженства. Возможно, это была белая зависть. Они оба словно летали, порхали над землей, и любо-дорого было на них поглядеть. Они казались двумя большими птицами, то ли лебедями, то ли журавлями, с широким размахом вольных светлых крыльев, со взглядами, устремленными в будущее, вдаль.
Славка Сатырос сказала Светлане, вздыхая:
– Вот ты и зацепила себе шефа!.. Да, девка, ухватистая ты!.. а мне казалось, ты – сопля зеленая… Ну, теперь у тебя все решено… Будешь профессорская жена, будешь гостей в своей квартирке в Москве принимать… мужу пирог с мясом стряпать… а я… – Она махнула рукой. – Я – конченая швабра! Мне теперь дорога одна – в керченском порту «кометы» от блевотины после ночного рейса оттирать!..
Славка стояла около котла и лениво помешивала в нем густой хохлацкий кулеш. Разносился запах гречки, мяса, соленых огурцов. Тушенку Славка выковыряла из консервных банок, найденных в рюкзаке покойного Жермона, огурцы приволок Ежик с таманского рынка – его отрядили туда на коне Гарпуне, и он накупил для экспедиции картошки, моркови, огурцов свежих и соленых, чеснока и перца. Светлана глядела на ее почернелые от загара, грубые рабочие руки, на продранную на локтях тельняшку, на всю ее дикую и красивую южную стать, на черные усики над губой.
– Не переживай, Славочка, и не хорони себя прежде времени, – Светлана улыбнулась ей, сделала пальцами рокерский знак: «V» – «Victoria» – «победа». – На всякой улице должен быть свой праздник! А скажи, ты и правда гречанка? – вдруг спросила она. – Сатырос – это что за фамилия?..
– Греческая, сомневаешься, – Славка дернула полосатым плечом, вынула из котла поварешку, вытянув губы трубочкой, попробовала горячий кулеш, с шумом втягивая его в себя. – Мой отец был керченский рыбак, очень знаменитый. Он отправлялся в море на шаландах… и знаешь, сколько рыбы притаскивал!.. тьму, ужас… я выбегаю утром из дому, а отец в шаланде стоит у берега, качается на корме, как пьяный… ну, он и часто бывал пьяный… а шаланда блестит на солнце – смерть!.. вся в серебре, в золоте… до бортов полная рыбой… Я уху поэтому с трудом варю, не могу варить, в детстве ее наварилась, аж тошнит!.. мы ели рыбу, спали на рыбе, дарили рыбу на день рожденья…
– Рыба, – раздумчиво Сказала Светлана. – Христос накормил рыбами много народу. Он сказал своим ученикам: закиньте сети!.. – и те закинули – и выловили много, много рыбы, может быть, это даже была кефаль… и сети выволокли на берег, и народ подходил, и пек рыбу в кострах, и ел…
– А ты образованная, мать, – с уваженьем сказала Славка, снова опуская поварешку в огромный котел. Огонь костра под котлом был почти невидим в солнечных лучах, призрачен, белесо-бесплотен. – Откуда ты все это знаешь?.. Пойду-ка дам Гарпуну крупы, насыплю в торбу. Бедный лошак, ему-то еще жарче, чем нам, он ведь в шкуре.
Кулеш имел успех. Жара спадала. Роман решил слегка развлечь людей, утомившихся от ожиданья очередного ужаса. Он решил устроить ночное катанье на лодках. К тому же сегодня наконец вернулась Ирена Кайтох, жена его шапочного знакомого археолога Вацлава Кайтоха. С Вацлавом Роман познакомился в южной Франции, на раскопках древней античной столицы Галлии – Виены, и ему тогда показалось, что Кайтох – не слишком большой профессионал; так, дилетантик, увлекавшийся в свое время археологией, как-то вылюдившийся, вырвавший у жизни право сколачивать экспедиции и раскапывать сокровища. Есть лицензия на ношенье оружья; есть лицензия на проведенье раскопок, и лицензия эта – твои профессиональные знанья. Задорожный понял: Кайтох не шибкий профессионал, но оборотистый умник. Ничего, в истории человечества часто так бывало, что именно дилетанты делали потрясающие открытия. А Ирена ему понравилась. Она и тогда была во Франции, во Вьенне, вместе с мужем. Хохол, он испытывал слабость к хорошеньким полькам. Эшче Польска не згинела, Роман, да?.. А вильна Украина?.. Он оставил Кайтоху свои координаты, и они иной раз созванивались, перебрасываясь парой-тройкой светских фраз. Однажды, когда они так говорили, Задорожному показалось: Кайтох за ним следит. Это было странное, мгновенное и резкое чувство – будто ножом полоснули по сердцу. Потом оно исчезло. Он пожал плечами и посмеялся над собой. А об Ирене вспоминал тепло. Вспоминал, как она там, на раскопках Виены, приносила ему в жару бутылочки с грейпфрутовым холодным соком; где она только добывала его на таком ронском пекле – кисло-сладкий, ледяной?.. Поэтому, когда она заявилась к нему в Москве и попросилась к нему в таманскую экспедицию простой работницей, он, не раздумывая, согласился.
Спустился вечер. Роскошный южный вечер, какой всегда спускался на таманскую землю после целого дня изнуряющей жары, казавшегося людям вечностью: с мерцаньем крупных звезд в вышине, сначала напоминавших нежные перлы, потом, когда тьма сгущалась, – лучистые, переливающиеся всеми цветами радуги алмазы, с поднимавшимся легким бризом, треплющим волосы, с обостряющимся к полуночи запахом йода от выбрасываемых настойчивым прибоем на берег водорослей. Роман сбегал в рыбсовхоз, на лодочную станцию, и, привязав к моторке-«казанке», притянул к обрыву Гермонассы три деревянных весельных просмоленных старых лодки. «И пропадут в море – не жалко!.. – махнул рукой встрепанный, под хмельком, лодочник. – Бери!.. Старье такое!.. Утонут – будут шалаши для кефали, бляха-муха…» Роман дал лодочнику денег, и старик был доволен. Вечерняя чекушка от него уж не убежит. Шинкарка Милка на краю Тамани, у шоссе на Темрюк, куда он смотается на дряхлом, звенящем свеми спицами, велосипеде времен первого полета в космос, вынесет ему водочки хоть в два часа ночи, и он выпьет под ясными звездочками за ее здоровье…
«Не одевайтесь цивильно, господа, накиньте на себя все пляжное, будем купаться! – Роман оглядел чистый, безоблачный горизонт. Нет, грозы нынче опять не предвидится. – Будем отдыхать, ребята, немного освежимся, отвлечемся… поглядим на море, на звезды… природа, ведь она лечит любое горе…» Он не стал продолжать, махнул рукой, как тот, чуть подвыпивший старый лодочник. «Я убью тебя лодочник!» – хрипит, поет питерский рок-чудила, Профессор Лебединский. Какую песню споешь ты, профессор Задорожный, и кому, если кого-нибудь из твоих людей опять… Не думать. Не думать об этом. Сегодня полночи они будут болтаться в теплом море на лодках, а полночи они с Серегой снова будут пялиться в ожиданьи убийц. Провалитесь к чертям, все убийцы! Сегодня он дарит подарок всем – ночное море. Он дарит ночное море Светлане – ведь она никогда еще не каталась на лодке ночью по морю, никогда не купалась, бросаясь в море с лодочного носа. Никогда?.. Откуда ты знаешь, Роман… Может, такое у нее и было…
Тебя, тебя у нее не было никогда.
Сколько Бог отпустит им времени – столько они и будут вместе. Он не будет загадывать о большем.
Лодки были отвязаны от колышков. В первую лодку сели Светлана и Роман; во вторую – Ирена с Ежиком, до полусмерти обрадовавшимся приезду матери, и Леон; в третью – белобрысая Моника и Сергей Ковалев. Близилась полночь, но никто не хотел спать. Все были странно возбуждены, хоть и не слишком разговорчивы, скорее молчаливы. Что было веселиться, кричать и гомонить?.. Призрак смерти витал над маленьким экспедиционным лагерем, и сегодня люди хотели, хоть на минуту, хоть на эту вот ночь, забыть о нем.
Роман взмахнул веслами, сделал мощный гребок. Его лодка, самая большая, поплыла первой. «Как предводитель эскадры», – подумал он. Ну, никакой гигантский спрут, никакие торпеды врага не погубят его армаду, это уж точно. Морских змеев возле Тамани нет, разве только медузы…
За лодкой Романа следовала, разрезая маслянисто блестевшую темную воду, лодка Сереги. Серега оживился, чуть повеселел, даже засвистел сквозь зубы по-мальчишески. Моника церемонно, будто на светском приеме, сидела на корме. В ее волосах торчал неизменный черепаховый гребень. «Хоть бы вынула», – неприязненно подумал Задорожный. За Серегиной лодкой плыли Ирена и Ежик, Леон был на веслах.
Ночное небо висело над морем, звезды стояли низко, как будто сверху свесилось непроглядно-черное траурное покрывало, и жемчуга, рассыпанные умелой рукой по черной ткани, почти касались чуть волнующейся воды. Звезды можно было достать рукой. Если лечь на дно лодки – они внезапно поднимались вверх, опять становились недосягаемыми, холодно-тайными, как древние письмена, что никогда уже не прочитать. Часы шли, века проходили, а звезды крутились вокруг Небесного Кола – Полярной звезды; пройдут еще века и тысячелетья, и Полярной звездой для землян станет Гамма Цефея. Луна, казалось, дремавшая низко, у горизонта, теперь выкатилась почти в зенит и стала высоко над морем, разливая вокруг розово-золотой свет. По черной, маслено блестевшей глади моря, чуть тронутой легкой рябью, бежала розовая лунная дорожка, уходившая во тьму и бесконечность. Светящаяся дорожка уходила прямо в сияющий над головой Космос, соединяя небо и море. И свет образовывал золотой круг. И внутри этого светящегося круга стояла тьма; и во тьме плыли люди; и они, как и века назад, не знали, куда плывут. Звезды иногда осыпались в море, срывались с места и стремительно скользили вниз, прочерчивая по небу огненную, быстро гаснущую полосу. «Метеориты», – шепнул Задорожный Светлане. Она улыбнулась ему. В лунном свете сверкнули ее зубы, белки ее глаз. Ее колени касались его коленей. Он едва удержался, чтобы не бросить весла, не подойти к ней в лодке и не расцеловать ее у всех на глазах.
Здесь, в море, сильнее и острее пахло йодом, чем на берегу. Иной раз лодка запутывалась в скопленьи водяной травы, и приходилось отодвигать змеиные водоросли веслом, чтобы плыть дальше. Светлана вскрикнула, увидев за бортом маленькие вспышки, светящиеся точки. Звезды в ночном море!..
– Это медузы, – Серега ударил веслом, подняв тучу брызг, – их тут тьма… они ночью выплывают из глубин моря и подходят близко к берегу, но они не опасны, они безвредны… хоть и фосфоресцируют… можно купаться!.. вот медуза-крестовички, это да… они сюда заплывают очень редко, они ютятся поюжнее, около Анапы, Туапсе…
Лодки плыли медленно, как лебеди. Золото-розовая лунная дорожка колыхалась, мерцала, заманивая пойти по ней босыми ногами. Светлана опять вспомнила Христа. Вот так просто встать… раскинуть руки… и пойти, пойти босиком по волне, глядя вдаль восторженно и светло… Для этого надо сильно верить. Как?.. Во что?.. В кого?.. Прошло время древних богов. Она крещеная, и мать сама надела ей на грудь в далеком детстве крестильный крестик; но он запрятан сейчас в шкатулку, лежит себе там среди дешевых девичьих украшений, а она, особенно летом, стесняется его носить… Вера – не на груди; вера – в душе. Чему, кому открыта ее душа?.. Для нее теперь Богом стал Роман. Вот он – ее Бог, там, на корме, вздымает весла, улыбается ей. Для женщины ее мужчина – всегда Бог. Может, это женщина и увидала первой Бога на земле, чтобы люди потом молились Ему?..
Лодки отплыли от берега уже на изрядное расстоянье. Морская ширь расстилалась вокруг. Простор пьянил, кружил голову. Звезды надвинулись, встали сияющим павлиньим опахалом вокруг головы. И постепенно море начало светиться.
Море начало странно светиться, и свеченье усиливалось, чем дальше лодки отплывали от берега в открытое море. Светлана видела свеченье моря впервые. Ей казалось – они плыли по огромному драгоценному камню, насквозь прозрачному, и внутри камня пылал огонь, и можно было опустить руку, чтобы коснуться холодного, призрачно-фосфорного, чуть зеленовато-золотого огня. Она не удержалась, опустила руку за борт.
– Какая теплая вода!.. давайте купаться…
– Светулик, это светится планктон. Он фосфоресцирует, особенно летними ночами, перед грозой. Скоро будет гроза…
Она не слушала объясненья Сереги. Она видела – пылает драгоценный камень, рубин, изумруд, халцедон, и вода переливается, заманивая вглубь, и это все живое, и живому нет конца. Неужели мы все когда-нибудь умрем?!..
– Давайте купаться!.. какое чудо…
Она сбросила пляжную легкую юбку, кофточку-фигаро. Роман глядел на нее восхищенно, когда она, стоя на носу лодки, выпрямилась и подняла руки к звездам, готовясь к прыжку. Ежик не сводил с нее глаз. Серега крикнул:
– Амфитрита, Тетис!.. Передай привет дельфинам!..
Она прыгнула в море, и тут же, будто привлеченные возгласом Сереги, рядом с лодкой Романа мелькнула гладкая черная спина морского животного, еще одна, еще одна… Ежик пронзительно закричал:
– Дельфины! Дельфины!
Звери, приплывшие к людям из ночной пучины, играли в воде. Они приглашали поиграть с ними людей. Они соблазняли их. Светлана увидела дельфинов, вскрикнула. Роман хотел подгрести ближе, испугавшись, – и увидел, как дельфин кувыркается рядом с его любимой, и она повторяет его движенья, она играет вместе с ним! Вот зверь поднырнул под Светлану. Вот она бегло, мгновенно погладила гладкий мокрый блестящий бок рукой. Взвизгнула от восторга. Перекувырнулась в воде, сама, как дельфин.
Серега уже скидывал с себя рубаху. Ринулся в море вниз головой.
– Вы расшугаете дельфинов, Сережа!.. – крикнул ему Роман. – Ну вы и циркач!..
Ирена расстегивала халатик. Она жалобно оглядывалась на сына.
– Ежик, ну я же боюсь здесь купаться… здесь глубоко… я же никогда не купалась в открытом море!.. не толкай меня…
Ежик кричал:
– Прыгай, прыгай, мама, прыгай!.. а я потом, за тобой… сначала ты!..
Ирена упиралась. Ежик схватил ее под мышки, поднял. Он, смеясь, столкнул ее через борт лодки в ночную, светящуюся изумрудом и золотом воду.
Она завизжала, потом, отфыркиваясь, поплыла.
Дельфины играли, блестя черными спинами, в светящейся в ночи воде, и Светлане казалось – они улыбаются, смеются. Она чувствовала себя повелительницей моря. Она была нынче ночью – морская царица. И морские звери, диковинные и красивые, слушались ее. Они, выпрыгивая из воды, касались гладкой кожей ее ног, и внезапно она вспомнила выцветшую мозаику на дне высохшего бассейна Гермонассы – Афродиту с дельфином. Богиня сидела верхом на черном чудище – подобно тому, как сидела девушка верхом на льве там, на золотой рукояти царского меча… Волны, испускающие свет! Играющие звери! Возлюбленный на корме лодки, сложивший спокойные весла, с лопастей которых капала медленно вниз соленая вода… Господи, какое счастье… Светлане даже захотелось глотнуть, как вина, соленой светящейся воды; она подумала о том, какое счастье вот так занырнуть, вместе с любимым, на дно моря – и, слившись в объятье, погрузившись в свет, задохнуться в поцелуе, никогда уже не выплыть… остаться навек – морскими царями…
Она, вынырнув, увидела, как плавает вокруг лодки Ирена; как Леон, стоя на корме, изготавливается к прыжку.
– Роман! – крикнула Светлана. – А ты! Что же ты!.. Тут такая роскошь!.. Прелесть!.. Дельфины такие гладкие, ты знаешь!.. Торопись, прыгай, а то они уплывут!.. И вы, Моника, что ж вы все так долго думаете!.. Такое только раз в жизни бывает!..
Моника сначала опустила ногу с борта лодки, перевесившись, пробуя воду, потом осторожно, как в кипяток, соскользнула в море. Фосфоресцирующая вода обняла ее худенькое тело, и она показалась Светлане костлявой ископаемой рыбкой, застывшей в куске янтарной смолы. Выяснилось, что Моника хорошо плавает. Светлана помнила ее откровенья у костра и подумала, что дочь английской шпионки, американская оторва, промышлявшая ночным ремеслом в Италии, должна и впрямь отлично плавать – правь, Британия, на море! И там, в солнечной Авзонии, где-нибудь на берегу венецианской лагуны, ты, тогда еще молоденькая Моника, показывала класс – и брассом, и баттерфляем, – и на пляже на тебя обращали вниманье лучшие, самые загорелые и мускулистые кавалеры… «Parla signora l’italiano?..» Ее мать воевала с итальянцами – дочь вышла замуж за итальянца. Вот весь мир, и он – на ладони. Он – весь плещется у ног, как этот дельфин, гладкокожий, блестящий умным маленьким глазом…
Ночь шла. Созвездья катились колесом по ободу тьмы. Вода в море была очень теплой – такой теплой, что Ежик, фыркающий уже тут, рядом со Светланой, кричал, пуская пузыри: «Парное молоко!..» Последний дельфин выпрыгнул свечкой из воды, хлестнул хвостом по светящейся, покрытой рябью черно-золотой глади и исчез. Дельфинья стая исчезла, как ее и не бывало. Может быть, звери людям только приснились?..
– Мы не хуже дельфинов! – Роман стоял обнаженный в лодке, растирая плечи. Набрал в грудь воздуху. – Мы продолжим игру!
Он ушел под воду бесшумно, без брызг, вошел, как нож в масло. Под водой схватил Светлану за талию. Они обнялись в воде. Он вынырнул. Их мокрые, соленые лица соприкоснулись.
– Ты с ума сошел, Рома… здесь, в море…
Они целовали друг друга прямо в море, как тогда, в первый раз, паря в волшебно, призрачно-светлой воде, и тьма над их головами вспыхивала тысячью новых звезд, и, отрываясь друг от друга, ныряя, плескаясь, переворачиваясь в воде, они размыкали объятья, чтобы через миг сплести их снова. Светлана, засмеявшись, сделала резкий, широкий гребок в сторону.
– Это уже насилие, Роман!.. Не позволю!..
Она поплыла прочь; он – за ней. Серега и Ежик кинулись наперегонки по искрящейся глади. Море стало удивительно спокойным, гладким, как зеркало. Ветер утих; рябь улеглась. Толща золотой воды стояла недвижно и тихо, как в бочонке, как в бассейне. Гладкое, отшлифованное лучшими мастерами, золотое твое зеркало, царица… Глядись в него. Ты увидишь там красоту свою.
На миг перед Светланой мелькнули мокрые, черные, слипшиеся от соли волосы Леона. Хоть бы забрал он их в хвостик какой, что ли, прежде чем прыгать в воду, раздраженно подумала она. Леон распластался всем своим длинным, долгим телом по поверхности прозрачной светлой воды – было видно, как пряди ламинарии ходят под ним, повторяя колыханье его длинных волос, – потом нырнул, исчез из глаз, как тот последний играющий дельфин.
– Леон!.. Леон!.. – позвала Светлана, взмахивая руками, рассекая прозрачную теплую соль. – Роман, давай вон туда, до края лунной дорожки, наперегонки!.. Ежик, давай с нами!.. Серега!..
Моника, устав плавать, держалась за край лодки. Странно, плавая, она не потеряла вечно теряемый ею на суше черепаховый гребень. Она, улыбаясь, промолвила по-итальянски:
– Che bella notte!
Луна, висевшая над морем, стала еще больше, еще круглее. Она стала похожа на огромное желтое яблоко, верней, на его сладкий срез; медовый свет струился на ночное море, и два света спорили, кто волшебнее – морской или лунный. На ней, огромной, приблизившейся к земле, были ясно видны все щербины, все впадины и тени. Изрытое временем лицо, лик Луны. Сколько веков вот так он глядит на землю. Сколько людей глядело вот так же на нее, задрав голову вверх, к небу… молясь священной Луне, боясь ее, страшной владычицы ночи и живых душ, вымаливая любви для себя, прося у нее прощенья… Луна, ты тоже женщина. Ты всегда помогала женщинам в любви. Прилив, вызываемый тобой, – не есть ли прилив любви моря к тебе, прилив его горячей, соленой крови – к твоему равнодушному золотому подножью, к застывшим в вечной улыбке щекам?..
Они поплыли наперегонки.
– Где Леон?.. пусть плывет с нами…
– А, он нырнул!..
В ночном море, во вспышках огней, в сполохах и сиянье лунной дорожки незаметно было, как голова Ирены, мотающаяся над поверхностью воды, ушла под воду.
Когда-нибудь они должны были насытиться ночным морем.
Было так тихо, что было похоже – и вправду далеко, на краю света, собирается гроза.
Все влезли в лодки, расселись; Леон отжимал мокрые космы, как женщина, и Светлана снова содрогнулась от непонятного ей самой отвращенья. Роман оглянулся, пересчитывая народ.
– Все на месте?..
– Мамы нет! – крикнул Ежик.
Роман обеспокоенно вгляделся в морскую даль:
– Ну что ж это такое!.. Куда ж она уплыла, так далеко!.. Ежик, она плавала рядом с тобой?.. Ты не помнишь?..
– Не помню, – Ежик встопорщил ладонью мокрые рыжеватые волосы, – ничего не помню… сначала была вроде рядом, а потом…
– Ирена!.. Ирена!.. – громко, как иерихонская труба, позвал Серега.
Спокойное море молчало. Не отвечало. Лишь светилось изнутри – ровно и нежно.
Роман побледнел – Светлана видела это даже в свете звезд, в призрачном свете моря под днищами чуть покачивающихся на глади лодок. Нос их лодки разрезал столб лунного света, и вода играла радужно, маслянисто под просмоленными лодочными досками.
– Все понятно, – сказал Роман, – она решила подшутить над нами, она поплыла к берегу, чтобы нас обогнать, давайте поплывем и мы к берегу, она, должно быть, уже ждет нас на берегу, вот смеху будет…
– Мама плохо плавает! – пронзительно крикнул Ежик. – Она так ничего себе плавает… но только около берега… а далеко она плавать боится… Роман Игнатьевич, смотрите, здесь до берега так далеко, Роман Игнатьевич!..
Роман поглядел вдаль. Ночной берег Таманского полуострова пропадал в сизой дымке – таким дымчатым налетом покрываются спелые сливы. Да, и верно, далеко. Хороший пловец, конечно, осилит такое расстоянье без особого труда. Но не слабая женщина… которая, к тому же, по словам сына, плавает не ахти как…
По щекам Ежика уже текли слезы. Леон, взявшись за весла, глядел на него.
– Роман Игнатьевич, давайте искать здесь, ну, Роман Игнатьевич!.. может, у нее ногу судорогой свело, может, ей плохо стало… давайте нырять, а!.. ну пожалуйста…
– Серега! Леон! – Голос Романа стал жестким, как железо. – Ныряем! Я плыву туда, вы ищете здесь!
Они ныряли долго, пока по-настоящему не замерзли даже в теплой воде. Никаких следов Ирены. Вода потихоньку переставала светиться. Волшебство улетучивалось. Моника ежилась в лодке, у нее зуб на зуб не попадал от озноба. Светлана вцепилась пальцами в весельные уключины. Какое проклятье тяготеет над ними, висит, словно красный кровавый Марс над проливом.
– Поворачиваем!.. Ежик, все-таки она уплыла к берегу… точно, поплыла… вода теплая, и твоя мать вполне могла ошибиться в расстояньи, ей показалось, что берег рядом… такое бывает даже с опытными пловцами…
Они повернули лодки, стали грести. Светлана молчала. Она накинула на себя безрукавку-фигаро, обхватила себя руками за плечи. Роман, гребя, пробормотал:
– Не надо, Светлана… не смотри так… я думаю, Ирена уже ждет нас на берегу…
– Не надо, Роман, – ответила она ему его словами. Ее глаза точили черную, горькую зелень. – Ирены нет на берегу. Я знаю.
Когда они доплыли до берега, до родимого обрыва, и лодки ткнулись носом в береговые россыпи заросшего водорослями и мхом известняка, шел уже четвертый час ночи. Созвездья сменялись на небе. Теперь был уже виден Орион – созвездье зимнего неба. Вот она и зима летом. Довольно лишь поглядеть на предутреннее небо.
Светлану била такая дрожь, будто и вправду выпал снег.
Ирену не нашли и на берегу.
Целый час по берегу ходили мужчины и кричали: «Ирена-а-а!.. Где ты, Ирена?!..» Им отвечала тишина.
И тишину разрезал отчаянный, жуткий крик Ежика, далеко разнесшийся по пустынному берегу, под сверкающими, видными и зимой, звездами.
… … …
У Олега Рыбникова, культурного обозревателя «Новой газеты», сегодня была вылазка в свет. Один из его приятелей, крупный бизнесмен, занимающийся нефтью и, как рыба прилипала, присосавшийся к компании «Лукойл», протаскивал Олега на экзотическое действо – на подпольную распродажу сокровищ из Анатолии. Приятель сам узнал о распродаже случайно; он был не прочь попрыгать на завлекательной тусовке, а Олега он тащил туда именно потому, что Олег был – пресса, Олег был – масс-медиа, и Олег, путем внезапно вырвавшихся из-под покрова тайны, как гейзер, скандальных публикаций мог придать этой распродаже привкус мирового шоу. Все тайное становится явным, – старая истина. Там более, Олег в «Новой газете» обнародовал скандальную статью некоего Романа Задорожного о находках в Измире; не те ли самые находки будут сегодня распродавать?.. Подпольный аукцион – это тебе не Кристи, не Сотбис. Это конфетка повкуснее, но с алкоголем – со сладким ромом или с горькой водкой. Олег еще никогда не угощался таким лакомством, поэтому он готовился к походу морально и физически: подбрил свои чеховские усики и бородку, вырядился в классическую серую «тройку», подумал – и воткнул в карман жилета модный брегет с цепочкой. Он замаскировался под бизнесмена. Пусть никто не заподозрит в нем журналиста. Никто не должен знать, кто он. «Рыбников?.. А это кто?.. Ах, это знаменитый нефтяной магнат, друг Кривошеина… вот он-то и купит золотой царский щит!..»
Олег судорожно соображал, в каком же банке будет якобы лежать его счет. В Мост-банке?.. В Диалогбанке?.. В Онэксим-банке?.. Розыгрыши, детский сад… Зачем все это. Он пойдет туда и будет внимательно смотреть на лица людей, на жесты рук, слушать разговоры, будет говорить с людьми и расспрашивать их – независимый, беспристрастный, видящий ситуацию насквозь. У «Новой газеты» имидж правдивости и беспристрастности. Надо поддерживать имидж, поелику возможно.
В редакционной машине его подвезли на Каширское шоссе. За высокой чугунной оградой зеленел широкий английский газон, вдали просматривался великолепный трехэтажный особняк, с виду – просто дворец, даже и лепнина на фасаде, и фальшколонны, и скульптурные фигурки на фронтоне – просто Эрмитаж. Перед чугунной оградой роились подъезжающие машины. Гляди-ка, как у американского посольства, подумал Олег весело. И впрямь он попал, как кур в ощип. В жилу он оделся, в точку попал с серой «тройкой». О, действительно черный посольский «кадиллак» Кеннета Фэрфакса! Олег узнал его – Фэрфакс приезжал в «Новую газету», давал ему интервью, связанное с вопросами культурных связей России и Америки. Не слабая компашка тут собирается, вот народ повеселится!
Когда он вылетел из скромного редакционного «москвичонка» и побежал по дорожке к входу, уже вечерело, и в сумерках он заметил, как мерцают жемчуга на шеях высокопоставленных дам. Жены политиков, небось. Развлекаются. Странная традиция русских политиков – сначала бороться за власть, размахивая лозунгами: за народ, во имя народа, для народа! – а потом, добившись власти, захватив скипетр и державу, все грести под себя, все делать только для себя, во имя себя. Этой болезнью болеют все правители, без исключенья. А народ все продолжает надеяться на «доброго царя». Олег глядел на красивых, сытых и дородных дам, шествующих мимо зеленой газонной травки по гравиевой дорожке к парадному подъезду особняка, и думал: человек во все века один и тот же. Человек слаб. Человеку важно захапать побольше – я, мне мое, моей жены, моих детей, – а там хоть трава не расти. Политика – это доступ к большим деньгам. К деньгам, имеющим свойства сверхтекучести и сверхпроводимости. К деньгам, о которых никогда не узнает озлобленный и забитый народ – он может о них только догадываться, кусая кулаки. К деньгам, которые одни и составляют истинное счастье жизни, и зря дурак Пилат вопрошал беднягу Иисуса: «Что есть истина?» Истина – вот она, и она проста. Она проста, как прост зеленый доллар; как просто желтое золото; как проста улыбка сытой, красивой и довольной жены властителя, взошедшая над мерцающим жемчужным ожерельем на ее пухлой шее. А впрочем, шейка вполне может быть и тощей, худышки – это даже пикантно.
Олег приехал сюда легкомысленно – без диктофона, без ручки, без блокнота. Дурень, он приехал сюда, на подпольную могучую тусовку, даже без револьвера, и это было в высшей степени легкомысленно. А может, здесь, среди тайно вооруженных до зубов магнатов, среди комнат, доверху напиханных, как блинчик – икрой, подсматривающимися мониторами, подслушивающими аппаратами, оружьем все мастей, он и есть самый мудрый?.. Что это за ученье дао, Олег. Мудрость мудростью, а револьверчик тебе бы тут очень не помешал. Гляди, какие рожи движутся к крыльцу. Такие ряшки… как в Америке двадцатых годов прошлого века на Пятой авеню. Черные мафиози, ставшие белыми лебедями-олигархами.
Он увидел, поднимаясь по лестнице, обернувшись, как в парадные двери вводят за руки слепую молодую женщину. Под одну руку ее поддерживала пожилая дама в седых букольках, маразматически жующая сморщенным ртом, под другую… О Господи, карлик. Олег отвернулся. Невежливо так таращиться. Он еще увидит эту живописную группу в зале, надо думать.
Блестящая толпа. Светская толпа. Мафиозная толпа. Толпа, отличающаяся от всех тусовочных толп, виденных Олегом в Москве на разнообразных сборищах, так, как хороший арабский кофе, с тонким и терпким ароматом, отличается от ширпотребовского ячменного эрзац-напитка. Здесь все было неподдельное, настоящее, и имя этому Настоящему было – Богатство. Здесь все пахло деньгами, и от богатых несло радостным богатством за версту, как крепким одеколоном. Рыбников вглядывался в лица, попутно рассеянно улыбаясь, походя с кем-то легонько раскланиваясь. Росту он был высокого, широк в плечах, собой виден и статен, на него оглядывались и мужчины и дамы. Как он и предположил, его приняли за магната. Он услышал за собой шепот: «Кто этот богатырь?.. О, мне думается, милочка, это правая рука Утинского… я забыла его фамилию, очень умный молодой человек…» Да, да, верно, делать такой вот рассеянный вид, фланировать, перемещаться из зала в зал. На втором этаже в двух залах – распродажа. Сокровищ так много, что они не поместились все на выставочных витринах в одном зале, пришлось занять другой, смежный, анфиладный. Олег уже узнал, что хозяин особняка – Вацлав Кайтох, крупный мафиози, занимающийся поисками, скупкой и продажей знаменитых сокровищ, археологических ценностей, картин, предметов старины. Он узнал, что археология – его пристрастие, что он исколесил полмира, пребывая на раскопках, и сам, собственноручно, добыл из-под земли, раскопал много ценностей. Ого, подумал Олег, какое похвальное увлеченье для мафиозо. Творческое, он бы сказал. Но ведь и денежки делает папаша Кайтох на своем увлеченьи немалые. Что там немалые!.. Рыбников, почесывая пальцем переносицу под круглыми чеховскими очками, прикинул – просто сумасшедшие. Возможно, его археологический бизнес приносит ему доход гораздо больший, нежели все его банковские счета, промышленные игры, картежные бумажки призрачных акций…
Олег еще не видел цены. Он подошел ближе к витринам. На изящных, похожих на скрипичные, пюпитрах стояли аннотации, висели прайс-листы. Лот шестнадцатый, золотой царский щит из гробницы в Измире. «Скажите, будет аукцион или цены твердые?..» – спросил Олег красавицу, блестевшую вставными фарфоровыми зубами, обмахивавшуюся страусиным веером. Красавица небрежно покосилась на незнайку. «Господин Кайтох поставил твердые цены, – ответила красотка, почти не размыкая ослепительных зубов, – он считает, что они и так достаточно высоки, здесь собрались люди, которым по силам сделать эти покупки, если они того пожелают». Аукциона не будет! Твердые цены! Олег подошел ближе к витрине. Круглый кованый щит блеснул в него красно-золотым, цвета осеннего кленового листа, выгибом. Кайтох продумал этикетаж и цены. Он набрал их крупным кеглем. Их было видно издали. Даже Олег увидал цену золотого щита сквозь свои круглые, смешные докторские очки. Увидал – и содрогнулся.
Ему показалось – он ошибся. Нет, нет, эта вещь, хоть она и золотая, столько не стоит!.. Это же стоимость… Он лихорадочно соображал. Столько может стоить вся РАО ЕЭС! Пол-Эрмитажа! Все чеченские войны и Афганистан, вместе взятые! Нет, нет… Он наклонился над ценником еще раз. Вытер пальцем пот над усатой губой. Он или спит, или это и в самом деле правда.
А господа вокруг не удивлялись. Господа вокруг оживленно переговаривались, даже шутили; кое-кто уже подходил к официальным представителям господина Кайтоха, записывал пожеланья, и уже отходили к окну, уже подписывали бумаги, уже шушукались, поздравляя, уже вынимали визитки и банковские карточки, уже… Это было то, что Рыбников мог еще видеть. То, что болталось на поверхности озера, как поплавок. А что происходило в глубине?.. Никто не знал. Все догадывались. Все знали все.
Запомнить лица, Олег, запомнить цены. Как хорошо, что ты не взял ни книжки, ни ручки. Заложи эти цифры в свой нестираемый файл себе в свой умный котелок. Если ты обнародуешь в своей газете эти цены, кое-кто из господ, крутящихся здесь, запросто может нанять меткого киллерка и подстеречь тебя у подъезда. Когда ты будешь возвращаться домой с работы, усталый, вымоченный, как селедка в молоке. И, может, смерть в этой безумной, на измот, зверской, потогонной, идущей колесом жизни будет для тебя далеко не худшим исходом.
Он повернул голову. Вежливо осклабился. И то, что он в очках, тоже хорошо. Очки сильные, минус-стекла, глазки уменьшают, никто не видит, как в глазах горит лихорадочный огонь мгновенного соображенья, схватыванья, запоминанья – стекла-то отблескивают, такие яркие, жаркие тут софиты, как в киностудии. Он повел глазами вбок, чтобы рассмотреть лежащую на двух витринах, рядом, на черном бархате, две роскошных золотых маски – мужскую и женскую, – и увидел слепую.
Слепая стояла рядом с витриной, где лежала женская маска, держа руку на витринном стекле. Рука ее дрожала. У ее ног крутился, задрав огромную кудлатую голову, скуластый, умно улыбающийся карлик; его чуть отвислые, собачьими брылами, щеки подпирал кружевной воротник. Рыбников наконец понял: Жизель Козаченко. Вся Москва знала слепую жену великого магната. Поодаль, у витрины с мужской маской, подносила руку к глазам, сворачивая кулак трубочкой, чтоб получше рассмотреть диковинное сокровище, художница ассирийка Джина. Длинные, миндалевидные глаза Джины излучали искреннее восхищенье.
– Я восхищаюсь ценами! – громко, не особенно стесняясь, сказала она. – Господин Кайтох превосходно осведомлен об истинной стоимости вещей! Думаю, что они даже немного занижены! Господин Кайтох делает нам поблажку! Это он для друзей старается!
Было непонятно, шутит она или говорит серьезно. Стоявший рядом с ней господин с маленькой лысинкой в виде монашеской тонзуры зааплодировал. Он щелкнул пальцами; официальный представитель подскочил к нему, угодливо наклонился. Они удалились; когда клерк вернулся к витринам, на витрине с золотым щитом замаячила табличка: «ПРОДАНО».
– Продано, – пробормотал про себя Олег. – Оп-па, готово дело. Я бы не хотел быть древним золотым щитом. Как прекрасно, что я живой.
Он подумал о том, что в наступившем веке, так же, как и во всех других веках, и живой человек, и жизнь будет так же бойко продаваться и покупаться, как вещи и украшенья, как нефть и наркотики; будет таким же ходким товаром, как и еда, и оружье, и власть. Всю жизнь вокруг себя, со всеми ее вещами и призраками, делает человек; значит, человек и есть самый дорогой товар?!.. Не ломай голову, Рыбников. Ты и так собрал уже достаточно матерьяла. Вынести в заголовок одну только стоимость золотого щита – и назавтра в стране грянет новая революция. «Новая газета» вызовет новую бурю. Новые Мараты и Робеспьеры ринутся ниспровергать нынешних олигархов, чтобы завтра самим стать олигархами. Дурная бесконечность. Добрый царь умер; да здравствует добрый царь. И равнодушное жаркое летнее солнце глядит на смену власти; и равнодушная ночная желтая, как лимон, Луна заливает холодным светом плачущее одинокое лицо слепой женщины, стоящей у окна. Вот ей хуже всех, Олег. Вот о ней возьми и напиши. Сдались тебе эти богачи. Ты же не сможешь ни уничтожить их несметные богатства одним росчерком бессильного журналисткого пера, лишь прикидывающегося едким и безжалостным, ни перекачать их деньги в тощие дырявые карманы обманутого по всем статьям народа.
Он шагнул чуть ближе к слепой. Увидел, как дрожит на стекле витрины ее рука. Ему отчего-то захотелось прильнуть к этой руке губами, благоговейно поцеловать ее – так она была хороша, красива, жалобна, тонка, прозрачна.
Сам не зная почему, он заговорил с ней. Карлик у ее ног встрепенулся, забеспокоился.
– Вы… ведь Жизель Козаченко, так?..
Она заметно порозовела. Ее губы слегка дрогнули. Широко раскрытые глаза обратились на Олега, и ему показалось – она смотрит на него и видит его.
– Да.
– Вы… ознакомились с продаваемыми сокровищами?.. Вам… разрешили… ощупать их, осязать, чтобы представить себе… тут есть уникальные вещи, это правда…
– Разрешили.
Молодец, подумал Олег, ты не слишком-то разговорчива, и это благо.
– Вы… приобретете здесь сегодня что-нибудь?..
– Да. Вот эту золотую маску. Я стою около нее. Когда кто-нибудь подходит и начинает интересоваться ею, я говорю, что она уже продана.
– Так попросите прислугу повесить табличку!..
– Зачем? Ведь я еще живая. Я могу говорить.
Не теряет чувства юмора. А лицо печальное, как у той золотой маски, хотя и улыбка на губах играет, то вспорхнет, то снова опустится на лицо, как бабочка.
– А если мне… тоже понравилась эта маска?..
– Чур, я первая. – Она по-настоящему улыбнулась, и блеснули зубы. – Я тут первая стояла. Мы с вами не подеремся.
Олег шагнул чуть ближе. Уловил аромат ландыша от гладко зачесанных волос. Окинул взглядом белые нежные плечи под песцовым боа, блестящее парчовое, сильно открытое платье. Стильно одевает слепую женушку Козаченко. Нет, он никогда не разведется с ней. Зачем? У него может быть куча любовниц. Слепая красавица-жена – о, это имидж тяжелой артиллерии. Мальчик знает толк в пудренье мозгов публики. Игра в благородство. Может быть, они и видят-то друг друга раз в месяц, да и то не в спальне. Видят!.. Олег закусил губу.
– Я могу поговорить с вами… побольше, подольше?.. не здесь…
Он не мог сказать, что он из редакции. Играть так играть роль «шпиона» до конца. Пусть она думает, что он в нее влюбился.
– Я все равно не уступлю вам маску. – Ее выщипанные брови встали над неподвижными, широко глядящими глазами страдальческим «домиком». – Не приставайте.
Карлик сердито сверкнул глазами. Взял коряво выгнутой ручкой, похожей на ухват, госпожу за руку. Она выдернула руку и погладила карлика по голове, как кота.
– О чем тут мои гости так любезно беседуют?.. не позволите ли вклиниться в ваш светский интересный разговор?.. золотая женская маска продана, о, господин… м-м-м… не имею чести вас знать… вы уже в курсе дела?.. Жизель вам сказала?..
– Рыбников, – сказал Рыбников и наклонил бородатую голову. Очки чуть не свалились при поклоне с его носа, он удачно поймал их, водрузил на место. – Я в восторге от выбора Жизель. А я, представьте себе, господин… м-м-м…
– Кайтох, – сказал Кайтох. Кровь бросилась Олегу в лицо. Краска проступила даже сквозь бороду. Сам хозяин. Колись, хозяин, как орех.
– Весьма польщен… господин Кайтох… я облюбовал вторую маску. Мужскую. Судя по всему, это маска царя. Я покупаю ее. Я буду счастлив иметь у себя дома сокровище мирового класса.
Что ты городишь Олег. Он испугался сам себя. Что ты такое несешь. Ты заигрался, братец. Они сейчас заставят тебя подписывать бумаги, заморочат тебе голову расчетом, закорючками, цифрами, платежками… чем хочешь… это же спектакль, ну, прекрати его, признайся, что ты газетчик, что ты тут занимаешься бездарным маскарадом, иначе тебя бы сюда ни за что не пустили, видишь, тут нет журналистов, ни одного журналиста, никогошеньки, ни знаменитых, ни заштатных, ты тут один, как перст… Он заставил себя улыбнуться как можно почтительнее, наклонил было голову опять, как Кайтох бросил ему в лицо:
– Не врите.
Олег увидел, как выщипанные бровки Жизель вздрогнули и поползли вверх. Она закуталась в боа плотней, будто ее знобило. Карлик положил ей пальцы-клещи на бедро, на выблеск вышитой парчи.
– Не понял?..
– Все вы поняли, господин Рыбников. Я вашу продажную братию за версту чую. Вы думаете, никто в Москве не знает вашу бородатую физиономию?.. вы же сами ее тискаете на страницах вашей бульварной газетенки… хм… ну, ну, не обижайтесь. Вы нам можете понадобиться. Вы напишете о нашей распродаже статью. Яркую, броскую, чтоб издалека было видно, с одним условьем: не называть имен. Инкогнито всегда придает информации свадебное очарованье. Нам нужна реклама, но нам не нужна огласка. Я подзабыл, пардон, как называется ваша лавочка?.. «Новая газета»?.. «Общая»?.. «Независимая»?..
Олег, ты проиграл. Уповай на то, что тебя не выведут за ушко да на солнышко.
– «Новая».
– У нас нынче все новое. И век тоже новый. А золото, видите, старое, как мир.
– И кровь тоже.
Глаза Олега глядели прямо, бесстрашно. У него вырвалось это – о крови. Наверняка здесь все золото, выставленное в витринах, спящее мирно на чернобархатных подушечках, оплачено кровью. Да, кровью! Иначе быть не может!
И в глазах Кайтоха страха не было.
Два мира, ненавидящих друг друга, глядели друг на друга, а над ними стояла слепая, касалась дрожащей рукой стекла, гладила голову карлика.
… … …
Мечом вполне можно было сражаться. Если наточить как следует.
«Роман, не прячь меч в кейс… держи его под подушкой!.. если понадобится, им можно ударить…»
«Нет, девочка моя, голову им не снесешь… вот оглушить можно, ударить до сотрясенья, до гематомы, – это да…»
Он сделал так, как Светлана хотела. Он больше не упрятывал меч в кейс. Какая разница, вор-убийца прокрадется в палатку и вытащит меч из кейса или из-под подушки. Светлана обнимала Романа, прижималась к нему, ища защиты, боясь нового ужаса.
«Роман… может быть… надо все похерить…»
«Нет!»
Это «нет» звучало, как удар гонга. Как удар поварешкой в медный таз по утрам.
Она рыдала на его груди. Он покрывал поцелуями ее затылок.
«Светонька, не бойся, родная, у меня, если вдруг что, ты же знаешь, еще и „браунинг“ есть. Я тебе не показываю его, не хочу тебя пугать… Я хорошо стреляю, метко, я же старый охотник, правда, я однажды дал себе зарок – не убивать… я вдруг ощутил, что все живое – хочет жить…»
Светлана поднимала подушку. Меч лежал под подушкой мирно, спокойно, как большой спящий распластанный зверь. Изумительно выделанные ножны тускло, зловеще светились аквамариновыми кабошонами, сколами египетских изумрудов, крупными, неровными речными перлами.
– Да, точно, жемчуг из Танаиса, недалеко отсюда… из перловиц… женские пальцы выковыривали, ушлые купцы продавали, дитя мое… – Он погладил ее по щеке, по шее. – Как я хочу тебя украсить, знала бы ты… И ты будешь украшена, будешь!.. Ты будешь у меня самая красивая женщина в мире, слышишь?..
Светлана гладила золото. Касалась кончиками пальцев едущей на льве девушки. На голове девушки была корона, а казалось, это русые косы уложены корзиночкой, большим кренделем. Она брала меч в руки, удивляясь его тяжести. Что придумали люди, чтобы разить, убивать!
– Роман… ты «браунинг» тоже под подушкой держи…
Он вынимал меч у нее из рук, брал ее тревожное, любимое лицо в ладони.
… … …
Золотой кувшин из Измира купил американец Креймер. Золотой щит – американец Бэйсингер. Мужскую царскую золотую маску – итальянец Дроветти, нефтяной босс, друг Бельцони. Остальные сокровища из Измира раскупили «новые русские». Женская маска оказалась в руках Жизель Козаченко. Почти все осталось в России. Гурий Жермон мог бы быть доволен таким раскладом дел. Мог бы.
Вацлав знал о гибели Жермона.
Он знал также: Гурия убил уж никак не профессор Задорожный. У профессора кишка тонка. И не доктор Касперский – тот был еще в Турции, когда это произошло.
Кайтох не знал еще, что его жены, Ирены, больше нет на свете.
… … …
…Утро было жаркое и ослепительно-солнечное, как всегда, но что-то неуловимо изменилось в небе. Оно стало темнеть, и синева превратилась из ласково-прозрачной, из нежной и веселой в сизую, как голубиное крыло, будто выжженную, тронутую паутинной дымкой. Будто неслышный далекий гул повис в небе. Чайки летали над морем по-прежнему высоко, стрижи резво, стремительно срезали живыми ножницами палящий воздух, но чувствовалось: идет далекое и страшное, приближается гроза.
Гроза была еще лишь обещаньем, намеком. Гроза была, быть может, воспоминаньем. Она изменяла цвет неба и моря; она насылала из-за края земли, из-за Керченского пролива легкие туманные облачка, похожие на белые улыбки; и даже зарниц не было еще над холмами, за проливом, над развалинами Пантикапея.
Оставшиеся в экспедиции люди работали по-прежнему; по-прежнему бил в медный таз Серега Ковалев, будя всех в шесть утра зычным: «Подъе-о-ом!..»; по-прежнему Леон вонзал лопату в земляные отвалы наотмашь, будто рубил врага в бою; по-прежнему Славка Сатырос готовила могучие обеды из круп и картошки, слегка сдабривая их тушенкой из запасов бедного Жермона; но песен и шуток, перебранок и криков было не слышно после гибели в море Ирены. Несчастный случай!.. Роман не хотел верить, что это был несчастный случай. Он твердил себе: это несчастный случай, несчастный, – и, хватаясь за голову, закрывая глаза, мучительно морщась, отгонял от себя, как муху, голос внутри, холодно говорящий: нет, Ирена не утонула, Роман. Ее утопили. Кто?! Да ведь никто… никто из экспедиции не мог этого сделать!
Да, не мог.
Но ведь кто-то сделал это.
В сиянии жаркого утра люди склонились над разворошенной землей в раскопе. После крупной находки – меча – ничего подобного не попадалось; было много красивых обломков ваз, отрыли даже две почти целых, отрыли украшенье, пояс на талию с застежкой в виде звезды, из сильно потемнелой и позеленелой бронзы, еще вереницу маленьких украшений – зелено-бронзовые кольца, разрозненные бусы, тонкие витые бронзовые браслеты. Золота, и так мастерски выделанного, в раскопе не находили.
Это значило – меч был случайным, завезенным сюда. А как же танаисские перлы?.. Мало ли что. Танаисские перлы вполне могли быть завезены на купеческих кораблях в Анатолию. Скифского государства в те поры в устье Танаиса еще не было; были поселенья предков скифов, и кто они были такие?.. Жители новой Трои наверняка знали, кто. Это мы должны гадать и сомневаться. И никто не придет к нам оттуда, чтобы все рассказать, кроме этой бронзы, этих смальт на дне бассейна, этого золота на ножнах меча и рукояти.
Заржал Гарпун, привязанный к куску врытой перед кухонным тентом изгороди. Славка потрепала его по морде. Эх ты, милый зверь, вот, поди, истомился ты на жаре!.. Дождичка ждешь, дождичка… И мы тоже ждем. Славка пощупала торбу под носом у Гарпуна: дай-ка дам тебе еще горсти две овса, коняга, от нашей овсянки не убудет, – и обернула румяное, вспотевшее лицо к подошедшей Светлане. У Светланы руки были все в грязи. Лицо тоже. Она была вся изгваздана – видно, докопалась до слоя мокрой плывущей глины.
– В душ, Светка, что ли?.. давай, давай, ополоснись… Серега сегодня с утра морской водички в чан от души влил…
Светлана вышла из душа посвежевшая. Ее обрезанные до колен мохнатые джинсы уже превратились в постыдные тряпки. Ее красота, так победно, особенно в ярком свете любви, вылезающая из нее наружу, реяла над ее одеждой, как чайка в свободном полете.
– Свет, ты поди-ка, возьми Гарпуна, отведи его попастись на склон, туда, к бычкам… а?.. Стреножь только, чтоб не убежал… вот тебе веревка… Я сейчас не могу, я кашу варю…
Светлана подхватила коня под уздцы. Он радостно заржал, поднял хвост, отогнал хвостом уже густо облепивших его слепней. Светлана сорвала метелку душицы и похлестала немного конягу, чтоб облегчить его скотью летнюю участь.
– Совсем зажрали оводы… ну, веди, веди!.. Через час – обед!.. всех покличешь в раскопе, ладно?..
Светлана и конь пошли вниз, по тропе, по обрыву. «Козья тропка» была узкая, осыпалась, и Светлана то и дело спотыкалась, чуть не срывалась вниз, наступая на плоский белый камешек-известняк – их здесь звали «монетами». Когда она оставалась раньше одна, наедине в ширью, с морем, с небом, ей всегда хотелось петь. Теперь песню будто кто выпил. И небо, сизеющее, туманящееся на глазах, нагоняло страх.
Какой страх, Светланка!.. Видишь, солнце сияет ярко… Конь ткнулся нежными губами ей в плечо. Хлебушка хочет, догадалась Светлана. Надо принести ему кусок хлебца. После обеда… А вот и бычки, Быча и Козя. Пасутся себе. Кто это там с ними, с бычками… лежит, валяется у их ног?.. Кто-то вздумал позагорать в одиночестве?.. Свой, из экспедиции?.. Чужой?..
Светлана вцепилась крепче в повод коня. Ее ноздри раздулись, и она ощутила запах конского пота.
Рядом с пасущимися бычками, в траве, лежала Моника.
Моника Бельцони.
Она забыла о том, что надо стреножить коня. Выпустила повод. Побежала вниз, сбивая ноги в кровь о корни, об острые камни. Подбежала. Уж лучше бы она не подбегала! Козя мирно пасся, щипал сохлую степную травку. Рог его был в крови. Рядом с ним валялась Моника. Ее бок был пропорот. Ее худая рука была закинута за голову, будто она махала кому-то, отъезжающему. Будто она махала своей матери, Цинтии, уплывавшей с боевым заданьем на итальянские корабли.
Козя… пропорол рогом бок Монике?!.. Нет. Не может быть. Бычок такой мирный. Бычок такой… славный… Он же не бешеный, ему же никто не показывал красную тряпку… Да и потом, он на цепи, и Моника не такая дура, чтобы подойти так близко, чтобы… Нет, нет, нет, тут что-то не так… не так!..
Светлана заглянула в глаза нового ужаса. Зажмурилась. Осела в сухую траву, как подкошенная. Замотала головой. Нет, нет, нет, нет!
Бычки щипали травку. Быча протянул морду, обнюхал лежащее мертвое тело. Снова стал щипать траву. Недовольно взмыкнул. Его заедали слепни. Ему было жарко. На жаре остро, солоно пахло кровью.
Полынь щекотала голые щиколотки Светланы. Она раскрыла губы, шепнула заплетающимся языком:
– О sole, o sole mio…
Погребальная песнь. Погребальный плач. Зачем. Что это. Почему. Не надо.
В жарком воздухе жужжали оводы, мухи, слепни. Небо становилось все бездонней, все темнее. Из-за горизонта наползало облако. Оно было огромное, как снежная гора, прозрачное, сизое, пухлое, почти незримое, как призрак. Светлане на миг показалось, что все на свете – призрак. И все они призраки. И сам мир призрак. И Роман – призрак. И она тоже – призрак, насквозь прозрачный, бестелесный, боящийся единственно одного: исчезнуть совсем.
В исступленьи она стала рыть могилу Монике тут же, на степном крутосклоне, деревянной археологической лопаточкой, торчавшей у нее в кармане джинсов. Сухота драла ей горло. Песок вперемешку с землей сыпался из-под рук прочь, все прочь. Она рыла и рыла, она копала, а яма все не увеличивалась. Ну же, зло шептала она себе, наддай, Светка, что ты какая стала маломощная, каши, что ли, мало Славкиной съела, давай, налегай. Лопаточка выпала из ее ослабевших рук. Она снова схватила ее. Скрюченные пальцы свело судорогой. Она закусила губу до крови. По лицу потекли слезы. Она все рыла и рыла, и нет, яма маленькой так и оставалась, а ведь Моника тоже маленькая оказалась в смерти, сухенькая, какая-то старенькая даже; ну да, ведь ей много лет уже было; зачем бык ее убил?.. Да нет, это не бык. Это человек. Он убил ее ножом, а рог бычка испачкал в ее крови, чтобы обмануть всех. Но ее не обманешь. Шалишь, ее не обманешь. Она опытная медсестра. Она видела раны от бычьих рогов. Таких больных ей привозили. И раны были не такие. Совсем другие.
Странная земля – то песок, то глина. Глинистый обрыв. И сильный ветер поднялся. Почему ж ты не поешь погребальную песню, Светка?! Ты же певица! Пой! Пусть душе Моники будет радостно.
Она раскрыла рот снова и выдохнула шепотом: ой ты, душечка, красна девица… Из ее горла вышел хрип. Она засмеялась хрипло. Волосы выбились у нее из косы, развились, мотались по плечам. Их трепал ветер.
Ветер усиливался, становился все сильнее. Она бросила на минуту копать, провела тыльной стороной ладони по лбу. Ветер, оботри мне пот! Ветер, ветер, как страшно жить на свете. В жизни, оказывается, есть только смерть. А никто об этом и не подозревает. Все хотят жить, радоваться жизни, ан нет – смерть тут как тут, стоит за тобой, как тень, смеется. У нее зубы черепа в раскопе. Светлана сама находила такие черепа. И Ежик находил. Бедный Ежик. Он крепится, но Светлана опытная медсестра, у нее зоркий глаз, она знает: он свалится. Он свалится в отчаянье и в жару, потому что у него было потрясенье, равного которому нет на свете. Что делают люди в отчаяньи?.. Выкалывают себе глаза, как Эдип?.. Может быть, у Моники было отчаянье, и она сама себя убила, сама напоролась грудью на невинный рог молодого бычка?.. Нет, нет, нет, нет…
Она рыла и рыла, и ветер раздувал ее волосы, как русый плат, над головой. Она плакала беззвучно, и утирала со щек слезы грязной, в земле, ладонью. И конь подходил к ней, плачущей, касался губами ее соленых щек, растрепанных волос. Тихонько ржал, утешая. Она не слышала. Не видела. Она копала, все копала, пытаясь выкопать яму, могилу; Моника, у тебя должна быть хорошая гробница, роскошная, как у царицы. Твою мать Цинтию расстреляли и сбросили в мешке в море, и море стало ее могилой; а тебя я похороню по-христиански, ты ведь была хорошая, ты никому зла не сделала, Моника.
Ветер становился все сильней. Ветер рвал на Светлане майку. Волосы лезли ей в рот, она кусала их. Бычки гремели цепью. Моника лежала неподвижно, с закинутой за голову рукой.
Она рыла и рыла, и так и нашел ее Роман – с деревянной лопаточкой в руке, грязную, зареванную, обезумевшую, жалкую.
… … …
– Сворачивай экспедицию, Роман Игнатьевич! Ты же видишь – все пропало!.. – Серега от волненья перешел с Задорожным на отчаянное, мужицкое «ты». – Монику не бык забодал!.. Мы же все догадались, что не бык… мы же не маленькие… И Ирена недавно тоже не сама утонула… Убийца – рядом, Роман Игнатьич! И мы его не можем выследить! Или приглашай милицию откуда хочешь – из Москвы, из Екатеринодара, или закругляйся и отпускай всех… к едрене матери!..
Роман обвел всех глазами. Негусто осталось. Он сам. Светлана. Ежик. Славка. Серега. Леон. И все глядят на него неотступно. И все молчат. И всем уже так страшно, что он не имеет права сказать то, что сейчас скажет.
– Дорогие мои, – Роман ссутулился, сгорбился, поглядел в землю. – Дорогие мои!.. Я не верю, что мы жертвы маньяка, сумасшедшего. За нами следят, и убийца – да, рядом. И я больше не могу рисковать. Я бы мог вам сказать: продолжаем работу, не свернемся, нет, никогда, я буду стоять до последнего… Я не могу. Маску мы прошляпили. Меч – нашли. Там, в Турции, я видел сокровища Новой Трои. Я держал их в руках… Я… – он двинул губой, будто умирающий от жажды. – … попал там в историю, в нехорошую, в плохую историю, и я думаю, то, что происходит здесь, – последствия моего турецкого плена… Я идиот, что я держал вас здесь так долго, надеясь, что все это случайность, что нам самим удастся отловить бандита. Кишка у нас оказалась тонка… Мы… не смогли.
Роман плотно сжал губы. Как любила Светлана теперь – и навсегда – этот жесткий, скорбно-волевой прикус.
– Дорогие мои!.. – Его голос дрогнул. – Я отпускаю вас. Собирайтесь и уезжайте. Немедленно. Я прошу вас. Я… приказываю вам!..
Все молчали. Было слышно, как в сухом воздухе громко звенели цикады.
– Уезжайте… денег я вам дам, и заработанных и на билеты, у меня еще есть…
Все продолжали молчать.
– Что же вы молчите?..
Солнце палило затылки. Славка уткнула лицо в ладони.
– Вы уезжайте, – с натугой сказал Роман, – а я… я остаюсь.
Славка Сатырос отняла руки от лица. Светлана побледнела.
– Как это?.. – спросила Славка изумленно, тихо. – Мы, значит, все разъедемся благополучно, а вы тут останетесь, чтоб вас тут угрохал этот маньяк психованный?.. если он за вами следит… мы уедем, значит, а вы… что ж, голову на плаху класть?..
– У меня револьвер, – твердо сказал Задорожный. – И я вызову на помощь милицию из Екатеринодара. Они прикинутся работниками экспедиции. Я заставлю надеть их джинсы и рубахи, копать. Мы обманем убийцу. Мы сцапаем его. Я вам обещаю это. Но я должен остаться здесь и разгадать тайну древнейшей цивилизации Земли. Разгадка – здесь, на Тамани. Я сделаю это!
Славка снова заплакала, уже не стесняясь, в голос. Серега кусал губы. Леон стоял молча, прямо. На локтях его тельняшка продралась, и локти беззащитно торчали сквозь дырявую полосатую ткань.
– Как хотите, Роман Игнатьич, понимайте как знаете, а только я никуда не уеду! – Славка рыдала вовсю. – Я… с вами!.. Кто вас тут… обедом кормить-то будет?.. вместе с этими засадчиками…
– Я тоже остаюсь, Роман Игнатьич, – лицо Сергея, загорелое до сапожной черноты, было уже тоже похоже на древнюю маску. – Как вы могли подумать, что я уеду. Неужели я вас брошу. Лучше я у темрюкских ментов еще два револьвера напрокат возьму, для себя и Леона. Под залог.
– Что заложишь?.. Меч?.. – Роман усмехнулся.
Леон молчал. Потом буркнул:
– Ну да, я тоже не поеду. Очень мне надо ехать, если все не поедут.
Он пощипал пальцами лохматые края дырок на тельняшке.
Светлана смотрела на Романа, будто прощалась с ним навеки. Ее зеленые глаза стали совсем светлыми, цвета выжженной травы, на загорелом лице.
– Роман, – сказала она, – я так поняла – никто не уедет.
Он вздохнул. Еще раз поглядел на всех.
– Как Ежик? – спросил строго, будто главный врач на обходе – старшую медсестру. – Ты делала ему уже укол?..
Светлана склонила голову. Зачем сегодня на свою стройную шею она надела бусы из высохших косточек абрикоса?.. И странную ракушку-рапану на бечевке?.. какие странные, детские «феньки»… и где-то он уже видел эту ракушку…
– Делала.
– Ему лучше?..
– Все так же. – Она вздохнула. – Пока все так же, Роман.
Ежик лежал в жару. В жару, предсказанном Светланой.
Потрясенье от внезапной, страшной и глупой смерти матери вылилось в сильнейшую горячку, в высоченную температурную «свечку», Ежик метался в беспамятстве, выкликал в бреду несвязные слова, называл имена, плакал, грозил кому-то кулаком. Светлана боялась – как бы не было потом, после бреда, амнезии, столь обычной при сильных нервных стрессах. Юноша не справился с горем. Оно скрутило его, задавило. И теперь он корчился, стонал, плакал, обливался потом под тяжестью горя, креста сиротства, который нужно было ему нести.
Светлана уложила его в отдельной палатке, а дежурили около Ежика все по очереди. Первое время, пока явленья бреда были тяжелыми и непрекращающимися, Светлана не отходила от него. Арсенал лекарств в походной аптечке был не слишком богатый, но в таманской аптеке нашлись и нужные жаропонижающие, и успокаивающие, и релаксанты. Больше всего Светлана боялась менингита – воспаленья мозговой оболочки. Если жар не упадет сегодня, завтра надо будет везти Ежика в больницу. Не в темрюкскую, конечно, нет, – в аэропорт, на самолет и в Москву. К отцу. Который еще не знает, что его жены больше нет.
Она прошла в палатку к Ежику, склонилась над ним, лежащим, пощупала ему лоб рукой. Жар! И не спадает. Без больницы не обойтись. Она делает все, что может, но здесь нужен доктор. Ежик помотал головой на маленькой подушке-думке, захваченной его матерью из Москвы. Поехали в интересную экспедицию, сколько экзотики, сколько счастья открытий, впечатлений, жаркое лето, загар, купанье, фрукты… Все зачеркнулось жирным кровавым крестом. Разом и бесповоротно.
Полог палатки откинулся. В душную полутьму вошел Леон. В руках у него была соломенная шляпа, доверху полная абрикосов и спелых слив. На груди у него висела сумка, похожая на ягдташ; из нее торчали палочки чурчхелы, пучочки тархуна. И еще, как ни странно, горлышко винной бутылки.
Леон поставил шляпу с ягодами на чемодан, служивший тумбочкой, стащил с шеи сумку. На его лице блуждала странная улыбка придурка.
– Вот, сестричка, – хрипло сказал он, – вот принес гостинец больному. Жалко же парня. Он хоть и без сознанья, а свежие ягодки ему не повредят.
Светлана взяла абрикосину из шляпы. Засунула в рот. Плюнула косточку в кулак.
– Спасибо, Леон. – Она благодарно взглянула на него. Опять это странное ощущенье опасности, что не покидало ее всегда, когда Леон вставал рядом с ней. – Ты настоящий друг. Как только мы ему скормим абрикосы?.. он ведь и не прглотит, косточкой подавится…
– А ты косточку вынь. Пальчиками, – наставительно сказал Леон и продемонстировал ей, как это делается. Он жевал мякоть абрикоса, в его руках осталась косточка, и он играл ею, перебирал ее, как четки. – Зато питьем-то он не подавится. Ты попои его. Я вот бутылочку принес. Повышает красные кровяные тельца в крови.
– Что это?.. – Светлана вынула из сумки темную бутылку. На этикетке была нарисована многоглавая церковь, была написано витиеватой кириллицей: «КАГОРЪ». – Вино?.. ты что, Леон, спятил?..
– Нисколько не спятил, – Леон взял у нее из рук бутылку и открыл. Нюхнул. Поднес к ее носу. – Да ты вдохни, вдохни! Самый что ни на есть темрюкский кагор! Сладчайший! Просто сахарный!.. Больным ведь раньше всегда давали вино, ты же знаешь сама… Точно тебе говорю, у него сразу тонус повысится! И температура спадет! Ведь сама посуди, сколько в нем витаминов, в степном виноградном вине-то!.. Куча…
Светлана с неприязнью глядела на его жирные, пропыленные длинные волосы, мотавшиеся, как змеи, по плечам, на полосатую изодранную тельняшку. Попросил бы Славку, она бы ему заштопала. Сам он, видно, иглу держать в руках не умеет. Старый хиппарь. Богема. Будет зимой в Москве рассказывать, как он классно потусовался с археологами в клевой экспедиции на Тамани, да там половину народу замочили, эх, и страшно было, одни жмурики кругом. А ему хоть бы что. Он втихаря кагор покупал и на ночь выпивал в палатке бутылку. За здоровье несгибаемого начальника.
А что, может быть, он и прав, этот зачуханный длинноволосик. В красном вине много полезного. Витамины… кальций… железо… повышает гемоглобин, да, она вспомнила, так же как и зеленые яблоки…
– Ладно, – медленно сказала она, не переставая чувствовать озноб странной опасности, – оставляй свое вино. Попробую дать Ежику. С ложечки. Он, видишь, как трясет головой. – Она посмотрела, как Ежик двигает головой по подушке, не открывая глаз, на его горящие красным пламенем веснушчатые щеки. – Я и кормлю его с трудом. Но, так и быть, вина дать попробую. Может, сил у него прибавится. Оно полезное…
Леон опять придурковато улыбнулся. Закивал головой, как китайский бонза. Пошел из палатки, скрючившись, согнувшись в три погибели.
«Изображает из себя служку древнего царя. Какой бедный, забитый, скромный, молчаливый… Я-то знаю всех этих тусовщиков-хиппарей, слоняются без дела по Москве, работают истопниками, дворниками, подметалами, подмывалами, кем угодно, из себя корчат гениев… Леон тоже – явный непризнанный гений… а что он умеет делать такого гениального?.. не пишет, не рисует, не танцует… фотографирует – это да… что ж, можно быть и гениальным фотографом… фотография – тоже искусство… а вообще, кто он такой, Леон?.. Зачем его сюда взяли?.. Ну как зачем, Светланка, чтобы работать, копать… без лишних рабочих рук нельзя… а он и хозяйственный оказался, и старательный, и исполнительный, то на Гарпуне съездит в магазин, то по кухне поможет Славке…»
Леон, откинув полог – солнце ворвалось внутрь палатки, – поглядел назад, и Светлана поймала его пронзительный взгляд.
Это был лишь миг. Как молния.
И все в Светлане подернулось серым пеплом.
Он вышел. Светлана закрыла глаза.
Ежик простонал что-то невнятное, разобрать было невозможно. То ли просьба?.. то ли плач… Боже, он опять плачет, вот из закрытых глаз на думку слезы по вискам, слезы текут…
Она отерла слезы Ежику платком. Захлопотала около принесенных Леоном яств, травы и вина.
Заботливый. И бутылку открыл. И пучок тархуна розовой лентой перевязан, как из чьей-то косы вынутой.
Она не могла опомниться от его взгляда.
Да нет, дурочка, тебе все кажется! У страха глаза уже так велики! Посмотрел как-то не так на тебя мужик – а у тебя уже и душа в пятки ушла…
Выбрось, выбрось все из головы. Выеденного яйца не стоит. Подумаешь, взгляд.
При воспоминаньи об этом взгляде ее опять бросало в жар. Потом – в холод.
Еще не хватало, чтобы она свалилась так же, как Ежик, а забредила. Кто с ней тут будет возиться?.. Роман?.. Бедный, любимый Роман, на тебя и так столько всего свалилось…
После гибели Моники Бельцони им, любящим, уже было не до объятий. Ночью Светлана плакала, прижавшись к груди Романа, и засыпала в слезах.
Так, так, абрикосы хороши, а ну-ка, попробуем сливы?.. Сливы тоже отборные… В каком саду Леон все это накрал?.. ушлый хиппи, ну, его в этой дырявой тельняшке явно за бомжа принимают, жалеют: рви, парень, сколько влезет, от пуза… Сладкие, сочные. Ежик очнется, поест как следует… Так, тархунчик… весьма пользительная травка… ее она покрошит ему в Славкин суп… Оставалось попробовать уже открытое вино. Светлана не удержалась от соблазна. Ведь целая бутылка! От бутылки не убудет… а оно такое полезное…
Открытая бутылка стояла возле матраца, где лежал Ежик. Светлана наклонилась, чтобы взять ее – она сначала хотела поднести к носу, еще раз понюхать, вдохнуть аромат вина, – как вдруг Ежик неожиданно шевельнулся, дернулся всем телом, дрыгнул ногой, выбросил ее из-под одеяла, будто лягнул воздух, и ударил пяткой прямо по бутылке. Вино вылилось в мгновенье ока на брезентовый пол палатки. Растеклась кровавая, сильно пахнущая лужа, затекала под матрац. Точно кровь. Кто войдет – можно перепутать. У Светланы зашумело в голове. Ее затошнило.
Она судорожно вдохнула воздух. Чем это таким пахнет?.. Что за странный запах?.. Она, хорошо знакомая с лекарственными препаратами и ядами – у них в училище был целый курс, посвященный ядам, – не могла ошибиться. Пахло вишневыми косточками, настоенными на спирту. Это был острый, шибающий в нос запах синильной кислоты.
Она разорвала на тряпки старую майку Ежика, валявшуюся в углу за чемоданом, подтерла винную кровавую лужу. Еще раз понюхала тряпку. Темрюкский кагор настоен не на винограде, а на вишнях?.. Смех. Кому рассказать – поднимут на смех.
Когда она вышла вон и за палаткой сожгла пропитанную вином тряпку, ее прошибла страшная, непредставимая мысль. Она отогнала ее от себя, как Гарпун отгонял хвостом мух и слепней. Она ужаснулась этой мысли, как ужасаются внезапной смерти. Она даже зажмурилась и помотала головой. Нет, этого быть не может. Быть не может, и все. Это просто Леону продали такую левую бутылку. Не виноградного, а вишневого вина. Вишневого. Слышишь, вишневого.
Она подняла голову. Вдали, страшно далеко, в неисходной, запределной вышине, глухо проворчало. И затихло. Будто огромный зверь шевельнулся в берлоге. Гром.
Пролив весь посерел, покрылся чешуей ряби. Солнце стояло еще высоко, но небо постепенно заволакивалось серой туманной дымкой, а с запада, из-за Керчи, наползала сизая тьма – туча не туча, туман не туман, быть может, будущий смерч. Приближалось страшное. Может быть, даже не гроза: ураган.
И море стало волноваться заметно, волны вздымались под усиливающимся ветром, белые барашки усеяли зелено-серую, как глаза Светланы, воду, и лодки с лодочной станции внизу, под обрывом, привязанные к маленьким деревянным колышкам, колыхались на волнах, как скорлупки.
Из раскопа бежали люди. Боже, как нас мало, со сжавшимся сердцем подумала Светлана. Роман растерял всю экспедицию. Не всю, конечно. Ровно половину.
– Гроза, гроза!..
– Прячьтесь, прячьтесь…
Все ринулись под тент, нависавший над обеденными столами. Дождя еще не было – шел только ветер, огромный, широкий, сквозной, навылет, такой вольный и страшный, что люди испугались – не снесет ли ветер палатки.
– Славка! – крикнул Серега. – Беги в палатку!.. У тебя там в рюкзаках провизия!.. Как бы не вывернуло ветром колышки…
Пустая палатка Романа – он был в раскопе – уже лежала на боку. Ветер выломал алюминиевые палаточные колышки из земли, как зубы. Он ринулся к палатке, стал поднимать ее вместе с Серегой. А ветром уже сносило, несло пустую палатку Леона. Слава Богу, палатка, где лежал Ежик, еще держалась. Пыль, песок скрипел на зубах. Ветер рвал людям волосы. Они щурились, защищая глаза от пыли.
– В раскопе ничего не снесет?!..
– Да ничего, разве только деревянные мостки на краю, Роман Игнатьич делал… для перехода удобного…
– Берегите бумаги, записи… фотографии берегите… если ветер вытащит из палатки чьи-нибудь бумаги – вы их уже не соберете, ребята!..
Люди бегали по палаточному лагерю, как сумасшедшие, спасали от ветра, укрепляли палатки. Светлана побежала в палатку Ежика. Он по-прежнему был без сознанья. Милый мальчик, вот ты и не увидишь первой в этом году грозы здесь, над морем. Ты в бреду. Ты ничего не видишь, не слышишь. Ты так в меня влюблен. Пока ты не видишь и не слышишь ничего, я тебя поцелую. Первый и последний раз в жизни.
Под страшный гул, под завыванье ветра в вышине Светлана наклонилась и прикоснулась губами к вспухшим от жара губам Ежика. Выпрямилась, вышла из палатки. Ветер мял и крутил низкорослую акацию около палатки Романа. Около шатра их вечной, зыбкой, как море, как огонь, любви.
И гроза шла, она шла неотвратимо; уже все небо было заволокнуто пухлыми, клубящимися серо-синими тучами, мгновенно изменив жаркую ласку на холодное, пронизывающее бешенство, и тучи мчались, как на пожар, все сильнее сгущаясь, и тьма плотнела, ярчела, а одна туча, выкатившаяся из-за пантикапейских холмов, была уже густо-черная, с золотым ярким, слепящим ободом по краям; эта туча как раз стояла на западе, против солнца, и она выглядела как траурный плат с золотой вышивкой по краю. Черный плат набрасывал ветер на землю, и все на земле темнело, все дрожало от страха – все до мельчайшей травинки. От страха – и от радости. Дождь! Сейчас пойдет дождь!
Сухие розовые молнии ударили из черной, с золотой каймой, тучи. Гром загремел почти мгновенно. Гроза была совсем рядом, а дождя все не было. Неужели это будет сухая гроза – таких много бывает летом на юге, в Крыму, на Тамани?.. Зарницы блистали часто и резко, как сабли, резали зловеще-серое небо, мелькали в глазах магниевыми вспышками.
Светлана держалась руками за палатку. Не за их с Романом палатку. За палатку, в которой лежал Ежик.
– Славка!.. Тент кухонный снесло!.. Сейчас утащит в море!..
Было поздно. Распорки и тент уже катились вниз, с обрыва, в море, из котла, перевернутого ветром, вылился суп. Буря! Настоящая буря!
– А нас всех не утащит?!.. держитесь, дорогие мои, хоть за траву, как звери когтями…
Гарпун неистово заржал. Бедный конь. Все звери боятся стихии. И человек – это зверь. В минуты древнего ужаса он становится просто отчаянным зверем, малой птахой, щепкой, несомой по ветру, сухим дрожащим листом. Он впадает, как ручей, своим маленьким отчаяньем в огромное и торжествующее отчаянье природы, видящей праздник во всем, и даже в смерти, в разрушеньи. Он пытается схватиться руками хоть за что-нибудь. Нет ему спасенья.
– Славочка!.. Котел держи!..
– Держу, Серега, меня бы кто подержал!..
Ливень хлынул внезапно, когда все уже думали, что это сухая гроза. Он хлынул, будто разверзлись хляби небесные, и накрыл сразу все вокруг сплошной, победной серебряной стеной. Ливень обрушился, как обрушивается античная колонна. Он упал сверху, с зенита, холодным и прозрачным, тяжелым ртутным сгустком, и так сильно хлестал по земле, будто хотел пробить ее насквозь. Славка, ловившая на ветру кухонный котел, не успела спрятаться в палатке от ливня. Она закричала от паденья на нее сверху тяжелых слитков воды, как кричат побиваемые плетьми, батогами.
– А-ах!.. А-ах!.. О-о-о-ох!..
Ливень бил и хлестал, ярился и торжествовал, он повелевал, он царил. Он распростерся над истомленной от жажды, выжженной насквозь, потрескавшейся, как губы в жару, землей громадным серебряным шаром, вставал над ней хрустальной ледяной стеной. Славка ринулась с котлом в руках в палатку. Она вся выпачкалась в саже.
– Ох, вот этот шпарит!.. – прокричала она с восторгом. К ее мокрым губам приклеилась прядь волос. – Как в кино!.. Будто бочонки с водой над головой опрокидывают!..
Светлана юркнула в палатку Ежика. Роман вошел следом, весь уже мокрый до нитки – с ног до головы. Его лицо сияло.
– Наконец-то, – выдохнул он. Светлана протянула руку и погладила его висок. – Знатный ливень. Теперь напитает землю. Господи, как всегда Юг ждет грозы… как молит ее… как Бога…
Он встал близко к Светлане. Они давно не целовались. Они почувствовали великую, светлую тягу. Ежик лежал под ними, у их ног, будто их ребенок. Жар утишился, и он уснул. Он спал под дождь, под грозу – самый сладкий сон под шум дождя. Роман обнял Светлану. Как прекрасно целовать любимую – где угодно. У ложа больного. Под потоками ливня. В морских волнах. В жалких постельных подушках. На вольном ветру. Везде.
А гроза гремела, гром раскатывался тяжелыми небесными булыжниками, сотрясая толщу воздуха над потоками и слепящими струями ливня, гроза шла на закате, как благословенье и как возмездье, и страх снова обращался в радость, и то, чего боялись, затаив дыханье, становилось наградой и очищеньем.
Сколько гроз пронеслось над старой Гермонассой! Над степной казачьей Таманью… И эта – не последняя… Светлана оторвала губы от губ Романа.
– Я люблю дождь, – он поймал ее шепот жадно, как дрожанье ее губ в поцелуе. – Я в детстве выбегала под дождь, танцевала под дождем… протягивала к нему руки… Ты мой ливень, мой дождь, мое драгоценное все… Как бы я жила на свете… без тебя…
– Это как бы я жил на свете без тебя, – прошаптал он, снова обнимая ее и зарываясь лицом в ее развившиеся по плечам русые волосы.
… … …
Кайтох пронзительно глядел на доктора Касперского. Доктор Касперский стоял перед ним в дерзкой, вызывающе-фанфаронской позе, слегка подбоченившись, выставив вперед ногу, туго обтянутую модной штаниной в заклепках. Джинсы от Тома Клайма, очень даже круто. Круче не бывает.
– Касперский, ты полетишь туда. Ты выяснишь, что там за бардак!
Доктор Касперский глядел на шефа, нервно курившего, спокойно и надменно. О, да ты, брат шеф, сдаешь потихоньку, я гляжу. Нервишки не мешало бы подлечить. В нашем деле главное – спокойствие. Чуть задергаешься, как жук на булавке – и получишь пулю в бок. Или в лоб. Или в раззявленный рот. На выбор.
Касперский знал, что Кайтох потерял Ирену в Тамани. О гибели Моники он тоже был наслышан. Кто там веселится так изысканно?.. Уж не Леон ли?.. Надо проверить. Мальчик еще дилетант, его надо воспитывать, поднатаскать. Нет, Леон не мог так напортачить. Зачем, к чему ему разбивать вокруг себя кровавые фонтаны. На черта Леону эти выкидоны. Шеф сейчас зашлет его в Тамань, в эту Гермонассу, что он, Касперский, там что-нибудь да проверил. Словом, навел порядок. Орднунг. Орднунг, орднунг юбер аллес. Шеф так трясется, потому что ухлопали Ирену. А он-то думал, что шеф ее не любил. Что он ее держит за простую девочку на побегушках, за горничную, за циновку.
– Полечу, шеф, конечно. – Касперский перекинул тяжесть тела с ноги на ногу. Его фарфоровое лицо заулыбалось. – Когда? Завтра?
– Послезавтра. Отрасти на щеках щетину. Ты мне нужен бородатый. Бородатый и неряшливый. Вроде как сезонник, бродяга. Тряпки на тебя наденут соответствующие. Я давно понял, что в тебе погибает актер. Сыграешь немного. Леон же вон в хиппаря играет.
– Леон прирожденный хиппарь. Он – богема. У него и рожа придурка, пишущего стихи. А я – благородных кровей. Я благородный разбойник, шеф, как ты не понимаешь!..
– Благородный, – бросил презрительно Кайтох, докуривая сигарету и заминая ее в пепельнице, будто давил таракана. – Твое благородство пропито, друг мой, в притонах Чикаго, в отелях Стокгольма, в трактирах Стамбула. Ты весь прогнил, Касперский, у тебя только ряшка фарфоровая, а туда же, в аристократы. Что ты жрал нынче на завтрак, аристократ?..
Доктор Касперский задумался.
– Ну уж не ржаную горбушку, шеф, это точно. Так, чуть ветчинки… икорки… яичницу вроде в сковороду разбил…
– Недурно. В Тамани ты, аристократ, будешь жрать кашу из котелка. Наймешься к Задорожному экспедиционным рабочим, понял?!..
– Есть, товарищ начальник.
– Не изгаляйся. Лучше экипируйся. Захвати с собой хорошую многозарядную пушку. Ты едешь на работу, а не на гулянку. Выясни, кто там балует. За Задорожным следи, как за алмазом «Шах». Паси его. У него наверняка есть еще находки в Гермонассе, кроме той золотой маски, что мы продали Жизель Козаченко. У слепой девочки губа не дура, она на ощупь, а сразу определила, что тут, в кладе, самое неотразимое.
– А я неотразим, шеф?..
– Ты просто Аполлон, козел. Не показывайся мне на глаза, пока не отрастишь хоть небольшую бороденку. Кстати, знаешь ли ты такого червячишку, журналистика Рыбникова?.. из «Новой газеты»…
Касперский наморщил нос, как балованная капризница.
– Что-то не припомню с ходу.
– Припомнишь! Он на нашей распродаже болтался, как дерьмо в проруби. Кто его туда проволок?.. ума не приложу. Везде сеть шпионов. – Он усмехнулся. На бледные щеки взбежала слабая краска. – Такой чеховский тип, только сейчас из Ялты, в очках и в чахотке, в усах-бороде, длинный, долговязый. Никакой чахотки у него нет, конечно, крепкий, широкоплечий, руками подковы может запросто гнуть. Это он опубликовал в своем дерьмовом листке статью Задорожного, сделавшую нам великую рекламу. А теперь я хочу слегка его поиспользовать, поставить раком, а он, гад такой, ускользает, не хочет. Он хитрит со мной, а я – с ним. – Кайтох помолчал. Вытащил из пачки еще одну сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил сизый клуб дыма в лицо Касперскому. – Мы играем в игру. Если парень заиграется, я тебя к нему подключу. Можно?
– Два одновременных дела, шеф, оплачиваются дороже. Невозможно же сразу и перепихиваться, и обедать. Одно из двух. Если все вместе – это уже цирк, а он, как известно, не бесплатный.
Кайтох курил, затягиваясь глубоко, томительно щурясь на белый, яркий свет лампы.
– Ты подлатаешься, парень, я обещаю тебе. Разве Кайтох когда-нибудь подводил тебя?.. Тем более, после того, как ты выяснишь, кто там бесчинствует в Тамани, и слямзишь из-под носа у Задорожного его гермонасские находки… если они, конечно, есть стоющие, барахло не бери… бронзушку там всякую, каменную мишуру, железо, глиняные вазы… это все туфта…
– Я понимаю, шеф.
– …после этого я спроважу тебя на дельце гораздо более завлекательное, вот нервишки пощекочешь, до конца дней помнить будешь… в Индию, в Бангалур… там господа ученые разнюхали нечто сенсационное… пещерный дворец древнего, времен Мохенджо-Даро, раджи… индийского царька… и там, по моим предварительным сведеньям, золота – хоть жопой ешь… как грязи… и древнего золота, ценного, не средневекового, не античного, гораздо древнее… – Кайтох говорил, и глаза его разгорались, краскана щеках принимала кирпичный оттенок. Он возбуждался. Он опьянялся. Он услаждал себя. – Такое, Касперский, золотишко, что просто ай-яй-яй… Ты хочешь туда ломануться?.. со стволом в лапах?.. поработать?.. только честно…
– Когда ж я отказывался от работы, шеф!
– Ты ж со стволом, прикинутый классно, древнее золотце еще не у таких боссов виртуозно отнимал… а там боссы будут со всего мира, главное, чтоб тебя не узнали, чтоб ты остался инкогнито…
– Мистер Инкогнито, ну я никому, никому не скажу, что у нас четырнадцать пулеметов… что меня зовут не Касперский, а Стас Чуев…
– Тебя… действительно зовут Стас Чуев?..
Кайтох протянул ему пачку: возьми сигарету, это отборный табак, греческие. Фарфоровый Касперский вытянул сигарету из пачки двумя пальцами осторожно и брезгливо, как червяка из земляного кома. Он так и не сел в кресло. Все стоял у шефского стола.
– Как Христа звали Иисус. Имя, шеф, ведь это тоже псевдоним. Это всего лишь маска. Она когда золотая, а когда и из говна. Но к роже прилепляется – ничем не отлепишь. Меня как-то раз назвали доктором Касперским, ну ко мне и прилепилось. Хватит о чепухе. Деньги вперед!
Кайтох повернулся к сейфу. Оглянулся через плечо на Касперского. Осклабился.
– Вот сейчас буду вынимать из сейфа тебе баксы, а ты возьмешь и выстрелишь мне в спину. Между лопаток.
– Может, и выстрелю, шеф. – Касперский дымил, держа сигарету в зубах. – Не исключено. Я такой. Но я же не круглый дурак, чтобы упускать денежки гораздо более клевые, чем лежат тут, в твоем идиотском сейфе, который можно ногтем открыть.
Кайтох повернулся, с охапкой долларовых пачек в руках, к подельнику. Он подпирал пачки подбородком.
– Попробуй, открой ногтем, щенок, – сказал Кайтох холодно. – Ноготь сломаешь. Не кажется ли тебе, что ты слегка зарвался, мальчик?.. У тебя мешок есть, «капусту» сложить?
Доктор Касперский довольно улыбнулся. Его фарфоровое лицо все высветилось изнутри. До чего красивый, дрянь, подумал Кайтох. Он всегда не любил смазливых мужиков. Когда тот отращивал бороду в Чикаго – они занимались тогда выкачиваньем сокровищ у чикагской мафии, это было опасное и яркое дело, похлеще, может быть, будущего индийского, – он вроде выглядел получше. В Турции он щетину сбрил, очаровывал стамбульских шлюх точеным носом, изогнутым, как античный лук, ртом.
– Как не быть, шеф. А вот он и мешочек.
Он небрежным жестом выдернул из кармана черный целлофан, потряс им, чтобы он расправился. Подставил Кайтоху мешок, как торбу для лошадиного овса.
– Сыпь!
Кайтох выкинул в черный целлофан баксы, как мусор. Подумал: а ведь это очень плохо, если его подчиненный называет его, шефа, на «ты». Потом усмехнулся. Это запанибратство в духе времени. Еще не хватало, чтобы этот Стас Чуев называл его «Вацлав Войцехович». Касперский попробовал мешок на вес на согнутом крючком пальце.
– Вы недовесили мне пятьдесят грамм, гражданин!.. Я буду жаловаться!..
Кайтох подошел к офисному шкафу. Вынул из-за стекла коньяк, два бокала.
– Гонорар надо сбрызнуть, Касперский. Помнишь, как мы с тобой отпадно попьянствовали в северной Испании?.. О, древняя Иберия, о, дешевое испанское красное вино… его мы пили прямо из бумажных пакетов, как молоко… Ты так, что ли, и потащишь баксы в открытом мешке, по городу?.. все ли дома у тебя, мальчик?..
– Все, – дерзко сказал Касперский, глядя прямо в глаза Кайтоху. – Надо носить баки в грязных мешках из-под картошки, тогда на них никто и не посмотрит. Подумают: «куклы». Подумают: парнишка прикалывается.
Кайтох налил коньяк себе и своему красавчику. Ах, красавчик, обожжешься ты когда-нибудь. Да ты и обжигался. Ты весь в ожогах, только они у тебя не на роже, а в других местах. А рожу ты всегда накачаешь гелем и подтянешь, чтоб быть красивым до ста лет. Ты ведь как баба.
– За что, шеф?.. – Он поднял рюмку.
– За все хорошее.
Они выпили. Касперский выдохнул с наслажденьем?
– А-а-а-ах… выдержанный…
За окнами небо затягивалось тучами. Да, дождь, над Москвой вот-вот грянет гроза. Еще немного. Еще чуть-чуть подождать.
– Давай еще, шеф?.. за наш грядущий успех в этом, как его… твоем Бангалуре… чтобы все золотишко мира было наше…
– А в Чигако, сокровище мое, ты больше не хочешь?.. поднапугался там малость?.. да, хорошие были перестрелки… как мы от полиции улизнули – до сих пор ума не приложу…
– Уметь надо. Любое дело мастера боится. Наше – тоже.
Коньяк остро пах клопами, как всегда. Раздавленными клопами. Кровью. И чуть – клейкой тополиной смолой.
… … …
…Она проснулась сегодня опять очень поздно.
Спать допоздна вредно, жаворонки живут дольше, чем совы, и успевают больше. Ей делать особенно нечего, не к кому спешить, некуда успевать. Она может спать хоть до полудня. Слепые пробуждаются обычно рано – ей так сказали. Она, напротив, все никак не могла проснуться; все нежилась каждое утро в кровати, обнимая рукой кружевные подушки, и ей казалось – она просто спит, просто дремлет во тьме, а сейчас будет утро, она откроет глаза и опять увидит свет. И мир вокруг.
Глаза не видели, хоть она и открывала их навстречу дню. И тьма не исчезала. Когда она осознавала себя слепой внутри совершенно зрячего мира, ей хотелось зарычать, как зверю, вцепиться зубами в кружевные наволочки. Она так и застывала в подушках – с распахнутыми настежь глазами, со сцепленными руками, и пальцы, сплетенные в крепкий замок, белели от напряженья.
Карлик Стенька бесшумно поднимался со своего маленького ложа, которое она приказала сделать ему прямо у себя в спальне. Она не могла без него ни минуты. Так, как старуха не может без любимой собачки. Стенька был тише воды, ниже травы; он спал так, что ни одна пружинка под ним не скрипела, как мертвый. Когда – это бывало очень редко – к Жизели в спальню приходил муж, Кирилл, карлик грустно уходил, сжав подковой рот над обвислыми бульдожьими щеками. У Стеньки были умные и печальные глаза. Он очень много знал. Когда ей становилось скучно, она усаживала его рядом с собой и говорила: «Расскажи мне о мире. Я забыла его. Какой он?» И Стенька рассказывал ей не о столе и кувшине, не о гребне и умывальнике – он рассказывал ей о дальних странах, о золотокожих людях, о заморских безумных карнавалах, где женщины сажают себе на пальцы павлинов и колибри, где девушки, как тигры, прыгают на подиумах в горящие кольца, где на площадь выкатывают из мешков огромные, как Луна, апельсины, и люди танцуют среди апельсинов, давя их ногами, подбрасывая их в ночной воздух, как мячи.
Стенька был теперь у нее – и кино, и телевизор, и театр, и светский раут, и подружка, и вязанье, и вышиванье, и любовник. Он не был ее любовником; какой из него мог быть любовник? Но она думала о нем с любовью, она с наслажденьем проводила с ним время, она ради него забывала о том, о чем должна была помнить, хоть она была и слепая.
– Стенька, – тихо позвала она. Он уже стоял у ее изголовья. Крошечные ручки-ухватики приподнялись, чтобы поправить сползший пододеяльник и ангорский плед.
– С добрым утром, госпожа.
Он называл ее всегда «госпожа», хотя она просила называть ее – «Жизель».
– Утро никогда больше не будет добрым, Стенька. Прикажи, чтобы мне принесли кофе и ореховых трубочек. И сливки. И больше ничего. Ты не знаешь, Кирилл дома?.. Ты давно проснулся?..
– Я особо и не спал, госпожа. Господин Козаченко, кажется, уехал. Его машины возле дома нет. Он встает раньше, чем вы.
Стенька, переваливаясь с боку на бок, как уточка, выбежал в коридор – приказать горничной принести госпоже застрак на подносе. Отдав распоряженья, он так же вперевалку вернулся. Жизель уже сидела в постели, ее пальцы перебирали кружева пододеяльника.
– Расчеши меня, Стенька. Расческа на столе.
Карлик взял расческу, дунул на нее, встал на маленькую скамеечку перед кроватью. Жизель повернула голову. Он стал тихо, осторожно, боясь сделать ей больно, расчесывать ее длинные, темно-золотые, цвета старой бронзы, волосы. В волосах Жизели проблескивала красная искра. Когда она была маленькая, мать обзывала ее «рыжей-бесстыжей».
Это был утренний ритуал. Она сама придумала его. Когда Стенька расчесывал ее, она забывалась. Она забывала о своей слепоте, теперь уже было ясно – пожизненной, и ей казалось, ее нежно расчесывает покойная мать.
Она подняла руку. Кружева ночной сорочки скользнули вниз. Карлик увидел красивую, роскошно-полную руку, тонкую в запястьи. Такой могла быть рука царицы. Да, его госпожа слепая царица. Только никто об этом не знает. Ему захотелось прижаться губами к сгибу этой белой руки, к изящным пальцам. Она потрогала голову.
– Здесь, на затылке, тянет волос. Больно. Все, плети косу, а в корзинку я ее сама уложу.
Карлик не успел выполнить желанье госпожи. Дверь в спальню хлопнула, и вошел Козаченко.
– Ты рано сегодня с работы, – отчетливо сказала она. – Все дела переделал?.. А я вот только встала. Даже не умылась еще. Что скажешь хорошего?
– У меня всегда все хорошее, дорогая, – он приблизился и поцеловал ее в лоб, будто приложился к иконе. – Фирма-вражина лопнула, я съел ее, косточки захрустели. Мои ребята все задницы отсидели перед компьютерами, пока укокошили этого железного дровосека Алтаева. Но сопротивлялся он отчаянно, уважаю. Когда меня будут вот так же мочить, неизвестно, смогу ли я так же сопротивляться.
– Фирму ты съел, – повторила она, страдальчески поморщилась, и две прозрачных слезы выкатились из ее широко открытых глаз. – В нас никто уже не будет больше стрелять в лимузине по этому праздничному поводу?..
– Я пока и не приглашаю тебя, душенька моя, покататься на машине. – Козаченко отошел к окну и постучал пальцами по чисто вымытому стеклу. – Как ты себя чувствуешь, лучше скажи мне?..
Она помолчала. Карлик вытянул шею. Его щеки задрожали, как студень.
– Хреново, – резко сказала она. Он вздрогнул, как от удара ремнем.
– Ничего, ничего. Я уже договариваюсь с лучшими специалистами Штатов. В старушке Европе тебе ничего не сделают хорошего, парижская офтальмология на никаком уровне, Лондон сам у нас учится, в Федоровском центре. Мы уже проиграли пластинку с Федоровым. Я повезу тебя в Нью-Йорк, а может, и в Филадельфийскую клинику. Там все супер-пупер. Они как раз занимаются проблемами восстановленья зрительного нерва.
Она спустила ноги с кровати. Ее тонкие щиколотки, лодыжки высунулись из морской пены сияющих белизной кружев.
– Восстановленье, – сказала она тихо, медленно и насмешливо. – Раставрация, ремонт, возрожденье, воскрешенье. Воскресенье. Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Меня уже воскресили. Тебя тоже. Мы хотим слишком многого. Нас опять накажут. Нам снова покажут что-нибудь страшное. Мы не умеем учиться. Мы не усваиваем уроков.
– Что ты мелешь, Жизель! – Кирилл прижался лбом к стеклу. Огромный тополь за окном шумел, голуби и скворцы ютились в нем. – Кто тебе покажет, что!.. Какие бредни. Ты полетишь со мной в Америку, и тебе там все сделают. Вплоть до пересадки нерва.
– У кого они его возьмут?.. – тихо спросила она, встала и пошла на его голос, по направленью к окну. – У убитого?.. Я не хочу, чтоб во мне бился, жил нерв убитого человека. Я не хочу, чтобы во мне билось сердце убитого. Я – не убитый. Я – это я. Если я уже умерла, то дайте мне умереть. Не оживляйте меня. Я против воскрешенья. Я…
Она задохнулась. Кирилл повернулся, взял ее руками за плечи, дрожащие под кружевом.
– …против воскресенья.
Зашумело платье горничной, накрахмаленный фартук. На подносе кудрявая, черненькая, смуглая, как мулаточка, девочка внесла дымящуюся большую чашку кофе, ореховые трубочки, сливки в молочнике, сметану в вазочке, вишневое варенье. Жизель обернулась. Втянула носом воздух. Карлик кивком поблагодарил горничную, махнул кривой лапкой, отсылая ее. Сам взял поднос с завтраком, поставил на столик близ кровати.
– Садитесь, госпожа, поешьте, попейте. Господин Кирилл, вы не желаете?..
Он желал. Присев на краешек кровати, он взял ореховую трубочку, затолкал в рот целиком. Жизель подошла к кровати, хотела сесть на одеяло – он перехватил ее, силком усадил себе на колени. Взял трубочку. Поднес к ее лицу.
– Я сам покормлю тебя. Кусай!
Она осторожно, как в зверинце, укусила трубочку. Сморщилась.
– Горькая. Орех горький попался.
Козаченко тихо рассмеялся. Поцеловал ее прямо в крошках, капризно искривленный, красивый рот.
– Милая, мы живы. Помни лишь о том: мы живы. А все остальное чепуха. Горькие орехи, горькие пилюли…
– Только пули не горькие. Они сладкие на вкус, – сказала она, с силой толкнула его в грудь и встала. – Те, которыми в нас с тобой стреляли.
…………………она смутно помнит все. Зачем ей помнить. Память человеку дана не для того, чтобы наслаждаться. Память дана, чтобы мучиться. Они ехали в их машине, тогда у них еще был новенький, изящный «кадиллак», она так гордилась им, ведь это был ее личный «кадиллак», муж подарил ей его на день рожденья. Еще он подарил ей на день рожденья живого львенка. «Это вместо котенка, дорогая», – небрежно сказал он. Она визжала, хохотала, совала львенку в жарко дышащую пасть руки, прижималась носом к его мокрому носу. «Он вырастет, и я буду кататься на нем верхом», – сказала она гордо. «Он вырастет и загрызет тебя», – сказала его мать, ее свекровь, глядя на умилительную сцену холодно буравящими все и вся глазами-камушками из-под сильных плюс-очков. Были гости, много гостей, блестящее общество; она все еще не могла привыкнуть к блестящему обществу – шел уже десятый год их с Кириллом замужества, он был один из самых богатых людей России, и, как шептали ей с завистью, всего мира, у них не было детей, Кирилл наращивал капитал, как верблюд – жировые горбы, заваливал жену тряпками, подарками, шубами, жемчужными колье, алмазными серьгами, махал рукой: это все бирюльки, настоящие вклады денег – не в шубы и шапки, о нет!.. Он дошел до той ступени обогащенья, когда выгодно заниматься только нефтью и войной. Только энергоносителями и оружьем. Весь остальной бизнес уже казался ему детским садом. И Козаченко рванул вперед. Он спелся, скорешился с властью. Он стал диктовать власти свою волю. И к нему прислушивались, его слушались – в его руках стягивались нити финансовых компаний, холдингов, энергетических концернов. Он, набирая обороты, смеясь, перекачивал деньги на счета иностранных государств, памятуя о том, что Россия – страна ненадежная: сегодня белые, завтра красные, послезавтра зеленые, а потом внезапно приходит черный Сатана и пляшет на разалинах империи грозный вальс Нового Века в обнимку с железным АКМ. Все удивлялись, как он мог, по горло занятый деланьем денег и переброской то нефти, то громадных партий оружья туда-сюда по белу свету, еще и успевать заниматься женой, вывозить ее, знакомить ее с нужными людьми, хвастаться ею, заваливать ее по макушку подарками. Его подхваливали: экий Козаченко нежный муж, заботливый, как петух! Золотое зернышко все своей курочке склюнуть дает!..
Тот день… Скандал с банком, гревшимся под крылом Кирилла… Отказ Кирилла помочь… «Козаченко, ты спасаешь свою шкуру, – орали ему истошно в телефонную трубку, – но ты не спасешь себя, а погубишь!.. Сжалься!.. Опомнись!..» Он не сжалился.
Они тогда поехали в «кадиллаке» в театр; она напрочь забыла спектакль. Весь мир – театр… вся жизнь – спектакль… была охота помнить…
Было так темно, когда они вышли из театрального подъезда. Так странно темно, что она даже спросила Кирилла: а почему такая темень?.. в Москве свет отключили, что ли?.. – и он ответил ей, успокаивая: это же не военное затемненье, как во Вторую мировую, это просто экономят электроэнергию. Ах, твою проклятую энергию экономят, засмеялась на, влезая в машину. Они устроились на сиденьях, она подобрала под себя шубу – дело было зимой, в театре она сидела вся декольтированная, а на улице стоял крепкий мороз, и она укуталась в норковую шубу по уши. Воротник закрыл радужные капельки алмазных серег в мочках; нос и рот; поверх голубого пушистого меха глядели только глаза. Огромные, искусно накрашенные, яркие, сияющие. Она видела свои глаза в зеркале. Ну и глаза у моей жены, сказал ей тогда Кирилл, посмотрит – рублем подарит. «Так-таки только рублем?.. – засмеялась она весело. – А не долларом?.. Не тысячей долларов?..» Он довольно ухмыльнулся, крутанув руль. «Ты бесценна, золотая моя, – бросил он, выезжая из тьмы на покрытое инеем шоссе. – Тебя невозможно оценить. Я бы не продал тебя ни за какие деньги ни на одном из престижных аукционов мира». Тогда она сначала рассмеялась ему в ответ, а потом, помолчав, обиделась. Что это, она разве товар!.. Брось, Жизель, это муж хотел сделать тебе комплимент, а ты… Нет, нет, что-то тут не так, она чувствовала правоту его слов. Женщина всегда товар. Она всегда продается и покупается. Даже когда она сама не хочет быть проданной или купленной.
Она, насупившись, закутавшись в шубу, ехала рядом с Кириллом в машине, и в ее высоко взбитых волосах проблескивали алмазинки заколки. На них все оглядывались в театре, она видела. Пьеса ее не занимала – ей нравилось глядеть, как смотрят на них, как ими живо интересуются, слышать, как шушукаются за ее спиной: глядите-ка, чета Козаченко, а она-то какая красотка!.. Скорей бы домой. Все эти театры, рауты, приемы, парти утомляют. Скорей с ногами – в кресло, и разжечь камин; и думать о чем-нибудь приятном, а лучше совсем не думать. Не думать… не жить… спать…
Они выехали из раструба Воронцова Поля на Садовое, здесь уже их ждало целое море огней, и она успокоилась – нет, еще нет всеобъемлющей тьмы, зря она напугалась, – и тут по «кадиллаку» полоснула огненная очередь. Стекла полетели вдребезги. Машина, потеряв управленье, врезалась в бордюр, сплющила бок. А огненные очереди все полыхали, и в Козаченко, удачно упавшего на бок, попали тоько три пули – в руку, в шею, слава Богу, не задели сонную артерию, и в плечо, – он отделался почти легким испугом, все три пули из него вынули просто за минуту, раны перевязали, и зараженье крови он не получил, и очухался быстро; а она… она…
Огонь вонзался в машину, внутрь, и она подняла руки, защищаясь. И пули попали ей в руку и в голову. Странно, как она осталась жива. Такое раненье головы – верная смерть. Она помнила только это грохот и свист. И огонь, слепящий огонь против глаз. И мгновенную боль, с которой не сравнится ничто в мире. Уж лучше бы мне отрезали голову, подумала она тогда мгновенно, быстро, понимая, что ее голова – у нее на плечах, и она уже прострелена. «Мама, меня убили», – прошептала она одними губами, и стена золотого ливня встала у нее перед глазами.
И она стала падать, падать, падать в пропасть – сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и все вокруг померкло, все утратило свет и цвет и перешло во тьму, а безумная боль все не кончалась, и она подумала о том, каково это – быть мертвой; счастливо это или ужасно. И еще о том, какая, оказывается, вечная тьма скучная. Совсем ничего страшного и потрясающего нет в ней. Скучная, серая, простая, гадкая. И это была ее последняя мысль.
Она упала в машине плашмя, сверху, на Кирилла, – так падают дрова поленце на поленце. Они оба замерли, и в вечной тьме, куда на миг рухнули они оба, раздавались голоса тех, кто, подъехав на верткой «БМВ», хладнокровно расстреливал их: все, ребята, готовы оба, я же говорил тебе, Жорик, я бью сто очков из ста, мне не стыдно перед шефом отчитаться, свои баксы я сполна заработал, а вот ты, мазила, куда совался?.. лучше бы сидел со своим кривым стволом, не высовывался…
Тьма. Тьма. Вечная тьма. Она не помнит, сколько времени была за слепящей границей страшной боли. Она помнит, как ее оттуда вынимали. Это было ужасно. Она кричала. Она рвалась обратно. Она не хотела сюда, сюда………………………
Стенька помог ей одеться. Он был у нее и за горничную, хотя у нее была и настоящая горничная. У карлика были такие ловкие, нежные ручки. Он рассказал ей, что в Консерватории учится такая же, как он, карлица, и с такими же кривыми, ухватом, ручками, и она преуспела так, что играет уже Тридцать две вариации Бетховена, а сидит на двух подушечках на стуле за роялем, и под ноги ей подставляют специальную скамеечку. Слушая это, она улыбалась. Стенька всегда мог ее развеселить. На время ее одеванья услали Кирилла. Он со вздохом ушел. Опять этот карлик. Всегда этот карлик. Может быть, он, муж, хочет побыть наедине со своей женой, хоть она и слепая. А он крутится под ногами. Она купила на подпольной распродаже древностей золотую маску. Да, это сокровище бесценно. Дело не в красоте вещи. Дело в ее ценности. Или – бесценности. Жизель умница, что купила эту вещь, хоть ей и пришлось для этой цели распотрошить половину их американского банка. Она всегда делала умные шаги. Сообразительная девочка. Деньги надо вкладывать. Пройдет пятьдесят лет – и их внуки скажут им спасибо: стоимость маски только вырастет. Вторая маска, мужская, укатила в Италию. То-то в Риме будет бум. Эти вещицы знаковые. Это символы Цивилизации. Как долго карлик одевает его жену!.. Что они там копаются?..
Стенька ходил вокруг Жизели кругами, как кот. Он тихо поправлял трясущимися пальцами складочки платья. Застегивал пуговку. Охорашивал ее перед зеркалом, будто она могла видеть в зеркале себя. И она видела себя – его глазами.
– Мягко ложится шелк… какую красивую складку здесь заложил ваш портной, госпожа!.. И цвет вам к лицу, это цвет нежного персика, полной летней Луны… как раз к вашим волосам, к глазам…
Он говорил об ее глазах так, как если бы они видели. И она была благодарна ему за это.
– Спасибо, Стенька. – Она погладила его по голове. Его круглая большая, как кегельный шап, голова была всегда под ее рукой, как большая добрая голова умной собаки. – А теперь… пока Кирилла нет… я хочу посоветоваться с тобой об одном важном деле. Ты выслушаешь меня?..
Карлик молитвенно запрокинул голову.
– Мне да не выслушать вас, госпожа.
Она услышала: «Я люблю вас, люблю вас».
Улыбка раздвинула ее губы.
– Ты ведь был со мной на распродаже. Ты помнишь, кто купил вторую золотую маску?..
Карлик наморщил брыластое лицо, пожевал губами. Его глаза просияли точным воспоминаньем.
– Помню. Итальянец Дроветти.
Она вздрогнула. Погладила себя по щеке, осязая ее нежность.
– Да, да. И я помню это имя. Я помню его голос. Дроветти. Итальянец. Мне до смешного знакома его фамилия. Я ее часто слышала. От кого?.. от мужа?.. ах, до чего же я дурья башка… – Между ее бровей прорезалась негодующая морщинка. – Стенька, узнай все о Дроветти. Где он живет – в Италии, в Москве. Он нужен мне. Я хочу…
Она пошарила руками, взялась за плечи карлика, низко наклонилась к нему, нашла губами его большое ухо, высовывающееся из-за пряди пушистых волос.
– Я хочу выкупить у него маску царя. Чтобы царь и царица всегда были вместе. У меня.
А потом вежливо протянуть руку вошедшему мужу, услышав его шаги по скриплому паркету; и любезничать за обедом; и потом внезапно поднести к горлу руки при подступивших стремительно слезах, прямо за столом, с салфеткой на коленях, рядом с фарфоровой супницей. Ах, Господи! И это жизнь слепой. Слепая ходит-бродит по жизни, а дела у нее нет; потому что она очень богата, слепая, и потому, что она уже не видит дела. Дела больше нет и не будет. Так зачем же так волует ее эта золотая маска царя? Стенька, узнавай скорее. Ей нужен этот Дроветти. Откуда она знает это имя – Дроветти?.. Память слуха, ведь это как музыкальный слух, как память музыки… Дроветти… Паваротти… Итальянские канцоны, баллады и ричеркары… «Хочу завтра на обед итальянские равиоли», – капризно сказала она.
Стенька, ты незаменим. Он зазвал ее в спальню. Он, когда она наклонилась к нему, даже ухитрился обнять ее ухватами-ручонками за шею.
«Госпожа, я все узнал. Дроветти – нефтяной магнат и друг господина Кирилла. Ваш муж к нему благоволит. Он с ним в пае. Правда, он пока мелкая сошка, господин взял над ним покровительство. Дроветти хитрый, как все итальянцы. Он господина Кирилла обманет. Так же, как обманывали многие. У него дом во Флоренции и квартира в Москве. Еще я узнал, что Дроветти – друг археолога Бельцони, и закадычный. Они часто отдыхают вместе, играют в карты. Особенно сейчас, после смерти жены Бельцони, Моники…»
«Тихо! Тише! – воскликнула Жизель, зажимая карлику рот рукой. – Повтори еще раз, и тише!.. Ты сказал – Моника Бельцони?.. О Боже, откуда, откуда же я знаю ее?.. Так ты сказал, она умерла?..»
«Да, госпожа. По слухам, на юге. На раскопках. Господин Бельцони занимается древностями, его жена ему всемерно помогала. Так же, как бедная супруга господина Кайтоха, на чьем вернисаже вы купили золотую маску, госпожа».
Она стояла, чуть покачиваясь, крепко вцепясь пальцами в плечи карлика.
«Моника Бельцони… Моника Бельцони… А!.. Да!.. Вспомнила!.. Стенька, я все, все, все вспомнила!..»
Она закружила карлика по комнате в странном танце, в порыве страшного и причудливого вальса; зацепилась платьем и ногой за ножку стула, упала, и карлик, испуганно заохав, поднимал ее с пола, ушибленную, разбитую, в синяках, плачущую и смеющуюся сразу.
«Да, да, и Дроветти вспомнила, он приходил к мужу, когда еще я… – Она не сказала: когда я еще видела. – Давно… робкий, но взгляд хитренький, они все такие, черно-масленые южане… И Бельцони вспомнила! Я однажды обедала с ним! И ее… Монику… Это все было, когда еще я училась… Господи, Стенька, как же это было давно… неужели я такая старая… неужели же мне уже умирать пора?!..»
Карлик изумленно глядел на молодую, с нежной кожей, с румянцем на скулах, красивую его госпожу. Его лицо мучительно кривилось. Как хорошо, что она не видит, как по его бульдожьим щекам ползут слезы.
«Побойтесь Бога, госпожа. Вы мелете языком. У вас жизнь только начинается с господином. Вас Бог чудом от смерти спас, значит, Он хочет, чтобы вы жили дальше. Кого Бог берет – берет сразу и навсегда».
«Тот и счастлив, Стенька. Нет, тогда я была молода по-настоящему!.. Это было, когда я училась в Америке…»
…………………небоскребы Нью-Йорка, бешеного города, одного из самых быстрых городов. Ей не понравилось там жить. Слишком быстро все ходят; слишком торопливо едут; слишком много народу на улицах, слишком узких, каменных и голых, и слишком высоко зданья уходят в небо, заслоняя его от глаза. Она, Жизель, была совсем юная, только закончила школу, и ее родители решили отправить ее поучиться в Нью-Йоркском университете – специальность «искусствоведение» была загадочной и очень женской, ее предкам казалось, что их хорошенькая девочка просто создана для искусствоведения, только для него. Зачем лететь за океан?.. Разве мало профессоров в Москве?.. Жизель глядела на Нью-Йорк отнюдь не восторженно: ах, Америка!.. – он утомлял ее, ей хотелось в старую Европу, к старым камням Франции, к фонтанам Италии, на дикие поемные луга России, на озера с карасями. А вместе этого сиди в каменном мешке, слушай лекции то по-английски, то по-русски – в Нью-Йоркский университет приезжали писатели, художники, режиссеры из России, это была какая-то русская тусовка, Жизели казалось – Нью-Йорк русский город, когда на Брайтон-Бич она слышала, как полисмены свободно по-русски матерятся. И здесь, в Нью-Йорке ее юности, она и встретила эту странную девушку, красавицу-гречанку, черноволосую и высокую, с черненькими усиками над губой, отчего та всегда напоминала Жизели пушистый персик, – Хрисулу.
Хрисула тоже училась в Университете. Девочки сидели вместе на лекциях, оживленно болтали по-английски – Жизель совершенствовалась в языке, – а потом Хрисула немного учила ее греческому языку, такому мелодичному, как итальянский, и буквы там были – ну совсем русские. А вечерами Хрисула куда-то исчезала. Жизель боялась спросить ее. Потом все-таки спросила. И Хрисула ответила ей сразу, весело и грубо: «А ты не догадалась разве?.. Я промышляю ночным ремеслом. Это очень весело, особенно в Нью-Йорке. Здесь такие классные мулаты попадаются!.. А латиносы!.. умереть от восторга… и щедрые, много платят…» Жизель глядела на Хрисулу, как на сумасшедшую. «И ты… еще не заболела?.. – наивно спросила она. – И тебя… еще никто не избил?..» Хрисула засмеялась звонко, будто много колокольчиков зазвенели сразу. «Ты просто Божия коровка, Жизель, – хмыкнула она. – Ты не знаешь жизни! Жизнь, darling, она опасна! Но в риске – прелесть! Я люблю опасность! Я люблю ночь и новых мужчин! И это же приключенье, а тебе повезет в жизни только тогда, если ты вся, настежь, открыта приключеньям!.. Хочешь – пойдем со мной?.. Попробуешь?.. Раз начнешь – не оторвешься! У меня всегда деньги есть, я – не то что ты, так и ждешь, когда набегут в банке твои вшивенькие процентики!..» Жизель задрожала. «Но это невозможно!.. Я… не смогу!..» Хрисула засвистела сквозь зубы какую-то греческую песенку, подмигнула ей и улизнула. В свою опасную, смелую жизнь. На ночную нью-йоркскую улицу.
И однажды Хрисула пришла с улицы к ней, к Жизели, домой – она снимала маленькую квартирку в районе Лексингтон-стрит – со странной дамой, много старше себя; дама была еще красива, хоть белые, сивые волосы у нее на голове уже начали редеть, и она забирала их на затылок черепаховым гребнем, чтобы никто не увидел намечающейся смешной лысинки. Даму звали Моника, и у нее были вставные зубы, а рот она красила модной дешевой перламутровой помадой «Kiki». Моника оказалась разговорчивой путаной. Она была умна, весела, у нее была смешная худощавая фигурка, вся состоящая из острых углов, и девочки узнали из ее предутренних рассказов за бутылкой желтого кальвадоса, пачкой сигарет и крепким, как горчичник на желудок, кофе, что ее мать была шпионка, и ее звали Цинтия, и на была страшно знаменитой шпионкой, – ну, а Моника росточком, что ли, не вышла, или умом, зато взяла красотою, на Бродвее и на Кэнел-стрит от белых и от негров просто отбою нет!.. нет, нет, она не проститутка, это так, ее развлеченье, а так она историк, она закончила исторический факультет Нью-Йоркского университета… да только вот знанья в одну дырку вошли, в другую – вышли… Они тогда хохотали и курили сигареты, да, Жизель даже помнила, какие – «Salem». А потом презабавная Моника укатила в Европу; она вскричала напоследок: «Мне надоела Америка! Здесь все безмозглые скоты! Хочу в умную Европу, но не в Англию поеду – махну в Италию, люблю солнце, люблю, как итальянцы поют!..» Она прислала им с Хрисулой открыточку уже из Венеции. Пришло еще несколько открыточек, нацарапанных, как воробей лапкой – о том, что она счастливо вышла замуж за профессора археологии, господина Армандо Бельцони.
… … …
– Это сделал ты, Вацлав. Ты! Ты! Ты!
– Это сделал не я, Армандо.
– Это сделал только ты! Ты же мне сам сказал, что ты можешь… что ты это сделаешь, если я не…
– Это не я.
– Я же отдал тебе твою долю! И она львиная! Львиная, слышишь! Я же должен был поиметь хоть немного! Хоть что-нибудь!
– Ты всегда хоть что-то имеешь, Армандо, задница. Благодари Бога, что мы оба живы. Как тебе не совестно. Ирены же тоже нет. Я невиновен в гибели Моники.
– Ее убил ты, Вацлав! Я не верю ни одному твоему слову! Я не верю тебе!
Армандо лежал лицом на столе в особняке у Кайтоха. Он рыдал, как баба. Кайтох налил ему в рюмку сердечных капель, поднес. Где твой былой лоск, Армандо. Да, это жизнь. Вот она, жизнь. В ней убивают. И наших близких, и нас. А ты думал, ты вечно, радостный карбонарий, будешь стричь купоны. Двери захлопнулись. Бог берет плату натурой.
Кайтох сам накапал себе капель. Дерьмовое средство. Уж лучше коньяк. Он вбросил в себя пахучее зелье, его лоб с высокими залысинами покрылся письменами морщин.
– Твое право не верить. Я разберусь в том, что там, в Тамани, творится. Я уже послал туда Касперского. Он парень – кремень. Не бойся, Задорожный от нас никуда не убежит. Если смерти наших жен, Армандо, его рук дело, – ох и страшную пытку я ему придумаю. Ох и медленно он будет умирать.
Бельцони поднял от стола зареванное лицо. Галстук у него сбился на сторону. Глаза блуждали, как у раненого зайца. Он воззрился на Кайтоха.
– Так это не ты, Вацлав?.. Не ты ее убил?..
– Говорят тебе, не я! Радуйся лучше, что так все вышло! Что ты точишь слезы, как красная девица!
– Красная… как?..
– Сколько лет ты в России, Армандо, а не силен в языке. Только и вызубрил, что матюги. На матюгах далеко не уедешь. Ты должен говорить по-русски лучше, чем шпион и дипломат, понял?.. Радуйся! Поплачь немного, а потом утри слезки и пойми, что у тебя старой жены нет, а ты еще больше разбогател после продажи измирского золота, и теперь ты можешь взять в жены хоть принцессу Монакскую, ты можешь жениться на дочке Рокфеллера, еще и плохая партия она для тебя будет!.. Ты можешь жениться на молоденькой курочке, Бельцони, ты, старый авантюрист!.. Ты это-то хоть понял немного?!..
Бельцони встал, с грохотом отшвырнув стул ногой.
– Ты… – Он задохнулся. – Ты циник, Вацлав!..
– А ты не циник? – Кайтох схватил его за рубаху, притянул к себе. Задышал ему в лицо перегаром, табаком, корвалолом, гневом. – Ты разве не циник?! Убивать, грабить, насиловать других людей можно, а твою драгоценную Монику – нельзя?! Предавать и продавать других можно, меня в том числе, а тебя, твою персону грата, – не тронь?!.. Мы с тобой, Армандо, давно старые разбойники! Мы – персоны нон грата! Мы циники! Мы ловим момент! Мы берем от жизни все! Все! Все, понимаешь!..
– Пусти меня, – устало сказал Бельцони, освободил рубашку от железной хватки Кайтоха, отряхнул грудь, отошел в сторону. – Я отчего-то не могу думать, как ты. Мне нужна была моя Моника. Я к ней привык. Я… – горло у него захлестнуло петлей опять набежавших слез. – любил ее. А ты, ты уже никого не любишь, Кайтох. Где твой сын, Вацлав?.. Там?.. В Тамани?.. Если там так опасно, если там действует убийца, не подчиненный тебе, porca madonna, – так почему ты не заберешь егт оттуда?!..
– Потому, почему и ты не забирал оттуда тело Моники. Его тебе привезли самолетом, гроб передали, – сухо сказал Кайтох и закурил, обвевая себя дымом, как фимиамом. – Лень, милый мой, лень. Лень и еще авось. Я хоть и поляк, а всегда надеюсь на русский авось. Это славянское. Это у нас в крови. С Ежи ничего не случится. Это мой сын.
– Дурак!.. Он же еще ребенок!..
– В этом возрасте мальчик уже должен уметь постоять за себя. Побороться за себя. И, если понадобится, умереть в бою.
Бельцони угрюмо сверкнул в Кайтоха слезящимися глазами. Поправил галстук.
– Ты жесток!
– Все мы жестоки. Все мы звери. Помнишь, что сказал умный Гоббс: человек человеку волк. А благородное животное волк, Армандо, согласись. Древние его всегда изображали на фресках, на стелах. И лев тоже. Хотя лев хищник, Армандо, и жрет даже людей, не только антилоп. И я – хищник. Я хищник, Армандо, и ты тоже. Мы оба хищники и циники. Не лги себе.
Кайтох бросил в пепельницу сигарету. За окном смеркалось. Вдалеке, в теплом небе, гасло огромное белое облако, как чья-то жизнь.
… … …
Та благодатная гроза, великая и страшная, смыла в море острую боль невозвратных потерь. Наутро засверкало солнце, озарив напитанную влагой землю первозданным сияньем красоты. Весь раскоп расквасился и отсырел – потоки ливня размыли глину, снесли деревянные распорки Задорожного, превратили в кашу склон свежих разысканий. Нужно было многое начинать заново, но люди, потрясенные и умытые очистительной грозой, казалось, даже не огорчались, видя разрушенья. Это была природа, стихия, долгожданная и могучая. Бог немного побил в барабан и погудел в небесный рожок. И снова – солнце. «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос…»
Их осталось шесть человек. Всего шесть человек. Солнце сияло так ярко, жарко и ласково над омытым влагою миром, что казалось невозможным больше никакое убийство, никакая трагедия. Роман и Светлана взялись за руки при виде утреннего моря, сплели пальцы. Любить, любить. На земле только и есть счастье – любить. Счастлив лишь тот, кто любит и творит. Все остальное – тлен, мишура, суета сует.
Славка Сатырос, забрав волосы на затылок, хлопотала на кухне. Леон чистил скребницей коня. Серега копошился в раскопе. Ежик еще лежал в палатке – жар у него, стараньями Светланы, спал. Роман озирал свои владенья, сжимал руку Светланы все крепче.
– Родная моя, идем трудиться. Ты хорошо себя чувствуешь?..
Светлана озарила его улыбкой не хуже взошедшего солнца.
– Я люблю тебя.
Это был исчерпывающий ответ.
Белопенный прибой тихо, нежно взлизывал, набегал на темную кромку берегового песка. На валуне сидела чайка.
– Милое море, – сказала Светлана дрогнувшим голосом, – я никогда его не забуду.
– Я тоже. Я видел много морей. И много земель. Но Тамань всегда будет наша.
Сзади послышались шаги, сухая трава зашуршала. Задорожный быстро обернулся. Перед ними стоял странный парень, абсолютно бездомного, расхристанного вида, – судя по всему, вокзальный житель, сезонник, голь перекатная, классический бомж; или уж такая бездонная богема, что он, видно, потонул в ее пучине навек. Он был одет в обрезанные, как у Светланы, джинсы, непотребно-грязные, будто ими мыли полы на вокзале; в вытертую до белесости джинсовую безрукавку на голое тело; на его башку была нахлобучена шляпа невиданной формы и цвета – она напоминала огромный черный груздь с неровными краями, неудачно срезанный и вдобавок червивый; его руки и грудь были покрыты татуировками, а рожа по глаза заросла неряшливой, безумной бородой – неряшливость Леона была по сравненью с этим бродягой просто комильфо. «Расскажи, расскажи, бродяга», – захотел спеть ему Задорожный. Какая муха укусила этого сезонника?.. Что ему от них надо?.. А красивый парень-то, это заметно сквозь заросли его чудовищной бороды. Вот моджахед. Не чеченец ли?.. Да нет, светловолос; и до чего правильные черты лица, просто как из дерева вырезанные. Роман, прищурясь, всмотрелся. Неожиданное сомненье кольнуло его. На кого он смахивает?.. О, Роман Игнатьич, у тебя столько встреч было за последние три-четыре года, столько людей мимо тебя, сквозь твою жизнь прошло, всех разве упомнишь… Разве можешь ты вспомнить, на кого этот бомж похож?.. А вот помыться ему надо, странновато пахнет от него… но не погано, а…
Роман вдохнул воздух вокруг бродяги еще раз и понял: это запах дегтя. Обычного сапожного дегтя. Будто парень выскочил из сапожной мастерской.
Таманец?.. Пришлый?.. А может, просто местный алкоголик Вася, и приперся сюда, в экспедицию, у доброго профессора десяточку-двадцаточку стрельнуть, на выпивон?..
– Здравствуй, – не чересчур любезно бросил Задорожный. – Чего надо?
– Здрасте, – боднул головой бродяга. Переступил с ноги на ногу. Почесал пяткой лодыжку. – Работать возьмете?..
Вот так вот, с ходу. А почему нет.
Нет, нет, Роман, погоди. Все-таки надо быть осторожным. После стольких смертей – надо быть предельно осторожным.
– Работать, значит, хочешь?.. А про оклад не спрашиваешь?..
– Какой оклад, – бродяга шмыгнул носом. – Мне и харча достаточно. Харч будет – ну и ладно. И спанье. Утомился я спать на автобусной станции. Меня уже оттуда гонят.
– На какой станции?.. Откуда ты?..
Вслушаться в его говор. В его выговор. Южный выговор очень отличается от северного и от московского. Уж от сибирского – и подавно.
– Я-то?.. Я караим, я из Чуфут-Кале!.. Прямо оттуда, да… чуток в Бахчисарае пожил, это да… меня в Бахчисарае пытались в психушку посадить, там знаменитая психушка, клевая такая, там даже суп с креветками сушеными давали… и помидоры свежие… больные теми помидорами кидались, так я ж им говорю: ну вы, суки, Бога не гневите, вам что, больше всех надо?!.. Сбег я оттуда, сбег. Дохтур один мне помог, клевый такой. На вокзалах я дрых, это да… нанимался на разные работы, ручонки-то у меня ничего, рабочие!.. многое я могу, вы не смотрите, начальник!.. И черную работку, грязную, и побелее!..
Роман слушал. Нет, как знакомы эти южные «х» вместо «г»: «Боха не хневите», «сбех я оттуда»… И руки у него заскорузлые, сильные, мозолистые: рабочие. Классический сезонник. Нет, Роман, это не подосланный. Это не убийца. Это просто обычный крымский бродяга, и он прознал про то, что тут, на обрыве, копают археологи; а нельзя ли здесь подзашибить?.. люди гутарют – можно… За спрос, как известно, денег не берут… Задорожный оценивающе глядел на бродягу. Бродяга, не стесняясь особо, – на него. Усмехнулся.
– Меня боитесь, начальник?..
– Сидел? – без обиняков спросил Роман.
– Сидел, конешно, – тут же, даже с радостью, подтвердил бродяга. – А как же не сидел?.. Как же без сиденья-то?.. Но я не испортился на зоне, начальник, не скурвился, не ссучился, ты же сам видишь. – Он резко и легко перешел на «ты». – Хлебнул я жизняка, это верно. Так мне за то и цена подороже. За одного битого, знаешь ведь, двух небитых дают…
– Это верно, – кивнул Роман. Светлана не стала мешать разговору, отошла в сторону. Искоса поглядывала на красивого бродягу. Роман почувствовал легкий укол ревности.
– А раз верно, то бери меня с потрохами, не задумывайся!.. Я, между прочим, и развлекальщик отличный, на зоне меня все просили романы тискать. Я корешам такие романы тискал – закачаешься!.. про рыцарей, про паханов… про Джека-Потрошителя, с продолженьем… а еще про наших предков, караимов, тоже немного знаю… вот где надо покопать-то, начальник!.. у нас, в Чуфут-Кале! Там эх и полно всего выкопать можно!.. сразу прославишься, прогремишь…
Улыбка изогнула луком его красивые, в обрамленьи дикой бороды, губы, и Роман снова вздрогнул. Где все-таки он мог видеть этого сорванца?.. молодой, да, бородища – это все от отсутствия бритвы и жилья… почему, ну почему ему до боли знакомо это лицо?.. Бред. Ты, Задорожный, бредишь не хуже бедняги Ежика. Ты видел тысячу таких бомжей. Просто к тебе ни один из них еще не нанимался на работу.
– Ладно, так и быть, – Роман придирчиво еще раз осмотрел бродягу. – Будешь работать. Жить – в отдельной палатке, я сам тебе дам. – Да, много у тебя, Роман, освободилось палаток. Слишком много. – Харч свой, – усмехнулся, – будешь получать наравне со всеми. Вкалывать много придется. Работы полно. Я покажу тебе, что делать. Как звать-то тебя?
– Меня-то?.. Илья. В честь пророка Илии мамка назвала.
Верно, безошибочно отметил Роман про себя, караимское имя, они любят давать детям библейские, ветхозаветные имена. На караима, правда, он не слишком мастью похож – они все черные, курчавые, вид у них – помесь татарина и иудея: по-татарски раскосы, по-еврейски горбоносы, – а этот светлый, сивый, но ведь и татары светловолосыми бывают!.. Особенно – крымские… и теперь, когда все этносы капитально смешались… Он впервые приветливо улыбнулся новому работнику.
– Ну что, Илья, валяй, сам раскладывай палатку, вон под тентом лежат свернутые. Бери любую. Разложишь – ступай сразу в раскоп, подходи ко мне, я тебе все покажу, что к чему. Работал когда-нибудь с археологами?..
– Никогда, начальник. – Ясные глаза глядели радостно, весело. – Ни в жисть.
Когда он пошел ставить палатку и Роман поглядел ему в спину, у него снова екнуло сердце. Похож! На кого?! Чушь. Ты просто напуган. Ты напуган, Роман, больше всех, вместе взятых. Человек пришел к тебе с вокзала, из-под забора, ты дал ему кров и стол, обласкал, еще и копейку дашь, – Бог тебе это зачтет! А ты еще сомневаешься!
Он подошел к Светлане. Она чертила прутиком на выжженной земле рисунок.
Роман подошел совсем близко и увидел: она рисовала на земле фигурку девушки, едущей верхом на льве.
… … …
– Стенька. Ты выловишь его. Ты выловишь его, как рыбку сетью. Ты позвонишь ему. Ты пригласишь его ко мне. Я хочу выкупить у него маску царя. Стенька! Слышишь!..
Карлик с любовью, запрокинув толстощекое лицо, глядел на хозяйку.
Маска не уедет в Италию. Маска останется в Москве. У нее. Дроветти – друг Бельцони. Бельцони – муж той самой белой вошки, Моники, что в Нью-Йорке рассказывала им с той гречанкой, Хрисулой, о приемах сладчайшей и самой каторжной в мире профессии. Нужна она Бельцони, как собаке пятая нога; шапочная подружка его женушки, да еще из ее нью-йоркского сомнительного прошлого, да еще слепая. Она слепая; но она видит лучше всех. Пронзительней всех.
– Ты выловишь мне Дроветти, а еще и Бельцони. Я встречусь с ними обоими. Я уломаю Бельцони, чтоб Дроветти продал мне маску подешевле!..
– Хорошо, госпожа.
Кирилл уезжал. Он отшатывался от слепой жены. Она этого не видела; она чувствовала это. Маска, золотая маска царицы. Она подходила к ней. Она гладила ее. Когда она гладила ее, ее пальцы становились зрячими. Какая тищина охватывала ее тогда. Она прикасалась не пальцами – душой к давно забытой грации; к умершей нежности; к пересохшей, как колодец в пустыне, любви. Она хотела любви, и золотая маска, холодная и далекая, давала ей любовь. И у маски были слепые глаза – как у нее. Слепые, выпуклые веки, гладкие, нежные; глаза, чуть скошенные к вискам. Такой странный разрез глаз. Может быть, ее тоже звали Жизель.
Подойти к окну. Ощутить лицом свет. Она ощущала свет лицом, и свет лился ей в рот, и она глотала его. Еще раз пережить такую боль! Она готова забыть себя, чтобы забыть эту боль. Почему она, после того, как ее извлекли на свет из тьмы, не забыла себя? Так было бы лучше для всех. Так было бы лучше для нее.
– Он придет, Стенька?.. Дроветти?.
– Он уже здесь, госпожа.
Она резко, будто молния ударила, повернулась. Она услышала – да, у порога стоит человек. Она пошла вперед, протягивая руки, на всякий случай улыбаясь – гостя надо приветствовать, гостя нельзя пугать. Она услышала, как он пятится от нее. Неужели она такая страшная?.. Она вздохнула и сказала:
– Good day, mister Drovetti. I am very glad to see you.
Он подхватил ее протянутую для поцеля руку, уже готовую бессильно упасть. Поцеловал. Стал говорить незначащие, приветственные английские фразы. Она говорила без акцента – у нее была нью-йоркская выучка, – а итальянец путался в английских словах.
– Я хочу купить у вас золотую маску, что вы купили на вернисаже у мистера Кайтоха.
– Позвольте… она мне самому нужна…
– Она вам не нужна, – она улыбнулась как можно обворожительней. – Она приносит несчастье. Вы знаете, что того, кто прикоснется к этой маске… к этим двум маскам, ждет смерть?..
Наверно, Дроветти побледнел. Она была готова спорить: точно побледнел. Как жаль, что она не видит этого. Стенька ей расскажет все потом.
– Откуда вы знаете, миссис Козаченко?.. женские фантазии…
– Ничего подобного. – Холодный вежливый голос; ледяной тон; голову держит гордо, будто сама царица. – Это не фантазии. Я не только это чувствую. Я знаю это.
– Откуда?.. Вы что, историк?.. С этими масками связаны какие-то жестокие преданья?.. если это так, все это – уже во мгле веков…
Жизель, не качай головой. Не усмехайся. Лучше расскажи ему. Расскажи ему свой сон. Свои сны, что стали сниться тебе после того, как пули, выпущенные в тебя, повредили у тебя что-то в голове, и ты стала видеть то, что не видела раньше; слышать то, чего другие люди не слышат и никогда не услышат. Сны! Вся жизнь человека – это сны. Они плетут вокруг тебя хоровод; они заманивают в свои сети. Если ты слаб – они погубят тебя. Если ты силен – ты научаешься ими владеть, как древние управляли квадригой лошадей. После раненья в голову Жизели стали еженощно сниться чудесные сны, она стала видеть и провидеть; предчувствовать и знать. Она заглядывала туда, откуда не было возврата. А она возвращалась. Она заглядывала во Время. Огонь, ударивший ей по глазам, очистил перед ней загрязненное, захламленное Время – она стала ясно, ярко видеть его великую Дорогу, Реку, текущую из светлого тумана Мертвого в сияющий океан Несбывшегося.
Жизель, став слепой, видела странные сны. Она видела прошлое. То, что было. Она видела будущее. То, что должно было прийти. Она видела мысли человека. Вот Дроветти, лощеный нефтяной королек, стоял сейчас перед ней, а она видела его скачущие по кругу мысли: бежать, бежать отсюда скорей, жена Козаченко – сумасшедшая.
– Нет, я не сумасшедшая, Дроветти, – улыбнулась она, и от ее улыбки на итальянца пахнуло полевыми цветами. – Не бойтесь меня. Я сейчас расскажу вам быль. То, что было потом.
– Потом… после чего?.. – осторожно, как у больной, спросил Дроветти и вытер пот со лба. Карлик стоял рядом с госпожой и печально глядел на гостя. – Что было сначала?..
– Сначала царь погиб в бою. Его положили в золотой саркофаг, в гробницу. Потом пришла она… возлюбленная. Она… не была женой царя. Во сне она сказала мне: знаешь, я ведь не была его женой, мы не были повенчаны по нашему обряду. И все имущество царя не принадлежало мне; и все его лошади, коровы, ослы и волы не принадлежали мне. И все его дворцы; и все его слуги и подданные; и все его войска, башни, крепостные стены, города и все люди в городах не принадлежали мне. Мне принадлежали только те драгоценности, что дарил мне царь, и те расшитые ткани, что он мне дарил. И я сказала ей во сне: ты сильно любила его?.. И она ответила мне: я любила его больше жизни.
Дроветти вежливо помолчал. Потом облизнул пересохшие губы.
– И… что?..
Жизель улыбнулась. Когда она улыбнулась, карлик улыбнулся тоже.
– Она захотела уйти из жизни вслед за ним. Она захотела убить себя. Прийти и убить себя. Она думала так: вот, я приду ко льву, и лев меня загрызет. У нее был ручной лев, царь его привез ей львенком, из Нубии. У меня тоже был львенок, как это ни странно; Кирилл привез мне его… черт знает откуда… Мы отдали его в зоопарк, когда он подрос, он чуть не откусил мне руку… – Она подняла руку. Белые точки маленьких шрамов виднелись чуть выше запястья. – Да, царица, что не была женой царя, захотела убить себя. И пришла к нему в гробницу. И молилась. И жгла факел. Но… не смогла.
– Вы… видели это во сне?.. – осторожно спросил Дроветти. Не хватало ему иметь дело с полоумной.
Слепая улыбнулась; смешной человек, они все не верят ей. Кирилл тоже не верит. Она говорила Кириллу про свои сны. Он утешающе погладил ее по плечу и шепнул: «Деточка, ты слишком поздно ложишься спать. Карлик зря читает тебе на ночь Карлоса Кастанеду. Пусть почитает тебе лучше сказку про Василису Прекрасную. Или про Морозко. Это успокаивает». Никто не верит… никто.
– Да. Я все вижу. Я вижу, Дроветти, что через месяц вы заболеете дифтерией. Вы никогда не болели дифтерией?..
– Никогда. – Он изумленно посмотрел на нее. – Нет, никогда.
– В Москве люди заболевают дифтерией, сейчас в России много забытых болезней; наступает новое средневековье, и не исключено, что вслед за уже обычной холерой, вспыхивающей там и тут, то на юге, то на севере, придет и страшная чума. Пир во время чумы, не правда ли, это очень изысканно?.. на этом пиру, знаете, угощают, а в бок вонзают нож из-под полы, смеются, поют песни под гитары – и убивают пулей в лоб… или сыплют яд в вино, на выбор…
Она положила ладонь на глаза. На широко открытые глаза. Дроветти вдруг почувствовал, что все, что она говорит, – правда.
– Я верю вам, Жизель, – сказал он хрипло. – Вы не досказали. Почему тех, у кого окажется маска, будут преследовать несчастья?..
– Потому что тот человек, у которого оказалась женская маска, поплыл с нею из Анатолии на Север, на кораблях, и его убили. Его убили из-за золота. Из-за маски. Его убил мужчина, он прельстился маской и захотел подарить ее своей женщине. Ее звали Бьянка, она была… – Жизель поймала ртом воздух, будто задыхалась, – итальянка. Она жила в генуэзской колонии, в Крыму, там, где теперь Судак. Это было пятьсот лет назад… да, пятьсот… совсем недавно… Бьянка повесила маску над кроватью, рядом с распятьем… У Бьянки был еще любовник… Он из-за золота убил их обоих, кинжалом… Я видела, они оба лежали на кровати, их руки свешивались с кровати, они истекали кровью… а тот человек, ее любовник, он смеялся…
Дроветти покрылся холодным потом.
– И что было потом… с маской?.. Вы что, проследили в снах весь ее путь по земле?..
– Не весь, – жалобно и смущенно Жизель поглядела на него. – Не весь, господин Дроветти. Пир во время чумы, московская роскошь, потрясающее богатство рядом с ужасающей нищетой, производство падает, иностранные банки наращивают капитал, строят билдинги и харчевни, выселяют из коммуналок… открывают телекомпании и радиостанции… мечут бисер перед свиньями… скоро вынесут на Красную площадь столы, и накроют их, и уставят блинами с икрой, ананасами в шампанском, золотыми самоварами и зелеными бутылями водки… и будут пить, пить, гулять, пировать… чума отдельно, пир отдельно… и тамада – мой Козаченко… А золотая царица глядит, глядит на все слепыми глазами… глядит и все видит, и улыбается…
У Дроветти шел мороз по коже. На миг ему показалось – лицо слепой стало все золотое, светящееся.
– Так почему же вы хотите купить маску?! – выкрикнул он. Карлик вздрогнул и подобрался, как собака для прыжка. – Почему вы хотите навлечь на свою голову несчастье?!.. может быть, гибель… ведь вы же сами говорите…
– Потому что я не хочу жить, – сказала она просто, и ее светящиеся, будто фосфорные, глаза мгновенно наполнились слезами.
Прихоть и блажь. И тьма вокруг. Цари должны быть вместе. А она не хочет жить во тьме. Что будет с царями?.. Ей это неважно. Она видела во снах не маски – живых людей, тех, чьи лица отлились навек в золоте. Они были живые, как и она, из плоти и крови. И умерли. Никто не изваяет ее ни в золоте, ни в серебре, хотя ее Кирилл так богат, и она сама тоже так богата, что они могут заказать ее статую из золота в полный рост, и от их богатства не убудет. Она богата, и она слепа. И она не хочет жить. И мир гудит вокруг нее самолетами, шуршит деловыми бумагами, счетами и акциями, блестит пластиковыми карточками банков, свистит пулями, выпущенными во тьме в затылок и в лицо. Ты еще живешь, Жизель! И ты живешь в России. Россия теперь – земля ужаса. Россия бросила на карту все, чем она жила и дышала раньше, и оказалось, что все прежние ценности – мусор, сгоревшая в костре бумага, и любовное письмо летит по ветру, развеивается черными хлопьями. Все сгорает в костре Времени. Среди черных углей лежит лишь слиток золота, золотое слепое лицо, глядит в небо, глядит на убийц и на жертв. Эту маску погибшей России отливали с тебя, Жизель. Ты оказалась самой достоверной натурщицей.
Карлик привел ей и Бельцони. Стенька, Стенька, ты молодец. Она удвоит тебе жалованье. Да ты и без жалованья ее любишь до самозабвенья. Дроветти, огорошенный ее рассказами, когда дело дошло до денег, все же сделал козью морду. Она кошечкой подластилась к Бельцони, упросила его: помните, мы с вами как-то обедали вместе, смею надеяться, я вам тогда понравилась… пожалуйста, уломайте вашего приятеля, сделайте Божеское дело, ну, ради меня, я ведь подруга вашей жены; ради прекрасной Италии, которую я так люблю, ах!.. Она почувствовала: Бельцони дышит часто, слезно, услышала – молчит. «Что вы?.. вам плохо?..» Он еле выдавил: у меня жену убили, простите, я не могу об этом говорить. Проклятье, он отдал маску в распоряженье Кайтоха, договорился с ним о пае, о хорошем, шикарном даже для него проценте, а Монику все равно убили.
«Я… договорюсь с Дроветти, дорогая!..» Ему стало жалко эту слепую девочку. Она не говорила ему, как Дроветти, о загадочных снах, открывающих Время; она мило болтала с ним, светски придвигала к нему кофе с коньяком, кусочки киевского торта – карлик распорядился накрыть кофейный столик, – и Армандо готов был поклясться в иные минуты, что она зрячая, если б не остановившийся, даже при повороте головы, беспомощный взгляд вдаль и вбок, в никуда. Она глядела в никуда, он это понял. «Сколько Дроветти запросил за маску?..» Она сказала. «Ненамного дороже, чем там, у Кайтоха. Не волуйтесь, миссис, я постараюсь скостить цену вдвое». Он чуть было не добавил: ради ваших прекрасных глаз, – но вовремя осекся. Она поняла: он хочет платы, мзды. Она же читала мысли и видела желанья. Она встала. Карлик встал тоже. Она сделала жест рукой: уходи, Стенька, и закрой дверь снаружи. И никого не подпускай.
Бельцони потрясенно глядел на нее. Она спустила с плеч бретельки. Он глядел, как падают к ее ногам блестящие тряпки. Матовое, молодое, упругое тело мелькнуло из вороха шелка и кружев, обнажилось, ударило в глаза свежей белизной. У него давно не было женщины, Моника была в отъезде на юге, потом он увидел в гробу ее пропоротое ножом тело, потом он ее хоронил. Вы это что, прохрипел он, зачем это, не стоит, – а она тихо улыбнулась и сказала: все стоит всего. Деньги тоже чего-то стоят. Ваша жена работала полжизни проституткой, и вы об этом знали; я тоже об этом знала, тогда еще, в Америке. А мать ее была шпионкой. И умерла, как героиня. Я – не героиня. Я не совершила ничего геройского. Ваши усилия, господин Бельцони, стоят живой меня. Берите меня. Сегодня я ваша. Кирилл сюда не войдет. Стенька посторожит дверь. Он сторожевой пес. Делайте что хотите. Чувствуйте себя древним человеком. Представьте, что вы – тот царь, а я – та самая царица. Нам с вами ничего не остается делать, как представить себя кем-то красивым, достойным, знатным, великолепным. Потомы что в жизни мы – подлецы, воры, гады, сволочи. А мы ведь хотим быть лучше. Не правда ли, Бельцони. Поэтому нам осталось только одно: вообразить себя. Закрыть глаза. На время ослепнуть. Ослепните на время. Я ослепла – навсегда.
Он подошел к ней. Схватил ее в объятья. Притиснул ее к себе. Впился поцелуем в выгиб ее белой, нежной, задрожавшей шеи. Ей показалось: он сейчас прокусит ей шею, и брызнет кровь. Он покрыл отчаянными поцелуями ее лицо, и ему показалось на миг: он снова – молодой, он снова – там, в Венеции, на мосту Риальто, и они с Моникой целуются напропалую, и он зарывается лицом в ее тонкие белокурые волосы и думает: ай да путана, неплохо я проведу ночку. Неплохо он провел жизнь, однако. Почему бы сегодня вечерок не поразвлечься с богатой слепой и красивой особой. Ты – мне, я – тебе. Разве все не по закону.
Он кинул ее, голую, на кровать. Кирилл давно не был с ней, и она почувствовала возбужденье. Она двигалась страстно и неукротимо, но ее лицо все время оставалось бесстрастным, улыбающимся, светлым, золотым.
… … …
Новый работничек, занюханный бомж, оказался таким расторопным – Задорожный был доволен. Все спорилось. Бродяга понятливо схватывал тонкости раскопок на лету. Только ухмылялся презрительно: вы что, меня за детский сад считаете. Силушка в нем играла – хоть отбавляй, и за три дня он разрыл на дне такую ямину, что там, внутри, Задорожный видел это, наметился еще один культурный слой: возможно, тысячелетием ранее здесь находилось еще одно древнее городище, и камни ветхих стен проглядывали сквозь земляную осыпь, и новая мозаика мерцала через темные, грязные комья влажной земли. Так, так!.. Задорожный потирал руки. Он же говорил, говорил!.. Здесь, в Гермонассе, – слоеный пирог культур, быть может, такой же, как в Трое!.. Нельзя уезжать отсюда, нельзя!.. Он позвонит в Музей; пусть снарядят еще одну экспедицию, пусть найдут каких угодно спонсоров, Москва слезам не верит, зато деньгам – пожалуйста, – а тут дело пахнет керосином, дело пахнет открытиями… ай да Илья, ай да сукин сын!..
– Молоток, – Роман хлопнул бродягу по спине, – когда тот вылез из раскопа вместе с Серегой и они уселись на лавчонку перед кухонными столами – перекурить. – Ты отлично все делаешь, Илья. Будто век в раскопах городищ копался. – Ему смертельно захотелось вдруг рассказать Илье про меч, но он прикусил язык. Зачем это хвастовство?.. Он же не знает парня. Роет-то он хорошо, а крадет, быть может, еще лучше.
Илья усмехнулся. Сигарета в его зубах плясала. Мелкий пот тек по лбу, таял в бороде.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие. Хрю-хрю!.. И мы не лыком шиты. Харч у вас знатный. – Он втянул носом воздух, унюхивая обеденные сладкие пары. – Вон она и Славка шкандыбает. Славка, Славочка! – крикнул он и выпустил клок табачного дыма, растворившегося в жарком мареве, в синеве. – Уж так вкусны твои каши, красавица… особенно, хм, гречневая, гречанка ты наша… или гречка, ха-ха!..
«Хречка». Мягкий выговор, южный. Задорожный, глядя на курящих, не удержался – вытащил из кармана пропотевшей рубахи мятую пачку, закурил, хотя дал себе зарок – полпачки в день, не больше. Светлана умоляюще поглядела на него недавно, попросила: брось курить. Брошу, только постепенно, улыбнулся он. Если я брошу резко – у меня будут уши пухнуть. Я уже пробовал, бросал. Распухают уши, как у слона, и все тут. Глупости, рассердилась Светлана, никакие уши при этом не распухают, все ты выдумываешь!.. это ты мне зубы заговариваешь, ты не хочешь… Огонек спички на солнцепеке вспыхнул прозрачно, белесо. Роман поглядел на часы на запястье.
– Ну что, перекурили, пора в забой, караимский шахтер?.. у нас безвредно, у нас метан не взрывается…
Илья ожег его странным, резким взглядом. Плюнул окурок.
– Метан не взрывается, зато что-нибудь другое взрывается за милую душу. Сколько угодно и даже больше. Идем, Серега.
Они, все втроем, направились в раскоп. Славка Сатырос крикнула им вслед:
– На обед поварешкой об таз покличу!..
Светлана вышла из палатки Ежика. Он, очнувшись, придя в себя после оттрепавшей его нервной лихорадки, теперь все время плакал. Плакал и плакал без перерыва. Его лицо опухло, веки заплыли. Светлана избегала делать ему уколы, накачивать под завязки лекарствами. Она просто сидела рядом с ним, рассказывала ему истории, отвлекала как могла, смеялась, шутила, а Ежик слеп от слез. Он успокаивался лишь тогда, когда Светлана брала его за руку и тихо гладила ее. Тогда он закрывал глаза и засыпал.
Светлана помогала на кухне Славке, сменяя время от времени Леона. Теперь в раскопе четыре мужика; работа немного закипела, заварилась новая каша. И Роман оживился. При одной мысли о Романе огненный ливень вставал вокруг нее стеной, и она сама удивлялась себе – как это она не бежит к нему тотчас, не кидается ему на шею при всех, теряя разум от одного поцелуя.
Это невозможно. Этого быть не может, Роман. Не морочь себе голову.
Это не может быть потому, что этого не может быть никогда.
О чем ты только думаешь.
Всего лишь о том, что этот приблудный караим, этот посидевший в колониях парняга, это красивый южанин однажды в разговоре, певучем и плавном, вполне местном, сказал такое хорошее твердое московское «г» вместо хохлацкого привычного придыханья, что Роман вздрогнул и уставился на него. И тот понял, поджался, разлился весь медом южной ласковой речи, болтливой патокой.
Ну и что?! Сказал и сказал. Случайно вырвалось.
Нет, Роман, это не может быть случайным. Ничего на свете случайного нет. Все предусмотрено. Все задумано.
Ах ты собака, если ты подослан…
Ну не может же он с «браунингом» подойти ночью к его палатке, растолкать его, беднягу, спящего сладким сном, ничего не подозревающего, безвредного бомжа, обретшего временное пристанище, и, приставив ему ствол к виску, потребовать: раскалывайся, ты, кто тебя прислал, чего тебе тут надо.
Ну, Роман, ты уже дошел до ручки! Попроси Светлану, пусть сделает успокоительный укол тебе, а не Ежику. Тебе уже пора. Ты созрел.
Он встал, вышел из палатки под звезды. Вытянул из кармана пачку. Да, зарок его – пустое дело, дохлый номер. Пачки уже нет как нет. На день не хватает. А что будет дальше?.. У него уже кашель курильщика, и Светлана вздрагивает, когда он заходится в кашле. У Светланы будет муж кашлюн и старикан, а она будет красоточка-девочка, и у нее будут сотни поклонников, и она наставит тебе рога, Роман, будешь ходить, как олень с золотыми рогами. Еще чего. Он передернулся. Этого не будет никогда. Лучше он пустит себе пулю в лоб. «Браунинг» вот есть. Он не переживет, если Светлана будет принадлежать другому. А вот это уже чувство собственности, Роман! Ты болен Светланой, и болен тяжело, неизлечимо. Так же был болен Антоний – Клеопатрой, Меджнун – своей Лейли. Меджнун, Одержимый. Он тоже одержим. Светлана, свет звезд, смыл жизни. Зачем ему жизнь… без нее.
Звезды резко и ярко сияли, мерцали, мигали, ходили над головой – уже предосенние, крупные, как виноград, и дымка Млечного Пути обволакивала небо фатой, перекидывалась через всю твердь, как прозрачное покрывало. Покрывало богини. Он вспомнил древние обряды: золотую статую богини в храме укутывали прозрачным покрывалом, расшитым звездами – портные устраивали изображенью божества наивный Космос на земле, и богиня благосклонно улыбалась, покрывало вспыхивало вышитыми звездами – алмазами, жемчугами, мелкими сапфирами. Человек всегда хотел перенести звездное небо на землю. И любовь ведь живет среди звезд. Мы напрасно думаем, что она живет среди людей. Она нам не принадлежит. Мы – не хозяева ее. Ею распоряжаются звезды и Бог. Распорядиться любовью – значит, распорядиться жизнью.
Он глубоко затянулся, закашлялся, поглядел на звезды. Вот огромный Арктур, вот Альтаир; вот в ручке ковша Большой Медведицы мерцают Мицар и Алькор. Венера укатывается за море, а красный Марс вбит кровавым гвоздем почти в зенит, как синяя Вега. Кровь и лед; холод и страсть. Все связано воедино всегда. Любовь соседствует со смертью. Художество – с преступленьем. Художник, изваявший золотую маску, разве он мог думать, что художество, дело рук его, станет добычей преступников?.. бедных смертных, борющихся за единственное право – обладанья…
Звезды, звезды. Помогите ему. Помоги ему, Боже. Он уже так много сделал в жизни. Он, маститый профессор, великий путешественник, неутомимый труженик; так трудиться, как он, могли немногие, и он это знал. Поэтому он и сделал в жизни так много. Неужели жизнь кончена?.. И кончена именно сейчас, когда он встретил любовь, женщину, которую хотел встретить всю жизнь?..
Да почему ж кончена. Что ж это за предчувствие странное такое.
Роман докурил сигарету. Бросил ее в сухую пахучую траву. Июль кончается. Лето на исходе. Завтра август. Солнце находится в знаке Льва. И позже, чуть позже, под утро, можно будет увидеть, как огромный звездный Лев медленно ползет на брюхе по черному небосводу, держа в зубах огромный красный рубин – звезду Регул.
Роман вдохнул ветер с моря и пошел обратно в палатку. Светлана спала, закинув руки за голову, как ребенок. Он зажег спичку и миг, другой полюбовался ее детской позой, ее сонным лицом, чуть припухлыми губами, послушал спокойное, размеренное дыханье. Лег рядом с ней. По привычке, резким движеньем, засунул руку под подушку – проверить, тут ли револьвер. Револьвер был под подушкой, меч – тоже. И холодное оружье, и огнестрельное. Во тьме, обнимая спящую Светлану, он засмеялся. Отобьемся от всех, если что.
После прихода в экспедицию бомжа Ильи они с Серегой перестали дежурить в отдельной палатке, сидеть в засаде. Приустали. Увидели: бесполезно. Убийства прекратились, так же, как непредсказуемы были прежде. Над Гермонассой стояла спокойная, звездная ночная тишина. Даже в палатке пахло перегнивающими у берега водорослями, густым, томящим и терпким запахом йода – крови земли.
Он уже погружался в сладостное, медленно качающее его на солнах море сна, как у палатки раздался шорох.
Он не успел еще опомниться, хотя уж привскочил на локте, но не успел сунуть руку под подушку, за револьвером. Полог распахнулся. На пороге палатки, со свечой в руке и с револьвером – в другой, стоял человек.
Роман разжал побелевшие губы, выдохнул: Бог мой.
На пороге палатки стоял Леон.
– Мне надоело ждать, – он разлеплял рот еле-еле, будто нехотя, выталкивая слова. Слова ронялись холодно, как тяжелые, холодные капли. – Давай меч. Вы все мне надоели, ублюдки. Я устал вас убивать. Я мог бы перестрелять вас всех в палатках, сейчас, пока вы все дрыхнете. Но я не стану этого делать. Мне все обрыдло. Мне обрыдли вы, жалкие энтузиасты, последние идиоты, гадкие романтики. Мне обрыдли мои хозяева. Я не хочу больше работать на них. Я мальчик на услугах, мальчик сбегай-в-лавку-за-селедкой, мальчик-принеси-вина, мальчик для порки. Мне мало платят. Касперскому платят гораздо больше. Касперский гребет баксы лопатой. Мне же шпыняли все времч, все, пока я работал на них. Я понял: я должен действовать сам. Я должен и могу взять сам то, что тягаете вы друг у друга, суки. Что вы отнимаете, делите, за что стреляетесь, за что платите бешеные бабки. Я устал прислуживать. Я тоже хочу владать. Я тоже хочу быть господином! – пронзительно крикнул он.
Светлана, голая, стремительно вскинулась на матраце, взвизгнула, закрыла обнаженную грудь руками, простыней. Леон с вожделеньем глядел на нее.
– А тебя, красивая сучонка, – сказал он, искривив рот, – я поимею на глазах у твоего хахаля. Когда подраню его так, что он и шевельнуться не сможет. Сможет только смотреть. Достаточно я на вас насмотрелся уже, голубки. Слишком сладко целовались ваши клювики, патока капала. Вам все было нипочем. Вокруг вас убивали, а вы друг на друга не могли насмотреться. Ведь это же нехорошо как-то, Роман Игнатьич, вы не находите?!..
Светлана зажала рот рукой. Роман обернулся к ней.
– Тихо, родная, – он был очень бледен. Оранжевый язычок свечи, как свет масляного светильника, озарял его снизу. Тоже нагой, в одних плавках, среди откинутых простыней, смуглый, он был похож на древнего бога, царя. – Не вздумай кричать. Не буди никого. Сейчас мы разберемся.
Он видел только одно – дуло револьвера, черным глазом глядящее на него.
– Чего ты хочешь, Леон?.. Мне кажется, ты с ума…
Он заорал на всю палатку надсадно. Он не дал ему договорить.
– Не-ет! Я с ума не сошел, профессор! Шалишь! Я все давно продумал! Я продумал, как я буду убирать с дороги вас всех, всех, поочередно, поодиночке… и мне это удавалось! Я обводил вас вокруг пальца! Вы и не подумали на меня, что это я мог убить! Потому что я хороший! Я хороший, хороший!.. – Он оскалился, изгаляясь. Револьвер заплясал в его руке. – Вы доверяли мне все, даже кухню! Я мог бы подсыпать любую порцию какого угодно яда в Славкину чертову кашу! Я уже сыпанул в бутыль с кагором синильной кислоты… больной ваш Ежичек мог бы уже тысячу раз отправиться на тот свет, дозу я вогнал в вино лошадиную… да ты, сука, видно, догадалась, вино вылила! Стерва! – Он повернулся к дрожащей Светлане. – Догадливых – не люблю! С догадливыми у меня особый разговорец будет…
Роман облизнул губы.
– Что ты, Леон, – он старался, чтоб его голос звучал твердо. – Мы сможем договориться. Мы…
Револьвер плясанул еще раз в его руке. Он истерически, визгливо расхохотался.
– Договориться?! Опять договоры, приговоры… Не хочу! Эти договоры вот у меня уже где! – он резанул себе горло краем ладони. – И вас убивать я уже больше не могу! Конечно, если б я вас всех замочил сегодня ночью… всех… и взял меч и удрал с ним, меня бы никто не нашел, никто! В России сейчас вся милиция – мафия насквозь! Они бы меня только поддержали, менты, даже если б и заловили случайно, едва б я им пообещал лишь куш… ноготочек от тех бабок, что я выручу за меч! И не аукционах у шефа! Мне и шеф – кость в горле! Я сам себе шеф! Я казню! Я повелеваю!
Холодный пот тек по лбу, по вискам Романа. Все. Конец. Это маньяк. Это классический маньяк, клинический случай. Если Светлана проходила практику в психушке, она видала таких. Что делать?! Говорить. Говорить без перерыва. Не дать ему ни на минуту задуматься. Не потерять нить общенья с ним. Если он будет слышать только себя – все, каюк. Он выстрелит в них и не задумается.
– Давай меч, сука! – крикнул Леон. Под его неряшливой щетиной мучнисто белели бледные щеки. Револьвер в руке уже не дрожал, не дрыгался. – Спишь на нем!.. Девка твоя играется им!.. Игрушку нашли… что стоит столько баксов, сколько звезд в небе… Я уж найду ему местечко на земле получше, чем твой загаженный кейс. Ну!
Светлана не отнимала руку от рта. Она вся тряслась. Девушка, та девушка верхом на играющем льве, на рукояти… Роман обернулся, еле заметно кивнул ей. Она полезла под подушку, вытащила меч.
– Это он?.. а то палку мне от акации подсунете… а?!..
Она вытащила меч из ножен – очень медленно.
– Возьми, Роман. Отдай.
Роман взял меч из ее рук.
– Да, конечно, Леон, ты прав. Меч должен быть у тебя. Я и сам об этом подумал.
Он сказал это настолько серьезно и правдоподобно, настолько искренно, что Леон на миг опешил, раздумывая над его странными словами, и револьвер в его каменной руке дрогнул.
Одной рукой целясь Роману в лоб, другую Леон протянул, чтобы взять меч.
И Роман, неуловимо и сильно размахнувшись, встав на матраце на колени, ударил мечом по револьверу. Леон не успел выстрелить. Его кольт полетел в сторону. Светлана прыгнула, как львица на добычу, накрыла револьвер голой грудью, схватила руками, и так, держа обеими руками, вытащила его из-под груди, из-под голого живота, и наставила на Леона. Она была вся голая, нагая, и мужчины не видели ее наготы. Глаза, застланные бешенством и кровью, уже не видят красоты. Одеться Светлана уже не могла. Голая амазонка, воительница. Пламя свечи колыхалось, рвалось. Рвалась на куски душная, жаркая тьма палатки.
– Ты… ты, подонок!.. ты…
– Бешеная девочка, – прохрипел Леон. – Хорошая девочка. Хвалю. Классная ты сучка. Нам бы таких. Шефу бы. А то одну такую сучку мы в Стамбуле потеряли. Незаменимая была. Работала изящно. Мочила всех не хуже мужика. В меня влюблена была. Да нарвалась. Гречанка, между прочим. Как эта… ваша… Славка.
Он передохнул. Светлана крепко вцепилась в револьвер. Она держала боевой револьвер впервые в жизни. Она никогда не была даже на учебном стрельбище. Даже в тире. И Леон это понял. Учуял.
– Ты не умеешь стрелять, шлюха. Ты не выстрелишь. Зуб дам, не выстрелишь. Ты не сможешь убить человека, шлюха. Только я смогу. Потому что я ас. Это моя профессия. Я убивал. А ты всегда лечила людишек. Ставила им капельницы. Всаживала в них укольчики. Кормила с ложечки микстурочкой. Перетягивала вены жгутом… Ты не убивала! – надсадно крикнул он. – Не убивала! Ты не убьешь!
Кольт в руках Светланы задрожал. Сначала мелко, незаметно, потом все заметней. Он уже ходил ходуном. Уже Роман выхрипнул ей одними губами:
– Стреляй…
– Ты, хлипачка, сестренка милосердия!.. ты же милосердна, ну… ты же…
Светлана закусила губу, еле справляясь с трепещущим в руках тяжелым револьвером, как вдруг Леон сделал еле уловимое, молниеносное движенье. Выхватил из кармана нож.
Тот самый нож, которым были убиты Коля Страхов, Андрон и бедная Моника Бельцони.
– Ты не успеешь выстрелить, сука, – задыхаясь, проронил Леон, держа нож наизготове, острием – у голой груди Светланы. – Одно твое движенье – и я всажу этот нож тебе между ребер. Да, я сдохну, но сдохнешь и ты. Руби мечом, профессор! Если ты хочешь, чтобы подохла твоя сучонка, – руби!
Он обводил их обоих глазами. Они вылезли у него из орбит, и Светлана могла рассмотреть тонкую сеть кровавых сосудов на белках.
– Тихо, парень, – сказал Роман, вставая с ложа, не поднимая меч, а держа его клинком вниз, – тихо. Никто не собирается никого убивать. Ты просто слишком громко говоришь. Я просто тебя осадил. Давай поговорим, как мужики. Ладно, мы, мужики, наши разборки. За что ты… баб?!.. Монику, Ирену…
Леон опять скривился. Он держал нож по-лагерному, по-блатному – острием и лезвием чуть вверх.
– Слишком много знали. Эти бабы, сам понимаешь, профессор, не были тут, у тебя в кодле, случайными. Неслучаен, как ты догадался, и я. И еще кое-кто тоже тут неслучаен.
Перед Романом вспыхнул ослепительный свет. Ему показалось – свет вспыхнул в его голове, под куполом черепа. Кое-кто. Новый работник. Илья. Бомж. Караим. Южанин, с мягким украинским «г». Паршивый театр! Его красивая, смазливая морда! Свет, яркий свет. Он высветил лицо красавца бродяги. Если ему сбрить с рожи бороду, это же будет…
– Фарфоровый! Турция, Измир! – задыхаясь, оскалясь, крикнул он.
– Да, Касперский, – медленно сказал Леон. – Доктор Касперский, мать его. Он заслан сюда, проверить непорядки. Видал я в гробу эти проверки. Эти дерьмовые проверки Кайтоха. Шеф забеспокоился. Он беспокоится, как бы золотая рыбка не уплыла. Поздно очухался. И Касперский примчался к шапочному разбору. Зачем был весь этот балаган. Отличный актеришко, конечно. Русская сцена потеряла гения. Ты ж, профессор, ему сразу поверил. Как вас, идиоты, легко поймать на крючок. Ваша первая заповедь: верь людям. Наша первая заповедь: не верь никому и ни во что.
Бледные губы Светланы дрожали. Она крепко держала кольт. Пальцы ее побелели. Леон охватил умалишенным взглядом ее наготу.
– Ба, пупсик наш. Точно, точно я тебя поимею. Ты сама мне дашься. Брось кольтик, брось. Брось, а то уронишь. Профессор, прикажи ей…
– Неслучаен Касперский, говоришь? – Роман будто не слышал приказа Леона.
– Да, доктор неслучаен. Но он может вполне случайно забыть навек, зачем он тут. Так, легкий провал в памяти на почве распространенных сексуальных расстройств, виденья, глюки. У меня с собой препараты, я знаю способ…
– Он… жив?!..
Леон сделал мгновенный быстрый выпад вперед. Задел острым кинжалом руку Романа. С запястья закапала кровь, собираясь на руке в медленные, темные, густые капли. Роман наклонился, подхватил простынку, отер ее. Не один мускул на его лице не шелохнулся.
– Играешься, парень, попугать меня решил.
– На кровь захотелось поглядеть, профессор, давно не видал. Я без вида крови жить просто не могу, понимаешь.
Роман зажал скомканной простыней порез.
– А я не могу жить без вида твоей рожи. Я к ней привык. Как это я с ней расстанусь навек.
Он слегка приподнял меч. Леон опять выдвинул вперед нож. Светлана держала револьвер, и ее лицо все сморщилось в муке боли – у нее уже затекли руки, она еле держала оружье.
– Касперский жив. Пока жив. Пока!.. Что так на меня глядишь, профессор?!.. У меня – нож, у тебя – меч… наши силы неравны, ха-ха… но я моложе, я горячее, я ловчей… я знаю бандитские приемы, сука, а ты их не знаешь… ты погоришь, погоришь на все сто, это я тебе обещаю… я тебя сразу не убью, нет… я, как обещал, тебя только слегка подраню, и подраню так, чтобы ты стонал, корчился, извивался по земле, а смотрел, как я с твоей… Да не выстрелишь ты, не выстрелишь! – заорал он, поворачиваясь к Светлане. – Сейчас ты устанешь держать пушку, и она сама выпадет у тебя из рук, дрянь! Я даже и стараться не буду! Вы же все дилетанты! Вы же все такие дряни!
Роман тихо, хрипло сказал:
– Я вижу, тебе слишком хочется сразиться, парень. Тебе просто неможется. Ты думаешь, я такой тюфяк, да. Что я ни в армии не был, ни в стычках по асфальту не катался, в морду не бил. Я похлеще твоего видел, парень. Я в разных переделках бывал. Только я ведь об этом не ору на каждом перекрестке. – Он говорил резко, зло, глаза его бешено блестели. – Пойдем-ка отсюда вон, на воздух, из палатки. И порезвимся вволю. Поразомнемся, как ты на это смотришь, а?!..
– Да ты ведь не фехтовальщик, дядя, ну точно тебе говорю. – Леон говорил так же резко, зло, коротко, рубя словами колышащийся безумный, темно-алый воздух, как ножом. – Я ж это вижу за версту. Седина тебе в бороду, бес в ребро?!.. ну-ну, ладно, пошевели ножками, ручками… если они у тебя еще шевелятся, конечно…
Не успела Светлана ахнуть, как Леон и Роман выкатились из палатки, опрокинув горящую свечу, вон, на берег, на обрыв, под свет полной золотой Луны.
Она услышала звон стали о сталь.
Она вскочила. Мысли ее мешались. Она положила кольт на матрац, не помня себя, обвязалась наспех простыней, завязав ее большим нелепым узлом над грудью, снова подхватила револьвер, вылетела из палатки.
Она увидела – они оба, Роман и Леон, бьются, и меч ударяется об огромный нож, и нож колет вперед, задевая живое тело, и Роман уже весь в крови. Она видела его кровь. Она наставила на дерущихся револьвер. Как из него стреляют?! Господи, ведь ей нельзя выстрелить! Она же не умеет стрелять! Она попадет в Романа! Она… случайно, дура, растяпа, сама убьет его…
Слезы текли по ее щекам. Глаза яростно зеленели.
Звезды горели над головами мужчин.
– Светлана! Не стреляй! Жди!
– Жди, Светлана! – Леон, размахивая ножом, обернул к ней лицо и осклабился. – Когда я сделаю его. Это будет очень скоро.
Они ударяли сталью о сталь, и ей казалось – далеко в ночи летят искры.
Искры поднимаются на небо и становятся звездами. Звезды – это искры, вылетевшие из-под мечей и сабель, из-под шпаг и ножей, из-под копий и штыков, коими во все времена сражались мужчины, стремясь убить, умертвить друг друга; а глупая женщина опять отдавалась им после сраженья, опять раздвигала жаждущие ноги, чтоб снова слепо зачать, чтобы зародить и понести, и вытолкнуть в назначенный час на свет еще одного младенца – еще одного воина, солдата, что пойдет в бой и будет убивать; в честном ли бою, в справедливом, в бандитском ли поединке в подворотне, за Христа или за Дьявола, за бабу, что красивое тело излучает свет, и за золото, что слепящей рекой льется меж пальцев, – все равно убивать, все равно сеять смерть, и от смерти мужчина никуда не уйдет, от ее сеянья, от поклоненья ей, от упорного деланья ее. Смерть – творчество мужчины?!
Зачем они с таким оглушительным звоном скрещивают клинки?!
– Перестаньте! Роман, отдай ему меч!
Роман будто не слышал. Кровь текла из его порезанных плеч, из проткнутого бока. У Леона по руке тоже текла кровь.
И Светлана поняла – они уже не остановятся.
– На помощь! – крикнула она в отчаяньи. – Помогите!.. Эй, люди! Проснитесь!..
Звезды осыпались с небес вниз, и Леон, изловчившись, мощным ударом выбил меч из руки Романа.
И вопль Светланы поднялся к равнодушным звездам.
… … …
– Здравствуйте. Чем могу служить?..
– Добрый день, господин Кайтох. Мы к вам. Уделите нам несколько минут?..
Горничная, остро сверкнув озорными черными глазенками, убежала, сделав книксен и поправив фартучек. После гибели Ирены он немедленно взял к себе в особняк новую горничную – молоденькую, смазливенькую. Ему важно было заткнуть брешь скуки и тоски, залатать дырку. Кто ж это такие к нему приплелись?.. Весьма представительные господа, надо признаться. Очень, о-о-очень импозантные. К таким – не подступись. Они, одетые с иголочки, в смокингах – день был жаркий, а к вечеру похолодало, поднялся холодный резкий ветер – выжидательно стояли перед ним на пороге гостиной, вежливо склонив стриженые модным бобриком головы. Их было трое. От них хорошо пахло. Лучшие парфюмы мира. Лучшие часы мира на запястьях – «Olimp», «Station». Сдается, Кайтох, к тебе нынче явились лучшие люди мира. Судя по их виду, они себя таковыми и считают. Что ж, прими их как подобает.
А знакомые лица. До боли знакомые.
Такая чертова прорва лиц перед тобой уже промелькнула в жизни, Вацлав. Всех не упомнишь.
Что ж это доктор Касперский из Тамани – молчок. Там же все-таки Ежик. Там убили Жермона, его надежного помощника, Ирену и Монику, двух теток, так пахавших на них с Бельцони. Там – непредсказуемый Задорожный, явно нашедший нечто ценное. Он должен вырвать у него из его романтических ручонок новое сокровище. Ты охотник, Кайтох! Дикая охота короля Вацлава! Гей, сокольничьи, вперед!.. А не махнуть ли ему в любимую Швейцарию, когда Ежик вернется… на веки вечные?.. как там спокойно, Господи, Езус Христус…
– Проходите, господа. – Кайтох состроил самую любезную рожу, на которую был способен. – Присаживайтесь. Чем обязан?..
Он видел. Он их видел где-то.
Они вальяжно уселись. Сел и Кайтох. Правый «бобрик» обернул лицо к центральной фигуре. Левый – оглянулся на дверь. Правый встал, подошел к двери и хладнокровно закрыл ее на замок. У Кайтоха в особняке на всех дверях были замки. Центральный господин, выхоленный донельзя, безмятежно, медленно, улыбаясь, вытащил из кармана пистолет.
– Не шевелиться, – вежливо сказал центральный, показав зубы. – Не дергаться. Все произойдет весьма цивильно. Мы не агрессоры. Мы просто избрали подобный способ общенья. Я считаю этот способ наиболее действенным в работе с крупными акулами…
– …и пираньями, – услужливо подсказал левый. Кайтох сглотнул. За пушкой в карман не полезешь – поздно. Те двое, правый и левый, уже держат руки в карманах, мило улыбаясь, показывая фарфоровые зубы. Рэкет! Пираты! Рэкет высокого пошиба. Такого он еще не видал. Выкручивайся, старик. Ты один, их трое. Классический расклад.
Он постарался взять себя в руки. Его затрясло. Ну точно, сейчас речь пойдет о суммах, которые надолго выбьют его из седла.
– Господа… не имею чести…
– Чести у тебя не много за душой, Кайтох, – холодный вежливый голос центрального, держащего пистолет, окатил его с головы до ног ушатом ледяной воды. – Продал ты свою честь. Побольше устраивай таких вернисажей, как тот, последний. И побольше пускай козлов в капусту. Разрешите представиться – козлы. И нам не понравилась ваша капуста. То есть, конечно, я хочу сказать, что нам понравилась наша «капуста». – Он усмехнулся собственному каламбуру. – Наша собственная. И мы хотим ее вернуть. Потому что, рассмотрев и отправив работы на независимую экпертизу, мы пришли к выводу, что мы отдали тебе, Кайтох, «капусты» слишком много. Перебор вышел. Мы хотим восстановить справедливость.
Он переводил затравленный взгляд с одного на другого. Ясно! Это покупатели. Одни из тех, кто купил у него с вернисажа золотые вещицы из Измира. Сенсационные, драгоценные вещицы. Пройдет пятьдесят лет, и…
– Мы не хотим слушать сказки, что через пятьдесят лет твое сусальное золотишко повысится в цене и наши внуки будут ой-ой как счастливы, – холеная рожа центрального так и лоснилась довольством. Он был доволен жизнью; зачем ему были еще доллары Кайтоха?! Так устроен человек. Когда у него больше некуда, ему надо еще больше. Это как болезнь. – Мы считаем, что мы слегка переплатили, босс. А ты слегка загнул свой бейдж за лацкан. Наши условия!
Кайтох, чуть набычась, наклонив голову вперед, сидел в кресле, стараясь не дрожать коленями, и слушал.
– Ты нам отстегнешь процентик за то, что мы купили у тебя это барахло. Это не древность, как мы думали. Это туфта. Это подделка, парень. Ты, конечно, парень палец в рот не клади, но ты не дури нас, мы опытные; хуже будет. Так и быть, твои цацки мы оставим у себя. Пусть ребятишки в гостиной на ковре играют. Нужны же игрушки. И кувшины в доме для цветов. А ты девяносто процентиков со счета своего нам скинь-ка обратно. Твои бирюльки поддельные и этих баксов не стоят. Считай, босс, что мы делаем тебе праздничный подарок. Какой там у нас праздник на дворе, а?.. хоть церковный вспомнить бы!.. а, ладно. С Новым годом, короче!
Кайтох крепко вцепился в подлокотники кресла. Он сидел выпрямившись, очень прямо, он хотел умирать с музыкой. Допрыгался, кузнечик. Ты подпишешь сейчас все бумаги. Ты сделаешь все, что они просят. Ты же хочешь жить. Ты потом их найдешь, найдешь обязательно. И убьешь всех, всех троих. А сейчас веди себя тихо. Не рыпайся. Соглашайся. И улыбайся, улыбайся. Самое главное – улыбаться. Всегда и везде.
Ужас стоял в глазах Кайтоха. Весело горит, синим пламенем, измирское дело, на которое он угрохал столько сил, денег, нервов, эмоций. Как, впрочем, и на все другие дела. Это не просто костер. Это горелый, черный, смрадный дух смерти. Его собственной смерти. Эти трое теперь не отпустят его. Стоит раз дать слабину – и на тебя сядут верхом и пятки спустят. И будут бить по холке; и будут лупить по крупу. Эти трое – твои черные человеки, Кайтох. Тебе не убежать.
– Мне по душе ваши условия, – сказал Кайтох, дернув углом рта вбок. – Я согласен на ваши условия. Я не согласен с одним. Что мое золото – подделка.
– Натуральная подделка, босс. – Ослепительная улыбка центрального его доконала. Пистолет, цепко схваченный рукой в черной перчатке, глядел прямо ему в рот. – Я разбираюсь в подделках, не только мои эксперты. Нам неловко платить за подделку такие приличные, согласись, босс, деньги.
Центральный повыше поднял пистолет. Кайтох закивал: да, подделка, конечно же, подделка. Какой же он трус. А разве человек не может быть трусом иногда?!
«Не стреляйте», – умоляли его глаза.
Ужас, античный ужас стоял, не выливался из его почернелых, провалившихся глаз. Таким ужасом были полны глаза людей, осознавших себя перед пропастью гибели; перед беспросветным ужасом измены. Всему есть прощенье. Нет прощенья испытанному ужасу. Он – невытравим.
… … …
Ты не выстрелишь.
Ты выстрелишь!
Полная смеющаяся Луна глядела на бой весело и надменно, ее круглые щеки были все в ямочках. Звезд было полно небесное лукошко. Море все было залито жидким розовым серебром и золотом. Меч, выбитый из руки Романа, лежал поодаль в полыни. Тяжелый, царский меч.
– Ты не выстрелишь, сука.
Леон подошел к Роману, застывшему, будто ледяному. Кинжал в его руке сверкнул в лунном луче. Он замахнулся.
Выверт Романа и крепкий захват им запястья Леона Светлана не уследила.
– Ах ты, – процедил сквозь зубы Леон, – ты мальчик не промах.
Он, скрежеща зубами от боли, вырываясь, изловчился и ударил Романа ногой в пах. Роман выпустил его руку. Со стоном упал. Светлана снова закричала. Она бросилась вперед безмысленно, бессознательно, и Леон бросился ей наперерез, и ударил ее; кольт отлетел в траву, и, заплакав, кусая губы, она бросилась к револьверу, а Леон напрыгнул на нее сзади. Он повалил ее. Они оба, сцепившись, покатились по земле кубарем, и Светлана больно ударилась виском о камень. Леон схватил револьвер первым.
– Ну вот мне и повезло, – задыхаясь, отдуваясь, зло кинул он, – вот вы и безоружны, цуцики. И это все сделал я. Я один. С вами. А вы говорили – вы не дилетанты. Дилетанты, и еще какие. Вы мне надоели, слышите.
Он нависал над ней, хрипло дыша, смотрел на нее сверху вниз.
Говорить с ним, Светка, только говорить, говорить.
– Что ты будешь делать с мечом?.. Продашь?..
Он выпустил ее. С ухмылкой потрогал у нее на груди узел из сведенных краев простыни.
– Ты похожа в простыне, сучка, на богиню из музея. Фигурка у тебя что надо. Погоди, вот я очухаюсь, отдышусь… и ты моя будешь. Я тебе понравлюсь. Продам, говоришь?.. Не-ет… не продам. Я буду подкладывать его под голову, как твой хахаль, подонок. Я буду…
Он помолчал. Потер ладонью щетину. Сверкнул глазами злобно, радостно.
– …молиться на него. Я буду убивать им. Он будет – мой.
– Ты сумасшедший!
Ее голос сорвался.
– Очень может быть. – На Леона было страшно смотреть. Его лицо темнело на глазах; все темнело и темнело, наливалось багровой кровью, довременным, подземным мраком. У него стало лицо подземного чудовища. – Мир не так уж разумен. Я художник. Я творю мир. Я делаю мой мир. Художник, преступник и умалишенный – три сапога пара. Они братья. Я художник жизни, я пишу жизнь чужой кровью. И меч мне нужен, чтобы писать… чужой кровью. Мне про этот меч с ножнами, где девка сидит верхом на льве, Касперский еще в Турции все уши прожужжал, когда нашли в Измире все эти побрякушки… там, в гробнице царя. А соль-то в чем?.. А там, на стенке саркофага, золотой рельеф оказался – царь, сука, с этим вот самым мечом… Время не съело его, хотя могло схрупать всю сталь, как куриную косточку в жарком. Время выбросило его – мне. И чтобы я, я, который… охотился за ним столько времени… продал его… за какие-то там… бабки?!..
Он крутанул в руке кольт. В темь его лица было уже нельзя заглянуть.
– Можешь взять меч…
– …только оставив вам ваши драгоценные жизнешки, да?!.. – Его глаза бешено горели. – Вы – мне – смертельно – надоели! Чтоб все было шито-крыто, я вас все же всех, сволочи, перестреляю. Всех, слюнтяи, без остатка! Всех оставшихся! – Он разъярялся. Пена показалась у него на губах. – Молилась ли ты на ночь, Светка, а?!.. Луна-то, глянь, какая… и полынью как пахнет…
Роман, застонав, попытался встать. Леон мгновенно подскочил к нему и дал ему подножку.
– Лежать!.. Умирать слаще лежа… так же, как и любить, не правда ли, кореш?!..
Он наставил кольт на Романа. Светлана уже не кричала, не визжала. Она и вправду постаралась вспомнить хоть какую-нибудь молитву. Что шепчут люди в свой смертный час… Господи, помоги. Господи, спаси. Господи, благодарю Тебя, что у меня была в жизни любовь. Но я так молода, Господи, мне же еще так рано умирать…
Бесстрастные глаза звезд глядели на них не мигая. Холодные и иглистые, будто осенью или зимой, они морозом входили под сердце, пронзали ребра, ударяли в глаза и затылки. Люди стояли под стрелами звезд, под их ледяным градом, и Светлана молилась, чтобы, когда сумасшедший будет стрелять, пуля вошла сразу в голову или в сердце, не причинив боли. Она не хотела, чтобы было больно. «Пусть только будет не больно, Господи», – в последний раз прошептали ее губы.
И раздался голос из-за плеча Светланы:
– Брось револьвер, артист. Это все игры. Наигрался ты. Спектакль кончился. Теперь будет жизняк.
– Смерть будет! – очумело проорал Леон.
И вскинул револьвер.
И выстрелил.
И Касперский тоже выстрелил, зло ощерясь, негодуя – надо же, что позволяет себе этот щенок, Кайтох взял его в команду без году неделя, а он уже так зарвался, что сам убивает, без ведома шефа, его подопечных.
Все произошло мгновенно. Кольт выпал из простреленной руки Леона. Светлана подхватила оружье. Роман вскочил с перекошенным от боли лицом. Доктор Касперский нацелился.
– Девочка, брось игрушку!..
Поздно. Она уже выстрелила.
И попала в грудь доктору Касперскому: наповал.
Леон, зажав раненую руку ладонью, бросился к упавшему ничком Касперскому – перехватить, взять его оружье. На него сзади навалился, как медведь, осатаневший от боли и ненависти Роман. Они стали бороться, и Леон, как дикий зверь, вцепился зубами ему в шею. Роман закричал, попытался сбросить с себя Леона, как пиявку; Светлана подбежала и ударила Леона рукоятью револьвера по голове. Роман судорожно нашарил меч в траве. Поднял его над Леоном. По прокушенной, будто зверем, шее текла черная в свете Луны кровь.
– Царь отсекал, Леон, головы тем, кто восставал на него. Кто осмелился когда-либо выступить против него. – Вместо голоса из Романа излетал хрип и вой. – Это ты мне надоел.
Светлана видела, как теперь бешенеют глаза Романа; как чернеет, приготовляясь к убийству, его лицо, прежде не знавшее такой мысли.
– А как же ваш изумительный Христос?!.. – Леон лежал навзничь в полыни. Его искаженное лицо уже не должно было глядеться ни в какое зеркало. Оно обратилось в сплошной черный страх. – Христос же ваш сказал: что делаешь, делай скорее…
– Не надо!
Взмах меча. Сверк стали под Луной.
Шум прибоя о скалы, о песок, о глинистый, обрывистый, полынный берег.
… … …
…Она оделась и подошла к окну – это было ее любимое место, место света, – пока Дроветти смущенно одевался, поправлял на себе одежды, а она не видела этого, – и слава Богу. Все совершилось, и совершилось по воле Божьей; и теперь он не отвертится, ибо я заплатила за льготу, и Бельцони помог ей; не отблагодарить ли и Бельцони? Теперь она осознала, поняла проституцию. Проституция творится не по злобе, а по доброте душевной. Проститутка – это та женщина, что почувствовала и поняла себя, как сосуд, из которого должны пить все и утираться, и это благо жаждущему, потому что не всякий жаждущий – пьющий, воды часто под рукой нет. И, значит, ты делаешь святое дело, что даешь человеку напиться. Он платит за это; платим же мы за воду, за еду. За красивых животных, которых мы гладим, когда нам плохо. За радостные путешествия, когда нам хорошо.
Дроветти пробормотал что-то, вроде: рад был, а когда еще увидеться?.. – она молчала. Она стояла, подняв лицо к окну, к источнику света. Она улыбалась. Она только что сунула Дроветти в карман банковскую карточку. Он привезет маску, она в этом не сомневалась. Он честный человек. Все мошенники – честные люди.
– До свиданья, миссис…
– Прощайте, господин Дроветти.
Он подошел к ней сзади. Поднял руки, чтобы ее обнять. Руки его замерли, застыли в воздухе. Он повел по воздуху руками, без прикосновенья гладя ее плечи, ее шею. Уронил руки бессильно. Эта женщина дала ему наслажденье, и он его не забудет. Как все получилось глупо, по-детски, хитро, полоумно; а впрочем, все получилось так, как обычно получается в мире. Женщина его уговорила, обманула, охмурила, он поддался, растаял, согласился. И то правда, зачем ему золотая маска из Измира. Никчемная безделка. А его из-за нее могут убить… ограбить. Пусть уж лучше теперь эта слепая дрожит и трясется. Да она и не думает трястись. Она спокойна и весело. Она стоит к нему спиной, и ее спина смеется над ним, торжествует.
Он тихо вышел, постаравшись на скрипнуть, не хлопнуть дверью. Жизель положила обе руки на стекло. Холод стекла проник ей в ладони, в пальцы.
– Стенька! Подойди!
Карлик будто стоял под дверью. Появился как из-под земли. Странный порыв толкнул его к ней. Он обвил ее юбку кривыми ручками. Уткнулся лбом, головой в ее колени. Господи, как же он ее любил.
– Стенька, что сказал он?.. Когда привезут маску?..
– Сегодня, госпожа. Скоро. Я встречу.
– Ты плачешь?.. – Она прикоснулась рукой к его щеке. Ее пальцы вымокли. Она отерла ему щеку ладонью, запястьем.
– Ничего, госпожа. Это просто слезы. Вы ведь знаете, это слезы. Они нужны человеку. Он без них не может. Человек без слез – не человек. Тот, кто плачет, – счастлив.
Она снова притянула его голову к себе. Он прижался щекой к ее теплым бедрам, минуту назад раздвигавшимися перед содрогающимся, властным телом другого мужчины.
…Он внес коробку с маской к ней в спальню в сопровожденьи нарочного от Дроветти. Нарочный протянул ей бумагу:
– Распишитесь, что получили груз. – Осекся, увидев, что она слепая. Беспомощно оглянулся на карлика. – А как же теперь…
Карлик взял руку госпожи, вложил в нее ручку, прижал к протянутой бумаге: вот здесь, здесь, госпожа, черкните. Жизель поставила закорючку. Ручка выпала у нее из пальцев. Карлик поймал ее, как в цирке. Нарочный поспешил исчезнуть. Карлик поднял коробку с полу и поставил на стол, рядом с маской царя, лежащей на подушечке из черного бархата. Открыл коробку. Долго смотрел сам. Не подзывал ее. Она так и стояла у двери, слушала, как удаляются шаги нарочного, как далеко, внизу, он весело переговаривается с горничной.
– Госпожа, – наконец подал он еле слышный голос. – Вот она. Идите сюда.
Она подошла, протягивая вперед руки. Подошла к столу и положила руки на маску, на ее золотые холодные черты.
Наконец-то ты со мной, царь. Долго же я искала тебя. Наконец вы со мной оба. И ты, царица, радуйся, хайре, гелиайне. Я видела тебя во снах, и ты измучила меня своей болью любви. Ты любила своего царя. Вот вы и вместе. Я вас соединила. Ведь такая любовь, какая была у вас, не может кончиться со временем. Ее не должно убить Время. Оно не должно развеять ее в прах, в пыль. Глядите, сколько войн прошло по лику земли; сколько ужаса промчалось смерчем; в скольких сраженьях разрушались города и государства, погибали люди, сгорали до пепла нажитые сокровища, выделанные лучшими мастерами, – а вы, а вы остались. Вы остались жить, и это знак. Никто сейчас не умеет разгадывать знаки. Все заняты наживой. Все хотят обогатиться. Я заплатила за вас, возлюбленные, немыслимые деньги; на эти деньги можно было бы построить целый город, населить его жителями, набить доверху банками, заводами, больницами, магазинами, – целый город жизни; а вместо этого живете вы, и вы живете у меня под крылом, и, может быть, меня за вас, за ваше пребыванье в моих руках, тоже убьют, как убивали тех, у кого вы пребывали раньше. Моя беда в том, что я вижу Время. Я вижу Прошлое; но я вижу и Будущее. Я ничего не говорю об этом Кириллу. Он примет меня за сумасшедшую и отправит вон отсюда, в больницу. Я не хочу в больницу. Я уже лежала в больнице, когда меня вытащили с того света; в больнице ужасно. Если ты даже жив и здоров, в больнице ты можешь умереть. От тоски.
Она положила руки на лицо царицы. Ощупывала его, гладила. Рука ее задержалась на лбу, на открытых слепых веках. Побежала вниз, ощупала губы, ямочки на щеках. Жизель вздрогнула. Господи, что это. Что это, Господи! Ее пальцы видят. Ее пальцы не могут ошибиться. Как она не поняла раньше. Ведь это она. Это она сама. Да, да, глядеться в эту маску, как в зеркало. Глядеться бесконечно, узнавать себя, плакать, молиться. Где же твой царь, Жизель?! Где же твой царь, одинокая слепая богачка?! Кирилл?! Пусть Кирилл идет к черту. Какой он царь. Кто он, кто, кто сгинул во тьме веков, кто лежал перед нею когда-то там, на ложе, нагой и прекрасный, и она склонялась перед ним, целуя его грудь и плечи, живот и ноги, похожие на золотые столбы?!.. Она помнит, как все было. Она даже чувствует запах благовоний, нарда и мирра, и розового масла, которым было умащено его тело.
Она положила одну руку на лицо царя, другое – на лицо царицы.
Она помнит, как это началось.
…………………в пыли и катышках птичьего помета, раздавливаемых под босыми ногами, в пекле и гомоне рынка, в выкриках торговцев: «А вот финики из Мемфиса!.. Из Мемфиса финики!.. а ну, подходи, вот тончаший шелк из Сиракуз, ткали лучшие ткачихи, совсем недорого беру!.. ножи, ножи, дамасские ножи, клинки острей львиного зуба, врага разят наповал!..» – в грубых перебранках возниц, привязавших лошадей и колесницы у входа на торговую площадь, в разноязыком шуме – слышалась речь ливийская и ассирийская, арамейская и греческая, этрусская и шумерская, еврейская и финикийская, и та волшебная речь с Острова, исчезнувшего в морской пучине, откуда родом были ее предки, – в цветной слепящей пестроте фруктов, овощей, медов, ягод, рассыпанных на прилавках жемчугов, морских и речных, отрезов тканей, круглых овечьих сыров с высокогорных пасек, овечьего тончайшего руна, вяленой рыбы, мечей и сабель, сваленных, будто поленница серебряных дров, прямо в пыль, у ног людских, – в великолепном безумьи рынка, на деревянном помосте, сколоченном нарочно для показа рабов, живого и ходкого товара, стояла она, и ее вытолкали на помост взашей, она не хотела выходить на торг, она была царевна и дочь царицы, но мать и ее во время Великой Войны взяли в плен, сделали их рабынями, это было давно, она была ребенком-сосунком и не помнит ничего; она так и выросла рабыней, она знала только окрики, побои, удары кулаком да плети, однажды хозяин так исполосовал матери спину лошадиным кнутом, что она лежала много дней, не вставая, и она приносила ей пить, только пить, – мать не могла есть, не открывала рот, только стонала, и она боялась – не выбил ли хозяин матери зубы. Плохо быть рабом. Каково на свете быть хозяином?.. Все на свете продается и покупается, она об этом знала давно, с детства. Она всегда жила в этой стране, она не знала Острова; мать тихо, чуть слышно, будто боясь, что подслушают и убьют, рассказывала ей об Острове, закрывая глаза от наслажденья. «Каналы кругами вокруг царского дворца!.. – с закрытыми глазами говорила мать, улыбаясь. – Лодки под цветными парусами, под красными, под желтыми!.. Рабы веселые, сытые, не забитые, как здесь; рабам платят золотыми монетами, и живут они в белокаменных домах… Царь живет в белом дворце, и раб живет в белом сияющем доме, похожем на дворец, только не таком огромном, и их в доме – много, а царь живет – один… О, не один, конечно, дочь!.. С царем живет царица; царь не может без царицы, и мои отец и мать жили во дворце, в любви и согласии… А потом началась Великая Война; и меня с тобою, маленькой, взяли в плен, и мать и отца убили у меня на глазах… и я покинула Остров, а потом чужие злые люди сказали мне, что боги забрали Остров к себе, что его больше нет, он исчез в море…» – «Как – исчез?.. – спрашивала она, накручивая на палец прядь золотистых волос. – Разве может царство исчезнуть?..» – «Может, – горько улыбаясь, отвечала мать. Рубище, в которое она была одета каждодневно, сползало с плеч ей на грудь, велик был ей рабский мешок, и она то и дело поправляла его. – Исчезают царства, погибают земли. Острова уходят под воду. Только любовь не проходит, дитя мое. Я любила твоего отца, я люблю его и теперь». Кто мой отец, спрашивала она, я хочу знать!.. «Твой отец царского роду, дочь моя. Помни это. Не забывай никогда. Даже тогда, когда тебя ударят плетью по лицу. Погляди смело на мучителей и улыбнись им. Твое смиренье – величайшая гордость, великий укор им, тем, кто мучает тебя».
Мать продали с рабского помоста только сейчас, мгновенье назад. Ее купил за пятьдесят драхм старик с Родоса. Все, теперь богатый старик увезет ее на кораблях, они не увидятся больше никогда. Она заплакала, закричала, стала вырываться из рук надсмотрщиков, хозяйской прислуги. Ее держали крепко. Потом ударили плетью, усмиряя. «Молчи, иначе изобьем до крови, выбьем зубы, и тебя никто не купит! А хозяину деньги нужны!» Оставьте меня с матерью, кричала она. Не разлучайте нас! Ее опять ударили крепко, в живот. Она умолкла, сгорбилась.
И ударом в спину, в загривок ее вытолкали на помост, чтобы продавать, и хозяйский любимчик Скопас стал зазывать покупателей: красавица девочка, родом с погибшего в пучине Острова, прелесть, загляденье, ножки как у кобылицы, все зубки целы, как жемчужные, много чего умеет, и черную работу и тоную, умеет готовить пищу, прясть, задавать корм скоту, к тому же девственница!.. ее не поял еще никто!.. свежая, чистая красавица-девочка!.. принесет много пользы и радости тому, кто ее купит!.. Она, стоя на помосте, хотела зажать себе уши руками, чтобы не слышать, как такое кричат про нее.
Надсмотрщик вертел ее так и сяк, показывая толпе ее стати. Рынок гудел и гомонил, и люди подходили к помосту, взирали на живой товар, разглядывали ее, краснеющую, как алый мак, полуобнаженную, почти голую – хозяйский любимчик был готов, в стараньи продать, сорвать с нее все одежды, дабы показать товар лицом. Она отворачивалась, прятала лицо в ладони – ее пинками опять поворачивали к публике, отрывали ее руки от лица, громко и гнусаво вопили: «Красавица девочка, родом с погибшего Острова!.. Налетай, хватай!..»
Великие боги, будто она была – дамасский нож. Или вифанийский виссон.
И тут к помосту подошли люди, рабы. Четыре раба. Сгорбившиеся, загорелые до черноты – а быть может, среди них были и нубийцы, и эфиопы, – они держали на плечах носилки, ручки носилок были сработаны из драгоценного эбенового дерева, а на носилках, в шатре, укрытом от жары белоснежным тяжелым шелком из страны Желтых Людей – там этот шелк пряли личинки волшебного шелкопряда, – прищурившись на солнце, сидел в походном кресле знатный, богатый человек, почтенный и важный; должно быть, наместник или, может, царь неведомой страны – на рынке было много приезжих, сошедших с кораблей, в порту толпились, сталкиваясь бортами, сияя на солнце цветастыми парусами, лодки и галеры, греческие триремы и долбленые, с изогнутыми наподобье лебединой шеи носами, мощные корабли из северной земли Туле, даже нубийские верткие лодчонки сновали здесь, а уж финикийских и иберийских кораблей было не счесть. Срединное море все кишело кораблями. Что ж говорить!.. Увидать на рынке царя чужой земли – не редкость. И надо же такому быть – вот его поднесли к торговому помосту, где продают рабов, вот он смотрит на продаваемую рабыню, а Скопас надрывается:
– Красавица девочка, и зубы все целы!..
Царь сделал повелительный жест рукой. Рабы остановились. Он отпахнул белую, сияющую на солнце шелковую ткань, чтоб получше рассмотреть девчонку.
– Зубы все целы, это важно, – усмехнулся царь. – И волосы хороши, и глаза.
Она поглядела на него исподлобья, сквозь кудель спутанных в избиеньи, борьбе и слезах волос.
И он поглядел на нее.
Они поглядели друг на друга – и все завертелось, поплыло перед их глазами.
– Сколько ты хочешь за девочку, презренный?..
– Двести драхм, о досточтимый господин, не знаю уж, какого роду!.. вижу, по венцу твоему вижу, что ты не простого происхожденья!.. двести драхм, любезный…
– Двести драхм? – Брови царя поползли вверх. – Но это же цена породистой кобылы! Не презренной рабыни!
– Да, господин, да, – поспешил закивать лысой головенкой Скопас, – это все так… но ведь и девочка – не простая!.. она тоже царского роду, как и ты!..
– Как – царского?.. да, она хороша, конечно…
– Ее дед и бабка – цари с погибшего Острова, – молотил языком Скопас, – она – одна из немногих, кто уцелел… она – осколок погибшего мира… потому и так дорого прошу… то, что погибло, ведь всегда дороже ценится…
Царь вздрогнул. Золотой обруч на его черноволосой голове – в волосах чуть проблескивали на солнце седые пряди, – блестел невыносимо, глазам было больно.
– С Острова, говоришь?.. – Он поглядел на курчавые затылки рабов, покорно державших носилки. – Это меняет дело.
Опять он сделал знак рукой. Она, сквозь спутанные волосы, глядела, как медленно рабы опускают носилки на землю, как он выходит вон из шатра – высокий, смглуый, поджарый, горделивый; стать его была так устремлена и достойна, что если б с него внезапно упали вниз все его сверкающие, расшитые золотой нитью, перлами и египетскими лазуритами одежды, все равно было бы ясно: перед людьми – царь.
Он шагнул к помосту. Она, стоя на помосте, отшатнулась, шагнула назад под его пристальным взглядом.
Она не могла оторвать от него глаз.
Он не отрывал взгляда от нее.
– Как тебя зовут? – отрывисто спросил он торговца.
– Скопас, – подобострастно скрючился в поклоне Скопас.
– Вот что, Скопас, – проговорил царь, не отводя глаз от рабыни. – Я даю тебе за эту девочку тысячу драхм, хорошего арабского коня и большой круглый сапфир впридачу. Ты хозяин или торговец?..
Скопас потерял на миг дар речи. Потом выдавил, сгорбившись еще больше, весь сжавшись в комок:
– Мой хозяин…
– Обрадуй своего хозяина. Пусть он проживет отпущенное ему время безбедно. Если он продаст сапфир и коня, денег ему хватит до конца его дней, даже если он еще молодой человек. А теперь освободи девушку, развяжи ей ноги, накинь на нее что-нибудь поприличней и вели спуститься с помоста ко мне. Сюда.
Пока человек, не замеченный ею, шедший позади носилок – управитель или казначей, она не поняла, – доставал из серебряного ларца монеты, пересчитывал их и ссыпал в кожаный мешок на тонком ремешке, пока Скопас взвешивал на руке, цокая языком, огромный сапфир, кругло ограненный, звездчато мерцающий, цвета моря в яркий солнечный день, пока к помосту подводили белого арабского коня с тонкими и сухими красивыми ногами, с круто изогнутой холкой и черным сливовым глазом, и конь ржал и бил копытом рыночный булыжник, высекая искры, – пока прислужники, втихомолку ругаясь, развязывали ей ноги, стреноженные, как у кобылы, чтоб не убежала, – она смотрела на царя, а царь смотрел на нее. Она не поняла, зачем царь платит за нее так дорого. Может быть, он слишком богат, и ему некуда девать богатство свое?.. Ей в уши вонзился пронзительный крик торговки – у нее с лотка украли горсть фиников. Горсть фиников – и тысяча драхм за нее, девчонку. Как все соизмерить? Нет меры для чуда. Нет меры для счастья и горя.
Она, с освобожденными, уже не связанными, уже свободными ногами пошла по помосту, и он протянул руки, стоя внизу, чтобы она прыгнула ему в руки, не наступая на землю – она поняла это, – чтобы сразу поймать ее в руки, как птицу, на лету.
Она вся покраснела – ее еще ни разу не касались мужские руки. Она была девственница, Скопас не наврал. Хотя наглые рабы не раз приступались к ней, рвали не ней одежды, подставляли ей подножки, чтоб она упала, а они овладели ею, бессильной, бьющей ногами и визжащей, – мать все время приходила ей на выручку, так дралась, как дикая кошка в пустыне, вцеплялась рабам в волосы, царапала им лица ногтями, и они убегали, боясь огласки и плетки хозяина.
Она вздохнула и бросилась с помоста вниз, как бросаются со скалы в бушующее море.
И царь подхватил ее, крепко прижал к себе; и она вся, в единый миг, прижалась к нему, и они стали на миг – горячее, пылающее одно.
И Скопас, и все рабы засмеялись, не сдержав обидного, громкого смеха. Как это так, великий и могучий царь купил себе наложницу, подстилку за тысячу драхм?!.. А-ха-ха-ха, как они не догадались!.. Он не поставил ее на землю. Он так и держал ее на руках, как ребенка. И она обвила его шею и глядела на ржущего Скопаса, на корчащихся надсмотрщиков большими, испуганными глазами из-за царского плеча.
Он обернулся, и обидный смех разом оборвался.
– Не сметь, – сказал он твердо. – Я прикажу отрубить вам головы на главной площади. Я – царь Анатолии. Моя воля – воля и здесь. Я могу купить весь ваш город со всеми его купцами, пристанями, кораблями и рынками, со всеми его гетерами и менялами. Я могу сжечь его, стереть с лица земли. Но я нашел здесь, на рынке, свою судьбу. Да, все продается и покупается; и на рынке нашел я ее, и на рынке купил. Можешь сказать, Скопас, хозяину своему, что любовь не покупается за деньги. Пусть поглядит внутрь моего сапфира и увидит там лик любви. Я тоже родом с Острова, как и она. Я тоже чудом спасся. Я основал свое новое царство в Анатолии, и теперь оно мое. Идем, рабыня! Пусть они остаются при смехе своем, в собачьем и птичьем дерьме своем. Я люблю тебя.
Он прижал ее к себе сильнее; ступил на носилки, вошел с нею на руках в шатер. Рабы взялись за четыре конца эбеновых перекладин. Подняли тяжесть вверх. Из-под курчавых волос по их затылкам катился пот. Припекало. Солнце стояло в зените. С близкого моря наносило запах йода. Белые раскаленные камни пахли известняковой пылью. Под ногами у рабов хрустели нежные раздавливаемые ракушки.
Они двинулись прочь от ненавистного помоста, прочь от Скопаса и прошлой ее рабской жизни. Он держал ее на коленях. Он погладил ей лоб, отводя с лица волосы. Она все еще боялась улыбнуться ему. В полутьме шатра она не видела его лица толком, только различала, как блестят его глаза. Тепло их тел перетекало друг в друга. Она приблизила свое лицо к его лицу и внезапно, осмелившись, поцеловала его в глаза – в один и в другой.
– Глазами ты глядишь на мир, – прошептала она. – Я хочу, чтобы ты всегда глядел на меня. Так же, как сейчас.
– Я всегда буду глядеть на тебя, – прошептал он ей. Взял руками ее лицо. Руки у него были большие, горячие, и ей показалось – ее лицо окунули в костер.
Он приблизил свое лицо к ней, и его губы нашли его губы. Ее никогда не целовал мужчина. Кровь прихлынула к ее губам и к низу ее живота. Она испугалась прилива крови и схватилась одной рукой за лицо, другую положила себе на живот. Царь нежно взял ее руку и отвел с живота, взамен положив туда свою руку.
– Как горит твой живот под легкой тканью, – прерывающимся шепотом прошептал он. – Как я хочу целовать твой живот. Я скоро буду целовать его. Целовать твой рот, сияющий, как ягода; твое лицо, как полная Луна. Я буду целовать тебя всю, и ты будешь смеяться от радости.
Когда рабы проносили носилки мимо виноградных рядов, они услышали терпкий, сладкий запах винограда. Душистый черный виноград лежал на деревянных лотках, в искусно сплетенных корзинах. Два раба стояли в огромном долбленом чане, преступали ногами, будто танцуя танец. Они давили виноград. Терпкий сильный запах поднимался от чана, если его вдохнуть глубже, можно было опьянеть, как от вина.
У царя раздулись ноздри. Он вдохнул аромат глубоко. Он приблизил губы свои к ее лицу снова.
– Я пьянею от тебя, как от вина, жизнь моя, – прошептал он. – Я буду кормить тебя отборным виноградом. Хочешь, купим виноград?.. Я прикажу доставить на мой корабль корзины с черным виноградом… его собрали, должно быть, на Крите или на Книдосе… а может, его сюда, на рынок, привезли этруски… кто бы его ни привез, хочешь, он будет наш?.. и нынче ночью, когда я буду любить тебя, – голос его пресекся, – я буду вкладывать тебе в рот виноградины, одну за другой, если тебя обуяет жажда, царица моя… хочешь?.. И мы сами будем давить вино в чане, я научу тебя… у тебя все ноги будут в темном виноградном соке, как в крови… это кровь ягод, не бойся… тебя никогда больше не будут ударять плетью, никогда не прольют твою кровь…
Он осторожно коснулся губами ее губ. Он хотел поцеловать ее сильно, впустив свой язык внутрь ее рта – и не стал; лишь провел языком нежно по ее губам, будто слизывая ее сладость, вдыхая ее запах. Она вся вспыхнула до корней волос. Ее глаза привыкли ко тьме шатра, и она уже хорошо различала его лицо. Оно было гладкое, бритое; две резких морщины спускались от глаз ко рту, очерчивая губы; плотно сжатый во время торга рот теперь был полуоткрыт в восхищеньи. Глаза, длинные, остро глядящие, Были чуть скошены к вискам. Так же, как и у нее – она не раз видела себя в материно медное, плохо отшлифованное, поцарапанное зеркало. Они точно родня. Они оба – с Острова. Им судьба быть вместе.
– Купи!
Он высунулся из шатра, велел рабам остановиться. Кинул торговцу кошелек. Ухватистые, верткие рабы хозяина, продавца винограда, мигом подхватили тяжелые корзины с виноградом, закричали на простонародном египетском, так, как кричали неотесанные гиксосы: куда нести?!.. в какой дворец?!..
– Нести на корабли, – распорядился царь, держа руку, сжатую в кулак, на колене. Она потрогала его кулак пальчиком, как будто это был золотой шар. Улыбнулась. – На корабль, где красный парус, на нем вышито золотыми нитками спереди большое солнце, сзади – серебряными – Луна. Два светила, что льют свет на землю, покровители моего царства. Не перепутайте! Солнце и Луна! Поставьте корзины на корму! Укройте тканями, чтобы виноград не превратился в изюм, не сгорел!
Рабы с корзинами винограда побрели к пристани. Рабы, несшие носилки, убыстрили шаг. Руки царя скользнули под ткань ее хитона. Его пальцы нашли кончики ее нежных, только что набухших женским соком грудей, осторожно сжали их, и ее сосцы откликнулись на его ласку, отвердели, поднялись. Она задышала часто, испуганно. Он покрыл поцелуями ее шею.
– Что со мной?!..
– Не бойся. Это ты просто хочешь меня. Это ты так хочешь меня. И я войду в тебя. Там. На корабле. Но я так хочу поцеловать сейчас твои груди. Они волнуют меня. Они тревожат меня. Я схожу с ума от них. Дай.
Он спустил с ее плеча край ткани. Груди выскользнули наружу. Она боялась, что рабы увидят, что она обнажена. Она закрылась локтем.
– Они ничего не видят; они глядят на пыльную дорогу перед собой. Не дрожи. Отдайся мне. Отдайся ласке моей. Губы мои не причинят тебе вреда. Только радость.
Она, держа ее под мышки, склонил голову и взял в губы ее сосец. Нежно прижал его зубами. Стал всасывать в себя, вбирать, как виноградину. Она почувствовала, как стало влажным все у нее внизу, между плотно сжатых ног, как растет внутри нее горячий цветок, отворачиваются, обнажая тайну, его лепестки. И руки ее взметнулись, и пальцы легли на затылок царя, прижимая к груди его голову.
Он прошел дорожкой поцелуев к другому сосцу, так же припал к нему. На миг ей показалось: он – ее ребенок, и он – у ее груди; и он не может без нее, ибо она вскармливает его собою, своей плотью и кровью.
– Я хочу войти в тебя, – прошептал он, подняв к ней лицо от ее груди. Щеки его горели. Она стала водить рукой по его лицу, осязая его. Ей хотелось осязать его всего. Ей хотелось знать, какой он весь, под тяжелыми царскими одеяньями.
– Что это значит…
– Это значит то, что ты раздвинешь сладкие ноги свои, и я войду в тебя острием своим, причинив тебе муку и сладость, величайшую в мире, – тихо сказал он, лаская рукой ее груди, сжимая сосцы дрожащими пальцами. – Я войду в тебя и затихну, не буду шевелиться. Стану тихо пребывать в тебе. Пока твоя боль не перейдет, не превратится в нежность. Тогда я буду двигаться в тебе, проникая в тебя все глубже, и ты испытаешь счастье, ни с чем не сравнимое. Ты ведь этого хочешь, драгоценность моя?..
– Да, – шепнула она, обмирая от его прикосновений. – Да, я этого хочу.
Он накинул ей на плечи легкую, изодранную рабскую ткань. Высунулся из шатра. Крикнул рабам, изнуренным палящим солнцем:
– Скорей! Бегите!
Рабы, исполняя повеленье царя, ускорили шаг. Они быстро добрались до корабля. Когда царь выводил ее за руку из походного шатра, она увидела на корабле парус, надутый свежим бризом; она увидала его с лунной стороны. Полная, вышитая блестким серебром Луна выгибалась, парус трепетал; небесное светило глядело на нее пристальным глазом. Она улыбнулась вышитой Луне.
Ее смуглые, в грязи, ноги быстро взбежали по перекинутому трпау на корабль, и гребцы, лицезрея ее, стали многие ахать и переговариваться – обсуждать ее стати, ее красоту, испачканность ее рук и ног, изодранность ее бедной одежды; многие удивлялись, откуда и зачем ее привел на корабль царь – она слышала обрывки гортанной речи. Многие говорили на языке города, где жили они с матерью в рабынях, но многие и разговаривали на странном, звучном языке, незнакомом ей.
– Это язык Острова, – царь склонился к ее уху. – Это наш с тобой язык, забытый тобой; а я его помню, ибо тогда, когда погибал Остров, я уже был взрослый и смышленый. Сколько тебе лет?..
– Я не знаю, царь, – она обернулась к нему. Они стояли уже на палубе корабля. Ее ноги обжигали нагревшиеся на солнце доски палубы. – Моя мать отмечала мои года у меня на руке. Каждые три года она раскаляла на огне маленький железный брусок, прижимала его к внутренней стороне руки. Вот здесь, к тайному месту, – она подняла руку, рукав сполз к шее. На внутренней стороне плеча виднелись маленькие белые шрамы. Последний шрам был совсем свежий, еще красноватый, воспаленный; ожог еще не совсем зажил. – Сосчитай!
Царь сосчитал. Его глаза засияли нежностью, когда он снова поглядел на нее.
– Тебе только пятнадцать лет, – сказал он и опустил ее руку, поправил рукав. – Здесь пять огненных зарубок. Милая девочка, я старше тебя не на одну жизнь – на две, а быть может, на три. Я страшне тебя на бесконечность; чем отплачу я богам за счастье держать тебя на руках, как ребенка?..
Она ответила ему таким же сияющим взглядом. Он хлопнул в ладоши.
– Эй! Слуги! Приготовьте нам помещенье внутри корабля. Царские покои должны быть убраны и украшены сегодня с подобающей роскошью. Я нашел возлюбленную свою, и она должна радоваться, видя богатство мое! – крикнул он, и на его голос стали сбегаться люди, глядящие на повелителя с любовью. – Живо делайте нам все! Корзины с виноградом – тоже к нам, чтоб стояли рядом с нами и источали запах; ягоду обмойте ключевой водой, что в трюме, в больших амфорах!.. Застелите ложе тонким сидонским шелком, шкурами барсов и леопардов!.. Сегодня я праздную праздник любви своей. Не всякий раз человеку выпадает счастье любить. Любовь драгоценна, как тирский рубин, и неуловима, как северный Борей, свистящий пронзительно над бурным морем. Сегодня я поймал ее. Сегодня она – моя. Но ведь и я – ее. Я ей принадлежу. Сегодня, отныне и навсегда ваш царь, люди, счастлив! И, счастливый, я радость сделаю и для вас! Что мне сделать для вас?!..
Слуги, мельтеша, бега, готовя царю и наложнице ложе и ужин, смущенно улыбались, отворачивали лица. Им казалось: когда они смотрели на любящих, они посягали на любовь. Настоящая любовь – это храм. Туда входить надо благоговейно, складывать руки в молитве. И отворачиваться в смущенье от священного. О священном не говорят. Ему лишь молятся и благословляют его.
Царь протянул ей руку. Она вложила свою руку в его и обернулась. Она увидела, как рабы отвязывают канаты от больших деревянных колов пристани, как вытягивают просмоленные канаты на палубу; как гребцы отталкиваются веслами от края пристани, как у борта плещется густо-синяя, маслянисто играющая вода с золотыми солнечными бликами; как корабль отчаливает, отгребает, уходит, отплывает медленно и печально от пристани, у которой постоял немного в скитальной жизни своей.
– Мы уже отплыли, царь?..
– Да, сияющая звезда моя.
– Мы больше… не вернемся сюда никогда?..
– Никогда, счастье мое. Забудь горечь. Ее не должно быть у тебя под языком. Только сладость должна иметь ты отныне под языком. Никогда не возвращайся дважды в одно и то же море, где купалась. Никогда не встпай в одну и ту же текущую реку. Море уже другое, и река другая. И ты тоже другая. Ты же теперь другая, правда.
Она вспомнила, как он целовал ее в грудь. Она захотела, чтобы он опять поцеловал ее так же.
Он понял ее. Он сказал ей глазами: так и будет, как ты хочешь.
Он повел ее, держа за руку, в корабельные покои, приготовленные для них, и ее ступни шли по раскаленным доскам, сочащимся смолой, будто по углям костра.
Он сам снял с нее одежды.
Он стал снимать с нее одежды осторожно и бережно. Будто б он был и не царь вовсе, а прислужница-портниха, примерявшая сметанное тонкой нитью платье – и вот она снимает платье, боясь разорвать тонкий шов, и бережет изделье, и затаивает дыханье. Она тоже стояла, не дыша. Подняла покорно руки. Он стащил с нее рабское рубище, и ее тело, освобожденное от навешанных на него тряпок, мгновенно охватилось жаром прокаленного корабельного нутра, запахом смолистых досок, ароматом курений, что зажгли заботливые слуги. Она оглядывалась кругом. Ковры увешивают стены, устилают полы. Сундуки открыты, и из них сияют самоцветы, накупленные царем в разных странах по берегам Срединнного моря; а может, он даже плавал и за Срединное море, на звездный Запад, туда, за Золотые Столбы, выходил в открытый Великий Океан, где раньше, по рассказам матери, возвышался их погибший Остров. Много земель видел ее царь, и много сокровищ собрал; и вот теперь он все сокровища бросает к ее ногам. Он встал на колени перед ней, созерцая ее снизу, будто она была статуя в храме. Он погладил ей грудь и талию ладонями. Его ладонь легла и туда, в самый низ живота, где золоторунные нежные волосы прикрывали средоточье влаги и стыда.
Он встал с колен, погладил ее по щеке.
– Смотри, тут стоят чаны с водою, с горячей и холодной, – он показал на два чана около ложа; от одного из чанов поднимался пар, он был неплотно укрыт деревянной крышкой. – Рабы согрели воды, чтобы я мог помыть тебя. Я напущу в воду щелочи, и вся твоя грязь сойдет с тебя. Какое счастье, что тебя не били батогами. Твое тело чисто, без следа побоев. Тебя часто били?..
– Нет, – махнула она головой. – Нет, не часто. Я убегала.
– Умница, что убегала. Вставай вот в этот чан сначала, там где горячая вода. Не бойся, ты не обваришь кожу. Я попробовал рукой, эта вода как раз для того, чтобы смыть грязь с тела. Твео тело божественно, как и твоя душа. Душа светится в твоих глаза. Твое тело тоже будет светиться. Оно будет светиться всегда. Полезай!
Он приподнял ее под мышки, поставил в чан. Она ойкнула, ощутив жар воды; потом ее ноги привыкли, и она, следуя приказу его повелительных рук, уселась в чан, и вода обняла ее плечи. Царь достал губку, заботливо положенную рабом рядом с чаном, пузырек со щелочью, вылил щелочь в воду. Стал тереть губкой ее тело, давно не видевшее бани. Окунул ее спутанные волосы в воду.
– Они тебя не мыли, – сказал он гневно. – Они заморили тебя. Ты должна жить другой жизнью. Ты будешь мыться каждый день в бане, плескаться в бассейнах с чистой колодезной водой; ты будешь принимать серные ванны. Я прикажу делать тебе серные ванны. Я прикажу делать тебе ванны из молока и из крови только что убитых серн.
– Не надо из крови животных! – вскрикнула она испуганно; он тер ее спину губкой до красноты, глядел, как ее кровь приливает к коже. И ее лицо покраснело тоже. Он наклонился и расцеловал ее, как ребенка, в розовые щеки.
– Все, хватит, чиста я уже…
Он вынул ее из чана с кипятком; она дрыгала ногами; опустил в чан с холодной водой, обмывая ее чистой и холодной ключевой водой из амфор, стоявших в холодном трюме, и она вскрикнула: «Ах!..»; вытащив из холодной воды, улыбаясь ее ребячьему испугу, обернул тончайшей дамасской простыней. Промокнул ее волосы. Сбросил с нее простыню, и она явилась перед ним чистая, порозовевшая. Он нашел в развале пузырьков, связок жемчугов, россыпи браслетов, гемм и печаток медную расческу, стал расчесывать ее спутанные волосы. Она завертела головой, засмеялась.
– Больно!.. не так дери волосы мне… дай, я лучше сама…
Он отдал ей гребень. Глядел, как она расчесывает волосы, любовался на нее. Как это прекрасно, когда женщина расчесывает волосы. На это можно глядеть часами. Любоваться всю жизнь.
– Я умащу тебя розовым маслом, – сказал он тихо и радостно. – Тебя ведь никогда, никто не мазал розовым маслом?..
Он взял валявшийся на ковре пузырек с хрустальной пробочкой. Отвинтил ее. По покоям разлился томительный запах роз, увядших на солнце.
– Ложись сюда, на ложе мое. Оно же теперь и твое, солнце мое. Оно теперь наше.
Он указал на широкий деревянный настил, устланный богато и щедро мягкими и толстыми шерстяными тканями, звериными шкурами, покрывалами из шелка, виссона и легчайшего иудейского бархата, вырабатываемого в самой Газе. Она послушно легла. Ее колени были подняты и сведены, и царь коснулся их рукой.
– Опусти ноги. Так. И закрой глаза. Я буду умащать тебя розовым маслом, и ты чувствуй, как текут по тебе масляные потоки; как проникают они в твои подмышки, разливаются по твоей груди, затекают внутрь тебя, внутрь жаждущего лона твоего. Я не пожалею сегодня розового масла, что драгоценнее, чем мирро; я заплатил за него сундук красных, чистой игры, рубинов, привезенных из Иберии, от мавров. Освободись! Ты вся сжата. Ты должна раскрыться навстречу моим рукам, ласкающим тебя, умащающим тебя.
Она опустила ноги, вытянула их. Шкура нубийского леопарда, мягкая и ворсистая, щекотала ей спину. Царь налил в ладонь масла. Она закрыла глаза.
Рука излила масло на нее, и тихо заскользила по нежной коже, обводя все ее выпусклости и впадины, все ее ямки и изгибы, все ложбины и холмы; она, зрячая рука, ощупывала все ее тело, изучала, гладила его, молилась ему, запоминала его, ощущала его, ласкала его. Рука поднялась на холмы грудей; они оказались облитыми маслом, и ласка руки обняла их, заставив подняться выше в томительном вдохе. Она чуть не задохнулась. Царь повел рукой вниз. Масло разлилось по животу, она почувствовала это; вне сознанья она раздвинула ноги, и рука царя скользнула у нее между ног, туда, где набухал влажный бутон плоти. Она застонала, чувствуя, как масло льется внутрь нее, обнимая ее теплой душистой лаской, как вместе со сладким маслом скользит, проникает внутрь нее рука царя, пальцы царя, как раздвигаются внутри нее, как нащупывают круглый набухший бутон, и он под лаской раскрывается цветком. Она застонала.
– Кричи, – шепнул ей царь, – кричи. Море шумит вокруг. Никто нас не услышит. Я буду ласкать тебя бесконечно.
Она раздвигала ноги все шире, поддаваясь движеньям его властной руки, стонала все громче. Его палец вошел в нее, танцуя в ней, нащупывая ее детскую тайну. Легкая и острая боль пронзила ее. Он оторвал руку от ее раскрытого горячего лона, наклонил над ее животом голову и стал лизать ее живот, облитый розовым маслом. Его дыханье обожгло ей ее золотые волосы на холме Ашторет. И она вздрогнула всем телом, и громкий стон вырвался из ее судорожно вздохнувшей груди.
Это его язык коснулся ее набухшего бутона. Его губы нашли средоточье ее влажной, томящейся жизни, стали целовать ее, приказывая ей: разверни лепестки, не бойся, раскройся, цвети. Его язык лизал ее девичье разверстое лоно, и она чувствовала, как в его губы течет ее драгоценная влага, неведомый сок, морской белый прибой. Это не бутон; это жемчуг. Это речной жемчуг, перл с Танаиса в смуглых руках рыночных торговок на агоре.
– Ты… так целуешь меня… так не бывает…
– Я так целую тебя потому, что я люблю тебя. – Его шепот влился ей в уши розовым маслом, и она оглохла, перестала слышать. – Я люблю тебя… ты чувствуешь, как вся ты готова принять меня?..
Он оторвал губы от ее лона. Снова провел по ней руками. Руки скользили теперь по ее телу беспрепятственно, быстро, и она ощутила, как ее щек, ее губ, ее шеи, ее плеч и груди, ее живота, а потом и ее бедер, ее голеней и щиколоток быстро, стремительно касаются его губы; царь покрывал ее поцелуями всю – с головы до пят, будто она была не простая рабыня, а великая богиня, и он поклонялся ей.
– Я не богиня… зачем ты так…
Он исцеловал ее стопы и взял в руки ее маленькую, еще совсем детскую ножку. Повернул ступней к себе, к своим губам. И поцеловал ее ступню; и вобрал в рот ее розовую пятку. И она засмеялась громко, залилась смехом, вырывая ногу из его рук, уже откровенно и смело хохоча, играя с ним, дразня его.
– О!.. что ты делаешь… это же насилье… не смей!..
Он взял ее обеими руками за тонкую хрупкую талию. Он был такой большой, высокий, величественный; а она была такая тонкая и хрупкая; как же он обнимет ее, ляжет на нее?.. он ведь раздавит ее… И он еще не снял царские, блестящие одежды свои. Даже когда купал ее в чане с кипятком – не снял.
– Погоди немного. Я разденусь. Муж твой войдет в тебя нагой.
Она, лежа, повернув голову, глядела, как он раздевается. Он раздевался медленно перед ней, позволяя созерцать себя, позволяя ей взволноваться, впервые видя тайну обнаженья; это была самая большая тайна на свете, кроме тайны рожденья и тайны смерти. Сначала на пол легли белые, расшитые жемчугами верхние многоскладчатые одеянья. Затем – исподние, тоже белые шелковые рубахи, что в жару впитывали царский пот, избавляя от удушья и страданий. Потом на пол полетела нижняя тончайшая шелковая рубаха – ее ткали раскосые люди из Желтой Земли. Она поняла, что оттуда: на груди был вышит дракон, драконов не вышивали в странах Срединного моря.
И там, под рубахой с драконом, он был нагой, совсем нагой, гладкий и нагой, будто статуя бога, только под его кожей текла живая кровь, и мускулы вздувались, и она видела, как пылало, вспыхивало игрой и силой его жаждущее ее тело, и она глядела ему в сияющие страстью глаза; и медленно, боясь и желая увидеть, перевела взгляд на его грудь, взбухающую мускулистыми могучими золотыми, загорелыми пластиными, на его впалый живот, и глаза скользили ниже, все ниже, и она увидела то, что ей надо было не видеть, а осязать: резко восставший живой жезл, царский жезл, воздетый царский меч, – и глаза ее метнулись вверх, отшатнулись, как отшатнулась бы она сама от языка огня, лизнувшего ей руку.
Он шагнул к ней. Переступил через сброшенные тряпки. Опустился перед ней на колени. Она раздула ноздри и почуяла, как от него пахнет не мирром, не нардом, не иными благовоньями – острым и терпким мужским потом.
Он взял ее за руку и, вытянувшись, лег рядом с ней.
– Хочешь винограду?.. – неожиданно спросил он. Она с изумленьем услышала в его тихом голосе смущенье. – Я – хочу… давай я тебя угощу…
Он взбросил руку и отщипнул из корзины, стоявшей рядом с ложем, несколько черных пахучих виноградин. Взял их в рот. Она думала – он проглотит их, а он приблизил свое лицо к ее лицу, нашел губами ее губы, она раскрыла губы навстречу его губам, подчиняясь их ласке, и в ее рот, под ее язык, в горло ее стали скользить, втекать из его рта, как втекает молоко из груди матери в рот младенца, черно-синие сладкие ягоды – он кормил ее ягодами из своего рта, он вливал в нее сладость винограда вместе со своей, бьющейся в нем, любовью, и она глотала ягоды, она поняла это: он, вместе с ягодами, весь перетекал в нее, он говорил ей ягодами: я так же сладок, как они, еще слаще, – он дарил ей себя, изо рта в рот, как птица кормит птенца из клюва в клюв, отдавал ей великий подарок жизни.
Она проглотила виноградины и отняла от его лица лицо. Ее щеки пылали. Ее губы стали ярко-алыми, в них билась, толкалась кровь.
– Благодарю тебя, – прошептала она. – Это очень вкусно. Так сладко, что я…
– …что ты уже не можешь, не сможешь без меня, – закончил он ее слова, и она кивнула: именно это я и хотела сказать.
Он приподнялся на упертых в ложе кистях и наклонился над ней, лежащей навзничь. Он глядел на нее сверху вниз теперь – не снизу вверх, когда он стоял перед ней на коленях. Он обнял всю ее глазами, увидел завиток ее золотистых волос возле уха, погрузился взглядом в ее глаза цвета спелых зеленых виноградин. Так, глядя в ее глаза, он приподнялся на ней всем телом, держа свое тело над ней на руках, на весу; он образовал над нею как бы живой смуглый мост, и по этому мосту катилось солнце. Корабль чуть колыхало на волнах. Качка постепенно усиливалась – должно быть, гребцы выгребали в открытое море, и там гулял на просторе сильный ветер, мял волны, властно качал корабль.
Царь раздвинул ей ноги рукой. Она развела их, как роза раскрывает лепестки. В ней все увлажнилось, она истекала сладким соком, как виноград; она была готова принять его.
– Я буду качать тебя на себе, как волны качают корабль. Ты будешь качать меня на себе, как будто ты – лодка на море. А сейчас прими меня. Я истекаю соком, как и ты. Так истекает соком все живое: растенья, звери. И море – это любовный сок земли, радость моя. Земля истекает морем, ибо она любит солнце; и солнце пронзает великую влагу насквозь. Я пронжу тебя. Откройся.
Она почувствовала, как внутрь нее входит живое, горячее, острое; она невыносимо желала всего царя, и с удивленьем узнала, что весь он может уместиться на кончике того острия, что прокалывает ее, как бычий рог. Она еще раскинула ноги, он лег на нее, прижимая ее к ложу – и, выстонав короткий стон, резко и вместе нежно вошел в нее, и сразу, одним ударом, разорвал тонкую плеву, прикрывающую женский колчан. Стрела была внутри. Он поцеловал искаженное мгновенной болью лицо.
– Я уже в тебе. Не бойся. Ты мое дитя. Ты девочка моя. Я делаю тебя женщиной. Не двигайся. Слушай меня в себе. Боги помогут нам.
Она стала слушать его в себе. Боль стала переходить в сладость. Низ ее живота будто разверзся, как кратер, и она поняла, что сжимает, охватывает ногами его сильные жилистые бедра. Он чуть слышно толкнул ее. Она подалась навстречу. Она ответила ему. По ее щекам текли слезы.
Он снова поцеловал ее. Он стал тихо двигаться в ней, насаживая ее на себя, как рыбу – на деревянную острогу. Толчок; еще толчок; еще один. Она, истекая девственной кровью, все сильнее обнимала его ногами, все нежнее подавалась ему навстречу.
– Ты мое счастье, – сказал он ей в самые губы. – Я чувствую, как ты там, внутри, крепко обняла меня; будто бы стрела, вошел я в тебя, и я уже глубоко в плоти твоей, в сердце твоем. Я навек уже в сердце твоем. Меня из тебя уже никому не вынуть. Только боги…
Он замолчал. Его дыханье участилось. Он плотно, без зазора, прижал свои чресла к ее испачканному любовной кровью лону, она прижалась к нему и вскрикнула. Он был ныряльщик, и он достал вожделенное дно; и он вытащил жемчужину; и он торжествовал. Он задвигался в ней сильнее, мощней, все властнее, и вот он уже вошел в состоянье любовного боя, как воин, что разит копьем; он бил и бил в нее, как танцовщик бьет в бубен; и она уже не сдерживалась под ним, она стала стонать, кричать, и вот она уже кричала без перерыва. Она извивалась под ним и кричала, и он ударял ее, пронзал ее, и он чувствовал, что ни с одной женщиной, ни с одной наложницей, ни с одной женой в мире ему не было так сладко и томно, так неистово светло. Ослепительный свет замаячил вдали перед ним. Он приближался. Царь поднял голову, закинул шею, пронзая собой девственницу, ставшую женщиной; он приближал взрыв света, и он знал, что она тут, под ним, крича в его объятьях, неистово, будто весь век училась любить его, отвечая ему, тоже видит свет; они оба видели свет, и они оба летели к нему, оплетя друг друга ногами.
– Боги хотят, любовь моя, чтобы мы увидели свет. Боги дадут нам увидеть свет. Мы окунемся в вечный свет. Мы… не умрем… а-а!..
Световой взрыв потряс их. Ослепительный полог света взвился над ними, обнявшими друг друга, выгнувшимися в руках друг друга в порыве великого единенья. Световая лавина навалилась, вырвавшись из-за черной тучи довременной тьмы, вставшей по обеим сторонам их корабельного ложа, и погребла под собой их обоих. Они слились в поцелуе, и совместный крик ушел внутрь них, как уходит внутрь слеза невылившегося рыданья.
И на миг они ослепли. Они стали слепые и беспомощные, как новорожденные щенята у ощенившейся суки.
Когда они снова обрели способность видеть и осязать, они обнаружили, что крепко обнимают друг друга; вся леопардовая шкура была в крови, будто бы зверя только что убили; глаза царя были напротив ее глаз, и им показалось, когда они открыли глаза, что она – это он, а он – это она. Их души поменялись местами, и они оба засмеялись от этой перестановки.
– Царь мой…
– Счастлива ты?..
– Ты сказал…
Они лежали, тесно сплетясь; они были влажные, их кожа была покрыта потом; впору было лезть в чан с водой; а корабль качало на волнах, и у нее кружилась голова, и он сказал:
– А сейчас мы будем делать с тобою вино. Ты будешь сама давить виноград. Ты давила когда-нибудь виноград?.. Не отвечай, вижу, что никогда… И мы изопьем вина, что полилось из-под любимой стопы твоей…
– Ты излился в меня, как вино, – шепнула она. Он чувствовал жар ее губ. – Ты излил красное вино из меня. Нынче, на корабле, ты накормил меня виноградом. Это заколдованный виноград. Я съела его, и теперь я навек привязана к тебе. Теперь мне не надо ни свадьбы, ни венца. Я теперь твоя царица, потому что я ела царский виноград из уст царя моего.
Около изголовья горел светильник с рыбьим жиром. Пламя поднималось золотисто-оранжево, медово, ровно, наконечником стрелы, вверх; при наклонах корабля жир в плошке переливался с боку на бок, грозя вылиться, но не выливался, и пламя продолжало гореть. Она, лежа под ним – он все лежал на ней, покрывая ее поцелуями, не в силах расцепиться, разорваться с ней, – взяла светильник в руку.
– Свет, – тихо сказала она, и сердце ее сжалось. – Видишь, свет. Он горит, огонь. Просмоленный фитиль опущен в рыбий жир; и он горит. Ты – фитиль, я – жир. А что будет, царь, если жир весь вытопится, выгорит?.. до дна?.. и фитиль сотлеет…
– Свет останется у людей в глазах, – так же тихо ответил он, гладя рукой ее по щеке. – Когда свет гаснет, он остается у людей в глазах. Они помнят его. А потом он переходит в свет звезд. Боги зажигают звезды похожими на глаза людей, красота моя.
Она поставила светильник на пол.
– Тебе не тяжело?..
– Нет, лежи еще так, любовь моя… я хочу ощущать на себе сладкую тяжесть твою… я хочу зачать ребенка от тебя…
Он подумал о том, что да, у них будет ребенок; от такой любви не может не быть детей, и дитя родится красивым, как бог или богиня. Он дунул на светильник.
– Не бойся, я сам погасил его. Я волен опять зажечь его. Я же царь. Я хочу снова любить тебя. И ты же этого хочешь, царица.
В кромешной тьме они обняли друг друга.
Корабль колыхался на волнах, как огромная колыбель; гребцы взмахивали веслами; море шумело за бортом; ветер шумел, надувал красный парус.
И Луна……………………………………………………………………………………
…Она отдернула руку от маски. Да, все так оно и было. Ее первая ночь с царем. Тогда он спросил ее: «Как тебя зовут?» Спросил уже потом, когда они еще и еще раз пребыли в объятьях друг друга. И она ответила: «Селена». Конечно, это была не она; это была юная девочка, полюбившая царя из-за моря, а вовсе не она; она только ясно видела ее, наблюдала ее ход по земле. Босыми ступнями шла эта девочка по земле, и однажды она нашла свою смерть.
Она умерла после того, как умер ее царь.
Она не смогла без него жить.
А она, Жизель?.. Кого она любит, кого ненавидит?.. Из-за кого она смогла бы вот так же уйти из жизни, как та древняя девочка, рабыня на рынке, купленная великим царем?.. Козаченко тоже купил ее. Она пошла замуж не за него – за его банки. За возможность жить счастливо и безбедно. Она никогда не думала, что деньги – это несчастье; что из-за денег на них нападут, будут пытаться их убить. Нет, никого она не любит. И никто не любит ее. Для Кирилла она – безделушка, привычная игрушка-погремушка. У них нет детей; он притерпелся к ней; он гордится ее красотой в свете и зевает, пытаясь уйти от нее, слепой, здесь, дома. Ему с ней скучно. У него наверняка есть любовницы. Никто, никто ее не любит. Как никто?.. А Стенька?..
Да, Стенька. Да, Господи, Стенька. Она совсем забыла. Жалкий карлик. Она тоже привязалась к нему. Человек привязывается к тому, кто любит его. Даже если в его сердце нет любви. Отними сейчас у нее карлика – что станет она делать?
Она нашарила на столе, взяла в руки маску царя. Царь, и твою судьбу она тоже видела. Она знает. Она знает все про тебя. Тебя убили не в сраженье; бог Войны хранил тебя, и, хоть на тебе было много ран, и резаных и колотых, и отравленные стрелы вынимали из твоей груди и из-под лопатки, привязывая к твоему телу целебные зелья, ты всегда оставался жив и здоров. Ты был создан для борьбы. Ты не был создан для предательства.
Жизель держала в руках маску царя. Гладила его по щекам, по вискам. Недвижное мертвое золото, а живая щека вздрагивала, жилка билась на виске. Она помнит. О, как же хорошо она это помнит.
Его предал тот, кого он любил, после царицы, больше всего на свете. Его черный раб. Его слуга. Он выдал его своим соплеменникам, черным нубийцам, за сундуки с золотом, спасенным царем с погибшего в океане Острова. Это было золото его предков, царей. Они владели Островом до его гибели в пучине; царю удалось спасти золото, увезти его на кораблях, когда Остров погружался в море, и огромные волны несли последние корабли, уносили прочь, на восток, от места огня, ужаса, людских криков, землетрясенья и скорби. Они оглядывались назад, царь и его моряки – Острова уже не было; лишь по морю шли, колыхаясь, громадные волны. Так после страсти успокаивается женское тело. Сундуки царь держал во дворце. Черный раб влюбился в наложницу царя. Он захотел, чтобы царя не стало. Он подговорил своих сородичей, воинов царского наемного войска, убить его. «Что ты нам за это посулишь?..» – спросили воины, опасаясь подвоха. Черный раб посулил им сундуки с золотом Острова. С драгоценным золотом, какого больше не было нигде в целом свете. Часть золота лежала уже в ковчеге и предназначалась для захороненья царя в гробнице, которую царь давно, десять лет назад, повелел построить для себя; человек обязан думать о своей смерти, думал о ней и царь. «Вы возьмете все золото, все сундуки, – сказал черный раб. – Немного золота лежит в саркофаге царя. Вы возьмете себе большую часть. Я проведу вас туда, где спрятаны сундуки. У меня есть ключ. Царь любит меня, я храню все его ключи. Наложница ни о чем не узнает. Вы убьете его, и она будет моя». Черные сородичи закивали курчавыми головами в знак согласья.
Они прокрались к нему в опочивальню ночью. Жгли факелы. Царь проснулся мгновенно. Он заслонил собою, своей спиной свою возлюбленную. Ее! Да, ее. Она помнит, как испугалась, как спряталась за его мощную, бугристую спину. Черные воины подняли копья и вскричали: мы заколем тебя копьями, или ты предпочитаешь другую смерть?! Она выбралась из-за спины царя. Закричала: вы не смеете!.. Вас казнят на площади!.. Черные лица засмеялись, белые зубы заблестели в черноте. Пламя ходило по стенам опочивальни, по голым рукам и блестящим, лоснящимся от пота телам. «Кто вам заплатил?!..» – сжимая кулаки, крикнул царь. «Мы увезем плату за твою смерть далеко, за Срединное море, – усмехнулся старший, в курчавости которого проглядывало серебро, – но мы ее еще не получили. Можешь не призывать богов! Нас трое, а ты один». Он встал навстречу им с ложа. «У меня есть одна просьба, – сказал он тердо. – Дайте мне сразиться с вами в честном бою. Я возьму меч, и вы попробуете меня победить». – «Возьми!» – согласно наклонил голову старший. Царь кивнул ей; она встала, дрожа, нагая, лишь одна жемчужная цепочка была застегнута у нее на талии, – и вынула из ножен царский меч, висящий на золотом гвозде в углу.
И протянула царю.
И царь выпрямился, с мечом в руках, и взмахнул им; и царь стал биться, и бился так против троих воинов, но они были тоже сильные воины, мужчины, хорошо обученные воины и вдобавок старые нубийские охотники, они сражались с человеком, как со зверем, и они победили его, хоть он и изранил их сильно, едвали не смертельно. Они уползли из опочивальни, стена, зажимая раны руками. Ее возлюбленный, ее царь лежал на полу, среди разбросанных одежд и драгоценностей, нагой, со страшной колотой раной в боку; это старый нубиец достал его своим коротким мечом. Меч царя валялся рядом с ним. Она глядела на мертвого возлюбленного остановившимся взглядом. Вот тогда она ослепла в первый раз.
И она не видела, как вошел черный раб.
Она услышала это.
«Дарак, – сказала она одними губами, – я знаю, это ты подговорил воинов убить царя». Он замотал головой: это не я, госпожа. «Ты врешь мне! – крикнула она, и ее волосы разметались вокруг головы. – Ты не хочешь сказать правду!» И опять он отрекся от правды. Тогда она сказала: «Возьми тряпку, смой отовсюду кровь, я обмою царя. Мы отнесем его в саркофаг и положим в его усыпальнице, как и велено было им своим подданным». Черный раб послушно делал все, что говорила она, молчал. Молчала и она. Ее глаза были слепы. Она окунала губку в теплую воду и обмывала его, мертвого – так, как когда-то он купал ее в чане с горячей водой, живую. Он купал ее, как ребенка. Она обмывала его, как обмывают всех умерших, шепча заупокойную молитву богам Нижнего Мира.
И они положили его в гробницу; и она пришла однажды ночью, с зажженным факелом, чтобы попрощаться с ним, чтобы погрузить в саркофаг все свои драгоценности, что дарил ей царь, так и не успевший обвенчаться с ней, и лечь рядом с ним. Она хотела себя убить – и не смогла. Ее убил черный раб – тот, что был в нее влюблен. Потом черный раб убил себя. Это она видела уже сверху, когда душа ее взмыла над лежащими в крови телами.
И собака царя, белая с черными пятнами, долго выла над умершими; и потом залезла в саркофаг, и смежила глаза, и умерла от тоски по людям своим.
А как же потом блуждала ее золотая маска, что сработал мастер мз мастеров, великий Кронос, которого особенно любил царь, куда она полетела по свету?.. Кто грабил гробницу… кто увозил ее маску туда, на север, через проливы, в Кафу, в Гермонассу… Она переходила из рук в руки и приносила людям горе. Люди убивали друг друга из-за нее, золотой. И она больше никогда не встретила своего царя. Где ее царь?.. Бог, ты отнял у нее зренье. Если она даже встретит своего царя, она больше его не сможет увидеть.
А почувствовать?.. Ведь почувствовать в любви можно… Услышать, рвануться навстречу…
Она снова положила руку на золотое лицо царя. Дверь скрипнула. Вошел карлик.
– Стенька… – жалобно сказала она. – Подойди… Мне плохо, Стенька… Я все время вижу прошлое, Стенька…
Он подкатился колобком. Он все понял сразу, как ей худо. Обхватил ее руками, припал к ней. Нашел губами ее руку. Она не отняла руки. Он бесконечно целовал ее руку и плакал. Она чувствовала, как у нее по руке текут горячие слезы карлика.
– Скажи мне… уже темно?..
– Уже давно ночь, госпожа.
– У меня к тебе одна просьба, Стенька. Зажги мне свет. Я хочу света.
Он ринулся зажечь лампу. Она поморщилась.
– Да нет, нет. Я не хочу лампы. Это все искусственный свет… мертвый. Это не живой огонь. Я хочу живого огня.
– Свечу?.. Здесь, в спальне, есть свеча… Вот она, я сейчас зажгу…
Она опять затрясла головой.
– Да нет, Стенька, свечу я тоже не хочу. Я хочу… это так трудно объяснить… ты не смейся… древний светильник.
– Древний?..
– Я хочу плошку с жиром. Знаешь, в такую маленькую тарелочку, плошечку, ну, чашеку, я не знаю, посудину, наливают жидкий жир, животный жир… и втыкают туда фитилек промасленный. И зажигают. И он горит. Вот это древний, живой свет. Жир – живой. Фитиль – из шерсти – тоже живой. Глиняная тарелочка – живая. И огонь живой. Все – живое. Хочу такой… понимаешь?.. я вижу, вижу его… я хочу взять его в руки, осязать…
На ее слепом лице написалась такая тоска, что карлик забеспокоился. Он забегал по комнате, ничего подходящего не нашел; бросил торопливо: «Пойду к горничной, спрошу у нее… может, что-нибудь найдется на кухне!..» Она терпеливо сидела за столом, ждала. Она сидела в длинной ночной рубахе до пят, расшитой кружевами. Она-то думала – это роскошные одежды. Там, в древности, далеко, перед царем Ламидом она была вся голая, только жемчужная цепочка застегивалась у нее на животе, и это был ее лучший, роскошнейший наряд.
Карлик явился вскоре. Он нес в руках маленькую глиняную плошку, толстый фитиль из обрезанной веревки, в плошке плескался жир.
– Барсучий жир, госпожа, – пробормотал он. – Это вам господин Кирилл покупал от кашля, а вы не пили. Горничная налила, сказала – он тоже хорошо горит, еще лучше рыбьего, бараньего и тюленьего.
Он поставил самодельный светильник на стол, чтобы она смогла его ощупать. Она с серьезным видом прикоснулась пальцами к округлой глине, окунула пальчик в жир. Повернула невидящее лицо к карлику. За ее улыбку он готов был отдать жизнь.
– Это то, что надо. Ты умница, ты прелесть, Стенька. Посреди ночи все добыть!..
«Если вы прикажете, я добуду для вас звезду с неба», – хотел сказать он и не сказал.
Она сидела молча, неподвижно. Карлик вздохнул.
– Зажечь?.. Вы же хотели живой огонь?..
Она кивнула:
– Зажги.
Он взял со стола зажигалку – курящий Кирилл повсюду швырял зажигалки, – щелкнул раз, другой, и фитиль зажегся, зачадил. Сначала от скрученной веревки пошел дым. Потом пламя выровнялось, стало гореть ясно и ярко. Жизель сидела тихо, повернув лицо к огню. Пламя плясало в ее незрячих глазах. Казалось, она была довольна.
– Все, Стенька. А теперь иди спать. Я утомила тебя. Ночью люди должны спать, а не исполнять сумасшедшие приказы бедных слепых. Но ты зажег мне живой огонь, мой родной, тот, что я все время вижу во сне и наяву, и я тебе благодарна.
Карлик исчез, как обычно, незаметно, бесшумно, ступая, как кот, кривыми ножками по паркету. Она осталась одна.
Пламя, пламя. Как я хочу взять тебя в руки. Я сижу у входа в древние катакомбы. Туда, по узким каменным коридорам, проходят люди – молиться. Они молятся своим богам. Они молятся… какому Богу?.. А я сижу у входа, и я слепа. Я раздаю приходящим светильники, плошки с горящим жиром. И они берут их в руки и идут во тьму. Берут в руки свет. Мой свет, что я даю им.
Рядом со мной много таких горящих светильников, не один. И я нашариваю их пальцами, и обжигаю себе пальцы, и улыбаюсь. Люди, чтобы узнать истину, должны обжечь себе пальцы. Я, чтобы узнать истину, должна была быть убита.
Но я воскресла. Золотая маска, помоги мне! Помоги мне умереть! В последний раз…
И за дверью послышался стук. Стук сапог о паркет.
Она повернула лицо от горящего светильника. Маски, освещенные ровным пламенем, лежали перед ней на черных подушечках.
В дверь вошли. Когда карлик выходил, она не встала, не закрыла за ним дверь на защелку.
В дверь вошли чужие – она поняла это, услышала. Она не испугалась.
– Кто вы такие?.. что вам здесь надо?..
Вошедшие молчали. Она услышала скрип стульев. Они садились.
– А ничего рубашечка, вся в кружевах, стильная, – раздался незнакомый ей голос. – Черт знает какой прикид. Черт знает какой дом. Домина. Такой и должен быть, по идее, у знаменитого Козаченко. Гляди, как мы отлично попали. Товар-то лежит лицом.
Если бы она могла их видеть, она увидела бы, что их вошло трое. Все они были коротко, под машинку, пострижены, как призывники – это была модная стрижка, стрижка нового века. Они сели вокруг нее, взяв ее в кольцо. Она слышала их дыханья со всех сторон. Если бы она могла видеть их глаза, она увидела бы: все глаза одинаково холодны и насмешливы. Это насмешка была такая: вот в античном цирке на арене человека убивают копьем, загрызают его дикие звери, – а они, трое, среди публики бы сидели и смеялись. Светлая стрижка, светлые прозрачные глаза. Свет светильника освещал модные часы у них на сытых запястьях. Она раздула ноздри и уловила запах модных, дорогих мужских духов. О, быть может, это друзья Кирилла. И голоса у них молодые. Про какой товар они говорят?!
– Сидеть тихо, красотка кабаре. Не двигаться! Шевельнешься – пеняй на себя!
– Ты что, окстись, Ефа, не видишь, она же – слепая…
– Кто вы?! – крикнула она.
В тишине раздался смешок. Если бы она могла видеть, она бы увидела, что смеялся тот, что был дородней всех, тот, что сидел прямо напротив нее. Он немного похохотал и бросил.
– Тебе необязательно это знать, красотка. Мы пришли, чтобы доделать недоделанное.
И ее душа будто выпорхнула, как птица, из тела.
Она увидела сверху себя и всех троих. Она поняла – это те, кто пришел убить ее. Те, кто не добил тогда там, в машине, ее и Кирилла.
– Здравствуй, смерть, – сказала она, улыбаясь, и губы ее задрожали.
– Понятливая! – хохотнул уже другой, тот, что сидел от нее слева.
– Начинай, – сказал голос справа.
– Я не могу… она такая нежная, ха-ха… и не видит ничего…
– Дурак, не видит, это же хорошо!.. тебе не будет так стыдно…
Она встала с кресла. Ночная сорочка упала до полу. В вырезе сорочки они видели ее грудь. Она медленно протянула руку и взяла со стола древний светильник. Пламя озарило ее лицо снизу.
– Кирилла… вы уже убили?..
– И горничную твою, суку, и этого… уродца…
Что ж, так и должно быть, думала она, пока ее рука держала перед незрячим лицом светильник. слегка дрожа. Так оно и было всегда. Слуги уходили в Мир Иной вслед за господами. Любящие – за любимыми. Они все умерли. Те, кто пришел, застрелили их выстрелами из пистолетов с глушителями – она здесь, в спальне, не слышала ни одного выстрела. Какое счастье, что у нее нет детей. Если бы был ребенок – она бы билась, плакала, кричала.
– Нет, уродца ты только подранил, вроде… он уполз за дверь, я не видел, куда…
Светильник в ее руке горел ровно и печально. Она протянула его тому, чье дыханье услышала перед собой.
– Вы возьмете маски?..
– Да, мы возьмем маски. Мы за этим и пришли. Удача, что они тут, у тебя, на столе. Отвернись! Я выстрелю тебе в затылок.
Если бы она могла видеть, она увидела бы, что стоявший перед ней уже передернул затвор и прицелился в нее.
Она с улыбкой подумала про револьвер, лежавший в ящике ее стола. Зачем она купила его у того охранника?.. Чтобы успокоить вечно мятущуюся душу свою?..
– Нет! – крикнула она. – Я буду стоять лицом к тебе. Не бойся.
Это она говорит ему, ему, убийце, хладнокровному и опытному киллеру, – «не бойся»?!.. Где же справедливость мира? Где мужество мужчины?!
Его рука, с поднятым пистолетом, дрожала.
– Что ты тянешь мне свой поганый светильник… как он чадит, воняет!.. Жир, что ли, налит!.. Утехи богатых!.. Камины, светильники… обезьяны на цепочках ручные, карлики… черепаховый суп по утрам…
– Возьми свет! – просто сказала она.
Два языка пламени ровно, не мигая, стояли в ее слепых глазах.
Тот, кто сидел справа, встал и ударил ее по руке. Светильник упал на пол, откатился под кровать; жир вылился, и фитиль погас. В спальне остался только призрачный свет уличных далеких фонарей, дико пляшущих ночных реклам.
Когда стоявший напротив нее выстрелил ей в голову, она упала не сразу. Она еще миг поглядела на убийцу ясно и ярко. Потом ее глаза стали тускнеть, подернулись серой пеленой, и она упала на ковер мешком. И так застыла – с вывернутой наружу тонкой рукой, в белоснежных кружевах итальянской ночной рубашки.
… … …
Ты уедешь очень далеко отсюда, Кайтох.
Так далеко, чтобы ты сам – и то не увидал себя. Наедине с собой. Даже в зеркале.
Отчего не сообщает ничего из Тамани Касперский?! Отчего молчит эта мелкая сошка… Леон… Хотя Леон и не обязан ничего сообщать ему, конечно… У него была связная – Ирена. У гада Бельцони – Моника. Их сейчас нет. При Задорожном теперь находится только доктор Касперский. Не ехать же ему, в конце концов, на Черное море. Уж лучше он поедет на Майорку. На Майорку, на Майорку… или в Швейцарию…
Касперский умник. Касперский профи. Касперский – крестоносец. За его спиной бездна бандитских крестовых походов. Денег много он берет, это да. За это, впрочем, его надо уважать. Он сам уважает себя, назначая такую цену за услуги.
Его счет… Слегка похудел… Ничего, он оклемается, он оправится… Он свалит в туман…
Уехать. Уехать очень далеко. Улететь за океан.
Немного отдохнуть, может быть. Или нет! Начать новую жизнь.
А что такое новая жизнь, Кайтох?.. Что такое Время?..
Оно идет и проходит. Оно появляется и исчезает. В дымке лет. В прогалах тьмы. В ужасе ожиданья. В колесе страданья.
И сможешь ли ты начать новую жизнь, непонятную тебе? Ты же так привык к старой, мужик. Господин Вацлав Кайтох, один из самых богатых людей мира. Археолог-бандит, знающий, что почем в выкопанных из земли сокровищах. Что почем на земле и под землей. А звезды небесные, Кайтох, сколько стоят?.. Миллиарды баксов, небось, а?.. Может, тебе ломануться в Варшаву, на родину предков, на историческую свою родину?.. Купить домик в предместье, в Желязовой Воле… ставить лазерный диск с ноктюрнами Шопена, плакать… глядеть, вздыхая, на портрет Ирены, на золотые украшенья из Севильи, из Акапулько, с Крита, с Хоккайдо, из Измира…
Сентиментальные мечты. Выкинь все из головы. Ты же продал все измирские сокровища, Кайтох. А те молодчики блестяще выудили из тебя баксы. Получилось так, что ты продал сокровища за гроши. Туда тебе и дорога. Это тебе наука. Наступил Новый Век. Новое Тысячелетье. Теперь виток Времени будет закручиваться все туже. Новые, гораздо более жестокие люди, чем раньше, будут заниматься виртуозным, техничным грабежом и подлогом, насильем и обманом. Искусство обмана достигнет совершенства. Ты же тоже был виртуозом, Кайтох. Но ты в подметки не годишься новым… этим. А может, ты просто уже состарился?!
Он пригладил залысины. Мельком кинул взгляд в зеркало. Не смотри больше в зеркало, Вацлав. Не смотри. Опухшие веки; седые патлы. Будто с перепоя. Хотя вчера ты в рот не брал. После гибели Ирены в Тамани ты часто, признайся, стал брать в рот спиртное, баловаться хорошим коньячком, мускатом, водочкой, настойками – этого раньше не бывало. Берегись, сопьешься. В твоем возрасте это часто бывает.
В возрасте… в его возрасте… А что такое возраст, Кайтох?.. Возраст – это тоже Время. Самый главный враг.
Он встал с кресла. Подошел к секретеру. Повернул ключ. Вынул бутылку. Оставь, Кайтох, не надо, ты же захочешь продолженья. Ну и захочу, и продолжу. Я буду делать в жизни, что хочу.
Он откупорил бутылку, брызнул зелья в рюмку. Повертел бутылку в руках, рассматривая этикетку. Его помощник покупает, по его просьбе, лучшие коньяки. Бутылочка за двести баксов; не Бог весть что, конечно, но вкус приятный. Ирландский коьячок. А у ирландцев лучше всего виски, это да; все же коньяк лучше всех выделывают французы, ну, да у них этого не отнимешь. Может, ему рвануть во Францию?.. покататься на парусных лодках по Гаронне, по Луаре… пожить на севере, в Карнаке, там, где у холодного моря затаились первобытные серые валуны, древние менгиры… там, кстати, недурное местечко для раскопок, так же, как и около знаменитого Стоунхенджа… древние кельты, загадочные друиды… золото, волшебное, колдовское золото друидов, погребенное глубоко в земле…
Он опрокинул рюмку в глотку. На минуту сердце отпустило. А что, правда – коньяк славное сердечное, тяпнешь его, и загрудинная боль тут же исчезает. Зря, что ли, изобретатетльное человечество выдумало виноградный спирт!.. Еще рюмочку, пожалуй… не повредит…
Он только занес над пустой рюмкой горлышко бутылки, как в дверь постучали.
Кайтох поставил бутылку на стол. В его глазах потемнело. Он нащупал в кармане револьвер. Если они начнут стрелять сразу, с порога, он будет стрелять тоже. Навскидку. Он уложит их всех. Он расстреляет всех, сволочи. Всех, кто хоть еще раз теперь сунется к нему.
На миг, скользнув глазами по зеркалу, он увидел себя; он понял, что это уже не он, кто-то другой – так перекошено было нечеловеческой злобой его лицо. И на такой же краткий миг он неистово, до боли, пожалел о том, что он потерял в себе человека. Кто заступил место человека в нем?! Почему он не увез сокровища Измира за границу… Москва – это логово. Тебя тут загрызут звери, урча, и косточки твои сгрызут, и кровавые останки, рыча, когтями в земле и золе закопают. И никакой будущий археолог не найдет…
Кайтох, кому ты будешь нужен?! Ты нужен в этом мире только себе!
– Да! – заорал он. Чуть вытащил револьвер из кармана. Стал так, чтобы удобно было выстрелить.
И он увидел, как дверь подалась.
Как дверь осторожно открылась.
… … …
Он стоял и брал в авиакассе билет на самолет.
Профессор Армандо Бельцони брал билет на самолет в родную Италию. Съездить хоть ненадолго в Рим, проветриться; половить тунцов на Капри. Отдохнуть. Проклятая Москва. Хорошо, что Монику, когда ее тело прибыло из Екатеринодара, он похоронил там, в Италии. На венецианском кладбище. Она почему-то всегда хотела умереть в Венеции; она так и говорила ему: «Армандо, есть только один город, где я бы хотела жить и умереть – это Венеция… Если я умру черт знает где, похорони меня, пожалуйста, в Венеции!.. любым самолетом отправь… в виду лагуны… а еще лучше – в море опусти… урну утопи в море… мою мать завязали в мешок и бросили в море… ведь человек принадлежит природе, всему миру, солнце, ветру, звездам… море – кровь земли…» Моника, неисправимый романтик. Будь она хоть трижды шлюхой, верни он прошлое, он все равно взял бы ее в жены. А он, несчастный, сделал ее шпионкой, соглядатайшей, бандиткой. Такую нежную женщину. Он полетит в Венецию, на ее могилу. Он полетит… ближайшим же рейсом до Рима…
Пока он стоял в очереди, он просмотрел пачку купленных свежих газет. Все газеты сообщали об убийстве семьи Козаченко. Жизель Козаченко нашли лежащей с простреленной головой у себя в спальне; рядом с ней лежал убитый тремя выстрелами в грудь ее слуга, странный карлик. Он обнимал ее ноги, а его голова покоилась на животе госпожи. Бельцони, нахмурившись, рассмотрел снимок. Убрал газеты в карман пиджака. Бедная Жизель. Жалко девочку. Кирилла – не жалко.
Когда он вышел на улицу, бешенство летней жаркой Москвы обняло его. Август. Вот и лето на исходе. Он вышел на единоборство с Кайтохом – и не победил его. Он хотел заработать много денег – а потерял жену. Он думал, он на белом коне, а конь под ним оказался Блед, и сам он на нем – скелет, и в глазницах его огни, и зубы скалятся. Куда ты летишь?! На родину?! Оставайся там навсегда.
Люди бежали мимо него, толпа гомонила вокруг, разноцветная, разбитная, транзитная – слышалась английская и испанская речь, смуглые латиносы шли в обнимку, пританцовывая, сзади раздавался грубый русский мат – пьяные голоса, русские напиваются даже с утра, это здесь в порядке вещей, – мальчики запускали прямо на перекрестке, задрав головы к небу, бумажного змея, нищие старушки брели по тротуарам, протягивая жалкие иссохшие руки – подайте Господа ради. С церковной колокольни раздавался звон. Звонили от «Новослободской», у Пимена. Бельцони до боли захотелось припасть в соборе святого Петра к стопам красавицы Божьей Матери, попросить прощенья. За все, что было. И что еще будет.
Он ощупал в кармане билет. Как это прекрасно – лететь. Как это чудесно, что он успел перевести все деньги, вырученные от измирской сделки, в свой итальянский банк. Когти Кайтоха его не достанут. Все-таки он ловкач; он Фигаро. Фигаро здесь, Фигаро там! А не жениться ли ему, и правда, еще раз?.. Жизнь не кончена, Кайтох прав. Он мужчина еще в соку. Зачем ему ждать положенного года траура. По Москве бегает вон сколько хорошеньких девочек. А ты хочешь обязательно жениться на русской, Армандо?.. Вечно ты подцепляешь иностранок… Мало тебе было англичанки… теперь вот русской девочки захотелось…
Ты богатый жених, Армандо. За тебя пойдет любая. И с рыночной площади, и из Грановитой палаты Кремля.
А что, это мысль. Жениться на политической даме. Они все, правда, политические проститутки. Зато у нее будут связи. И деньги. И ходы. И дипломатические ниши. И финансовые укрытия. И тому подобные щиты и крыши. И он, Армандо, будет защищен. Ему надо выйти на государственный уровень; на площадку официозной власти, тогда его тайная власть будет навек вне подозренья.
Он, усмехаясь, поджав тонкие губы, блестя черными бегающими глазами, похожими на двух жужжащих пчел, быстро шел по Большой Дмитровке, выходя на Страстную площадь. Позеленело-бронзовый Пушкин тихо и печально глядел на людское море, на круговерть толпы у ног своих. Бельцони, прищурясь, глянул на памятник. Ему-то неблагодарный народ даже и памятника не поставит. Ни в России, ни в Италии. Он пройдет по земле и исчезнет, как и не бывал. А он-то еще так печется о жизни своей. Нет! Жениться, и basta cosi! И родить ребенка! Ребенок – вот спасенье. Вот продолженье. Вот оправданье всех его мошенничеств, сделок, изворотливостей.
Он окинул прощупывающим взглядом миленькую черненькую девушку, видимо, ожидавшую кого-то около памятника Пушкину. Похожа на итальянку, подумал он. Черные глазки, чуть вздернутый носик, веселая улыбка. Озорница. Ему нужна озорница-любовница или спокойная домовитая хозяйка?.. Пока он думал, к девушке из крутящейся толпы подскочил высокий парень в рокерском черном балахоне с капюшоном, с черепами и костями на груди. Он нес в руках крупный красный тюльпан. У парня было доброе, широко улыбающееся лицо. Девочка тоже вся просияла, кинулась ему на шею. Они целовались так долго, что Бельцони плюнул, отвернулся и зашагал прочь.
Собраться? Соберется он быстро. Оставит в доме вооруженную охрану; закроет все сейфы на ключ; поставит все, что можно, на сигнализацию. А он – под мышку чемодан, и был таков. Италия, Матерь Божья… Солнечное море… Он забудет все горестное, что было здест этим жарким, невыносимым летом. Он будет пить апельсиновый сок. Он будет лежать на морском берегу на песке… и спать, спать, спать…
В подземном переходе, кипящем, будто живая людская лава, его кто-то тронул за локоть. Он обернулся: что вам?.. – и тут же был сбит с ног мощным ударом.
Когда он летел виском на гладкую кафельную стену, последнее, что он подумал, было: какой красивый цветок, тот, красный, а он Монике никогда цветка не подарил.
… … …
Опусти меч, вытри его о траву. Опусти меч, вытри его о траву. Я или живу на свете, или не живу. Опусти меч, вытри его о траву. Я не знаю ничего о себе. Ты не знаешь ничего обо мне. У меня выступает кровь на губе. У тебя течет кровь по спине. И мы с тобой – только два врага. И я обнажаю грудь: ударь! И мне, как и тебе, жизнь не дорога, Потому что ты – царь, и я тоже – царь. Мы убьем друг друга на морском берегу. Мы убьем друг друга, и наши тела Сбросит в море женщина – я ей не помогу. Она меня любила, а тебя прокляла. Мы убьем друг друга… прошу, вытри меч о траву!.. Об эту голубую, сухую, древнюю, горькую полынь-траву… Ты видишь: я умер. Не верь! Я живу. Моя кровь – море. Пей прибой. Я на губах твоих живу.…ее соленые губы разлепились, и она повторяла эти слова. Она пела?.. Молчанье. Нельзя же молча петь. Время сжалось в плотный комок: в кулак. Она не помнила, она ли это кричала, шептала ли она. Может, это небо вышептало. Роман занес меч, и песня прозвучала в один миг. В ней. Внутри. Она убила человека! А он хотел убить ее. Кто кого, весь мир стоит на том. Кто кого. Человек убьет человека и вытрет меч о голубую траву, о полынь. Звенящая тишина. Это звенит у нее в ушах. За секунду могут пройти века. Секунда – ей; муравью – день; пылинке – вечность. Она уже продила свою вечность. Почему все черно перед ней?! Она – ослепла?!
Роман, почему ты не опускаешь меч?! Тебе тоже страшно?!
И ветер. Ветер, вихрь. Он срывает ее с места. Он несет ее вперед. Он крутит ее; это смерч. Гроза снова началась, при ясном небе, при ярких звездах. Смерч сорвет ее в море. И все кончится для нее.
Вытянув руки, она, отшвынув револьвер в полынь, несомая бешеным ветром, летела к Роману, и перед ее глазами было одно: меч, высоко занесенный над живым распростертым телом, сверкающий в черноте звездного неба, рядом с кровавым Марсом и синей Вегой.
ЭПИЛОГ
…Дамы блестели плечами и жемчугами, брильянтами в ушах и мелкими изумрудами в браслетах, рассаживаясь в кресла. Мужчины все были с иголочки, в смокингах, в изящных костюмах, в не выходящих из моды «тройках». Огромная круглая люстра под потолком чуть покачивалась на сквозняке, сверкала всеми яркими хрустальными огнями. Свет, ослепительное море света заливало камерный уютный зал. В Кремле давали правительственный концерт. Новый Президент России очень любил музыку, был поклонник оперы, симфонии, камерного исполнительства, вокала. В кремлевском закрытом концерте пела молодая, подающая надежды певица Светлана Задорожная. Ее пригласили выступить персонально; пообещали большой гонорар; ее имя было в Москве уже у всех на слуху, она была молода, ярка, талантлива и хороша собой, у нее был сильный, мощный голос – красивое высокое меццо-сопрано, она с легкостью бралась и за сопрановые оперные партии – за Татьяну, Джильду, – и свободно пела Кармен и Амнерис. Критики писали в восторженных статьях: богатый тембр, огромный диапазон, владенье материалом, феноменальная память, эмоциональность, глубокое погруженье в образ… Светлана, читая статьи о себе, смеялась: погляди, Роман, какая я получаюсь у тебя сногсшибательная, прямо ужас!.. Ты не думаешь, что меня у тебя кто-нибудь из-под носа украдет?.. Муж стискивал кулаки. Пусть попробуют!.. Светлана, ничего не говоря ему, на всякий концерт, в каждую поездку, российскую или зарубежную, брала с собой в сумочку маленький револьвер. Она теперь хорошо стреляла. У нее была лицензия на владенье оружием.
Кажется, этот зал в Кремле, где она пела, назывался когда-то Бетховенским. Видите, господин ван Бетховен, какая вам честь. Для выступленья она надела одно из самых любимых своих концертных платьев – длинное, полупрозрачное, из тончайшего китайского шелка, похожее по покрою на греческий пеплос, с сильно открытой грудью, с голыми руками: она любила, когда во время пенья руки были освобождены, вольно летали, обнимали музыку. И на ноги надеть античные сандалии, легкие кожаные ремешки. Чтоб ничто не мешало; чтобы парить на сцене, около рояля, над оркестром, будто на морском берегу под солнцем.
Она вышла к роялю, откланялась. Аплодисменты утихли. Она знала, что там, в зале, сидит ее муж, смотрит на нее, слушает ее. Ей так важно было это. Ей совсем не важны были высокие гости из Англии, Америки и Италии, приглашенные на ее концерт; она, благосклонно улыбаясь, откинувшись на спинки кресел, с важным видом слушали ее, а она совсем не думала о них, она оставалась внутри музыки, плыла в ее море. Дамы обмахивались веерами: было слишком жарко. Лето, опять наступило лето, и куда-то они с Романом поедут в это лето?.. У него новые раскопки – вместе с Энн и Джорджем Лики, наследниками тех, великих супругов Лики, что откопали в прошлом веке изумленной планете древнейшего человека – зиньянтропа, – он, скорей всего, отправится в Африку, он так давно мечтал об Африке. А у нее лето гастрольное, как всегда. Она подписала контракты с Парижской Гранд-Опера и с «Арена ди Верона». В «Арена ди Верона», на вольном воздухе, она будет петь Аиду – сначала в Италии, потом вся труппа поедет в Каир, и там они будут выступать в естественных декорациях, на фоне фараонских пирамид. И египетские танцы поставит сам Луиджи Джеронимо. Вот ей повезло! А отдыхать… «Отдохнем на том свете, – шутя, говорил ей Роман. – Мы же с тобой рабочие лошадки. Тягловые кони великих царей…»
– Рахманинов! «Не пой, красавица, при мне»! – торжественно, будто на коронации, провозгласила конферансье, сухенькая пожилая женщина, похожая на сухую осеннюю ветку. В зале поднялся довольный, восторженно-приветственный шум. Светлана наступила ногой в античной сандалии чуть вперед, от рояля. Прижала руку к груди. Под ладонью сильно билось ее сердце.
Она вдохнула воздух. Раздула ноздри, будто ловила ветер с моря.
– Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной!.. Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальный…
Она запела этот любимый, затверженный, до косточек изученный романс так вольно и широко, будто вдохнула ветер – и вышла на простор, на обрыв, над морем. Будто не зал, полный блестящего светского народу, был перед ней, а вольная и безбрежная, томительно-тоскливая степь, и серебряные охвостья полыни, и метелки чабреца, и там, вдали, под полною Луной, мерцало золотисто-синей стеной туманное, волнующее сердце море.
И она погрузила слушателей в мир вечерней морской шири, призрачных гор вдали, печали и непрошедшей страсти. Люди закрыли глаза, слушая певицу, а она так отдавалась волнам музыки, так качалась на ее любовных волнах, будто плыла она в корабле, в ладье, будто ее обнимали любимые, единственные руки…
– Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при Луне черты далекой, бедной девы…
Далекая, бедная дева. Это она сама. Она – тогда, на таманском обрыве. Вцепившаяся в занесенную руку с мечом. Плачущая над корчащимся от боли в сухой полыни телом человека, что хотел убить ее и Романа. Перевязывающая ему рану – так, как сделала бы это на ее месте любая опытная медсестра. Пустившая на бинты свою разодранную на клочки выцветшую майку с надписью на груди… какая была на ее майке надпись на груди?..
– Я призрак милый, роковой, тебя увидев, забываю… но ты поешь – и предо мной его я вновь воображаю!..
Ушедшие в туман времени лица. Жермон с чашечкой кофе в Керчи, на палубе корабля-ресторана. Андрон, убитый, в палатке. Ежик, мечущийся в горячечном бреду после гибели матери. Моника с пропоротым боком, зажавшая в мертвых пальцах сухую траву. Все призраки. Все милые призраки. Все ушли туда, откуда нет возврата. Если б их с Романом, как Радамеса с Аидой, кто-нибудь замуровал навек в стене, и им грозила бы смерть от голода и истощенья – согласились бы они умереть вместе?.. И тот, страшный, с заросшим бородой красивым лицом, лежащий навзничь в полыни – Касперский… Прочь, призраки. Она живая. Она живая, поет и любит. Ну не выстрелит же никто в нее из зала. Хотя Микеланджеловой Пьете разбили лицо молотком. И Рембрандтовой Данае облили грудь и живот кислотой. Ненависть неуничтожима. Зло в мире есть. Никуда не денешь.
– Не пой, красавица…
Пой, красавица. Пока ты поешь – зло сидит в углу, во тьме, скорчившись, и кусает губы от бессилья. Ибо оно чувствует: вечность – за тобой. А за ним – только его проходящее, пролетающее время.
Зал взорвался аплодисментами. Светлана кланялась долго, прижимала руки к груди. Ослепительно улыбалась. У нее была такая ослепительная улыбка, что Роман, шутя, говаривал: «Что, пошла опять обольщать своих продюсеров и импресарио улыбками?!..» Аплодисменты набегали, как прибой, к ее ногам, и она выходила снова и снова. И щедро пела – на «бис»: и Рахманинова, и Чайковского, и Верди, и Бизе, и народные итальянские песни, пахнущие морем и солнцем, свежей рыбой в сетях и долькой апельсина. O sole mio!.. o Luna mia…
Наконец певица устала, и слушатели утомились. Она, удаляясь по сцене за кулисы, ступая античными сандальями по желтым доскам, услышала:
– Божественный концерт!.. Такое бельканто… У меня впечатленье, что эта девочка в Италии училась!..
Она вошла в артистическую, уселась перед зеркалом, усмехнулась. Бельканто. Знала бы вся эта роскошная правительственная публика, что она была простой медсестричкой и рок-певичкой. Ее бельканто было – московские подвалы, где собирались рок-группы, куда она, чувствуя в себе жажду петь, приходила репетировать, и перед ее ртом был микрофон, а голос у нее был такой сильный, что Горшок ей кричал: «Убери башку от микрофона!.. Встань на три метра от него!.. Фонит!..» Нет, врешь, Светлана. Потом у тебя была Консерватория. И лучшие учителя. И великая Образцова. И старая Измайлова. И, когда ты в Большом театре пела в «Бале-маскараде» вместе с Ниной Раутио, она, после спектакля, вся в слезах, расцеловала тебя и прижала свое мокрое лицо к твоему.
Она не успела снять краску. В артистическую повалил народ. Ее все хотели поздравить. Боже, да тут весь зал, ровным счетом!.. Она протягивала руки, отвечала на поцелуи; улыбалась и смеялась; благодарила, ставила автографы, сияла глазами. Зеркала в артистической, забавные старинные трюмо, отражали ее и гостей, улыбки и блеск камней на запястьях и шеях.
– О, you are a big artist… a famous artist!..
«Посол Англии», – шепнули ей на ухо. Она улыбнулась чуть шире, опять, своим традиционным вокальным жестом, прижала руку к обнаженной груди в вырезе пеплоса. Английский посол глядел на нее пристально, будто изучая и запоминая. Потом наклонился к переводчику.
– Мистер Томас Лайнс приглашает вас этим летом сделать концерт в Вестминстере, для английской королевы. Ваше пение очень понравилось господину послу, – тараторил парень-синхрон, – если вы пожелаете, контракт принесут к вам домой или отправят по вашему факсу, оставьте координаты, господин посол будет очень польщен…
Она небрежно вытащила из сумочки, валявшейся тут же, на репетиционном рояле, визитку. Посол, сквозь очки, внимательно изучил ее. Всплеснул руками.
– О! Svetlana Sa-do-roznaya?!.. I know your famous husband…
– Господин посол говорит, – синхрон знал свое дело туго, – что он знаком с вашим знаменитым мужем, господином Романом Задорожным, весь мир, и он в том числе, очень уважает вашего мужа за все его изысканья и достиженья в археологии… быть историком, археологом – так почетно… и потом, сейчас это так опасно… сокровища крадут… ваш муж, говорит господин посол, смелый человек, он наслышан про его приключенья… Есть мысль – написать вашему мужу книгу обо всех приключеньях, что случались с ним в жизни, и он может издать ее в Англии, и она будет бестселлером, господин посол гарантирует… он не сомневается…
Посол, глядя на нее острыми глазами поверх очков, протянул ей визитку тоже.
– Он договаривается о встрече с вами и вашим мужем, – верещал парнишка, – вас устроит, например, среда, в посольстве, в три часа дня?..
Светлана кивнула. Из-за грузной фигуры посла, сверлящего ее глазами, вывернулась восторженная девочка, черненькая, тоненькая, с широко распахнутыми черными глазками, похожая на итальяночку, и обрушила ей в руки немыслимой величины букет цветов. Розы, гвоздики, тюльпаны… да этот ребенок совсем с ума сошел!.. Она, из-за цветов, опять обворожительно улыбнулась и кивнула головой послу: да, я согласна, мы с мужем придем.
Вот и поймала посла на крючок, думала она озорно, а может, там, в Англии, какие раскопки Романа ждут, ведь Англия – страна древних загадок, один Уэльс чего стоит, один каменный странный Стоунхендж… Роман рассказывал ей про археологические загадки Англии; у него была одна теория – он проповедовал идею концентрических кругов развития цивилизации, сравнивая древние лабиринты в Карнаке, в Скандинавии, в Англии и Шотландии, на Крите, на Белом море и на Урале, в Аркаиме. Он шептал ей: «Возможно, культура зародилась не там, где я думал – не в Пратрое, не в Измире… и даже не в погибшей Атлантиде… Она зародилась в Арктиде, в Гиперборее!.. да, это звучит достаточно фантастично, но эта гипотеза заслуживает рассмотренья – наши предки пришли с Севера, и ты же помнишь эти стихи Мартынова: есть гавань у границ Гипербореи… Златокипящая Мангазея, да!.. Пойми, златокипящая…» Светлана улыбалась и проводила нежно рукой по его щеке. Время не властно над их любовью. Она – золото гораздо более драгоценное, чем все золото Гипербореи и Мангазеи. Она хорошо знала своего Романа. Он поедет на Север. Он будет бродить по каменным кладкам древних лабиринтов. Он будет мотаться над суровыми землями на вертолете, делать зарисовки с воздуха. Он же сумасшедший, ее Роман. Как и она сама. Каждый на земле поет свою песню. И важно в своем деле быть сумасшедшим. Как это написал ей дирижер Франко Россо, с которым она пела Азучену: «Самой гениальной сумасшедшей из всех, с которыми я когда-либо работал на сцене».
Букеты, букеты, книги, ноты, коробки конфет… Скоро рояль исчез под грудой цветов и подарков. Она не могла опомниться от успеха. Каждый раз она безумно волновалась, выходя на сцену, и каждый раз после концерта или спектакля она изумлялась, как ребенок, всем поздравленьям и восторгам, падавшим на нее стеной золотого ливня.
– О, Светланочка, примите от всей души…
– Дал же Бог голос человеку!..
Да, дал, держи карман шире. Она сама его у Бога взяла. Каждое утро к роялю, как к станку. Распевки. Дыхательная изнуряющая гимнастика. Гаммы. Упражнения. Вокализы. До седьмого пота. Ее божественный голос – ее пот и кровь. И ее жизнь, конечно.
Ее жизнь не отнимут у нее. Пусть только захотят отнять.
Вынимая визитки из сумочки, она все время чувствовала под пальцами холодную сталь револьвера. Она купила себе маленький, дамский смит-вессон – и была спокойна. Даже прилетая из разных стран глубокой ночью, подкатывая на такси к дому, она никогда не боялась ни входить в подъезд, ни подниматься по лестнице.
Увидев однажды в жизни столько смертей подряд, сразу, она больше не боялась смерти.
Улыбнувшись дородной старухе в букольках, представившейся графиней Шереметевой: «Ах, деточка, я всю жизнь прожила в Париже, я многих певиц переслушала в Гранд-Опера, но такого голоса, как у вас, я не слышала ни-и-когда!..» – она увидела, как из-за рояля к ней идет ее муж. У него было счастливое лицо.
– Роман, – она протянула к нему обнаженные руки, и он покрыл их поцелуями. – Роман, я… я устала…
Он, при всех, не стесняясь, обнял ее и зарылся лицом в ее румяную щеку, в шею, туда, где забранные в пучок золотисто-русые волосы слегка развились.
– Вот так просто… устала, и все?..
– Да, очень устала… хочу крепкого чаю со сливками, варенья, и в постель…
Она посмотрела на него, изящного, поджарого, красиво-подобранного в черном смокинге, в галстуке-бабочке; она гордилась им. Его знали, оаскланивались с ним, узнавали его. Под шелковой белой рубахой, под шерстью костюма, там, на живом любимом теле, были белесые, как удары молнии, шрамы – следы той ночи в Тамани, сраженья на том обрыве над морем. Шрамы зажили, заросли. Зарастают ли раны на сердце?.. Она обняла его глазами. Он сжал ее пальцы.
– Идем, родная. Тебе и правда надо отдохнуть.
– Благодарю вас, графиня! – Она обернулась к Шереметевой. – Я польщена вашими словами! Я признательна вам за ваше восхищенье!.. оно дорогого стоит… Я, в свою очередь, восхищаюсь вами, вашей удивительной судьбой… возьмите визитку, звоните, мы встретимся!.. простите, мне надо идти…
Господи, какое счастье. Скорей домой. Она не будет переодеваться. Она пробежит с Романом под руку в машину прямо в концертом платье, подобрав его, даром что ее сандальи – просто для бега. А все-то ждали, что она выйдет на сцену в «лодочках», на каблуках…
Он закутал ей разгоряченные плечи норковым мехом. Они сбежали по лестнице вниз. На стоянке их ждал их старенький «жигуленок».
– Ну, ты довольна концертом?..
– Как тебе сказать, Роман… фифти-фифти… могла бы и лучше спеть…
– Ты кокетничаешь, киска.
Он обернулся; она блеснула в него глазами. Он отвернул крышку термоса, протянул ей питье. Положил руки на руль.
– Чай с вареньем и с коньяком. Как ты и хотела. Кто эта старушка?.. Графиня Шереметева?..
– Да, она всю жизнь жила в Париже… вот счастливица!..
– А мы всю жизнь живем в Москве родная, и тоже счастливы. Кто может быть счастливей нас?.. Ну-ка?..
Машина вырулила из Боровицких ворот на Манежную площадь. В черно-синей, как спелый виноград, тьме вечера мигали звездные скопленья цветных сумасшедших огней. Светлана наморщила лоб.
– Скажи мне, Роман…
– Что, ты что-то забыла там, в Кремле?.. Плащ?.. Ноты?..
– Да нет, я без плаща была… Жарко же уже, лето… Но хорошо, что ты эту шкурку взял с собой, я вся потная… Скажи мне, милый, ты помнишь, у меня была майка там, в Тамани?.. ну, такая белесая, выгоревшая вся… я в ней работала, спала, купалась – все… такая старая рокерская майка… что было на ней написано?.. Ты не помнишь?..
– Господи, какая ерунда… а я-то уж успел напугаться…
– Я вот ничего не боюсь.
Она отвела ото рта прядь волос. Ветер задувал в боковое стекло. Роман, ведя машину, закурил, стряхивал пепел в оконце.
– Я знаю, что ты ничего не боишься, смелая моя. Носишь револьвер в сумочке.
– Ты рылся в моей сумочке?!.. – Она притворно ударила его нотами по спине. – Ах ты негодник…
– Я не рылся. Это Игнат рылся. Он-то мне все и открыл.
– Приеду – Игнату уши надеру. Будет знать, как в материных сумках копаться! Это же не раскопки, Роман, ну честное слово!..
Он, дождавшись зеленого светофора, повернул машину на Никитскую.
– Не дери ему уши, строгая мать. Он же маленький еще.
Она откинула голову с тяжелым пучком волос на спинку машинного кресла. Закрыла глаза. Дремала. Музыка все еще звучала в ней.
– Я вспомнил, – сказал Роман тихо. Гудки машин тоскливо кричали вокруг них, будто плакали звери. – Ты порвала майку, когда делала перевязку этой собаке Леону. На майке было написано: «SELENA».
Май 2000 года. Нижний Новгород – Москва.





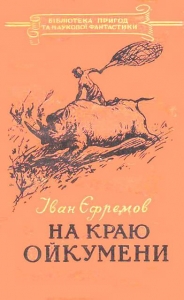

Комментарии к книге «Золото», Елена Николаевна Крюкова
Всего 0 комментариев