ЧЕСТЬ, ОТВАГА, МУЖЕСТВО
Александр Проханов МУСУЛЬМАНСКАЯ СВАДЬБА Рассказ
Учитель Фазли — смуглое молодое лицо в легких, едва заметных оспинах. Черные, с плавной линией усы, в которых блещут белые зубы. Внезапная застенчивая, нежная улыбка. Вишнево-черные выпуклые глаза, глубокие, умные, в которых ожидание, доверие, стремление понять. И мгновенная тревога: так ли он понят, то ли услышал в ответ.
Начальник разведки Березкин — белесый, лысоватый, с красным облупленным носом, в рыжеватых веснушках с бледными голубыми глазами, в которых среди вялой прозрачности вдруг остро, зорко блеснет огонек. Его губы, растресканные, жесткие, непримиримые. Хрипловатый настойчивый голос, словно что-то содрано в горле, какая-то невидимая царапина проведена в гортани, голосе, в самой душе. И от этого постоянное неудобство в общении с ним.
И он сам — третий, сидящий в этой маленькой комнатке, где на тесном столе — чайник, пиалки, разноцветные конфеты, насыпанное в тарелку печенье. Лейтенант Батурин — военный переводчик, чьи мысли, слова, выражение лица повторяют попеременно мысли, мимику, слова собеседников. Будто он, Батурин, взвешивает мысли, снимает легкие щепотки с одной медной чаши, перекладывает на другую и вновь переносит на первую, наблюдая шаткое колебание стрелки, равновесие беседы, лишь слегка, незаметно, насколько позволяет ему опыт и такт, управляет чутким колыханием весов. Так духанщик и в черной, насыпанной пирамиде, мечет в желтое, в выбоинах блюдо, зорко поглядывает на покупателя, на товар, на колеблемое острие.
— Скажи ему, — повторил Березкин, — оружие амиру Сейфуддину дадим, как обещали. Два грузовика отправляем. Но тяжелого вооружения пока пусть не ждут, только стрелковое! — начальник разведки ворчливо, чуть в сторону, не для перевода добавил: — Тяжелое им еще заслужить надо! А то нахапают минометов — и обратно в горы, и из этих же минометов по нашим постам!.. Скажи ему: два грузовика с автоматами!..
Батурин смягчал ворчливые, нелюбезные интонации Березкина. Перевел и видел, как серьезно, не мигая, стараясь все понять и запомнить, слушает учитель Фазли. Мягко кивает, благодарит то ли за оружие, то ли за важное, доверенное ему сообщение.
Его голубоватый перон, долгополая рубаха навыпуск, выглядел чистым и свежим, несмотря на длинный, проделанный по пыльной дороге путь. Полотняный тумбан, широкие шаровары, опадали мягкими складками. Люнги, темная, пышно замотанная чалма, мерцала серебряными, вплетенными в ткань нитями. Руки, длиннопалые, смуглые, перебирали черные костяные четки, нанизанные на красный шнурок.
Учитель Фазли был посланцем вооруженного отряда Сейфуддина, заключившего мир с правительством, повернувшего свои стволы против сильных, многочисленных воинов муллы Акрама. Посланец добирался на встречу с советским разведчиком ночью, тайно. Был подобран Батуриным у обочины, в тени корявого дерева, где сидел, завернувшись в поту — плотную, спасающую от холода и солнца накидку. В машине с занавешенными шторками был привезен в гарнизон. И их свидание было встречей двух разведчиков, нащупывающих прочность и истинность заключенного недавно союза.
— Пусть покажет, куда им доставить оружие! — начальник разведки расстелил на столике карту, накрыв ею пиалки и чайник.
Учитель Фазли наклонился, разглядывал. Узнавал очертания долин и ущелий, петляющих дорог, кишлаков, где жило его пуштунское племя, возглавляемое осторожным амиром Сейфуддином, чьи воины до недавнего времени выходили в засады на трассу, жгли военные грузовики и цистерны, покрывая дорогу пятнами крови и копоти, черными коробками изуродованных машин.
— Оружие, если будет угодно командору, следует привезти в Карахель, — учитель Фазли легко, быстро коснулся карты розовым ногтем. — Сын амира Маджид примет оружие, Маджид получил от отца сильный отряд. Он пойдет вместе с вами на войну против муллы Акрама. Ему нужно много оружия. Если бы командор прислал минометы, Маджиду было бы легче воевать с муллой Акрамом.
Батурин перевел, стараясь передать деликатную настойчивость просьбы, в которой присутствовал и длящийся неоконченный торг, и обмен услуг и гарантий, и сложная смесь лукавства и искренности.
— Нет, о тяжелом оружии после! Пусть минометы заслужат! Пусть на нас поработают!
Боевые отряды амира контролировали отрезок дороги по ущелью, перевалу, многолюдным кишлакам и угодьям. Блокируя трассу, затрудняли движение колонн. Примирение с Сейфуддином, превращение его враждебной воинственной банды в дружественную было дороже военных побед. Прекращало борьбу на дороге. Стоило немалых денег, которые платил Сейфуддину Кабул. Стоило оружия, которое направлял Березкин. Несколько дней назад по дороге прошла небольшая колонна. Водители, подъезжая к ущелью, ожидали стрельбу: вжимались в сиденья, занавешивали стекла кабин бронежилетами. Зенитки сопровождения шарили по кручам, выискивая засады душманов. Но вместо привычной стрельбы и засад их встретили у обочины улыбающиеся вооруженные люди. Махали, кланялись, прижимали руки к груди. Вчерашние враги превратились в друзей. Охраняли, сопровождали машины. Через день но дороге пройдет вторая, большая колонна — наливники, грузовики со снарядами, с грузом ракет и мин.
Ее продвижение, благополучие грузов и будет окончательным скреплением союза.
— Скажи: как только придет колонна, мы высылаем грузовики с автоматами, — подтвердил Березкин. — И еще. Пусть усилят осмотр «бурбухаек». Мулла Акрам своих людей свободно перевозит от Карахеля до Фари Мангала. Одно из двух: либо вы с нами против муллы Акрама, либо вы с ним против нас!
Батурин перевел эту фразу так, что в ней исчез жесткий, похожий на угрозу оттенок, а прозвучала просьба партнера оказать поддержку и помощь против общего неприятеля.
— Сын амира Маджид закрыл дорогу для людей муллы Акрама, — заверил учитель Фазли. — Вчера был бой, и двое людей муллы были убиты у Карахеля. Если командир вовремя пришлет автоматы и отряд Маджида вооружится, мы поможем шурави разгромить кишлаки муллы. Наши люди первыми войдут в Мусакалу и захватят муллу Акрама!
В это можно было поверить. Два феодальных князька, два вооруженных воителя соперничали между собой за господство над кишлаками в плодородной долине. Там, на тучных землях, выращивалась конопля, а из нее в маленьких домашних варильнях выделывался терьяк, ценимый в Пакистане наркотик. Тюки с терьяком отправлялись в Пакистан, приносили феодалу деньги, оружие, власть. Мулла Акрам владел коноплянниками на обширных плодоносных наделах, и его соперник Сейфуддин был непрочь потеснить соседа с помощью войск шурави.
Батурин, как начальник разведки, знал истинную цену заключенному на время союзу. Не дружба с командиром советской части, не преданность кабульским властям, не идеи чуждой, далекой от них революции, не джихад, священная война под зеленым знаменем ислама, а зеленые поля конопли, мягкая, как пластилин, жвачка наркотика вовлекли в союз с шурави удельного князька Сейфуддина, стремящегося расширить удел. Все это понимали разведчики. Но союз был оправдан. Прекращал борьбу на дороге. Сохранял от разорения кишлаки амира. Сберегал водителям жизнь. Ослабляя главного, не идущего на примирение врага.
Батурину, понимавшему корыстную суть союза, нравился учитель Фазли. Нравились его мягкость, учтивость, милая дружелюбная улыбка, встречный мгновенный отклик на его, Батурина, дружелюбие.
Березин писал в свой блокнот — пухлый, истрепанный, испещренный названиями кишлаков, именами главарей и агентов. На время оставил их обоих а покое. И оба они, пользуясь этим, беседовали о необязательном и приятном.
— Я слышал, уважаемый Фазли, что в вашем кишлаке недавно открылась школа и вы снова можете заниматься любимым делом, учить детей! — Батурин видел, как радостно дрогнули черные зрачки афганца. В мирной жизни он был учителем. Но его призванием было таиться от встречных, кутаться в накидку, пересаживаться с ишака на моторикшу, просиживать часами на солнцепеке, добывать военные сведения. Его призванием было — в маленьком классе, в глинобитной, всем миром построенной школе учить ребятишек, указывать тоненькой палочкой начертания букв на рукодельном плакате с рисунком цветка и верблюда. Он был благодарен Батурину за этот вопрос, оценил его как любезность.
— Уважаемый Батурхан, вы можете мне поверить, я никогда не стрелял в шурави. Я всегда почитал это великое несчастье, что шурави и афганцы должны друг в друга стрелять. Было время, когда шурави и афганцы называли друг друга «брат». Такое время, я надеюсь, скоро вернется. Я буду рассказывать детям все хорошее, что знаю о вашем народе, и ничего такого, что могло бы внушить им ненависть. Я буду рассказывать о нашем с вами знакомстве, дорогой Батурхан!
— Я помню, вы сказали, ваш младший брат ранен. В каждую семью война принесла беду. Сквозь каждый дом пролетела пуля.
— Очень много несчастий. Очень много вдов и сирот. Но, слава аллаху, мой брат выздоровел и недавно женился. Была свадьба. Радовались, что можно посидеть, поесть кебаб, побеседовать, отложив винтовки. Очень хорошая была свадьба. Сейчас зима, нет полевых работ, и молодые люди женятся. В кишлаках повсюду свадьбы. Если бы наш союз установился раньше, брат непременно пригласил бы вас на свадьбу. Я рассказываю ему о вас. Он вас почитает.
— Передайте брату мои поздравления! Пусть он будет счастлив!
Батурин представил, как в зимних кишлаках, среди коричневых и серых дувалов, безлистых садов, пепельных омертвелых нолей с остатками прошлогодней стерни расцветают мусульманские свадьбы. Пестреют ковры и подушки. Нарядные люди вольно сидят на коврах у дымящихся блюд. Звенят сладкозвучные струны. Гремят барабаны и дудки. И внезапная, нестрашная, веселящая душу пальба из старинных пуштунских ружей. Славят рождение новой семьи, продолжение рода, достаток в доме, урожай в полях. Во всех долинах, «зеленках», если пролететь над ними в зимнем холодном небе, расцветают мусульманские свадьбы.
— Скажи ему, пусть приходит опять послезавтра! — Березкин закрыл свой блокнот. — Будет сопровождать в Карахель оружие. Наша колонна подойдет как раз через день, вот и посмотрим, как ее Сейфуддин пропустит. Дружба дружбой, но если обманет, наша артиллерия их повсюду достанет, самолеты их повсюду накроют!
Батурин передал приглашение, умолчав об угрозе. Своей улыбкой, полупоклоном постарался сгладить нелюбезное, раздраженное выражение на обгорелом лице Березкина.
Свидание было окончено.
— Отведешь его и сразу зайди ко мне в штаб! — приказал лейтенанту начальник разведки, пожимая руку афганцу, с трудом выдавливая на своих твердых губах подобие улыбки.
В зашторенной машине Батурин провез учителя Фазли по дороге, туда, где кончался гарнизон, обрывался пыльный унылый кишлак с редкими велосипедистами и прохожими и открывалась пустынная рыжая степь. Они простились под корявым деревом, и, отъезжая, Батурин видел: афганец опустился на землю, укутался в накидку и замер, будто придорожный камень.
Он вернулся в штаб, в серый дощатый модуль рядом с пыльным плацем, на котором уныло топталась рота. Мимо дежурного прошел в кабинет начальника разведки. И застал там полковника, командира части. Оба, командир и Березкин, рассматривали глянцевитые фотографии аэрофотосъемки. С большой высоты самолет-разведчик, пролетев над Мусакой, родовым имением муллы Акрама, сфотографировал вафельные узоры полей, клетчатый чертеж кишлака, светящиеся арыки, крохотные лунки подземных каналов — киризов, окрестные горы, сухие и полноводные русла, паутину троп и дорог. Скрытый от глаз, упрятанный за глинобитные стены, притаившийся в ущельях мир афганских селений оказался открытым для объективов фоторазведки, для прицелов бомбометания.
— Вот сюда, по его дому, ночью ударить бомбочкой, когда он спит и не видит! — Полковник спичкой касался крохотных, прилепившихся один к другому квадратиков — жилище муллы Акрама, которое там, в кишлаке, было обширным домом за высокими стенами, с угловатыми круглыми башнями, фруктовым садом, водоемом, конюшней, со множеством пристроек и служб, где обитали женщины, размещались охрана и слуги. Феодальный замок посреди кишлака был центром и оплотом уклада, а его владелец правил, судил и наказывал, как делали века до него.
— Если точно ударить бомбочкой, мы его накроем как миленького! — командир постукивал спичкой по глянцевитому снимку, там, где слабым, едва различимым надрезом темнели траншеи, пулеметные гнезда, позиции зенитных орудий — линия обороны Мусакалы.
Батурин слушал их разговор, понимая замысел предстоящей операции. Был участником этой борьбы, был военным. Но иная, притаившаяся в нем сущность мешала ему быть военным, желать разрушения замка, испепеления усадьбы, вторжения в мятежный кишлак. Эта сущность состояла из робкой неуверенности, из симпатий, сострадания, острого интереса и любознательности. Она располагала душу к этой удивительной земле и природе, к целомудренной и богатой культуре, к наивному, смелому, добродушному, очень красивому и здоровому народу, на который свалилось несчастье — гражданское междоусобие и распря. Разрывало устоявшийся быт, разоряло древний уклад. Расшвыривало в разные стороны семьи и племена. Ожесточало, озлобляло. Превращало кишлаки и ущелья в боевые крепости, в опорные пункты, в минные поля.
Нет, не с боем он хотел бы войти в кишлак. Не хотел бы видеть из люка развороченный взрывом дувал, убитого снарядом верблюда, упавшего на пулемет муджахеда. Он хотел бы появиться в селении в чалме и накидке, в раздуваемых на ходу шароварах как путник, как гость. Услышать крик муэдзина в прохладной деревенской мечети, где по стенам, вышитые на фольге и на шелке, висят изречения из Корана, стоят у входа чувяки и единым многоглавым поклоном падают к земле горбоносые лица, клонятся черные бороды, закрытые в молитве глаза… Хотел бы пройти мимо тесных горячих дувалов, нагоняемый цокотом овечьих копыт. Пастух с клюкой прогонит отару, развесит в воздухе запах пыли, скотины, сладкого соснового дыма, гром бубенца. Мальчишка пронесет разноцветную птицу в плетеной клетке. Хотел бы посидеть на ковре в окружении гостеприимных хозяев, принимая из любезных рук пиалу горячего чая, слушая неспешный рассказ о ценах на хлеб и на мясо, о свадьбе соседского сына.
— Вот здесь меня волнуют два кишлачка на подходе, — полковник коснулся спичкой сетчатого узора на фотографии, будто кто-то приложил к земле палец, оставил свой отпечаток. — Пойдет по дороге броня, ее здесь обязательно встретят огнем. Надо узнать, сколько у них тут штыков, какая минная обстановка. В этом кишлачке у муллы размещен головной отряд Махмудхана. О нем бы побольше узнать!
Березкин сверялся с картой. Заносил в блокнот названия кишлаков. Опять обращался к снимкам. Батурин не участвовал в разговоре, но из прежних операций, из прежнего двухлетнего опыта предвидел ход событий.
Броневая колонна — бетеэры, танки, боевые машины пехоты — двинется к Мусакале, избегая проторенных дорог, съезжая в сухие русла, посылая вперед машины разминирования. Катки на танковых тралах проутюжат колючую землю. Подрыв, короткий металлический грохот, окутанные дымом танк, санитарная с зажженными огнями «таблетка». Стальная колонна, втягиваясь в ущелья, преодолевая мелкие броды, обрабатывая из пушек окрестные кишлаки и высоты, выйдет к Мусакале, к ее тополям, кипарисам, глиняным минаретам и башням, скопищу саманных построек.
Медленно, проползая овраги, мотострелковые роты окружат кишлак, займут высоты, встанут на «блоки», наведут стволы в сторону белесых построек. Мобильные группы разведки уйдут в предгорья, встанут в засадах, отрезая пути отхода, минируя горные тропы.
Командный пункт раскроет пятнистые сети, укроет под ними фургоны, станции связи, жилища штабистов. На взгорье батареи колесных гаубиц, гусеничные самоходок, реактивных орудий возьмут под прицелы размытые контуры куполов и дувалов, прозрачные тополиные рощи. И полковник, нацелив бинокль, поглядывая в синее небо, станет ждать, когда донесется поднебесный металлический гул — прилетят самолеты.
— Наших новых союзников, людей Сейфуддина, встретим вот здесь, — командир обратился к карте. — Посадим их к себе на броню, подтянем вплотную к Мусакале. После бомбоштурмового удара в артналете пусть идут вперед, прочешут кишлак. Сами разберутся с муллой Акрамом!
И это видел Батурин — действия «дружественной банды», прочесывающей кишлак. Гибкие, осторожные, ловкие, забросив за плечи накидки, крадутся вдоль дувалов, готовые стрелять, кидаться наземь, нырять в киризы. Просачиваться во дворы и постройки. Жадные, алчные, шарят по домам, роются в матерчатых ворохах, наталкивают в мешки шелковые ткани, серебро, фарфоровые вазы, часы. Кишлак в дыму и зловонье. Оставлен жителями, покинут боевыми отрядами, отдан на разграбление. Подавлен, сломлен еще один оплот мятежа. По ущельям, таясь от вертолетов, тянутся караваны верблюдов, вереницы детей и женщин. Уходят в горы, прочь от войны. Всадник в чалме, слыша далекие взрывы, с ненавистью сжимает винтовку.
— А все-таки, товарищ полковник, наш план с вами удался! — Березкин улыбнулся сухими шелушащимися губами. Его усталые, вечно настороженные глаза потеплели и усмехнулись. — Сейфуддина мы замирили. Нам бы его сейчас громить, ловить по ущельям, а он вот он, пожалуйста, лучший друг! С нами идет на мулу Акрама! А ведь кое-кто нас отговаривал. Кое-кто нам не верил. Я убедился, товарищ полковник, что все эти разговоры, которые ведут посольские умники: ислам, война за святую веру, зеленое знамя аллаха — это все вздор. Восток признает силу и ей подчиняется! И деньги берет, кто бы ни давал! А аллах за тех, у кого больше штыков и афганей! В этом я успел разобраться.
Батурин выслушал эти слова почти с испугом. Молодой офицер, переводчик, он не влиял на решения, принимаемые старшими по службе. Но его собственный, по крохам добываемый опыт, его сложное, из предчувствий и догадок, влечение к этой земле и народу говорили, что в этой войне и трагедии присутствует не разгаданная ими, пришельцами, суть. Только любовь и терпение, бережное проникновение в сердцевину народной души могут разгадать эту суть. Не разрушить, а сохранить. Не ожесточить, а привлечь. Иначе продолжится бессмысленная бойня, продлится война.
Так думал он на второй год своей службы. Но не мог поделиться своими мыслями с начальством.
— Когда я служил в Группе войск в Германии, — продолжал Березкин, — вот там была работа! Разве сравнишь? Здесь все примитивно, топорно, одно слово — Азия, средневековье! Там противник — немец, американец! Настоящий «театр», метода, цивилизация! Радиоперехваты, космос! Скрупулезный анализ источников! Там была школа. …А меня с этой школой — в кишлаки, к верблюдам! Смешно!.. Но все-таки и у нас бывают светлые минуты. Переманили к себе Сейфуддина!
Его лысоватая белесая голова с красной сожженной кожей наклонилась над картой. И пока он рассматривал предполагаемый маршрут продвижения и те два кишлака, где базировался головной отряд Махмудхана, Батурин молча, отчужденно смотрел на него, удивляясь, как сочетаются в этом умном, неутомимом, преданном делу человеке профессиональная глубина и наивность, знание предмета разведки и глухота к тонким энергиям восточной жизни.
— Очень важно, что амир Сейфуддин пойдет вместе с нами на Мусакалу, — сказал командир. — А еще важней, что он открыл дорогу, и наши транспортные колонны пойдут без потерь. Самые большие потери в колоннах, — вздохнул он. — Жду от вас результатов. — Он отложил аэрофотоснимки и вышел.
— Все понял? — сказал Березкин, обращаясь к переводчику. — Сейчас ступай к себе, можешь отдохнуть. Через полчаса на вылет! Двумя «вертушками» идем добывать «языка» в район Мусакалы! У них там, у чертей, сильное ПВО! Как бы не напороться! — и, забыв о лейтенанте, начальник разведки опять склонился над картой. Что-то нашептывал своими узкими запекшимися губами.
Его жилище — маленькая полутемная комнатка, клетушка в саманном доме — притулилось на краю гарнизона. Если не зажигать электричества, в комнату сквозь крохотное кривое оконце с тусклым осколком стекла сочился синеватый размытый свет. Едва освещал стол с бумагами, фотографию матери на столе, изразец, подобранный у стен разоренной мечети. Кровать с шерстяным одеялом, умывальник, автомат в изголовье — все оставалось в тени.
Он улегся поверх одеяла, прислушиваясь к жужжанию вертолетов. От звука начинало дрожать не закрепленное в оконце стекло. Казалось, что синеватый свет звучит и трепещет и комната наполнена вибрацией света. Сквозь тонкую стену слышались голоса. Батурин знал — это солдаты, улучив минуту, завернули за угол, перекуривают здесь у стен его жилища, подальше от глаз командира.
Он чувствовал себя усталым, огорченным, почти больным. Мучила его не телесная хворь, а связанная с работой неудовлетворенность. Общаясь с афганцами, устанавливая между ними и теми, кому помогал в переводе — командиру, Березкину, офицерам штаба, — истинную прочную связь, он каждый раз ошибался, промахивался, упускал что-то важное, таящееся не в словах, а в интонациях, во взглядах, неназванных чувствах. Ему казалось, что в этих промахах повинен он, что его знания недостаточны. Он, афганист, не знает страны и народа.
Он пытался понять психологию, внутренний мир афганцев, наблюдая их в часы веселья, в часы беды и молитвы.
Он бывал ими принят как гость. В самом бедном, скромном жилище на пыльной кошме бедняка. Был окружен их лаской, любовью. Выставляли последнее — сухую лепешку, вяленый ломтик мяса, жидкий чай в разбитой пиалке. Но от сердца, от всей души. И грози ему в эту минуту опасность, напади на него враг, хозяин сорвет со стены свою старую пуштунскую винтовку и станет защищать его, как брата, как сына.
Он угадывал их лукавство, когда в дуканах хитрили, утаивали, увиливали от прямого ответа купцы и менялы, сребролюбцы, падкие до казны, до легких денег. Морочили собеседника, видели в нем простофилю, чужака, иноверца. А когда выводили их на чистую воду, смущались, улыбались, быстро шли на попятную.
Видел в час смерти. Двух захваченных в плен муджахедов, когда полк афганских «командос» прочесывал мятежный кишлак. Обоих взяли с оружием — не успели засунуть винтовки под стреху виноградной сушильни. Их поставили тут же, у глинобитной стены. Оба молчаливые, молодые, высокие, с длинными, опущенными вдоль тела руками, смотрели на своих убийц с откровенной разящей ненавистью. Огненно-черные, пылающие, испепеляющие глаза. Стояли плечом к плечу, глядя, как подымаются стволы автоматов. Сколько раз в ночи настигал Батурина их огненный, ненавидящий взгляд…
Видел их в час молитвы, когда садилось солнце и степь начинала краснеть, струилась, стекленела. В зеленом небе горы стояли алые. Путник, расстелив у обочины молитвенный коврик, совершал вечерний намаз. В его молитве, в его закрытых глазах, в обращенных к богу воздыханиях была истовость, глубина. И казалось, что его молитвой сберегается зеленое небо, далекие горы, хлебные нивы, сады.
За стеной слышались солдатские голоса.
— Да его пристрелить было мало, не то что морду набить! Мне вон ротный судом грозит, а мне не страшно! Я в пустыню ходил. Мне после пустыни никакие суды не страшны! — говорил один, хрипловатый и яростный, звучно сплевывая.
— Пусть в пустыню сходят, караван забьют, а тогда и судят. А пока не сходили, неизвестно, кто кого судить должен! — отвечал второй, насмешливый, умолкая на время коротких сигаретных затяжек.
— Эти, которых из Ленинграда, из Москвы набирают, самые поганые, бессовестные! И дураки! Их первыми пуля находит. Не могут выжить в пустыне! Их пустыня не принимает. Я сразу вижу, кого когда кокнет. У них на лицах написано.
— Это точно.
— Уж это точно! Москвичи — лопухи. Ленивые. И терпеть не умеют.
Батурин рассеянно слушал. Оба солдата были десантники, что уходят в засаду в пустыню на истребление караванов с оружием. Быть может, оба полетят сейчас вместе с ним на захват «языков». Их ирония, ожесточение — солдатское понимание жизни все той же мудростью, приобретаемой в крови и слезах.
— Я ему говорю: ты флягу взял, она у тебя одна на сутки! Береги! Терпи! Не пей! Днем пить впустую Выпил, и вся вода из подмышек вышла. Ты ночи, дурень, дождись, тогда и пей!.. Нет, не слушает! Веда флягу высосет и сидит мокрый, как мышь, глаза пучит!.. Зло берет! Думаешь, зарыл бы тебя, гада, в песок!.. Москвичи, они самые дикие, честно!
— Это уж точно! Да и ленинградцы такие же!
Зеленый изразец на столе мерцал, лучился, и казалось, глазурованная глина из купола старой мечети и есть источник света, озаряющий комнату. Батурин смотрел на изумрудное свечение глины, слушал голоса за стеной.
Его основная работа в воюющей части требовала всех сил и энергии. Приучила к бессоннице, к постоянной готовности по первому знаку, приказу мчаться на вертолете, бетеэре, штабной машине, ночью и днем, в пекло и холод. Допросы пленных, тайные встречи с агентами, работа на фильтропунктах, куда из окруженных мятежных кишлаков перед началом удара выкликалось, вызывалось по мегафонам мирное население. Уходили женщины, дети, старики с кулями, с поклажей, скотиной. И он, тоскуя, сострадая и мучаясь, направлял кого к врачу, кого к повару, кого в тень брезентовых тентов, и уже начинала грохотать артиллерия, клубились в кишлаке разрывы, и в ответ из-за дувалов стучали крупнокалиберные пулеметы душманов. Он был в постоянных трудах, черновых, не оставлявших минуты для созерцания, любования, осторожного, бережного постижения. Но все же сквозь скрежеты и вопли войны стремился понять жизнь народа — для другого, почти невозможного мирного времени, после окончания насилий и боев.
Погребения, когда торопились до захода солнца отнести на гору белого, спеленутого мертвеца, снять его с деревянного ложа, опустить в могилу головой на камень к невидимой Мекке, накрыть могилу пыльными горячими сланцами, поставить в изголовье дикую глыбу. И мертвец превращался в гору. Вечернее солнце зажигало на ней разноцветные погребальные светильники. Усталая толпа с мотыгами, кетменями спускалась с горы в кишлак.
Навруз — Новый год, отмеченный пробуждением злаков, набуханием виноградных сахарных почек. Люди подходят друг к другу с дарами, с тихим поклоном. Кишлаки в сладком прозрачном дыму. Шипит на вертеле румяный кебаб. Дышит на блюде гора стеклянного риса. Льется в пиалы гранатовый сок. В каждом жилище воздают хвалу милосердному, любвеобильному богу. Испрашивают у него благоденствия, продолжения рода, цветения и плодоношения полям.
Труды и работы всем миром, когда роют киризы, подземные русла, где холодный донный поток, упрятанный от солнца и пыли, бежит под землей, поит кишлаки и поля, стада овец и верблюдов. Древнее, от праотцев, мастерство. Кетменем копатели роют колодцы, посылают наверх плетеные корзины с землей, кожаные бурдюки с мокрой глиной. Роют подземный туннель. Вода, собранная по каплям от тающих льдов и быстролетных редких дождей, наполняет медный кувшин с длинным, как у цапли, горлом.
Он старался понять удивительную культуру народа, в которой сквозь все лихолетья тот сохранил свое здоровье, стойкость и целостность.
За стеной десантники говорили:
— Я ему повторяю, дураку: «Не пей до конца, береги!.. Сегодня не забьем караван — еще сутки в песках оставаться! Взвоешь без воды!» Нет, всю вылакал!.. Смотрю на него — будто с ума сошел! Бледный, глазами водит, кадык вниз-вверх! Ничего не соображает! Спятил от жары!
— Это я по себе помню. Только одно в голове — пить, пить! Пустыня, а тебе речка мерещится, колодец… Это я помню!
— Ну вот… Гляжу, уполз куда-то. Автомат здесь, а его нет. Думаю, упрет в пустыню — и с концами! Или духи его возьмут, или удар хватит. Пошел искать, А он, гад, за бархан зашел, открыл флягу, где запас воды, НЗ, и лакает!.. Ах ты, говорю ему, сволочь!.. Ты что же общую воду пьешь! Ты кого без воды оставляешь! Меня без воды оставляешь? Ну, если у тебя совести нет, пей, допивай, товарищей своих обворовывай! Он на меня смотрит, как собака трусливая. Думает, сейчас я ему врежу, флягу отниму. А сам пьет, торопится, булькает. Так и допил флягу, мразь бессовестная! Вот тебе и москвич! Вот тебе и столичный!
— Да они там все такие, в Москве! Они тебе доброго слова не скажут. Ты для них деревня, провинция. Презирают!
— Я его там хотел презреть, да сдержался!
Они замолчали. Слабый запах табачного дыма просочился в оконце. Батурин подумал — должно быть, он прав, этот хрипловатый десантник. Тот, кого не примет пустыня, отвергнет земля и природа. Тот будет убит. Не только гранатой и пулей, ударом базуки и мины, но и тоской и унынием.
На второй год войны, переболев гепатитом, настрадавшись от жажды в барханах, обморозив ноги в горах, когда повалил сырой снег и ударил мороз и их горные куртки превратились в гремящие панцири, — он, получивший тепловой удар на броне, изведавший род безумия от многодневного ровного завывания удушающе-жаркого ветра, заносившего песчинки на страницы блокнота, в пищу, воду, казалось, в самую душу, покрывавшего ее бессчетными прорезами, — он все-таки мог сказать, что любит природу афганских гор и пустынь.
Река, зеленая, как жидкий малахит, стекленеет на перекатах, шипит у раскаленных пепельных круч. Сбросить потные прелые одежды, скисшие ботинки, плюхнуть на песок автомат, лечь в холодные, сладкие, прозрачные струи, в их чистое жжение, смывающее больные воспаленные оболочки настороженности, страха, вражды, недоверия. Лежать в холодной азиатской реке голым, омытым, становясь постепенно рекой, далеким ледником, белым застывшим облаком, малой, выросшей у потока, былинкой.
Ледник, голубой, недоступный, парящий над бесцветными кручами, над черными камнепадами. Присядешь без сил с грохочущим сердцем, с запыленными легкими, с переполненными болью мускулами, водишь пугливо глазами — не мелькнет ли чужая чалма, не блеснет ли вороненый лучик винтовки, и вдруг — ледник, его распростертые белые крылья. Сидишь, забыв на мгновение про горячий автомат, про потный «лифчик», про индпакет с пластмассовой ампулой парамидола. Смотришь на это парящее чудо. Пьешь, дышишь, молишься бессловесно, веря в возможность иной, высшей жизни, горной красоты и любви.
Горы в вечернем солнце. Краткое, быстрое угасание дня. В эти минуты космос врывается в расселины и ущелья своими спектрами, прозрачными радугами. Словно ангел, проносится над вершинами, зажигая на них драгоценные светочи. На каждой вершине поставлена громадная яркая лампада, прозрачная, лучистая. Как из хрустальной чаши, льется из нее золотое, зеленое, алое… Кто-то огромный, невидимый, быть может, все тот же ангел, переставляет эти чаши, меняет цвета. И ты в восхищении тянешься к лиловой горе, наблюдая, как в ней возникает желтая грань, сменяясь зеленой, малиновой. И последний розовый пик среди густой синевы. Ночь, туман, мерцание звезд. Слабые запахи оживших горных растений. Ночная роса на стволе пулемета. И бесшумно, беззвучно на откосе возникает видение. Горный козел вышел на кручу, замер, вдыхает дуновение ущелий. Рога, недвижно упертые ноги — все в звездах. И ты веруешь — тебе явился дух этих гор, этой поднебесной страны.
Батурин знал о себе: помимо военного грозного опыта, связанного с насилием и кровью, он, отделенный от внешнего мира броней, нацеленным дулом и выстрелом, он по каплям собирает драгоценное знание об этих горах и барханах, о лазурных, как каменные ковры, мечетях, о смуглолицых, в долгополых одеждах земледельцах, наездниках, воинах. Знание не для войны, а для мира.
Десантники за стеной покуривали, поплевывали. Слышался хрипловатый надтреснутый голос.
— Ну ладно, думаю, напился, гад, вылакал мою долю, выпил мою кровь, подлюка! Теперь уймется — ночь попрохладней, песочек остывает. Думаю, через час-другой пойдет караван, мы его забьем — и домой, отдыхать. Глядь, опять его нет! Туда-сюда — нету! Я к радисту: «Не видел?» — «Да он за бархан пошел!» Я за ним! Там наша броня стоит, бетеэры. А он, гадюка, в темноте пробку у радиатора отвинчивает, воду хочет слить, напиться! Я в него фонарем: «Ах ты, сука поганая! Ты что же, нас всех погубить хочешь! Я тебя сейчас пристрелю, подлюгу! Такие жить не должны!..» А он мне: «Стреляй, все равно не выживу, все равно умру…» Я бы его, может, и кокнул, да старлей прискакал, отнял его у меня! Но я ему разок успел мазнуть меж глаз!.. Бывает же погань на свете!
— Разные люди бывают, — ответил второй, и было неясно, что он подумал. Может быть, пожалел москвича.
Батурин вздохнул. Скоро кончится срок его службы, и он уедет домой. Как знать, вернется ли снова сюда, когда сомкнется граница за последней военной машиной, уходящей с афганской войны. Здесь на долгие годы продлится междоусобица, продолжится кровавое варево, усилится внутренняя распря с переменой вождей и властителей, с возвышением и умалением племен. В этой внутренней распре нет места ему, Батурину, военному переводчику, знатоку пушту и дари. Он многое не успел и не понял. Многое прошло незамеченным. Мало где успел побывать. Не был на свадьбе, на той, о которой рассказывал учитель Фазли. Ни разу не видел настоящую мусульманскую свадьбу из тех, что играют сейчас в зимних кишлаках и селениях.
И вдруг, перелетая в иное пространство и время, вспомнил северную русскую свадьбу в поморской деревне. Подумал изумленно, испуганно: «Неужели это я, с автоматом, на войне, в чужой стороне… Та северная русская свадьба…»
Гора зеленая, с промороженной жесткой травой. По горе, по седому инею текут сарафаны, алые подолы, пестрые ленты. Старухи в кокошниках, шиты жемчугом, в золоченых рогатых киках. Молодежь в нарядных сапожках. Три гармони враз раздувают красные, зеленые, золотые мехи. Бричка с женихом и невестой устлана половиками. У коня ленты в гриве, обмотана бархатом дуга. Жених, румяный, без шапки, грудь нараспашку, чуб набок. Невеста обняла жениха, держит ветку рябины.
С горы — к реке, к лодкам. Обоих понесли на руках. Сажают в ладью. Лодки в лентах, утыканы еловыми ветками. Веслами, шестами о лед толкаются, рубят, звенят — в стекле, брызгах, в солнце. Вынеслись на синюю середину с грохотом, стоном. Гармонь утопили в реке.
В избу, теснотищу. Столы в два ряда. Огонь в печи. Окна настежь. Яишня на черных сковородках пялит золотые глазищи. Холодец из кабана и теленка. Горы хрустящей, с ледком капусты. Миска с морошкой и клюквой. Шипящий противень с говядиной. Бутылки с водкой. Гульба, поцелуи, крики.
Ночью изба как в пламени. В окнах красно. Мечутся тени. Хмельные песни. То бабьи, величальные, от которых звон и стенание. То мужичьи, от которых рокот и гул. То общим хором старинную, про коня и орла. В пляс, в топот, так что пляшут венцы, переводы. То снова; «Горько!» Железный поднос с цветами, на который сыплются рубли и червонцы.
К полуночи костер у реки. Свалили две сухие сосны, запалили. И огненный вихрь до неба. В звезды улетают красные спирали и змеи. Люд окружил огнище: синеглазые, озаренные, повели хоровод. И кажется, свадьба отрывается от земли, летит в небеса в красных струях огня.
Батурин вспомнил эту свадьбу, припадая лицом к той зеленой морозной горе, к студеной синей реке, к жаркому кострищу.
В дверь постучали. Вошел посыльный. Разглядел его в полутьме.
— За вами послали, товарищ лейтенант!.. На вылет!..
Он схватил автомат и словно оделся в тончайшие металлические оболочки. Заострился, обрел другое лицо и тело, устремленное, зоркое, резкое. Опять был военным. Был готов воевать, исполнять приказы, подымать по приказу оружие.
У взлетного поля, у зеленого аэродромного железа стояла группа захвата. Десантники в брезентовых куртках, отягченные железом — ручные пулеметы, автоматы, рации, «лифчики» с боекомплектом. Стертое, облысевшее, избитое о камни, измызганное суховеями оружие. Командир группы что-то негромко втолковывал, доводил до солдат смысл операции.
Начальник разведки Березкин, в снаряжении, с автоматом, стоял в окружении летчиков. Склонились к планшету, прокладывали маршрут.
— Пойдем на Мусакалу, но низом, в обход, по речкам. Чтобы нам на мушку к мулле Акраму не сесть… У него вот здесь противовоздушная оборона развернута, — Березкин тыкал в планшет. — Горушка набита «дэшека» и зенитками!
Летчики в пятнистых комбинезонах чутко ему внимали. Батурин, обретая тут же чуткость, предчувствовал близкую погоню и поиск. Был с ними заодно, был ловец, участник погони.
— Вот здесь пойдем над дорогой и будем их брать! «Барбухайку», «таету», что бог пошлет! — Березкин, отрывая глаза от карты, поглядывал на близкие, с опущенными лопастями вертолеты, на солдат, на летчиков, словно убеждался в способности машин и людей выполнить сложный, опасный поиск. Уклоняясь от пулеметов противника, сцапать на дороге добычу и умчаться с нею домой. Батурин, подобно солдатам и летчикам, испытывал нетерпение, дразнящее чувство опасности, поглаживал автомат на ремне.
— Вот здесь зачерпнем в степи… У этих кишлаков пошуруем, — продолжал Березкин. — Здесь надо пощупать головной отряд Махмудхана… Но тоже осторожно, не резко. Без захода на кишлаки!
Батурин знал летчиков. Со многими летал на задание. Сиживал вечерами в их комнатушках. Слушал музыку, иногда за компанию пропускал чарку спирта, разглядывал на стенах фотографии их жен, матерей и детей. Командир эскадрильи воевал в Афганистане по второму кругу. Был сбит и ранен. Его лицо, в рубцах и метинах, казалось лицом старика. Несло на себе отпечаток сухих степей и предгорий, над которыми летал вертолет, отпечаток горящих кишлаков и разрывов. Его щеки и лоб стали подобием карты, на которой были отмечены объекты ударов, маршрутов разведки, площадки в горах с высадкой десантов, вывозом убитых и раненых, с падением горящих машин. Теперь на этом усталом лице сквозь тусклую пыль и окалину светилась молодая острая мысль — предвкушение погони.
Батурин видел: они все заодно, охотники, ловчие. И добыча, еще неведомая, уже присутствует в этом холодном солнечном воздухе с блеском выпуклых вертолетных кабин.
— Все понятно? — спросил Березкин.
— Так точно, — ответил командир вертолетчиков.
— Тогда по бортам…
Две машины «ми-восемь» взмыли над полем и ринулись в открытую степь. Березкин уселся в кабине между правым и левым пилотами, вытеснив оттуда борттехника. Батурин следил в иллюминатор за мельканием земли.
Десантники угнездились на лавках, разложив на полу оружие, аккуратно, стволами к хвосту. По клепаной оболочке, по лицам солдат, по их стриженым головам, по вороненым стволам гуляло круглое солнечное пятно, залетевшее в вертолет.
Батурин прижался к обшивке, наполненной металлической дрожью, входя в резонанс с этой дрожью.
Прошли расположение части — саманные казармы, похожие на засохшие ржавые буханки, помойку с бесчисленными вспышками консервных банок, врытые в землю бетеэры охранения, клетчатое взлетное поле, на котором зеленое аэродромное железо казалось свежей травой.
Перепорхнули пойму реки с латунной рябью. Брошенная крепость была похожа сверху на дупло изгрызенного омертвелого зуба. Резко снизились, прижались к земле, отыскивая сухое русло. Втиснулись в него и на бреющем, едва не касаясь колесами серой размытой гальки, помчались вровень с берегами. Все слилось в серое сплошное мелькание, в рокот, рев, словно поднятый винтами щебень колотил в обшивку машины, прорубались сквозь степь, оставляя глубокий прорез.
Батурин чувствовал бешеную железную скорость. Страшился ее, понимал ее неизбежность. Вливался в нее своей мыслью, волей, убыстрял, торопил. Был сам этой скоростью. Стремительный вихрь машины был продолжением ревущего движения войны. Будто в громадной трубе, воздетой над бренной землей, дули жестокие ветры. Сквозь раструб этой трубы неслись боевые машины, двигались батальоны. В нем еще недавно вспоминавший о свадьбе, робкий, сострадающий, стремящийся к свету и истине, был внесен в грохочущую, дующую смертью трубу. Был ее голосом, ее поднебесным воем.
Резко взмыли, отвалили от русла. Ровная белесая степь с тонкой ниткой дороги возникла под днищем машины.
Батурин следил за дорогой. Эта нитка тянулась из Мусакалы в губернский центр, то обрастая мелкими кишлаками из нескольких склеенных домиков, то обнаженно, голо расчерчивая пустынную степь среди солончаков и оврагов.
Два велосипедиста, крохотные, с белыми нашлепками на головах, с бусинками солнца на рулях, промелькнули внизу. Вертолет слабо дрогнул; чуть наклонился в вираже, будто летчик разглядывал велосипедистов, колебался, не ринуться ли вниз, на захват.
Снова волнистая пустота со ржавыми, седыми разводами, по которым тянулась дорога, то струнно-прямая, то ломаная, то свитая в петлю, проторенная по неведомому закону, пробитая в камнях и песках копытами коней и верблюдов, колесами повозок, стопами крестьян и кочевников. Древний, нанесенный на землю путь, над которым, повторяя его, неслась боевая машина.
Два ишака семенили внизу. На переднем — тюки, на заднем — наездник. Сверху, сквозь прозрачную толщу, были видны чалма, борода, цветные полоски на тюках — все крохотное, отчетливое. Прижимаясь к стеклу, Батурин хотел разглядеть медный бубенец на шее осла, красные шерстяные помпоны.
Десантники сидели на лавках. Вытянули, расслабили руки и ноги, стянутые ремнями тела. Батурин подумал: где-то здесь, среди них — те двое, которых только что слушал за стеной. И, быть может, третий — москвич, что выпил из фляги воду. Старался угадать, не тот ли, худой, чернявый, с болезненным тусклым лицом, дремлет, сдвинув ногой автомат на железном полу. Или маленький, бритоголовый, с задумчивым тихим лицом, по которому прокатился и канул медленный шар света.
Вертолет качнулся, резко вошел в вираж. Удалился от дороги, круто пошел на снижение, так что лежащее на днище оружие поехало, и десантники нагибались, удерживали его. Вертолет развернулся над степью, снова пошел к дороге. Батурин в иллюминатор пытался ее увидеть. Но видел только приблизившуюся волнистую землю в клочках засохшей травы.
Коротко, резко простучал пулемет. Очередь, прочертив пулями дорожную пыль, служила предупреждением кому-то невидимому на дороге, командой остановиться.
Вертолет пересек дорогу. Батурин, вытянув шею, заглядывая под днище, под кассету реактивных снарядов, увидел автобус. Мелькнула крыша с привязанными тюками, красный расписанный борт.
Вертолет развернулся, стал зависать, снижаться. Борттехник открыл дверь, за которой взвивалась коричневая пыль. Десантники хватали оружие, прыгали, окунались в эту пыль, кидались в разные стороны.
— Пошли! — не сказал, а беззвучно крикнул Березкин, махнув рукой. И Батурин, прихватив автомат, нырнул в секущие смерчи, побежал вслед за Березкиным и десантниками.
Второй вертолет низко прошел над дорогой, скрываясь в шоколадных, взметенных космах. Батурин задыхался, у него хрустел на зубах песок. Вырвался из слепящей пыли и близко увидел автобус. Красный, обшарпанный, с белой полосой, тот стоял посреди дороги с притороченными на крыше тюками. Десантники обегали его с двух сторон, залегали у обочины, выставив стволы автоматов.
— Лейтенант! — крикнул Березкин командиру группы. — Давай вперед с автоматчиками!
Азарт, нетерпение, чувство опасности — вот что испытывал Батурин, приседая у обочины, выставив ствол. Видел, как солдаты подбегают к автобусу, открывают дверь. Успевал разглядеть за стеклами прижатые, расплющенные лица пассажиров. Эти бородатые люди в чалмах могли быть врагами. Могли быть отрядом муллы Акрама. Могли сквозь окна открыть огонь, бросить сквозь двери гранаты. Автобус был задержан в районе боевых действий.
Батурин смотрел на красный автобусный борт, ожидая выстрелов, готовый хлестнуть автоматом по стеклам.
— Вперед! — приказал Березкин, когда солдаты раскрыли дверь и водитель, не слезая с сиденья, пытался что-то объяснить.
Начальник разведки привскочил на ступеньку, заглядывая внутрь, зло и резко выкрикивая:
— Выходи!.. Все до одного!.. Быстро, быстро!
Отступил назад, и Батурин, повторяя жест командира, его резкий сердитый окрик, как и он, привскочив на ступеньку, гнал пассажиров наружу:
— Выходи!.. Быстро!.. Быстро!..
Люди повалили поспешно, бестолково. Цеплялись за сиденья руками, подолами, шароварами. Путались паранджами, стариковскими посохами, кульками.
Старики, кряхтя, поводя слезящимися глазами, слезали на дорогу. Женщины, подхватывая на ходу накидки, спрыгивали в пыль. Иные прижимали к себе детей. Ребятишки цеплялись за материнские платья, жались, таращили на вооруженных людей круглые испуганные глаза.
Звенел в стороне вертолет, возгоняя длинные космы праха. Другой с шумным треском проносил над дорогой пятнистое брюхо, кассеты реактивных снарядов. Автоматчики теснили людей, отгоняли их от автобуса. Батурин, нервный, азартный, деятельный, воспроизводя слова и жесты своего командира, был, как и он, ловчий, разведчик, военный. Участвовал в сложной, нужной для общего дела работе. И только испуганные, круглые, вытаращенные глаза детей, темный страх на их лицах на мгновение останавливали его, мешали, причиняли страдание.
— Осмотри автобус! — приказал Березкин, вглядываясь в толпу, выбирая, выхватывая глазами тех, кого предстояло забрать.
Батурин заскочил в автобус. Было душно. Стоял запах пота, несвежих одежд, каких-то злаков и трав. Так пахнут обитатели кишлаков, деревень и аулов, чья жизнь проходит среди пастбищ, хлевов, дыма, очагов и печей. Он пробежал вдоль автобуса, заглядывая под сиденья. Запасное колесо. Два кетменя со свежими древками. Полосатый куль с какой-то крупой. Рукодельное ведро из огромной консервной банки с английскими буквами. Брошенная матерчатая кукла. Стоящая дыбом тряпица. Отдернул ее, под ней была плетеная клетка. Валялся под сиденьем резиновый чувяк с красной сафьяновой стелькой.
Выскочив из автобуса, Батурин машинально искал, кто из толпы потерял чувяк, стоит босой на дороге.
— Ты!.. Ты!.. И ты!.. В вертолет! Живо!.. — Березкин тыкал в людей, указывая на них автоматчикам. И те оттесняли их от толпы, подталкивали стволами.
— Всем троим в вертолет! — перевел Батурин. — Полетите с нами! Потом отпустим!..
Выбор Березкина пал на шофера, молодого, плохо выбритого, в золоченой нарядной шапочке. На высоченного здоровяка в пышной чалме, опиравшегося на кривую клюку. И на сгорбленного остроносого крестьянина, с жидкой бороденкой, в драной, без пуговиц тужурке.
— Вперед! — торопил Батурин. — Полетите с нами! Завтра отпустим!
— Не могу, командир! Мне машину вести! Не могу машину оставить! Хозяин ждет, когда с машиной вернусь! — возражал водитель.
— Командор, мне нельзя идти! Я к врачу, в больницу, ногу лечить! Вот нога болит, командор! — хромой пытался задрать порточину.
— О, аллах! — бормотал третий, топчась в пыли, И Батурин увидел, что одна нога у него босая, с длинными, костлявыми, грязными пальцами, с жесткими растрескавшимися ногтями.
— Вперед! Быстро! — гнал их Батурин. Автоматчики толкали их оружием, тянули за одежду. И все трое, сбиваясь, торопясь, понукаемые солдатами, пошли к вертолету, страшась ревущих лопастей, автоматных стволов пятнистого вертолетного брюха, проутюжившего сверху дорогу.
Группа отступала от автобуса, заскакивала на борт. Машина взмыла. Батурин, задыхаясь от бега, увидел в иллюминатор: брошенный на дороге красно-белый автобус и толпа пассажиров, поднявших к небу размытые лица.
Через четверть часа они опустились в расположение части. Пленные, ошеломленные, оглушенные, жались друг к другу. Шагали в окружении солдат, оружия, пятнистых, стоящих на аэродроме, вертолетов, вырванные из степи, из привычного уклада, из среды соплеменников.
— Давай их в «автосервис», — приказал Березкин командиру группы. — Пообедаем и допросим! — сказал он Батурину и устало, забрасывая за плечо автомат, зашагал к штабу.
Батурин шел вслед за пленными. Их вели к железному контейнеру от трейлера, врытому в землю. «Автосервис» — так называли контейнер.
— Ну чего ты? Пленных бабаев не видал? — спрашивал один конвоир другого. — Смотри! Потом маменьке в Москве расскажешь!
И по хриплому, надтреснутому голосу Батурин узнал солдата, того, что недавно, всего час назад, курил у него за спиной. Высокий, широкоплечий, шел вразвалку, легко неся свое сильное, увешанное оружием тело. Второй, сутулый, невзрачный, взглядывай исподлобья на золоченую шапочку пленного, на суковатый костыль, на босую переступавшую по аэродромному железу ступню.
Закопанный в землю стальной короб трейлера был поделен на тесные отсеки-камеры. Из малого предбанника вели вверх земляные ступени. На синем прогале неба застыл часовой с автоматом. Колченогий замызганный столик, два расшатанных стула, на который примостились Батурин и Березкин со своим блокнотом.
Первый, с кого снимали допрос, молодой водитель автобуса в золоченой шапочке, с небритыми щеками и курчавой редкой бородкой, бегал испуганно глазами, стараясь понять, что его ожидает. Он прижался к стене и мелко дрожал — от холода, веющего из подземелья, от потрясения после полета на ревущей машине.
— Спроси его, откуда ехал и кого вез! — Березкин нетерпеливо, недоброжелательно поглядывал на пленного, зная наперед, что первый допрос будет пустым и никчемным. Пленные станут лгать, изворачиваться, мелко и ненужно лукавить — не потому, что скрывают тайну, а из отношения к неверным, которым сам аллах велит лгать. — Где взял пассажиров?
— Разрешите, товарищ полковник, я с ним немного поговорю для начала, — мягко сказал Батурин, этим мягким возражением упрекая Березкина в незнании деликатных законов общения.
— Особо долго не тяни! Нет времени на тары-бары!
Пленного звали Абдул Гафар. Батурин высказал ему свои сожаления, принес извинения за случившееся, объяснив содеянное крайней необходимостью военного времени, понимая, сколько хлопот, осложнений принесет водителю это внезапное задержание. Тот почувствовал сострадание, разразился жалобными причитаниями. Умолял отпустить, вернуть к автобусу, ибо хозяин ждет его к вечеру. Назавтра назначен ремонт машины, она совсем старая, изношены тормоза и сцепление. Племянник хозяина у знакомого торговца достал запасные части, он поможет в ремонте. Черные, испуганно-лукавые глаза пленного перебегали с Березкина на Батурина, выясняли, кого из них следует больше бояться. Как и в каком сочетании замешивать правду и ложь.
— Уважаемый Абдул Гафар, — сказал Батурин, — вы очень скоро вернетесь домой. Может быть, уже завтра сумеете приступить к ремонту автобуса. Вы много ездите по этой дороге, знаете хорошо кишлаки в людей, живущих в Мусакале. Мой начальник хочет задать вам несколько вопросов.
— Кончай церемонии! — торопил Березкин. — Пусть скажет, откуда ехал и кого вез!
Ехал из Мусакалы, отвечал водитель. Туда привез пшеницу, а обратно взял народ — кого в Мусакале, на базарной площади, кого на дороге. Народу много, а машин мало. Боятся ездить. Вот и набился полный автобус, не прогонять же. У каждого свое дело, своя забота, он и решил помочь людям, взял их в автобус. Ничего запрещенного он не делал, просто ехал домой.
— Где ночевал?
В Мусакале, конечно. Ни к кому не заходил, прямо в автобусе. Пшеницу отдал Сеиду Акбару, его пшеница, все подтвердить могут. А утром на площадь стали сходиться люди. Он их посадил и повез, вот и все. Больше ничего он не знает.
— С муллой Акрамом видался? Махмудхана знает?
Про муллу Акрама слышал, но видеть не видел. Про муллу Акрама все знают. Очень сильный, очень богатый, много земли, кишлаков. Никакого Махмудхана не знает. Может, другие знают?
— Есть ли охрана в Мусакале?
Один раз перед въездом в Мусакалу его задержали. Ненадолго. Взяли денег, пятьсот афганей. Всегда берут в дают расписку. Люди были с винтовками, пятнадцать или двадцать. Кажется, был пулемет. Большой, на подставке. А кто такой Махмудхан, сколько у него людей и сколько пулеметов и ставит ли он по дорогам мины — не знает. В прошлом месяце его брат подорвался на мине. Брат его тоже шофер. Но мина, благодаря аллаху, взорвалась под задним колесом, и брат остался жив. А кто такой Махмудхан, он и вправду не знает.
Батурин слушал, благосклонно кивал. Вкрадчиво переводил Березкину, опуская всю мишуру, оставляя лишь одно существенное, имеющее отношение к развединформации. Видел, что водитель лукавит, не говорит правды. Исколесив за рулем все окрестные дороги, встречаясь со множеством местных людей, он не мог не знать Махмудхана, молодого помощника муллы Акрама. Не мог не знать обстановки в кишлаках муджахедов, превративших Мусакалу и соседние села в укрепрайон с траншеями, огневыми точками, минными полями, с контрольно-пропускными пунктами и дозорами.
Этот юркий, смышленый, быстроглазый водитель в золоченой шапочке наверняка служил муджахедам. Быть может, был и сам муджахед, перевозивший на своей машине оружие, отряды бойцов. Был не бедняк, не крестьянин, о чем свидетельствовали золоченый дорогой куполок на его голове, новые глянцевитые туфли, обитые медными бляшками. Он не был крупной птицей. Служил душманам за страх и за деньги. И этот страх сквозил в его повадках и жестах, в выражении глаз.
Все это чувствовал и угадывал Батурин, перевидав за время службы множество подобных ему, научившись по тонким, почти неуловимым приметам различать в человеке род его занятий, сословие, внутренний мир и характер.
— По-моему, он нам крутит мозги! — сказал Березкин. — Как ты считаешь?
— И мне так кажется, — ответил Батурин. И моментально испытал сложное чувство, похожее на вину и раскаяние. Он, так любивший Восток, его культуру, психологию, нравы, стремившийся проникнуть в глубину пленительных восточных стихов, народных обычаев и верований, — он был военный переводчик, разведчик. Использовал свои знания в целях разведки, в целях войны. Обращал эти знания против стоящего перед ним, дрожащего от холода, человека.
— Скажи ему, если будет врать, мы не станем с ним цацкаться. Передадим, к чертовой матери, в госбезопасность к Хассану. Уж он из него вытрясет правду. А если скажет дело, денег дадим и отпустим.
Батурин перевел последнее обещание — насчет денег. Хассан, начальник уездной госбезопасности, был яростный, вспыльчивый, не улыбающийся никогда человек. Душманы вырезали у него семью, — жену, детей и родителей. Гоняясь за бандами, уходя в засады, бесстрашно рискуя, Хассан мстил за семью, был беспощаден с пленными.
Водитель суетился, прижимал дрожащие руки к груди, божился, что говорит одну правду. Шапочка сверкала на его черной голове, как маковка минарета. Его увели, чтобы снова допросить поутру.
Второго пленного звали Рахим Хамед. Он был старый, усталый, унылый. Чалма его серого пыльного цвета, из вялой мятой материи. Из драного, незастегнутого пальто торчала вата. Темная с проседью борода была немыта, нечесана. Босая, потерявшая чувяк, нога стояла ребром на грязном, заплеванном полу. Подошва была черная, как копыто, а ладони казались вытесанными из камня. Он вошел и тут же присел у стены на корточки, как сидят у дувалов уставшие, наработавшиеся крестьяне. Он и был крестьянин, изнуренный трудами и бедностью.
— Как чувствуете себя, уважаемый Рахим Хамед? Ничего не болит? — начал Батурин.
— Что? — переспросил пленный. Он не понял вопроса, не понял сострадания, равнодушный к случившемуся, готовый ко всему, что еще может случиться.
— Где живет и чем занимается? — спросил Березкин.
Батурин и так знал, чем занимается сидящий перед ним человек, чьи руки окаменели от бессчетных прикосновений к земле, прорывая арыки, киризы, перекапывая ее кетменем, возводя на ней саманные стены и изгороди. Земля осела в человеке серым прахом, сделала его земляным.
Отвечал он вяло, часто не понимал, переспрашивал. Будто Батурин говорил с ним на диалекте, и вопросы, самые простые, были ему непонятными, сложными.
Он жил в кишлаке Ланда-Нова и выращивал на маленьком поле тарьяк — конопляное семя, из которого изготавливали наркотик. Все окрестные кишлаки, подвластные мулле Акраму, выращивали тарьяк. В дни урожая приходили вооруженные люди и забирали коноплю, оставляя немного денег, на проживание, на муку, на керосин и одежду.
— Сколько приходит людей? — спросил Батурин.
— Как? — не понял крестьянин.
— Сколько муджахедов приходит в Ланда-Нову в дни урожая?
— Десять, а то и двенадцать, — ответил он.
Березкин спрашивал терпеливо, дотошно. Бывал ли тот в Мусакале. Знает ли, сколько в селении мечетей… Видел ли муллу Акрама. Встречался ли с отрядом молодого Махмудхана.
Батурин переводил, и его не покидало недоумение, странность своего присутствия здесь, в этом стальном закрытом контейнере, оставшемся от разграбленной разбитой машины. Унылый афганец, сидящий перед ним на полу. Две их сошедшиеся жизни, две пересекшиеся на мгновение судьбы.
Батурин — из северного русского города на берегу полноводной реки, города с заводами, кораблями, дымными верфями, с белым монастырем и храмом. Отец — военный, кочевавший всю жизнь по гарнизонам, прямодушный, пожалуй, слегка простоватый в суждениях. Мать, увядшая до срока, прожившая жизнь среди топота марширующих рот, солдатских песен, уханья военных оркестров. Забыла свою музыкальную школу, диплом с отличием. Однажды он видел, как мать тайно достала из темного шкафа футляр, открыла, и на красном сафьяне, нежно-золотая, янтарная, лежала ее скрипка. Так и не решилась достать. Смотрела на беззвучные струны.
И — этот согбенный крестьянин, рожденный в поколениях земледельцев среди сиреневых гор, красноватых пашен, намазов и омовений, обреченный на тяжелый, завещанный богом труд до последнего вздоха, когда понесут его на каменистое взгорье и уложат в мелкую, посыпанную камнем могилу.
Две жизни сошлись на мгновение как малый эпизод азиатской войны и опять распадутся, не изменив ничего. Забудутся и канут в веках.
Пленный вяло отвечал, что в Мусакале есть несколько мечетей, а сколько — не помнит. В его родном кишлаке есть мечеть, но муллы больше нет, умер. Про муллу Акрама слыхал, что человек он хороший, воюет за ислам. Но сам его не видел. Про Махмудхана ничего не слыхал. Кто правит в Кабуле, не знает. Какой-то эмир или шах. Не женат. Живет с братом и о матерью. На жену не хватило денег.
Березкин брезгливо выставил губу. Записывал в свой блокнот. Было видно, что тупые ответы раздражают его.
Крестьянин был понур и покорен. Не просился домой. Был готов смириться с любой его ожидавшей долей. Если аллаху угодно вырвать его из автобуса, перенести по небу, ввергнуть в ледяной каземат, значит, на то его воля. Вся жизнь была послушна этой грозной, всевышней, карающей и угнетающей воле. Он разучился роптать.
— Похоже, не врет, — сказал Березкин. — Хотя жить в Ланда-Нове и не знать, что творится вокруг?.. Надо быть полным тупицей! Завтра снова допросим.
Батурин старался работать как можно точнее и лучше. Не пропустить, не обронить мельчайшего зерна информации. И одновременно сокровенным сознанием он чувствовал свою встречу с крестьянином как случайную, ненужную встречу двух миров и историй.
За тем, кто сидел на заплеванном, грязном полу — бесконечная вереница смертей и рождений безвестных афганских крестьян, обитавших на этих камнях и отрогах гор, среди нашествий и войн, эпидемий и моров, сметаемых, избиваемых до последнего младенца и старца и вновь выводимых на свет как злак, как вода из колодца, как вершина хребта.
За ним, Батуриным, огромная, между трех океанов страна, в муках и судорогах, в могуществе и наивном неведении, — послала полки в скопища чуждых народов на долгую, не имевшую смысла войну.
Кромки двух миров и историй сошлись, чтобы распасться. Уйдут, отстреливаясь и отбиваясь, войска. Сомкнется за последним бетеэром граница. Батурин уйдет на броне, а крестьянин вернется в свой нищий кишлак, в круговращение злаков, дождей, урожаев. Исчезнет, сокроется тайна, оставшаяся навек неразгаданной.
Он, военный переводчик, может добыть информацию, сведения о пулеметах и минах. Но не может разгадать эту тайну — народной души и жизни, чужой для них и враждебной.
— Примитивное дело! — раздражался Березкин. — Меня после Европы — в кишлак!.. Какие-то козлы в огороде!.. Давай веди третьего! — приказал он солдату.
Третьего, хромого, звали Саид Голь. Огромный, жилистый, он опирался на отшлифованную суковатую палку. Синяя шелковая чалма, черная холеная борода, яркие, вывернутые, негроидные губы. Под выпуклыми надбровьями вращались горячие, с мокрыми воловьими белками, глаза. Говорил он шумно, улыбался, показывая ослепительные зубы. Разжимал могучий кулак, прикладывал к груди, к розовой шелковистой рубашке длиннопалую ладонь.
— Где живет? Чем занимается? — спрашивал Березкин, зорко, быстро, с проснувшимся интересом взглядывая на пленного. Чувствовал его силу, незаурядность. Откликался на них чутко и осторожно. — Пестрый фазан — приготовил он руку для записи.
Пленный с готовностью пояснил, что живет в Мусакале, занимается торговлей в дукане. У него еще пять братьев, все торговцы. Ездят в Пакистан за товарами. Раньше и он ездил, но заболела нога. Долго лежал в больнице и теперь не рискует уезжать далеко от дома. В подтверждение он достал из кармана целлофановый пакет, выложил документы — паспорт, медицинские справки, пачку денег.
Все это он делал охотно, дружелюбно. Не испытывал страха перед задержавшими его людьми. Понимая их заботы, доверял им, не видя в них врагов, не ожидая для себя худого. Со своей бородой и глазищами он был похож на жизнерадостного колдуна из восточного сказа. Похохатывал, раскрывая красные сочные губы. Когда наклонялся, в недрах его голубой чалмы начинала блестеть шитая серебром тюбетейка. Это был силач, восточный великан, сытый, смелый, богатый…
— Знает ли он муллу Акрама? — спросил Березкин. — Сейчас будет врать, выкручиваться! Пестрый фазан! Не может не знать муллы!
Но тот не выкручивался. Конечно, он знает муллу. Раньше виделись часто. Но теперь, когда война подошла к Мусакале, муллу трудно увидеть. Все время в разъездах, в кишлаках. Набирает отряды, копит на складах оружие. На прошлой неделе он попал под удар вертолетов. Четверо из охраны было убито, но сам мулла уцелел, только оглох немного.
— Верно, на прошлой неделе вертолетчики атаковали муллу под Баги Мухрабом! — оживился Березкин. — Прихлопнули бы его там — и нам бы работы поменьше!.. А этот купец — птица дорогая! Тонко работает! Спроси-ка его аккуратно, приходят ли в кишлак люди амира Сейфуддина. Сейфуддин нам с тобой говорит, что порвал с муллой, станет с ним воевать. Но что-то мне кажется, есть какая-то тонкость! Продаст в одночасье!.. Спроси, приходят от амира Сейфуддина послы?
Прежде послы приходили, ответил хромой. Приезжал в гости сын амира Сейфуддина Маджид. Останавливался в доме Махмудхана. Оба молодые, красивые, ездили охотиться на горных козлов. Но потом амир Сейфуддин помирился с шурави, и мулла Акрам назвал его предателем веры. Амир Сейфуддин напал на людей муллы, и в Мусакале появились вдовы. Старейшины Мусакалы убеждают муллу Акрама помириться с шурави, перестать воевать, а иначе, они говорят, прилетят самолеты и разрушат Мусакалу. Но мулла Акрам предупреждает стариков не гневить аллаха, иначе Мусакалу разрушат не самолеты, а гнев божий.
Все это он говорил бодро, шумно, охотно. Улыбался, жестикулировал длинными руками. Он был похож на истукана, слепленного из красной глины, в которую вдохнули жизнь, и истукан заговорил, заулыбался, заколыхал бородой. Он напоминал Батурину джина в разноцветных одеждах, представшего вдруг в сумрачном подземелье.
Батурин видел, Березкин не верит хромому. Правдоподобие ответов скрывает потаенную неправду. Откровенность, доброжелательная наивность таят в себе лукавство. Пленный, называющий себя торговцем, не был похож на купца. Породистый, лишенный раболепства, привыкший к свободе, он был из тех, чьей воле повинуются другие, безвольные. Батурин чувствовал в нем внутреннее напряжение, звериную осторожность, упрятанную в шелка, улыбку, жесты. Испытывал к нему острый интерес, к его ярким чертам и словам, и одновременно враждебность, угадывая иную, сокровенную сущность.
— Спроси, куда ехал! — Березкин вцепился в него зоркими голубыми глазками, не отпускал, исследовал. На его усталом, поблекшем лице появилось резкое, молодое выражение. Он почуял в пленном соперника, почуял сильную личность. Добычу, за которой всегда охотится разведчик и не часто находит. — Спроси, куда ехал!
Тот отвечал, что ехал к врачу. Нога продолжает болеть. Он ехал показаться врачу, вез деньги. Год назад на ноге появился нарыв, и ему сделали операцию. Братья заплатили большие деньги, и он лежал в больнице, лечил ногу. Теперь раз в месяц ездит к врачу.
— Пусть покажет ногу, — сказал Березкин.
Тот задрал шаровары, обнажил сильную, смуглую ногу в длинном шерстяном носке, обутую в добротный кожаный, начищенный до блеска башмак. Осторожно отвернул носок. И на голени открылся рубец, длинный, розовый, с дырочками от швов.
Березкин наклонился, внимательно рассматривал шрам. Батурину была видна лысоватая белесая голова Березкина с красной обгорелой кожей. Пленный сверху, наклонив голову, смотрел на Березкина.
— Огнестрельное, — тихо сказал начальник разведки. — С извлечением пули. С наложением швов. Какой-нибудь хирург-француз в базовом госпитале извлекал. Две недели назад за перевалом десантники разорили госпиталь. По реке, сам видел, плыли капельницы, бинты, бандажи… Огнестрельное, — повторил он, осматривая рубец, словно сам был врач.
Батурин представил хромого в боевом облачении. «Лифчик», набитый автоматными магазинами. Пистолет в тисненой узорной кобуре. Новенький «калашников» на кожаном в медных бляхах ремне. Сильный, ловкий, перескакивает по камням, таится на кручах, посылает точные очереди в бегущих, падающих, замирающих солдат. Неутомимый, смелый в бою муджахед, воин аллаха и верны — вот кто был перед ним.
И другое видение, от которого стало не по себе: не он, Батурин, допрашивает муджахеда в железном коробе, усыпанном окурками, сором, а этот похожий на джина великан допрашивает его в саманной темнице, весело, беспощадно терзает, режет, сечет ножом, и глаза его вот так же выпукло, влажно блестят, краснеют в бороде вывороченные губы, и мука его, Батурина, страшна, бесконечна.
— Он может сказать, сколько людей в головном отряде Махмудхана? — спрашивал Березкин. — Есть ли в кишлаке «дэшека», зенитки? Не видел ли он переносных зенитно-ракетных комплексов? «Стингеры», «блоупайпы»?
Пленный отвечал, что точно не знает. Есть разное оружие. У молодого Махмудхана есть большие пулеметы и пушки. Если шурави отпустят его, он может вернуться в Мусакалу, получше все разузнать и после рассказать шурави. Он не любит муллу Акрама. Тот нанес обиду ему и его братьям. Он любит шурави — военный доктор бесплатно дважды осматривал и лечил его рану. Если его отпустят, он через несколько дней вернется и расскажет, сколько оружия у молодого Махмудхана.
— Скажи, мы отпустим его. Но у него еще будет ночь, чтобы подумать и вспомнить, не видел ли он у молодого Махмудхана зенитных ракет и все ли броды на подступах к Мусакале открыты для переправы… Отведи его! — приказал Березкин солдату.
Когда пленный, опираясь на палку, приветливо улыбаясь и кланяясь, удалился, Березкин сказал Батурину:
— Вот этот фазан настоящий! Завтра приготовься, будем с ним долго работать… Я его сразу приметил в автобусе, отличил безошибочно… Фазан замечательный!
Начальник разведки, закрыл глаза, тихо, счастливо засмеялся.
В сумерках Батурин, утомленный, рассеянный, медленно направлялся к себе мимо продовольственного склада, у которого стоял часовой, сгорбленный под бронежилетом; мимо штаба, где дежурный громко говорил в телефонную трубку; мимо центра связи, накрытого шатром маскировки, из-под которой невнятно доносились позывные связиста.
Его окликнули:
— Батурин, а мы к себе стучались! А ты вот где? Айда к нам, посадим…
Военврач Ловчук и продавщица военторга Светлана преградили ему дорогу. Оба радовались тому, что отыскали Батурина. А тот почти испугался встречи. Ему хотелось побыть одному, не хотелось в их тесную комнатушку, где душно, накурено, все те же знакомые лица — врачи, вертолетчики, офицеры штаба, гарнизонные женщины. После ядовитого, жгучего глотка спирта тусклая лампочка вдруг начинает гореть светлее, лица женщин выплывают из тьмы. Ловчук хватает гитару, принимается яростно хлестать пальцами по струнам. Закатывает глаза, поет свои нескладные, сумбурные, яростные песни про разведку, десант, караваны, про бои в «зеленке». И все, кто сидит, хмельные, знающие друг о друге всю подноготную, истосковавшиеся, истомившиеся, начинают подпевать. И все это в тесном саманном домике на краю медсанбата, где в палатах стонет подорвавшийся механик-водитель и слоняется, стучит костылем не ведающий сна лейтенант. Посидят, попоют, накурят донельзя. Разбредутся кто куда парами — любовники кто на час, кто на год, породненные на время этой душной афганской степью.
— Батурин, айда ко мне! — приглашал Ловчук — Посидим, попоем!
— Пойдем, — звала Светлана. Батурин видел в полутьме, как она улыбается, какая у нее высокая крепкая грудь и белая шея. — Ты меня вроде боишься.
— Да нет, не могу сегодня, — отказался Батурин, желая, чтоб они поскорее ушли. — Много бумаг накопилось.
— Нашу Светку не берут в разведку! — хохотнул Ловчук. Обнял ее за плечи, притянул к себе. И они ушли туда, где у глинобитных казарм горели тусклые лампочки и темными, неразличимыми массами двигались солдаты, слышались голоса, стук сапог.
Он вернулся к себе и, лежа на суконном одеяле, положив под лампу раскрытую книгу, стал читать.
Это была поэма «Бабур-намэ» на фарси, с цветными миниатюрами. Она была захвачена десантниками вместе с кипой пропагандистской исламской литературы и ящиками промасленных гранатометов, когда душманская «таета» напоролась на засаду в пустыне. Неизвестно, кто ею владел. Может быть, среди неграмотных мусульманских стрелков, жителей пустынных предгорий, крестьян, скотоводов, погонщиков находился какой-нибудь университетский бакалавр, интеллектуал-идеолог, пробиравшийся из Пакистана вместе с караваном оружия. Их было не отличить друг от друга, разорванных в клочья снарядами беемпэ, когда оператор навел прицел на тусклые подфарники пробиравшейся под барханом «таеты». Утром «таета» еще дымилась. Десантники жгли тюки с брошюрами, перегружали в боевую машину трофейные гранатометы. И молодой командир углядел и выхватил из огня нарядную, в кожаном переплете книгу.
Батурин перевертывал плотные, обугленные по краям страницы, где шел рассказ о деяниях царя, о его походах, битвах, молениях, где восточная мудрость, облеченная в стих, учила жизни, служению богу, избавлению от страстей и скорбей, чтобы человек, пройдя свой путь по земле, утомившись в любовях, сражениях, изведав измену друзей, гибель любимых и близких, взошел тропою праведника в лазурный рай, прекрасный, как утренний свет на стенах изразцовой мечети.
Он рассматривал миниатюры, где тончайшей кистью были изображены царские охоты в горах, поединки витязей, осады городов. На ярких коврах плясали танцовщицы. Мудрецы сидели под раскидистым деревом, слушая перламутровую вещую птицу. Безвестный художник изобразил весь белый свет с царствами, океанами, землями, с рыбинами в пучинах, с диким зверьем в лесах. И повсюду — в мечетях Герата, в садах Джалалабада, в тенистых рощах Кабула — душа воителя, покорившего народы и царства, взывала к силам небесным, молила защитить, научить.
Батурин отвлекся от чтения. Все, о чем читал в этой книге, присутствовало здесь, вокруг. В кишлаках и мечетях, в смугло-красных лицах дехкан, в коврах и каменных башнях. Те же скалы, ручьи и посевы. Те же птицы и звери в горах. Кругом был Восток, все тот же, неизменный.
Батурин пытался глядеть на него глазами мудреца и поэта, странника, идущего по дорогам в поисках мудрости, озирающего лик земли. Но он не был мудрецом и поэтом. Он был военным, из другой земли. Пришел с воюющей армией. Его движение по горам и пустыням напоминало надрез. Рушило, вспарывало древний уклад. За кормой его бетеэра бурлила, стенала рассеченная жизнь, в которой умирали, корчились и в кровавых бинтах кричали на допросах, вонзали пулеметные очереди в пятнистые тела вертолетов. Однажды в разрушенном кишлаке среди сгубленных яблонь он нашел на земле перламутровую обожженную птицу, убитую взрывом…
Он встал, накинул куртку, вышел на воздух, под звезды. Стоял среди ровных холодных дуновений близкой предзимней пустыни. Тарахтел по соседству движок. Масляно желтело оконце в вертолетной диспетчерской. Он двигался взором среди живого, шевелящегося звездного мироздания, тянулся ввысь. И ему казалось, эти холодные чистые дуновения прилетают от звезд, несут из Вселенной загадочную неясную весть.
Он напрягал глаза, устремлял их в серебристую туманную бездну. Старался представить иную, страшно удаленную жизнь на невидимых, витавших меж звезд планетах. Она, невидимая, туманила звезды, делала космос не черным, не глухим, а воздушным, проявляла себя в бесчисленных дуновениях.
На одной планете, казалось ему, в том, мерцающем, с остроугольными очертаниями созвездии — там, быть может, играли свадьбу. Валили с зеленой горы, топотали на жухлой траве, подсаживали в лодку жениха и невесту, сыпали звонкие деньги на жестяной нарядный поднос.
На другой планете среди туманных светил был его дом. Были мать и отец, молодые, счастливые, среди весенних зайчиков света, и отец поднимал его на руках к белому потолку, где висела хрустальная люстра и в каждой граненой стекляшке, изумительно переливаясь и вздрагивая, метались золотые, зеленые огоньки.
А на третьей планете, той, что окутывалась млечной мутью набежавшего облака, там шла война. Горели селения, гусеницы машин резали молодые хлеба, и кто-то тоскующий, одинокий стоял под ночными звездами среди этой войны, искал во Вселенной другой, понимающий взгляд.
Батурину вдруг стало страшно. Он испытал почти ужас. Цепенящее, пронзившее грудь, остановившееся в сердце знание. Будто холодный свет вошел в него тысячью тонких игл, впрыснул холод и смерть. Он вдруг понял, узнал, что будет убит. Непременно будет убит на этой войне. Не сегодня, не завтра, а позже, но будет убит. И оно, это знание, прилетев от звезд, замерло в нем. Он стоял, не в силах просить о спасении.
Медленно оттаивал. Понурый, усталый, возвратился в свою комнатушку, на кровать, накрытую суконным одеялом.
Ночью он проснулся от стука. На пороге стоял посыльный из штаба.
— Товарищ лейтенант!.. Полковник Березкин срочно послал за вами!
Березкин сидел в своем кабинете, тоже поднятый недавно с постели, с непричесанными редкими волосами, в незастегнутой куртке.
— Этот хромой обалдуй устроил кавардак в «автосервисе»! Стучит, требует командира! Что-то хочет сказать. Давай-ка сходим. Видно, что-то надумал. Зря звать не станет!
Они спустились в стальной контейнер. Уселись под бледной лампочкой за тем же заляпанным столиком. Скоро на заплеванном, грязном полу возник перед ними пленный — огромный, сутулый, без чалмы, опираясь на сук, почти касался потолка бритой черно-синей головой. Он был возбужден. Исчезли недавнее добродушие, непринужденная, со смехом и улыбками, речь. Его глаза выпукло, возбужденно блуждали. Негроидные губы жарко дышали. Сильная большая рука то и дело прижималась к груди.
Речь его была неожиданна.
Да, признался хромой, он говорил на допросе неправду. Он не торговец, не дуканщик, а близкий помощник муллы Акрама. И рана на его ноге от пули шурави, когда из засады он жег в прошлом году колонну. Наливники взрывались так, что дым был виден на той стороне перевала. А в долину по реке приплывал горящий бензин, тогда шурави потеряли тридцать наливников и много убитых. А из его отряда, из сорока человек, осталось двенадцать. Сам он уполз из окопа с пробитой ногой, спасаясь от огня артиллерии.
Да, он, Саид Голь, служил мулле до тех пор, пока тот кровно не обидел его. Мулла Акрам отстранил его от руководства отрядом, лишил всех почестей, заслуг и прилюдно накричал на него, как на простого слугу. А все потому, что Саид Голь сказал мулле, что пора мириться с шурави, как это сделал Сейфуддин. Сейфуддин помирился с шурави, и его кишлаки остались целы, его женщинам и старикам не надо сниматься с места и прятаться в горах, ожидая самолеты и танки. Сейфуддин получает от шурави оружие и скоро станет сильнее муллы Акрама и вместе с шурави придет в Мусакалу и разрушит ее. Мулла Акрам готовится воевать с шурави, но не выпускает из кишлака стариков и детей. Говорит — пусть снаряды и бомбы убьют их в домах, тогда все увидят жестокость шурави. Он, Саид Голь, потребовал от муллы отпустить невинных женщин и стариков. И тогда мулла принародно накричал на него и ударил. Теперь Саид Голь будет мстить обидчику и для этого вызвал командора среди ночи.
— Что он хочет сказать? — Березкин угрюмо, недоверчиво поглядывал на хромого, чья косматая великанья тень металась под низкой лампой. — Пусть побыстрее выкладывает!
Махмудхан, мальчишка, родственник муллы Акрама, крикун и бездельник, падкий на чужое добро, — вот кому мулла передал его, Саид Голя, отряд. Саид Голь создал каждого воина своими руками, каждому вложил в руки винтовку, каждого благословлял перед боем, каждого, кто был ранен, нес на своих плечах, каждого, кто был убит, провожал в рай, уповая на скорую встречу. И этих людей мулла отобрал у него и отдал мальчишке. И они, эти люди, почитавшие Саид Голя за пророка, отвернулись от него и забыли, стали, как псы, лизать руку Махмудхана, на которой не найдешь следов пороха и ружейной смазки, а только сахарную пудру и хну. Так пусть же они будут прокляты все! Саид Голь откроет командору тайну, и пусть командор ею воспользуется.
Завтра, продолжал хромой, Махмудхан играет свадьбу. Не в Мусакале, где люди ждут близкой войны и скорбят перед смертью, а в дальнем кишлаке, куда не придет война и не прилетят вертолеты. Там, в кишлаке Тора-Коталь, завтра будет свадьба Махмудхана, на которую соберется весь его военный отряд и еще два малых отряда, всего — сто двадцать воинов. Если командор пошлет туда вертолеты и ударит, он одним хлопком накроет всех сразу. Люди в Мусакале скажут, что аллах справедлив, наказал глупца и гуляку. А мулла Акрам, устрашившись гнева господня, разрешит старикам и детям покинуть селение и станет просить мира у шурави.
Вся эта речь, бурная, клокочущая, толкалась в Батурина. Проникала в него подобно электрической плазме. Ему становилось горячо, душно. Переводя Березкину, он невольно воспроизводил жесты и мимику пленного. Выпячивал губы, поднимал брови, прижимал к груди ладонь.
— Что же он раньше молчал, если дело такое срочное? — спросил Березкин, все еще недовольный, мрачный, но уже меняясь в лице. В его синих глазах отражались две золотые искорки света — ума, прозорливости, цепкой бегущей мысли. — Я ведь говорил, что он фазан не простой!.. Так что же он раньше молчал?
Молчал, отвечал хромой, потому что боялся. Боялся, что командор его расстреляет. Слишком хорошо знают Саид Голя. Многих солдат, водителей и саперов убил Саид Голь. Много грузовиков, транспортеров и танков подорвалось на его фугасах, сгорело от ударов его гранатометов. Он боялся, что его расстреляют или отдадут в руки Хассану, начальнику госбезопасности. Хассан завернет ею в мокрую простыню и станет пропускать электрический ток. Или станет по одному отколупывать ногти, пока аллах не сжалится и на заберет на небеса его душу. Он просто боялся. Но теперь не боится. Он хочет отомстить обидчикам, хочет узнать, что месть совершилась. И пусть его потом расстреляют или отдадут Хассану. Он все сказал.
— Может показать кишлак? Где этот Тора-Коталь?
Березкин раскрыл карту. Все трое наклонились над ней. Батурин видел близкую бугристую голову великана с черно-синей макушкой, красные вывернутые губы, огромный палец с загнутым ногтем, скользящий по карте.
— Вот Тора-Коталь! — сказал пленный. — Он здесь!.. Я знаю карту, я учился читать карту, когда в Пакистане набирал отряд!.. Вот Мусакала. Вот Нарушахри у дороги, где стоит отряд Махмудхана. Вот, в соседнем ущелье, Тора-Коталь. Там завтра Махмудхан со своими людьми справляет свадьбу. Пусть командор пошлет туда вертолеты и убьет Махмудхана. И тогда будет мир!
— Ладно, скажи ему… — Березкин бегал глазами по карте, заглядывал в свой блокнот, что-то высчитывал и сверял. — Скажи ему, что завтра мы посадим его в вертолет и полетим в Тора-Коталь. И если мы не найдем там свадьбу или нас встретит огонь «дэшека» и зениток, я открою в вертолете дверь и пошлю его прогуляться! Выше в небо — ближе к аллаху!
Тот закивал, соглашаясь. Распрямился, огромный, бритоголовый джин с громадными руками, прижатыми к могучей груди.
Березкин посмотрел на Батурина:
— Вот это другой подход. Настоящее дело. Готовься, лейтенант, завтра погуляешь на свадьбе! Повезем жениху гостинцы!
Ночь. Дуновение небес. Туманные высокие звезды. Ладья на синей реке, увитая лентами. Гроздь рябины в руках у невесты.
Березкин негромко рассмеялся.
Утром на вертолетной площадке готовились к взлету две пары, два «ми-восемь» и две «двадцатьчетверки». Подвешивались бомбы, заряжались в барабаны снаряды. Заправщики заливали баки. Батурин чувствовал, как наполняются тяжестью машины, обремененные топливом, сталью, взрывчаткой.
Где-то в стороне, за горами, в том же воздухе, в том же солнечном свете, собиралась мусульманская свадьба. В мечети, в прохладных сумерках мулла раскрывал Коран. Гудела, рокотала молитва. Смуглые бородатые лица припадали к коврам. Колыхались над селением дымы. На блюдах курился плов. Величавые старцы, нарядные мужчины и юноши собирались на большое подворье.
Березкин с автоматом, с болтавшейся на груди фотокамерой развернул карту. Летчики поддерживали ее, а он прокладывал маршрут к кишлаку Тора-Коталь. Морщинистое усталое лицо знакомого командира эскадрильи, казалось, отражало эту карту. Линию полета — через лоб, переносицу, сухие искривленные губы.
— Я думаю, надо лететь здесь, по речке. Не прямо через горы, а зайти стороной. А то придется прорывать «пэвэо», — сказал командир, удерживая на весу хрустящую карту.
— Не придется, — сказал Березкин. — Они нас не ждут. Здесь, по данным, вообще нет никакой обороны. Женщины будут отдельно. Их бомба не тронет. А мужики всей бандой кучно будут сидеть. Их и накроешь. Лишь бы вы точно вышли и сразу, чтобы не спугнуть!
Свадьба втекала в подворье. Под тенистыми кронами на узорных коврах сидели седовласые старцы. Молодые в поклоне подносили пиалы с чаем. Тихие речи, шевеление усов и борода, шелк на подушках, черноглазое лицо жениха. И в плетеной подвешенной клетке златоперый павлин.
— Сажайте ко мне предателя! — сказал командир эскадрильи.
Тот, кого назвали предателем — презрительная кличка для всех, кто за деньги или за страх служил проводником в рейдах и налетах на базы, наводил вертолеты на родные кишлаки, указывали дома муджахедов, имена и явки мятежников, — пленный великан, уже шел, прихрамывая, опираясь на тяжелый костыль. Лицо его, гончарно-красное, твердое, было спокойно. Широкие сжатые губы казались вырезанными из камня. Два солдата конвоировали его к вертолетам.
— На мой борт! — повторил командир эскадрильи.
Пленный подошел, молча поклонился и замер, возвышаясь пышным складчатым шелком над головами пилотов.
— Сюда, — сказал ему Батурин, подводя к пятнистой машине, помогая влезть на ступеньку. И пока тот влезал, забросив клюку, Батурин сквозь ткань чувствовал литую мышцу.
Они уселись. Предатель — между левым и правым пилотами. Сзади него Батурин, чтобы можно было общаться. Березкин с борттехником уселись на лавку.
— Ну, с богом, как говорится, пошли! — сказал Березкин. — На свадьбе гулять и «горько» кричать! — взвел фотокамеру, прицелившись в круглое, наполненное солнцем стекло.
Вертолеты проскрежетали по рифленому железу, взмыли один за другим. Батурин видел сквозь блистер мелькающую серую землю. Все те же развалины старой крепости, как огромный гнилой зуб с провалившимся дуплом. В недрах дупла на пепелище виднелись шатер кочевника и два неподвижных верблюда. Пролетели кишлак, клетчатую хрупкую вафлю. В ломких тисненых ячейках некоторые квадраты светились, словно покрытые золотой фольгой, — это сушился на крышах урюк. Зарябили поля, зеленые, черные, будто лоскутья бархата, нашитые на грязную мешковину пустыни. Струйки арыков пульсировали, отражали солнце.
Батурин видел, как за пышной чалмой афганца чернеет пулемет с концентрическими кругами прицела, стелется белый сахарный солончак. Чувствовал стремительный грозный вектор, по которому двигались вертолеты, — упрямый, отточенный, проходящий сквозь ствол пулемета. Думал: свадьба, война, ночное предчувствие смерти, мысли о милых, ожидание любви, затмение в страхе и ненависти — быть может, все это, неразделимое, переплетенное, переходящее одно в другое, и есть целостность жизни, которую невозможно понять, а только принять. Вот он, живой, никому не желающий зла, читавший «Бабур-намэ», летит на бомбовый удар. Он и есть носитель этой целостной жизни. Так и надо жить, не иначе.
Они пересекли долину и взмыли над плавными складками гор. Казалось, под огромной попоной спят великаны. Виднелись очертания их туловищ, ног и голов. Перевалили кручи и снова снизились к извилистой плоской реке. Низко шли над водой, над белесыми тростниками, над вспышками черного и белого солнца. Стая уток косо взлетала. Лунь, похожий на алебарду, соскользнул и пропал под днищем.
Батурин смотрел в прогал между головой вертолетчиков в пластмассовом шлеме и пышной чалмой афганца. Река кидала вверх бесчисленные отражения солнца, словно в воде открывались и гасли глаза, взлетали чьи-то руки, пытались задержать вертолет. Батурин на миг в испуге пожелал остановить вертолет, отвернуть назад, изогнуть в обратную сторону металлический вектор. Но пилот твердо удерживал рукоять управления. Незримая тугая стрела проходила сквозь ствол пулемета, и туда, по этой стреле, неслись боевые машины.
Резко, круто воспарили, отвернув от воды. Афганец, испугавшись виража, всплеснул руками, откинулся назад, на Батурина. Вертолет набрал высоту, развернулся, поместив в стеклянные грани кабины другие два вертолета. И в прозрачном блистере неожиданно близко возник кишлак. Дувалы, сады, виноградники. Плоские крыши. Куполок мечети. Склеенные домики, рулеты и лабиринты проулков. И среди гончарной лепнины в четырехугольнике просторного подворья открылась свадьба.
Пестрая густая толпа заполнила двор, окруженный стеной с округлой глиняной башней. Белые, голубые, розовые одежды, расстеленные красно-золотые ковры. В проулках толпились люди. В соседних улицах клубился народ. И все стягивались, вливались в это подворье, где на коврах, на узорах тесно сидели гости. Сверху, с высоты, заострившимся птичьим взором Батурин, казалось, разглядел пиалы с красным соком граната, окутанные паром груды риса с кусками смуглой баранины, блюда с плодами оринджа, бороды и в серебряных тугих завитках шитые тюбетейки, вольные складки одежд на плечах у мужчин и орнамент ковра, и блик солнца на стеклянном сосуде, и коня под тенистым деревом, его медное стремя, и куст блеклых роз, и легкий блеск от лежащего, притаившегося в древесной тени оружия. Он все это успел разглядеть, словно свадьба оторвалась от земли, приблизилась на миг к вертолету, показала себя и вновь удалилась, опала, легла на землю разноцветным клубящимся ворохом.
— Вот они, тут! — крикнул афганец, озираясь яростно и счастливо. Зубы его блеснули в мокрых красных губах, и глаза огненно провернулись в глазницах.
Летчик потянул рукоять, отворачивая, отваливая. Поставил землю плоско, дыбом, словно желал ссыпать, стряхнуть с нее свадьбу. И снова мелькнули две другие машины, пятнистые, длиннохвостые, с пушками и пузырями кабин.
— Пошел! — Березкин навалился на Батурина сзади, вертолетчику: — Дави их!
Вертолет медленно, сносимый вдоль гор, повернулся вокруг невидимой, пропущенной сквозь небо оси. Застыл на мгновение, словно трепетал в пустоте. И грозно, мощно, напрягая все свои стальные конструкции, рванулся вперед, в пике, захватывая в ромбы кабины пестрый клубок — ковры, пиалы и бороды, помещая их в прицел бомбомета.
Сорвавшись с подвески, бомба пошла на свадьбу, продолжая лететь под днищем, отлипая, проваливаясь, удаляясь к земле. Машина, отпуская от себя белую бомбу, косо ринулась в сторону, прочь, выстригая винтами небо. Батурин, вытянув шею, заглядывал из-за плеч великана. В крутом развороте увидел черный косматый взрыв, затмивший подворье, взлетевшие в клубах ошметки тряпья. В курчавом дыму открылась на мгновение жаркая яма в том месте, где только что пестрели ковры, белели тюрбаны и бороды.
— Велик аллах! — хромой пытался встать в рост, утыкаясь чалмой в потолок, сжимая огромные кулачищи. — Велик аллах!
— Отлично! — кричал Березкин. — Еще разок зайди!
Вертолет отваливал, удалялся, освобождая небо для атаки другим машинам. Издали, от гор, Батурин видел, как пикирует «двадцатьчетверка». Вонзает в воздух острые черные зубья, дымные пышные трассы, и на их продолжении, среди глиняных башен и стен, катятся круглые взрывы, ломают и жгут. В недрах кишлака, как в коптильне, начинает чадить и дымиться, и над дымом несутся узкие тела вертолетов, мерцают в подбрюшье.
Снова пошли на кишлак, снижаясь, налетая на плоские кровли, В проулке сквозь дым бежал человек в размотанной, опавшей чалме, воздев кверху руки, держа в кулаке винтовку. Второй пилот ловил его пулеметом, жал на спуск.
Стучали очереди. Было видно, как пули кудрявила пыль, дороги у ног человека спереди, сзади. Тот продолжал бежать. Летчик, оскалясь, с длинным беззвучным криком захватывал его в концентрические кольца прицела, вгонял ему в спину очередь, валил лицом вниз. Машина низко, с грохотом прошла над убитым, над кроной дерева, над главкой мечети.
— Велик аллах! — ликовал великан, сжимая огромные кулаки.
Батурину было страшно видеть свершавшееся убийство, а вблизи от себя — сверкающие, огненные, под черными бровями глазищи.
Вертолеты снова над кишлаком, наполняя улицы огнем и сталью, словно вытачивали в глинобитном монолите новые ходы и прогалы. Били из пулеметов и пушек в коновязи, в деревья, сады, догоняли бегущих…
За кишлаком на дороге мчался всадник. Белая чалма, пузырящаяся, как крылья, накидка, шлейф пыли из-под копыт. Вертолет нагонял его низко, на бреющем, оглушал ревом винтов. Всадник обернулся, пригибаясь, сдирая из-за спины автомат. Вертолет навалился своей мощью и скоростью. Всадник повернулся в седле, бросил поводья, ударил навстречу машине. Пуля пробила блистер, наполнила кабину мельчайшей пылью. Метнувшиеся из барабанов снаряды выломали из земли часть дороги, превратили в черную копоть. И Батурин издалека, из далекого виража видел взлетающий дым, убитую лошадь и всадника. Нес в своем ужаснувшемся сознании отпечаток его лица.
Афганец хохотал, скалил зубы.
Вертолеты возвращались домой. Батурин сидел, глядя на мелькавшие кручи. В блистере — окруженное трещинками отверстие, из него тонко, остро тянуло сквозняком.
Вернулись, сели.
— Скажи ему, — Березкин хлопнул пленного по высокому плечу, — скажи, он получит деньги! Вечером придем, потолкуем!
Афганец не кивнул, не ответил. Лицо его было спокойно и каменно. Уходил, опираясь на палку, сопровождаемый двумя автоматчиками.
Батурин лег. Он страшно устал. Глаза его были закрыты. Под веками, окруженная красным и белым, чернела дымная яма. Мчался всадник. Мелькали копыта. Клубилась прозрачная пыль. Оборачивался, приближался, отпечатывал в близком лице Батурина свое бледное, под белой чалмой, лицо. И это лицо вошло в Батурина как отпечаток смерти. Чужая смерть погрузилась в него, становилась его собственной смертью.
После обеда он сидел в штабе, в кабинете Березкина, уточняя тексты фонограммы для агитационно-пропагандистского отряда. Броневик «Алла Пугачева», как называли его пропагандисты, выезжал вперед, за оцепление, перед войсковыми порядками, а вещал на окруженный кишлак, предлагая мирному населению покинуть жилища, выйти из зоны боя, собраться в безопасном месте. Когда мирный народ, женщины, старцы и дети покинут дома, самолеты нанесут удар по мятежному, превращенному в крепость кишлаку.
«Благородные мусульмане, жители Мусакалы, — говорилось в тексте, — во избежание напрасных жертв и кровопролития, на которые хочет обречь вас мулла Акрам, предлагаем вам собраться к двенадцати часам пополудни у Сухого колодца, возле селения Чархи Дрош, где вывешен белый флаг…»
Батурин уточнял отдельные фразы перед тем, как отнести листок в политотдел. Представлял, как зеленый маленький броневичок, огибая стоящие в «блоке» боевые машины, медленно покатится навстречу неподвижному, в желтом солнце кишлаку. Останавливается, замирает, снова начинает осторожное продвижение. Гортанный, булькающий, сносимый ветром звук улетает к домам, дувалам, гуляет среди затаившегося, обреченного на удар кишлака. Возвращается неразборчивым, многократно отраженным эхом.
Березкин, сосредоточенный, аккуратный, тут же погрузился в бумаги, делая пометки на карте, в блокноте, в толстой, извлеченной из сейфа тетради.
Прогрохотали за дверью шаги. Без стука, запыхавшись, заскочил дежурный.
— Товарищ полковник, командир на ЦБУ вызывает!.. Жгут колонну!..
Вслед за начальником разведки Батурин проскочил в центр боевого управления, где уже собрались офицеры. Обступили настенную карту, впились в телефоны и рации. Командир среди разноголосицы позывных и команд стискивал трубку, перекрикивал штабистов:
— Где у тебя головные?.. «Змея», «Змея»… Я спрашиваю, где у тебя головные?..
И, выведенный на громкий динамик сквозь шелесты и хрусты эфира, далекий голос старшего колонны отвечал:
— «Гора»! «Гора»!.. Я — «Змея»!.. Головные горят!.. Три головных горят!.. «Нитка остановлена!.. Очень сильный огонь!.. Есть «ноль-двадцать первые» и «трехсотые»!.. Дайте «Гром»!.. Цели «сто сорок третья» и «сто сорок восьмая»!.. Очень сильный огонь «бородатых»!..
Березкин, потрясенный, не имея места у телефонов и раций — артиллерист, авиатор, тыловик, начальник штаба, сам командир, все выкликали, выспрашивали, отдавали команды с похожими ожесточенными лицами. — Березкин обратился к Батурину:
— Сейфуддин!.. Предатель!.. Сволочь!.. В глаза мне смотрел!.. Целовались!.. Водку пили!.. Братом называл!.. Никому нельзя верить!.. Только гвоздить!.. Огнем, их огнем!..
Батурин понимал: случилось несчастье. Рухнул, рассыпался, превратился в ничто сложный, взлелеянный план примирения с группировкой Сейфуддина. Все тайные и явные встречи, посулы оружия, выплата денег, все, что должно было превратить враждебные банды в дружественное, союзное войско, прекратить боевые действия в обширном районе, сохранить от разорений кишлаки и посевы, сберечь свои и чужие жизни — все это рухнуло. Провален план, которым гордился Березкин, о котором рапортовал командир, который приветствовали в Кабуле как победу мирной политики. Все это пропало и кончилось. Дорога, которую взялся охранять Сейфуддин, пропуская колонны, снова превратилась в арену войны. Сейчас на этой дороге взрывались и вспыхивали наливники, падали солдаты; бетеэры сопровождения, крутя пулеметами, били по кручам, где в окопах угнездились стрелки, поражали разрывными пулями цистерны с топливом. Лопались громадные шары огня, вставали черные башни копоти. После взрыва скелет машины спекался в белом огне.
— «Гром»!.. Я — «Белка»!.. Я — «Белка»! — хрипел в трубку начальник артиллерии, направляя огонь на дорогу. — Цели «сто сорок третья» и «сто сорок восьмая»!.. Беглый огонь!..
Березкин бешено крутил синими, потемневшими от ненависти глазами:
— Предатель!.. Спалить его заживо!..
Батурин ушел с ЦБУ, чувствуя, как все в нем болит и страдает — не телесным, а душевным страданием. Он, переводчик, пусть и скромный, но участник миротворческого плана. Присутствовал на тайных свиданиях с Сейфуддином ночью, на коврах, за дымящимся пловом, когда под дугой тускло блестели уздечки и винтовки охраны и стрелок в бетеэре сжался под броней у прицела. Он, Батурин, поверивший Сейфуддину, полюбивший учителя Фазли, его мягкую речь и искренние, глубокие мысли, не мог понять причину крушения. Пугался обмана, вероломства, в которые был вовлечен. Не сумел разгадать среди сладких уверений и истовых клятв тонкого, умело сокрытого лукавства. Нет, он не знаток Востока и бессилен перед его глубиной и тайной. Отделен от него своим чужеродством.
В стороне за казармами в пыльной степи рвануло воздух. Продернулся огненный шнур. Тучи праха и дыма потекли над землей, и в них мерцали и лопались рыжие глазницы. Била артиллерия. Самоходные гаубицы посылали снаряды и в горы, крушили позиции муджахедов, вызволяя колонну.
К вечеру в расположение части въехала колонна. Пыльные КамАЗы, цистерны в потеках топлива, исцарапанные фургоны, зачехленные брезентом грузовики. На лобовых стеклах машин были видны пулевые отверстия в паутинных трещинах, из-за которых глядели утомленные лица водителей. Одну машину с пробитым радиатором приволокли на прицепе. Из другого наливника, из цистерны, сквозь пробоину хлестало топливо, и водитель, выскочив из кабины, затыкал отверстие тряпкой.
Из бетеэров, замызганных, закопченных, выгружали убитых. Батурин видел круглое, с оскаленным ртом серое лицо, открытые, полные холодных слез глаза. Другое, обгорелое, в красной коросте тело укладывали на носилки, и санитар торопился набросить брезент.
Военврач Ловчук, расторопный, быстрый, помогал выгружать раненых. Покрикивал на санитаров, поддерживал под руку лейтенанта с перевязанной шеей, подсаживал его в фургон с красным крестом. Лейтенант возбужденно, лихорадочно ему говорил:
— Я на броне!.. К головной!.. Смотрю, горит! Я пулеметчику: «Режь!».. А у него заклинило!.. Я к люку!.. А меня жигануло!..
Батурин шел вдоль колонны, пахнущей бензином и пылью. В степи грохотала артиллерия. Летели с воем реактивные, сжигающие небо, снаряды. Падали далеко в невидимой «зеленке».
В вечерней степи, озаренные низким солнцем, маячили древние крепости, свидетели старинных нашествий.
Батурина опять разбудили ночью. В маленькой комнатке, где обычно встречались с агентами, за низким столиком сидел Березкин и напротив него — учитель Фазли. Еще недавно, день назад, Батурин любовался его благообразным лицом, легкими изящными движениями, от которых складки на просторных одеждах ложились красивым узором. Теперь учитель Фазли был в пыли и грязи, в разорванной, с запекшейся кровью накидке. Его рука была обмотана тряпкой. На пальцах под ногтями темнели земля и кровь. Лицо, оцарапанное, дергалось мелкими пробегавшими судорогами. Он не притрагивался к пиалке с чаем, к выложенным на блюдо сладостям.
Едва Батурин вошел, он без приветствия, торопясь взмахивая раненой рукой, стал говорить, устремляя выпученные глаза на Березкина, ему обращая свою клокочущую речь.
Зачем шурави понадобилось так жестоко его обманывать? Зачем шурави обманывает тех, кто стал их друзьями и готов был вместе с ними сражаться против корыстных и вероломных людей? Почему шурави клялись в вечной дружбе и нарушили клятву?
— Что он такое несет?! — тихо и яростно отвечал Березкин. — Я думал, поймаю его как-нибудь и собственноручно вкачу ему пулю между глаз! А он явился и пудрит мне здесь мозги! Скажи ему, мы сейчас отправимся в морг, я покажу ему убитых водителей и тут же, в морге, расстреляю его, как лживую собаку! Чтобы мертвым парням, если есть загробная жизнь, стало хоть немного легче! Одним предателем меньше! То же самое сделаю с Сейфуддином, если он мне попадется живым! Если его кости еще не перемололи снаряды наших гаубиц и реактивных установок.
Батурин перевел буквально, с той же яростью, с тем же отвращением и презрением, представляя, как лежат сейчас в морге тела убитых водителей, завернутые в серебряную фольгу, представляя их матерей, не ведавших о случившемся, спокойно спавших в далеких городах и поселках.
— Почему Сейфуддин клялся аллахом, что скорее отдаст на заклание родного сына, чем нарушит договор о мире? — Березкин выговаривал слова медленно побелевшими от бешенства губами. — Вы обещали охранять проходящие по дорогам колонны, и мы поверили вам!.. Почему ваши пулеметы расстреляли колонну?!
— Сейфуддин отдал на заклание родного сына! — ответил гонец, и по его измученному, поросшему голубоватой щетиной лицу прокатилась конвульсия боли. — Ваши вертолеты расстреляли свадьбу сына Сейфуддина Маджида. Маджид убит, а Сейфуддин ранен в спину. Вы обманули Сейфуддина и лучших муджахедов! Сейфуддин, несмотря на рану, сам вел бой на дороге! Сам стрелял из «дэшека», сам поджигал машины! Он сказал, что будет мстить шурави до самой смерти! И если какой-нибудь шурави попадет ему в плен, он сам будет отрезать от него каждый час по кусочку! И, может быть, его сын Маджид услышит, как визжит шурави!
Батурин перевел и видел, как страшно белеет лицо Березкина. В белой, словно костяной, голове застыли белые, наполненные ужасом глаза.
— Какая свадьба?! Какой Маджид?!. Наши вертолеты разбомбили свадьбу Махмудхана, головной отряд муллы Акрама!..
Гонец не слышал. Ему было дурно. Он боролся с обмороком. По лицу пробегали конвульсии. Видно, где-то рядом с ним разорвался тяжелый снаряд, и его сознание, его речь, его одежда и тело были исковерканы взрывом.
Зачем шурави обманули его? Он верил шурави, любил шурави. Хотел, чтобы кишлак, в котором стоящего школа, насладился миром. Теперь там снова война, снова рвутся снаряды. Сейфуддин ищет его, хочет убить. Считает, что он, учитель Фазли, выдал шурави место, где совершалась свадьба, указал кишлак Тора-Коталь. Теперь Сейфуддин станет искать его, станет вылавливать его жену, детей, сестер и братьев. Где ему укрыться от смерти?
— Как же так… — Березкин шевелил узкими белыми губами. — Он сказал, отряд Махмудхана… Не было времени перепроверить… Одним махом всех разом… Как же так…
Страшная, грозная истина пропитывала их обоих — начальника разведки и переводчика. Хромой великан в голубой чалме сидел в вертолете, наводил машину на свадьбу, и черный взрыв, разметавший ковры и бороды, фарфоровые блюда и чашки, разметал и разрушил весь сложный, мучительный план, над которым трудился Березкин, пытавшийся замирить мятежные кишлаки Сейфуддина. Бомба разбила свадьбу, разрушила мир, и красные губы в черной смоляной бороде хохотали, влажно блестели, издавали ликующий клик.
— Пошли! — Березкин вскочил, потянул за собой Батурина.
Тусклый подземный бункер, заплеванный пол, блеклая лампочка. Пленный стоял, огромный, с бритой бугристой головой, прижимаясь к железной стене. Березкин, задыхаясь, срываясь на хрип, выкрикивал в близкое недвижное лицо. Батурин повторял тот же крик, тот же хрип:
— Ты мне сказал, что в Тора-Коталь будет свадьба Махмудхана и на свадьбу прибудет его отряд! Ты мне сказал, или нет?!
Пленный молчал. Не мигая, остановившимися черно-блестящими глазами смотрел мимо, будто не слышал вопроса. Его каменное красное, со стиснутыми губами лицо, окруженное черной бородой, было недвижным.
— Ты, подлый вонючий баран… ты сказал, что ненавидишь муллу Акрама и поможешь нам! Наведешь вертолеты на Тора-Коталь. Ты так говорил, отвечай!!!
Пленный молчал, и лицо его каменело все больше, словно он на глазах превращался в гору. И только зрачки, не мигая, мерцали, смотрели сквозь железную стену, холодную землю, видели что-то сквозь толщу земли и металла.
— Ты обманул меня! Можешь радоваться, что обвел меня вокруг пальца! Я не раскусил твоей подлой лжи! Но я сейчас пристрелю тебя, прямо здесь, и выкину твое вонючее тело на помойку собакам! Оно никогда не увидит земли и никто не узнает, какой ты герой! И рая, в который вы все так стремитесь, тебе тоже никогда не видать! Потому что кости уйдут не в могилу, а достанутся голодным собакам!
Березкин достал пистолет, сунул дуло в шею пленного. Но тот моргнул, не шевельнулся, словно был из камня, и пистолетное дуло уперлось в гранит.
— Нет, я не стану тебя стрелять! Я отошлю тебя начальнику безопасности Хассану, и ты со своей хромой ногой станешь бегать так быстро, что тебя не догонит ни один олимпийский чемпион!
И тут великан шевельнулся. Глаза его моргнули. Брови двинулись вверх. Грудь поднялась, наполнилась тяжким вздохом. Губы в бороде разомкнулись. Он издал глухой, похожий на стон звук. Голос его рокотал, возносился, наполняя железный бункер. Огромное тело стало раскачиваться, тень колыхалась, складки одежд шевелились. И сквозь рокот и гул возникало, многократно повторялось: «Аллах акбар!..»
Батурин слушал это подземное пение, чувствовал, как холод земли проникает ему в самое сердце, и оно останавливается, полное холодной земли.
Днем Батурин смотрел, как в туманном от пыли воздухе крутятся винты вертолетов. Броневая колонна выруливала в душную степь, выстраивалась длинным размытым хвостом. Скрипели гусеницы танков, наматывая на себя песок. Колыхались на рытвинах ромбовидные бронетранспортеры. Батальоны собирались в поход на Мусакалу. И он ждал, когда появится бетеэр начальника разведки, чтобы прыгнуть на горячий борт, опуститься в чрево машины.
На бестравной утоптанной земле крутился смерч пыли, впиваясь в землю маленькой плотной головкой, поднимал к бесцветному небу шаткую дымную спираль. Медленно двигался, приближался к Батурину. Тот смотрел на смерч, оцепенев, не в силах пошевелиться, видя приближение мутного вихря. Ему казалось, в кружении пыли мечется, машет руками чья-то громадная, в чалме и накидке фигура. Смерч приблизился, встал перед ним плотно и душно. Обнял его своим жаром. Выпил единым глотком всю его жизнь и силу. Осушил, обезводил, лишив сознания и воли. Промчался дальше, оставив его стоять посреди глиняной, выжженной, изрубленной гусеницами степи.
И он стоял, понимая, что мертв, что его настигла гибель. Смотрел, как в туманном небе идут вертолеты.
Виталий Гладкий ПЛАЦДАРМ Повесть
1. Южный фронт
«Мерседес» тряхнуло на выбоине, и командующий группой армий «Южная Украина» генерал-полковник Фердинанд Шернер недовольно поморщился; водитель, заметив гримасу генерала, торопливо переложил руль влево и выехал на обочину, где вдоль дороги среди густо припорошенной пылью травы виднелась узкая тропинка. Машина пошла ровнее. Генерал, увидев вопрошающий взгляд адъютанта, вновь прикрыл глаза: даже здесь, в этой железной коробке, нужно скрывать свои мысли и чувства — эти свиньи из СД вездесуща. Незаметно вздохнул, кинул быстрый взгляд на зеркало заднего вида — адъютант, майор Вальтер, сидел прямо, с непроницаемо-спокойным выражением лица. Нет, этот, пожалуй, не относится к тайным осведомителям службы безопасности — чересчур многим ему обязан. Впрочем, в этом проклятом мире верить невозможно даже себе…
К железнодорожной станции подъехали в сумерках. Долгожданный эшелон с танками нового типа, которые доктор Порше, их создатель, наименовал «королевскими тиграми», прибыл совсем недавно. Завидев «мерседес» командующего в сопровождении двух бронетранспортеров, командир батальона быстро пошел навстречу.
— Господин генерал! Отдельный 503-й тяжелый танковый батальон прибыл в ваше распоряжение! Докладывает командир батальона полковник Ротенбургер.
— Отлично, полковник. — Шернер вылез из машины, прошелся, разминая затекшие ноги. — Надеюсь, в предстоящих боях вы оправдаете доверие фюрера. Хайль! — небрежно вскинул руку генерал.
— Хайль Гитлер! — рявкнул полковник.
— Не буду вам мешать. Командуйте… — Шернер медленно пошел вдоль платформ, на которых высились прикрытые брезентом громады «королевских тигров».
— Приступить к разгрузке! — приказал Ротенбургер, и рокот танковых двигателей наполнил станцию.
«Королевские тигры»… Шернер лучше, чем кто-либо иной, был осведомлен об истинной мощи этих великанов. Его старый приятель Гейнц Гудериан как-то в порыве откровенности назвал их мертворожденными: двигатель для такой махины слаб, всего шестьсот лошадиных сил, а толщина бортовой брони, как у обычного «тигра», восемьдесят миллиметров — при сравнительно небольшой скорости, плохой маневренности и проходимости отличная мишень для русской артиллерии. Впрочем, возможно, Гейнц просто брюзжал. Будем надеяться на лучшее. С нами Бог… И Шернер заторопился к своей машине.
После ужина Шернер некоторое время музицировал — Вагнер, Бах, Бетховен… Рояль был старенький, плохо настроен, но тем не менее генерал играл с воодушевлением, что раньше случалось довольно редко, только, пожалуй, в благословенные времена победоносного похода на Францию. Этот рояль чертовски напоминал ему другой, который стоял в гостиной фамильного особняка… Нет, генерал Шернер выполнит свой долг до конца! Командующий группой армий «Южная Украина» решительно захлопнул крышку рояля, поднялся и подошел к портрету Гитлера в полный рост. Шернер попытался поймать ускользающий взгляд фюрера великой Германии. Не получилось. Тяжело вздохнул: неужели все нужно будет начинать сначала? Но как бы там ни было, он будет драться за фатерлянд до конца! С этой мыслью генерал-полковник Шернер и направился в свою спальню.
Утром он проснулся с тяжелой головой. «Только мигрени не хватало!» — в раздражении помассировал затылок, потер виски какой-то патентованной шведской жидкостью с преотвратным запахом; потянулся к буфету, где стояла бутылка французского коньяка, но передумал — начинать день со спиртного было не в привычках генерала.
В штабе его уже ожидали с нетерпением. Майор Вальтер, как всегда подтянутый и чересчур официальный в присутствии подчиненных генерала, протянул Шернеру пакет, весь оклеенный сургучными печатями. На ходу вскрыв его, генерал пробежал первые строки бумаги с грифом «Совершенно секретно». И остановился, словно наткнулся на непреодолимую преграду возле входа в свой кабинет.
— Почему… почему не разбудили? — с глухой яростью спросил генерал, посмотрев на сопроводительный лист с пометками ОКВ. — Почему, я вас спрашиваю?! — неожиданно подскочил к начальнику штаба.
Тот побледнел, метнул уничтожающий взгляд в сторону адъютанта командующего, но так ничего и на ответил — выражение лица Шернера поразило его; впервые за несколько лет совместной службы он увидел, что обычно слегка медлительное спокойствие а уравновешенность генерала в этот миг ему изменили.
Не ожидая объяснений, генерал резко повернулся и исчез за дверью кабинета.
Примерно через полчаса Шернер вызвал к себе начальника штаба. Когда тот вошел, генерал с совершенно разбитым видом сидел в кресле, уставившись в окно, где за чисто отмытыми стеклами ярко голубело июльское небо. Некоторое время Шернер был безмолвен; затем, не поворачиваясь к начальнику штаба, тихо проскрипел:
— Дайте… закурить…
Начальник штаба опешил — командующий никогда не курил, по крайней мере на его памяти; с трудом сдерживая неприятную дрожь в руках, он щелкнул зажигалкой.
— Вы только посмотрите, — Шернер вяло кивнул в сторону пакета, который лежал почему-то на полу. — Нет, вы только посмотрите, что они делают…
Шернер затянулся несколько раз, затем фыркнул и бросил сигарету в открытую форточку.
Начальник штаба внимательно изучал содержимое пакета.
— Ну, что вы на это скажете? — спросил Шернер.
Он вскочил, пнул кресло и забегал по кабинету.
— Я так не могу! Они забирают у меня двенадцать дивизий! Вы представляете, что это значит?! Из них шесть танковых и одну моторизованную! — Шернер брызгал слюной и трясся от злости. — Шесть танковых дивизий! Им, видите ли, нужно залатать дыры на центральном участке фронта. А то, что здесь русские готовят наступление в ближайшие недели, может быть, дни, это их не волнует. — Шернер подскочил к оперативной карте, которая висела на стене, с силой рванул матерчатые шторки, прикрывающие ее. — Вот! — ткнул пальцем в испещренную условными обозначениями бумагу. — Плоешти! Если русские прорвут фронт — удар по Плоешти само собой разумеющееся дело. Что мы там сможем им противопоставить? Несколько гарнизонов на нефтеочистительных заводах, да в общей сложности пару пехотных дивизий в ключевых пунктах нефтяного района. Все! Один удар — и русские перережут фактически последнюю нефтеносную артерию рейха.
Шернер медленно отошел к столу, сел. Начальник штаба стоял перед ним навытяжку.
— Да вы садитесь, — устало махнул рукой генерал. — Садитесь, садитесь, — повторил он и надолго задумался.
— Простите, господин генерал, — решившись, начальник штаба прервал затянувшуюся паузу. — Готовить приказ? — показал на пакет.
— Нет! — Шернер прихлопнул для большей убедительности ладонью по столу. — Я буду звонить фельдмаршалу Кейтелю. Я обязан доложить свои соображения на этот счет. Если Кейтель меня не поймет… — генерал некоторое время колебался и уже не таким уверенным тоном закончил: — Если не поймет или не захочет понять, я вынужден буду обратиться к фюреру.
— Господин генерал! Я думаю, есть более подходящий вариант. И более действенный…
— Что вы предлагаете?
— Переговорить с маршалом Антонеску. Объяснить ему ситуацию. Я думаю, что он очень даже заинтересован в присутствия этих двенадцати дивизий на оборонительных рубежах группы армий «Южная Украина».
— Вполне логично… — Шернер с неожиданно проснувшимся интересом посмотрел в сторону начальника штаба, который впервые проявил такие незаурядные «дипломатические» способности.
Впрочем, по здравому размышлению, в этом не было ничего удивительного, смекнул Шернер: после весьма хитроумных комбинаций начальнику штаба наконец удалось вырвать своего сына, подполковника вермахта, из группы армий «Центр», где шли тяжелейшие сражения, и пристроить его в штабе восьмой немецкой армии, которая входила в армейскую группу «Велер».
— Майор Вальтер! — позвал Шернер своего адъютанта. — Соедините меня с Антонеску.
— Слушаюсь! — майор вышел в комнату связи.
Возвратился он минут через десять.
— Господин генерал! Маршал Антонеску в данный момент у короля Махая.
— А!.. — генерал выругался. — Звоните королю!
— Но, господин генерал, как мне объяснили, она сейчас в загородной резиденции короля…
— Что они там делают, черт побери?!
— Охотятся.
— Охотятся? — переспросил Шернер. — В такое время? Когда на карту поставлена корона короля Михая и маршальский жезл Антонеску с его головой а придачу? Нет, я отказываюсь понимать этих, с позволения сказать, союзников…
Шернер с возмущением смотрел на майора Вальтера, словно тот был инициатором охотничьих забав Антонеску; адъютант хмурился.
— Позвоните в нашу военно-воздушную миссию, — после некоторых раздумий приказал генерал-полковник.
— Генерал Герстенберг на проводе, — через некоторое время доложил майор Вальтер.
— Алло! Господин генерал, нужна ваша помощь. Да-да! Мне нужен Антонеску. И срочно! Да… В загородной резиденции короля… — Шернер в двух словах объяснил суть дела. — Я на вас надеюсь, господин генерал. Хайль Гитлер!
В тот же день, поздним вечером, генералу Шернеру позвонил фельдмаршал Кейтель:
— …Генерал-полковник Шернер! — глуховатый голос Кейтеля почему-то неприятно резал слух Шернера. — Почему до сих пор вы не приступили к выполнению приказа о переброске дивизий?
— Господин фельдмаршал, — Шернер волновался; стараясь справиться с волнением, крепко зажал в руке карандаш — он тихо хрустнул и развалился на две половники. — Господин фельдмаршал, трудности с транспортом и… обеспечением танковых дивизий необходимым запасом горючего…
— Это отговорки, генерал Шернер!
«Неужели Антонеску не удалось убедить фюрера?» — Шернер лихорадочно соображал, что ответить Кейтелю.
— Господин фельдмаршал, я уже докладывал вам всю сложность положения группы армий «Южная Украина»…
— Господин генерал! — прервал его Кейтель. — Это приказ фюрера! И проследите лично за своевременной отправкой эшелонов с указанными дивизиями. До тех пор, — голос Кейтеля стал неожиданно жестким, — пока не прибудет новый командующий группой армий «Южная Украина». Хайль Гитлер!
— Хайль… — пробормотал ошеломленный услышанным Шернер; тупо уставившись на телефонную трубку, генерал шевелил губами, словно продолжая прерванный разговор…
К обеду следующего дня самолет с новым командующим генералом Гансом Фриснером приземлился в Румынии на одном из аэродромов 4-го воздушного флота.
2. Задание
В июле 1944 года на Молдавию неожиданно обрушились ливневые дожди. Шли они выборочно, местами, по непонятному капризу природы: в чистом, безоблачном небе, которое полыхало летним зноем, вдруг невесть откуда появлялась колеблющаяся сизая дымка, затем небольшие кучевые облака, словно разрывы зенитных снарядов, потом потускневшее солнце окуналось в грязно-бурую тучу, которая опускалась из небесных глубин, — и вместе с глухими раскатами грома на землю рушились потоки воды. Смывая на своем пути виноградные лозы, обламывая ветки с дозревающими плодами, ливневые струи собирались а ручьи, речушки и реки и с гулом катили по долинам к морю.
И в то же время рядом, верстах в тридцати от дождевого изобилия, сухая земля скалилась трещинами, пруды и озера пересыхали, а речки даже овцы переходили вброд.
Старики сокрушенно качали головами: ох, не к добру… Прислушивались к орудийной канонаде, которая изредка накатывалась из-за горизонта на тихие хуторки и села, впопыхах обменивались новостями и торопились по хатам, стараясь спрятать тревогу за хлипкими деревянными засовами.
На Южном фронте протяженностью около шестисот километров царило затишье.
Разведчики впервые за полгода получили недельную передышку: отсыпались, приводили обмундирование в порядок, долечивали старьте раны. Это июльское утро не предвещало особых изменений в жизненном укладе спецгруппы: сержант Кучмин, сидя на завалинке, мастерил какую-то игрушку для хозяйских детишек, ефрейтор Ласкин чистил возле колодца у плетня оружие, старший сержант Пригода рубил на дрова выкорчеванные пни, старшина Татарчук и старший лейтенант Маркелов писали письма.
— Завтракать! — во двор вышла хозяйка с закопченным чугунком в руках. — Мамалыга готова…
Мамалыга была восхитительна: пышная, ароматная; разведчики не заставили себя долго упрашивать, и вскоре чугунок показал дно.
И в это время во двор заглянул ефрейтор Валиков.
— Товарищ старший лейтенант! — замахал руками Маркелову. — Бягите в штаб…
— Ефрейтор Валиков! — Татарчук, грозно сдвинув густые черные брови, подошел к плетню.
— Чаво?
— Как стоите перед старшим??! — рявкнул Татарчук. — Сми-рно!
Валиков, выпучив глаза, вытянул руки по швам.
— Как обращаетесь к старшему по званию?! — гремел Татарчук пуще прежнего, заметив возле колодца длинную косу с красным бантом — прелестная молдаванка восхищенно смотрела на Ивана. — Разрешите обратиться, товарищ гвардии старший лейтенант! Вот так. Вам ясно, Валиков? — Татарчук свирепо сверкнул белками глаз.
— Понятно…
— Не «понятно», а так точно, товарищ гвардии старшина. Повторите!
— Так точно, товарищ гвардии старшина! — постарался Валиков и, услышав хохот разведчиков, опомнился.
— Смяетесь… — обиженно проворчал и поплелся по дороге.
— Эх, дяревня, — Татарчук поправил обмундирование и поспешил к колодцу…
В штабе кроме подполковника Бережного и майора Горина был незнакомый Маркелову полковник — сухощавый, с удивительно подвижным лицом; на левой руке полковника не хватало мизинца.
— А вот и наш курортник, — добродушно улыбнулся навстречу Маркелову подполковник Бережной. — Присаживайся. Отдыхать не надоело?
— Пока нет, — сдержанно ответил старший лейтенант, внутренне настораживаясь.
— Придется тебя разочаровать, — посерьезнел Бережной. — Новое задание. Опасное задание.
— Так ведь не привыкать, товарищ гвардии подполковник, — по-мальчишески задорно ответил ему Маркелов.
— Знаю. И не только я. С сегодняшнего дня спецгруппа поступает в распоряжение штаба фронта, — с этими словами Бережной поднялся со скамьи. — Разрешите идти?
— Идите, — полковник подождал, пока Бережной и Горин выйдут из комнаты, и плотно прикрыл дверь. — Вот так, — полковник присел рядом с Маркеловым. — Куришь? — протянул папиросу.
— Да. Спасибо.
— Ну что же, старший лейтенант, будем знакомы — Северилов.
Маркелов даже вздрогнул от неожиданности: о легендарном разведчике Северилове он был наслышан немало.
— Так это… вы? — спросил Маркелов.
— Я, лейтенант, — скупо улыбнулся полковник. — А теперь к делу…
Полковник развернул на столе карту, которую вытащил из планшетки.
— Смотри сюда, — Северилов подвинул карту поближе к Маркелову. — Линия фронта проходит через Красноильск, Пашкани, севернее Ясс и далее — по Днестру до Черного моря. Здесь, как тебе известно, и занимает оборону группа армий «Южная Украина». В нее входят две армейские группы: «Велер» в составе 8-й немецкой, 4-й румынской армий и 17-го отдельного немецкого армейского корпуса и «Думитреску» в составе 6-й немецкой и 3-й румынской армий. Точная численность войск нам пока не известна. Воздушная поддержка: часть сил 4-го воздушного флота Германии и румынский авиационный корпус. Немало. Оборона сильная, с хорошо развитой системой инженерных заграждений. По данным аэрофоторазведки, заграждения местами тянутся в глубину до восьмидесяти километров. Крепкий орешек, ничего не скажешь.
Северилов закурил и продолжил:
— Возникает вопрос: где, в каком месте можно прорвать оборону противника с наименьшими потерями? Нанести удар в направлении на Хуши, с плацдарма на правом берегу Днестра? Вот здесь, южнее Тирасполя. Или наступать в направлении Кишинева? А может, через Днестровский лиман на Аккерман? Пока на этот вопрос ответа нет. Нет!
Полковник отошел от стола, прошелся по комнате.
— Мы уже шесть групп потеряли, — глухо, как бы про себя, обронил на ходу Северилов. — Какие ребята! Эх!
Северилов положил руку на плечо Маркелова.
— Понимаешь — шесть… А сколько раз другие поисковые группы возвращались с полпути. Не могут пройти — и баста! Понастроили мышеловок, капканы свои разбросали — тень не проскочит. А мы должны, обязаны это сделать! Оборону фашистскую мы, конечно же, опрокинем. Бывало хуже… Но какой ценой? Да что я тебе рассказываю, — махнул рукой полковник. — Сам понимаешь.
— Значит, товарищ полковник, пора собираться? — спросил Маркелов.
— Да. Пора. Сегодня идете в глубокий тыл группы армий «Южная Украина». Люди готовы?
— Так точно.
— Хорошо. Кто из вас умеет работать на рации?
— Сержант Кучмин и я.
— Порядок. Это упрощает задачу. Главное — установить, в каком именно районе противник ожидает наше наступление. И если будет такая возможность, то разведать, какие силы там сосредоточены. Короче, маршрут и детали задания мы сейчас уточним… — полковник на некоторое время задумался.
— Вот что, Маркелов, — Северилов потер шрам на месте мизинца. — Кажется мне, что все эти исчезновения разведгрупп как-то связаны с деятельностью моего старого знакомого полковника Дитриха, который, по нашим данным, недавно появился в расположении группы армий «Южная Украина». Очень опасный противник. Опытный. Свое дело знает, будь здоров. Может, я ошибаюсь, но почерк очень схож. Правда, мы не знаем, чем Дитрих занимается в данный момент и что его привело в эти края, но к блокированию возможных направлений поиска наших разведгрупп он руку приложил, без сомнений.
Северилов посмотрел на серьезное лицо Маркелова и с улыбкой спросил:
— Страшновато? Шучу. Знаю, не из пугливых. А вот об умной осторожности забывать не следует. Ну и прежде чем займемся проработкой маршрута, дам я тебе на всякий случай один адрес на той стороне. Дело в том, что твоя группа, случись какая-нибудь непредвиденная ситуация, может задержаться во вражеском тылу до подхода наших войск. Как скоро это будет — трудно сказать. Но будет точно! Не нужно лишний раз рисковать без особой надобности. Конечно, это в том случае, когда все наметки будут выполнены и данные разведки будут переданы по рации в штаб фронта.
Полковник помолчал некоторое время, затем тихо сказал:
— Очень надеюсь на тебя…
3. Старые приятели
— Ганс, я рад, что именно ты сменишь меня здесь, — генерал Шернер пребывал в благодушном состоянии: все его страхи развеялись, и теперь, получив пост главнокомандующего группой армий «Север», он готовился к отлету.
— Я тебе не завидую, Фердинанд, — генерал Фриснер выглядел усталым и отрешенным. — Ты знаешь, фюрер отстранил Линдемана за неудачное наступление в районе Даугавпилса. А что он мог сделать? С него требовали контрудар и в то же время забрали 12-ю танковую и 212-ю пехотную дивизии для группы «Центр». Мне тоже в мою бытность командующим оперативной группой «Нарва» пришлось подарить одну из лучших своих дивизий, 122-ю пехотную, финнам.
— Значит, ты считаешь, что у группы армий «Север» положение критическое?
— Ах, Фердинанд, — вздохнул Фриснер. — Как я могу тебе ответить на этот вопрос, если группой «Север» мне довелось командовать всего двадцать дней?
— Но все-таки, Ганс, неужели дела обстоят настолько плохо, что даже ты, мои старый соратник и друг, не решаешься сказать правду?
— Суди сам: в составе группы армий «Север» 38 дивизий — это 16-я и 18-я армии и оперативная группа «Нарва». По последним данным, в дивизиях насчитывается по восемь — десять тысяч личного состава. Много? Мало? Если судить по меркам сорокового года — вполне достаточно. А если применительно к настоящему времени — катастрофически мало! Солдаты теряют веру в победу. Ты можешь себе представить, Фердинанд, до какого позора мы дожили — германские солдаты дезертируют! Моральный дух подорван, со снабжением постоянные перебои — эти бандиты-партизаны держат под своим контролем почти все железные дороги.
— Как ты думаешь, Ганс, финны нам не подложат свинью? Все-таки наш ближний тыл.
— Ты имеешь в виду капитуляцию перед русскими?
— Да.
— Президент Финляндии Рюти 26 июня подписал декларацию, в которой дал личное обязательство не заключать сепаратного мира с русскими без согласии германского правительства. Это отрадный факт. Кроме того, и премьер-министр Линкомиес на следующий день выступил по радио с заявлением о готовности продолжить войну до победного конца на нашей стороне. Финский сейм придерживается мнения руководства. Я уже не говорю о главнокомандующем вооруженными силами маршале Маннергейме…
— Этого достаточно, чтобы быть спокойным в отношении финнов? — Шернер испытующе посмотрел на Фриснера.
Фриснер саркастически покривился.
— Фердинанд, время оптимистических прогнозов ушло безвозвратно. К тому же большая политика — дело фюрера. Мы с тобой солдаты. Но если говорить откровенно, не думаю, чтобы фюрер допускал мысль о капитуляции финнов. И тем более дал свое согласие на это. Финляндия — единственный поставщик никеля. С потерей Финляндии мы не сможем получить высококачественную железную руду из Швеции, военно-морские силы потеряют свои главные базы в Балтийском море…
Сразу же после отлета Шернера новый главнокомандующий группой армий «Южная Украина» генерал Фриснер собрал оперативное совещание командующих армиями и их начальников штабов. Осмотр оборонительных сооружений и позиций войск генерал отложил на следующий день, поскольку уже вечерело.
По окончании совещания Фриснер вызвал к себе полковника Дитриха.
— Давно мы с тобой не виделись, старина, — дружески пожимая руку полковнику, Фриснер указал глазами на небольшой кожаный диванчик. — Присядем…
— Господин генерал, с вашего позволения закурю…
— К чему такой официальный тон, Рудольф, кури.
— Благодарю, — полковник Дитрих вынул из нагрудного кармана кителя сигару, ловко обрезал кончик, прикурил.
— О-о, гаванские сигары! — воскликнул Фриснер. — Контрабанда?
— Старые запасы, — спокойно ответил полковник.
— А ты все в полковниках ходишь, Рудольф…
— Ценность сотрудника разведки, в отличие от офицера вермахта, заключается не в погонах и званиях…
Генерал Фриснер рассмеялся.
— Ты все так же, Рудольф, скептически относишься к армии. Единственный пункт, по которому у нас о тобой разногласия.
— Возможно.
— Ты не согласен?
— Время нередко меняет мировоззрение человека. Особенно когда идет война, когда иные дни тянутся до бесконечности долго, а годы кажутся спрессованными в мгновения.
— Ты стал философом.
— Нет. Я, пожалуй, стал циником.
— Это хуже?
— Для солдата — нет, для разведчика — да.
— Почему?
— Если разведчик работает только ради денег и званий, только ради наград и почестей — он циник до мозга костей. В любой момент его могут перевербовать, предложив куш посолидней, наконец, он может просто струсить. Я до конца никогда не верил таким людям. Но если разведчик, даже не обладая высоким профессионализмом, работает ради идеи, высшей цели — ему нет цены. Такие люди и во время войны, и в мирное время — наша опора и надежда. Солдату проще — цинизм помогает выжить. Убей врага без колебаний и сомнений — и тебя надет награда. Солдат всегда, в отличие от разведчика, чувствует локоть товарища. Цинизм и стадный инстинкт делают солдата храбрецом. Но для разведчика такие критерии не подходят.
— К чему ты клонишь, Рудольф?
— Отвечаю честно на вопросы, поскольку господин генерал хочет полной откровенности, судя по всему.
— Ты, как всегда, угадываешь мои мысли. Выпьем?
— С удовольствием.
— Вино, коньяк?
— Господин генерал, в последнее время я пью только русскую водку.
— Что так?
— Не позволяет расслабиться.
— Ну что же, будем пить русскую водку…
Когда адъютант генерала скрылся за дверью, Фриснер поднял рюмку.
— Прозит, Руди…
Генерал пил мелкими глотками, сосредоточенно глядя в рюмку; полковник одним махом опрокинул содержимое рюмки и принялся раскуривать потухшую сигару.
— Рудольф, мне хотелось бы услышать твое мнение о состоянии дел в Румынии.
— Все нормально, если судить по заявлениям Иона Антонеску.
— А если судить по данным абвера?
— Дело дрянь, господин генерал.
— Почему?
— Вчера я получил отчет румынской сигуранцы за последние две недели. Весьма интересные вещи творятся за спиной маршала Антонеску.
— Я весь внимание, Рудольф…
— То, что бывший премьер-министр Румынии князь Штирбей ищет контакты с Англией и США, ни для кого уже не секрет. То, что лидеры так называемой «оппозиции» Маниу и Братиану мечтают о сепаратном мире с англо-американским блоком и в последнее время значительно активизировали свои усилия в этом направлении, тоже известно, по крайней мере, абверу. Впрочем, они погоду не делают — чересчур скомпрометировали себя связями с Антонеску. Но вот то, что создан национал-демократический блок коммунистической, национал-царанистской или крестьянской и национал-либеральной партий, это уже очень опасно.
— Сведения достоверны?
— Вполне.
— Какие меры приняты?
Полковник Дитрих посмотрел на командующего с легкой иронией.
— Какие меры можно предпринять, чтобы задержать горный обвал на полпути.
— Параллель довольно условная…
— Не возражаю. Работаем и в этом направлении. По хуже всего то, что король Михай решил удариться в политику, судя по всему, под влиянием своей матери: за последние полгода резко усилились трения между его приближенными и Антонеску. А это явно неспроста. Правда, король пытается делать вид, что его отношение к Антонеску не изменилось, но это меня больше всего и настораживает.
— Думаешь, он способен открыто выступить против Антонеску?
— Господин генерал, чтобы спасти свою корону, Михай пойдет на все. Тем более что армия на его стороне, и многие генералы настроены против Антонеску.
— Ну что же, спасибо, Рудольф, за информацию. А теперь займемся вопросами, которые касаются нас непосредственно…
С этими словами генерал Фриснер направился к крупномасштабной карте.
— Подойди сюда, Рудольф.
Генерал взял со стола указку, некоторое время внимательно рассматривал расположение оборонительных сооружений и частей группы армий «Южная Украина», затем обратился к полковнику:
— Насколько я информирован, в данный момент у нас наиболее боеспособной является шестая армия. Так, Рудольф?
— Да.
— И что фланги у нас самое уязвимое место, поскольку там оборону держат румынские войска. Это соответствует действительности?
— Вполне.
— Допустим, эти сведения не являются тайной а для русских.
— Весьма возможно.
— Тогда и мы будем исходить из этого факта. Рудольф, мы сейчас с тобой немного пофантазируем. Сыграем в бумажную войну. Итак, ты русский главнокомандующий и тебе известно, что все лучшие войска Германии сосредоточены в районе вот этого выступа, то есть они прикрывают Кишинев. Куда бы ты направил свой основной удар в предстоящем наступлении?
— Здесь и думать долго не нужно. Конечно же, по флангам. С южной стороны — удар по 3-й румынской армии с форсированием Днестра и Днестровского лимана, а на нашем левом фланге — прорыв обороны в расположении 4-й румынской армии с направлением главного удара на Хуши. Удары по сходящимся направлениям, и в результате — котел в районе Кишинева…
— Правильно! Совершенно логично, Руди. Я бы тоже так поступил. И все же есть один важный момент, о котором мы, немцы, предпочитаем умалчивать. Это возросшее оперативно-тактическое мастерство русских военачальников, нестандартность их мышления. Русские уже не те, что в сорок первом, Рудольф, далеко не те. А мы продолжаем по инерции считать их неспособными тягаться с гениальностью военной немецкой мысли. Очень опасное заблуждение, которое может стоить нам проигранной войны.
Фриснер от выпитой водки раскраснелся: возбужденно жестикулируя, он быстро ходил вдоль огромной карты, которая занимала почти всю стену кабинета.
— А если русские ударят по 6-й армии? Невозможно? Вполне возможно, Руди! Смотри, что получается в этом варианте. Для того, чтобы усыпить нашу бдительность, русские могут провести отвлекающие удары по флангам. Могут! На кишиневском направлении им необходимо форсировать Днестр, что сопряжено с большими потерями. И конечно же, мы подобного поворота событий не должны ждать, следуя твоим умозаключениям (да и не только твоим), а значит, сосредоточим все внимание на флангах, возможно, с привлечением дополнительных сил (насколько я знаю, генерал Шернер определил в резерв две пехотные и одну танковые дивизии). Вот тут-то русские и используют элемент внезапности! Не согласен? Хорошо, поспорим! Во-первых, форсировать Днестр для русских при их современном оснащении, хорошем артиллерийском и воздушном прикрытии и определенном опыте подобных операций не является сложной проблемой. Во-вторых, взломав оборону и уничтожив лучшие наши войска, русские, вне всяких сомнений, нанесут удар в направлении Фокшан; ну а там рукой подать к Плоешти и Бухаресту. Остаются наши войска на флангах? Вот в этом и заключается замысел: разбить наиболее боеспособные соединения, всадить танковый клин в центр группы армий «Южная Украина», расчленить на две части и при поддержке русского флота, который получил старые базы, и морских десантов, с одной стороны, и ударов в направлении Ясс — с другой, соорудить нам два вместительных котла. Все!
Тяжело дыша, Фриснер подошел к столу, плеснул из высокогорлого графина воды в фужер, выпил.
— Ну, что ты на это скажешь, Рудольф?
— А если все-таки русские ударят по флангам? Неужели вы вовсе исключаете такую возможность?
— О нет, ни в коем случае! Будем откровенны — оба варианта могут принести нам большие огорчения. Но только в том случае, если мы не сможем определить направление главного удара русских. Оборона на нашем участке фронта сильная, хорошо продуманная — нельзя не отдать должное моему предшественнику. Командование сухопутных сил и фюрер возлагают на нас большие надежды. Именно здесь, на южных рубежах рейха, мы должны остановить русских, измотать в боях и начать новое, победоносное наступление. Мы — щит Румынии и Балкан. Вчера в беседе со мной фюрер сказал: «Я верю, что именно группа армий «Южная Украина», — Фриснер прикрыл веки и, цитируя, рубил воздух ладонью, — способна внести коренной перелом в состояние дел на восточном фронте».
Генерал неожиданно остро посмотрел на Дитриха и уже потише сказал:
— Правда, фюрер несколько по-иному, чем ты, оценил ситуацию в Румынии. Он сказал: «Маршал Антонеску искренне предан мне. И румынский народ и румынская армия идут за ним сплоченно, как один человек».
— Если фюрер так говорит, значит, причин для беспокойства нет. Но я не претендую на лавры пророка. Мой удел: собирать достоверную информацию и анализировать ее.
— Я тебя не упрекаю, Руди, — генерал изобразил на лице благодушие. — Отнюдь. Я тебе верю. Но иногда люди имеют склонность к преувеличениям…
— Вы имеете в виду меня?
— Я сказал — люди. И давай оставим этот разговор…
— Тогда у меня к вам есть еще один вопрос.
— Слушаю.
— Если в итоге ситуация на оборонительных рубежах будет складываться не в нашу пользу, если русские прорвут фронт — что тогда? Или этот вариант исключен?
— Что известно Богу, то человеку знать не дано. Это мой ответ на вопрос. Ни в чем заранее нельзя быть уверенным. И если русские все-таки прорвут фронт, то для полного окружения группы армий «Южная Украина» им необходимо упредить отвод наших войск на новые оборонительные рубежи. А для этого нужно захватить переправы через реку Прут, что довольно сложно, можно даже сказать, невыполнимо.
— Почему?
— Дело в том, что тогда русские должны иметь темп наступления до тридцати километров в сутки, иначе у нас получается значительный выигрыш во времени. А это практически невозможно — мы их опережаем.
— Жду ваших приказаний, господин генерал.
— Ты опять угадал мои мысли, старый товарищ. Тебе придется поработать очень много.
— Представляю…
— Я в этом не сомневался. Мои замыслы тебе известны, требуется только подтвердить их или опровергнуть, если они несостоятельны. Времени очень мало, Руди, очень мало…
— В первую очередь нам нужна информация о дислокации и численности русских армий.
— Да.
— И где намечается главный удар.
— Совершенно верно.
— Ну что же, постараемся, господин командующий…
— Но это еще не все, Рудольф. Как у тебя обстоят дела с блокировкой русских разведгрупп?
— За последние полтора месяца не было случая проникновения русских в наш тыл.
— Великолепно! Нет, Руди, все-таки полковничьи погоны тебе явно не к лицу. Пора, старина, шить новый мундир…
— Благодарю, господин генерал.
— Но! — генерал Фриснер поднял вверх указательный палец правой руки. — В этом и заключается твой промах.
— Мой промах? — переспросил удивленный Дитрих.
— Да. Впрочем, это беда не столько твоя, сколько генерал-полковника Шернера.
Полковник Дитрих, высокий и довольно крепкий для своих лет, нахмурился.
— Не понимаю, о чем идет речь.
— Да, Рудольф, ты, пожалуй, впервые не понял мою мысль. Стареем, стареем…
Генерал Фриснер сел за стол, придвинул к себе стопку чистой бумаги и карандашницу.
— Садись, господин полковник. Будем работать. Будем намечать стратегию и тактику на ближайшее время…
4. Погоня.
Берег вынырнул из темноты неожиданно. На узком каменном выступе Маркелова уже ждали: подхватили под руки и помогли забраться наверх. Одевались быстро и без слов; Пригода и Кучмин с автоматами наготове охраняли остальных.
Вниз по течению шли около получаса, пока Пригода, который был впереди, не заметил узкую расщелину.
Первым полез Ласкин. За ним Татарчук, для страховки.
Время тянулось мучительно долго, Маркелов с тревогой поглядывал на восток, где уже появилась светло-серая полоска утренней зари. Наконец прозвучал условный сигнал, и разведчики начали по очереди втискиваться между шершавыми стенками расщелины…
На верхушке обрыва дул легкий ветерок. Когда Маркелов присоединился к разведчикам, Степан Кучмин уже ловко орудовал ножницами, прогрызая проход в проволочных заграждениях.
— Понатыкал фашист недобитый аж в три ряда, — зло шептал он Ласкину, который помогал ему, придерживая обрезанные концы «колючки». — Да еще и запутал. Думает застрянем… Стоп!
Кучмин замер, Ласкин, который уже не раз помогал Степану в подобных случаях, тоже последовал его примеру. «Мина!» — подумал Ласкин, цепенея от неожиданного страха: по натуре человек не из робкого десятка, мин он боялся панически.
— Сигнальная проволока, — шепнул ему Кучмин.
Страх прошел, но от этого легче не стало: Ласкин знал, что эта проклятая «сигналка» — туго натянутая проволока с понавешанными на ней пустыми консервными банками, металлическими пластинками и даже крохотными рыбацкими звонками — преграда почти непреодолимая. Достаточно рукам чуть-чуть дрогнуть — и ты уже кандидат в покойники: дребезжали банки-жестянки, тренькали звонки и вслед за ними вступали в дело пулеметы, которые свой сектор обстрела прочесывали с истинно немецким прилежанием и методичностью.
— Что будем делать, Степа? — спросил Ласкин.
— Передай, пусть приготовятся. Режь…
Уперев локти в землю, Кучмин намертво зажал в ладонях коварную проволоку. «Удержать, удержать во что бы то ни стало…» — от страшного напряжения заломило в висках.
— Давай… — не шепнул — выдохнул Ласкину.
Ножницы мягко щелкнули. Невесомая до этого проволока вдруг налилась тяжестью и потянула руки в стороны; медленно, по миллиметру, Кучмин стал разводить их, постепенно опуская обрезанные концы вниз; у самой земли один конец перехватил Ласкин.
— Степа, наша взяла! — радостно шептал на ухо Кучмину.
А тот лежал обессилевший и безмолвный, все еще не веря в удачу.
— Последний ряд остался, Степа…
— Погоди чуток, — наконец промолвил Кучмин, с трудом отрывая занемевшие руки от земли.
Измазанные ржавчиной ладони были в крови, которая сочилась из-под ногтей…
Утро выдалось туманным, сырым; где-то вдалеке шла гроза, и сильный ветер, прилетевший с рассветом, зло трепал верхушки деревьев, рассыпая по земле редкие дождинки. Первый привал разведчики устроили в полуразваленной мазанке; дикий виноград оплел ее саманные стены и через проломы в сгнившей соломенной крыше протянул свои гибкие плети внутрь. Вокруг мазанки раскинулся старый заброшенный сад, заросший кустарником и травой по пояс.
— Кучмин, время… — посмотрел на часы Маркелов.
Степан принялся настраивать рацию.
Пригода расположился на широкой лежанке и, постелив полотенце, начал торопливо выкладывать из вещмешка съестные припасы.
— Петро в своей стихии, — и здесь не удержался Татарчук, чтобы не позубоскалить.
— А як нэ хочеш, то твое дило, — Пригода, который было протянул старшине его порцию, сунул ее обратно в вещмешок.
— Э-э, Петро! Ты что, шуток не понимаешь?
— От и жуй свои шуткы, — Пригода сделал обиженное лицо и отвернулся от Татарчука.
— Петро, я как старший по званию приказываю выдать мне паек!
— Нэма правды на цьому свити, — ворчал Петро, хитро поглядывая на Татарчука, который уписывал за обе щеки тушенку. — Як начальнык, то йому всэ можна. А що — Пэтро стэрпить…
Кучмин и Ласкин, посмеиваясь над обоими, тем временем заканчивали завтракать. Старший лейтенант уточнял по карте маршрут, сверяясь с компасом; на душе было легко и радостно — первый и, пожалуй, самый опасный этап поиска позади, на связь вышли вовремя.
Вдруг Ласкин вскочил и выбежал наружу. За ним поспешил и Пригода; Маркелов, старшина и Кучмин приготовили оружие.
— Что там? — вполголоса встревоженно спросил старший лейтенант.
— Собаки, командир… — Ласкин, вытянув шею, медленно ворочал головой.
Теперь уже все услышали приглушенный расстоянием собачий лай, который приближался со стороны Днестра.
— Ищут по следу, — Ласкин вздохнул и вопрошающе посмотрел на Маркелова.
— Эх, махорочки бы им, да покрепче, — Татарчук вытащил из кармана вышитый гладью кисет, задумчиво взвесил на руке и сунул обратно. — Но им тут и ящика не хватит, оравой прут.
— Все, уходим! — приказал Маркелов.
Через минуту мазанка опустела. Примятая сапогами трава постепенно выпрямлялась; где-то встревоженно прокричала сорока и тут же умолкла…
— Не могу, командир… — Татарчук со стоном опустился на землю. — Спина, будь она неладна… Память о сорок первом…
Старшина, серея лицом, закрыл глаза… Разведчики, потные, запыхавшиеся — бежали уже около получаса — столпились вокруг.
— Аптечку! — Маркелов упал на колени возле старшины, пощупал пульс. — Быстрее!
Старший лейтенант намочил ватку в нашатыре и сунул под нос Татарчуку; старшина поморщился, закрутил головой и виновато посмотрел на Маркелова.
— Вот незадача… — попытался встать, но тут же завалился обратно. — Ноги не держат. Уходите. Я их попридержу тут маленько. Все равно кому-то нужно.
— Нет! — Маркелов в отчаяньи рванул ворот гимнастерки — перехватило дыхание. — Мы понесем тебя!
— Командир, уходите! Я задержу их.
— Старшина Татарчук! Здесь я командую! Внимание всем — несем по очереди. Я — первый…
Темп движения явно замедлился. С прежней скоростью бежали только тогда, когда Татарчука нес Пригода, но его надолго не хватало. Старшина, казалось, не ощущал боли, и только изредка нервный тик кривил лицо, и крупные капли пота выступали на лбу.
Сзади настигали. Судя по лаю ищеек, их охватывали полукольцом; деревья пока скрывали разведчиков от преследователей. Маркелов только теперь начал понимать, почему не возвратились из немецкого тыла шесть разведгрупп: если удавалось пройти передовые охранения, то немцы по следу пускали собак, а от них не скроешься. Одно из предположений полковника Северилова по этому поводу подтвердилось, вспомнил Алексей искалеченную левую руку начальника разведки фронта — память сорок второго года. Метод полковника Дитриха…
Маркелов на мгновение остановился, вытащил карту, всмотрелся: где-то рядом, впереди, должна быть небольшая речушка. Туда!
— Быстрее, быстрее! Пригода, давай… — подставил спину.
— Та я нэ втомывся…
— Ну!
К берегу речушки скатились кубарем, по мелководью побежали против течения. Маркелов с надеждой поглядывал вверх на небосвод, где клубились густые тучи — как сейчас нужен дождь…
Собачий лай приутих, видимо, преследователи искали утерянные следы разведгруппы.
Из воды вышли в густых зарослях, переправившись вброд на другую сторону речушки. Дальше их путь лежал через луг, за которым щетинились деревьями высокие холмы…
Их настигли уже на перевале. Тучи так и не пролились на землю дождем, уползли за горизонт; в небе ярко засияло солнце, которое уже начало клониться к закату. Татарчук шел сам, опираясь на плечо Пригоды: боль поутихла, и только ноги были еще непослушными.
— Будем драться, — решился Маркелов: силы были на исходе.
Быстро рассредоточились по гребню перевала и стали ждать. Нужно было во что бы то ни стало продержаться до наступления темноты. Единственный шанс…
«Ближе, ближе…» — Маркелов затаил дыхание, крепко сжал зубы: разведчики должны открыть огонь только по его команде.
Десятка три эсэсовцев огромными муравьями медленно ползли по склону — тоже устали. Рыжий офицер снял фуражку, расстегнул мундир и часто вытирал лицо носовым платком. «С него и начну», — подумал Алексей и нажал на спусковой крючок.
Автоматный огонь ошеломил преследователей. Некоторые успели спрятаться за стволы деревьев, кое-кто побежал вниз, а часть, и среди них рыжий офицер, остались лежать, сраженные наповал. Две овчарки скулили и рвались с поводков, пытаясь сдвинуть с места своих недвижимых хозяев; третья, оборвав поводок, выскочила на гребень перевала напротив позиции Пригоды и бросилась на него.
— Гарный пэс, — сокрушенно вздохнул тот и всадил в овчарку пулю. — В погани рукы попався…
Некоторое время царило затишье: видимо, гитлеровцы, дезорганизованные гибелью командира и удачными действиями разведчиков, пытались разобраться в обстановке. Пользуясь этим, разведчики сменили позиции.
Наконец заговорили и автоматы эсэсовцев. Плотный заградительный огонь прижал разведчиков к земле. «Обходят», — понял Маркелов, на долю секунды высунув голову из укрытия — эсэсовцы уже забрались на холм с правой стороны и, тщательно укрываясь за деревьями, сокращали дистанцию мелкими перебежками. «Забросают гранатами, — старший лейтенант дал очередь в их сторону. — Не продержимся. Надо отходить…»
По гребню перевала разведчики, отстреливаясь, уходили к спуску в долину. Решительных действий эсэсовцы почему-то не предпринимали, видимо, в связи с малой численностью. Разведчики тоже не шли на обострение, поскольку им это было на руку — они ждали ночь. А солнце, казалось разведчикам, стояло на одном месте, словно намертво приклеенное к небосводу.
Татарчуку немного полегчало, и он теперь шел под руку с Кучминым. Время от времени его лицо кривилось от боли, на тугих скулах бугрились желваки, и тихий стон рвался сквозь стиснутые до скрежета зубы…
Отступление 1. Старшина Татарчук.
Писарь-переводчик города Перемышля старшина Иван Татарчук шел по набережной реки Сан в приподнятом настроении — завтра в отпуск! Чемодан уже собран, осталось сдать дела, попрощаться с друзьями — и в родные Ромны, к милой сердцу Суле, которая чем-то напоминала реку Сан: такая же тихая, плавная, чистая, разве что поуже.
Встречные девушки кокетливо улыбались стройному, подтянутому «пану офицеру», знакомый Татарчука, владелец крохотной кавярни пан Выборовский, с вежливым поклоном приподнял шляпу, старшина в ответ козырнул — чертовски хороша у этого полубуржуя дочка Марыля… С набережной открывался вид на Засанье, которое раскинулось на противоположном берегу — там хозяйничали гитлеровцы. Татарчук нахмурился и ускорил шаг, вспомнив о бумагах, которые два дня назад поступили в комендатуру… Неосознанная тревога бередила душу и не покидала старшину на протяжении всего дня.
Разбудил старшину грохот взрывов. «Опять артиллерийские склады?» — торопливо одеваясь, думал Татарчук: весной в казармах воинской части, расположенной около шоссе из Перемышля на Медыку, по невыясненным причинам взорвался боезапас. Выскочил во двор комендатуры и тут же упал, отброшенный взрывной волной — снаряд разорвался в нескольких шагах. «Повезло», — мелькнуло в голове — осколки дробно застучали по стенам. И другая мысль, страшная, невероятная: — Неужели война?!»
К вечеру старшина Татарчук вместе с бойцами комендатуры был включен в сводный пограничный отряд, который занял оборону в районе кладбища. А ночью его и еще нескольких пограничников послали на разведку в кварталы города, занятые гитлеровцами.
Кавярня пана Выборовского приютилась в конца узенькой улочки, вымощенной брусчаткой. Прижимаясь поближе к стенам зданий, разведчики короткими перебежками проскочили сквер, небольшую площадь и дворами добрались к черному входу в кавярню. Татарчук постучал в низенькую дверь. Тихо. И на повторный стук никто не ответил. Тогда старшина забрался на спину одному из товарищей и осторожно постучал в оконное стекло.
В комнате блеснул свет и тут же погас, окно отворилось, и испуганный девичий голос спросил:
— Кто?
— Пани Марыля, — облегченно вздохнул Татарчук. — Это я, старшина Татарчук.
— Ой, пан Татарчук, — всплеснула руками Марыля. — Пшепрашем… — и побежала открывать дверь.
Выборовский и Марыля, перебивая друг друга, взволнованно рассказывали разведчикам о последних событиях. Оказалось, что почти рядом с кавярней, в доме богатого коммерсанта Закревского, который в свое время сбежал на Запад, разместился штаб какой-то гитлеровской части. Расположение этого здания было Татарчуку хорошо известно, и старшина, не мешкая, распростился с Выборовскими и повел пограничников к штабу.
Часового сняли бесшумно. Оставив у входа двух солдат, Татарчук вместе с остальными вошел в дом. На первом этаже, около лестницы, дремал, сидя на стуле возле полевого телефона, еще один немецкий солдат; со второго этажа слышались возбужденные голоса и звон бокалов — видимо, господа офицеры веселились, отмечая начало войны. Татарчук на носках, чтобы не шуметь, пересек небольшой холл; солдат встрепенулся, вскочил, тараща испуганные глаза на разведчиков, и рухнул на пол от удара прикладом.
В гостиной на втором этаже за длинным столом, уставленным бутылками и разнообразной снедью, сидели в обнимку два офицера. При виде пограничников один из них попытался встать, но не удержался на ногах и, смахнув часть бутылок со стола, свалился на пол; второй, более трезвый, бросился к кобуре, которая висела на спинке соседнего стула. Но выхватить пистолет не успел — пограничники пустили ход штыки…
Захватив найденные в штабе документы и карты, а также одежду обоих офицеров, Татарчук возвратился в расположение сводного отряда.
Поутру, переодевшись в немецкую форму, Татарчук, на этот раз один, снова пошел в город — нужно было разведать перед началом боевых действий расположение немецких частей и места установки огневых точек.
Сдерживая кипевшую в груди ярость, Татарчук шел по Средместью, внимательно присматриваясь к гитлеровской солдатне. На улицах города — Словацкого и Мицкевича — фашисты уже успели установить орудия; из окон подвалов выглядывали стволы пулеметов. Рынок возле городской ратуши полнился пьяными криками — расположившись прямо на прилавках, гитлеровцы хлестали спиртное, орали песни.
Татарчук вышел к площади На Браме и, незаметно осмотревшись, нырнул в подворотню старинного дома. Двор этого дома примыкал к ресторану, переполненному офицерами вермахта. Оркестранты, отчаянно фальшивя, исполняли танго «Айн таг фюр ди либе», какой-то офицер пытался забраться на стол, и его с руганью удерживали собутыльники, денщики сновали между столов с новыми порциями спиртного. Старшина уже миновал ресторан, направляясь в сторону парка, как вдруг его окликнул немецкий патруль. Положение было безвыходным — документов Татарчук не имел. Пьяно улыбаясь и пошатываясь, он подошел поближе и, вскинув автомат, ударил в упор. Теперь таиться не было смысла: зашвырнув две гранаты в распахнутые окна ресторана, Татарчук изо всех сил припустил к парку. Неожиданная стрельба и взрывы гранат всполошили гитлеровцев — за старшиной началась настоящая охота. Отстреливаясь, Татарчук проскочил несколько улочек и переулков; вдруг он почувствовал резкий удар в спину и, теряя сознание, упал — неподалеку взорвалась граната, брошенная из окна дома.
И в это время начался налет советской артиллерии…
Когда Татарчук открыл глаза, Засанье заволокло черным дымом — горели нефтехранилища. Снаряды взрывались и в Средместье, и на склонах замковой горы, и в парке. Старшина поднялся и, придерживаясь за стену дома, ступил шаг, другой, третий… В голове шумело, боль в спине была нестерпимой, ноги подкашивались. Споткнувшись, Татарчук упал, больно ударившись затылком, и снова потерял сознание.
Очнулся он от запаха хлороформа. Его куда-то несли — Татарчук лежал на боку и видел окрашенные в светло-серый цвет панели и распахнутые двери комнат, в которых стояли койки. «Госпиталь…» — понял старшина и закрыл глаза.
В одной из таких комнат-палат его бережно уложили на постель, укрыли одеялом. Татарчук осмотрелся, пытаясь сообразить, где он и что с ним. Умело перебинтованная грудь, тупая боль в спине напомнили старшине о последних событиях. «Жив», — подумал, засыпая.
Проснулся он под вечер. В палате стояла еще одна койка, на которой лежал раненый с забинтованной головой. Где-то гремела канонада, дребезжали оконные стекла. Татарчук попытался приподняться, но тут же, застонав, опустился на постель.
— Господин обер-лейтенант! Вам плохо? — чей-то мужской участливый голос.
Говорили по-немецки! Татарчука прошиб холодный пот, мысли приобрели необходимую ясность, и старшина вдруг сообразил, что его подобрали, приняв за раненого при артналете гитлеровского офицера. И он в немецком госпитале! И его, судя по всему, прооперировали немцы!
— Господин обер-лейтенант! Вы меня слышите? Вам плохо?
— Найн… — хрипло выдавил из себя Татарчук, не открывая глаз — боялся, что они его выдадут.
Санитар ушел. Татарчук лежал недвижимо, чувствуя, как гулко колотится сердце, готовое выпрыгнуть из-под повязок. Сосед по палате тихо постанывал, изредка ворочаясь.
Ужинать Татарчук не стал. Он лежал, не открывая глаз и не отвечая на зов санитара. Ему сделали два укола и оставили в покое.
Ночью, когда движение в коридоре прекратилось, Татарчук, кусая губы от боли, надел брюки, потихоньку обулся — одежда лежала рядом, на стуле, но оружия не было. Пришлось повозиться с мундиром — когда старшина застегивал пуговицы, руки дрожали, пальцы были непослушными. Одеваясь, мысленно поблагодарил судьбу: имея тайную склонность к фатовству, которой стыдился и тщательно скрывал от товарищей, старшина, готовясь в отпуск, купил по случаю на барахолке немецкое шелковое белье и перед предстоящим отъездом впервые натянул его на себя. Это, видимо, и спасло его от разоблачения — отсутствию документов в горячке боя пока никто не придал значения. Но рано или поздно это должно было случиться, и Татарчук решил немедля уходить.
Подошел к окну, стараясь не шуметь, потянул на себя раму; она поддалась легко. Выглянул наружу и порадовался — палата находилась на первом этаже. Вернулся обратно, остановился возле койки соседа, судя по мундиру, капитана, прислушался. Тот спал, тяжело дыша. Взял из тумбочки увесистую металлическую пепельницу, крепко сжал ее, примерился — и поставил обратно: убить безоружного, раненого человека, пусть даже врага, не смог…
Перевалившись через подоконник, старшина упал на землю и едва не закричал от боли, которая на миг помутила сознание. Прикусив зубами кисть руки, он некоторое время лежал неподвижно, собираясь с силами, затем поднялся и, осмотревшись, медленно побрел через скверик к невысокому забору.
Дальнейшее Татарчук помнил смутно. Несколько раз он терял сознание, иногда даже полз; по спине бежали теплые струйки, видимо, разошлись швы раны. На улице Боролевского (гитлеровцы переправили раненого Татарчука в госпиталь, который находился в Засанье), в одной из подворотен, Татарчук надолго потерял сознание и очнулся уже утром от ожесточенной перестрелки — три советских солдата, отстреливаясь, уходили к берегу Сана.
— Товарищи! Това… — Татарчук полз из подворотни наперерез пограничникам.
Один из них вскинул трофейный автомат, но другой придержал его за руку:
— Постой, он говорит по-русски.
— То-ва-ри-щи… — язык ворочался с трудом; Татарчук попытался подняться на ноги, но тут же опять ткнулся в брусчатку.
— Это же Татарчук! — закричал пограничник в изодранной гимнастерке — он служил в комендантском взводе и хорошо знал старшину…
В тот же день Ивана Татарчука эвакуировали в тыл. Примерно через неделю ему снова пришлось взять в руки оружие — советские войска отступали, в тыл стал передовой. Ранение было неопасным, но долечиться старшина так и не успел…
5. Румыны.
Капрал Георге Виеру, невысокий худощавый парень двадцати трех лет, читал письмо из дома.
«…А еще сообщаю, что Мэриука уехала в Бухарест. Она вышла замуж за сына господина Догару, помнишь, он прихрамывал на левую ногу и в армию его не взяли. Мэриука приходила перед отъездом попрощаться. Вспомнили тебя, поплакали. У них в семье большое несчастье, мы тебе уже писали, на фронте погиб отец. А неделю назад младший брат Петре попал под немецкий грузовик, и теперь у него отнялись ноги. На этом писать заканчиваю. Береги себя, Георге, когда стреляют, из окопа не высовывайся. Я молюсь за тебя каждый день, и мама тоже. Все целуем тебя. Твоя сестра Аглая. Тебе привет от Джэорджике и Летиции».
— Что раскис, Георге?
— А, это ты, Берческу.. — Виеру подвинулся, освобождая место для товарища.
Берческу мельком взглянул на письмо, которое Виеру все еще держал развернутым, и спросил:
— От Мэриуки?
— М-м… — промычал неопределенно Георге и спрятал письмо в карман.
— Закуришь? — протянул Берческу помятую пачку дешевых сигарет.
— Давай…
Покурили, помолчали. Берческу искоса поглядывал на Виеру — тот был явно не в себе.
— Все, нет Мэриуки, — наконец проговорил Георге и, поперхнувшись сигаретным дымом, закашлялся.
— Что, умерла? — встревожился Берческу.
— Вышла замуж.
— За кого?
— Ну не за меня же! — вскочил Виеру и нырнул в блиндаж.
Через пару минут за ним последовал и Берческу. Виеру ничком лежал на нарах, закинув руки за голову, и подозрительно влажными глазами пристально всматривался в бревенчатый накат потолка.
— Кхм! — прокашлялся с порога Берческу.
Виеру скосил на него глаза и отвернулся к стене.
— Георге… — голос Берческу слегка подрагивал. — Ты это… ну, в общем, не переживай. Война закончится, ты молодой, найдешь себе.
— Берческу! — Виеру резко поднялся, схватил товарища за руку. — Давай уйдем! Домой.
— Ты что, Георге! — Берческу даже побледнел. — Поймают — пули не миновать. Здесь хоть надежда на солдатское счастье…
— Уйду сам… — Виеру скривился, словно от зубной боли. — Ничего я уже не боюсь, Берческу. Не могу! Не хочу! Три года в окопах. Ради чего? Немцы нас хуже скотины считают. А свои? Вчера капитан Симонеску избил денщика до полусмерти только за то, что тот нечаянно прожег утюгом дыру на его бриджах. А тебе, а мне мало доставалось?
— Да оно-то так… — Берческу мрачно смотрел в пол. — Я тоже об этом думал…
Ночью роту, в которой служил капрал Виеру, подняли по тревоге, усадили в грузовики и отправили в неизвестном направлении. Солдаты терялись в догадках, но подупавшее за время многодневного сидения в окопах настроение улучшилось — роту явно увозили в сторону, противоположную линии фронта.
Два последующих за этим дня солдаты, не покладая рук, трудились в качестве плотников — сколачивали фанерные макеты танков и пушек, красили в защитный цвет. На третий день макеты начали устанавливать на хорошо оборудованные и замаскированные позиции, откуда немцы спешно убирали танки, противотанковые орудия и тяжелые минометы. Еще через день макеты спешно перебросили в другое место, а на позиции возвратили ту же технику…
Георге старательно обтесывал длинную жердь — ствол пушки-макета. Работа спорилась, время бежало незаметно; пряный дух свежей щепы приятно щекотал ноздри, и капрал пьянел от такого мирного, уже подзабытого запаха. Рядом, что-то мурлыча под нос, трудился и обнаженный до пояса Берческу — полуденное солнце припекало не на шутку.
— Эй, капрал!
Виеру оглянулся и увидел коренастого немецкого унтер-офицера, который махал ему рукой.
— Иди сюда!
Виеру нехотя поднялся, стряхнул с одежды мелкие щепки и направился к большой группе немецких солдат, которые, беззаботно посмеиваясь, собрались вокруг поддомкраченного грузовика: на земле лежало колесо, а возле него стоял автомобильный насос.
— А ну качни… — унтер-офицер показал на насос.
До Георге, который все еще пребывал в радужном настроении, навеянном работой, смысл этих слов дошел с трудом; он уже было взялся за рукоятку насоса, как вдруг кровь ударила в голову, и Георге, медленно выпрямившись, мельком взглянул на унтер-офицера и пошел обратно.
— Эй, ты куда?! Стой! — унтер в несколько прыжков догнал Георге Виеру и схватил за плечо.
Георге обернулся. Немец был одного роста с ним, но пошире в кости и поплечистее. На капрала повеяло сивухой — унтер-офицер был навеселе.
— Ты что, не понял? Пойдем… — потянул немец капрала за рукав.
Виеру, стряхнув его руку, зашагал дальше.
— Георге! — услышал он вдруг крик Берческу, и в тот же миг сильный удар в челюсть свалил его с ног.
— Паршивый мамалыжник… — зашипел, брызгая слюной, унтер и пнул Георге ногой. — Вставай!
Георге вскочил и в ярости влепил хороший удар прямо в полные губы унтера. Тот явно не ожидал такого оборота, отшатнулся, провел тыльной стороной руки по губам и, увидев кровь, с криком бросился на Георге. Они сцепились и покатились по земле.
— Держись, Георге! — долетел до Виеру голое Берческу…
Немецкие и румынские солдаты дрались до тех пор, пока не прибыл наряд полевой жандармерии.
— …Расстрелять мерзавцев! Всех! — немецкий полковник топнул ногой. — Они осмелились поднять руку на солдат фюрера!
— Господин полковник! — генерал Аврамеску, спокойный и корректный, поднялся из-за стола. — Я считаю, что это не лучший способ поднять боевой дух румынских солдат перед предстоящими боями.
— Какое мне до этого дело? Ваши солдаты совершили преступление и должны за это отвечать по законам военного времени. Шесть немецких солдат доставлены в госпиталь. Я требую отдать зачинщиков драки под трибунал!
— То, что вам нет дела до результатов предстоящего сражения, где боевой дух — одно из слагаемых победы, я постараюсь довести до сведения командующего группой армий генерала Фриснера. Ну а по поводу зачинщиков драки я не возражаю: по нашим сведениям, затеял потасовку немецкий унтер-офицер Отто Блейер.
— Господин генерал, вы меня неправильно поняли, — стушевался полковник при имени генерала Фриснера. — Возможно, э-э… в этом есть вина и немецких солдат. Но драка была больше похожа на бунт! И этот ваш… — полковник открыл папку, нашел нужный листок, — капрал Георге Ви-е-ру, — с отвращением прочитал по слогам, — самый настоящий красный! Я приведу его высказывания…
— Не нужно, — генерал Аврамеску устало махнул рукой. — Капрал Виеру пойдет под военно-полевой трибунал. Но остальные солдаты будут освобождены из-под стражи и отправлены на фронт. Это мое окончательное решение. Вас оно устраивает, господин полковник?
— В кокой-то мере да… — полковник замялся.
Генерал Аврамеску понял его.
— Этот разговор, господин полковник, останется между нами: генерал Фриснер слишком занят, чтобы разбирать подобные незначительные недоразумения.
— Конечно, господин генерал! — просиял полковник. — Ваше решение правильное, и я к нему присоединяюсь…
Георге и Берческу сидели в одной камере. Виеру изредка щупал заплывший глаз, и тогда Берческу посмеивался, несмотря на то, что у самого вид был не ахти какой.
— Георге, а здесь лучше, чем на передовой, — неизвестно отчего довольный Берческу похлопал по каменной стене. — Кормят вполне прилично, тихо, спокойно…
— Это точно, — весело согласился Виеру и потянулся до хруста в костях.
— Георге, но как ты унтера… — Берческу расплылся в улыбке. — Я, ей богу, не ожидал.
— Лучше вспомни, как ты укусил фельджандарма за ухо…
Оба захохотали, глядя друг на друга.
Через день рядового Берческу освободили, а капрал Виеру остался в камере ждать приговора военно-полевого трибунала.
6. Дезинформация
Часовой словно решил поиздеваться над разведчиками: стоило Пригоде стать на четвереньки и изготовиться для броска через неширокую просеку, тщательно расчищенную гитлеровцами от деревьев, кустарника и травы, как немец тут же оборачивался и шел в направлении разведгруппы. Пригода весь извелся и даже начал злиться; он уже несколько раз довольно выразительно поглядывал в сторону Маркелова, но тот отрицательно покачивал головой — лишний раз шуметь совершенно ни к чему. «От вэзучый, харцызяка», — с сожалением наблюдал Петро за ретивым служакой — словно голодный кот, которому показывают мышь в плотно закрытой стеклянной банке.
Маркелов в досаде захлопнул планшетку с картой маршрута следования разведгруппы — уже который раз приходится менять направление…
Тогда от эсэсовцев удалось уйти без потерь — все-таки дождались ночи. Правда, из-за этого и пришлось впервые изменить тщательно разработанный штабом фронта маршрут, поскольку преследователи не дали возможности разведчикам пробраться через перевал и оттеснили их в долину. Маркелов несколько раз пытался выйти на нужные координаты. Казалось, немцы их ждали именно там, куда старший лейтенант нацеливал группу. Но, несмотря на эти досадные накладки, разведчики добыли чрезвычайно ценные сведения, о чем незамедлительно доложили в штаб фронта — рация работала безупречно. Преследователи исчезли, словно сквозь землю провалились, и это обстоятельство вопреки здравому смыслу почему-то не давало покоя Маркелову: немцы чересчур последовательны и упрямы, чтобы вот так просто взять и отказаться от возможности ликвидировать советскую разведгруппу, да еще в своем ближнем тылу. Исчезновение шести разведгрупп, неудачи остальных при переходе линии фронта, солидно поставленная блокировка возможных маршрутов — все говорило о том, что гитлеровское командование весьма тщательно позаботилось о сохранности своих тайн, особенно тех, которые касаются оборонительных сооружений и мест дислокации военной техники.
А тут — полное спокойствие, никаких намеков на повышенную боевую готовность в связи с проникновением разведгруппы в тыл, тем более что уж варианты примерных маршрутов немецкая контрразведка, могла вычислить вне всяких сомнений: Маркелов в разведке был не новичок и методику немцев знал не понаслышке. Возможно, это объясняется большой нервозностью гитлеровцев — что ни говори, а уже на исходе третий год войны…
Маркелов приказал отходить. Пригода досадливо поморщился, еще раз окинул взглядом довольно крепкую фигуру часового и бесшумно пополз в глубь зарослей вслед за остальными.
Вскоре им повезло — наткнулись на батарею противотанковых пушек-макетов, а рядом, буквально в километре, разведчики обнаружили до двух десятков танков, тоже фанерных.
— Не нравятся мне эти деревянные игрушки, — Татарчук, покусывая травинку, задумчиво смотрел на мощный эскарп, за которым скрывались в глубоких наклонных траншеях макеты танков. — Мы их на маршруте увидели уже много, как бы не сказать — чересчур много. А, командир?
— Да. Похоже, на этом участке фронта немцы не ждут наши войска…
— Ну хорошо, допустим, это и впрямь ложные позиции. Тогда почему они так тщательно замаскированы с воздуха? — Татарчук показал на маскировочные сетки, прикрывающие макеты.
— Ты в чем-то сомневаешься?
— Не знаю… — Татарчук был непривычно угрюм. — Не нравится мне это — и все тут! Вы только посмотрите, как добротно оборудованы позиции. Что, фрицам делать нечего, как только рыть траншеи под эти дрова?
— Возможно, позиции были и впрямь приготовлены под настоящие танки, да потом их перебросили в другое место, — Маркелов чувствовал, что спорит больше по инерции — в глубине души он был согласен со старшиной.
— У меня есть предложение, командир.
— Выкладывай.
— На связь мы должны выйти через час. За это время не мешало бы посмотреть позиции вблизи. А то посчитаем фанерки, запишем — и в кусты.
— Согласен. Пойдешь с Ласкиным. Мы вас прикроем…
Татарчук и Ласкин ушли. Остальные рассредоточились и замаскировались.
Неутомимый шмель обстоятельно осматривал круглые головки клевера недалеко от Пригоды. Вот он нечаянно зацепил крылом паутину, дернулся несколько раз, пытаясь освободиться, и притих в недоумении, стараясь понять причину своих злоключений. Большой паук выскочил и заторопился к своей жертве. Шмель басовито загудел при виде разбойника, рванулся в сторону, но паук тут же забегал вокруг него, опутывая клейкой паутиной.
Пригода тонкой веточкой оборвал паутину, и шмель улетел; раздосадованный неудачей паук и не пытался восстановить свои охотничьи сети — как-то боком, неуклюже поволок толстое туловище с крестом на спине под клеверный листок.
И в это время рядом с Пригодой раздался чуть слышный шорох и чье-то тяжелое дыхание. Пригода замер; скосив глаза влево, он едва не вскочил от неожиданности, но невероятным усилием воли заставил себя остаться неподвижным — метрах в пяти от него лежал немецкий солдат! Крепкие волосатые руки гитлеровца сжимали окуляры цейсовского бинокля, каска была утыкана пучками травы и ветками. Немец пристально вглядывался в сторону макетов, туда, где орудовали Татарчук и Ласкин.
Пригода, почти не дыша и стараясь унять сильное сердцебиение, медленно потянул кинжал из ножен. Прикинул еще раз расстояние до гитлеровца, слегка приподнялся, готовясь к прыжку, быстро окинул взглядом окрестности и снова застыл неподвижно: чуть поодаль и немного сзади, среди кустов, он заметил еще двух солдат с автоматами наготове.
Тем временем немец с биноклем, видимо, удовлетворенный увиденным, поднял вверх раскрытую пятерню и, на миг повернувшись лицом к Пригоде, быстро пополз в сторону; куда-то пропали и два других солдата.
Пригода, завидев лицо гитлеровца, не поверил своим глазам — не может быть! Не теряя времени, Петро отбросил ветки, которыми замаскировался, и, пригибаясь почти к земле, побежал по ложбине к месту сбора разведчиков.
Все уже собрались вместе, когда Пригода выскочил из зарослей — его пост был самый дальний. Татарчук и Ласкин тоже только подошли; судя по виду старшины, он собирался сообщить старшему лейтенанту нечто очень важное.
Пригода, не глядя на заросли вокруг небольшой полянки, где расположились разведчики, медленно подошел к остальным и, изобразив улыбку, тихо сказал:
— Хлопци, нас окружають.
Маркелов на миг оцепенел, но, встретившись взглядом с Пригодой, все понял; засмеявшись, он похлопал его по плечу и показал на Кучмина:
— Берегите рацию… — негромко. — Уходим по одному, без спешки. Направление на сосновую рощу, там хорошо видны подходы. Друг друга из виду не упускать.
Разведчики по одному скрывались в зарослях. Последним шел Ласкин; когда сбоку, буквально в нескольких шагах, среди ветвей мелькнули чьи-то настороженные холодные глаза, он едва удержал неподвижным палец на спусковом крючке автомата.
Шли быстро; когда перескочили небольшой ручей, под ногами зашуршали сухие сосновые иголки — здесь начиналась роща.
Короткий привал устроили на вершине небольшого холма, густо поросшего сосновым молодняком. Роща хорошо просматривалась, и разведчики почувствовали себя в относительной безопасности.
— Татарчук, рассказывай! — бросил Маркелов еще на подходе к холму.
— Танки были на этих позициях не позже вчерашнего дня.
— Ты уверен?
— Вполне. Следы траков на дороге убрали с помощью волокуши, а затем пустили грузовики и мотоциклы. Здесь у них почти чисто, если не очень присматриваться.
— Что еще?
— Несколько свежих окурков, пряжка от комбинезона, оброненная недавно, в одном месте танк выехал на обочину и слегка ободрал кору на деревьях. В двух местах, видимо при дозаправке, пролито горючее — это в траншеях.
— Все?
— Нет. В лесу обнаружили добротный блиндаж, хорошо замаскированный, вместительный. Наверное, укрытие для танковых экипажей. Тоже оставлен совсем недавно. Дальше мы не осматривали — не было времени. Пожалуй, все.
— Пригода!
— Бачыв фрыца, як оцэ вас!.. — и Петро рассказал об увиденном.
— Говоришь, тот самый часовой, который по идее должен в это время быть в двух часах ходу отсюда? Не ошибся? — спросил Маркелов.
— Ни! — уверенно ответил Пригода.
— Та-ак… — Маркелов неожиданно почувствовал, как в груди шевельнулось чувство, похожее на страх; тревожно сжалось сердце, трепыхнулось больно и застучало, учащая удары, — неужели все это время он передавал в штаб дезинформацию?!
— Деза… — словно подслушал его мысли Куч-мин.
— Я тоже так думаю, командир, — отозвался и Татарчук. — Они нас, как щенков, к проруби ведут. Что делать будем?
— Связаться со штабом и передать им… — начал было Кучмин.
— Что мы снабжали их сначала дезинформацией, а теперь начнем снабжать своими домыслами? Так? Кто может поручиться, что наши сведения не соответствуют действительности? — Маркелов задержал взгляд на Кучмине. — Ты? Или ты? — обернулся к Татарчуку.
— Так что же тогда делать? — растерянно спросил Татарчук.
— То же, что и до этого, — идти по маршруту. Потому как, если мы сейчас повернем обратно для проверки разведданных, наши, с позволения сказать, «телохранители» на этот раз нас не упустят. Пусть оно продолжают считать, что все идет по их плану. Но — до поры до времени…
Да, теперь стали понятными и «нерешительность» эсэсовцев, которые после того, как оттеснили разведгруппу на нужное для них направление, убрались восвояси, уступив место, судя по всему, опытным контрразведчикам вермахта; и усиленные заслоны, которые и в самом деле были непроходимы, поскольку для разведгруппы был определен совсем другой маршрут, и, наконец, удивительное затишье все эти дни в тылу гитлеровцев.
Нет, нужно во что бы то ни стало проверить разведданные! Хотя бы выборочно, если немцы не дадут до конца довести задуманное.
— Подходят, командир, — доложил Ласкин, который в бинокль наблюдал за рощей. — Здорово маскируются, гады!
— Пусть поупражняются, — Маркелов развернул карту. — Подойдите сюда! Смотрите и запоминайте…
Отступление 2. Лейтенант Маркелов
«Маркелов Алексей Константинович, 1924 года рождения, русский, комсомолец, воинское звание младший лейтенант…»
Подполковник Бережной оторвался от бумаг и с неожиданным интересом посмотрел на стройного юношу, который «ел» глазами начальство. «Птенец…» — подполковник вздохнул, вспомнив свою молодость. — Ускоренный выпуск… А смотрится неплохо», — и, окинув с ног до головы ладную фигуру Маркелова, спросил:
— Здесь написано, что вы владеете немецким.
— Так точно, товарищ подполковник!
Бережной хотел было сделать офицеру замечание, чтобы тот несколько приглушил свой крепкий, хорошо поставленный голос — фронт не училищный плац — но передумал: месяц на передовой, и от теперешнего лоска и прыти мало что останется.
— Садитесь. Валиков, чаю!
Вестовой поставил на стол закопченный чайник и две кружки, изготовленные из снарядных гильз.
— Прошу, — Бережной пододвинул к смущенному Маркелову несколько кусочков колотого сахару. — А вообще, — посмотрел на старые деревенские ходики, которые тикали на стене, — пора и поужинать. Валиков, давай «второй фронт»!
Ефрейтор Валиков, нескладный добродушный увалень, подогрел на плите две банки американской тушенки, которую солдаты прозвали «вторым фронтом», в неожиданно даже для Бережного, раздобрившись, откуда-то вытащил пачку галет и полплитки шоколада.
— Ешь, ешь, не стесняйся, — как-то незаметно подполковник Бережной перешел на «ты»: Маркелов ему положительно нравился.
— Валиков, позови Горина.
— Отдыхают, — с нажимом на букву «о» ответил вестовой.
— Валиков! — повысил голос Бережной.
— Ужо бягу… — недовольный Валиков, что-то бормоча под нос, накинул на плечи ватник и шагнул за дверь блиндажа в морозную ночь.
Минут через десять пришел майор Горин.
— Извини, разбудил…
— Я уже не спал, — Горин подошел к печке, налил в кружку кипятку.
— Знакомься, — подполковник Бережной показал в сторону Алексея. — Младший лейтенант Маркелов.
— Уф-ф! Горячо… — майор замахал рукой. — Маркелов, значит… — безразличным голосом промолвил Горин, присаживаясь к столу.
— Между прочим, — Бережной хитровато сощурился, — немецкий язык как свои пять пальцев…
— Ну? — Горин оставил в сторону кружку и на этот раз острым, цепким взглядом осмотрел лейтенанта, который сидел как на иголках.
— Вот посмотри, — подполковник пододвинул Горину бумаги Алексея.
— Значит, учился в университете…
— Так точно, товарищ майор! — подхватил Маркелов.
— Сиди, сиди, — поморщился Горин. — Слушай, младший лейтенант, тут вот какое дело…
Майор умолк как бы в раздумье, затем вздохнул, хмурясь, и продолжил:
— …Вот какое дело — мне нужен толковый офицер, желательно свободно владеющий немецким. По второму пункту у меня сомнений нет, а вот по первому… Ты пойми меня правильно, без обиды. Я недавно такого, как ты, молодца похоронил… Молод, горяч был, а в нашем деле спешка и показная удаль — прямая дорожка на тот свет. Короче говоря, младший лейтенант: в полковую разведку пойдешь?
— Товарищ майор! — Маркелов даже побледнел. — Я… я оправдаю!.. Это… моя мечта, — добавил тихо, потупившись.
— Можно было определить тебя в разведку приказом… — Горин прошелся по блиндажу. — Только есть одно «но»: ты будешь назначен командиром спецгруппы, основная задача которой — глубокий поиск. Для этого необходимы, как минимум, отличное владение немецким языком и знание специфики разведывательных операций. Придется учиться.
— Я буду учиться! Я постараюсь…
— Не сомневаюсь в этом, — Горин впервые за вечер улыбнулся. — И еще одно, пожалуй, главное: спецгруппа создана приказом по армии из лучших разведчиков и будет выполнять распоряжение штаба армии. Мне группа подчинена временно, но за подбор кандидатур я отвечаю целиком и полностью. Прошу это учесть.
— Понял, товарищ майор, — серьезно ответил Маркелов, глубокая складка прорезала его высокий лоб, мягкие черты юношеского лица вдруг приобрели жесткое, сосредоточенное выражение.
— А пока у нас отдых и полк в резерве, займетесь подготовкой ваших подчиненных к предстоящим заданиям. Судя по бумагам, вы великолепно владеете личным оружием и хороший спортсмен. Не так ли? — Горин испытующе посмотрел в глаза Маркелова.
— Да… вроде того… — смутился тот.
— Вот и отлично, — Горин возвратил младшему лейтенанту его бумаги. — А теперь отдыхать. Валиков!
— Чаво!
— Проводи младшего лейтенанта к разведчикам. Утром, в десять, прошу ко мне. Спокойной ночи.
— Пойдемте… — Валиков страдальчески вздыхал и морщился — мороз придавил не на шутку, и шагать в распоряжение полковой разведки у ефрейтора особого желания ее было…
На следующий день Маркелов отправился в штаб и возвратился в расположение полковой разведки в два часа дня. Толком познакомиться со своими будущими подчиненными он еще не успел и, вышагивая по первому снегу, который едва припорошил разбитую танковыми гусеницами дорогу, Алексей пытался представить свои дальнейшие действия. Это ему плохо удавалось, и когда он открыл дверь землянки, где разместились разведчики, в голове был сумбур — смесь уставных наставлений, советов майора Горина и его личных соображений.
Разведчики обедали. Огромный — косая сажень в плечах и ростом под два метра — сержант Пригода ловко орудовал поварешкой; на его широком, полногубом лице задумчиво голубели добрые, с затаенной грустинкой глаза. Быстрый в движениях, словоохотливый старшина Татарчук, с живым цыганковатым лицом, рассказывал очередной анекдот, на которые был великий мастак. Рядовой Ласкин, сощурив серые плутоватые глаза, с невероятной скоростью работал ложкой. В конце стола сидел неторопливый кряжистый молчун, ефрейтор Кучмин. По тому, как старшина Татарчук изредка бросал в его сторону быстрые вопрошающие взгляды, можно было заключить, что мнение Кучмина даже для него отнюдь не безразлично.
— Сидайтэ, будь ласка, — Пригода подвинул Maркелову табурет. — Выбачайтэ, що нэ ждалы.
— Ничего, ничего, спасибо… — Маркелов принялся за еду.
— Товарищ младший лейтенант! — Татарчук с многозначительным видом протянул Маркелову кружку, наполненную какой-то темной жидкостью. — Перед обедом положено принять.
— Что это? — Маркелов пригубил кружку и, поперхнувшись, вскочил. — Спиртное?!
— Так точно… — с удивлением воззрился на него старшина. — Коньяк. Трофейный. Берегли для особого случая. Ну вот и…
— Да как!.. Да как вы!.. — Маркелов в негодовании выплеснул коньяк на пол. — Пьянку устраивать! Стыдно! Чтобы это было в последний раз! Ясно, старшина?
— Ага, так точно… — унылый Татарчук втянул воздух. — Хороший коньяк, французский…
— От-ставить разговоры! — офицер посмотрел на часы. — Пообедали? Теперь по расписанию — стрельбища.
После обеда распогодилось: подул теплый ветерок, выглянуло солнышко сквозь серые тучи.
На огневой рубеж лег Ласкин. Отстрелявшись, он заботливо протер автомат фланелькой и только тогда побежал к мишеням. Возвратился с подавленным видом и скромно пристроился за спиной Пригоды.
— Плохо, очень плохо, Ласкин, — Маркелов покачал головой.
— Оно, конечно, словами и слона завалишь, — чуть слышно пробормотал удрученный Ласкин.
Маркелов услышал, хотел ответить что-то резкое, но передумал.
— Рядовой Ласкин!
— Слушаю!
— Дайте мне ваш автомат.
Поставив новый диск, младший лейтенант вскинул автомат к плечу и, почти не целясь, как показалось разведчикам, ударил по мишеням короткими очередями.
— Здорово! — Татарчук считал попадания. — Лучше, чем ты, Степа.
— Посмотрим, — невозмутимо ответил Кучмин и передернул затвор.
Результаты у Кучмина были чуть получше, чем у офицера, хотя оба отстрелялись на «отлично».
— Старшина! — Алексей «завелся». — Ваш пистолет!
По указанию младшего лейтенанта установили дополнительные мишени. Сбросив шинель и держа в обеих руках по пистолету, Маркелов, легко отталкиваясь от земли, побежал, как-то странно заваливаясь то на одну, то на другую сторону; затрещали пистолетные выстрелы.
— Вот это да-а… — Татарчук почесал затылок. — Такого видеть мне еще не приходилось.
— Все мишени! — захлебнулся от восторга Ласкин.
— Научиться бы… — обронил задетый за живое Кучмин.
— Чем сейчас и займемся, — Маркелов сиял — он был в своей стихии.
Вечером разведчики куда-то дружно засобирались. Пошушукавшись в своем углу, делегировали к Маркелову, который что-то писал у стола, Татарчука и Пригоду.
— Разрешите обратиться! — молодцевато прищелкнул каблуками франтоватый старшина.
— Почему так официально? — с улыбкой посмотрел Маркелов на своих разведчиков.
И, запнувшись, уставился на Пригоду.
— Товарищ младший лейтенант, — интимные нотки прорезались в голосе Татарчука. — Нас сегодня пригласили на небольшую вечеринку. Девчата-зенитчицы. Тут, неподалеку… И вас, кстати, тоже. Ненадолго, — и уже почти шепотом: — Ну так как?
Маркелов молчал. Тогда, прокашлявшись, заговорил Пригода, которому наступил на ногу Татарчук, взывая о помощи.
— Кх… — Гарни дивчата… — слова не шли на ум и, отчаявшись, сержант выпалил: — То пидэм, чы ни?!
Маркелов не мог оторвать глаз от широкой груди Пригоды, на которой едва помещались многочисленные ордена и медали; про Татарчука и говорить было нечего — тот сверкал, как новый иконостас. Офицер перевел взгляд на Кучмина и Ласкина, у которых тоже было чем похвалиться, покраснел до корней волос и дрожащим голосом сказал:
— П-пожалуйста, и-дите… — и уже твердо добавил: — Я, к сожалению, сегодня… занят.
После ухода разведчиков Маркелов бросился на полати и, уткнувшись лицом в чей-то старый ватник, попытался успокоить внезапно вспыхнувшую мальчишескую зависть. Так и уснул, не дождавшись разведчиков.
Перед завтраком не знал, куда девать глаза. «Маменькин сыночек! За орденами на фронт припылил! Кому позавидовал…» — вспомнил спину Татарчука, испещренную шрамами, след пулевого ранения на шее Кучмина, обожженную руку Ласкина…
Занятие по физподготовке явно не получилось. И день был хорош, и за неделю во втором эшелоне силенок поднабрались, а против бега на пять километров с полной выкладкой был даже безотказный Кучмин. Повинуясь приказу, с горем пополам пробежали чуть больше двух километров, а затем стали «валять Ваньку»: Пригода «неожиданно» подвернул ногу, у Татарчука спину прихватило, Ласкин дышал, как чахоточный, а Кучмин просто остановился и, не поднимая глаз на Маркелова, присел возле подорвавшейся на мине полуторки и стал перематывать портянку.
— За два с половиной года набегался… — ворчал Татарчук.
— Та якбы нэ нога… — Пригода пытался изобразить страдание.
Маркелов вздохнул, пнул в сердцах покореженное осколками ведро, которое валялось возле машины, и сказал:
— Ладно, перекур.
— Визьмить мого табачку, — протягивал Пригода кисет. — Сам гэнэрал хвалыв. Як закурыв, то сказав, що Бэрлин побачыв…
Покурили, помолчали, изредка украдкой посматривая на Маркелова, который вдруг повеселел и загадочно улыбнулся.
— Значит, физподготовка разведчикам ни к чему… — как бы размышляя вслух, сказал он. — Я вас правильно понял?
— Та мы нэ проты… — Пригода снова принялся ощупывать ногу.
— Ну а если вам придется встретиться с хорошо обученным и тренированным немецким разведчиком? Тогда как?
— Було дило… — многозначительно посмотрел на свои кулаки Пригода.
Маркелов вдруг снял ватник и обратился к Пригоде:
— Сержант Пригода!
— Я…
— Представьте, что перед вами гитлеровец. Его нужно взять живым и доставить в качестве «языка». Вам понятно? Начинайте!
— Як жэ цэ? — растерялся Пригода.
— Очень просто, как вы до этого делали. Причем неоднократно. Ну!
— Товарищ младший лейтенант, — вмешался Татарчук. — Сломает ведь…
— Сержант Пригода, я приказываю! Перед вами немец, фашист. Чего вы ждете?
— Будь ласка… — вздохнул Пригода, и неожиданно стремительно прыгнул на офицера, пытаясь захватить его руку.
И взлетел в воздух, смешно кувыркнувшись. Пригода зарылся носом в сугроб. Разведчики ахнули. Растерянный и злой сержант подхватился на ноги и снова бросился на Маркелова. Тот стоял спокойно, улыбаясь. Пригода уже обхватил его своими ручищами, сжал — и вдруг, изменившись в лице, со стоном опустился у ног младшего лейтенанта…
Когда Пригода пришел в чувство, Маркелов с виноватым видом сказал:
— Вы меня… извините… Немного не рассчитал. Это джиу-джитсу…
— Хай йому грэць, — помотал Пригода головой: — Нэ хотив бы я буты тым «языком»…
В начале февраля 1944 года 117-й полк отправили на передовую. И вскоре спецгруппа разведчиков во главе с младшим лейтенантом Маркеловым получила первое боевое задание.
7. Западня
Мотор несколько раз чихнул и заглох. Грузовик по инерции прокатился несколько метров, мигнул подфарниками и остановился на обочине; из кабины выскочил водитель, открыл капот.
— Что случилось, Вилли? — окликнули водителя из проходящей мимо машины.
— Вода закипела, — водитель открутил пробку радиатора и резко отпрянул в сторону — пар со свистом вырвался наружу.
— Помочь? — подошел к водителю его пассажир.
— Я сам, Курт, — водитель откинул брезентовый полог и полез в кузов грузовика под тент.
Курт поправил ремень винтовки, закурил и неторопливо принялся расхаживать по шоссе, взад-вперед Мимо продолжали идти грузовики автоколонны, к которой принадлежала и машина Вилли.
— Эй, Курт! Поехали! — водитель бросил полупустую канистру в кузов и протирал ветошью руки. — Где ты там?
Курт молча влез в кабину и захлопнул дверку.
— Все в порядке, — удовлетворенно констатировал Вилли и повернулся к Курту. — Дай закури… ы-ы… — водитель на миг лишился дара речи; опомнившись, он попытался выскочить на шоссе, однако сильный удар по голове погрузил его в состояние небытия.
Когда автоколонна миновала перекресток и шоссейная дорога запетляла среди лесных зарослей, один из грузовиков неожиданно резко свернул с выключенными фарами на малоприметную грунтовую дорогу и скрылся за деревьями. Вскоре последняя автомашина колонны перевалила в долину, и на шоссе воцарилась тишина.
Они оторвались от немецких контрразведчиков к ночи. Пригода и Ласкин бесшумно сняли заслон из двух солдат, и разведчики по узкому скалистому коридору вышли к реке, а затем спустились вниз по течению и очутились на шоссе, где незаметно захватили один из грузовиков автоколонны. Судя по всему, этот вариант для контрразведчиков вермахта был полной неожиданностью, поскольку разведгруппу никто не преследовал, в чем Маркелов не замедлил удостовериться, едва машина прошла первые десять километров по грунтовой дороге: мотор заглушили и устроили небольшой привал — послушать ночь и слегка перекусить.
Степан Кучмин время привала провел несколько своеобразно.
В кузове грузовика он обнаружил около двух десятков деревянных противотанковых «хольцминен» и примерно такое же количество старых немецких металлических мин круглой формы; взрыватели к ним нашлись в кабине, тщательно упакованные в деревянные ящички — видимо, покойный Курт был сапером. Пока разведчики ужинали, Степан с саперной лопаткой бегал по дороге, устанавливая мины.
Дальше ехали без остановки до самого утра. Когда из-за горизонта показалось солнце, машину, заминировав, бросили — до цели оставалось совсем немного.
Это было то самое место, где разведчики впервые обнаружили макеты танков и пушек — Маркелов решил начать проверку разведданных последовательно. Уже на подходе к долине разведчики услышали рев моторов, густая желтая пыль поднималась к безоблачному небу.
Проход в колючей проволоке, ограждающей танковые позиции, который разведчики проделали в первый раз, был аккуратно заплетен, а на бруствере свежевырытого окопчика по другую сторону заграждений сидели два немецких солдата и о чем-то оживленно болтали. Танки, если они там были, скрывал плотный частокол из деревьев.
— Вот тебе бабушка и Юрьев день, — зло сказал Татарчук. — Как они нас, командир, а?
— Поживем — увидим… — Маркелов еще раз уточнил координаты.
— Будем ждать вечера? — спросил Кучмин.
— Времени в обрез, — Маркелов внимательно посмотрел на заграждение. — Нужно пройти туда. И желательно без шума…
Ласкин полз среди высокой травы вслед за Степаном. Вдруг тот остановился, некоторое время лежал в полной неподвижности, затем дал знак, чтобы Ласкин не двигался, и, взяв чуть вправо, пополз дальше. Через несколько минут Кучмин повернул обратно. Вскоре оба очутились у прохода в «колючке», где их с нетерпением ждали остальные.
— Все подходы заминированы, — хмуро сказал Кучмин.
— Пройдем? — озабоченно поинтересовался старший лейтенант.
— Пройдем. Как скоро — вот вопрос. Да еще среди бела дня.
— Да, могут заметить, — Маркелов посмотрел на часы и вздохнул.
— Что теперь? — Татарчук, многозначительно похлопывая по ножнам кинжала, смотрел на Марке-лова.
— Другого выхода нет, — понял его Алексей. — Нужно снять передовое охранение. От окопа должна быть тропинка…
На этот раз пошли Татарчук и Ласкин. Теперь на бруствере сидел только один солдат и что-то задумчиво жевал.
«Где второй? — злился Татарчук, который уже был в двух-трех шагах от окопа. Напарник чревоугодника, который вблизи оказался довольно плотным упитанным коротышкой, не показывался. В стороне лежал беспокойный Ласкин и, дрожа от нетерпения, ждал сигнала старшины — объект его «забот» был как на ладони.
«Где второй? В окопе? — Татарчук подобрался, крепко сжал нож, чуть слышно щелкнул языком и ринулся вперед. — А, была не была!»
Оба разведчика вскочили почти одновременно; толстяк, выпучив с перепугу глаза, успел промычать что-то нечленораздельное, когда Ласкин опрокинул его на землю; Татарчук с разбегу ухнул на дно окопа, где мирно посапывал напарник толстяка, и взмахнул ножом…
Незаминированную тропинку, которая вела к танковым позициям, обнаружили без особого труда по невысоким вешкам с привязанными лоскутами белой материи. Дорога через лес уже была им знакома, и разведчики шли быстро. На выходе из леса они натолкнулись на взвод немецких солдат, которые рыли большой котлован, обошли их стороной.
— Ну что там, командир? — Татарчуку не терпелось.
Маркелов разглядывал в бинокль танковые позиции, куда то и дело подъезжали автоцистерны бензозаправщиков. А по пыльной дороге, которая змеилась на дне долины, шли крытые грузовики, бронетранспортеры, штабные легковушки. Сколько мог окинуть взглядом Маркелов, все полнилось разнообразной военной техникой, которая перекрыла долину — танкоопасное направление. Но взор старшего лейтенанта был прикован только к танковым позициям, на которых затаились под маскировочными сетками огромные стальные махины неизвестного разведчику типа, которые по внешнему виду напоминали «тигры», но были повыше и пошире.
«Пушка, по-моему, та же, что и у «тигра», восемьдесят восемь миллиметров, — прикидывал в уме Маркелов. — Но пулеметов не три, а четыре. И один из них зенитный. Что-то новое…»
— Смотри, — передал бинокль старшине.
— Ого! — вырвалось у Татарчука. — Вот это дура…
— Чего там? — подполз и Кучмин.
— Таких еще видеть не приходилось. Держи, Степа, — Татарчук протянул бинокль Кучмину. — Полюбуйся, что фрицы нам приготовили. Сюрприз.
— Да-а, — протянул Кучмин. — Сюрприз… Может, мы с ними поближе познакомимся? — спросил он у Маркелова.
— Взять «языка»?
— А почему бы и нет? По крайней мере доложим в штаб по всей форме.
— Нельзя. Переполошим фрицев до крайности. Пересчитаем, пометим на карте — и будем срочно уходить. Нужно немедленно выйти на связь: сведения у нас теперь вполне достоверные.
— Как с остальными пунктами, где были обнаружены макеты? — спросил Татарчук.
— Теперь доложим все, как есть, все наши сомнения. И то, что гитлеровцы затеяли с нами крупную игру. Пусть в штабе делают соответствующие выводы. Но проверить весь наш маршрут мы обязаны.
Последним сквозь проход в проволочном заграждении полз Ласкин. Впереди мелькали стоптанными каблуками сапоги Пригоды, шитые по спецзаказу — богатырский размер Петра был далек от армейского стандарта. «Все…» — обрадованно вздохнул Ласкин, когда куски обрезанной проволоки осталась позади.
Неожиданно раздался полный ярости крик Пригоды:
— Тикайтэ! Фрицы! Ух!..
Звуки схватки вмиг разрушили хрупкую тишину; кто-то застонал, затрещали ветки кустарника, словно по ним прошелся ураган, где-то в лесу, недалеко от заграждений, раздались выстрелы.
Ласкин вскочил на ноги и рванулся к Пригоде. Откуда-то сбоку на него бросились сразу три эсэсовца. Ласкин с разворота полоснул по ним короткой очередью и, перескочив через одного из них, который свалился прямо под ноги, выбежал на прогалину, где ворочался клубок тел. Двумя ударами ножа Ласкин помог окровавленному Пригоде встать на четвереньки; взмахнув прикладом, Ласкин уложил еще одного гитлеровца, который попытался было завалить Пригоду обратно на землю.
И тут сильный удар в спину швырнул Ласкина в высокую траву. Тупая, всеобъемлющая боль парализовала все мышцы тела; Ласкин попытался закричать, но крик застрял в горле — ткнувшись головой в землю, Николай Ласкин завалился набок. Уже теряя сознание, он с невероятным усилием поднял автомат и выпустил последние патроны в группу немецких солдат, которые окружали прогалину…
Отступление 3. Ефрейтор Ласкин
Ласкин лежал на нарах, прислушиваясь к дыханию соседа, Кузьмы Ситникова. Судя по вздохам, тот тоже не спал, несмотря на то что было уже далеко за полночь.
— Крендель! Спишь? — не выдержал Ласкин.
— Умгу… — промычал Кузьма и заворочался.
— Слышь, Крендель, неужели правда?
— Ты о чем?
— А то ты не знаешь, — разозлился Ласкин. — Тебя тоже на беседу вызывали.
— Вызывали…
— Неужели на фронт пошлют?
— Еще как…
— И винтарь дадут?
— А то как же…
— И форму?
— Чего захотел…
— Обещали…
— Жди…
— Ты что, не веришь?
— В лагерной робе сподручней на тот свет шлепать.
— Да ну тебя!
Ласкин укрылся с головой и попытался уснуть. Но сон упрямо не приходил. Ласкин отшвырнул одеяло, покопался в кармане фуфайки, нашел окурок.
— Крендель, а Крендель!
— Ну…
— Неужто и срок скостят?
— У тебя срок — кот наплакал.
— Обещали всем.
— Слушай, Колян, пошел ты!..
Ситников тоже закурил. Затянулся несколько раз и уже поспокойней:
— Ты, это, не обижайся… У меня мать и сестренка в Питере… Фрицы бомбят… Плевать мне на срок, лишь бы на фронт отправили.
Утром после завтрака заключенных построили в колонну и вывели за ворота лагеря.
— Братва, гляди, без конвоя идем! — крикнул кто-то.
— Бежать надумал? — спросил Кузьма Ситников, оборачиваясь.
— Да вы что, кореша! Кто от свободы бежит?
— Ну и помолчи, шустрило…
Крикун умолк: тяжелую руку Кренделя уважали…
После бани выдали обмундирование.
— Гляди, Крендель, новенькое! — радовался Ласкин. — А ты говорил — в робе…
— Новенькое, новенькое, — ворчал по привычке Кузьма, а у самого глаза подозрительно заблестели. — Кх-кх, — притворно закашлялся, отворачиваясь.
— Когда оружие дадут? — спрашивал Ласкин у командира отделения.
— Что, не терпится? — посмеивался сержант. — Дадут, не сумлевайся…
После очередных стрельбищ — вновь сформированные роты перед отправкой на передовую обучали всего неделю — на большее не позволяла фронтовая обстановка под Ораниенбаумом, куда их должны были направить), осенним, промозглым вечером их роту отправили на передовую. Ночью они уже были в расположении 48-й стрелковой дивизии, где вновь прибывших провели в траншеи.
Спать на сырой земле было жестковато и холодно; некоторые помянули даже добрым словом лагерные нары — под крышей все-таки, — но выбирать не приходилось. Утешились фронтовой нормой спиртного — всем выдали по сто граммов водки, которую загрызли сухарями; с тем и уснули.
С рассветом опять зарядил нудный, осенний дождь.
— Бр-р… — Ласкина бил озноб, он запрыгал, пытаясь согреться. — Слышь, Кузьма, давай глянем на фрица, — и полез на бруствер траншеи.
— Дурак, — прокомментировал тот выходку Ласкина. — Слазь, а то шлепнут, как младенца.
— Ну, ты скажешь… — засмеялся Ласкин. — Они сейчас кофий пьют. И нам не мешало бы подбросить чего-нибудь вовнутрь, да посущественней.
— Балаболка… — проворчал в ответ Кузьма.
Примеру Ласкина последовали еще несколько солдат из пополнения. Неожиданно дробно застучал немецкий пулемет, бойцы посыпались обратно в траншею. Некоторые были ранены — послышались стоны и злая ругань.
Ласкину повезло: он только ушиб колено и расцарапал в кровь лицо.
— Схлопотал? — едко спросил Кузьма. — Специально ради вас, придурков, фрицы завтрак отложили. И не боятся, что кофий остынет.
— Ну, паразиты! — взъярился Ласкин, передернул затвор и принялся стрелять в сторону немцев.
Выстрелы затрещали по всей траншее — обозленные донельзя таким «горячим» приемом со стороны гитлеровцев, вновь прибывшие не жалели патронов. Ответили и немцы: возле траншеи начали рваться мины. Перестрелка разгоралась все больше и больше. Гитлеровцы встревожились не на шутку — обычно в условиях обороны передний край безмолвен, за исключением редких одиночных выстрелов или пулеметных очередей, выпущенных в основном для острастки, а тут такая пальба.
Вдруг из немецких траншей выскочили автоматчики и бросились вперед; за считанные минуты они преодолели нейтральную полосу и обрушились на опешивших новобранцев…
Ласкин опомнился только во второй траншее.
— Как же так, а, Кузьма? — растерянно спрашивал он Ситникова, который, прислонившись спиной к стенке траншеи, жадно дышал открытым ртом.
— Ну, что ты молчишь?! Стыдно… — Ласкин закрыл лицо руками и медленно опустился на дно траншеи.
— Стыдно… — кивнул головой Кузьма. — И вещмешки с НЗ фрицам подарили.
— Вещмешки, говоришь? — вскочил Ласкин. — Жалко стало? Эх! Нам поверили, а мы… Как зайцы…
Неожиданно Ласкин вскарабкался на бруствер и закричал:
— Братва! Бей фашистскую сволочь! Ура-а!
Кузьма, не раздумывая, выскочил из траншеи и побежал вслед за Ласкиным. Крики «ура», яростный свист всколыхнули передовую — пополнение в едином порыве устремилось на немцев. В траншее закипел рукопашный бой.
Ласкин вцепился мертвой хваткой в горло здоровенному детине и, рыча от злости, катался по дну траншеи. Кузьма орудовал штыком, как вилами на сенокосной страде. Но вот автоматной очередью раздробило приклад винтовки, и он, отбросив изуродованное оружие, пустил в ход свои здоровенные кулаки. Немецкий унтер-офицер подскочил к Ласкину, который уже оседлал обессилевшего противника, и взмахнул ножом, но ударить не успел — кулак Кузьмы попал ему в челюсть, и гитлеровец как подкошенный рухнул на землю.
— Крендель, век буду помнить! — Ласкин подхватился и бросился под ноги еще одному немцу, который пытался вскарабкаться на бруствер.
Повалил и, словно ветряная мельница, заработал кулаками.
— Вот тебе — дранг! Вот тебе — нах! Вот тебе — остен! Получи! Мать твою…
Уцелевшие после контратаки пополнения немцы бежали без оглядки. Возбужденные, радостные бойцы окружили пятерых пленных, которые, затравленно глядя на них, сбились в кучу, словно овцы на бойне.
«А я его как!.. А он меня… Нет, думаю, шалишь!»; «Ну, я его штыком…»; «Вот присветил, паразит, небо с копейку показалось»; «Ха! У тебя что. Меня под дых как двинул, думал, кони брошу. Хорошо вцепился за… Ох, и завертелся он!»; «За что схватил? Ха-ха-ха!» — шутки, смех, бравада и горечь первых утрат…
В начале ноября роту, в которой служили Ласкин и Ситников, перебросили на другой участок фронта — шла подготовка к расширению плацдарма возле поселка Невская Дубравка.
По Черной речке шла шуга.
— Пошевеливайся! Быстрее, быстрее! — поторапливал ротный.
Красноармейцы с опаской ощупывали посеченные осколками борта шлюпки, кое-где пробитые навылет; сквозь пробоины, законопаченные тряпками и деревянными пробками, сочилась забортная вода.
— Поше-ел!
Тяжело нагруженная шлюпка вильнула в сторону, накренилась, но тут же выровнялась; зашлепали весла и вскоре, обогнув последний поворот притока, она вошла в Неву.
Густой серый дым висел над рекой. Ласкин закашлялся, ругнулся.
— Ничего, — подбодрил бойцов командир отделения. — Стерпится, зато фриц нас не видит. Взвод химзащиты старается, дымовую завесу поставили.
Где-то рядом разорвался снаряд, другой; шлюпку качнуло, кто-то охнул — угодило осколком.
— Головы, головы пониже! — скомандовал командир отделения.
Добрались благополучно. Попрыгали в воду и побрели к берегу. Сушиться было некогда — рота пошла в бой…
Ласкин с Кузьмой лежали в большой воронке от авиабомбы. Первая атака захлебнулась, бойцы откатились на исходный рубеж. Ласкин и Ситников, которые оторвались далеко вперед, возвратиться не успели — немцы ударили из минометов, и шквал осколков забушевал над полем боя.
Они лежали метрах в двадцати от немецких траншей. Оттуда, не переставая, строчил пулемет.
— Заткнуть бы ему глотку… — скрипнул Ласкин зубами.
— Попробуй… — Кузьма хмуро уставился в небо. — Закурить бы…
— Кому что… — с досадой посмотрел на товарища Ласкин.
— Не петушись, Колян, — Ситников вздохнул. — Умирать зря не хочется.
— Он сколько наших людей положил, а ты умирать… — Ласкин вытащил гранату.
— Постой, — придержал его за рукав Кузьма. — Как в атаку пойдут, тогда.
— Ладно, — поколебавшись, согласился Ласкин.
Рота пошла в очередную атаку. Пулемет, казалось, захлебывался от злости. Ласкин выметнулся из воронки и что было силы рванулся к пулеметному гнезду; пулеметчик заметил его, но на какую-то долю секунды замешкался от неожиданности: взмах руки — и граната легла точно в цель. Не останавливаясь, даже не пригибаясь к земле, Ласкин в несколько прыжков добежал до траншеи и свалился на голову немецкому солдату; следом за ним, сверкая белками глаз, прыгнул и Кузьма.
— А-а-а! — кричал в исступлении Кузьма, орудуя ножом.
Ласкин, побежав по траншее, настиг еще одного солдата, ударил штыком. Из-за поворота траншеи выглянул немецкий офицер, точно рассчитанным движением бросил Ласкину под ноги гранату и скрылся. Ласкин, не раздумывая, метнулся за ним; едва он забежал за поворот, как коротко ухнул взрыв. Дрожащей рукой Ласкин смахнул пот с лица. «Цел…» — обрадовался. Офицер шарахнулся в сторону и побежал по траншее. Ласкин вскинул винтовку, нажал на спусковой крючок; затвор сухо щелкнул, привычной отдачи не последовало — магазин был пуст. «Уйдет!» — испугался Ласкин. Рванул из-за пояса нож и коротким быстрым движением метнул его вслед гитлеровцу. Тот как-то нелепо взмахнул руками, сделал еще несколько шагов вперед и, цепляясь за стенки траншеи, медленно сполз вниз…
Через неделю Ласкин был тяжело ранен в бою, и его отправили в тыл. В госпитале, где он получил первую свою награду — медаль «За отвагу», Ласкин провалялся до весны. В начале марта он прибыл с очередным пополнением в 117-й стрелковый полк, где вскоре был зачислен в полковую разведку.
8. Полковник Дитрих
Маркелов застонал и открыл глаза. Темно, душно. Он лежал на какой-то площадке, которая, громыхая, перемещалась в пространстве; расслышав шум мотора, старший лейтенант сообразил, что он находится в кузове грузовика. Придерживаясь за борт, поднялся, сел. Ощупал голову, которая раскалывалась от боли: волосы слиплись, на темени торчала огромная шишка. Вспомнил все и от отчаяния едва не закричал — плен! Выругался вполголоса — полегчало. Где же ребята? Что с ними?
Встал на четвереньки, начал обследовать кузов. Только в углу запасное колесо и канистра; стенки, обитые жестью, крыша над головой, дверь на замке — фургон. Пнул несколько раз ногой в дверь, но она даже не шелохнулась. Возвратился к канистре, открыл ее, понюхал — пахнет бензином. Отставил в сторону. Но жажда была нестерпимой, и Алексей снова бессознательно потянул канистру к себе; отхлебнул маленький глоток и обрадовался безмерно — вода! Стоялая, с сильным запахом бензина, но все же вода. Пил долго, жадно, чувствуя, как с каждым глотком восстанавливаются силы. Плеснул воды в ладони, умыл лицо, смочил грудь и затылок. Головная боль постепенно ослабевала. Присел на запасное колесо, задумался…
Грузовик, скрежетнув тормозами, остановился; дверь фургона отворилась, и два эсэсовца грубо стащили Маркелова на землю. Его привезли в какой-то город: за высокой каменной стеной, окружающей вымощенный грубо отесанным камнем двор, виднелись в рассветной дымке красные черепичные крыши домов, а кое-где и их вторые этажи.
Осмотреться как следует Алексею не дали: последовала команда угрюмого фельдфебеля, и конвойные повели его в глубь двора, где стояло одноэтажное приземистое здание с зарешеченными окнами. Вошли внутрь, прошли через длинный коридор, в конце которого было несколько дверей, обитых черной кожей, не доходя до них, свернули налево. Еще десяток шагов — и эсэсовцы втолкнули Алексея в крохотную одиночную камеру, похожую на каменный мешок.
Металлическая койка на шарнирах была поднята к стене и закрыта на висячий замок, узкое, напоминающее бойницу дзота окошко, почти под потолком камеры, было забрано толстыми прутьями; присесть было не на что, кроме как на пол — мокрый, заплесневелый.
Через полчаса принесли завтрак — кружку води и небольшую краюху хлеба. А еще через час Алексея привели на первый допрос.
В комнате было светло, чисто и, несмотря на казенную мебель, даже уютно. За письменным столом сидел широкоплечий капитан с Железным рыцарским крестом на мундире и что-то писал. Не поднимая головы, показал на стул напротив. Алексей сел. Капитан молча продолжал писать.
Отворилась дверь, и кто-то вошел в комнату; капитан, словно подброшенный пружиной, вскочил на ноги.
— Хайль Гитлер! — вскинул руку.
— Хайль… — высокий костистый полковник подошел к капитану и подал ему руку. — Молодец, Генрих! Красивая работа. Здесь, я думаю, — полковник показал на грудь капитана, — кое-чего не хватает…
— Благодарю, господин полковник!
— Не за что. Достоин. Ну, а теперь к делу. Говорите по-немецки? — обратился полковник к Алексею.
Алексей молчал — решил не открывать, что знает немецкий язык.
— Ладно, будь по-вашему, — на чистейшем русском языке сказал полковник. — Русский язык не хуже любого другого. Ваша фамилия, звание, часть, где служили, с каким заданием направлены в наш тыл? Вопросы понятны? Если чересчур много, могу задавать по порядку. Ну, я слушаю, — полковник уселся в кресло, которое пододвинул ему капитан.
— Я не буду отвечать на вопросы.
— Почему? — полковник вынул сигару, прикурил; ароматный дым наполнил комнату. — Почему? — повторил он свой вопрос. — Вы считаете, что мы в полном неведении о цели вашего пребывания здесь? Ошибаетесь, лейтенант Маркелов.
Алексей почувствовал, как неожиданно заломило в висках, однако ни один мускул не дрогнул на его лице — он все так же спокойно смотрел на полковника.
— Завидная выдержка, Генрих, — показал полковник сигарой в сторону Маркелова.
— Сильный противник, — небрежно кивнул тот.
— Да, твоим молодцам досталось… Итак, господин Маркелов, — снова обратился полковник к Алексею, — мне все-таки хочется поговорить с вами доверительно, без ненужных эксцессов, которые в ходу у гестапо. А нам придется прибегнуть к его методам, если мы не найдем общего языка.
— Ну зачем же меня пугать, полковник Дитрих, — Алексей иронически улыбнулся. — Оказывается, разведчики вермахта почитывают наш «Боевой листок», интересуются нашим боевым опытом. Что ж, понятное стремление, у нас есть чем похвалиться.
Полковник Дитрих выпрямился в кресле, нахмурился, но тут же взял себя в руки и безмятежно посмотрел на Маркелова.
— О-о, мы, оказывается, знакомы. Похвально, молодой человек, очень похвально. Полковник Северилов может гордиться своими питомцами, — Дитрих поднялся, прошелся по комнате.
— Вот что, господин Маркелов, у меня есть к вам дельное предложение. Я не буду, как у вас в России говорят, наводить тень на плетень — мы оба разведчики и должны понимать друг друга с полуслова. Ваше задание нам известно, маршрут мы вам предложили свой, помимо вашей воли и тех координат, которые нанесли на карту в вашем штабе, дезинформация уже пошла в эфир и опровергнуть ее ни вы, ни кто-либо другой уже не в состоянии. Не могу не отдать должное вашей проницательности — мы не ожидали, что вы так скоро обнаружите подвох. И уж вовсе не могли представить себе подобный ход развития событий в дальнейшем. Тут вы нам преподали хороший урок. Только благодаря оперативности капитана Хольтица и опыту вашего покорного слуги удалось восстановить статус-кво. Не без потерь: на минах подорвался бронетранспортер, несколько мотоциклов, взорвался и грузовик, который вы бросили на дороге. Но они навели нас на след. Все было очень логично — вы обязаны были проверить разведданные, уж коль появились сомнения в их достоверности. А значит, нам оставалось только ждать вас… Так вот, по поводу предложения. Я хочу предложить вам жизнь. Да-да, жизнь и свободу. Это очень ценные человеческие категории, смею вас уверить, тем более когда впереди молодость, зрелость — как у вас. Что вы на это скажете?
— Предложить или продать?
— Ну зачем так утрировать. Даже если и продать, то, поверьте мне, за бесценок. Человеческая жизнь значительно дороже, тем более ваша.
— В чем смысл предложения?
— Это другой разговор! И он меня радует, — полковник Дитрих подвинул свое кресло к Алексею. — Поскольку за дезинформацию, которую вы передали в свой штаб, вас, если вы возвратитесь, по голове не погладят — расстрел обеспечен, вы это знаете — предлагаю продолжать работать на нас. Да, именно продолжать работать, как вы до этого и поступали, не подозревая об этом. В скором времени ожидается наступление русских, и поверьте моему опыту, на этот раз немецкая армия возьмет реванш за все свои неудачи. Мы дошли до Москвы, но оказались здесь. Так почему бы истории не повториться? Тем более что вермахт получил новое мощное оружие, которое способно склонить чашу весов военной удачи на сторону рейха.
— Я подумаю…
— Думайте. Жду вашего ответа, но не позднее четырех часов дня.
— Мне нужно видеть моих разведчиков. Они живы?
— Да. Хольтиц!
— Слушаю, господин полковник! — капитан вытянулся в струнку.
— Собери всех в одной камере.
После того как увели Маркелова, полковник Дитрих надолго задумался. Капитан Хольтиц почтительно молчал, внимательно наблюдая за выражением лица шефа.
— Вижу, Генрих, у тебя есть вопросы ко мне, — не меняя позы, тихо проронил Дитрих.
— Да, господин полковник.
— Ты хочешь спросить, поверил ли я этому русскому? Ах, Генрих… — полковник отрешенно посмотрел на Хольтица. — Кому дано понять душу славянина? Я знаю, тебе хотелось бы применить особые методы допроса, в надежде, что русский заговорит. Что он откроет тайну кода, и мы сможем провести радиоигру. Вздор, Генрих! Он не сказал пока ни да ни нет. Это обнадеживает. Значит, этот русский не фанатик — великолепно. Похоже, что он решил сыграть на нашем инструменте свою пьесу. Отлично! Дадим ему такую возможность.
— Но, господин полковник…
— Генрих, в данный момент нам он уже не нужен…
Заметив недоумение на лице Хольтица, полковник Дитрих снисходительно похлопал его по плечу.
— Настоящий контрразведчик должен всегда иметь в виду перспективу. Русская разведгруппа доложила в свой штаб все, что мы им разрешили увидеть. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы дезинформация сработала. Надобность в услугах русских разведчиков отпала, поскольку чересчур обильная информация и удивительная легкость, с которой ее добыли, могут насторожить полковника Северилова. То, что группа исчезла, не вызовет особого беспокойства: уже седьмая по счету и более удачливая — все-таки кое-что прояснилось. Теперь для нас вопрос состоит только в том, чтобы надежно закрыть линию фронта для других русских разведгрупп и подтвердить информацию лейтенанта Маркелова. А вот по поводу этих русских разведчиков… — полковник Дитрих прошелся по комнате. — Понимаешь, Генрих, после спецобработки мы получаем искалеченное тело, а нам нужно заполучить искалеченную душу славянина. Вернее, не искалеченную, а исправленную в нужном для нас аспекте. Вот это и есть перспектива.
— Простите, господин полковник, я не совсем понял: вы хотите их перевербовать?
— А почему бы и нет, Хольтиц? Война еще не закончена, и для нашей победы все средства хороши. Мы, к сожалению, практически не занимались подобной работой с фронтовой разведкой противника. Русский разведчик знал, что в плену его участь незавидна — допрос и расстрел. Поэтому выбор у него был, как видишь, не богат, и он дрался до последнего.
— А если Маркелов ответит отказом?
— Это ничего не изменит. Возможно, так и будет. Не будем особо огорчаться. Нужно терпеливо работать, Генрих, всего лишь. Одного-двух из них мы должны, если можно так выразиться, перевоспитать. Главное, посеять в их души надежду выжить, а уж всходы нужно будет лелеять заботливо и целенаправленно. Пашню мы подготовили — дезинформация отрезала им пути назад. Исправить положение невозможно, значит, необходимо искать выход. Вот мы им этот выход и предложим.
Полковник Дитрих надел фуражку и направился к двери.
— В шестнадцать я буду здесь, Хольтиц. Хорошо присматривайте за русскими. И пусть будут с ними, по возможности, вежливыми и предупредительными — это производит впечатление…
9. В плену
Капрал Виеру лежал на охапке прошлогодней соломы и предавался горестным размышлениям. Еще утром куда-то забрали Берческу, и настроение Георге оставляло желать лучшего. Из головы не выходила неверная Мэриука и ее муж, этот хромой слизняк Догару. Изредка Георге вспоминались подробности драки с немецкими солдатами, и тогда его губы кривила невеселая улыбка, которая сменялась хмурой озабоченностью: чем все это закончится? Немцы скоры на расправу…
Лязгнул засов, дверь камеры отворилась, и два эсэсовца небрежно швырнули на солому окровавленного человека. Когда охранник замкнул камеру, Георге подошел к новому узнику поближе и только теперь рассмотрел, что это русский солдат. Он был без сознания.
«Вот сволочи!» — зло обругав про себя эсэсовцев, Виеру подложил раненому под голову побольше соломы, осторожно повернул его набок и принялся искать место ранения. Нашел с трудом — гимнастерка и нательная рубаха были заскорузлыми от засохшей крови и висели лохмотьями. С удовлетворением отметив, что пули прошли навылет и, по его разумению, не должны были зацепить жизненно важные органы, Георге тем не менее озабоченно нахмурился — видимо, русский потерял слишком много крови.
Не мешкая, он снял свое белье, порвал его на бинты, как сумел, промыл водой тело вокруг ран и хорошо перебинтовал спину и грудь русского солдата. Тот не приходил в себя. Георге приложил ухо к груди раненого, прислушался; русский дышал тяжело, сердце стучало сильно и гулко.
«Доктор нужен, — тревожился Георге, прикладывая мокрую тряпицу к голове русского. — Лихорадит…»
Виеру решительно направился к двери камеры и принялся стучать кулаками в почерневшие от времени дубовые доски.
— Тебе чего?! — рявкнул сквозь зарешеченное окошко в двери охранник.
— Доктора позови! Умрет человек.
— Пусть сдыхает, это не мое дело! А тебе советую больше не стучать, паршивец, иначе… — охранник недоговорил, но выражение его лица было красноречивым.
— Сам ты!.. — ощетинился Георге, сжимая кулаки.
Немец в ярости рванул засов, но благоразумие взяло верх: с силой закрыв окошко и бормоча себе под нос угрозы, он удалился.
— Во-ды… — прошептал, не открывая глаз, русский солдат. — Пи-ить…
— Что? — обрадованно подскочил к нему Георге. — Чего ты хочешь?
Сообразив, что по-русски он знает только несколько слов из солдатского разговорника — «Рюки вэрих», «Цтой», «Зидавариси плэн», «Биуду стрэлиц», — Георге в отчаянии пытался угадать, что говорит русский.
— Во-ды… Во… А-а-а… — застонал русский.
«Может, воды?» — бросился Виеру к бачку возле двери, нацедил полную кружку и, осторожно приподнялся понемногу вливать воду в запекшиеся губы. Русский глотнул раз, другой, затем жадно припал кружке и осушил ее до дна; бессильно откинувшись на солому, он некоторое время лежал неподвижно, словно собираясь с силами, потом открыл глаза и посмотрел на обрадованного Георге.
— Где… я? — слова прошелестели, как легкое дуновение ветерка.
— Я солдат! — ударил себя в грудь Георге. — Понимаешь, солдат. Румын я! Георге Виеру.
— Что… со мной?
— Я Георге Виеру, румынский солдат! Ру-мы-ни-я, — по слогам выговорил Георге.
— Румын… — наконец понял раненый и в изнеможении закрыл глаза. — Плен…
На этот раз и Георге понял, что сказал русский, но свою радость по этому поводу выражать не стал — молча присел рядом с ним и тяжело вздохнул…
Перед обедом звякнуло окошко, и в нем показалось лицо какого-то офицера, судя по фуражке: Георге сделал вид, что не заметил его — закрыл глаза и притворился спящим.
— Господин капитан, здесь румынский капрал, — голос мордатого охранника.
— В другую камеру, — приказал офицер.
— Некуда, — заупрямился охранник. — Полчаса назад получили новую партию, все забито под завязку.
— Ладно, черт с ними, — выругался офицер. — Здесь места всем хватит. Русские, румыны — все равно…
Когда за Алексеем захлопнулась дверь камеры, его тут же сжали в объятиях.
— Живой!! — Татарчук, несмотря на синие круги под глазами и засохший порез на щеке, засиял как новая копейка. — Живой… — гладил Маркелова, словно маленького ребенка.
— От бисови очи… — ворчал похожий на оборванца Пригода, смахивая украдкой счастливую слезу.
Степан Кучмин молча ткнулся лицом в грудь Маркелова и отошел в глубь камеры.
— Колян… плох, — негромко молвил, не глядя на старшего лейтенанта.
Ласкин, успокоенный присутствием товарищей, лежал в полузабытье, изредка постанывая.
— Ласкин, ты меня слышишь? — склонился над ним Маркелов.
Ласкин открыл глаза, затуманенные болью, и, увидев Алексея, попытался улыбнуться.
— Ко-ман-дир… — прошептал с трудом и снова прикрыл веки.
Маркелов стиснул зубы и отвернулся; на глаза ему попался Георге, который скромно примостился в углу камеры.
— А это кто? — спросил у Татарчука.
— Капрал румынский.
— Подсадка? — шепнул старшине на ухо Маркелов.
— Не похоже. С какой стати?
— А вот с какой… — старший лейтенант отошел в другой конец камеры. — Идите сюда, — и рассказал разведчикам о предложении полковника Дитриха.
— Вот фашистская морда! — Татарчук даже задохнулся от ненависти. — За кого нас принимает…
— Что теперь? — пытливо посмотрел на Маркелова Степан.
— Поэтому и хотелось вас всех увидеть. Может, в последний раз…
— Э-э, нет, командир, — Татарчук упрямо тряхнул головой. — Рано хоронишь и себя, и нас. Подумаем.
— Тут и думать нечего… — Кучмин оглянулся на Георге, который прислушивался к их разговору. — Слушает. Эй, парень! Подойди сюда.
— Не понимаю, — растерянно развел руками Георге. — Только по-немецки.
— Что он говорит? — поинтересовался Татарчук.
— Я разбираюсь в румынском так же, как и ты, — ответил ему Кучмин. — Может, знает немецкий язык?
— Поговори с ним, — поколебавшись, сказал Маркелов, решив, что терять уже все равно нечего.
— Подойди сюда, капрал, — позвал Степан Виеру еще раз, уже по-немецки.
— О-о! Как хорошо! — обрадовался тот. — Господин знает немецкий!
— Какой я тебе господин! — возмутился Степан. — Господа нас в эту камеру посадили. Расскажи нам, кто ты и как сюда попал?
Пока Георге сбивчиво рассказывал о своих злоключениях, Маркелов, глядя на его открытое, довольно симпатичное лицо, пытался уловить в голосе хотя бы одну фальшивую нотку, но тщетно — судя по всему, капрал говорил правду.
«Впрочем, что из того? Будь он даже трижды шпик, — думал Алексей, — в нашем положении это безразлично».
— Нужно попытаться, командир… — горячо зашептал Татарчук. — Последний шанс…
— А Ласкин? — спросил его Маркелов.
Старшина потупился, безнадежно махнул рукой и отошел в сторону.
— От того, как мы умрем вместе с Коляном, — сурово глядя на Маркелова, сказал Кучмин, — пользы для общего дела никакой. Мало того, что мы влипли по уши, мы еще и своих подвели. Вот про что нужно думать в первую очередь. Кто-нибудь из нас обязан дойти к своим, даже если для этого потребуется жизнь остальных.
Георге видел, что русские что-то задумали. Неужели попытаются бежать? Немыслимо! Охрана, пулемет на вышке, возле ворот пост… Нет, нужно предупредить! Это верная смерть!
— Послушайте! — подскочил он к Кучмину. — У вас ничего не выйдет! — Георге скороговоркой выпалил свои соображения.
— Тихо! — зажал ему рот Степан. — Это тебя не касается. Сиди и молчи. Только спокойно, чтобы потом на нас не обижался.
Георге забился в угол, наблюдая за приготовлениями русских; его вдруг зазнобило от волнения.
Степан сильно застучал в дверь.
— Откройте! Сюда! Быстрее! — кричал он по-немецки.
— Кто кричал? — все тот же толстомордый охранник заглядывал в окошко.
— Умирает! Доктора! — вопил Степан, показывая на Пригоду, который лежал на полу неподвижный, подкатив глаза под лоб.
Охранник уже хотел послать этих русских к чертям собачьим, но вовремя вспомнил строгий наказ капитана Хольтица как следует вести себя с ними и сломя голову помчался звонить в тюремный лазарет. Доктора, как всегда, на месте не оказалось, и взмыленный охранник, прихватив еще двоих солдат на подмогу, направился в камеру, чтобы забрать оттуда «умирающего» и отправить в лазарет — подальше от греха, пусть с ним там разбираются, а ему лишние неприятности по службе ни к чему.
Солдаты, подхватив Пригоду под руки, поволокли его из камеры; толстомордый охранник в это время держал остальных под дулом автомата. Когда дверь закрылась и засов, звякнув, встал на место, охранник поставил автомат на предохранитель, нашел ключ на связке — и услышал сзади приглушенные стоны и звук падения чего-то тяжелого. Он резко обернулся. Солдаты лежали на полу, а русский был уже в двух шагах от него. Охранник попытался вскинуть автомат, но тяжелый удар швырнул его на стену…
Отступление 4. Старший сержант Пригода
Новобранцы запрудили перрон небольшой станции. На запасных путях пыхтел паровоз, собирая все мало-мальски пригодные под погрузку вагоны; захрипший военком в последний раз проверял списки, тревожно посматривая на небо. Черный густой дым выползал из-за горизонта, надвигаясь на станцию, — горели хлеба. На западе, где-то в районе села Камышовки, шел бой.
— Мамо, идить до дому, — упрашивал Петро Пригода свою мать. — Бо стриляють…
— Ой, моя дытыночка-о… — беззвучно плакала она, цепляясь за пиджак сына сухими руками.
Пригода, смущаясь, прикрывал мать от новобранцев своей широкой спиной и уже в который раз уводил ее с перрона в чахлый скверик, мимо которого шла дорога в их село.
— Мамо, идить…
Мать покорно соглашалась, скорбно кивая головой, но стоило Петру направиться к перрону, она снова шла за ним…
Наконец подали вагоны. Толпа на перроне заволновалась, зашумела; женский плач заглушила на какой-то миг гармонь, но тут же на высокой ноте захлебнулась, жалобно вздохнув мехами.
«Юнкерсы» свалились на станцию внезапно: на малой высоте прошли вдоль железнодорожного полотна и, сделав горку, стали набирать высоту. Бомбы посыпались на состав, на станционные постройки, несколько бомб ухнуло в скверике.
— Возду-ух! — чей-то отчаянный крик растворился в грохоте взрывов.
Петро Пригода, крепко сжав руку матери, бежал к неширокой полоске посадки, которая тянулась вдоль дороги; «юнкерсы» пошли на второй заход…
Пулеметная очередь настигла Пригоду уже около посадки: пули взрыхлили землю под ногами, и Петро с размаху рухнул в жесткую, выгоревшую на солнце траву. Прикрыв голову руками, он долго лежал неподвижно, с неожиданно проснувшимся страхом прислушиваясь к удаляющемуся реву самолетных моторов.
Станция горела. Паровоз лежал возле насыпи, окутанный облаками пара, железнодорожная колея вздыбилась вывороченными рельсами, на месте небольшого вокзальчика кружила пыльная пелена, сквозь которую изредка проблескивали языки пламени.
— Мамо, мамо, вставайте! — Пригода тормошил мать, которая лежал как-то неловко, на боку.
А на цветастой кофточке расплывалось ярко-красное пятно…
Мать похоронили на следующий день после обеда. Почерневший от горя Петро сам выкопал могилку, сам сколотил гроб из досок, которые готовил на новую хату. Дед Макар почти силком увел его с кладбища поздним вечером; ночь Пригода провел без сна, а на утро стал собирать вещмешок. Но уйти не успел — село заняли немцы. Правда, долго в селе они не задержались: обшарив хату и курятники, гитлеровцы поспешили на восток. Петро отсиделся в погребе, куда его запихнул дед Макар, — подальше от греха, как бы чего не вышло…
Через две недели в селе разместился штаб немецкого пехотного полка. Хату Макара Пригоды, которая стояла на краю села, возле речки, немцы обходили стороной — еще дореволюционной постройки, она почти по окна влезла в землю, издали напоминая своим видом старый, трухлявый гриб-боровик с соломенной шляпкой. Петро по-прежнему отсиживался взаперти, но уже не в погребе, а в сарае, в хорошо оборудованном и замаскированном подполье времен гражданской войны. Вместе с дедом Макаром Петро очистил его от старого хлама, перетащил туда зерно, картошку и сало, а также старую отцовскую берданку.
Однажды Петро, не выдержав своего добровольного заточения, решил сходить проверить удочки-донки, которые дед Макар ставил с вечера за огородами на берегу реки. Радуясь свежему воздуху и богатому улову, Петро не заметил, как взошло солнце. Торопливо вытащив плетенный из ивовых прутьев садок, он уже было направился домой, как к противоположному берегу подъехала повозка, запряженная парой немецких гунтеров, и два солдата, раздевшись догола, бултыхнулись в воду.
Затаившись в кустах, Петро некоторое время наблюдал за ними, затем, решившись, снял рубаху, брюки и, набрав побольше воздуха, нырнул.
Немец ушел под воду беззвучно. Когда Пригода вынырнул в лозняке, второй солдат бегал по берегу и орал что было мочи, нелепо жестикулируя. Схватив одежду и садок с рыбой, Петр, не одеваясь, побежал через заросли домой.
Внезапная смерть солдата подозрений не вызвала: видимо, немцы решили, что просто утонул. Два дня его искали, а потом махнули рукой — река в этом месте была глубокая, изобиловала водоворотами, и тело, судя по всему, затащило под какую-нибудь корягу.
А через несколько дней после этих событий Пригода, прихватив берданку, ушел к мосту в шести километрах выше по течению.
Мост был новый, добротный, построенный за год до начала войны. При отступлении взорвать его не успели — немцы выбросили парашютный десант. Теперь мост охранял взвод немецкой пехоты. Но поскольку линия фронта была уже далеко, а хутор рядом, немецкие солдаты, радуясь передышке, сутками бражничали, оставляя наряд на мосту в количестве двух-трех человек.
Пригода влез на старую раскидистую вербу возле берега и, затаившись среди ветвей, просидел до полудня, наблюдая за мостом. Солдаты охраны удили рыбу; изредка кто-нибудь из них поднимался на мост и, прогулявшись туда-обратно, возвращался на берег к своей удочке.
Повздыхав — близок локоть, да не укусишь, — Пригода слез с вербы и лесными зарослями пошел к Ореховой балке…
Одноконная повозка вынырнула из-за поворота неожиданно. Старая тощая кляча, понуро склонив морду к земле, еле плелась; возчик, конопатый, широколицый полицейский, привязав вожжи к передку телеги, подремывал, обнимая винтовку, а сзади, развалившись на охапке сена, полулежал немецкий солдат.
У Петра задрожали руки, когда он вскинул берданку к плечу. Прикусив до крови губу, Пригода набрал полные легкие воздуха и, мысленно утешив себя, что с такого близкого расстояния промахнуться невозможно, нажал на спусковой крючок.
Грохот выстрела словно смел полицейского с телеги — вскинувшись, он рухнул под колеса; лошадь с испугу всхрапнула и шарахнулась в орешник. «Попал!», — радуясь удаче, выскочил Петро из своей засады; мельком взглянув на солдата, который хрипел, отплевываясь кровью, Пригода в два прыжка настиг полицейского, который, скуля, пытался уползти в кусты, и с разбегу опустил ему на голову приклад берданки…
Телегу Пригода сбросил в Чертов Яр, километрах в четырех от Ореховой балки; туда же отправил и трупы, присыпав сверху глиной и сушняком. Клячу выпряг и верхом доехал до болота, где и оставил ее на одном из островков среди топи, куда дорогу знали только он и дед Макар.
Возвратился домой Пригода под утро. Дед Макар только крякнул, увидев трофеи внука — автомат, винтовку и две гранаты; молча обнял его и, ткнувшись колючей щетиной в щеку Петра, поспешил в хату. Принес чугунок варенной в «мундире» картошки, нарезал сала и, покопавшись в углу подпола, вытащил бутылку самогонки. Выпили молча. Дед закусил табачным дымком самокрутки, а внук приналег на еду. Когда рассвело, дед Макар надел рваную фуфайку, взял в руки клюку и пошел в село. На немой вопрос Петра коротко ответил:
— Та пиду, розвидаю…
Вернулся довольный и повеселевший. Оказалось, что немецкий штаб откочевал поближе к линии фронта, и в селе осталась только ортскомендатура, а при ней лейтенант, три немецких солдата и несколько полицейских.
— Баба з возу, кобыли лэгшэ… — так прокомментировал это событие дед.
Про случай в Ореховой балке пока никто ничего не знал…
Мост не давал Петру покоя. Он уже несколько раз пробирался к заветной вербе, подолгу присматриваясь к движению на дороге, которое осенью заметно усилилось. И охрана моста стала понадежнее: немцы опутали берега колючей проволокой, построили пулеметный дзот и вышку, на которой постоянно дежурил часовой, осматривая в бинокль окрестности.
Попробовал было Пригода еще раз сунуться в Ореховую балку, да едва ноги унес, наткнувшись на немецкий патруль, — ушел через болото.
Немцы явно осторожничали. Беззаботность первых дней войны уступила место угрюмой сосредоточенности, злости. В селе свирепствовал ортскомендант, его подручные денно и нощно рыскали по дворам в поисках продуктов для армии фюрера. Раза два заходили и к деду Макару, но у того, кроме двух ведер картошки и последней курицы, ничего найти не удалось.
Как-то Петр поделился своими мыслями по поводу моста с дедом. Тот покряхтел, закурил, чуток подумал, а затем хитро подмигнул внуку и потащил его за собой.
За сельским выгоном, в зарослях терновника, дед отыскал кучу взрыхленной земли, над которой возвышался стабилизатор неразорвавшейся авиабомбы. Молодой Пригода пощупал холодный металл и с сожалением взглянул на деда Макара — то ли тот не понял его замысла, то ли того… на старости лет. Но дед, сняв ватную безрукавку, с которой не расставался даже в жаркие летние дни, поплевал на ладони и принялся отбрасывать землю в сторону предусмотрительно захваченной лопатой.
— Диду, чы вам робыты ничого? — придержал Петр старика за рукав.
— От бисового батька сын! Вырис до нэба, а ума як у ции жылизякы… — и дед объяснил Петру, для каких целей сгодится авиабомба. — На, копай, — ткнул ему в руки лопату. — Може, боися?
— Та вы що, диду?! — Петро заработал с завидной сноровкой.
Взрыватель вывинчивал сам дед Макар, который в гражданскую служил артиллеристом; Петра, несмотря на его уговоры, дед отогнал подальше, в канаву; «Як нэ повэзэ, то прямо до бога за пазуху попаду, бо воно вжэ й пора…» Но все обошлось благополучно. Тщательно припрятав железную болванку со смертоносной начинкой, дед и внук поспешили домой…
Ночь выбрали потемней. Плот, на котором лежала привязанная авиабомба, отбуксировали поближе к мосту утлой лодчонкой. Дед Макар остался в камышах, а Петро, раздевшись, вошел в воду и, стараясь не шуметь, поплыл дальше, подталкивая плот, где лежали, кроме бомбы, связанные проволокой гранаты и моток веревки.
По мосту громыхали немецкие грузовики. Вода уже была по-осеннему холодной, и без плота Петру пришлось бы туго — тело закоченело, и руки повиновались с трудом. Под мостом течение оказалось особенно быстрым, и Пригода едва не упустил плот. Привязав его к свае, он обхватил ее ногами и некоторое время отдыхал; затем, еще раз проверив надежность креплений связки гранат, взял веревку, лег на спину и, отдавшись на волю течению, принялся торопливо распускать моток.
Когда его прибило к берегу, в руках оставалось не больше трех метров веревки — расчет оказался точным. «Ну, гады! — весь дрожа от нетерпения, Петро ждал, когда на мост вползет очередной грузовик. — За маму!!» — и изо всех сил потянул веревку, другой конец которой был привязан к кольцу предохранительной чеки гранаты.
Взрыв раскроил темноту огненным всплеском; центральная часть моста вместе с грузовиком рухнула в реку, деревянные щепки и осколки градом посыпались в воду и прибрежные заросли.
Лодка едва не опрокинулась, когда Петро в радостном возбуждении вскочил в нее.
— Ну?.. — дед Макар обхватил его за плечи.
— О! — показал Петро большой палец и усиленно заработал веслами, выгоняя лодку на быстрину.
А возле моста в это время шла беспорядочная пальба — ошеломленная взрывом охрана в панике поливала реку и лес свинцом.
Только дома при свете каганца дед Макар заметил, что Петро ранен — видимо, какой-то осколок задел ему плечо. Но что было внуку до этой царапины, когда в груди бушевала неуемная радость победы?!
Ранним утром в село нагрянула рота эсэсовцев. Всех взрослых жителей и детей согнали к школе. Забрали и деда Макара. Сквозь щели в двери сарая Петро видел, как немцы подталкивали прикладами старого Пригоду; где-то в центре села ударила автоматная очередь.
Не в силах больше справиться с волнением и недобрыми предчувствиями, Петро схватил автомат и что было мочи припустил через огороды к старой церквушке. Оттуда с колокольни была хорошо видна школа и скверик возле нее, где стояли сельчане в окружении эсэсовцев. На школьном крыльце расположились немецкие офицеры, среди которых был и ортскомендант; выслушав доклад одного из своих подчиненных, высокий офицер-эсэсовец небрежно махнул рукой и направился к броневику. Эсэсовцы стали загонять людей в школу. Когда последний человек переступил порог, дверь закрыли и заколотили досками.
Петро с недоумением и тревогой видел, как вокруг школы забегали солдаты, щедро поливая чем-то стены из канистр. Эсэсовцы окружили здание школы с автоматами наизготовку; они покуривали и посмеивались, о чем-то оживленно переговариваясь друг с другом.
«Будуть палыты школу!» — похолодел Петро, наконец понявший смысл странных приготовлений. «Як жэ так?! Нэлюды!» — на глаза навернулись слезы. И уже не владея собой, Пригода прицелился…
Звук орудийного выстрела разбросал оцепление в разные стороны; возле школы взметнулось пыльное облако взрыва, и через мгновение, протаранив высокий плетень, на дорогу выскочил танк. Второй выстрел был более удачным: броневик с офицерами вздыбился и загорелся. Стреляя на ходу из пулемета, танк промчался по улице, расшвыривая в стороны бронемашины эсэсовцев.
Петро в радостном изумлении видел, как бежали к центру села солдаты, изредка постреливая в сторону эсэсовцев из винтовок. Вдруг танк, как бы споткнувшись, дернулся и завертелся на месте — удачно брошенная граната легла точно под гусеницу. Возле сельсовета зачастил взахлеб немецкий пулемет; советские солдаты залегли. Затрещали автоматы немцев — эсэсовцы оправились от первого испуга. Пулемет бил короткими прицельными очередями не переставая. Ободренные мощной огневой поддержкой, эсэсовцы рассыпались по огородам и начали полукольцом охватывать немногочисленных наступавших. С колокольни Пригоде был хорошо виден пулеметный расчет возле сельсовета и все маневры гитлеровцев. Тщательно прицелившись, Петро длинной очередью уложил обоих эсэсовцев-пулеметчиков, а затем неторопливо, на выбор, принялся расстреливать тех, которые прятались за плетнями и в огородах. Обрадованные неожиданной помощью, советские пехотинцы с криком «Ура!» бросились в атаку; немцы дрогнули и побежали.
«Оцэ так! Оцэ добрэ!» — ликовал Петро, кубарем скатываясь по крутым ступенькам колокольни вниз — последний автоматный рожок опустел.
Подбежал к школе и принялся отдирать доски, которыми эсэсовцы заколотили входную дверь.
— Выходьтэ! Наши прыйшлы! — кричал Петро сельчанам. — Диду! Наши!
— Та бэз тэбэ бачу… — дед Макар стряхнул со щеки скупую старческую слезу, — Я ж казав, що гэрманець скоро драпать будэ. Слабо у них супроты вас…
Примерно через полчаса бой закончился. Эсэсовцев прижали к болоту, где они и нашли свой конец.
— Ну-ка, где этот герой? — седой майор подошел к Приходе, которого окружили солдаты. — Хорош. Богатырь! — майор крепко обнял и поцеловал Петра. — Построить полк! — приказал он капитану с рукой на перевязи.
Пригода стоял перед строем, не зная, куда деть руки; краска смущения залила щеки, он потупился, стараясь не смотреть на солдат.
— Товарищи! За проявленные в бою мужество и отвагу от имени командования выношу благодарность Пригоде Петру! — майор крепко пожал ему руку.
— Дякую, — тихо ответил Петро, но тут же спохватился и уже твердо отчеканил: — Служу Радянському Союзу!
— Хорошо начал службу, сынок… — улыбнулся майор. — Награды достоин. Прорвемся к своим, буду ходатайствовать…
После непродолжительного отдыха красноармейцы двинулись дальше. С ними уходил и Петро Пригода. Прощаясь с дедом Макаром, он неожиданно прослезился:
— Як жэ вы тут будэтэ?
— В лис пидемо, — дед Макар посуровел. — Щоб зэмля горила пид фрыцом…
10. Побег
— В камеру их, живо! — скомандовал Маркелов при виде трех неподвижных тел. — Переодеваемся!
Георге с восхищением смотрел на Пригоду, который сторожил у приоткрытой двери с автоматом в руках: вот это силища!
— Быстрее, быстрее! — поторапливал Маркелов. — Свяжите их покрепче, — показал в сторону все еще не пришедших в себя немцев. — Все готовы? Уходим!
— А я?! — вдруг опомнился Георге Виеру. — А меня?! Возьмите, товарищи… — перешел на немецкий язык.
— Парень, мы не на свадьбу идем, — Кучмин неодобрительно посмотрел на Георге. — Оставайся здесь. У тебя есть шанс дождаться конца воины. Не упускай его.
— Нет! Я… я их ненавижу! — запальчиво выкрикнул Георге. — Возьмите…
— Пусть идет, — коротко бросил Маркелов. — Некогда препираться. Похоже, парень хороший. Думаю, не помешает. За мной!
В караульном помещении был только один солдат, который сам с собой играл в шахматы; при виде разведчиков он безмолвно поднял руки и дал себя спеленать.
Пост у входа в бывшую казарму пехотного полка, переоборудованную гитлеровцами в тюрьму, тоже сняли без особого труда — в связи с ожидаемым наступлением советских войск больше половины охранников в срочном порядке отправили на передовую, и вместо положенных двух человек был один. Теперь уже все были в немецкой униформе, за исключением Пригоды, который с трудом напялил на себя только каску и мундир толстомордого охранника; с брюками получилась неувязка, не тот размер, пришлось щеголять в своих рваных.
Оставалось практически самое сложное и опасное препятствие на пути к свободе: пулеметная вышка возле забора, с которой хорошо просматривался казарменный плац, теперь тюремный двор.
— Командир, я пойду, — Татарчук решительно надвинул каску на лоб и шагнул к входной двери.
— А я подержу пулеметчика на прицеле, — рассудительный Кучмин сменил рожок и, передернув затвор, выжидающе посмотрел на Маркелова.
— Идите… — Алексей с сожалением вздохнул — без стрельбы вряд ли обойтись: очень не хотелось раньше времени тревожить осиный рой, ведь всего лишь в сотне метров от тюрьмы, как удалось узнать у захваченных немцев, казарма тюремной охраны. — И постарайся, старшина, поаккуратней.
— Я что, — сверкнул белозубой улыбкой Татарчук, — его, — кивнул головой в сторону пулеметчика на вышке, — попросить нужно, чтобы вел себя смирно. Пойдем, Степа.
— Стоп! — Маркелов прислушался. — Все назад!
К входу в здание тюрьмы подъехал «опель», за рулем легковушки сидел капитан Хольтиц. Прихватив с собой автомат, который лежал на заднем сиденье, он торопливо взбежал по ступенькам к двери, открыл ее и пошел по узкому тамбуру, который вел в коридор. Пригода выскочил из-за угла и сильным пинком отшвырнул Хольтица к Маркелову, который одной рукой вырвал у него автомат, а второй ударил в челюсть. Пригода подошел к поверженному Хольтицу и склонился над ним.
— Та цэ ж той самый часовый, ню за намы прыглядав! — с удивлением воскликнул он.
— Хорошая птичка к нам припрыгала, — Татарчук с удовлетворением смотрел на Хольтица, который уже пришел в себя. — Командир постарался…
— Капитан Хольтиц! — Маркелов при помощи Кучмина поставил немца на ноги. — Вы меня слышите?
— Д-да.. — выдавил тот из себя и, собравшись с силами, стал ровно, высоко вскинув голову.
— Где наша рация? Отвечайте!
Молчание.
— Отвечайте, Хольтиц, иначе придется вас ликвидировать.
Хольтиц пренебрежительно ухмыльнулся.
— Хольтиц, я говорю вполне серьезно. У нас нет времени. И иного выхода. Мы вам сохраним жизнь, если получим рацию. Где она?
— Не скажу! И плевать мне на ваши угрозы и посулы! Никто из вас отсюда не выйдет живым. Никто!
— Шлепнем гада, — Кучмин вытащил нож и взвесил его на ладони. — Видали мы таких гордецов…
Хольтиц, крепко стиснув зубы, отвернулся. «А ведь ничего не скажет, — думал Маркелов, глядя на него. — Жаль. Мог бы здорово нам помочь. Увы. Однако смелый.. Но что же делать?» Решение пришло неожиданно.
— Машина!
— Командир! — Татарчук понял его с полуслова. — Гениально!
— Придется позаимствовать вашу одежду, капитан Хольтиц… — с иронией глядя на побледневшее лицо немца, сказал Маркелов.
В «опеле» разместились с большим трудом; Ласкина бережно уложили на колени разведчиков, которые расположились на заднем сиденье вместе с Георге. За руль сел Кучмин, а рядом примостился Маркелов, переодетый в форму Хольтица.
Пулеметчик на вышке про себя подивился: этот капитан явно не в своем уме — так перегрузить машину… Сверху он хорошо видел знаки различия и Железный крест на груди капитана, а также солдат на заднем сиденье. Это обстоятельство немного озадачило пулеметчика: с какой стати офицер в штабной машине катает простых солдат? Но, немного поразмыслив, пришел к выводу, что господам офицерам из военной контрразведки (к счастью для наших разведчиков, он был осведомлен о личности Хольтица) виднее, кого нужно брать в свою машину и для каких целей. Проводив «опель» взглядом до поворота к воротам тюрьмы, пулеметчик, воровато посматривая по сторонам, принялся раскуривать сигарету — этот новый фельдфебель такая скотина, запрещает курить на посту; тоска смертная, хоть волком вой. Быстрее бы война заканчивалась…
«Опель», набирая скорость, катил по тюремному двору. Маркелов краем глаза наблюдал за пулеметчиком — заметит подмену или нет? Автомат лежал на коленях, дверка кабины была чуть приоткрыта — возможно, вопрос жизни и смерти будут решать доли секунды.
Наконец за поворотом показались массивные ворота. «Пронесло…» — на миг расслабился Маркелов, но тут же руки снова крепко сжали автомат — пост у ворот. Три охранника, сигнализация…
Не доезжая до ворот метров с полсотни, Кучмин просигналил. Из караулки выскочил солдат и, отодвинув засовы, принялся открывать тяжеленные створки; Кучмин убавил газ, выжал сцепление, и машина медленно покатилась по инерции. Из караульного помещения вышел второй немец, унтер-офицер; прикрикнув на солдата, он направился к «опелю». Взгляд его безразлично скользнул по лицу Кучмина и остановился на Маркелове; от изумления он застыл на месте, затем, опомнившись, схватился за оружие — п тут же зачастили автоматы разведчиков.
— Вперед! — крикнул Маркелов Кучмину.
Но тот и без понуканий уже включил скорость и дал полный газ.
«Опель» выскочил из тюремных ворот и помчал по узкой ухабистой дороге к окраине города. Сзади завыла сирена, словно спохватившись, залаял пулемет на вышке.
— Жми, Степа! — орал счастливый Татарчук.
Из-за поворота вынырнула легковушка, и машины едва не столкнулись; круто вывернув руль, Кучмин выскочил на тротуар, затем съехал опять на дорогу, и «опель», набирая скорость, устремился к уже близкому мосту через реку на окраине города.
Если бы разведчики знали, кто сидит в той автомашине! Полковник Дитрих посмотрел вслед лихачу и, взглянув на номер «опеля», вздрогнул — машина капитана Хольтица! Что бы это могло значить?
В этот полуденный час дорога была пустынна. Возле старого замшелого моста, который соединял два берега реки, из-за жары превратившейся в широкий ручей, стоял бронетранспортер. Водитель бронемашины уже одевался и поторапливал двоих солдат, которые с гоготом плескались в теплой, мутной воде.
— Командир! — у Татарчука при виде бронетранспортера загорелись глаза. — Сменим телегу, а?
Маркелов оглянулся назад — погони пока не было видно. И утвердительно кивнул головой.
Справиться с солдатами не составило особого труда: захваченные врасплох, они глупо таращились на офицера, который приказал их связать и запихнуть в кабину «опеля», что и было проделано с завидной быстротой и сноровкой.
— Вот это конь! — довольный сверх всякой меры, старшина постукивал по броне, гладил крупнокалиберный пулемет — вооружение бронемашины. — Я бы на нем до Берлина не отказался скакать…
Вскоре свернули по совету Георге Виеру, который хорошо знал эту местность, на одну из проселочных дорог. Погоня так и не появилась — то ли из-за растерянности охраны тюрьмы, то ли из-за отсутствия подходящего транспорта. Во всяком случае, разведчики благополучно добрались к лесу и, тщательно припрятав бронетранспортер — авось когда пригодится, — ушли в горы.
11. Монастырь
Прорваться сквозь плотное кольцо оцепления не удалось. Немцы пока еще не знали, где скрываются разведчики, но планомерно прочесывали окрестности города и подступы к их укрытию в горах, все туже затягивая петлю — чувствовалась железная хватка и опыт полковника Дитриха. Маркелов был в отчаянии: каким образом доставить разведданные в штаб фронта?!
Сопоставив сведения, которые им сообщил Георге Виеру, рассказав о причине заключения в тюрьму, о теми данными, которыми располагали разведчики, Маркелов уже ни капли не сомневался в масштабности и значимости игры, затеянной контрразведчиками вермахта, а также какую цель этим преследовали — скрыть сосредоточение крупных и хорошо оснащенных новейшей мощной техникой соединений на кишиневском направлении, где, судя по всему, гитлеровцы ждали наступления советских войск. И теперь, зная планы гитлеровского командования, старший лейтенант ломал голову над тем, как выбраться из западни, устроенной полковником Дитрихом, или, что еще более желательно, как раздобыть рацию.
— Командир! Сюда!
Крик Татарчука спутал мысли Маркелова; он соскочил с камня у входа в неглубокую пещеру, где расположились разведчики, и поспешил на зов.
— Что случилось?
— Колян… — Татарчук растерянно показал Алексею окровавленные ладони.
Маркелов бросился в глубь пещеры, где на ложе из веток и охапок травы лежал Ласкин. Ему уже полегчало стараниями Пригоды, который не забыл захватить из тюремной караулки аптечку, но передвигаться без посторонней помощи он не мог. Необычно было видеть улыбчивого, веселого Ласкина хмурым, неразговорчивым и каким-то отрешенным; ел он через силу и то, когда кормил его Пригода.
Возле Ласкина суетился Петро. Ругаясь крепкими словами, что было на него совсем не похоже, он быстро бинтовал Ласкину запястье левой руки.
— Пригода, что с ним?!
— Собачий сын!.. — продолжал ругаться Петро, не обращая внимания на старшего лейтенанта.
— Вены вскрыл, — объяснил Кучмин. — На левой руке. Хорошо, что вовремя заметили…
— Я його як малу дытыну!.. — бушевал но на шутку разгневанный Пригода.
Бледное лицо Ласкина было неподвижно, щеки провалились, резко обозначились скулы. Только острый кадык жил своей жизнью, бегая вверх-вниз по горлу, словно пытаясь расшевелить хозяина. И крупная слеза вдруг скатилась по щеке — робкая, беспомощная.
— Ласкин, ты меня слышишь? — спросил Маркелов.
— Да… — чуть шевельнулись губы Ласкина.
— Зачем ты это сделал?
Ласкин открыл глаза, посмотрел на Маркелова и тихо ответил:
— Оставьте меня… Уходите… Вы обязаны вернуться… к нашим. Не хочу быть… обузой… Я не боюсь смерти. Свою вину… перед Родиной… искупил… А вы… должны жить…
Ласкин потерял сознание.
Разведчики, угрюмые и сосредоточенные, окружили Маркелова.
— Попробуем сегодня, — Алексей старался не встречаться с ними взглядом. — В последний раз… Завтра может быть поздно.
— В каком направлении пойдем? — спросил Кучмин.
— Еще не знаю. Мы пытались, где только возможно…
— Нет, не везде.
— Что ты имеешь в виду? — в недоумении спросил Маркелов Кучмина.
— Город. Там нас не должны ждать. А если проскочим незаметно, то искать в той стороне и вовсе не будут.
— Постой, постой, — Алексей старался вспомнить что-то очень важное. — Адрес! — хлопнул себя ладонью по лбу. — Северилов дал явку в этом городе! Решено — идем в город!
— А патрули и сторожевые посты? — отозвался Татарчук. — Если не сумеем пройти тихо, из города нам уже не выбраться.
— Хорошо бы знать пароль, — вздохнул Кучмин. — Или какие документы иметь…
— Это идея, — Маркелов посветлел. — Попытаемся…
Бронетранспортер был в целости и сохранности. К нему добрались незамеченными — и впрямь со стороны города оцепление было жидковатым и состояло из румынских солдат-новобранцев, как определил Георге Виеру.
Ехали по проселочным дорогам на малом газу, не включая фар; впередсмотрящим, как всегда, был Пригода со своим кошачьим зрением. Возле шоссейной дороги, которая вела в город, устроили засаду. Уже упала утренняя роса, когда вдали показался огонек одинокой фары. Сомнений не оставалось — мотоцикл. Пригода и Кучмин перескочили на другую сторону шоссейной дороги, по ходу разматывая небольшую бухту тонкого телефонного кабеля, который нашли в бронетранспортере; Татарчук и Маркелов, в свою очередь, подошли поближе к дороге и распластались на поросших травой откосах. Мотоцикл приближался. Водитель мотоцикла прибавлял газу — темень но сторонам пугала, несмотря на то что здесь глубокий тыл; дорога, как назло, была совершенно пустынна, только далеко впереди, на перевале, успокаивающе мигали многочисленные светлячки — видимо, шла большая автоколонна. Офицер, который сидел в коляске, почувствовал состояние солдата: очнувшись от полудремы, покрепче прижал к телу сумку с документами и насторожился.
Разведчики вскочили на ноги одновременно; красная полоска кабеля перечеркнула световой конус, водитель мотоцикла каким-то чудом успел рассмотреть ее и даже попытался среагировать, пригнувшись к рулю, но все было рассчитано точно — чудовищная сила подхватила солдата и швырнула на землю. Мотоцикл вильнул, скатился на обочину и перевернулся.
— Зажигание! — Маркелов ринулся к офицеру, который вылетел из коляски не на дорожную твердь, а кувыркнулся по рыхлому травянистому откосу и уже пытался подняться на ноги; опрокинуть его на землю и связать руки было делом нескольких секунд.
Татарчук тем временем заглушил мотор мотоцикла и поспешил к Пригоде и Кучмину.
— Готов, — Степан не без сожаления пытался рассмотреть «шмайсер» солдата-водителя, стараясь определить степень пригодности после сильного удара о землю.
Солдат был бездыханный, пульс не прощупывался.
— С дороги! — скомандовал Маркелов, тревожно посматривая на приближающуюся автоколонну.
Когда первые грузовики автоколонны прошли мимо разведчиков, о недавних событиях могло рассказать только небольшое пятнышко крови на дорожном покрытии, которое было почти незаметным; впрочем, при свете фар внимательному наблюдателю оно казалось каплей масла…
Пленник оказался офицером связи, курьером, и толку от него было мало, поскольку прибыл в группу армий «Южная Украина» всего неделю назад из госпиталя (правда, пароль все-таки сообщил, чем здорово всех порадовал), но бумаги, которые он вез, оказались весьма ценными, что не преминул отметить Маркелов, рассматривая их при свете фонарика, пока бронетранспортер катил в сторону города.
На первый взгляд неискушенного человека ценность интендантских разнарядок на продовольствие, которые лежали в сумке курьера, была весьма сомнительна. Но ведь там был и расчет недельного запаса продуктов для группы армий, а зная суточную потребность в них, довольно просто подсчитать численность войск, так как солдатские нормы были хорошо известны в штабе фронта.
Вплоть до самого города, на радость разведчикам, сторожевых постов не оказалось. Маркелов уже было облегченно вздохнул, когда миновали пустынный перекресток — пронесло, уж где-где, а здесь место для поста в самый раз — но на спуске к старому знакомому мосту, возле которого они позаимствовали у гитлеровцев бронетранспортер, сердце у старшего лейтенанта екнуло: мост был перегорожен шлагбаумом, возле которого на обочине стояла караульная будка и два мотоцикла.
— Фельджандармы… — при виде часовых у моста тяжело вздохнул Татарчук — у этих нюх собачий и хватка бульдожья, без драки вряд ли обойдется.
Степан Кучмин поправил пулеметную ленту и попробовал турель; довольно хмыкнул и поймал в прицельную рамку рослого фельдфебеля с бляхой на груди, который властно вскинул руку — стоп.
— Какого черта! — заорал Маркелов. — Срочный пакет в комендатуру! Быстрее открывайте!
— Но, господин… — фельдфебель на мгновение осветил карманным фонариком Маркелова и при виде офицерских погон и Железного рыцарского креста сник. — Господин капитан, нам приказано..
— Ты что, не понял, дубовая голова! — пуще прежнего напустился на фельдфебеля Маркелов. — Срочный пакет! Пароль — Дунай, — уже тише. — Вот документы! — ткнул под самый нос удостоверение курьера и тут же сунул в карман мундира. — Я долго буду ждать?!
— Пропустить! — скомандовал фельдфебель. — Хайль Гитлер!
— Хайль! Поехали! Черт знает что…
«Успел рассмотреть фотографию или нет?» — тревожно думал Маркелов, исподтишка наблюдая за растерянным фельджандармом, пока бронетранспортер набирал скорость.
— Пронесло… — перевел дух Татарчук.
— Поживем — увидим, — философски заключил Кучмин, с явным сожалением отпуская рукоятку пулемета. — Хорошая цель была… — пробормотал про себя, вспоминая ярко начищенную бляху на груди фельдфебеля.
Бронетранспортер загнали через пролом в стене на территорию старого полуразрушенного монастыря, давно оставленного хозяевами, и замаскировали в саду среди кустов дикого винограда.
— Со мной идет Кучмин, — Маркелов торопился, пока не рассвело. — Татарчук, останешься за старшего.
— Есть, командир!
— В случае чего — задача вам ясна: любой ценой добраться к своим.
— Закурить бы сейчас одну на всех… — мечтательно прикрывая глаза, сказал Татарчук, вспомнив свой драгоценный кисет, отобранный гитлеровцами.
— Трымай… — Пригода вытащил из кармана несколько крохотных окурков.
— Цены тебе нет, Петро! — и Татарчук принялся скручивать самокрутку.
— Только быстро.
— Какой разговор, командир, как обычно…
Георге, наблюдая за разведчиками, которые по очереди курили «козью ножку», вдруг понял по их лицам, что это не обычный перекур, а какой-то торжественный ритуал, чем-то напоминающий клятву гайдуков. И тогда Татарчук протянул ему бычок, у Георге даже руки задрожали.
— Кури, Георге, за нашу удачу.
— Спасибо, товарищи, — у растроганного Виеру на глаза навернулись слезы, и он жадно вдохнул табачный дым…
12. Явка
Аптека встретила разведчиков металлическими жалюзи, которые закрывали большие окна. Некогда красочная вывеска над входом в предрассветном полумраке казалась незаконченным эскизом картины, найденным на свалке и кое-как прикрепленным двумя ржавыми гвоздями к стене. Только недавно подновленная черной краской толстая змея, которая из-за проплешин ржавого металла так и не смогла засунуть голову в чашу, подсказывала прохожему, что длинный одноэтажный дом с полуподвалом, больше похожий на конюшню, чем на жилище вполне благопристойного провизора господина Войкулеску, имеет какое-то отношение к медицине.
Маркелов было засомневался, что это именно тот дом, адрес которого дал ему Северилов, но на узкой горбатой улочке, параллельной одной из центральных улиц города, аптека была единственной. И Алексей нерешительно дернул за конец цепочки, которая висела возле входной двери.
Где-то внутри робко звякнул колокольчик. Маркелов прислушался, помедлил немного и вдруг вспомнил, что на нем форма немецкого офицера; выругав себя втихомолку за такое непривычное для немца поведение, случись посторонний наблюдатель, он принялся звонить, словно на пожар.
— Иду, иду! — раздался за дверью приглушенный толстыми стенами голос; дверь отворилась, и на пороге встал невысокий круглолицый человек в старомодном пенсне.
Оплывшая свеча испуганно затрепетала желтым неярким язычком пламени внутри жестяного фонарика с выбитыми стеклами, за который этот человек вцепился обеими руками при виде решительного выражения лица Маркелова.
— Что угодно господину офицеру? — на хорошем немецком дрожащим голосом спросил круглолицый.
Маркелов небрежным жестом отстранил его и молча шагнул внутрь аптеки; Кучмин остался у входа.
— Зажгите свет! — приказал Маркелов круглолицему.
Тот быстро забегал вдоль прилавка, и вскоре три керосиновые лампы осветили неожиданно уютное и чистое помещение аптеки.
— Вы провизор? — спросил его Алексей.
— Да, господин офицер, — угодливо изогнулся круглолицый.
— Фамилия!
— Войкулеску, господин офицер, — провизор склонился еще ниже.
— Та-ак… — Маркелов прошелся по аптеке, рассматривая витрины с лекарствами.
Провизор следил за ним тревожными глазами.
— У вас есть хинин в таблетках? — четко выговаривая слова, спросил Маркелов.
Провизор слегка вздрогнул, чуть прищурил глаза и также внятно, как Алексей, ответил:
— В таблетках не держим. Есть в порошках.
— Очень жаль. Тогда дайте камфорного масла.
— Десять ампул устроит?
— Давайте пятнадцать.
— Уф-ф… — провизор широко улыбнулся, снял пенсне и сунул его в карман пижамы. — Вы меня здорово напугали. Не ожидал.
— Здравствуйте, — протянул ему руку Маркелов.
— Доброе утро, — сильно тряхнул его провизор. — Прошу сюда, — показал на дверь.
От былой растерянности и угодливости не осталось и следа; провизор, как показалось Маркелову, стал даже выше ростом. А когда он переоделся и появился в гостиной, Алексей едва не вскочил от неожиданности — перед ним стол совсем другой человек; широкоплечий, подтянутый, с жестким выражением лица, и только черные глаза оставались такими же — с холодными льдинками внутри.
— Удивлены? — провизор сел напротив Маркелова. — Пришлось сменить театральные подмостки на аптеку. Никогда не думал до войны, что придется играть роль провизора с таким вдохновением, — он рассмеялся. — И знаете, даже не обидно, что публика не устраивает оваций. Так чем могу быть полезен? Как я понял, причина вашего появления здесь явно неординарна?
— Вам привет от ноль второго…
— О-о, это серьезно, — провизор кивнул в сторону двери. — Пусть ваш товарищ не маячит на улице. В случае чего здесь есть два тайных выхода.
Кучмин зашел внутрь аптеки, входную дверь закрыли на засов.
— Я вас слушаю.
— Мне срочно нужен радиопередатчик.
— Это все?
— Нет. Еще необходим доктор. Но передатчик — главное.
— С передатчиком сложно, но попробую достать, — провизор задумчиво барабанил пальцами он столу. — Только когда, вот в чем вопрос.
— Что-то случилось?
— Мой радист недавно погиб. Нелепая смерть. В нашей профессии никто не застрахован от ошибок, случайностей, но так… Не выдержали нервы. Во время радиосеанса в дом, где он жил, зашли немецкие солдаты. Как оказалось потом, искали бордель, который находится в соседнем переулке. Ну и… — провизор нервно захрустел пальцами. — Попытался бежать, солдаты заметили, показалось подозрительным, окликнули, он начал отстреливаться…
— Вы уверены, что он погиб?
— Вы думаете?.. Не-ет, гестапо заполучило обломки рации и его бездыханное тело — он подорвал себя гранатой.
— Что с доктором?
— Ничем помочь не смогу. Надежных нет (вам ведь нужен человек, которому можно доверять), а я в этом деле полный профан.
— Тогда придется просить вас выручить медикаментами.
— Это пожалуйста. В любом количестве. Я человек запасливый. У меня есть редкие лекарства. Но возвратимся к передатчику…
— Передатчик мне нужен как можно скорее. Это очень важно.
— Попытаюсь связаться с местными подпольщиками. Опасно, не по правилам конспирации, но иного выхода не вижу. Как вы понимаете, мне связь тоже нужна. Будем рисковать. Позавтракать не хотите?
— Спасибо, нет. Где мы увидимся и во сколько?
— Здесь же, в пять… нет, в шесть вечера — так вернее. Кстати, может, вы останетесь у меня?
— Нет. Мы уходим. До вечера…
На улице уже было совсем светло. Маркелов и Кучмин шли неторопливо, прогулочным шагом. Изредка им попадались навстречу румынские солдаты да худые дворняжки, которые трусливо тявкали на них из подворотен. В монастырь зашли только тогда, когда убедились, что за ними никто не следит; для этого пришлось накинуть несколько кругов вокруг монастырских стен, хотя это было далеко не безопасно, случись встретиться с патрулем.
— Наконец… — Татарчук с надеждой смотрел на Маркелова. — Ну как?
— Пока ничего определенного. Подождем до вечера. Где остальные?
— Румын возле Ласкина, а Пригода осматривает монастырь: свою квартиру нужно знать досконально, чтобы в нужный момент не запутаться. Я на часах.
— Завтракал?
— Да малость перехватил. С Петром по этой части не пропадешь.
— Через полчаса сменим тебя…
Ласкину подыскали светлую сухую келью. Георге, получив строгий наказ Татарчука, не отходил от него ни на шаг. При виде Маркелова Ласкин виновато закрыл глаза.
Ласкину сделали несколько уколов, рекомендованных провизором (он все-таки кое в чем разбирался благодаря солидной библиотеке медицинской литературы, которая, по его словам, осталась от предшественника), и оставили в покое, поскольку Пригода его уже покормил.
Во время завтрака появился и Пригода. Весь в пыли и паутине, он нес каких-то два ящика; оставив их у входа в монастырскую трапезную, где за длинным столом из отполированных каменных плит сидели Кучмин и Маркелов, он подошел и молча сел рядом с ними.
— Ты что принес, Петро? — спросил Кучмин.
— Та… — махнул тот рукой. — Мыло.
— Мыло? — переспросил удивленный Кучмин. — Где нашел?
— В пидвали було заховано.
— Много?
— Ото всэ.
— Ну-ка, посмотрим, — Кучмин аккуратно стряхнул хлебные крошки на ладонь, высыпал в рот и пошел к ящикам.
— Так, говоришь, мыло? — Кучмин взял небольшой брусок, которыми были доверху заполнены оба ящика, возвратился обратно к столу и положил его перед Маркеловым: — Полюбуйтесь.
— Тол! — воскликнул старший лейтенант. — Как он там очутился?
— Кто его знает… — пожал плечами Степан. — Но находка ценная.
— Хай йому грэць! — наконец прорвало и Пригоду. — Нэ голова — макитра: тол нэ впизнав.
— Не беда. Главное — принес, — Кучмин подхватил один ящик на руки. — Помоги в бронетранспортер снести…
После обеда разразилась сильная гроза. За каких-нибудь пять — десять минут на улицах города забурлили мутные потоки; буйство стихии разогнало по домам немногочисленных обывателей, которые это воскресное утро посвятили делам благочестивым и после богослужения прогуливались, неторопливо обсуждая городские сплетни.
Ливень бушевал в течение четырех часов. К вечеру грозовые тучи уползли за горизонт, и только дальние раскаты грома да редкие всплески молний над горами напоминали о недавнем разгуле природы; ливень уступил место несильному дождю.
Провизор встретил разведчиков с кислым видом. Маркелов только вздохнул, услышав просьбу повременить до завтра, поскольку связь с подпольщиками установить не удалось — отсутствовал человек, который мог это сделать. Прихватив лекарства для Ласкина, сигареты и немного продуктов, припасенных провизором, и договорившись о следующей встрече, Маркелов и Кучмин уже в сумерках направились к монастырю…
— Командир, за нами «хвост», — догоняя Маркелова, который шел чуть впереди, тихо обронил Кучмин.
— Знаю… — Маркелов видел, как по другую сторону улицы, чуть сзади, шли двое мужчин в штатском, еще двоих он заметил, когда сворачивали в очередной переулок — при виде разведчиков они поторопились укрыться в ближайшей подворотне.
— Окружают… — Степан незаметно поправил автоматный ремень.
— Нет… Ведут, — Маркелов в сгустившихся сумерках различал все их маневры и про себя не преминул отметить высокий профессионализм слежки.
— Нужно отрываться, командир, — в голосе Кучмина звучали тревожные нотки.
— Уводим подальше от монастыря…
Разведчики приближались к центру города, стараясь ввести преследователей в заблуждение относительно конечной цели своего маршрута. «Что это за люди? — тревожно думал Маркелов. — Румынская сигуранца? Не похоже — слежка за офицером вермахта, да еще в таких масштабах… Там их добрый десяток. Полковник Дитрих? Возможно. Тогда почему не предпринимают попыток к задержанию? Тем более, что, судя по всему, они шли за нами почти от самой аптеки. Провизор?.. — Алексей даже содрогнулся, такой кощунственной показалась эта мысль — провизор правильно ответил на пароль, и внешность соответствовала описанию Северилова. — Не может быть!»
И тут же другая мысль, от которой Маркелова бросило в жар: «Это провал! И я в этом виноват! Навел на след… Что теперь делать?»
— Пора, командир, — напомнил ему Кучмин, что игра чересчур затянулась.
— Пора! — Маркелов прикинул расстояние до преследователей, которые, чтобы не упустить разведчиков из виду в темноте, были от них метрах в тридцати. — Придержи их…
Алексей свернул в проходной двор, через минуту за ним последовал и Кучмин.
Озадаченные таким оборотом дел, преследователи поспешили за Степаном и увидели в проходном дворе Только его одного — Кучмин неторопливо вышагивал в направлении небольшой арки, где был выход на центральную площадь…
Отступление 5. Сержант Кучмин
Небо было совсем рядом; хотелось потрогать рукой тугое, белоснежное облако, зачерпнуть ладонями голубой прохлады, чтобы остудить горячую грудь и пить взахлеб. Пить…
— Пить… — прошептал Степан Кучмин; сознание возвращалось медленно, неохотно.
Скосил глаза влево — и рука вяло зашарила по земле в поисках гранаты: шагах в десяти виднелась танковая башня с белым крестом; едкий черный дым медленно струился из открытых люков и поднимался ввысь, орудийный ствол уныло уткнулся в бруствер траншеи. «Готов, гад!» — вздохнул с облегчением Степан и, стряхнув комья земли с груди и ног, сел.
Вечерело. Поле боя кое-где еще дымилось — догорали танки. Странная, пугающая тишина зависла над перелесками, где совсем недавно бушевал огненный вихрь.
Кучмин вскочил на ноги и, пошатываясь, побрел к траншее; споткнулся, упал на кучу вывороченного взрывом чернозема и уже на четвереньках сполз вниз.
— Кирюша… Кирюха! — тряс за плечо пулеметчика, который, склонившись на щиток «максима», казалось, спал.
«Мертв… Как же так, а? Убит… А остальные? Где остальные?!»
— Ребята! Братцы! — побежал по траншее. — Товарищ лейтенант! Кто-нибудь есть живой?! Кто-нибу-удь!..
Ночь застала Кучмина в лесу. Линия фронта была где-то неподалеку — редкие орудийные залпы тревожили ночную тишину, будили надежду. «Дойду…» — засыпая, думал Степан…
«Чирулик! Чирулик! Чиу, чиу…» — какая-то ранняя птичка разбудила Кучмина; все еще во власти сна, он потянулся, сел — и тут же опять распластался на земле.
— Какого черта, Ганс, ты сюда забрался! — недовольный фальцет.
— Поближе к дровам, Вилли… — отвечал чей-то хрипловатый басок.
Говорили но-немецки — Степан Кучмин, который до войны жил под Ростовом и учился вместе с детьми немцев-колонистов, свободно владел немецким языком.
Потянуло дымком и ароматом горячей еды. Сглотнув голодную слюну, Степан потянул к себе за ремень винтовку и, раздвинув густой кустарник, высунул голову из неглубокой ложбинки, где провел ночь.
На поляне дымила немецкая походная кухня. Коренастый краснолицый повар в белом переднике помешивал длинной поварешкой в котле; его помощник, повесив мундир и винтовку на сук, подбрасывал поленья в печурку. Худой прыщеватый ефрейтор сидел под дубом и, зажав между колен котелок, нехотя ковырял в нем ложкой. Зло прищурив глаза, Степан вскинул винтовку и прицелился в ефрейтора; спусковой крючок податливо шевельнулся, Кучмин затаил дыхание и, стараясь не шуметь, тихо сполз на дно ложбинки. «Дурак! — выругался про себя. — Жить надоело…»
Из глубины леса послышались голоса, треск сушняка, и на поляну, оживленно переговариваясь, вышли немецкие солдаты, человек двадцать. Степан не стал медлить: выбирая места, где трава погуще, он пополз в чащобу, подальше от поляны.
И наткнулся на замаскированный бронетранспортер, Чуть поодаль, тоже хорошо укрытые маскировочными сетками, пучками свежескошенной травы и ветками орешника, стояли крытые брезентом грузовики, насколько легких танков и мотоциклы. «Влип», холодея, подумал Кучмин: блуждая по ночному лесу, он не заметил, как забрался в расположение моторизованной гитлеровской части. Пришлось возвращаться в ту же ложбинку. Укрывшись листьями папоротника, Степан затаился, с тревогой прислушиваясь к голосам немецкой солдатни, которая завтракала на поляне.
День казался бесконечным. Степан с тоской вглядывался в просветы между кудрявыми ветками, ожидая наступления темноты. Дразнящие запахи кухни вызывали голодный спазм, и Кучмин принялся выкапывать ножом корни папоротника, которые оказались вполне съедобными.
Солнце уже исчезло за горизонтом, когда окружавшие Степана заросли пришли в движение: затрещала мотоциклы, залязгали гусеницы танков, вонючий дым выхлопных газов пополз по лесу.
Вскоре вместе с ранними сумерками в лес пришла тишина.
В эту ночь Степан Кучмин шел почти без привалов; ориентиром ему служила артиллерийская канонада, которая не утихала ни на минуту — отзвуки ночного боя.
Небольшой лесной хуторок вынырнул из густого предутреннего тумана совершенно неожиданно; не веря глазам, Степан даже потрогал шершавые стены рубленой бани, которая стояла на берегу ручья. От бани вела поросшая травой тропинка, которая упиралась в крыльцо добротного дома с резными ставнями и кованым петушком на коньке крыши; позади дома виднелись хозяйские постройки.
Хуторок был оставлен хозяевами давно. Выломанная входная дверь дома, огрызки снеди на столе и яркие обертки от немецких концентратов свидетельствовали, что совсем недавно здесь хозяйничали гитлеровцы. В поисках еды Стеная обшарил все закутки дома и сараи, но нашел только с десяток заплесневевших ржаных сухарей на загнетке печи да несколько сгнивших наполовину картофелин в погребе.
Подкрепившись, Кучмин забрался на сеновал, с головой зарылся в прошлогоднее сено и уснул. Разбудили его голоса. Кучмин прислушался. «Немцы!» — Степан осторожно выглянул из-за приоткрытой двери сеновала.
Возле дома стоял мотоцикл; солдат ковырялся в моторе, а немецкий офицер, нетерпеливо поглядывая на часы, что-то ему раздраженно выговаривал. Вскоре офицеру надоело это занятие, он махнул рукой, выругался и, усевшись на поленницу дров возле ворот, принялся грызть плитку шоколада.
Солнце уже приближалось к полуденной черте. Степан терпеливо ждал, сторожко прислушиваясь и внимательно оглядывая окрестности хутора: его так и подмывало посадить на «мушку» сначала офицера, а потом и солдата — стрелял Кучмин отменно. Но кто мог поручиться, что на выстрелы не явятся немецкие солдаты, которые могли находиться где-нибудь поблизости?
Наконец мотоцикл заурчал, отплевываясь сизым дымом, и тут же опять умолк — наступило время обеда, и офицер, разомлевший на солнце, приказал солдату разогреть содержимое термоса на походной спиртовке.
«Ну, я тебя сейчас накормлю!» — не на шутку разозлился голодный Степан при виде завернутого в вышитый полотняный лоскут толстого куска сала, которое офицер принялся кромсать перочинным ножом, Не мешкая больше ни минуты, Кучмин слез с сеновала на землю и, пониже пригибаясь, проскочил за угол дома. Отсюда ему хорошо были видны оба немца: офицер расположился на той же поленнице, а его подчиненный что-то торопливо жевал, устроившись на сиденье мотоциклетной коляски. Вскоре солдат, удовлетворенно отрыгиваясь, подхватил котелок и пошел к баньке; Кучмин тенью скользнул за ним, благо дом скрывал его от глаз офицера.
Солдат присел на корточки, зачерпнул полный котелок воды — и беззвучно рухнул в ручей, сраженный ударом ножа под левую лопатку. Степан схватил его автомат и, перескочив ручей, побежал вдоль изгороди к воротам.
Офицер уже пообедал и прохаживался по двору, с нетерпением посматривая в сторону баньки. Незаметно подобраться к нему не было никакой возможности, и Степан, поразмыслив, решился: «Шумну… Была не была…» Выждав, пока немец повернется к нему спиной, Кучмин выскочил из-за изгороди и в несколько прыжков очутился рядом с ним.
— Руки!.. — неожиданно по-русски крикнул Степан ошеломленному офицеру.
Тот, бледнея на глазах и не отводя взгляда от лица Кучмина, рванул застежку пистолетной кобуры.
— Буду стрелять! — на этот раз уже по-немецки выкрикнул Степан.
Вдруг немец развернулся и заячьим скоком метнулся к изгороди; схватился за колья, подпрыгнул и уже почти перевалил на другую сторону, как короткая автоматная очередь вспорола тишину лесного разлива…
Степан отдышался только в глубоком овраге: бежал по лесу из последних сил, не выбирая дороги, чтобы уйти подальше от лесного хуторка. Отдышавшись, осмотрел трофеи: автомат с запасными рожками, пистолет, плащ-палатка, три гранаты, офицерская сумка, ну и, ясное дело, узелок с харчами.
«Живем…» — радовался удаче. Плотно поел, пожалуй, впервые за последнюю неделю. Заглянул внутрь сумки — какие-то бумаги, карты «На кой они мне…» — хотел было выбросить, но передумал — победила крестьянская рачительность.
До линии фронта он добрался на четвертые сутки после стычки на лесном хуторке. Закутавшись в плащ-палатку — шел нудный, моросящий дождь — и надев немецкую каску, так как пилотку где-то потерял, Степан полз среди редколесья, ориентируясь по вспышкам осветительных ракет, которые через определенные временные промежутки пускали передовые дозоры немцев.
Какой-то неясный шорох справа заставил Кучмина насторожиться; плотно прижимаясь к земле, Степан надолго застыл, прислушиваясь. «Показалось…» — вздохнул облегченно и пополз было дальше, как вдруг на спину обрушилась какая-то темная масса, и крепкий удар по голове надолго лишил его способности видеть и соображать.
Очнулся Степан от звуков ожесточенной перестрелки; кто-то тащил его на спине, тяжело дыша.
— Колян, быстрее! Я прикрою! — чей-то приглушенный голос.
— Где Пригода? — откуда-то сзади.
— Туточкы я… — забасил тот, который тащил Степана.
«Разведка! Наши!» — радостно встрепенулся Степан и попытался языком вытолкнуть кляп. И тут же получил здорового пинка по ребрам.
— Ты гляды, щэ и брыкаеться… — ворчал Пригода, с неожиданным для его грузного тела проворством ныряя в траншею.
Разведчиков уже ждали.
— Все вернулись? — спросил встретивший их офицер.
— Так точно, товарищ капитан! — бодро ответил один из разведчиков.
— Раненые есть?
— Царапнуло чуток, — один из разведчиков торопливо бинтовал левую голень.
— Киселев!
— Я, товарищ капитан.
— В медсанбат. Помогите ему…
— Товарищ капитан! — взмолился Киселев. — Да медицине смотреть тут не на что. Шкуру фриц чуток попортил.
— Отставить разговоры! Ладно… Посмотрим…
Степан замычал, стараясь привлечь внимание к своей особе.
— Развяжите его, — приказал капитан.
— Ва… ва… — с трудом шевелил одеревеневшим языком Степан.
— Замкнуло… — коротко хохотнул Пригода, подталкивая Степана в спину. — Топай!
— Братцы родные! Да свой я, свой! — накопан прорвало Кучмина.
Разведчики остолбенели. Пригода даже глаза протер — не померещилось ли.
— Татарчук! — голос капитана не предвещал ничего хорошего. — Ты кого приволок?
— Товарищ капитан! — разозленный Татарчук подбежал к Степану. — Брешет он! Ей-богу, фриц переодетый! С передовой утащили. Пригода, скажи!
— А як жэ, з пэрэдовой… — подтвердил Пригода, с сомнением приглядываясь к Степану. — Ось автомат и сумка…
— Кто такой? — уже не слушая оправданий разведчиков, строго спросил капитан Степана.
— Рядовой минной роты 205-го батальона инженерных заграждений Степан Кучмин. Вот документы…
В штабной землянке за импровизированным столом, сколоченном из снарядных ящиков, сидел немолодой майор и что-то писал.
— Разрешите!
— Заходи, капитан. Чем порадуешь?
— А… — махнул рукой капитан. — Не везет…
— Понятно… Люди целы?
— На этот раз почти нормально. Киселев ранен легко. Вот, притащили с той стороны, — капитан кивнул в сторону Степана, который стоял у входа. — Федот, да не тот… По документам — сапер. Возьмите, — протянул документы Степана майору.
— Степан Кучмин… 205 БИЗ… Двести пятый? Та-ак… И как же ты очутился в немецком тылу?
Степан коротко рассказал о последнем бое и о своих скитаниях в лесах.
— Ну-ка, ну-ка… — майор потянул к себе сумку немецкого офицера, заинтересованный рассказом Кучмина о схватке на лесном хуторке. — Горин, подойди сюда, — позвал он капитана. — Посмотри. Ай да сапер! А ты говорил, капитан, что-то насчет Федота…
Офицеры принялись разглядывать карты и другие бумаги из офицерской сумки.
— Переводчик нужен… — сокрушенно покачал головой майор. — Лисянского в госпиталь отправили…
— Может, я смогу? — робко спросил Степан.
— Ты знаешь немецкий? — удавился майор.
— Так точно, знаю.
— Садись сюда, поближе…
С документами закончили только под утро. Глядя на усталое лицо Степана, майор спохватился:
— Постой, ты ведь голоден? Извини, дружище. Капитан, отправь его к разведчикам. Пусть накормят. И — спать.
— Мне бы к своим…
Майор помрачнел, закурил.
— К своим, говоришь… Придется повременить.
— Почему?
— Твой 205 БИЗ попал в окружение. И пока о нем сведений нет. Так что иди отдыхай, солдат…
Через три педели бывший сапер Степан Кучмин пошел в немецкий тыл вместе с разведгруппой 117-го стрелкового полка.
Лето 1942 года было на исходе.
13. Засада
Алексей выскочил на площадь и, свернув за угол, перешел на быстрый шаг. Дождь усилился, и площадь была безлюдна. Только у ресторана, который угадывался по звукам скрипок и гитар, урчали моторы машин и слышался людской говор.
Маркелов решительно подошел к шикарному «майбаху», пассажиры которого — сутуловатый румынский офицер в годах и юная особа с очаровательным личиком — только что исчезли в ресторане, и с силой рванув дверку, забрался на переднее сиденье.
— Спокойно! Гестапо! — наставил он пистолет на перепуганного его появлением водителя.
— Я н-ни в-в ч-чем н-не в-виноват… — проблеял тот, заикаясь, на плохом немецком языке.
Только теперь Маркелов разглядел, как молод водитель, не старше восемнадцати лет.
— Чья машина?!
— Генерала Штефанеску…
— Он нам и нужен. Поехали!
— К-куда?
— Прямо, затем повернешь направо. И пошевеливайся!
Степан стоял под сводами арки и неспешно раскуривал сигарету. Растерянные шпики не решались что-либо предпринять, видимо, чтобы не обнаружить себя, и неприкаянно обтирали грязные стены домов позади Кучмина, так как он перекрыл им выход на площадь; часть их направилась к площади через близлежащие улицы, два или три обшаривали на всякий случай все закоулки проходного двора в поисках исчезнувшего Маркелова.
«Майбах» с выключенными фарами резко притормозил неподалеку от Кучмина.
— Сюда! Быстрее! — голос Маркелова.
Степан с разбегу нырнул в открытую дверку. «Майбах» взревел мощным мотором и на большой скорости вырулил на широкую центральную улицу; сзади послышались крики, выстрелы.
— Стоп! — приказал Маркелов. — Выходи! Ну! — подтолкнул он совсем потерявшего голову водителя.
Тот выскочил на брусчатку и, споткнувшись, растянулся во весь рост. Когда он поднялся, «майбах» уже исчез в одном из переулков. Тогда водитель, слегка прихрамывая, добрался до мусорного ящика, уселся на него и неожиданно заплакал, не в состоянии разобраться в происходящем.
— Чисто сработано, командир, — Степан смотрел в заднее стекло — погони не было видно. — Теперь куда?
— К провизору, — решительно сказал Маркелов.
— Зачем?
— Ты думаешь, поздно?
— Уверен.
— Нет! Я должен убедиться, — и Маркелов свернул к аптеке.
Окна аптеки ярко светились. Внутри были люди: сгорбленный старичок с палкой в руках, безногий парень в линялой солдатской форме и молодая женщина с ребенком лет шести; провизор Войкулеску что-то сердито объяснял старичку, тыкая пальцем в какую-то бумажку, видимо, рецепт.
— Зайдем? — повеселевший Маркелов уже второй раз проезжал на тихом ходу мимо аптеки.
— Э-э, нет, командир, — Кучмин отличался чрезмерной осторожностью. — Нужно отыскать черный ход…
Машину оставили в каком-то дворе, захламленном ящиками. Внимательно осмотрели все подходы со стороны черного хода; только когда убедились, что опасаться нечего, прошли к двери. Окованная железными полосами, она внушительно выделялась потемневшими от времени дубовыми досками на фоне светло-серой стены. Дверь была заперта.
— Ну что? — спросил Маркелов Кучмина, — Здесь и граната не поможет. Придется рискнуть — зайдем через парадный вход.
Степан огорченно ругнулся втихомолку, прошелся вдоль стены, поглядывая на узкие окошки, прикрытые ставнями, затем возвратился к двери и сильно нажал на нее плечом.
Неожиданно дверь слегка подалась внутрь.
— Командир! — зашептал Степан. — Сюда! Кажется, дверь не закрыта на ключ…
Навалились вдвоем на дверь — и едва не загремели по ступенькам, которые вели в подвал; коротко звякнул оборванный засов, ржавый и хлипкий; второй засов, массивный и кованый, был отодвинут, а в замочной скважине торчал ключ.
Стараясь не шуметь, поднялись по ступенькам к двери, которая была выше подвальной; она оказалась незапертой. Алексей осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь уже знакомой ему гостиной провизора Войкулеску.
Трое мужчин в штатском сидели за накрытым столом, на котором преобладали спиртные напитки, и вполголоса беседовали, не забывая наполнять быстро пустеющие рюмки. В гостиную вошел хозяин.
— Ты скоро там, Гюнтер? — спросил один из мужчин.
— Пять минут, не более, — провизор быстро выпил рюмку цуйки и снова скрылся за дверью.
Гюнтер! Маркелов молча переглянулся с Кучминым — вот тебе и провизор Войкулеску! «Похоже, и здесь приложил руку полковник Дитрих — это его агенты», — понял Алексей, внимательно прислушиваясь к разговорам в гостиной.
Вскоре провизор появился уже без белого халата.
— Все… Всех выпроводил, — он принялся за еду.
— Гюнтер, вино закончилось, — один из собутыльников постучал по пустому кувшину.
— Клаус, отцепись, — отмахнулся провизор. — Сходи сам, если хочешь пить эту кислятину.
— Схожу… — Клаус, слегка пошатываясь, направился к двери, за которой притаились разведчики.
Любитель сухого вина даже не застонал; подхватив на лету оброненный кувшин, Кучмин стащил тело Клауса к двери подвала и быстро возвратился к Маркелову.
— Берем?
— Берем… — Маркелов раздвинул портьеры, которыми была, завешена дверь, и вместе с Кучминым ворвался в гостиную.
Все было закончено в считанные секунды. Провизор Войкулеску, который при виде разведчиков не растерялся и успел выхватить пистолет, со стенаниями ворочался в углу гостиной, отброшенный туда мощным ударом Степана.
— Поднимайся, — потянул его за шиворот Кучмин.
— Товарищи… вы что? — простонал провизор.
— Вон твои товарищи, — кивнул на неподвижные тела немецких агентов. — Пойдем.
— Куда? Куда вы меня ведете? — заупрямился провизор.
— Закрой ему рот, — Алексей быстро собирал оружие и провизию в скатерть; связав ее концы, он вскинул узел на плечи.
— Слушаюсь, командир, — Кучмин резко ткнул провизору под ложечку, и пока тот зевал, пытаясь продохнуть, Степан ловко запихнул ему в рот салфетку, а затем связал руки. — Готово. Иди, — подтолкнул его к выходу. — И смотри не трепыхайся…
Пробирались к монастырю кривыми и грязными улочками предместья. Дождь по-прежнему лил не переставая.
— Кто это? — спросил у Маркелова Татарчук при виде провизора, который едва дышал после дороги.
— Подарок… — ответил за старшего лейтенанта Кучмин.
Пока Степан рассказывал о недавних событиях в городе и аптеке, Маркелов прилег на охапку травы и задумался. Судя по всему, выходило, что город оказался пустым номером; теперь нужно срочно уходить отсюда и пробираться к линии фронта — последнее, что осталось в их положении. Алексей тяжело вздохнул: легко сказать — пробираться; полковник Дитрих уже знает, что они в городе и, конечно же, сейчас времени не тратит попусту.
— Как Ласкин? — спросил он Татарчука.
— Полегчало, — ответил старшина. — Уже пытался встать на ноги. — В госпиталь бы его… — вздохнул. — Пару недель — и можно к девчатам на посиделки.
— Что с этим делать? — Кучмин показал на провизора.
— Допросить нужно.
— Вставай, — Степан тронул провизора за плечо.
Тот лежал на боку, не подавая признаков жизни. Кучмин поднес фонарик к его лицу и увидел сведенный судорогой рот и широко раскрытые мертвые глаза.
— Амба, — Кучмин возвратился к Маркелову. — Подох.
— Что с ним стряслось? — встревожился Алексей.
— Не знаю…
Провизора внимательно осмотрели и нашли осколки стеклянной ампулы, которая была вшита в воротник рубашки.
— Яд, — констатировал Кучмин и брезгливо вытер руки пучком травы…
Все собрались в дальнем углу монастырской трапезной, возле крохотной коптилки. Решили — нужно уходить немедленно, пока дождливая ночь и не все пути перекрыты.
Георге, который скромно пристроился неподалеку, с тревогой прислушивался к непонятной для него речи разведчиков — их затруднения ему уже были известны. Вдруг он вскочил, подбежал к Маркелову и горячо заговорил, размахивая руками:
— Я знаю, где можно достать рацию! Мой двоюродный брат Махай служит в военной комендатуре города. Он радист. Честное слово! Вы мне не верите?
— Постой, парень, — Татарчук обернулся к Маркелову. — Командир, а вдруг?
— Георге, расскажи подробней, — попросил Виеру старший лейтенант.
Польщенный вниманием разведчиков, Георге успокоился и принялся обстоятельно излагать свои соображения…
14. «Я — «Днестр-5»…
— Кто там? — дрожащий голос тетушки Адины рассмешил Георге, и он прыснул в кулак.
— Это я, Георге! — сжав ладони рупором, прогудел Виеру в щель между ставнями.
В доме замолчали; Георге приложил ухо к намокшему ставню, услышал негромкую перепалку, «Тетушка Адина и Элеонора», — смекнул он и живо представил двоюродную сестру, двенадцатилетнюю гимназистку, которая на вокзале умудрилась втихомолку запихнуть в его вещмешок несколько пирожных, и потом, уже на сборном пункте, Георге Виеру стал посмешищем для всех новобранцев. Вспомнив, какие наказания он ей придумывал, когда пытался соскрести сладкий и липкий крем с вещей и продуктов, Георге вздохнул — это было так давно…
— Георге, Георге, это ты? — уже голос Элеоноры, звонкий и какой-то незнакомый.
— Да открывайте же, конечно я…
Тетушка при виде Георге всплеснула руками и, уткнувшись ему в плечо, запричитала вполголоса.
— Ой, Георге, — прыгала вокруг него Элеонора, путаясь в длинной ночной рубахе.
— Ну, будет вам, — грубовато сказал Георге, у которого вдруг почему-то запершило в горле. — Мне нужен Михай…
Разведчики в ожидании Георге промокли до нитки. Татарчук шепотом ругался, вспоминая всех святых, а Кучмин стоически подставлял широкие плечи под косые хлесткие струи и только изредка с укоризной поглядывал вверх, словно надеялся, что его немое неодобрение заставит стихаю утихомириться.
— Тебя, парень, ждать… — начал было Татарчук ворчать на Георге, но тот сунул ему в руку что-то теплое, мягкое, с удивительно знакомым и невероятно аппетитным запахом. — Что это?
— Пивошки… — усиленно орудуя челюстями, о трудом выговорил тот.
— Пирожки? — догадался Татарчук и последовал примеру Кучмина, который без лишних слов приступил к дегустации гостинца тетушки Адины.
— Что Михай? — спросил Татарчук у Виеру, который наконец проглотил свой пирожок.
— Нам повезло. Сегодня он не в казарме — воскресенье.
— Где он?
— В одном месте… — довольно неопределенно ответил Георге.
— Так идем туда.
— Конечно, я не уверен… — замялся Виеру. — Элеонора подсказала…
— Время, время! — постучал ногтем по циферблату часов старшина. — Нужно спешить. Веди.
— Ладно… — вздохнул Георге. — Пойдемте…
Двухэтажный дом, явно построенный в прошлом столетии, гудел, словно пчелиный улей. Узкие высокие окна были зашторены, и только у входа за фигурной решеткой еле теплился огонек красного фонаря. Татарчук только крякнул, завидев фонарь, и решительно толкнул дверь.
Внутри было уютно, сухо; пахло спиртным, крепкими сигаретами и немытым человеческим телом. Сморщенный, угодливый господин неопределенных лет выскочил из-за конторки и поспешил навстречу разведчикам.
— Какая радость! Какая радость! — расшаркивался он перед Татарчуком. — Вы не пожалеете, что посетили нас. — У Эминеску, — ткнул себя в грудь, — лучшие девушки! Поверьте мне…
— Замолчи! — прикрикнул на него Татарчук. — Проверка документов.
— Тогда я вас провожу… — Эминеску быстро сунул руку во внутренний карман пиджака, достал пачку лей и, многозначительно поглядывая на Татарчука, затеребил ее.
— Не нужно! — Татарчук уже вошел в роль; он так зыркнул на Эминеску, что тот едва не упустил деньги и попятился.
Оставив Кучмина у входа, Татарчук и Виеру пошли по длинному коридору, в который выходили двери комнат «девушек» Эминеску…
Михай пришел в себя только на улице под дождем. Георге он узнал сразу же и, не долго думая, попытался затащить ею обратно в «заведение» господина Эминеску. Пришлось вмешаться Кучмину, который схватил Михая поперек туловища и понес в подворотню, где Георге все-таки втолковал своему двоюродному брату, что от него требуется.
Возле своего дома Михай протрезвел окончательно. Недоверчиво поглядывая на «немецких солдат», он открыл по настоянию Георге дверь сарая; расположилась на бочках.
— Михай, я дезертировал, — Георге не стал ходить вокруг да около.
— Давно бы так, — буркнул Михай, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — Они что, не знают румынского языка?
— Не беспокойся, — Георге хлопнул его по плечу, — не знают.
— Кто они?
— Об этом после, Михай. У меня к тебе есть дело.
— Если тебе нужно место, где можно спрятаться, рассчитывай на меня.
— Да нет, не о том речь. Михай, войне скоро конец. Антонеску крышка, и ты это знаешь. Скоро русские придут сюда. Тебя тоже могут загнать в окопы, а там не сладко, поверь мне. За кого воюем? На кой черт нам эта война? Что тебе или мне русские сделали плохого, и почему мы должны в них стрелять? Или тебе хочется отдыхать именно на одесских пляжах, вроде песок возле Констанцы хуже?
— Георге, ты меня не агитируй. Я с тобой согласен. Все надоело. А, что там говорить! — Михай попытался раскурить сигарету, но она раскрошилась — намокла пачка; он швырнул ее в темноту и спросил: — Георге, что тебе нужно? Говори прямо.
— Ладно. Нужна твоя рация.
— Рация? Зачем?
— Это тебя пусть не волнует. Нужна — и все.
— Для них? — начал понимать кое-что Михай.
— Да.
— Я могу знать, кто они?
— Русские.
— Я так и предполагал, — Михай разозлился. — И ты не мог мне сразу сказать?!
— Что от этого изменилось бы?
— А то, что мы сейчас сидели бы не в сарае, а в доме, — Михай решительно поднялся. — Зови их!
— Постой, — придержал его Георге. — Времени в обрез, Михай. Рация нужна немедленно. Понимаешь, немедленно!
Михай задумался. Татарчук с трудом сдерживал свое нетерпение, прислушиваясь к беседе двоюродных братьев.
— Там часовые… — голос Михая звучал неуверенно. — И потом, ночь на дворе…
— Ты подскажешь только, как найти рацию.
— Там сигнализация.
— Отключить сумеешь?
— Конечно.
— Вот и отлично. Тогда пойдем.
— Что, прямо сейчас?
— А ты думал, что я тебя вытащил из одной пуховой постели, чтобы переложить в другую, домашнюю? Так идешь или нет?
— Хорошо! — решился Михай. — Идем!
— Что он говорит? — наконец не выдержал Татарчук.
— Все в порядке, он согласен…
Возле Ласкина остался один Татарчук, к глубокому его огорчению и негодованию. Маркелов был непривычно строг и неумолим; Алексей старался поглубже спрятать мыслишку, которая мучила его: что если и на этот раз его постигнет неудача?
Михай с недоумением и тревогой присматривался к зданию комендатуры. Затем он что-то скороговоркой начал объяснять Виеру.
— Что случилось? — спросил Маркелов.
— Михай говорит, что увеличилось число часовых. Это подозрительно. И теперь к зданию подойти трудно. А если и удастся проскочить мимо часовых, то незаметно забраться на второй этаж и открыть окно в комнату связи практически невозможно.
— Что же делать? — Маркелов чувствовал, что начинает терять самообладание.
— Прорваться с боем! Пока охрана комендатуры придет в себя, можно успеть передать сведения. Но это в том случае, если удастся сразу же выйти на связь. А вдруг не хватит времени? Что, если их уже не ждут? Рация так близко…
— Что делать?
Пригода и Кучмин молчали. Георге и Михай перешептывались, изредка бросая озабоченные взгляды в сторону здания комендатуры. Наконец Георге решительно тряхнул Михая за плечи и подошел к Маркелову.
— Он пойдет сам.
— Как… сам?
— Возвратится в казарму, а оттуда со стороны двора легко пробраться на второй этаж по пожарной лестнице. Ключи от дверей у него есть, сигнализацию отключит…
Михай, пьяно пошатываясь, брел по лужам во двор комендатуры.
— Стой! Кто идет?
— По-ошел ты… — выругался Михай.
— Да это Михай, — выскочил на крик напарник часового у калитки ворот. — Эй, дружище, какого дьявола тебе здесь нужно? У тебя увольнительная до утра.
— Н-не твое… д-дело… — Михай, придерживаясь за решетку, упрямо шел к калитке.
— Ну как хочешь… — часовой вздохнул и позавидовал: — Вот у кого служба…
Прошло уже около получаса, как Михай скрылся за воротами комендатуры. Маркелов тревожно посматривал по сторонам, сторожко прислушиваясь к ночным звукам. Но неумолчный шум дождя впитывал их, а пелена из капель и испарений еще больше сгущала темноту, размывая очертания зданий и высоких деревьев возле комендатуры, не говоря уже о часовых, которые попрятались в укромные уголки и только время от времени для успокоения совести торопливо отмеряли положенные метры, поминая недобрым словом своих командиров — наряд вне очереди для солдат был, что нож в сердце, тем более в такую погоду.
Пригода прикоснулся к рукаву Маркелова и показал на комендатуру — только его глаза сумели различить в темноте, как в одном из окон второго этажа заискрился огонек сигареты — условный знак Михая.
— Остаешься… — шепнул ему Маркелов и вместе с Кучминым пополз через сквер к высокому каменному забору, чтобы под его прикрытием подобраться к фасаду комендатуры.
Из окна свисал тонкий шнур; Маркелов быстро прикрепил к нему веревку и дернул два раза — Михай втащил ее наверх.
— Я первый, — решительно отстранил Маркелова Степан, проявив несвойственную ему строптивость.
Едва он исчез в оконном проеме, Алексей тут же последовал за ним. Он уже был на уровне второго этажа, как вдруг звуки близких шагов заставили его прекратить подъем — часовой шел мимо. Маркелов медленно подтянул к себе свободный конец веревки и затаился недвижимо, краем глаза наблюдая за румынским солдатом, который почему-то не спешил укрыться от дождя.
Руки задеревенели. Боль в мышцах, сначала ноющая, тупая, постепенно перерастала в злую, режущую. Чтобы дать немного отдохнуть рукам, Алексей вцепился в веревку зубами; челюсти свело, во рту появился привкус крови.
Солдат прошелся мимо окна комнаты связи еще и еще раз. Вскоре стало понятным его служебное рвение — к нему подошел второй часовой, угостил сигаретой и дал прикурить; бережно зажимая сигарету в кулаке, солдат наконец почти бегом направился в укрытие.
Алексей с трудом перевалил через подоконник и упал на руки Кучмину. Некоторое время он лежал на полу без движения, не в силах шевельнуть ногой или рукой, Степан тем временем настраивал радиопередатчик.
— Готово, командир.
— Связь?
— Пока нет…
Приближался рассвет, а связи со штабом фронта не было. Степан прошелся по всем диапазонам, до бесконечности повторяя свой позывной. Ти-ти-та-ти-та… Ти-та-ти… «Я — «Днестр-5», я — «Днестр-5»… Прием. «Волга», я — «Днестр-5», я — «Днестр-5…»
Маркелов не находил себе места. Глядя на него, занервничал и Михай, Только Кучмин, настырный и неутомимый, размеренно посылал в эфир точки-тире: для него время прекратило свой бег. Маркелов выглянул в окно. Туман. Это его обрадовало, но, подняв глаза вверх, он снова нахмурился: небосвод постепенно окрашивался в серые тона.
— Командир! Есть! «Волга!»
— Передавай! — Маркелов мигом оказался возле Степана…
Обратно возвратились без приключений. Михай остался в комендатуре: уничтожив, насколько это было возможным в темноте, следы пребывания разведчиков в комнате связи и опломбировав ее, он преспокойно отправился в казарму, где и уснул сном праведника.
После побудки, даже не позавтракав, он поспешил обратно; забросив подальше пломбу, которая имела довольно подозрительный вид, заполнил журнал дежурств, а когда его начальник появился на пороге комнаты спецсвязи, увиденное умилило его: комната сияла небывалой чистотой, а радист усердно перепаивал контакты в одном из усилителей.
15. Последний бой
Татарчук ликовал. При первых словах Маркелова старшина сорвался в пляс; высоко поднимая ноги, он прошелся колесом по трапезной, а затем врезал такого гопака, такие коленца стал выкидывать, что окружающие покатились со смеху.
— Эхма! Дам лыха закаблукам! — Иван сиял. — Что, фрицы, взяли?! Гон, гоп!
— Спасибо, Георге! — Маркелов крепко пожал руку Виеру, который бурно радовался вместе со всеми.
Георге вдруг спохватился: сунул руку за пазуху и вытащил плоскую бутылку темно-зеленого стекла.
— Вот!
— Георге! — Татарчук откупорил, понюхал и, изобразив неземное блаженство на лице, обнял румына за плечи. — Ну, спасибо, дружище! В самый раз.
— Тетушка Адина… угостила… — засмущался Виеру.
Крепкую цуйку разлили по кружкам. Ласкин (он уже поднимался самостоятельно, но на ногах держался еще не крепко), которого перенесли в трапезную, тоже не отказался от своей порции.
— За нашу победу! — Татарчук выпил, сморщился, понюхал хлебную корку и, склонившись к Маркелову, сказал вполголоса: — А тот французский коньячок, что ты тогда вылил, командир, все-таки лучше…
— Да будет тебе, старшина, — рассмеялся Алексей. — Злопамятный. Ну, виноват, каюсь.
— То-то! — дурашливо подергивая плечами, Татарчук закружил вокруг Пригоды. — Петруха, любовь моя! Эх, яблочко, да на тарелочке…
Слегка захмелевший Виеру спустился на первый этаж и вышел во двор. Утро, хмурое, неприветливое, уже вступило в свои права; дождь наконец прекратился, и только деревья продолжали ронять на землю тяжелые капли в такт редким порывам ветра, который через проломы в высоких стенах монастырской обители совершал набеги на лакированные дождем кроны.
Георге потянулся расправил плечи — хорошо… Нащупал в кармане сигареты, вытащил. Закурил и медленно побрел вдоль стены.
Повернул за угол — и застыл, цепенея: крепко уперев ноги в землю, перед ним стоял немецкий солдат в маскхалате. Вороненый автомат чуть подрагивал в его руках, зло прищуренные глаза смотрели на Георге, не мигая.
— Тихо… — немец кивком головы показал Георге на сад — из-за деревьев выступили еще солдаты.
Георге попятился назад, не отводя взгляд от лица гитлеровца, и остановился, почувствовав, как в спину больно уперся автоматный ствол.
«Окружили…» — Георге безнадежно наклонил голову.
И вдруг, словно очнувшись, он бросился в сторону и что было мочи закричал:
— Немцы! Нем…
Короткая автоматная очередь отразилась от стен монастырских построек и эхом ворвалась через окна в трапезную, где собрались разведчики.
— Георге! — Маркелов услышал крик Виеру. — К оружию! Эх, парень…
Татарчук сбежал по лестнице, проскочил мрачный коридор и, появившись в дверном проеме, ударил по немцам из автомата, почти не целясь. Да и не было в этом надобности: эсэсовцы находились шагах в десяти от входа.
Заговорили автоматы и остальных разведчиков. Немцы, которые не ожидали такого отпора, заметались по двору. Несколько гранат, брошенных из окон, деморализовали гитлеровцев: очертя голову, они бросились в сад и через проломы в стенах — на улицу. Но это было только начало, и Маркелов понимал, что нужно уходить. Только куда, в какую сторону?
Долго раздумывать эсэсовцы не дали: пулеметная очередь выкрошила штукатурку на стене трапезной, и белая пыль облаком поплыла над головами разведчиков. Пригода выглянул наружу, выпустил несколько пуль в сторону пулеметчика и вдруг, охнув, присел на пол.
— Петро! — кинулся к нему Татарчук.
— Зачэпыло трохы… — Пригода зажал ладонью левое плечо; алые струйки просачивались сквозь пальцы и кропили пол.
— Сейчас… — старшина разорвал индпакет и принялся быстро бинтовать рану. — Погоди… Вот так…
Немцы усилили огонь. К окнам трапезной стало опасно подходить — пули залетали внутрь и словно горох сыпались вниз, рикошетя от стен. Разведчики перешли в другие комнаты, заняли оборону; эсэсовцы, которые было сунулись к входным дверям в здание, снова откатились назад, ие выдержав прицельного огня.
Маркелов посмотрел в сад, который примыкал к зданию. Из окна виднелись только кудрявые зеленые кроны деревьев, да кое-где длинные, неширокие проплешины, заполненные дикорастущим кустарником и виноградом. «Бронетранспортер!» — вспомнил. Присмотрелся — в той стороне вроде спокойно. Похоже, гитлеровцы сосредоточились только перед фасадом. Впрочем, с тыльной стороны, где первый этаж вообще не имел окон, а на втором они напоминали бойницы — узкие, высокие, кое-где зарешеченные — подобраться было трудно, а проникнуть в здание тем более.
— Старшина! — окликнул Татарчука, который, забаррикадировав входные двери, расположился возле окна крохотной часовенки, пристроенной к зданию, судя по архитектурном деталям, в начале века.
— Сейчас, командир! — отозвался старшина и, выбрав момент, уложил наповал пулеметчика, который имел неосторожность подобраться поближе к зданию со стороны часовни.
— Слушаю! — подбежал Татарчук к Маркелову.
— Попробуем прорваться к бронетранспортеру, — Маркелов испытующе смотрел на старшину.
— Я уже думал об этом. Перещелкают нас, как перепелок. Место открытое, пока скроемся за деревьями… Не исключено, что там засада.
— Нужно кому-то поддержать огнем… — Алексей хмурился, зная наверняка, что ответит старшина.
— Конечно. Забирайте Ласкина, а я тут потолкую с фрицами по душам. Патронов хватит. Вот гранат маловато…
И Татарчук принялся деловито осматривать свой боезапас, считая вопрос решенным.
Маркелов едва не застонал от горечи, но только молча вынул из сумки две свои гранаты и положил перед старшиной.
— Кучмин! Пригода! Уходим… — старший лейтенант прикинул высоту второго этажа и начал торопливо разматывать веревочную бухту.
— Иван! — снова окликнул он Татарчука, который уже направился в часовню. — Если с бронетранспортером дело выгорит, мы тебя прихватим. Так что будь наготове.
— Хорошо, командир.
— Кучмин, давай сюда Ласкина, — старший лейтенант на время присоединился к Татарчуку, и вдвоем они быстро загнали эсэсовцев в укрытия — те уже были в опасной близости к зданию.
— Командир! — позвал Алексея Кучмин. — Колян закрылся в трапезной. Говорит, уходите. И еще что-то, я не понял, за выстрелами не слышно.
— Ласкин! Ласкин! — забарабанил Алексей в тяжелую дверь трапезной. — Нужно уходить, открывай!
— Командир, — тихий, но внятный голос Ласкина раздался совсем рядом по другую сторону двери. — Я остаюсь… Я вас прикрою. Со мной вам не уйти…
— Ласкин, я приказываю!..
— Командир… — голос Ласкина дрожал. — Алеша, прости… Не поминайте лихом, ребята. Спасибо за все. Прощайте!
— Ласкин! Колян! — Алексей навалился на дверь, но она даже не шевельнулась.
Ласкин не отзывался, но его автомат грохотал под сводами, почти не переставая.
— Он не откроет… — Степан не поднимал глаз на Алексея.
— Пойдем! — решился наконец Маркелов…
Первым по веревке спустился на землю Татарчук: он быстро скользнул вниз, ободрав ладони до крови, и тут же отполз в сторону, за большой камень; но его опасения оказались напрасными — выстрелов не последовало.
Таким же манером за ним последовали и остальные. Только раненый Пригода не удержался и отпустил веревку, но его подстраховал Кучмин.
Казалось, до деревьев рукой подать, А если гитлеровцы держат их на прицеле? Маркелов затянул потуже поясной ремень и решительно взмахнул рукой — вперед!
Эсэсовцы заметили их чересчур поздно, они тут же перенесли огонь в сторону сада, но Ласкин тоже не зевал и, выпустив длинную очередь, заставил немцев на мгновение потерять разведчиков из виду. Пока гитлеровцы отвечали Ласкину, разведчики успели забраться в глубь сада и теперь бежали к бронетранспортеру изо всех сил; не обращая внимания на пули, которые рвали кору деревьев, стригли ветки и рушили на них целые потоки дождевой воды.
«Опоздали!» — Маркелов увидел немецкого солдата, который высунулся по пояс из люка бронированной машины и целился в них.
Не сбавляя хода, Алексей выкрикнул что-то невнятное и полоснул очередью по бронетранспортеру; солдат вскинулся, нажал на спусковой крючок, но пули прошли над головами разведчиков. Он взмахнул руками, словно раненый ворон крыльями, и, выронив автомат, медленно сполз на сиденье.
Второй эсэсовец выскочил из-за бронетранспортера и, вырвав чеку гранаты, размахнулся для броска. Степан и Маркелов ударили почти одновременно, гитлеровец отшатнулся назад и упал; взрыв гранаты застал разведчиков на земле — осколки прозудели над ними, словно осиный рой.
Больше возле бронетранспортера немцев не оказалось — не ожидали, видимо, что разведчики рискнут вырваться из огненного кольца таким образом. Татарчук быстро осмотрел машину, включил зажигание — мотор заработал. Кучмин возился около пулемета, который оказался в полной исправности; запас патронов был солидный, и Степан, примерившись, выпустил длинную очередь в эсэсовцев, которые уже окружали их.
Гитлеровцы залегли.
— Прорываемся во двор! — приказал Маркелов.
— За Коляном, — обрадовался Татарчук, выжал сцепление, и бронетранспортер, набирая скорость, покатил по садовой дорожке.
— Степан! — вдруг закричал Маркелов и, схватив автомат, открыл люк с намерением выбраться наружу.
Кучмин увидел, что так взволновало старшего лейтенанта: из-за дерева торчал смертоносный набалдашник трубы фаустпатрона, который держал в руках солдат с Железным крестом на мундире, — но развернуть пулеметную турель не успел: немец приложил трубу к плечу и нажал на спуск.
И только Татарчука реакция не подвела: рванув машину в сторону, он резко затормозил; заряд пролетел в нескольких сантиметрах от мотора.
— Сукин сын… — пробормотал старшина, глядя, как эсэсовец, обхватив яблоню обеими руками, сползает вниз — Маркелов опоздал на самую малость.
Вытерев о брюки внезапно вспотевшие ладони, Татарчук снова включил скорость.
Степан крутился вместе с турелью, словно волчок; треск крупнокалиберного пулемета распугал эсэсовцев, которые попрятались в укрытия и лишь изредка отваживались отвечать на выстрелы.
Бронетранспортер плутал по садовым дорожкам. Татарчук едва не плакал от бессилия — на пути к спасению Ласкина, который все еще напоминал о себе короткими и редкими автоматными очередями, вставала непроходимая стена деревьев.
Тем временем эсэсовцы все теснее сжимали бронетранспортер в свинцовые тиски — пули барабанили по броневым листам обшивки градом; и еще один фаустпатрон не достиг цели.
— Проскочу… — Татарчук упрямо выжимал из мотора все возможное.
Грохот сильного взрыва привлек внимание разведчиков: из окна трапезной повалил густой черный дым, смешанный с пылью; автомат Ласкина замолчал.
Еще не веря в случившееся, Татарчук яростно бросил машину в узкий проход между деревьями, одно из которых хрупнуло и сломалось, словно тонкая сухая ветка; проскочил, но тут же наткнулся на раскидистую грушу и едва успел затормозить, что смягчило удар.
— Назад, Иван! — закричал Кучмин.
— Колян погиб… Погиб… — шептал безутешный Татарчук, выезжая на садовую дорожку, которая вела к пролому в стене: все его старания оказались тщетными.
Возле монастырских стен, на дороге, стояли четыре грузовика, десятка два мотоциклов и легковая машина. Степан с горящими глазами, в которых засветились гневная радость и упоение боем, полоснул очередью вдоль этой небольшой колонны; две машины загорелись, в облицовке легковушки зачернели крупные рваные отверстия.
Татарчук, не сбавляя хода, протаранил левым бортом несколько мотоциклов и, выехав на дорогу, включил самую высокую скорость.
Но на повороте к окраине старшина вдруг резко затормозил: со стороны центра к монастырю спешили бронетранспортеры, впереди которых громыхали два легких танка.
— Сворачивай! — Маркелов показал на грязный переулок.
Татарчук повел машину через лужи, колдобины и липкую грязь к виднеющейся метрах в двухстах брусчатке одной из улиц, параллельной той, по которой шла вражеская колонна.
Проскочить им удалось и переулок, и мимо немецких танков, но гитлеровцы все-таки успели заметить их маневр и пустились в погоню.
Степан только вздыхал, огорченно поглядывая на безмолвный пулемет — закончились патроны. А преследователи настигали; уже несколько снарядов вздыбили землю впереди их машины, и в обшивке появились дыры от бронебойных пуль, которыми густо сыпали им вдогонку фашисты.
Мост появился внезапно, как показалось разведчикам, которые пристально следили за погоней.
Реку нельзя было узнать: совсем недавно это был узкий и обмелевший ручей — воробью по колено, а теперь в берегах бурлил с грозным ревом мутный поток, который время от времени перехлестывал через дощатый настил моста. Казалось, волны раздвинули берега, и теперь мост напоминал тонкое, ненадежное бревно, перекинутое через бездонную пропасть — отраженное в волнах небо подчеркивало ее глубину.
Пост фельджандармов разведчики распотрошили в мгновение ока; спаслись немногие, и среди них — уже знакомый им фельдфебель, который, не долго думая, прыгнул под мост.
Степан, глядя ему вслед, только огорченно ругнулся; вдруг он крикнул:
— Тормози!
Татарчук в недоумении уставился на него; бронетранспортер остановился посреди моста.
Степан подхватил ящики с толом и спрыгнул на настил.
— Пошел! — крикнул он, не глядя на растерянных разведчиков. — Ну! Быстрее!
— Стой! — Маркелов схватил за плечо Татарчука уже на берегу, сообразив, что задумал Степан.
— У него же нет… взрывателей… — теперь понял и Татарчук.
— Степа-а, не нужно-о! — что было мочи закричал Маркелов, сложив ладони рупором.
Кучмин, который следил за приближающимися к мосту танками, обернулся на крик и, помахав рукой, что-то ответил, но за шумом мотора никто ничего не разобрал.
Степан опустился на корточки возле ящиков со взрывчаткой, пристально посмотрел на лохматые тучи, через которые уже проглядывал тусклый солнечный диск, чему-то улыбнулся с грустинкой и опять перевел взгляд на танки, которые вползали на мост.
— Приехали… — прошептал и выдернул предохранительную чеку гранаты…
16. Ясско-Кишиневская операция
Генерал Фриснер был раздражен. В течение пяти минут он гневно выговаривал командиру румынской танковой дивизии «Великая Румыния»:
— …Почему до сих пор не закончено перевооружение? Почему не выполнен мой приказ? К дьяволу ваши оправдания! Меня это не интересует. Русские не будут ждать, пока ваши механики соизволят научиться рычагами дергать. Неужели это вам не ясно? Германия дает вам первоклассную технику, и потрудитесь оправдать оказанное доверие! Хайль!
Генерал бросил трубку и приказал дежурному офицеру связи:
— Соедините меня с генералом Думитреску…
Ходил по кабинету, невидящим взглядом осматривая стены, сплошь увешанные оперативными картами.
Абсолютное затишье на оборонительных рубежах группы армий «Южная Украина» начало его раздражать: по всему было видно, что русские вот-вот начнут генеральное наступление и готовятся к нему очень тщательно. Тяжело было сознавать свое полное бессилие перед грядущим: сил для упреждающего удара явно не хватало, несмотря на то что за последние две недели из рейха прибыло пополнение в людях и технике, а гадать на кофейной гуще, что предпримут русские в ближайшее время и какие силы сосредоточены у них против его армий, для него, достаточно опытного и энергичного военачальника, было невыносимо.
Потуги полковника Дитриха добыть обещанную информацию о дислокации и численности русских частей, а также замыслах советского командования не увенчались успехом, что, впрочем, можно было предположить с самого начала: русские научились бережно хранить свои тайны и нередко ставили в тупик лучшие умы абвера.
Генерал Фриснер посмотрел на календарь — 18 августа. Еще раз пробежал строчки специального воззвания ко всем старшим офицерам немецких и румынских войск, которое подписал сегодня ранним утром. Все верно — в ближайшие дни наступление Советской Армии неминуемо. И его требование к офицерам защищать позиции до последней возможности своевременно…
Переговорив с генералом Думитреску, командующий группой армий «Южная Украина» вызвал полковника Дитриха.
— Ты стал плохо выглядеть, Рудольф. Что случилось?
— Печень… — Дитрих и впрямь цветом кожи был похож на вурдалака, каким его рисуют деревенские художники — грязно-серым с синевой.
— Печально. Сочувствую… Какие новости по твоему ведомству?
— Обнадеживающие, господин генерал.
— Ну? — высоко поднял брови Фриснер. — Это редкость по нынешним временам. Докладывай.
— В районе Шерпени разведчики 6-й армии обнаружили большое скопление войск противника. По всем признакам русские готовятся к наступлению именно в районе Кишинева.
— Это подтверждают и захваченные «языки»?
— К сожалению, «улов» наших разведчиков весьма скромный. И что-либо уточнить не удалось.
— Тогда еще на чем основывается твоя уверенность в том, что советские войска ударят по 6-й армии?
— По данным радиоразведки, в районе кишиневского выступа сосредоточены две армии в составе нескольких корпусов — вот перечень, — полковник Дитрих положил перед Фриснером отпечатанный на машинке лист бумаги. — Кроме этого, отмечено продвижение танковых частей русских в районы, близкие к месту предполагаемого наступления на Кишинев. Это уже по данным воздушной разведки. Также установлено, что русские перебрасывают сюда соединения, которые до этого были на флангах и из резервов.
— Значит, Руди, наша игра удалась? — Фриснер впился колючим взглядом в лицо полковника. — И русские поверили, что мы ждем их на флангах? Я так понял смысл твоего доклада?
— Да, господин генерал, — твердо ответил Дитрих. — Я не сомневаюсь в том, что русские приняли нашу дезинформацию за истинное положение вещей.
— И ты можешь дать гарантию, что русские разведчики, которых, кстати, ты упустил, Рудольф, — генерал недовольно сдвинул брови, — не смогли сообщить в свой штаб о наших замыслах?
Легкая тень пробежала по лицу полковника и спряталась в морщинах.
— Я готов дать такую гарантию. А что касается русских разведчиков, то им больше не удастся обвести нас вокруг пальца. Они окружены, и скоро я доложу вам об успешном завершении операции по их ликвидации.
— Рудольф, мне они нужны живыми, — твердые ноты прозвучали в голосе Фриснера. — Хотя бы один из них. Это приказ.
«Не верит…» — полковник Дитрих почувствовал, как взыграло самолюбие. Стараясь унять непривычное чувство неуверенности и даже боязни, он как можно суше ответил:
— Слушаюсь, господин генерал.
— Я буду очень рад, Руди, — смягчился Фриснер, — если мы оба окажемся правы в наших предположениях и выводах. Слишком много поставлено на карту.
— Господин генерал, я сделал все от меня зависящее. Нельзя свершить то, что нам не предначертано.
— Кисмет — так говорят турки… — сардоническая ухмылка появилась на губах генерала. — Будем надеяться, что Бог и удача не отвернутся от великой Германии в предстоящих сражениях…
Фриснер внимательно прочитал бумаги, которые дал ему полковник Дитрих. Изредка он делал пометки на полях красным карандашом, и тогда лицо генерала хмурилось — его хроническая недоверчивость, даже, казалось бы, к общеизвестным, неоднократно доказанным истинам, была хорошо знакома Дитриху еще с училищной скамьи. Впрочем, полковник тоже не принадлежал к клану наивных и доверчивых простаков — служба в разведке, которую он начал под руководством самого Вальтера Николаи, не располагала к подобным человеческим слабостям.
— Рудольф, а теперь мне хотелось бы услышать твою оценку политической ситуации в Румынии на сегодняшний день.
— Ничего нового, господин генерал. Разве что, по непроверенным пока данным, румынские дипломаты в Каире вступили в переговоры с представителями США и Англии.
— И чего они добиваются?
— Источник информации довольно скуп на подробности. Сообщает, что румыны вроде бы просят ввести в страну англо-американские войска, чтобы сохранить существующий режим.
— Это все?
— В этом вопросе — да.
— Что еще?
— Накаляется обстановка в армии. Я об этом уже докладывал. Даже высшим чинам румынской армии, по моему мнению, верить невозможно.
— Кого ты имеешь в виду?
— Генералов Аврамеску, Мачича, Василиу-Решкану, Санатеску, Радеску…
— Даже эти двое?
— Эти понадежнее, чем другие, но за ними нужен глаз да глаз.
— Как король Михай?
— Затаился. Изображает беспечного гуляку, учится искусству пилотажа.
— С маршалом Антонеску не конфликтует?
— Пока нет. А вот адъютант короля полковник Ионеску и генерал Михаил явно что-то затевают.
— Что именно?
— Трудно сказать — осторожничают. Но это не главная опасность, которая может угрожать Антонеску.
— Даже так?
— Коммунисты и глава крестьянской организации «Фронт земледельцев» доктор Петру Грозу — вот силы, которые опасней во сто крат бунтующих генералов, на которых стоит только прикрикнуть, и они станут в строй по стойке «смирно»…
Полковник Дитрих торопливо спускался в полуподвальное помещение тюрьмы. Дежурный унтер-офицер, узнав полковника, козырнул и предупредительно отворил обитую стальными листами дверь.
— Как дела, Зигфрид? — спросил он у широкоплечего детины, который плескался под ржавым рукомойником.
— Молчит, господин полковник.
— Подготовьте его к очной ставке.
— Слушаюсь, — Зигфрид тщательно вытер о замусоленное полотенце свои мохнатые лапищи и, накинув на плечи мундир с погонами обер-лейтенанта, скрылся за дверью в соседнем помещении.
Вскоре он оттуда вышел и обратился к своему помощнику, толстому, с бесцветными глазами, который, пристроившись возле кипятильника, спокойно жевал бутерброд.
— Эрих, давай этого… — обер-лейтенант пощелкал пальцами, силясь вспомнить.
— Понял. Сейчас, — толстяк с видимым сожалением завернул остатки бутерброда в кусок газеты и затопал вверх по лестнице.
Полковник курил, осматривал знакомую до мелочей «камеру первичной обработки». Заметив кровь на полу возле двери, он брезгливо показал Зигфриду:
— Насвинячили… Убрать немедленно!
— Виноват, господин полковник, не заметили…
Худой, морщинистый господин, прижимая дрожащими руками видавший виды котелок к груди, застыл в поклоне перед полковником.
— Фамилия?
— Эминеску, ваше сиятельство.
— Род занятий?
— Меблированные комнаты с девушками. Содержу для вермахта и солдат короля Михая, да будет благословенно имя его.
— Зигфрид, — кивнул полковник в сторону Эминеску, — займись…
Обер-лейтенант вразвалку подошел к Эминеску и коротким сильным ударом сбил его с ног. Тот взвыл от боли и, тыкаясь в сапоги Зигфрида, принялся причитать.
— Замолчи! — рванул его за шиворот обер-лейтенант и поставил на ноги. — Ублюдок. Слушай и смотри внимательно. Сейчас приведут одного человека, которого ты должен знать. Расскажешь, где, когда, при каких обстоятельствах ты видел его! Понял?!
— Да-да, господин… — пролепетал полумертвый от страха Эминеску.
При виде румынского солдата в окровавленной рубахе, который бессильно повис на руках толстого Эриха, он в ужасе закрыл глаза, но оплеуха, которую отпустил ему обер-лейтенант, быстро привела его в чувство.
— Знаешь его? Говори! — обер-лейтенант хищно оскалил зубы.
— Как же, как же… — Эминеску протер слезившиеся глаза. — Это господин Михай. Фамилии не знаю. Радист комендатуры…
Полковник Дитрих бывал в своем кабинете редко. Месяца три назад он перебрался в этот город с таким расчетом, чтобы быть поближе к линии фронта, но не упускать из виду и Бухарест. Полковник сидел за огромным столом, больше похожим на бильярдный, чем письменный — даже обтянут зеленым сукном, — а довольно невнимательно просматривал свежие агентурные данные. Его взгляд часто задерживался на светло-коричневой папке; полковник хмурился и отводил глаза. Русская разведгруппа… Лейтенант Маркелов… Досадные промахи, нелепые случайности. И это в такой ответственный момент! На карту поставлена его карьера, блестящая репутация разведчика, наконец, судьба группы армий «Южная Украина» и даже рейха. Гром и молния!
Полковник в который раз открыл светло-коричневую папку. Донесения радиста при штабе группы «Велер», который зафиксировал мощный передатчик в тылу и успел записать несколько цифровых групп неизвестного кода. Неизвестного? Черт возьми, как бы не так! Код и почерк радиста разведгруппы Маркелова, как установили специалисты абвера. Правда, код расшифровать не удалось, но разве это главное?
Полковник даже задохнулся от гнева на свою персону: вздумал доиграть заведомо выигранную партию! Старый идиот… Что стоило поступить по давно испытанной схеме: отдать русских Зигфриду, а затем — в расход. И никаких хлопот…
Передатчик обнаружили только на исходе второй недели после его выхода в эфир: он был явно стационарным, но вычислить координаты местонахождения оказалось довольно сложно. Комендатура города — остальные варианты отпали.
Показания радистов, начальника радиостанции, дневального по казарме, девицы из «заведения» Эминеску, наконец самого Эминеску. Круг замкнулся. К сожалению, чего-либо добиться от радиста не удалось — Зигфрид перестарался…
Не хватало только одного звена в цепочке: как проникли русские в комнату связи? Впрочем, разве это так важно?
Полковник Дитрих поднял телефонную трубку.
— Я слушаю, Рудольф, — голос на другом конце провода был тих и устал.
— Господин командующий, — полковник собрался с духом. — Осмелюсь доложить…
Пауза чересчур затянулась. Дитрих с тревогой ждал, что ответит ему Фриснер. Наконец в трубке раздался шорох, и генерал заговорил все так те тихо, но с несколько иной, чем до этого, интонацией:
— Полчаса назад мне доложили, что русские предприняли наступление на флангах. Значит — это разведка боем. Теперь мне понятны их замыслы. К сожалению, слишком поздно… — голос генерала окреп, приобрел жесткость: — Мне будет очень жаль, полковник Дитрих, если обнаружится, что вы ввели штаб группы армий в заблуждение…
В десять часов вечера генерал Фриснер созвал экстренное совещание командующих армиями и 4-м воздушным флотом. Румынских военачальников командующий группой армий «Южная Украина» приглашать не счел нужным. Было решено срочно перегруппировать силы, поскольку на следующий день, по твердому убеждению Фриснера, следовало ожидать крупного наступления советских войск.
И на другой день мощное наступление советских войск опрокинуло немецкую оборону. Это было начало знаменитой Ясско-Кишиневской операции.
Владимир Рыбин ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ Повесть
I
Молодой, только что народившийся тропический циклон отыскал в безбрежности Индийского океана несколько маленьких тральщиков и принялся играть ими, перекидывая с волны на волну. На кораблях этого ждали, и потому жизнь в каютах, кубриках, на боевых постах шла своим чередом. Единственное, что беспокоило командира отряда тральщиков капитана 1 ранга Полонова, — как поведет себя техника, не приспособленная к ураганам открытого океана. В людях он не сомневался.
Полонов сделал все, чтобы избежать встречи с циклоном. Весь вчерашний день отряд уходил на зюйд. Но к вечеру стало ясно, что совсем уйти не удастся, что ураган все же накроет корабли черным своим крылом. И тогда тревожное чувство ушло и появилась настороженность: как-то отряд выйдет из испытания? И хоть не было в том никакой нужды, он передал по радио командирам кораблей, чтобы мобилизовали все возможности и достойно прошли через шторм.
— Есть! — один за другим отвечали командиры.
Только капитан 3 ранга Дружинин, командир тральщика, шедшего последним в кильватере, не удержался, добавил:
— Теперь все зависит от господа Бога, да от замполита.
Эту его присказку знали все офицеры отряда. Родилась она в ту пору, когда замполитом у Дружинина был Володичев, «вечный капитан-лейтенант», зависть всех командиров кораблей. Еще семь лет назад Володичеву вышел срок присвоения очередного воинского звания, но он все оставался капитан-лейтенантом, поскольку это потолок для замполита на тральщике. Не раз ему предлагали повышение. Отказывался, отвечая полушутя-полусерьезно, но тут он на месте, а как приживется на новой должности, еще не известно. Этой весной Володичев слег в госпиталь, и поскольку кораблю предстоял дальний поход, в район Суэцкого залива, то командование назначило на эту должность нового замполита, молодого — только из училища — лейтенанта Алтунина.
— Замполит — красавец мужчина, — сказали Дружинину в штабе. — К тому же в некотором роде он твой коллега, тоже из моряков-пограничников.
Последнее успокоило командира: сам когда-то начинавший службу на пограничных кораблях, он знал, какая это школа.
Лейтенант Алтунин был высок, строен, плечист.
Почти всю штормовую ночь он провел на боевых постах и в кубриках. Тральщик не крейсер, на нем внутренних переходов не так много, и Алтунину не раз приходилось выбираться на верхнюю палубу и сжиматься под ударами волн, цепляясь за штормовой леер. До своей каюты замполит добрался только под утро, переоделся в сухое и еще посидел у маленького столика, просматривая составленный накануне план политработы. Первым пунктом стояло: политзанятия на тему «Военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке и задачи личного состава но повышению бдительности и боевой готовности».
Волна ударила в борт с такой силой, что тральщик завибрировал; графин, стоявший на полочке в глубоком гнезде, жалобно зазвенел. За иллюминатором была сплошная чернота. Пенные полосы серыми призраками возникали в свете судовых огней, наискось били по стеклу и исчезали.
Алтунин задраил иллюминатор глухой крышкой и принялся вытаскивать из глубоких ниш книжного шкафчика брошюры для завтрашних политзанятий. Полчаса он писал конспект, затем, не раздеваясь, прилег на койку, уперся ногами и головой в переборки, чтобы не елозить по одеялу. И подумал, что ему страшно повезло: как бы еще мог он попасть в Красное море, к берегам Египта и Аравии, в сказочный край из тысячи и одной ночи?!
Он задремал и вздрогнул, почувствовав тяжелый удар волны, обрушившейся на корабль. С треском разлетелся выскочивший из гнезда графин. Выскользнули из ниш и посыпались на пол книги, брошюры, конспекты. Алтунин вскочил с холодной дрожью в спине, подумал: произошло столкновение. Все переборки корабля мелко дрожали, и откуда-то из-за них доносился дробный грохот.
Торопливо застегиваясь, Алтунин вдруг понял, откуда этот грохот. Он был хорошо знаком, с ним всегда связывалось облегчающее чувство конца напряженности, конца похода: так грохочет в ключе отдаваемая якорь-цепь. Но поскольку в открытом океане якорь не отдают, значит, его сорвало и теперь он уходит в глубину, увлекая за собой цепь.
Алтунин выскочил в коридор, метнулся к двери, ведущей на верхнюю палубу, как положено, переждал, когда схлынет волна, и рванул ручки задраек. Корабль накренился, и дверь дернулась из рук. Он подался вслед за дверью, оглушенный ревом шторма. И тут неведомо откуда взявшаяся, совсем не соответствующая ритму волна хлестнула вдоль надстройки, ударила по двери, захлопнула ее со звуком выстрела, Алтунин отлетел к противоположной переборке, ударился головой о пиллерс…
Когда очнулся, увидел над собой бледную близкую луну. На нее наползала круглая тень, и он, присмотревшись, понял, что это светильник на подволоке, а тень — склонившаяся над ним голова командира корабля капитана 3 ранга Дружинина.
— Очнулся? — обрадованно заговорил командир. — Не тошнит? Тогда все обойдется. Руки, ноги целы, голова цела — можно не волноваться. Шишка, правда, здоровая, но шишки нашему брату бывают на пользу.
Алтунин слабо улыбнулся.
— Чего тебя на палубу понесло?
— Комиссар… должен быть… с людьми, — разделяя слова, ответил Алтунин.
В голове у него гудело, и он никак не мог понять, где источник этого гула — за бортом или в нем самом. И слова командира долго не мог осмыслить, смотрел на него вопросительно и молчал. Потом он подумал о качке, которая стала какой-то странной: под волну корабль шел стремительно, а выбирался из-под нее словно бы нехотя, принимая на себя тонны воды. Так могло быть в том случае, если якорь висит на глубине и действует как подводный парус.
— Якорь-цепь? — спросил Алтунин.
— Да. Сорвало со стопоров. Вытравилась вся до жвака-галса.
— Поднимать надо.
— Лебедка вышла из строя. — Дружинин помедлил, улыбнулся и не удержался от ехидной шутки, на которые был горазд в любых условиях: — Ты лежи. Это мы как-нибудь сами, без политобеспечения.
— Что будете делать?
— Доложил командиру отряда. Но сроки, сроки, можно ли задерживаться? Думаю, придется отдать жвака-галс.
— Хотите подарить океану якорь?.. Лишаете людей возможности поверить в себя…
— О чем ты говоришь?
— О вымбовках.
Это не требовало объяснений. У вымбовок одно назначение, ими пользуются, когда нужно вращать шпиль, вручную выбирать якорь-цепь.
— В такой-то шторм? — удивился Дружинин. — Ты лежи… — В голосе командира уже слышалось раздражение. — Якорь — дело командирское, не замполитовское.
Командир быстро вышел. Некоторое время возле Алтунина сидел корабельный фельдшер старшина 2-й статьи Куприянов, потом ушел, решив, что замполит заснул. А он лежал и маялся. Его все-таки немного поташнивало, и он боялся, что это от сотрясения мозга. Но это могло быть и от качки. Такой шторм кого хочешь умотает. Он прислушивался к себе и в то же время думал о странном перекосе в сознании иных командиров-воспитателей, перекосе, который он про себя называл «болезнью мирного времени». Выражалась эта болезнь в растущей робости перед возможными опасностями, в боязни, как бы чего не вышло. Ушибется матрос или, не дай бог, упадет за борт — с командира голову снимут. По может ли моряк бояться шторма? Прятаться в трюме только потому, что по палубе гуляют волны? Надо обеспечить безопасность, но надо выходить на палубу. Пехоту обкатывают танками. И матроса надо «обкатывать». Штормовой волной. Чтобы мужал, укреплял веру в самого себя…
Коридор был пуст. Шатаясь то ли от качки, то ли от навалившейся слабости, Алтунин прошел по коридору. У трапа запнулся, чуть не упал, торопливо оглянулся, боясь, что кто-либо увидит его таким. По трапу поднимался с трудом, подтягиваясь на руках.
В рубке было светло. Сначала Алтунин подумал, что уже утро, но свет был неровный, колеблющийся. Он подошел к иллюминатору, возле которого стоял Дружинин, увидел из-за его плеча стальной бок волны, нависшей над бортом, блестящую в свете прожектора палубу и шестерых матросов, приросших к вымбовкам у шпиля. В следующее мгновение волна накрыла бак и схлынула, исчезла в темноте. Шестеро матросов все так же медленно ходили вокруг шпиля, словно и не было никаких волн.
— Спасибо, Сергей Иваныч! — сказал Алтунин.
— За что спасибо? — спросил Дружинин, даже не обернувшись, словно заранее знал, что замполит встанет.
— За вымбовки.
— Думаешь, твоя идея? Остаться без якоря в самом начале похода? Позорище. Из-за нас отряд совершил поворот «все вдруг». Время теряем, а ты говоришь…
— Тогда за урок спасибо, за педагогику. После вымбовок эти ребята будут кандидатами в круглые отличники. Переборов такое, они преодолеют все.
Дружинин ничего не ответил, прижавшись лбом к стеклу, старался разглядеть что-то на баке. Внизу все тем же медленным хороводом ходили матросы, и было в этом их размеренном движении нечто упрямо непреклонное, уверенное. Позванивала рында на баке. Сквозь шум волн слышалось погромыхивание выбираемой якорь-цепи.
— Кто там, не разберу? — спросил Алтунин.
— Боцман, машинист и твои «четверо Володей» из второго кубрика.
— Жаль.
— Что жаль?
— Володя Войханский — редактор стенгазеты. Как же он о себе писать будет?
— Было бы о чем, а желающие написать найдутся. — Дружинин обернулся, добавил строго: — Идите-ка вы, Николай Иваныч, отдыхать. А то как бы не пришлось докладывать командиру отряда о вашем конфузе.
Спустившись в свою каюту, Алтунин лег и попытался уснуть. Но не спалось. Он прислушивался к шторму, ловя в переполняющих каюту шумах глухое постукивание якорной цепи, и думал о главном боцмане мичмане Зубанове, машинисте Дронове и о «четверых Володях», шагавших сейчас вокруг шпиля и, по сути дела, спасавших честь корабля. Потому что потерять якорь не только накладно, но еще и стыдно для моряка.
«Четырьмя Володями» Алтунин окрестил их незадолго до этого похода, когда вступал в должность замполита. Знакомясь с кораблем, он спустился во второй кубрик и увидел четырех улыбающихся ребят. Попросил их представиться полностью, с именем и отчеством.
— Командир отделения минеров старшина второй статьи Владимир Иванович Чапаев, — громко доложился первый из них.
— Чуть-чуть не Василий Иванович, — сказал Алтунин.
Старшина вздохнул, сказал заученно:
— Батя виноват, лишил такой возможности.
— Но это и ответственно быть полным тезкой…
— А вы? — спросил Алтунин, обращаясь к другим.
— Командир отделения комендоров старший матрос Турченко Владимир Николаевич.
— Старший матрос Войханский Владимир Александрович.
— Командор матрос Владимир Тухтай.
— А отчество?
— Тухтаевич, товарищ лейтенант. У нас, у арабов, фамилия и есть отчество.
— Как это — у арабов?
— А я араб, товарищ лейтенант.
— Откуда вы родом?
— Из-под Бухары, товарищ лейтенант. Кишлак Джувгари Гиджуванского района.
— И давно вы туда приехали? — спросил Алтунин, решив, что Тухтай из семьи каких-нибудь переселенцев.
— Лет пятьсот назад, а может, и больше, — озорно блеснув глазами, ответил матрос.
— А я и не знал, что у нас в стране есть арабы, — искренне удивился Алтунин. И отметил про себя, что надо будет запланировать беседу этого араба с личным составом.
— Не кубрик, а сплошной интернационал, — сказал Турченко.
Помолчали. Потом кто-то из матросов сказал:
— Мины-то настоящие.
— Так мы не подрываться идем, а подрывать их, — счел нужным вмешаться Алтунин.
— Но ведь там, товарищ лейтенант, война идет, А мы будем посередине, с одной стороны — арабы, а с другой — израильтяне. Всякое может быть.
— Всякое, конечно, может быть. Но его не должно быть. Ясно вам?
— Так точно, товарищ лейтенант!
Они улыбались, довольные. Матросы, умеющие шутить, — это ли не актив политработника? Начальник, понимающий матросские шутки, — можно ли желать лучшего?..
Спал Алтунин как в беспамятстве, не разбудили ни качка, ни волны, бесновавшиеся за бортом. Проснулся, услышав стук в дверь. В дверях стоял матрос Войханский, побритый, умытый, в сухой робе, будто не об только что висел на вымбовке, выхаживая якорь.
— Извините, товарищ лейтенант. Командир сказал: нужно делать новый стенд, а материала нету.
— А якорь?
— Якорь на месте. Теперь его только с клюзом вырвать может.
— Который теперь час?
— Второй. То есть не второй, товарищ лейтенант, а четырнадцатый. День уже. Все давно отобедали.
Одевшись, Алтунин тут же достал старые бумаги, разложил на койке, принялся искать заготовленный когда-то чертеж стенда. И в этой радостной суете забыл и о своем ночном конфузе.
II
В тропической жаре, казалось, плавился сам океан. Гладким ослепительным, зеркалом лежала водная гладь на все четыре стороны, и только за кормой словно бы искрилось битое стекло. На расстоянии кабельтова от кормы этот след сливался с двумя другими, тянувшимися за соседними кораблями. Дальше, до самого горизонта, лежала безукоризненно прямая, как автострада, широкая полоса вспененной зыби.
Корабли шли почти борт о борт: слева — противолодочный крейсер «Волгоград», взметнувший на пятьдесят метров громаду основной надстройки, справа — большой противолодочный корабль «Смелый» с изогнутым, устремленным вперед форштевнем, похожий на ежа из-за многочисленных, торчащих в разные стороны, антенн и станин пусковых ракетных установок. Между ними, отделенный от боевых кораблей неширокими полосами воды, стараясь держаться нос в нос, шел скромный танкер. Вправо и влево от танкера тянулись стальные тросы с подвешенными к ним резиновыми шлангами. Шла обычная для дальних походов операция — заправка горючим. Командир группы советских кораблей капитан 1 ранга Винченко не разрешил ложиться в дрейф, и заправку производили на ходу.
Командир «Волгограда» капитан 2 ранга Гаранин нетерпеливо похаживал по правому крылу мостика. Он сердито поглядывал на матросов, не очень расторопно, как ему казалось, работавших внизу, на узкую полосу воды, отделявшую крейсер от танкера, и с трудом сдерживал себя. Понимал, что все идет как надо и его плохое настроение зависит от чего-то совсем другого. Он знал этот свой недостаток — если радоваться, так напропалую, если сердиться, так на весь белый свет, — и старался не сорваться, не портить людям предстоящий праздник.
— Ну, как новая форма? Не жмет?
Гаранин оглянулся, сердито посмотрел на улыбающегося своего замполита капитана 3 ранга Долина и тоже улыбнулся, поняв вдруг причину своего плохого настроения. Все дело было в том, что он надел наконец свою нелюбимую тропическую форму — шорты, оголившие ноги, синюю пилотку с козырьком, всегда казавшуюся ему не более как мятой фуражкой, свободную рубашку с короткими рукавами, напоминавшую домашнюю распашонку. Все командиры на корабле одевались по погоде, и только Гаранин до сегодняшнего дня парился в повседневной флотской форме. Много раз порывался он переодеться, раздевался в каюте, осматривал в зеркало свою не слишком-то стройную фигуру и, вздохнув, снова надевал тужурку.
Но сегодня он уже никак не мог отложить тропическую одежду: вечером корабли пересекали экватор и предстоял праздник.
— Что нового, Игорь Петрович? — спросил он Долина.
— Пилоты жалуются. Жарко. Трудно летать.
— В Красном море будет жарче. Надо разъяснить.
Вода под бортом кипела, стремительно летела назад. На танкере и на крейсере стояли вдоль бортов вахтенные в оранжевых нагрудниках, посматривая на трос, натянутый между кораблями, на черный шланг, редкой гармошкой свисавший с троса.
— Салям, йа бинт! Исмик э? — услышал Гаранин веселый голос капитана 2 ранга Строева, выполнявшего в этом походе обязанности представителя политуправления при отряде кораблей.
— Тренируешься? — спросил Гаранин, с интересом оглядывая Строева, тоже вырядившегося в тропическую форму.
— Зубрю помаленьку. Не день будем стоять у египетских берегов, и не неделю.
— Думаешь, придется гулять по берегу?
— Вам — едва ли. Кто знает, какая обстановка ждет нас в Суэцком канале.
— Боевая, — подсказал Гаранин.
— Во-от, боевая. Разве вы в такой обстановке покинете корабль хоть на минуту? А мне, хочешь не хочешь, придется общаться с арабами.
— А что это вы сказали?
— Салям, йа бинт? Исмик э? — «Здравствуй, девочка! Как тебя зовут?»
— Зря про девочку-то учите. Это вам не Европа. «…Следует помнить, что даже при встрече со знакомыми нельзя спрашивать о здоровье жены, передавать ей поздравления и приветствия, — назидательно зачастил Гаранин, наизусть цитируя недавно прочитанное о нравах в арабском мире. — С женщиной нельзя разговаривать но телефону, если мужа нет дома. В магазине нельзя начинать разговор с рядом стоящими женщинами, даже если вы хотите спросить у них совета относительно покупаемого товара. Не рекомендуется слишком пристально рассматривать женщин на улице. Нельзя…»
— Хватит, хватит. Буду ходить по улицам с закрытыми глазами, — засмеялся Строев. — Про девочек — это я так, звучит больно интимно: «Исмик э?»
В дверях рубки появился рассыльный, громко крикнул с порога:
— Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться к товарищу капитану третьего ранга!
— Что стряслось? — спросил Строев.
— Товарища капитана третьего ранга Долина просит зайти в кают-компанию капитан третьего ранга Беспалов.
— Что значит — «просит зайти»? — удивился Долин. — Он что, входит в роль царя морского?
— Никак нет, бодро откликнулся рассыльный. — То есть так точно! Капитан третьего ранга Беспалов в настоящее время находится в обмундировании, то есть в одежде Нептуна.
— Что тут такого? — серьезно сказал Строев. — Царь просит к себе простого замполита. Не приказывает, заметьте, а просит. С его стороны очень даже деликатно.
— Что там? — спросил Долин. — Роли не поделили?
— Так точно! Русалки нет. Все отказываются.
— Что значит — отказываются?
— И товарищ капитан третьего ранга Беспалов говорит: здоровы больно матросы для русалки.
— Акселерация, — сказал Строев.
— А что особого нужно для русалки? — недоуменно спросил Долин.
— Ясно что. Но можно ограничиться чисто внешними признаками. Ну, скажем, ноги длинные. — Он оценивающе оглядел рассыльного. — Глаза голубые, краснеть умеет. Для косы у боцмана материал найдется…
— Товарищ капитан второго ранга, — взмолился рассыльный. — Нельзя мне быть русалкой. У меня усы растут.
— Побреешь.
— У меня грудь волосатая.
— Тоже побреешь. А? Чем не русалка? Стройная, красивая…
— И болтливая, — сердито бросил Гаранин.
— Доложи Нептуну: сейчас приду, — сказал Долин.
Почти не касаясь ступеней, держась только за поручни, Долин легко соскользнул по трапу в кондиционерную прохладу корабля.
Гаранин проводил взглядом замполита.
По морю шла легкая зыбь. Пустой горизонт четко отделялся от неба полосой густого ультрамарина. Ветер был балла на два. Самая подходящая для праздника погода.
Вахтенный офицер доложил, что до экватора остался ровно час хода.
— Как с заправкой? — спросил Гаранин.
— Через пять минут заканчиваем.
— Добро.
Он шагнул в рубку, подошел к микрофону корабельной трансляции. Откашлялся и щелкнул тумблером.
— Товарищи! — сказал тихо и строго. — Ровно через час мы пересечем линию экватора. Команде, всем свободным от вахт, приготовиться к построению.
Танкер отвалил, на его палубе суетились матросы, убирали шланги. Высокие мачты «Смелого», видные за надстройками танкера, словно бы поднялись еще выше: корабли расходились по своим местам в походном строю кильватера.
— Ну, пора, — сказал Гаранин и повернулся к вахтенному офицеру, ожидавшему у дверей рубки. — Поднимите флаги расцвечивания и сигнал «Поздравляю с переходом экватора»…
Оркестр грянул «Захождение». Из квадратного провала, темневшего на корме, донесся неожиданный на боевом корабле разноголосый, необузданный рев. Сначала над палубой показался золоченый трезубец Нептуна, потом его корона, темные очки, нос, намазанный чем-то фиолетовым, белая длинная борода. «Владыку морей» держала на плечах разномастная свита: виночерпий с помощником, доктор, казначей, звездочет, стражник, пираты в изодранных тельняшках, с камбузными ножами у пояса, с фантастическими рисунками на голых телах и черти самых невероятных видов, все оклеенные белыми крестами медицинского пластыря. В русалке Строев узнал рассыльного — в полотняной юбке, с голым животом в белым бюстгальтером, сделанным из вымазанных мелом угловатых чехлов от пушек. «Русалка», опустив глаза, скромно стояла позади Нептуна и теребила прядь длинных — почти до колен — волос. Уже когда подъемник с пестрой толпой, окружавшей Нептуна, почти вышел на уровень палубы, кто-то протянул русалке темные очки, и она, обрадованно надев их, заулыбалась вызывающе и кокетливо.
— Может быть, он все-таки доложит не мне, а вам? — спросил Гаранин капитана 1 ранга Винченко, стоявшего впереди группы офицеров.
— Кто? Нептун? Так он не докладывать будет, а требовать ответа. Нет уж, вы командир корабля, вам и отвечать.
Шагнув по палубе, Нептун остановился, огляделся вроде бы торжественно, по всем было видно, что он просто обдумывает, как поступить. По сценарию ему полагалось подойти к командиру корабля, а по уставу — к командиру отряда. И он пошел не к офицерам, а вдоль строя матросов, стуча о палубу и все более распаляясь от собственной решимости действовать по-своему.
— А? Что? Кто такие? — басовито выкрикивал он, заглядывая в лица матросов. — Русские? Раньше мне докладывали, что где-то на периферии — в Балтийском море, да Черном, Баренцевом, Японском — плавают смелые да умелые моряки. Русалки прямо измучили: сходи да сходи, батюшка, проведай, может, там есть настоящие мужчины. Верно я говорю? — Он неожиданно остановился, хлопнул русалку пониже спины так, что без матросской закалки той бы не устоять. — А я говорю русалкам, если смелые да умелые, то сами ко мне в океаны придут. А? Кто был прав? — снова повернулся он к отчаянно кокетничавшей русалке. — На всех моих океанах плавают теперь русские корабли. Правильно говорил товарищ… э-э владыка, который повыше меня будет, что даже в моей свите брожение началось: русских все реже приходится купать на экваторе. Так что уж не серчайте, дорогие моряка, если мои черти ненароком кого лишнего искупают…
Нептун кинул взгляд на группу старших офицеров, решительно подошел, ударил трезубцем о палубу:
— Что за корабль? Куда плывет? Что за люди на нем?
Гаранин выдержал паузу, поиграл глазами, показывая свое недовольство самовольничанием Нептуна — Беспалова. И ответил точно по сценарию:
— О, владыка морей, позвольте зачитать вам верительную грамоту экипажа крейсера «Волгоград». — Он развернул бумагу, откашлялся. — «В составе отряда советских кораблей крейсер прошел семь морей и теперь пересекает океан. Идем для выполнения задания Родины: открыть дорогу другим кораблям по Суэцкому каналу. Для дальнейшего выполнения боевого задания прошу вашего высочайшего соизволения пересечь экватор…»
— Открывать — это хорошо, — перебил его Нептун. — А то другие только и делают, что закрывают. Какой будет выкуп?
— Какой выкуп? — удивился Гаранин. — Про выкуп мы не договаривались.
— Дмитрий Алексеевич! — тихо взмолился Нептун. — Побойтесь бога. Полагается.
Из-за спины Гаранина появилась рука со стаканом.
— Сухое подойдет? — спросил Строев.
— Вы бы еще компота предложили.
— Как хочешь…
— Э-ей, — забеспокоился Нептун. — Давайте сюда. — Выпил, грустно посмотрел в пустой стакан и вдруг провозгласил во весь свой могучий голос: — Мы еще поглядим, на что вы способны!..
На середину палубы тотчас выкатились две группы матросов. «Черти» выкинули им конец каната и отскочили, потому что скромные тихие матросы, вцепившись в канат, сразу превратились в подобие необузданной свиты Нептуна. Крики, уханье, топот ног. Ни та, ни другая сторона не могла перебороть.
— Я доволен, — сказал Нептун, обеспокоенный затянувшимся поединком. — Вижу, что силенка у вас есть.
Но не так-то просто оказалось оторвать от каната разгоряченных матросов.
— Хватит! — прогудел Нептун.
На него не обратили внимания. И тогда он, забыв о сценарии, возопил так, что зазвенели динамики на надстройке:
— Смир-рна!..
Торопливо одергивая свои рубашки-распашонки, матросы побежали в строй.
Прогремел троекратный залп из салютных пушек, заиграл оркестр, и строи пошли перед Нептуном торжественным маршем. Когда последней прошагала перед ним кричащая, визжащая, гримасничающая свита, Нептун снял корону, вытер лоб и провозгласил усталым голосом:
— Объявляю перерыв. Построение через десять минут. Форма одежды — в трусах. Р-разойдись!
Через десять минут палуба напоминала пляж. Нептун вздохнул и скучным голосом принялся читать приказ:
— «Я, всесильный и всемогущий Нептун, владыка морей и океанов, отныне повелеваю всем силам, мне подвластным, ветрам и течениям, смерчам и водоворотам, чтобы не чинили морякам крейсера «Волгоград» никаких препятствия и жаловали им всегда счастливого плавания…»
Вручив свиток с приказом Гаранину, он выпрямился и громовым голосом спросил:
— А много ли на корабле молодых офицеров и матросов?
— Есть такие, — сказал Гаранин и повернулся к улыбающемуся замполиту. — Ну что, Игорь Петрович, придется креститься.
— Ага! — радостно закричал Нептун. — Черти мои милые, черти мои верные, хватайте доброго молодца замполита нашего!
Дикий вопль был ответом. Толпа кинулась к Долину, подхватила, понесла, и не успел он удивиться необузданной бесцеремонности матросов, обычно таких добрых и скромных ребят, как оказался в теплой воде брезентового бассейна, установленного на полубаке у левого борта.
— Поздравляю с посвящением в число моих подданных, — провозгласил Нептун и тронул плечо Долина длинным древком трезубца. — Звездочет! Где звездочет?!
— Тута я! — Из толпы вынырнул старший матрос Юсов, славившийся на корабле как первый запевала. — Что прикажет подводное, надводное, многоводное величество?
— Читай грамоту.
Юсов церемонно поправил высокий колпак, тряхнул саквояжем, полным бумаг, жестом фокусника выхватил одну и принялся нараспев читать:
— «Дана сия грамота мореходцу государства Советского социалистического капитану третьего ранга славному замполиту Долину Игорю Петровичу во удостоверение, что оный мореходец, следуя путем морским по заданию Отечества своего и во славу флота советского из стран полунощных в страны полуденные, через линию незримую, учеными мудрецами экватором именуемую, впервые переступил, древний обряд послушно исполнил и пошлину уплатил…»
— Какую пошлину? — насторожился Долин.
— Говоря по-земному, с вас причитается, — пояснил Нептун.
Когда «черти» потащили к бассейну очередную жертву — молодого штурмана старшего лейтенанта Данилова, Гаранин подумал, что они, составляя сценарий, явно не рассчитали. Обряд причащения может затянуться до вечера. Потому что, как ни мало офицеров и матросов, впервые переходящих экватор, а на большом корабле их все же окажется предостаточно.
Кто-то легонько тронул Гаранина за короткий рукав рубашки. Оглянулся, увидел рядом капитана 1 ранга Винченко. Он улыбался, а глаза его были серьезны, даже беспокойны.
— Что-то случилось?
Винченко показал глазами на горизонт.
— Хвост.
Гаранина охватило чувство тревоги. Хотя «хвост» — иностранный, чаще всего американский, корабль, неотступно следовавший за нашими кораблями в походах, — был явлением обычным.
— Прекратить праздник? — спросил он.
— Ну что вы! Может, просто поспешить?
— А мы всех разом…
— Вполне, — сразу понял Винченко. И посмотрел на Нептуна. — Слышите, товарищ «царь»? Русь крестилась оптом, и вам можно. Даем воду на верхнюю палубу.
Грохнув трезубцем о палубу, Нептун пророкотал знаменитым беспаловским басом:
— Слушай мою команду!..
Через минуту взметнулись струи воды, и вся палуба крейсера превратилась в белопенный, сверкающий на солнце водяной пузырь.
В сопровождении старших офицеров Винченко поднялся на главный командный пункт, подошел к экрану радиолокатора, посмотрел на пульсирующую зеленоватую точку чужого корабля.
— Может, просто купец? — сказал Строев.
— Идет нашим курсом, догоняет. Ушли бы, не будь тихоходного танкера. — Винченко махнул рукой. — А пусть его. Все равно не успокоятся, пока не удовлетворят своего любопытства. И так поздновато хватились. Я уж и то думал: чего это натовцы сопровождающего к нам не приставили? — Он повернулся к Строеву: — Вот что, Валентин Иванович, перебирайтесь-ка на «Смелый». Я — тут, а вы — там.
Строев спустился в каюту, сложил вещи в желтый дорожный чемоданчик. Прибежал рассыльный, подхватил чемодан и исчез. Еще раз оглядев каюту — не забыл ли чего? — Строев вышел на опустевшую полетную палубу, зеркально блестевшую после искусственного дождя. Из того самого квадрата палубы, откуда недавно выходил «морской царь», поднималась тупорылая машина, похожая на глазастого и лобастого жука с двойным подбородком, — небольшой вертолет. К нему подбежал рассыльный, кинул желтый чемодан в раскрытую дверь старшему лейтенанту.
— Товарищ капитан второго ранга, прошу! — весело крикнул старший лейтенант.
Мелко задрожало сиденье, и Строев увидел, как наклонилась и все круче стала заваливаться синяя полоска горизонта. Через мгновение открылся уже весь крейсер, красивый, празднично многоцветный на ослепительной синеве воды. Затем в иллюминаторе показался идущий в кильватере танкер, а за ним — длинный, необыкновенно стройный, даже изящный, «Смелый». В верхнем углу иллюминатора, словно на экране локатора, виднелось пятнышко чужого корабля с белым хвостиком кильватерной струи.
— Товарищ капитан второго ранга, как думаете, догонит? — крикнул старший лейтенант, перегнувшись к Строеву.
— Если бы не танкер, только бы он нас и видел. Знаете, как американцы эти наши корабли называют? — прокричал Строев, указывая на «Смелого». — Они называют их «поющими фрегатами». Когда турбины врубаются на полную мощность, только свист остается, а корабль уже за горизонтом.
Вертолет прошел над кораблями, пристроился за кормой «Смелого» и, догнав, ловко опустился на палубу. Подбежали двое матросов и закрепили вертолет стропами.
«Чужак» догнал наши корабли к заходу солнца. Это был американский ракетный крейсер «Арканзас» с двумя высокими прямыми трубами, над которыми вращались решетки радарных антенн. На носу и корме стояли массивные станины пусковых установок. Своим форштевнем корабль вскидывал волны почти до палубы, отчего казалось, что он сидит в воде слишком глубоко под тяжестью массивных надстроек.
На полном ходу «Арканзас» прошел вдоль строя наших кораблей, затем сбавил ход, отстал и пошел рядом со «Смелым» на расстоянии кабельтова. С главного командного пункта Строев с любопытством рассматривал матросов, стоявших на палубе чужого корабля, и прислушивался к взволнованному голосу замполита «Смелого» капитана 3 ранга Митина, рассказывавшего по судовому радио о незваном госте.
— Перед нами, товарищи, американский крейсер «Арканзас». Водоизмещение — около двенадцати тысяч тонн, скорость хода — тридцать узлов. На вооружении находятся спаренные ракетные установки «Талос» и два стодвадцатисемимиллиметровых универсальных орудия. Крейсер носит имя одного из американских штатов. Корабль входит в состав крейсерско-миноносных сил Атлантического флота США и участвует во всех авантюрах Пентагона в этом районе земного шара…
Матросы, стоявшие на баке американского крейсера, расступились, и кто-то, выдвинувшись вперед, поднял над головой большой картон с надписью. Строев разобрал корявые буквы: «Счастливая плавания».
— …Экипаж «Арканзаса» — тысяча двести человек, из них восемьдесят офицеров. В основном это выпускники военно-морского училища в Аннаполисе, рьяно отстаивающие интересы американского империализма. К их числу принадлежит и командир крейсера кэптен Джеймс Мартин. Борьбу за недопущение в матросскую среду прогрессивных идей они дополняют жесткими мерами дисциплинарных воздействий. Полицейские функции выполняет на корабле специальное подразделение матросских пехотинцев…
Строев покосился на Митина, подсказал:
— Не забудьте о расовой дискриминации.
— …На «Арканзасе», как и на других американских кораблях, имеют место классовые и национальные противоречия, Унизительной дискриминации подвергаются военнослужащие-негры, которых на крейсера около ста человек. Они выполняют самую грязную работу, и наказывают их более строго, чем белых. Это послужило причиной инцидента, случившегося в прошлом году. Военнослужащие-негры с этого корабля потребовали справедливого к себе отношения. Командование флота расценило это выступление как бунт и жестоко расправилось с зачинщиками. Вот что сказал по этому поводу радист «Арканзаса» матрос Ванс: «До тех пор, пока черный знает свое место и держит язык за зубами, его терпят. Но стоит кому-то заявить о своих правах военнослужащего, как ему приклеивают ярлык «бунтаря и смутьяна»…
Море совсем погасло, горизонт растворился в надвигавшейся тьме. Под бортом поблескивали волны, с равномерным шумом отваливались пластами, схлестывались, уносились назад, к корме.
Над головой щелкнул динамик, и строгий металлический голос быстро произнес, словно выстрелил:
— Капитану второго ранга Строеву срочно прибыть на ГКП!
На главном командном пункте было тихо. Командир стоял на своем месте, через небольшое окно смотрел в темень моря.
— На «Арканзасе» сыграли боевую тревогу, — спокойно сказал он, как только Строев переступил порог.
— Учения?
— Вероятно, учения. Они нас атакуют.
— Проигрывают атаку, — поправил Строев.
III
Ночью у капитана 1 ранга Винченко разболелась почка, Заснуть он не смог и, одевшись, вышел на палубу. Дул ровный пассат. Звезды висели низко, и было их здесь, как ему казалось, гораздо больше, чем в Северном полушарии. Южный Крест с тремя очень яркими, приковывающими взгляд звездами с каждой ночью все выше поднимался над горизонтом. Был он как единственная веха, позволявшая ориентироваться в этом чужом мире. Так, наверное, в будущем, в дальних космических перелетах космонавтов будет угнетать вид чужих созвездий. И что бы ни писали фантасты, человеку всегда будет неуютно под другим небом, не похожим на небо Родины…
Винченко пересек полетную палубу и, как перед пропастью, остановился у леерного ограждения, за которым была чернота. Море светилось, пульсировало искрящимися точками, словно внизу тоже было звездное небо, разматывало за кораблем свой млечный путь. Винченко поймал себя на том, что думает не об окружавшей его экзотике, а о доме, о дочке, которая сидит сейчас над учебниками, готовится к экзаменам в институт. Больше всего ему хотелось, чтобы она, именно она, а не он, видела все это.
— Стареешь, — вслух сказал он себе.
— Все стареют…
Он вздрогнул, так неожиданно прозвучал за спиной этот голос, оглянулся. Рядом стоял, как все его величали, главный эскулап корабля Плотников. Видно, вызвал его вахтенный офицер, поскольку было у Винченко уже такое. Первый раз боль догнала его у Канарских островов и тоже ночью, и тогда он тоже ходил один по полетной палубе, заставляя себя отвлечься.
— Что, Евгений Львович, опять болит?
— Побаливает.
— Как вы медкомиссию обошли?
— Как обходят, — сердито сказал Винченко.
— Пойдемте-ка отсюда, пойдемте. Согреться вам надо, чайку попить горяченького.
Как совсем больного, он взял его под локоть и повел. Палуба тускло посвечивала, и была она как горное плато, за краями которого обрывались черные пропасти.
Доктор привел его в каюту, уложил в постель, пристроил на животе грелку, сам сходил, принес обжигающе-горячего чаю, настоял, чтобы Винченко сейчас же при нем выпил стакан, и только после этого ушел, пообещав наведаться утром.
От грелки да чая, от трогательной заботы доктора ему стало тепло и грустно. Он лежал и думал об удивительной флотской семье, в которой, несмотря на строгость порядков, на внешнюю грубоватость, нежности ничуть не меньше, чем в иной обычной семье на берегу. В глубинах корабля подрагивали машины, их монотонный шум, их вибрация, передававшаяся через переборки, усиливали это ощущение уюта, успокаивали.
Боль поутихла, Винченко закрыл глаза, но не спалось. Вспомнилась фраза писателя Соболева: «Что такое корабль? Как передать это понятие, которое для моряка заключает в себе целый мир? Корабль — это его семья… это арена боевых подвигов моряка, его крепость и защита…» Вспомнилось вчерашнее подведение итогов соревнования. От 17.00 до 17.30 начальники служб, как обычно, докладывали результаты дня. Потом был разбор тактических учений, и он отчитал Гаранина за ошибки: первый «залп» сделал одновременным, повторный «залп» сразу готовить не начал, потерял время…
— И ты теряешь время, — вдруг сказал себе Винченко. — Спать не спишь и дело не делаешь. Сколько в дневник не записывал?..
Дневник был для него не причудой, он записывал мысли для того, чтобы потом, когда придется составлять отчет о походе, было что писать, не копаясь в корабельных документах, не опрашивая людей.
Винченко встал, передвинул грелку на поясницу, примотал ее одеялом и сел к столу. Достал толстую тетрадь в клеенчатом переплете и вдруг начал писать совсем не то, что собирался:
«Погода отличная — облачность 3—4 балла. Температура днем +25°C. Встречных судов удивительно мало. «Смелый» идет головным на одном двигателе: сдерживает танкер. Видели огромную стаю акул — до самого горизонта черные треугольники плавников. Что бы это означало — такое скопление акул? С вертолета засекли двух гигантских скатов — до десяти метров в размахе… Таинственный мир океана! Как мало мы знаем о нем!»
И лишь после этого он начал писать то, ради чего, собственно, и сел к столу в этот неурочный час:
«Корабли НАТО не оставляют нас без внимания. Вчера с норд-веста подошли эсминец «Лоуренс» и сторожевой корабль «Монтгомери». Это было весьма странно, поскольку идем мы в стороне от оживленных морских путей. Видимо, они специально искали нас, обнаружив радиопеленгованием. На «Лоуренсе» флаг адмирала с четырьмя звездами. Вышел на связь, вызывал на русском языке. Полны любезностей. Говорят, что старший адмирал рад неожиданной встрече и желает счастливого плавания. Ответили по-русски, они не поняли. Тогда по-английски, что, мол, тоже рады встрече и желаем счастливого плавания. «Вы говорите по-английски лучше, чем я по-русски», — сказал адмирал. Я ответил, что наши знания языков одинаково требуют совершенствования… Полюбезничали и разошлись».
«Сумерки в тропиках очень короткие, а ночи темным-темны, — неожиданно вставил Винченко. — Воздух душный и влажный. Вчера бросил гривенник в Атлантический океан, чтобы старик не гневался на нас. Глупо, конечно, но лучше бросить на всякий случай…»
Винченко засмеялся, вспомнив, как оглядывался, бросая этот гривенник. Он поправил грелку, выпил еще стакан чаю и продолжал писать:
«А позавчера на 20 кабельтовых приблизился крейсер «Чикаго». Семафор с крейсера на русском языке: «Для старшего офицера на борту от контр-адмирала Митис Невеа. Рады встрече с вами. Желаем успеха. Счастливого пути». Мы ответили по-английски. «Чикаго» перешел на правый траверз, затем, под кормой, на левый, все чего-то высматривал. Маневрировал, правда, осмотрительно, предваряя свои действия флажными сигналами…»
Винченко откинулся на стуле, обдумывая странные маневры натовских кораблей. Решил, что в этом походе и в других, если в другие пустит почка, надо учиться принимать подобные «странности» за естественное проявление лицемерной агрессивности НАТО.
«Лицемерной агрессивности», — повторил он про себя необычное словосочетание. Агрессивность ведь всегда была прямолинейной. Всегда ли? Агрессивность всегда была наглой — это точно. Наглость агрессора взбадривает себя, подавляет страх возможной расплаты. Наглость ему необходима как допинг, как жулику нужно спиртное, чтобы, оглушив себя, идти на темпов дело… А что же такое «лицемерная агрессивность»? Это, должно быть, от былой аристократичности, попытка сохранить лицо джентльмена.
Кадровый военный, Винченко многое знал об этом агрессивном спруте, раскинувшем щупальца по всем континентам и океанам. У него много адресов, но главный — штат Вирджиния, почтовый индекс 20301, министерство обороны… Обороны!.. Опять лицемерие! Эта «обороняющаяся» организация имеет глобальную сеть военных баз, которая охватывает 32 страны мира, где размещено 1500 военных объектов, из них 336 — крупные базы.
Голова спрута — самое большое служебное здание мира, пятигранник, с каждым годом все больше врастающий в болотистый берег реки Потомак, как говорят сами американцы, под тяжестью поглощаемого им золота, под тяжестью преступлений. За послевоенные годы США 215 раз использовали свои вооруженные силы в агрессивных целях, а в 33 случаях были на грани применения ядерного оружия. Пентагон — это 27 километров одних только коридоров, 25 тысяч служащих. Пентагон — свыше двух миллионов солдат и офицеров. В условиях полной безопасности границ это более чем многовато для мирного времени. Объяснение может быть одно: вооруженные силы США нацелены на военную экспансию, на агрессию…
Не сильная, но чувствительная боль толкнулась в поясницу, отдалась в паху. Прокатилась волна озноба, Винченко повалился на койку и вызвал вестового.
Явился доктор Плотников, сделал укол.
— Что это? — спросил Винченко.
— Бициллин. Спать, спать вам надо.
— Да не спится.
— Сейчас уснете…
После укола ему и в самом деле захотелось спать. Некоторое время он смотрел на сидевшего рядом доктора, ничего не говоря, прислушиваясь к себе, и вдруг провалился в сон как в бездну.
Проснулся внезапно и, как всегда, сразу встал, выглянул в иллюминатор. В густом синем небе стояли высокие облака, какие были вчера и позавчера, и еще много дней: верхний ярус облаков — пористые, нижний — рвано-кучевые. Солнце было высоко, и Атлантика, как всегда, густо-бирюзовая, до самого горизонта была испещрена какой-то подвижной сыпью. Он не сразу понял, что это дельфины, так неправдоподобно много их было. Вблизи и дальше, и совсем далеко выныривали и исчезали черные полудуги спин.
Винченко взбежал на мостик, поздоровался, толком не разглядев даже, с кем здоровается, схватил бинокль, висевший на переборке. Никогда он не видел такого обилия дельфинов. Их было не сотни, не тысячи, а несметно много.
— Как ваше самочувствие, Евгении Львович?
— Самочувствие? — Винченко оглянулся, увидел Плотникова и вспомнил о почке. — Не болит. Понимаешь, совсем не болит.
Сухощавый, в обвисшей на плечах куртке-распашонке, Винченко рассматривал в бинокль долгожданную Хургаду. Чуковский писал: «Африка, Африка, что за чудо Африка!» И создал мечту. А к встрече с мечтой поневоле готовишься. Для себя Винченко давно уже усвоил, что «чудо» не ищут за тридевять земель. Этот берег Африки был голый, выжженный солнцем, и наши Каракумы в сравнении с ним выглядели бы, наверное, оазисом. Пройдет пара недель, и самый мечтательный мичман станет называть чудом не Африку, а далекую Родину свою.
— Аызза эййуха-ль-асдыка иль аызза! — послышался рядом завывающий голос Строева.
— Что такое? — спросил Винченко.
— Учусь приветствовать по-арабски.
— Ну и как?
— Пока зубрю выражение: «Дорогие друзья!»
Взяв бинокль, он тоже принялся рассматривать плоский берег.
Здесь не было глубокой бухты. Просто берег чуть изогнут, и в этой излучине — порт. Белая стена отгораживала небольшой участок берега. Виднелись двухэтажное здание, конус голубятни, похожий на большой памятник, и несколько пальм. Этот кусочек берега был самым живописным на много миль вокруг. В Хургаде была судоверфь: стояли на воде рыболовные суденышки со скошенными назад мачтами. За судоверфью — мечеть с двумя высокими белыми минаретами. Вокруг всего этого — россыпь одноэтажных домишек с плоскими крышами, а дальше — пески, несколько белых нефтяных баков, серые змеи дорог, убегающие к невысокой горной гряде на горизонте.
Белое небо, белая земля, солнце, как белый глаз прожектора.
— Мясо еще не видели? — спросил Строев. — С берега баранину привезли. Доктор за голову хватается: дохлятина. Такого мы еще не получали.
— Взгляну.
— Матросы острят: «Акулы едят, значит, и нам можно».
— Почему акулы?
— Одного барана утопили. Акула тут как тут, хоп — и нету…
— С мясом доктор разберется, он в этом лучше понимает, — сказал Винченко. — А вот акулы — наша забота. Надо провести учение: «Человек упал за борт, напала акула». Чтобы поостереглись. Займитесь этим.
— Займусь…
— А я сейчас вылетаю. Надо осмотреть залив.
На полетной палубе уже ждал вертолет, раскручивал тройные лопасти винтов.
Теперь он видел залив сверху и все время заставлял себя думать о деле, не отвлекаться на созерцание красот. Там, где, отсеченный ослепительной белой полосой прибоя, кончался серый монотонный берег, начиналось буйство красок, заставлявшее остро тосковать о любимой подводной охоте. Винченко еще дома был наслышан о красотах Красного моря и, собираясь в этот поход, взял с собой маску и трубку. В каюте он забросил их в дальний угол, чтобы, не дай бог, не попались кому на глаза. Но сейчас он был уверен, что достанет их, как только выпадет свободная минута. Внизу переливалась темная синева глубин, сверкали голубые атоллы, пестрели коралловые рифы… Много плавал он, а таких сочных красок не видел нигде.
Вход в Суэцкий залив, где находились минные поля, с высоты был виден весь, от берега до берега. Множество островов, островков, выступающих над водой рифов разноразмеренной сыпью покрывало едва ли не всю водную гладь. Вода возле рифов была беловатой, иногда совсем белой, как молоко. Такой делал ее без конца перетираемый волнами коралловый песок.
Главный фарватер проходил ближе к Синайскому берегу, по проливу Губаль, там уже ползали наши тральщики.
Синайский берег на востоке темнел неясной серой полосой, зато африканский, на западе, просматривался весь, от белого прибоя до невысоких горных вздутий, казавшихся издали багрово-красными. Горы начинались в нескольких милях от берега. За ними была блеклая синь. Там, за горами, круто обрывавшимися к западу, лежала Аравийская пустыня.
Пристально рассматривая острова, Винченко все больше убеждался в справедливости информации, полученной от командира отряда тральщиков капитана 1 ранга Полонова: рельеф здешних островов слишком сложен. Настойчиво возвращалась мысль об использовании «Смелого» в качестве подвижной вертолетной площадки. Неловко было отводить боевому кораблю такую малую роль, но ничего другого не оставалось. Утешением для команды могло служить только одно: задача эта весьма опасная, ибо «подвижной вертолетной площадке» придется ходить здесь по всем направлениям. А о том, чем это может кончиться, каждому напоминали торчащие над водой мачты либерийского танкера «Сириус», подорвавшегося на мине несколько месяцев назад.
Вертолет повисел над намеченным районом постоянной якорной стоянки кораблей, где сейчас покачивались на волнах баркасы: водолазы исследовали дно. Сверху хорошо было видно, как они, словно большие рыбы, скользили над коралловыми зарослями, не уходя, впрочем, далеко от клеток-убежищ, опущенных под воду на случай, если подойдут акулы. В одном из баркасов Винченко углядел старшего лейтенанта Русова, флагманского специалиста по водолазному делу, тоже одетого для подводной работы. Вспомнил, как недавно на крейсере Русов демонстрировал ему водолазные костюмы, для каждого случая свой — для резки и сварки металлов, для работ на больших и малых глубинах при малой в большой видимости, для подрыва магнитных мин. Винченко облюбовал для себя акваланг, перчатки, ласты, водолазный нож.
Вертолет мягко опустился на квадрат сетки, натянутой на том месте палубы крейсера, где белела большая буква Р, обведенная двумя концентрическими окружностями. Двигатель заглох.
Винченко подошел к краю палубы, к линии откинутых лееров, увидел внизу красный буек на синей воде, два баркаса и возле них большую акулу.
— Как по заказу приплыла, товарищ капитан первого ранга, — сказал вахтенный. — Но, может, и лучше? Наглядней урок-то!
Акула ходила кругами, резала треугольным плавником поверхность воды, изворачивалась, скользила каменным взглядом по баркасам, по крейсеру…
Через четверть часа Винченко сидел в своей каюте, сочинял длинную радиограмму на имя командующего:
«Корабли прибыли рейд Хургада. На переходе проводилась тактическая специальная подготовка кораблей и летная подготовка вертолетов, целеустремленная на решение поставленной задачи… Самоотверженная работа личного состава в походе заслуживает хорошей оценки. Личный состав здоров, моральное состояние высокое, готовы к выполнению задач боевого траления. Работу начинаем немедленно, чтобы в установленный срок протралить фарватер и открыть судоходство до порта Суэц. Экипажи кораблей сделают все, чтобы образцово выполнить поставленную задачу и достойно представить Советский Военно-Морской Флот…»
По усилившейся вибрации Винченко понял, что крейсер начал разворот, чтобы пройти последнюю милю до места своей постоянной стоянки, того самого места, которое только что закончили исследовать водолазы. Он хотел подняться на мостик, но передумал: командир крейсера не хуже его знает, что делать.
Потом из-за переборок донесся глухой тяжелый грохот, крейсер становился на якоря.
Кашлянул динамик и сухо, бесстрастно произнес:
— Капитана первого ранга Винченко просят подняться на мостик.
«Вот оно!» — подумал Винченко, вскакивая. Обычно его, старшего начальника, всегда оповещали через рассыльного. Если вызвали по трансляции, случилось что-то особенное.
Взбежав на мостик, он увидел кругом спокойные лица. Гаранин, Долин и Строев смотрели куда-то в море. Винченко глянул и обомлел: в двух кабельтовых от крейсера становилось на якорь судно под американским флагом.
— Кто такой? — изумился он. — Надо запросить.
Гаранин подал ему бинокль.
— Запрашивали. Арабский офицер связи сообщил, что это танкер, прибыл для приемки мазута. Но разве это танкер?
В бинокль Винченко внимательно осматривал чужое судно, стараясь запомнить все. Водоизмещение — 1000—1200 тонн, низкобортное, обводы корпуса полные, высокий полубак на треть длины. Корма прямоугольная. Ходовая рубка — в носовой части. На палубе — стационарная вьюшка с намотанным кабель-тросом в изоляции зеленого цвета. В корму от вьюшки — надстройка типа ангара, с левого борта — застекленный пост управления. В центральной части палубы — какие-то устройства красно-белого цвета, возможно, погружаемые аппараты. Похоже, что судно специально предназначено для обнаружения подводных объектов. Команда единой формы не имеет. Кроме флага США, на судне флаг АРЕ и флаг «Имею на борту лоцмана».
— Чего они тут встали?
— Видно, тут больше нравится, — с горьким сарказмом ответил Гаранин. — К ним арабский тральщик подходил, предлагал конвоирование. Отказались.
— Значит, уйдет не скоро.
— Пока фарватер не протралим, ему вообще некуда уходить.
— Глаз не спускать.
— Само собой.
IV
В Шереметьевском аэропорту было столпотворение. Среди лета Арктика дохнула холодом, и набежавший циклон затянул северное Подмосковье плотным туманом. Корреспондент газеты капитан 3 ранга Туликов ехал в аэропорт на редакционной машине, не ехал — тащился по непроглядной туманной ночи и все боялся, что опоздает к самолету.
Но вот прошло уже два часа, как он сидел в аэропорту, а надежда на вылет все отодвигалась.
Было раннее утро, беззоревое, не по-летнему хмурое. В огромных окнах аэровокзала стояла серая муть. Туликов попытался вздремнуть в мягком кресле, но из этого ничего не вышло. Он с завистью смотрел на сидевшего рядом своего попутчика, представителя политуправления капитана 1 ранга Прохорова, как видно, преспокойно досматривавшего домашние сны, и встал, чтобы размяться, сбегать за сигаретами.
Направился к окну, перешагивая через расставленные повсюду баулы и чемоданы. За окном был все тот же непроглядный туман. Внизу белели силуэты самолетов.
Зал ожидания гудел множеством голосов — русских, немецких, английских, испанских, певучих японских, гортанных арабских и еще каких-то, в которых Туликов уже не разбирался. Он прошелся вдоль окон, спустился вниз и вдруг услышал фразу, донесшуюся из полуоткрытой двери:
— Через час всех отправим, через час.
Он заспешил в зал ожидания, желая обрадовать Прохорова. Но тот все спал. Кресло, где прежде сидел Туликов, теперь было занято каким-то черным господином с высокими залысинами на лбу.
— Извините, я занял ваше место, — сказал господин по-английски, порываясь встать.
— Прошу господина сидеть, — по-английски же ответил Туликов. И сел рядом, в пустующее кресло.
— Курс — Красное море? — улыбаясь, спросил черный господин.
— Это почему же?
— А куда еще сейчас могут направляться советские военные моряки? Вы не американцы, военных баз за рубежом не имеете…
Туликов промолчал, подумав, что самое лучшее будет не ввязываться в этот разговор.
Но подчеркнутая холодность нисколько не смутила господина.
— Арчил никогда не ошибается, — сказал он, удовлетворенно и важно отваливаясь на спинку кресла. — Я видел: вы приехали не на такси и ваш шофер был в военной форме.
— Это еще ни о чем не говорит.
— Зато во всех газетах мира только и разговоров о русских эскадрах в Красном море. Будете разминировать Суэцкий залив?..
— Кто вы? — резко спросил Туликов.
— Маленький человек, всего лишь слуга своего господина. Был бы я самим господином, сидел бы себе в Афинах, а не мучился на этих проклятых ближневосточных линиях.
— Почему «проклятых»?
— Опасно летать. Только и ждешь, что собьют. Совсем недавно возле Латакии перехватили нас израильские «фантомы». Молиться начал, думал, обстреляют, как тот самолет над Синаем. Помните? Больше ста человек погибло. Об этом все газеты писали… Потом гляжу — внизу военный корабль. Ясно, что советский, потому что «фантомы» сразу в стороны. Но ведь это случайно так получилось, верно? А если бы корабля не было? Они, как шакалы, наглеют, когда видят, что жертва беззащитна…
Он надул щеки, превратившись в смешную круглолицую куклу, недоверчиво скосил глаза.
— Я коммерсант, грек. Сообщаю это, чтобы вы не подумали ничего такого.
— А мне все равно, — сказал Туликов.
— Не-ет, — заулыбался грек. — Я ваших, советских, хорошо знаю. Вам никогда не бывает все равно. Потому я вам хочу сказать: зря вы помогаете этому Садату. Уж я-то его знаю: продаст при первом же случае…
— Советский Союз помогает не Садату, а народу Египта, жертве агрессии, помогает всем миролюбивым народам. А мир слишком дорого стоит, чтобы его можно было ценить на доллары.
— Все надо считать. Американец из простого альтруизма куска хлеба не даст…
— О чем это вы беседуете? — спросил Прохоров, не открывая глаз.
— О разнице между советской и американской помощью слаборазвитым странам.
— Разница в принципе, — сказал Прохоров. — Одни помогают сочувствуя, другие — выгадывая…
Тут зал зашевелился. Сразу весь, из конца в конец, словно по измаявшейся ожиданием толпе пропустили электрический ток. И сразу заговорило радио, заговорило непрерывно, перечисляя рейсы — на Дели, на Париж, Лондон, Аккру и бог знает еще куда. За окнами аэровокзала все белел туман, но поверх его уже проглядывала синева…
Пронзив пелену тумана, самолет неожиданно нырнул в синеву. В один миг салон словно бы расширился от ослепительного света, и горящие белые плафоны на потолке сразу пожелтели. Пассажиры оглядывались, улыбаясь, разные пассажиры — и наши туристы, что было видно по особому оживлению и смеху, и шикарно разодетые леди или миссис, или как еще их там называют на этом Западе, и студенты-иностранцы, летевшие из московских вузов к своим, как видно, не бедным арабским родителям. Все улыбались. Таково уж волшебство солнечного света: оно рождает доброжелательность. Такова уж психология авиапассажиров: после взлета они всегда переживают эйфорию.
— Ну что, товарищ Туликов, летим?
— Летим, товарищ Прохоров, — в тон ответил Туликов. И деловито наклонился, посмотрел в иллюминатор. Но ничего не увидел внизу, только ослепительно белые пласты тумана.
— Приготовьте, пожалуйста, столики, — пропел над ними мелодичный голос.
Жизнь в самолете шла своим чередом. Туликов жевал холодное мясо и разговаривал с Прохоровым о Насере.
Насер был честным и последовательным человеком. Став президентом, продолжал жить в своей старой квартире, где жил, будучи простым офицером.
Он не воспользовался привилегией даже для того, чтобы «протолкнуть» свою дочь, не прошедшую по конкурсу в Каирский университет.
На его имя некоторые богатые арабы переводили миллионы, чтобы он использовал их по своему усмотрению. А что делал Насер? Он переводил эти деньги в банк на нужды Египта, ничего не оставляя себе. И когда умер, на его личном счету было всего шестьсот десять фунтов.
В Египте не было диктатуры пролетариата, и, когда после смерти Насера оживились враждебные элементы, революция не смогла защититься. Только поэтому Садату удался его «тихий переворот».
— Знаете, как американская разведка изучала Насера? — спросил Прохоров. — Был создан специальный «игровой центр», куда стекалась вся информация о египетском президенте — о каждом его слове, симпатиях и антипатиях, привычках, о его хобби фотографировать, о его характерной тяжелой походке. Был даже актер, игравший роль Насера, так сказать, «вживавшийся в образ». Они пытались предугадать каждый его поступок. Изучали сильные и слабые стороны всех из его окружения. Американская, а это значит все равно что израильская, разведка уповала на личности. В той ситуации, какая складывалась в Египте, слишком много зависело от личностей, точнее, от одной — от президента. И я не удивлюсь, если вдруг узнаю, что президент Насер не просто умер, а был умело убран. Смерть Насера и воцарение Садата трудно не рассматривать как заговор против Египта…
За иллюминатором необычно густо синело небо. Внизу по равномерной черноте воздушной бездны подали белые облака, похожие на бесчисленную отару овец. Сначала Туликова удивила эта чернота, потом он понял, что внизу — море. Море он знал вблизи и никогда не видел с такой высоты. Внизу просматривалась какая-то белая сыпь. Пришла первая догадка — стая птиц. Но на какой высоте должны лететь птицы, чтобы так просматриваться? И тут он понял: широкое разлапистое пятно — это палуба авианосца «Дж. Кеннеди». Вспомнил, как в одном из походов они проходили однажды мимо этой громадины длиной в треть километра, издали напоминавшей плавающий таз. В тот раз командующий 6-м американским флотом адмирал Исаак Кидд, державший флаг на «Дж. Кеннеди», видимо, решил показать русским свою мощь. На авианосце была сыграна боевая тревога, и с его палубы один за другим начали срываться горбатые истребители и штурмовики. Каждую минуту очередной самолет уходил в небо, с воем проносился над советскими кораблями и исчезал в синей дали. Это было внушительно, но ничуть не страшно. Наверное, потому что не впервые встречался Туликов с подобными попытками попугать. Только получалось почему-то наоборот: пугались сами американцы. Имея в океанах тринадцать авианосцев, подобных «Дж. Кеннеди», они поднимали в своих газетах дикий вой по поводу каждого советского эсминца, вышедшего за Босфор. А когда в Средиземное море вышли первые советские противолодочные крейсера, газетный вой достиг небывалой истеричности. Панические вопли эти не больше чем актерство, увы, не безобидное. Этим запугивают конгрессменов, сенаторов, просто обывателей, чтобы выколотить из них новые миллиарды на вооружение, на откармливание ядовитых империалистических пауков, и без того уже обобравших мир, одуревших от собственной ненасытности.
— Что там? — услышал Туликов над самым ухом.
— Ползет… змеиный выводок, — накаленный своими раздумьями, прерывисто ответил он.
Прохоров наклонился к иллюминатору, долго рассматривая крохотные блескучие пятнышки кораблей.
— Пожалуй, авианосец. Да не один.
— «Дж. Кеннеди», а еще «Индепенденс» или «Саратога», других тут нет. И ракетный крейсер «Литл Рок». Остальные мелочь — фрегаты, эсминцы.
— Разбираетесь?
— Нагляделся в походах. Да ведь известно, кто плавает в Средиземном море…
— Похоже, на восток идут.
— Куда еще им идти. Русские корабли возле их пятьдесят первого штата. Так палестинцы называют Израиль.
Что-то темное мелькнуло навстречу в вуальке близкого облачка, и самолет вздрогнул, словно его ударили по фюзеляжу. Пассажиры загомонили. Стюардесса быстро прошла из хвоста самолета в кабину пилотов, но сразу же вышла, подчеркнуто спокойно сказала по-русски:
— Пожалуйста, все оставайтесь на своих местах.
«Нечто», так напугавшее пассажиров, оказалось израильским «фантомом». Развернувшись, истребитель летел поодаль, параллельным курсом. На его фюзеляже, ярко освещенная солнцем, четко выделялась шестиконечная звезда, синяя в белом кругу.
— Далеко летают.
— Хозяйничают, не боятся.
«Фантом» исчез и больше не появлялся.
Потом показалась белопенная полоса прибоя и потянулась пестрая с высоты дельта Нила, исполосованная каналами, усыпанная крохотными пятнышками построек.
V
Каир оглушил жарой. Солнце тут было белое, ослепляющее, и Туликов со знакомой по дальним походам печалью вспомнил всегда ласковое московское солнышко.
Аэропорт, стеклянный, комфортабельный, напоминал восточный базар — так же многокрасочен и многолик. Ходили женщины, закутанные по глаза, ходили женщины, одетые так, что, казалось, на них, кроме огромных очков да маленьких туфель, ничего больше и не было. Слонялись по аэропорту степенные европейцы в модных костюмах, отглаженных до жестяного блеска, и другие — шустрые, в джинсах и шортах, с тряпочками-шарфиками на потной груди. Египтяне-рабочие отличались от всех своими мешковатыми галябиями, неторопливостью и какой-то усталостью в глазах. Они казались роботами, равнодушными ко всей этой аэропортовской, чуждой им суете. Особняком сидел богатый саудовец в белом платке, с транзисторои в руках. Он высокомерно поглядывал на людей и строго — на четырех своих жен, на кучку детишек — мал мала меньше.
Все это Туликов разглядел, пока проходил через здание аэропорта к выходу, к стоянке машин. Их встречали. Немолодой человек с темным, как у египтян, лицом протянул руку и коротко представился:
— Губарев.
И неожиданно радостно улыбнулся:
— Как там в Москве?
— Туман, — сказал Прохоров. — Рейс отложили…
— Туман?! — изумленно воскликнул Губарев, словно впервые услышал о таком явлении природы. — Надо же, туман! — И посерьезнел: — Что ж, отдохнете после полета?
— А мы не устали.
— Тогда можем ехать. Корабли уже в Хургаде.
Ехали в светло-серой «Волге». Водитель — молчаливый египтянин — раскрыл дверцы и стоял в ожидании, пряча грустную улыбку.
Прохоров кивнул шоферу и полез на переднее сиденье.
— Иван Прохорыч, — сказал Губарев, — не по чину впереди-то.
— Это почему?
— Старшие по званию, вообще уважаемые люди сзади сидят. А впереди для египтян это уже не начальник.
— Обойдусь, — буркнул Прохоров, захлопывая дверцу. — Спереди лучше видно.
Через два часа они были в Суэце. Там и тут еще высились остовы разрушенных домов. Кое-где на них висели люльки строителей.
С окраины города они увидели в отдалении Суэцкий канал. Точнее, не канал, а мачты кораблей, застрявших тут надолго, если не навсегда, и ярко освещенную вечерним солнцем белесую полосу высокого противоположного берега. Эта полоса и была знаменитой линией Барлева, до осени прошлого, 1973, года «неприступной» обороной израильтян.
— Всерьез окопались, — сказал Прохоров. — Тридцатиметровые валы, доты, дзоты, бетонированные отсеки для отдыха солдат. Рассказывают, будто наблюдатели сидели, словно диспетчеры на вокзалах, — во вращающихся креслах. С комфортом устроились…
— В креслах много не навоюешь, — сказал Туликов.
— Не скажите. Оборона была серьезная. А комфорт — от уверенности. И еще от жиру. Деньги-то несчитанные, чего же себе отказывать?
Дорога вывела к берегу Суэцкого залива и побежала вдоль него, пересекая обширные пески. Справа горбатила горизонт самая высокая в этих местах гора с необычным названием — Атака, слева в знойном мареве виднелся берег Синайского полуострова.
— Может, потому их и сбили, израильтян, в прошлом году, что зажирели, — сказал Туликов.
— Не потому, — уверенно ответил Прохоров. — Египтяне, по сути дела, ведь не выиграли прошлогоднюю, октябрьскую, войну. На мой взгляд, это была с их стороны не более как авантюра.
— Как же так, Иван Прохорыч, — удивился Туликов, — это же общеизвестно: октябрьская война показала способность арабов дать отпор, сбила с израильтян спесь.
— Все так. Однако надо и самому анализировать. Израильтяне уже доказали, что их наскоками не возьмешь. Агрессора можно было изгнать, только если всем арабским странам действовать по единому плану. А египтяне перешли в наступление без всякого плана, даже не согласовав свои действия с союзниками. Благодаря самоотверженности рядовых солдат им удалось сбить израильтян с линии Барлева, отбросить их от канала. А потом? Потом они затоптались в пустыне, не зная, что предпринять дальше. В результате израильтяне сами форсировали канал, оказались на западном его берегу, осадили Исманлию и Суэц…
Дорога то убегала от берега Суэцкого залива к невысокой гряде гор, то подступала к самой воде, залитой солнцем, зеленовато-голубой. Иногда машина выскакивала на скалистые красноватые обрывы, и снова узкую полоску дороги с обеих сторон сжимала всхолмленная пустыня, испещренная белыми пятнами солончаков, редкими серыми кустами саксаула и тамариска.
VI
Весь день было страшное пекло. Акваторию порта, опустевшую раскаленную Хургаду, будто захлопнули стеклянным колпаком. Горизонт исчез, затянутый блеклой пеленой, казалось, и горы, и пустыня, и само море дымятся, готовые самовозгореться, вспыхнуть. К надстройкам невозможно было прикоснуться. Мичман Зубанов прекратил малярные работы и пошел докладывать об этом командиру корабля.
— Ничего, боцман, жара — не самое страшное в этих местах, — успокоил его Дружинин. — Вот если пыльная буря…
— Но ведь послезавтра…
Послезавтра кораблю предстояло выйти на боевое траление, а вид его после дальнего океанского перехода был непригляден: краска на бортах выцвела и облезла, надстройки пестрели проплешинами. Форштевень обтерся о волны до того, что проступивший сурик придал ему рыжеватый оттенок, словно корабль, как и люди, загорел под тропическим солнцем. Не привести в порядок корабль значило послезавтра так и выйти на траление.
— Красить будем позднее, боцман, когда спадет жара, а пока делайте все остальное.
Работы было много: получили на плавбазе новый трал, и надо было его готовить, требовалось осмотреть и привести в порядок трал-балки, различные устройства, такелаж.
Боцман заспешил к выходу, распахнул дверь и замер у порога. То, что увидел, напугало: над дальней грядой гор гигантским занавесом поднималась багровая пелена, вечернее солнце просвечивало сквозь нее зловещим кровавым глазом.
Зубанов заторопился обратно к каюте командира.
— Вот оно, товарищ капитан третьего ранга! Пыльная буря идет.
— Ничего, боцман, — снова принялся успокаивать его командир. — Это здесь не самое страшное. Вот хамсин — это да! — Он взял с полки книгу, быстра пролистнул страницы. — В лоции Красного моря сказано следующее: «Хамсин (по-арабски «пятьдесят» — столько дней в году беснуется этот знойный, сухой ветер) резко повышает температуру. Когда дует хамсин, люди задыхаются от зноя, мельчайшая пыль проникает в поры тела…»
— Все ясно, товарищ капитан третьего ранга, — сказал Зубанов. — Разрешите идти?
— Идите. Только вы этих хамсинов не пугайтесь. Они весной дуют, а теперь лето…
Пыльная буря, взметнувшаяся в раскаленных глубинах Аравийской пустыни, перевалив через горы, стремительно долетела до Хургады и жгучим ветром хлестнула по голым, обожженным спинам матросов, работающих на палубе, на пирсе. Песчинки впивались в кожу, резали глаза, забивались в уши. Язык распух во рту, на зубах скрипело. Солнце совсем погасло за мутной пеленой, превратилось в тусклое перламутровое пятно.
Безработные арабские портовики, с утра толпившиеся возле корабля, разошлись по домам, и лишь какой-то белобородый старик со шрамом на лице сидел под пакгаузом и смотрел, как в розоватой дымке копошились на пирсе розовые матросы, что-то распутывали, что-то сваривали, ослепительные вспышки под их руками тоже казались старику розовыми.
Позднее пыльная буря сменилась пыльным маревом. В горячем неподвижном воздухе висел багровый туман, закатное солнце виднелось сквозь него странным коричневым пятном…
Беспокойно спал боцман эту ночь. Поднимаясь, он смотрел в иллюминатор в надежде увидеть звезды. Небо было черно, непроглядно.
На рассвете его разбудили взрывы. Вскочил и прежде всего удивился, почему нет звонков тревоги. Взрывы ухали совсем рядом. В иллюминатор боцман увидел синее небо над взбаламученным пенным морем.
Наверху ничто не напоминало о пронесшейся пыльной буре. По изрытой волнами акватории порта скользил арабский катер, два матроса, стоявшие на палубе, бросали в воду гранаты — предосторожность от израильских подводных диверсантов.
Палуба корабля, леера, поручни и ступни трапов, все надстройки покрывал плотный налет пыли. Боцман брезгливо провел пальцем по переборке — остался след. Стало ясно: значительную часть сегодняшнего дня поглотит борьба вот с этим последствием пыльной бури.
До полудня матросы мыли борта, палубу, надстройки, терли швабрами а щетками, окатывали сильными струями воды. Зубанов метался по кораблю, ощупывал кнехты, якорные цепи, лебедки, трал-балки, тральные отводители, леерные стойки, крышки люков, вентиляционные грибки, словно хотел в этот день оглядеть весь корабль.
VII
На море нет оружия опаснее мин. Во вторую мировую войну воюющие стороны потеряли на минах 1200 боевых кораблей и транспортов… Созданные для защиты своих берегов, мины стали универсальным оружием нападения. Они снабжаются неконтактными взрывателями, целыми комбинациями взрывателей, ориентированных на трудно имитируемые тралами физические поля корабля — гидродинамическое, акустическое… Современные мины обладают высокой чувствительностью, избирательностью цели, противотральной стойкостью…
Многое знал о минах капитан 3 ранга Дружинин. На учениях тральщик, которым он командовал, не раз получал высшие оценки. Но теперь, когда под килем было не учебное, а настоящее минное поле, Дружинин вдруг показался себе матросом-первогодком, для которого все незнакомо и ново.
Арабское командование сообщило, что здесь, в Суэцком заливе, мины ставились с торпедных катеров ночами, при противодействии авиации и надводных кораблей израильтян, что надежной привязки к береговым ориентирам не было, координирование минных постановок производилось способом обратной засечки, радиолокационными средствами, из чего следовало, что среднеквадратическая ошибка достигала мили и более. Иными словами, мины ставились как попало, без обязательного составления карт минных полей. Таким образом было выставлено пять минных заграждений, в основном из якорных неконтактных мин. Двенадцать из этого неопределенного числа мин было уничтожено еще до прихода в Суэцкий залив советских кораблей; восемь успели вытралить, на двух подорвался либерийский танкер «Сириус», двумя были потоплены два египетских катера. Вот и все, что было известно. Остальное предстояло выяснить советским морякам. В связи с этой неопределенностью им требовалось протралить огромную акваторию в 1250 квадратных миль. И прежде всего фарватер, по которому 20 июля должны была пройти с юга на север американские суда, чтобы начать расчистку Суэцкого канала.
— Ну что? — спросил Дружинин стоявшего на мостике штурмана.
Тот глянул в пеленгатор.
— Выходим в точку…
Все было буднично, как на учениях. Развернулась на корме трал-балка, с ее носика начал потравливаться строп с массивным гаком на конце. Командир отделения минеров старшина 2-й статьи Чапаев быстро подвесил к гаку звенья цепи — ползуны, и трал заскользнул в перламутровую гладь моря, оставляя на воде ярко-красные бусинки буев-носителей.
— Начинаем пахать! — сказал командир и сделал запись в вахтенном журнале:
«07.48. Легли на первый галс. Дали ток в трал. Начали боевое траление».
Казалось, один только командир, в эти минуты оставался спокойным. Но Алтунин видел, что и он тоже то и дело поглядывает на взбаламученную воду за кормой, на подвижный пунктир буев, далеко вправо оттянутых отводителем, скользящим в синей глубине.
Прошел час в напряженном ожидании.
«Повернули на обратный курс. Легли на второй галс. Дали ток в трал. Начали траление», —
снова записал командир в вахтенном журнале. И вдруг вздрогнул от зычного крика сигнальщика-наблюдателя, стоявшего на крыле мостика:
— Два самолета слева восемьдесят, сорок кабельтов!
Самолеты шли низко, почти теряясь в утренней дымке, затянувшей близкий Синайский берег. Дружинин скорее угадал, чем разглядел: израильские «скайхоки». Держась уступом вправо плотно друг возле друга, они пронеслись над мачтами, оглушив ревом двигателей, взмыли вверх, развернулись, снова прошли над самым кораблем и растаяли в синей глуби неба.
— Хулиганят! — сказал капитан-лейтенант Судаков. Он хотел еще что-то добавить, но тут, как и в первый раз, истошно закричал наблюдатель:
— Два самолета слева девяносто, сорок кабельтов!
Теперь это были «миражи» с такими же, что и у «скайхоков», синими шестиконечными звездами в белых кругах на концах крыльев. «Миражи» проделали в точности такие же маневры и скрылись над Синайским берегом.
— А ведь они демонстрируют, — сказал Алтунин, — вот, мол, какие мы, все имеем, хоть «миражи», хоть «скайхоки».
— Не одни мы в заливе, чего они для нас-то демонстрируют, — усомнился Судаков.
— Мы ближе других к Синаю…
— Два самолета слева восемьдесят, сорок кабельтов! — снова прокричал наблюдатель, и в голосе его было удивление.
Все так же, уступом вправо, двойка самолетов нырнула к кораблю, оглушив истошным воем реактивных двигателей. Но это были уже совсем другие самолеты — горбатые, остроносые, с черными подпалинами под хвостами, с почти треугольными, скошенными назад крыльями.
— Вот, пожалуйста, теперь «фантомы» пожаловали, — сказал Дружинин. И добавил: — А ведь они нас пугают!
— Пугают! — подтвердил Алтунин. И заключил: — Пугают потому, что боятся.
— Чего им бояться?
— Что израильтяне, что американцы, что все натовцы так запугали себя советской опасностью, что поднимают тревогу даже при виде безобидного тральщика.
— Это точно, — сказал Дружинин. — Только ты бы, лейтенант, сходил на ют. Нас, конечно, не запугать, но все же…
На юте было, как всегда на учениях: стоял вахтенным у трала командир отделения минеров старшина 2-й статьи Чапаев, стоял вахтенным у динамометра командир отделения тральных электриков матрос Войханский, как и полагалось, не отрываясь, глядели: один — в море на прыгающие по волнам ярко-красные буи с флажками, другой — на белый диск прибора. Корабль шел с тралом, и внимание было теперь главным. Выглядели матросы необычно: в шортах и оранжевых жилетах, надетых на голое тело.
— Ну как? — спросил Алтунин, ни к кому не обращаясь. — Самолеты не больно мешают?
— А пускай летают, — подчеркнуто бодро ответил Войханский, не сводя глаз со стрелки динамометра. — Какая-никакая, а тень.
Алтунин с благодарностью посмотрел на него и вдруг подумал, что это ведь он успокаивает его, замполита. Чтобы не беспокоился за матросов. И отступил за лебедку, собираясь вернуться на мостик, и вздрогнул от незнакомо громкого, испуганного вскрика Войханского:
— Подсечена мина!
Резко обернувшись, Алтунин успел поймать взглядом рывок стрелки динамометра.
— Прямо по корме — мина! — доложил вахтенный у трала.
И все замерло на корабле. Алтунин отыскал на взбаламученной водной глади поблескивающий на солнце черный шар. Мина быстро удалялась, и он с беспокойством оглянулся на кормовую артустановку, стоявшую на камбузной надстройке. Оттуда, из-за серого броневого прикрытия, выглядывали черные стволы и виднелась голова наводчика в каске, прильнувшего к прицелу. Алтунину показалось, что целится наводчик недопустимо долго: все знали, что подсеченная мина будет качаться на волнах всего несколько минут, а затем наполнится водой и затонет.
Сухой треск короткой очереди резанул по ушам, со звоном посыпались гильзы. Снаряды взбили пену возле самой мины. Раздался еще короткий треск. В тот же миг палуба под ногами дернулась, море за кормой вздрогнуло сразу все, грязно-белым холмом вспучилось в том месте, где только что была мина. Холм этот стремительно поднимался все выше. Тяжкий звериный рык, переходящий в шипение, догнал корабль и прокатился дальше, к другим тральщикам, к едва видному вдали низкому Синайскому берегу, серо-дымной полосой отбившему горизонт.
Алтунин восхищенно улыбался, наблюдая, как оседает гора воды. Налетели чайки, роем мошкары замельтешили над местом взрыва. Он шагнул на ют, чтобы взглянуть в глаза минерам, похвалить. И наткнулся на неожиданный перекрик докладов:
— Подсечена мина!
— Прямо по корме — мина!
Снова, сразу после команды с мостика, ударила кормовая установка. Снова вспучилось море, и глухой рык прокатился над морем. Алтунин подождал, не подсечется ли третья мина, и, но дождавшись, пошел на мостик.
— Не пугают, — сказал он Дружинину.
— Что?
— Самолеты, говорю, не пугают. Наши люди, как всегда, на высоте. Пускай, говорят, летают, все-таки тень. — Алтунин засмеялся, но никто его не поддержал, и он замолк. Командир стоял на правом крыле мостика, смотрел за корму. Помощник выглядывал из левых дверей рубки и тоже высматривал что-то за кормой. Две мины подряд всех заставили ждать третью.
Солнце жгло все сильнее. Покосившись на командира, Алтунин расстегнул пуговицы на рубашке и подставил грудь горячему ветру. Командир тоже начал расстегиваться. Из-под козырька его выцветшей пилотки стекали струйки пота и высыхали на подбородке.
С моря, где маячили другие тральщики, докатился низкий гул взрыва. Командир посмотрел в бинокль и опустил его: мина взорвалась на достаточном удалении от корабля, значит, и у соседей все шло как надо.
У трапа, ведущего на мостик, показался боцман с кистью и банкой.
— Разрешите, товарищ капитан третьего ранга?
— Что такое?
— Звезды отштамповать. Две мины — две звезды.
— Где отштамповать?
— На рубке. Чтоб видней.
— Надо? — повернулся командир к замполиту.
— Надо.
— Штампуйте, раз надо.
Боцман соскользнул с трапа, и через пару секунд его голова показалась над краем рубки. Видимо, он висел там, держась за скобы.
— Вертолет справа сорок, двадцать пять кабельтов! — доложил наблюдатель.
Командир вскинул бинокль. На морском горизонте висела точка далекого вертолета.
— Вот теперь самолеты будут опасны. Реактивная струя у них мощная. А вертолет, что комарик.
Рокоча мирно, по-домашнему, вертолет сделал круг над кораблем и завис за кормой. Так он и шел, как привязанный, не удаляясь и не приближаясь.
Работа тральщика с вертолетом проводилась в соответствии с планом траления. Дело это было не новое, но еще достаточно непривычное, чтобы относиться к нему со всем вниманием. От моряков требовалось немногое — только держать постоянную связь с вертолетом. Главная роль в этом необычном симбиозе «корабль — вертолет» отводилась летчикам. Им нужно было точно выдерживать скорость и направление полета, наблюдать за небом и особенно за морем, чтобы не прозевать внезапно всплывшую мину и сообщить о ней на тральщик.
— Как им там, видно что-нибудь? — спросил Дружинин.
— Все видно, — сразу ответил штурман Ермаков, державший связь с вертолетом.
— А под водой?
— Волны мешают что-либо разглядеть. Игра светотеней, хаос пятен.
— Волн только в прудах не бывает. — В голосе Дружинина слышалось удовлетворение. Моряк, привыкший все делать обстоятельно, он в таком серьезном деле не очень доверял «верхоглядству». То ли дело трал: зацепит — не сорвется. А кроме того, существуют не только якорные мины, болтающиеся у самой поверхности воды, а и такие, что лежат на дне. Их-то с вертолета никак не разглядишь. Разве что мина будет лежать на небольшой глубине, да на чистом песочке…
И тут, на мгновение раньше наблюдателя, он увидел над блескучей поверхностью залива две черные точки — катера. Наблюдатель доложил — торпедные, но это были скоростные сторожевые катера с небольшими мачтами, перекрещенными антеннами радиолокаторов, со скошенными рубками, с автоматическими пушками на баке и на юте. В пенных бурунах они вынырнули из полуденной дымки, стремительно пошли наперерез тральщику.
Дружинин улыбнулся, всмотревшись в передний катер, и передал бинокль Алтунину.
— Взгляни, замполит.
На носу катера были нарисованы кривые клыки разинутой акульей пасти.
— Опять пугают, — недоуменно сказал Алтунин.
Катер с акульей пастью в опасной близости пересек курс тральщика, развернулся и, сбавив скорость, пошел параллельно метрах в десяти от борта. Другой катер проделал точно такой же маневр с другого борта. Из рубки высунулся длинноволосый человек с черной куртке без каких-либо знаков различия и долго рассматривал тральщик.
— Зачем пришли? — неожиданно крикнул он по-английски. — Вам здесь делать нечего.
— Врубите погромче, — сказал Дружинин, не оборачиваясь. — Чтобы потом не говорили, что не слышали.
Он поднес к губам палочку микрофона, и голос его густым звоном динамиков накрыл и тральщик, и катер, и море вокруг:
— Ваш катер грубо нарушает правила судовождения, что может привести к столкновению. Командование советского корабля заявляет решительный протест против ваших провокационных действий.
— Вы находитесь в чужих территориальных водах! — крикнули с катера.
— По просьбе египетского и по решению Советского правительства мы проводим боевое траление в египетских водах, — снова прогудел над волнами голос Дружинина.
— С июля шестьдесят седьмого года эти воды вместе с Синайским полуостровом принадлежат Израилю.
— ООН считает их временно оккупированными. ООН признает эти воды египетскими.
Помедлив минуту, человек скрылся в рубке. Катера, как по команде, разошлись в стороны и, набирая скорость, все глубже зарываясь в пенные буруны, покатились по широкой дуге, забирая за корму, туда, где покачивалась цепочка флажков на красных буях, обозначающих трал.
В этот миг дернулась палуба, и там, далеко за кормой, где скользили в синих глубинах тралы, высоко вспучилось море, и тяжелый рев взрыва прокатился над кораблем. Высокая волна швырнула катера. Круто развернувшись, они помчались прочь от тральщика.
Прибежал боцман с баночкой, полез на рубку. Потом он отошел за шпиль полюбоваться своей работой.
Взбаламученное взрывом море сглаживало волны, сверкало тысячами ослепительных бликов. Полуденный ветер нес с Синайского берега раскаленное дыхание пустынь.
— Как обед? — спросил командир у боцмана.
— Праздничный! — весело ответил боцман. — Свежие овощи, фрукты, компот из холодильника.
— Катер слева семьдесят, десять кабельтов! — доложил громко наблюдатель.
Катер возвращался один, тот самый, с акульей пастью. Уже не заходя за корму, он приблизился к борту, и тот же человек спросил по-английски:
— Когда уйдете из этого района?
— Когда выполним правительственное задание, — по-английски же спокойно ответил командир.
Черный человек постоял минуту, подумал, потом нырнул в рубку, и катер, резко отвернув, помчался прочь от корабля.
VIII
Два года назад Винченко довелось участвовать в экскурсии в Эль-Аламейн. Ехать было недалеко — на больше ста километров от Александрии, но дорога из-за монотонности пустыни показалась долгой. Светло-желтая равнина с редкими бурыми пятнами убогой растительности пошевеливала в зное задымленной линией горизонта. Черная полоса автострады была пуста, так что крохотное местечко Эль-Аламейн показалось среди этой пустоты приличным городом.
Машина остановилась возле указателя с надписью: «Английское мемориальное кладбище». В стороне, внизу под насыпью, возвышалась парадная аркада, за ней тянулись длинные ряды надгробных обелисков на могилах солдат и офицеров Британского содружества наций, которые, как говорилось в надписи, «пали смертью героев, сражаясь на земле и в воздухе Египта».
Рассматривая кладбище, аккуратное, ухоженное, Винченко вдруг увидел флаг со свастикой. Он развевался рядом с британским флагом у входа в военный музей. В музее висели портреты Гитлера и Роммеля. Потом экскурсантов привезли на немецкое мемориальное кладбище, где были столь же ухоженные ряды надгробий, показали высоченный памятник итальянским фашистам. А экскурсовод восторженно говорил по-английски, что скоро будет открыт еще один музей — музей Роммеля, что будет он в скалистом гроте, где находился штаб Африканского корпуса вермахта…
Винченко тогда подмывало спросить: «Кому все это надо?» Не спросил. А скоро и сам понял кому. Когда прочел высказывание Садата, что его «восхищение германским милитаризмом не поддается описанию».
Это было два года назад. Но и теперь, в 1974 году, Винченко не мог взять в толк, какой же стороной гитлеризм так уж понравился Садату? Может, тем, что вел войну против англичан, в то время беспардонно грабивших Египет? Но тогда почему, придя к власти, Садат начал напропалую флиртовать с американцами — первыми друзьями англичан? Тут была какая-то тайна…
Винченко поморщился, потер пальцами лоб, смущенно оглядываясь из-под руки: не заметил ли кто-нибудь его долгой задумчивости? Но все в салоне вертолета сидели возле окон, смотрели вниз. Внизу стлалась морская гладь, как всегда, ярко-синяя с красивым перламутровым отливом. Где коралловые рифы подступали близко к поверхности, окраска моря менялась: то пестрела разноцветьем, то поблескивала молочными взвесями кораллового песка. Проплыл в стороне одинокий палец маяка Ашрафи, покрашенный полосами, как пограничный столб, опирающийся на восьмигранную площадку основания. Над длинным тонким молом, загнутым в виде буквы Г, висел маленький вертолет, трепыхал сдвоенными лопастями-крылышками, и под ним, с подветренной стороны мола, лежал широкий подвижный веер искрящейся ряби. Здесь, на маяке, находился теодолитный пост отряда траления, и вертолет, как видно, доставил сюда грузы.
Скоро показался берег Хургады с рыбацкими суденышками у судоверфи, с нашей плавбазой и тральщиком, приросшим к пирсу. Вертолет опустился на площадку неподалеку от дома губернатора, прикрытого полудюжиной тонконогих пальм, и они, восемь советских старших офицеров, приглашенных на прием, устроенный в их честь командующим Красноморским военным округом, спрыгнули на окаменевшую под солнцем землю. Здесь их уже ждали, и через несколько минут они оказались на тенистой веранде офицерской гостиницы, расположенной в припортовой части Хургады.
Моложавый, круглолицый, все время улыбающийся араб, назвавшийся капитаном 2 ранга Хумсой, предложил им отдохнуть после дороги. Офицеры разбрелись по большой веранде, покуривая, оглядывая двор без травинки, соседние дома с глухими, без окон, стенами, серую пыльную улицу, в конце которой синело море. Прошло пять минут, десять…
«Типичный араб все делает не торопясь, — вспомнил Винченко одну из выписок в своем дневнике, сделанных из разных книг. — Его не тревожат завтрашние дела, ибо дела сегодняшние куда важнее».
— Однако! — сказал Полонов, выразительно посмотрев на часы.
Прошло уже сорок минут, как их держали на веранде.
— Может, они о нас забыли?
— Да все рассчитано, — тихо сказал Полонов. — Похоже, что дружеских объятий не предвидится.
— Мы же на официальном приеме.
Раскрылась стеклянная дверь, и улыбчивый офицер пригласил их в зал. Здесь было сумрачно, неуютно. Откинулась занавеска, быстро вошел высокий толстый полковник с крупным лицом, огромным носом. Едва кивнув, он вытащил из кармана носовой платок, трубно высморкался и лишь после этого произнес несколько слов. Круглолицый переводчик с черной волосатой грудью в вырезе белой куртки с трудом подбирал русские слова: «Заместитель командующего Красноморским военным округом полковник Маамун рад этой встрече…» Затем гостям были представлены египетские офицеры, а хозяевам — советские офицеры. На этом церемония знакомств окончилась.
Расселись, и теперь Винченко смог как следует рассмотреть сервировку. Здесь были различные салаты, рыба печеная, мясо жареное, холодный плов с изюмом, аппетитная смесь, состоящая из ломтиков манго, ананаса и зерен граната.
Сидевший слева от Винченко капитан 2 ранга Хумса налил ему, а потом себе в бокалы прозрачной жидкости и застыл, поглядывая на полковника. Тишина ожидания повисла над столом. В тишине громко булькала жидкость, которую полковник долго наливал из кувшина в свой бокал.
Винченко ждал первого тоста, обдумывая, что скажет сам. И вдруг вздрогнул от оглушительного звука: заместитель командующего опять сморкался, развернув свой огромный платок. Затем он свернул платок, спрятал в карман и принялся есть. Все арабские офицеры, человек пятнадцать, застучали ложками и вилками. Винченко взял свой бокал и пригубил. В бокале была обыкновенная холодная вода. Это было неожиданно, непонятно, он с недоумением посмотрел на своих офицеров. Те смущенно переглядывались между собой.
— Извинить, — услышал он слова Хумсы. — Нет вина. Объяснить боевой обстановки. Надо быть боеготовность. — Он скосил глаза в сторону и добавил тише: — Так сказал полковник Маамун.
Винченко кивнул и ткнул вилкой в кусочек ананаса. Он-то хорошо знал, какая у них боеготовность: иных мусаыдов — мичманов не поднимаешь с молитвенных ковриков и боевой тревогой, иных офицеров днем с огнем не сыщешь на боевых постах в пятницу, когда выходной день. И только одно утешало: капитан 2 ранга Хумса говорил смущенным, извиняющимся тоном, давая понять, что лично он непричастен к такому приему. Значит, не все они тут отшатнулись от былого дружелюбия.
Наконец полковник встал, все тотчас поднялись из-за стола. Полковник снова полез за своим платком и что-то произнес.
— Господа! К сожалению, я очень занят, — быстро перевел переводчик. Винченко болезненно поморщился: бестактность. Он, видите ли, занят, а они, стало быть, не заняты?..
Едва поспевая за полковником, переводчик заговорил о том, что война прервала важнейший мировой торговый путь через Суэцкий канал, что Египет при помощи американцев намерен снова ввести его в строй, что расчистка Суэцкого залива от мин — одна из важных работ, проводимых сейчас с помощью советского флота.
Ничего нового. Но Винченко сделал новый для себя вывод: заместитель командующего здешним военным округом, как видно, дает понять, что присутствие советских кораблей в египетских водах — вынужденная мера.
В этот момент с моря, слабо токлнувшись в стекла, донесся звук далекого взрыва. Полковник на миг прервал свою скороговорку и, словно спохватившись, заговорил о том, что в знак признательности за помощь в разминировании залива он желает вручить советским офицерам подарки. Переводчик подал ему небольшую декоративную тарелку с лежащей на ней авторучкой а двумя американскими карандашами. Полковник шагнул к Полонову. Полонов спокойно взял тарелку и заговорил о том, о чем еще два года назад часто говорилось египетскими официальными представителями: советские люди питают самые добрые чувства к трудолюбивому египетскому народу. Советский Союз всегда в трудную минуту приходил на помощь Египту. Вот а теперь советские моряки до конца выполнят свой долг, какие бы трудности ни пришлось преодолеть. Он говорил о том, что первый этап работ успешно завершен — протрален фарватер, по которому уже прошли к Суэцкому каналу американские суда.
Полковник заторопился. Ничего не говоря, он раздал подарки, еще раз громко высморкался и вышел.
— Пообедали! — насмешливо сказал командир «Смелого» капитан 2 ранга Володин, когда все они забрались в вертолет и снова почувствовали себя дома.
— Ничего, — угрюмо проговорил Гаранин. — Должен же быть ответный визит. Пригласим на корабль, покажем, что такое настоящее гостеприимство, не будем злопамятны.
Взметнулась пыль, промелькнули в окнах вертолета метелки пальм у губернаторского дома, завалились назад белые минареты, и поплыло внизу пестрое от рифов море.
На полетную палубу крейсера сходили как на родную землю — с чувством несказанного облегчения.
— Не пообедать ли нам? — неожиданно продолжил Полонов. — По-своему, по-русски, а?
— Это дело! — оживился Винченко.
IX
«…Где бы ни жил, что бы ни делал человек, все время думает он о прошлом. Чтобы понять, предугадать будущее…»
Валентин Иванович Туликов перечитал исписанные страницы блокнота и удовлетворенно хмыкнул.
В последние дни Туликов не мог отделаться от ощущения, что его «перепрыгивание» с корабля на корабль, беседы с матросами, старшинами, офицерами, бесконечные записи в блокнотах не более как медленное приближение к каким-то очень важным обобщениям. Началось это с разговора с Прохоровым на пустынной дороге. Прежде он видел свою задачу лишь в том, чтобы собрать факты и поувлекательнее изложить их, теперь же захотелось понять что-то большее, чему он еще не нашел ни объяснения, ни названия. Он уже не мог рассматривать этот поход кораблей как очередной эпизод жизни флота. Вся операция боевого траления представлялась ему факелом, в свете которого высвечивались какие-то краеугольные массивы, которые он пока что не мог понять.
— Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга! Вызывали?
Громовой голос принадлежал старшине 1-й статьи Генералову.
— Садитесь.
Старшина грузно опустился, и Туликову показалось, что при этом покачнулся весь корабль.
— Ну и здоров же! — не удержался он от реплики. — Небось гирями занимаетесь?
— Могу, — со спокойной уверенностью, свойственной очень сильным людям, ответил старшина. — Только не люблю я их.
— А что вы любите?
— Интарсию.
— Это что такое?
— Инкрустация на дереве. Берутся листочки разных пород дерева, тоню-юсенькие, и наклеиваются на доску…
Туликов с интересом смотрел на него. Было необычно слышать в гудящем голосе нотки нежности, в особенности когда он, сложив губы, произносил «тоню-юсенькие».
— А чего вас на эту интарсию потянуло?
— Так я же дома столяром работал. Приходилось заниматься фанеровкой мебели. А как на флот попал, еще в учебном отряде, послали меня ленкомнату оформлять. Ну я и решил сделать что-нибудь такое…
— Как-то не вяжется ваша силища и эта… интарсия…
— Может, потому и к тонкой работе тянет. Ведь хобби — заполнение какого-то вакуума в человеке.
«Вот тебе и старшина! — подумал Туликов. — Генерал, а не старшина! Хобби — заполнение вакуума души». — Он принялся торопливо записывать понравившийся афоризм.
Неожиданный получался разговор. Пригласил он этого Генералова, чтобы расспросить о жизни и службе, заполнить образом старшины пустующую клеточку в почти готовом очерке о флотских рационализаторах. Их оказалось необычно много на кораблях. Словно трудности дальнего похода сами по себе будили в людях творческие порывы. И вот выясняется, что и домашние увлечения здесь не забыты.
Капля пота упала на блокнот и словно поставила точку в конце записи. Было душно, как всегда в эту послеполуденную пору. Тянул ветерок, но он был горячий, сидеть на палубе становилось невмоготу.
— Жарковато!
— В машине еще жарче, — отозвался старшина. Он сидел как ни в чем не бывало, глядел в искрящуюся даль моря. Под бортом плавбазы шел египетский катер, тот самый, что по утрам забрасывал гранатами акваторию порта и устраивал неурочную побудку. За ним золотистой лесенкой бежали волны.
— Знаете что, — сказал Туликов, — попробую-ка я написать о вас. Отличник службы, рационализатор, да еще это хобби. Согласитесь, такое не часто встречается.
— На плавбазе-то? — изумился старшина. — Не знаю, как на других кораблях, но у нас каждый второй чем-нибудь своим занят. Сейчас поутихли, а дома так во всех кубриках звон — чеканкой заняты.
— Чеканку я видел.
— А Славка, то есть, извините, старшина второй статьи Чернышов, так тот с кистями не расстается. До службы, говорит, баловался, а теперь вроде всерьез.
— Ну, это не каждому дано.
— Кому что. Веревкин вот скульптором заделался. До службы глины в руки не брал, а в прошлом году попросили его помочь оформить ленкомнату, и он как проснулся. Говорит: сам не знал, что умею. У нас даже композитор есть — старший лейтенант Пеклеваный. «Провожала девчонка матроса» — слышали? Его песня.
Туликов засмеялся.
— Послушать вас, так не корабль получается, а сплошная художественная самодеятельность…
— А, вот вы где! — послышался знакомый голос.
Туликов оглянулся, увидел капитана 1 ранга Прохорова. За эти дни Прохоров сильно загорел и теперь в выцветшей, как у всех офицеров, пилотке, сильно сдвинутой на правое ухо, в расстегнутой рубашке-распашонке с темными пятнами под мышками никак не походил на старшего начальника, перед которым полагалось вскакивать по стойке «смирно».
— А мне говорят: газетчик на плавбазе. Решил разыскать, пригласить в баню.
— В баню?!
— Они на плавбазе по-барски живут. Сауна на корабле, представляете?
— Так тут, — он обвел глазами небо, море, палубу, — везде баня.
— Э, не скажите. Баня есть баня. А это, — Прохоров тоже повел глазами по сторонам, — жалкая имитация.
Баня оказалась настоящей, с парильней. Была и камеленка — ниша с крепко зажатыми в ней валунами, чтобы не громыхали при качке. Из камеленки несло сухим жаром. Но больше всего поразило Туликова небольшое окошечко, вделанное в стенку из горбылей. Через него сочился слабый свет, и там, за замутненным стеклом, виднелся зеленый бережок с дощатым мосточком под развесистой ивой и белесая гладь озера.
— Каково? Картинка за стеклом всего-то, а каково?
Прохоров извлек из-под лавки настоящий березовый веник, сухой, слежавшийся, понюхал жухлые листочки.
— Давайте быстрей! — крикнул он из парильни.
Вода в тазу быстро темнела от веника. Прохоров зачерпнул ковшиком этой коричневой воды и плеснул в разверстый зев камеленки. С коротким всхлипом вырвался клуб пара, растекся под деревянным подволоком, ожег плечи.
Прохоров плеснул еще, принюхался.
— Все-таки не тот дух, холодный. Железо кругом, куда от него денешься. Ну да ладно. — Он полез на полок, пластаясь к горячим доскам, вжимая голову.
Сухой пахучий жар обволакивал, расслаблял. Сухие волосы на голове потрескивали.
Через минуту Туликов не выдержал и сполз с полка.
— Не в службу, а в дружбу, — попросил Прохоров, — наддай еще.
Он кряхтел и постанывал, охаживая себя веником, который скользил по его спине, по бокам, казалось, сам собой, легко и мягко.
— Сначала вдоль лопаток, вот та-ак, потом по бокам, вдоль позвоночника. Избави бог — поперек…
Он сполз с полка, сел рядом с Туликовым, с удовлетворением потирая ладонями мягкое, распаренное тело.
Из-за глухих переборок докатился слабый удар далекого взрыва. И словно бы сразу все переменилось в бане: почувствовалась духота, запахло застоялой сыростью…
X
На остров к гидрографам Туликов поехал с надеждой хоть немного побыть в уединении, отписаться. Но и здесь оказалась уйма материала для газетчика. И вот он сидел в палатке и расспрашивал лейтенанта Гиатулина о том, как создавался на острове координационный пост.
У себя на сандалетке Туликов увидел небольшую ящерицу.
— Гляди-ка! — удивленно воскликнул он.
— Не остров, а сковорода горячая, — сказал Гиатулин. — Наши палатки — единственная тень, вот и забегают. А вообще, на всем острове, кроме ящериц да мух, никто не живет. Правда, недавно сверчок пиликать начал. Откуда взялся?
Гиатулин говорил медленно, словно через силу, и Туликов понял: лейтенант задремывает от усталости. Казалось бы, от чего уставать? Сиди у теодолита, гляди на тральщики и через каждые две-три минуты передавай радисту данные о их передвижении. Но такое сидение выматывает хуже надсадной физической работы. Все время в напряжении, чтобы не упустить момент, когда корабль начнет сбиваться с курса. Отклонится на какой-нибудь десяток метров и может напороться на мину. Вчера Туликов сам сел к теодолиту, но через минуту отказался: глаза слезились, черные точки тральщиков растворялись в ослепляющих бликах. А Гиатулин сидел у теодолита целыми днями, а иногда, если траление велось ночью, то и круглыми сутками.
— Пойду пройдусь, — сказал Туликов, решив, что надо дать Гиатулину отдохнуть.
— Далеко не ходите. Вокруг-то мы проверили — чисто, а дальше кто знает. Арабы говорят: могут быть мины.
Под палаткой с приподнятыми полами тянул слабый ветер, горячий, он все же создавал иллюзию охлаждения. Туликов вышел под прямые солнечные лучи, и ветер исчез. Со всех сторон дышало жаром, песок обжигал даже сквозь подошвы.
Упоминание о минах заставило пристально вглядываться под ноги. Он прошел к развалинам старого маяка и огляделся. Отсюда был виден весь остров, длинной серой косой протянувшийся на целую милю. Вдали за ним синело море, и темной полосой виднелся другой остров, такой же низкий и пустой, без деревца, без кустика. Угнетающей душу пустынностью веяло от всего, что было вокруг. Никак не представлял себе Туликов, что такими мертвыми могут быть тропические острова. «Пальмы, синие лагуны, экзотика», — вспомнил он разговоры перед отъездом и невесело рассмеялся. Здесь экзотикой был он сам.
Самым живописным местом на всем острове был координационный пост. У кромки берега, выстланного ослепительно белым песком, стояли три палатки, темнела бочка с водой, зарытая в песок, высилась антенна. Там была жизнь: ходили люди, кто-то плескался в бухточке на мелководье. Туликову вдруг нестерпимо захотелось туда, в бухточку, и он заторопился к берегу, на ходу расстегивая рубашку. Сбросив шорты и сандалеты, плашмя плюхнулся на воду. Его передернуло от озноба: после пятидесятиградусного обжигающего воздуха тридцатиградусная вода показалась ледяной.
— Не хотите поплавать? — Мичман Смирнов кинул ему трубку и маску для подводного плавания. — Далеко не заплывайте, на глуби акулы ходят. И на кораллы не наступайте, только на чистый песок. Ежей много…
Туликов натянул на лицо маску, поудобней пристроил загубник, нырнул и обмер от невиданной красоты подводного мира. Кораллы самых разнообразных форм — ажурные, шарообразные, блюдцевидные, раскинувшиеся легкими веерами, а то и массивные, испещренные лабиринтом извилин. Золотистые рыбка скользили меж зыбких щупалец бледно-фиолетовых анемон. Черные ежи топырились тонкими длинными иглами. Среди водорослей весело кувыркались морские коньки. Порхали полосатые рыбы-бабочки, склевывая кораллы тонкими клювиками. Неожиданно выскакивали сплющенные с боков морские окуни, черно-бархатные губаны, голубые морские караси. Откуда-то появилась вдруг колючая рыба-шар, плывущая вниз головой и кверху брюхом. Туликов решил, что рыба гибнет, и протянул к ней нож, но она с необыкновенным проворством юркнула в сторону и пропала в черных, зеленых, красных зарослях.
Туликов вынырнул, глотнул воздух и огляделся, На берегу что-то случилось: старший лейтенант Сурков у теодолита махал рукой, кого-то звал, один из матросов торопливо надевал рубашку, другой бежал за палатки, где был движок. Туликов изо всех сил заспешил к берегу и, как был в трусах, побежал к теодолиту. Возле Суркова, сидевшего с плотно закрытыми глазами, топтался лейтенант Гиатулин, просовывая руки в рукава рубашки (в тени палатки все отдыхали, раздевшись до трусов), он заглядывал в окуляр теодолита.
— Не вижу! Корабль не вижу! — повторял Сурков. — Передайте по радио: не вижу!..
— Погоди передавать, разберемся, — говорил Гиатулин. Он хмурился и вытирал слезы: море сияло как зеркало, слепило.
— Передай. Нельзя, чтобы они думали, что мы их видим.
Туликов знал, что угловые величины, переданные отсюда по радио, принимал на тральщике капитан-лейтенант Колодов, который и производил нужные вычисления, поступающие потом к рулевому в виде команд.
Гиатулин протирал глаза и все всматривался в белое марево, стараясь разглядеть темную точку корабля.
— Должны увидеть! — зазвенел в наушниках голос Колодова. — Смотри внимательнее.
— Товарищ старший лейтенант, — донеслось из-за палаток. — Киреев упал. Солнечный удар!
— Оставайтесь тут, я пойду помогу, — сказал Туликов. В одних трусах он побежал в палатку.
— Голову накройте! — крикнул Сурков.
Моторист, старший матрос Киреев, лежал навзничь на раскаленном песке, и возле него уже суетились два матроса и старшина 1-й статьи Светин, которого все называли гарнизонным доктором, поскольку он имел некоторую санитарную подготовку. Бледное лицо Киреева странно сливалось с белым песком.
Туликов крякнул, поднимая матроса, и согнулся от неожиданной боли. Светин, крепкий, кряжистый, перехватил обмякшее тело матроса и понес его к берегу, к воде.
— Брезент несите! — властно приказал он. — Да корреспондента оденьте. А то придется двоих откачивать.
Кто-то надел на голову Туликова пилотку, накинул на плечи распашонку.
На берегу матросы держали брезент, создавая тень. В тени, по грудь в воде, сидел старшина Светин и держал Киреева так, чтобы у него только лицо было над поверхностью воды.
Туликову стало не по себе. Он прошел в палатку и лег на раскладушку, с беспокойством прислушиваясь к пульсирующей боли в животе. От теодолита доносились радостно четкие доклады лейтенанта Гиатулина, должно быть, все же разглядевшего корабль.
В палатку внесли Киреева, положили на соседнюю раскладушку. Все еще смертельно бледный, ослабевший, он виновато улыбался, пытаясь подняться. Светин погрозил ему пальцем и принялся ощупывать живот Туликова.
— Может, отравление, — сказал он, — а может, и аппендицит. Тут врачу надо бы глядеть, не мне. Скоро вертолет воду привезет, с ним улетите.
Видно, он задремал, потому что вдруг услышал настойчивый беспокойный голос матроса:
— Товарищ капитан третьего ранга? Слышите? Вроде бы дождь собирается.
Дождь! Какой может быть дождь в этой пустыне!
Издалека донесся низкий утробный грохот, но это могло быть раскатом очередного взрыва.
— Надо же — туча! — сказал кто-то за палаткой. — Я думал, тучу тут можно только во сне увидеть, а она — вот она.
На тучу следовало поглядеть. Осторожно, прислушиваясь к себе, Туликов поднялся и вышел из палатки.
Над горизонтом висели темно-багровые пятна, словно кто-то заляпал синюю даль грязными пальцами. Пятна быстро увеличивались, темнели, сливались вместе.
— Пыльная буря идет! Крепить палатки! — крикнул сидевший у теодолита с наушниками на голове старший лейтенант Сурков.
Загудел голосами казавшийся уснувшим координационный пост. Люди потащили в палатки все, что находилось снаружи. Полы палаток были опущены, накрепко привязаны к кольям, вбитым в песок. Движок еще работал, но было приготовлено все, чтобы в последний момент наглухо затянуть его брезентом. А Сурков все еще сидел у теодолита, взглядывал на быстро темневшее небо и снова приникал к окуляру. Все делалось без него, все знали: командир будет у теодолита до последнего момента, когда стена пыли совсем закроет даль.
А в небе творилось что-то грозное. Остров и море словно попали в огромную бутылку, заполненную клубами красного дыма.
Последним в палатку просунулся старший лейтенант Сурков, втащил теодолит. Мичман Смирнов принялся застегивать вход, затягивать шнуровку. В палатке становилось темнее. И вдруг с очередным порывом ветра зашуршало сверху, словно и в самом деле по брезенту бил дождь. Шорох усиливался и скоро обрушился сплошным ливнем, так что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.
— А воду проверили? — спросил мичман Смирнов.
Никто этого не знал. Зарытая в песок бочка с водой обычно закрывалась большой металлической пробкой, но кок, часто бегавший за водой, случалось, оставлял бочку открытой. Мичман виновато посмотрел на командира, встал и принялся заматывать лицо полотенцем. Он расшнуровал вход, и у всех сразу же заскрипело на зубах. Прикрыв глаза руками, мичман шагнул в серую пелену летящего песка.
Вернулся он не скоро. Струйки песка стекали с него, как струйки воды.
— Ничего не осталось. Кукуем, братцы. Воду надо экономить.
— Распорядись, — хмуро сказал Сурков.
— Распорядился. На камбузе термос чаю есть, да еще ведро воды. Сказал коку, чтобы без приказа командира — никому ни грамма…
— В случае чего из радиатора можно пить, — подсказал Гиатулин.
— Нельзя брать из радиатора. — Сурков был растерян и потому, наверное, раздражен. Выпить воду из радиатора — значит вывести из строя движок. Воду, конечно, доставят первым же вертолетом. Но когда? А движок должен работать сразу, как только уляжется буря. Траление не начнется без надежной связи с координационным постом.
Палатку рвануло так, что она затрещала, все уставились на тугой брезент: не начнет ли расползаться по ниточкам? Острее запахло пылью, под лампочкой, горевшей на стойке, словно бы клубился дым.
Туликов вдруг спохватился, что все происходящее само просится в строку, потянулся за блокнотом и согнулся от приступа боли в животе. Его уложили на раскладушке.
— Передай, — сказал Гиатулин радисту, — больной у нас, серьезно больной. — И повернулся к Туликову: — А вы поспите, заставьте себя. Легче во сне-то.
Туликов закрыл глаза, некоторое время прислушивался к разговорам в палатке и уснул.
Проснулся он от тишины. То есть полной тишины не было: близко дышало растревоженное море. Но ветер уже не хлестал по брезенту песчаным ливнем. Туликов обрадовался этому как спасению. Пыльная буря могла бушевать и сутки, и двое. Если у него аппендицит, то можно долежаться до перитонита.
В палатке все спали, раскинувшись на своих койках. Лампочка горела, но, как показалось Туликову, более тускло: должно быть, садился аккумулятор. Но тут же он и догадался, почему свет лампочки потускнел: потому что посветлел брезент палатки. Это могло означать, что уже близок рассвет.
Стараясь не делать резких движений, Туликов встал, расшнуровал вход и отшатнулся: прямо на него надвигалась огромная фигура с поднятыми руками. Это был кок.
— Гимнастикой занимаюсь, — сказал кок. — Спать охота, сил нет.
— Так иди спи.
— Я ведь часовой.
Туликов разглядел ремень от автомата, перехлестнувший грудь матроса.
— Пройдусь. Душно что-то.
Осторожно ступая, он шагнул в темноту, серую, чуть забеленную близким рассветом, и сразу уютный мирок палаток отодвинулся в какую-то дальнюю даль. Тревожное чувство одиночества охватило его. Но вскоре беспокойство прошло, осталось ноющее ощущение затерянности в этой бесконечной пустыне, сотканной из тьмы и звезд. Ластился ветер, студил тело, разомлевшее в палаточной духоте. Монотонно и мощно шумело взбудораженное море.
Туликов присел на что-то подвернувшееся под ноги, стал смотреть на звезды. Они устилали небо густой искрящейся россыпью, едва заметные, сливающиеся в сплошные светлые поля, в яркие, сияющие особняком «навигационные звезды», беспокойно ворочающиеся с боку на бок в своем вечном одиночестве, — альфа Волопаса, альфа Лиры, альфа Скорпиона, альфа Возничего… — сплошные альфы. Полярная звезда слабо помаргивала почти у самого горизонта. Под ней висел перевернутый ковш Большой Медведицы с резко вздернутой вверх хвостом-ручкой. Туликов вспомнил арабские названия этих звезд — Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш. Вспомнил, что средняя звезда ручки — Белый Мицар, что значит «конь», — двойная. Над ней в молодости он хорошо различал золотистого Алькора — «всадника». Древние арабские «окулисты» по этой двойной звезде проверяли зрение своих пациентов, предлагая им разглядеть Алькора — «всадника» отдельно от Мицара — «коня». Но теперь, сколько он ни всматривался, не мог различить раздвоения светящейся точки — сказывались многочасовые сидения над книгами и рукописями.
Величие ли звездного неба было тому причиной или он уже совсем не мог избавиться от своих дум, только мысли его потекли по привычному руслу. «Всегда одно событие вытекает из другого», — вспомнил он слова Прохорова. Древние дикие люди должны были все больше осознавать необходимость самодисциплины, подчинения индивидуальных капризов воле семьи племени, воле коллектива.
Коллектив! Туликов даже привстал, таким всеобъемлющим и все объясняющим показалось ему это слово.
Коллектив. Переход от стадности к коллективности, способность создавать коллектив — вот что дало силу и жизнеспособность новоявленным гомо сапиенсам, определило всю дальнейшую историю рода человеческого! Развившиеся лобные доли мозга позволили человеку подавлять в себе звериные инстинкты, контролировать свои поступки. Эти сдерживающие центры дали возможность людям подчинять личное своеволие потребности племени. Люди стали образовывать сообщества, сильные дисциплиной, умением действовать по единой разумной воле. Новые, биологически изменившиеся, люди научились подчиняться не просто более сильному, а тому, кто больше знал и умел.
— Товарищ капитан третьего ранга!
Голос часового был тревожный, и Туликов пошел к палаткам. Слабая заря уже подсвечивала горизонт.
Часовой показывал рукой в едва посветлевшую даль.
— Идет кто-то.
— Доложите мичману, да побыстрей!
В серой мгле двигались два темных пятна.
Мичман Смирнов выскочил из палатки с автоматом в руке.
— В ружье! — тихо приказал он. — Поднимай всех, только без шума.
И тут грохнул взрыв, сухой, короткий, словно где-то резко хлопнула дверь. Выскакивая из палаток, матросы и старшины прыгали в неглубокие окопы.
Вдали затрещал автомат. Потом стрельба резко оборвалась и послышались тихие, приглушенные расстоянием крики, едва пробивавшиеся сквозь шум прибоя.
— Йа руфака! — наконец разобрал Туликов. — Товарищи! К нам обращаются.
— А вдруг провокация?
На песчаной проплешине выделялась фигура человека, согнувшегося над чем-то темным, бесформенным.
— Йа руфа-ака-а! — снова донеслось издали.
— Что-то случилось, — сказал Сурков, смотревший в бинокль. — Арабские военнослужащие. Во всяком случае, в арабской форме. Мичман Смирнов, старший матрос Грицко — за мной!
Он побежал по тропе.
На песке, скорчившись, лежал арабский солдат. Возле него стоял на коленях ефрейтор с одним угольником на рукаве и плакал, размазывая кулаком слезы. Ефрейтор поднялся, и Сурков увидел, что солдат ранен: на куртке и брюках расплывалось черное пятно крови.
— Что случилось? — крикнул Сурков, забыв, что арабы не поймут его.
Ефрейтор указал автоматом на песчаную отмель. Из быстрой пантомимы ефрейтора, из вихря слов — арабских, английских, русских — Сурков понял, что произошло. Солдат, идущий впереди, как это они обычно делали по утрам, бросил в воду гранату, граната ударилась о риф, отскочила и взорвалась в воздухе, ранив осколком солдата. Ефрейтор стал стрелять, рассчитывая привлечь внимание русских моряков.
Приказав отнести раненого к палаткам, Сурков задержался, осмотрел отмель и прибрежные камни. Ничего подозрительного. Вернувшись к палаткам, он увидел арабского ефрейтора в кругу матросов, наперебой угощавших его сигаретами. Ефрейтор улыбался широко и бессмысленно, как улыбаются люди, ничего не понимающие из того, что им говорят.
В палатке старшина Светин бинтовал раненого солдата.
— Бедро порвало, — сказал он. — Но кость, кажется, цела.
Солдат, бледный как полотно, длинный, растянувшийся на всю раскладушку, нервно мял в руках свое кепи и испуганно поглядывал на офицеров.
— Кто они? Как на остров попали? Надо выловить, — сказал Сурков.
— Уже выяснили, — облегченно отозвался Гиатулин. — Ефрейтор немного говорит по-английски. Пограничники они. В отлив перешли сюда по мелководью с другого острова. К нам шли, за водой. Воды у ник нет. Да теперь уж не до воды. В госпиталь надо солдата.
— В госпиталь надо, — эхом повторил Сурков а поглядел на Туликова. — Как вы?
— Терплю вроде.
— Баркас — слишком долгое дело. Да и не пойдет он, пока море не успокоится. Вертолет надо вызывать.
Вертолет прибыл через час, прошелся над палатками, заглушая монотонный шум волн, и завис неподалеку, там, где у руин старого маяка была площадка поровнее. Туликов выбрался из палатки и стоял, согнувшись от боли. Летчик, приоткрыл дверцу, махал сверху рукой и что-то кричал. Из широкого подбрюшья вертолета вывалился человек, отстегнулся от тросика и побежал к палаткам. Туликов узнал в нем корабельного врача Плотникова.
— Какого черта! — закричал Плотников еще издали. — Чего не несете раненого?
— Ждем, когда вы сядете, — сказал Сурков. — Не будет посадки. Запрещена посадка.
— Как это запрещена?
— А вот так! Арабы неба не дали. Нет сегодня полетов. Только нас и выпустили без права посадки.
— Но ведь их раненый…
— Где он? — перебил его Плотников и побежал в палатку. — А, это вы? — остановился он, увидев Туликова. — Ну как?
— Побаливает.
— Погодите, я сейчас.
Через минуту он вышел из палатки, на ходу застегивая чемоданчик. Матросы вынесли раненого прямо на раскладушке. Под придирчивым взглядом арабского ефрейтора Плотников усадил раненого в кресло, и тросик быстро втянул его в темный люк.
— Теперь вы! — крикнул Плотников на ухо Туликову, когда тросик с креслом выпал снова. — Давайте, давайте, нельзя вам тут оставаться. Аппендицит только для врачей легкое дело. Для врачей, но не для больных.
Все устроились в тесном пространстве за спинами двух пилотов. Вертолет, надсадно гудя двигателем, с трудом набирал высоту. Туликов видел в маленькое квадратное окошечко, как гидрографы махали им руками. Мутная пелена затягивала горизонт, море было не голубым, каким он привык его видеть, а темным и бурным — неприветливым.
И тут он вспомнил о воде, толкнул пилота.
— Воду почему им не оставили? — крикнул он в оттянутый наушник. — У них воды нет. Должны были привезти.
— Про воду не было приказа. Нас по тревоге подняли. Даже горючее недобрали. С половиной бака идем.
Туликов кивнул.
— Почему запретили полеты?
Пилот пожал плечами и поднял глаза к небу, дескать, один аллах об этом знает, потом кивнул на маленький календарик с зачеркнутыми цифрами, приклеенный к стойке.
— Праздник сегодня, пятница. По пятницам они не воюют.
Внизу крохотными островками стояли на якорях тральщики, ожидая, когда успокоится взбаламученное море. От солнечных бликов мелькали перед глазами белые и темные пятна, и от этого мелькания Туликова стало подташнивать. Когда отхлынул от лица холод, он поглядел вниз и увидел, что вертолет летит уже над окраиной Хургады. Дома здесь стояли тесно, белые, с небольшими двориками, окруженными со всех сторон высокими глухими стенами-дувалами. Кое-где во дворах росли небольшие серые кусты, изредка — пальмы. В стороне высились белые минареты, за ними виднелся порт, где тесно стояло несколько кораблей отряда траления.
Дома отошли в сторону, и потянулась пустыня, исполосованная асфальтовыми и грунтовыми дорогами. Туликов разглядел дворики для боевой техники, окопы, позиции зенитных ракетных установок. Враг стоял близко, по ту сторону залива, и серая земля эта была, по существу, передовой линией фронта.
Показался аэродром с взлетными полосами, с кое-как замаскированными закрытыми капонирами для самолетов.
Вертолет медленно приблизился к небольшому зданию, где, по всей видимости, должно было находиться командование авиабазы, и завис в десяти метрах от широкой асфальтовой площадки. Прошло пять минут, еще пять, а вертолет все покачивался в воздухе, и ни санитарной машины внизу не появлялось, и вообще никого. Пилот бубнил что-то неслышное, прижимая к горлу ларингофон, сердито взмахивал рукой и снова говорил, доказывал. Наконец вертолет пошел вверх и в сторону, и пилот обернулся к доктору.
— Куда теперь его? — Он кивнул на раненого солдата. — Посадку не разрешают.
— Как не разрешают?!
— Сегодня пятница, праздник у них. Никого нет.
— А раненый? Куда его?
— Вот и я спрашиваю — куда?
— А что они говорят?
— Спрашивают: кто раненый? Солдат, говорю, куда его девать? Отвечают: куда хотите!..
Пилот закашлялся от долгого крика.
Раненый солдат, похоже, догадывался, что происходит, он жалобно взглядывал на пилота, на врача и закатывал желтые глаза. Потом он ткнул пальцем в окно, указывая куда-то на север.
— Шималь! Шималь![1]
В его голосе слышались испуг, мольба, надежда.
Плотников толкнул пилота в плечо и тоже показал влево. Вертолет, круто наклонившись, пошел вдоль береговой кромки.
«Вот тебе и экзотика, — подумал Туликов. — Заграница, будь она неладна. Для нас человек есть человек, независимо от того, в каком он чине, а тут черт-те что!»
Летели долго. Пилот встревоженно оглядывался на Плотникова. Плотников посматривал на солдата.
— Горючего не хватит, — наконец не выдержал пилот.
— А что делать? Не в пустыне же его выбрасывать.
Плотников попытался жестами объяснить солдату, что дальше лететь нельзя. К его удивлению, солдат понял. Посмотрев вниз, он выставил один палец:
— Дийа![2]
На берегу что-то темнело — дом или холмик. Подлетев ближе, увидели двух солдат, вынырнувших из этого дома-холмика. Похоже, тут был пост пограничного подразделения. Снова завис вертолет, и Плотников первым спустился на тросе. Солдаты стояли поодаль с оружием наизготовку. Затем на тросе спустили раненого. Плотников отвязал его, уложил на песок, проверил повязку.
Еще до того, как закрылся люк, Плотников увидел, что солдаты подбежали к лежавшему на песке раненому, и по их поведению понял: он для них не чужой.
Назад летели молча. Пилоты сообщили на корабль о положении с горючим и узнали, что им навстречу вышел ВПК, чтобы в случае чего подставить свою вертолетную палубу.
Стараясь отвлечься от боли, от растущей тревоги, Туликов начал думать о жене, о дочке, о доме своем, о редакции. Как же он любил все это, как тосковал, особенно когда было трудно.
Вертолет резко пошел вниз, уши заложило, и сразу захлестнул новый приступ боли. Побелевшими глазами Туликов глянул на врача. Тот был спокоен.
— Решили снизиться! — прокричал он, — Чтобы потом не терять времени.
Туликов посмотрел в оконце. Близко хлестали волны растревоженного ночной бурей моря. А корабля не было, он еще находился где-то за горизонтом, шел, прощупывая дорогу среди рифов, опасаясь мин. И тогда Туликов понял, почему они снизились: чтобы не плюхнуться с большой высоты в случае, если вдруг остановятся винты.
Он снова закрыл глаза, постарался не думать об опасности. И послышалось ему, что где-то далеко-далеко, с трудом пробиваясь сквозь гул двигателя, звучит песня. Знакомая мелодия сама рождала слова:
…то плачут березы, то плачут березы…Мелодия пропала и вдруг мощно ворвалась в салон, заглушила все, захлестнула сердце печалью и радостью:
…Священную память храня обо всем… мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России…Пилот оглянулся, подмигнул Туликову и поубавил звук. Двигатель ревел, задыхался, отсчитывая, может быть, свои последние обороты…
XI
Большой противолодочный корабль «Смелый» стоял в районе траления, когда началась пыльная буря. Порывы ветра крепчали, волны вздымались все выше, угрожающе-фиолетовые, пенные. Внутри корабля, за герметическими дверями, плотно зажатыми тугими задрайками, царила тишина. Закрыв за собой дверь с палубы, Строев попал в другой мир, где были строгий порядок, чистота и прохлада кондиционеров.
Обязанности начальника походного политотдела можно свести к лаконичной фразе: наладить политико-воспитательную работу на кораблях. Но если эту фразу расшифровать, то можно говорить часами. Узкий специалист имеет дело с техникой, которая при хорошем обслуживании всегда работает безотказно. Объект внимания и заботы политработника — постоянно меняющийся человек, его взгляды и убеждения, его знания и опыт, его характер и привычки, душевное состояние и сердечные дела. Боевой корабль — это не только техника, а прежде всего люди, управляющие техникой. Стало быть, все дела этих людей — тоже предмет заботы замполита. Вот и получается, что круг обязанностей политработника неограничен.
В кают-компании Строев застал горячо споривших мичманов и младших офицеров. Разговор шел об акулах. Одни говорили, что акулы подлежат полному истреблению, другие столь же категорично доказывали, что их надо охранять как санитаров моря. Спорщики были непримиримы и появление Строева встретили с энтузиазмом.
— Акул, конечно, следовало бы уничтожить, — охотно отозвался Строев. — Только зачем? У нас что, других дел нет?..
— Они же первые хищники в океане! — раздался чей-то возмущенный голос.
— Первые хищники в океане, — сказал Строев, — супертанкеры под так называемыми «удобными флагами».
Он понял, что пришло его время высказаться, и зашагал по кают-компании от двери к иллюминаторам, за которыми уже совсем пожелтела даль, и обратно.
— «Удобные флаги», как вы знаете, — обман. Чтобы экономить на ремонте судов, на техническом оснащении, на спасательных средствах, капиталистические жулики «прописывают» свои суда через подставных лиц в других странах. По данным Регистра Ллойда, таких судов сейчас около семи тысяч. Пятнадцать процентов мирового торгового флота плавают под «удобными флагами», но по их вине происходит две трети всех катастроф. А что такое катастрофа супертанкера, вы представляете? Океан на сотни миль покрывается пленкой нефти, все живое в воде задыхается, прекращается испарение и вообще обмен между океаном и атмосферой. А ведь океан производит едва ли не три четверти кислорода, попадающего в атмосферу.
Он замолчал, и почтительная тишина повисла в кают-компании.
— А как же насчет акул? — послышался голос. — Последнее время о них много пишут.
— Не поняли! — с глубоким огорчением выговорил Строев. — Вы не задумывались над тем, почему в мире так много сенсаций? Да потому, что сенсации отвлекают внимание от действительных опасностей, угрожающих человечеству. Существует целая индустрия сенсаций…
— Но они интересуют людей…
— Именно, что интересуют. Сенсации — это чаше всего спекуляции на естественном природном любопытстве человека.
— Но ведь не все так понимают…
Строев наконец-то рассмотрел того, кто спрашивал. Невысокий худощавый мичман с быстрыми, нетерпеливыми глазами.
— Вы неправильно выразились, — мягко сказал Строев. — Вы хотели сказать: не все так считают. Верно?
— Так точно.
— Можно ведь знать и не понимать. Я думаю, что у вас как раз этот случай. Пожалуйста, не обижайтесь, но вы должны знать: именно понимание глубинных общественных процессов, исторический оптимизм дают нам уверенность в будущем. Не просто знание тех или иных фактов, а понимание взаимосвязей между ними.
Строев вышел на палубу и не узнал моря. Волны несли кроваво-пенную бахрому. Небо, затянутое прозрачной пеленой, светилось, словно было стеклянным. По всему морю вразброс стояли на якорях тральщики. Даль была темно-багровой и вспухала огромными клубами, словно там, вдали, горело море.
— Опять придется промывать фильтры, — пожаловался корабельный механик капитан 3 ранга Герасимов.
— Что фильтры? Весь корабль мыть придется.
Порыв горячего ветра ударил по надстройке с шумом пескоструйного аппарата. Строев и Герасимов стояли за уступом и с тревогой смотрели, как быстро темнело море, меняя багрово-красный оттенок на серо-стальной. По палубе пробегали песчаные змейки, извивались, прятались в мелкие щели.
В этот день Строев еще провел беседу с личным составом третьей боевой части о борьбе против буржуазной идеологии, смотрел со всеми очередную серию кинофильма «Освобождение». Затем он допоздна просидел с замполитом над планом партполитработы и конспектами политзанятий.
Возбужденный событиями дня, он долго не мог уснуть, лежал с открытыми глазами, смотрел в подволок, неровный, бугристый от множества проводов, покрытых толстым слоем белил, и долго вспоминал дом, родных и друзей своих, оставшихся в Севастополе и, несомненно, слушающих каждую радиопередачу в надежде узнать хоть какие-нибудь подробности о советских кораблях в Суэцком заливе…
Его разбудило монотонное постукивание лебедки, выбирающей якорь-цепь. Строев вскочил. Чтобы корабль снимался с якоря в бурю, должно случиться что-то чрезвычайное.
Выскочив на палубу, Строев увидел синее небо и большой красный шар утреннего солнца. Стояла тишь, обещавшая обычный изнурительно-знойный день. Только море, растревоженное за ночь, еще ходило высокими валами зыби.
— Что случилось? — спросил он, шагнув в рубку.
— Ничего особенного, — спокойно ответил командир корабля капитан 2 ранга Володин. — Становимся на якорь.
— Как становимся? Мы же снимались…
— Снимались. Но только что получили новый приказ: стоять на месте.
В голосе командира послышалась усмешка.
— На острове корреспондент заболел, — помолчав, сказал он. — Приказано было срочно снять. А теперь решено вертолет послать.
Строев связался по радиотелефону с Винченко, но ничего нового для себя не узнал. Приказ был прежним: оставаться на БПК. И Строев загоревал. Он-то все время рвался туда, где погорячее. И БПК облюбовал не без умысла: крейсер «Волгоград» стоял на якорях, а БПК «Смелый» все время ходил в районе минных нолей. Он был подстраховочной подвижной вертолетной площадкой. Правда, потребность в этом еще ни разу не возникала, но все могло быть. И вот теперь, находясь на БПК, он оказался в стороне от случившегося.
Строев дождался, когда вертолет прошел к острову, и направился завтракать. После завтрака он пошел к себе в каюту. И вдруг снова услышал стук якорной лебедки. Поднялся на мостик, по озабоченному лицу Володина понял: произошло нечто серьезное.
— Срочно идем на норд, — сказал командир.
— Почему на норд? Там же никого наших.
— Вертолет надо подхватить.
— Как он там оказался?
— Длинная история. Впрочем, спросите сами, с вертолетом — прямая связь.
Строев взял трубку и услышал знакомый голос главного врача Плотникова:
— Товарищ Строев, распорядитесь срочно приготовить операционную.
— Здесь, на «Смелом»?
— До плавбазы нам не дотянуть, горючее кончается. А с больным плохо. Как бы перитонита не было. Скажите врачу на «Смелом», он знает.
Строев вытер вспотевшее лицо, поглядел; в иллюминатор. Синело пустое небо над нами пустынным морем. «Смелый» шел на одной турбине, обходя непротраленные квадраты.
— Ну как, успеем? — спросил Володин.
— Горючее у них на исходе.
— Что значит — на исходе?..
Строев снова схватил трубку:
— Уточните, как с горючим.
— Минут на десять полета. Ну, может, на двенадцать.
Они встревоженно посмотрели друг на друга: если БПК будет идти, как теперь, он не успеет в точку, где У вертолета остановятся лопасти.
Володин перекинул звякнувшие ручки машинного телеграфа. Сразу усилилась вибрация палубы: заработала вторая турбина. Через несколько минут послышалось тонкое гудение, и волны за окнами рубки быстрее побежали назад. Корабль уже не огибал многомильные квадраты, а шел напрямик к точке встречи с вертолетом. Эти квадраты, которые они теперь пересекали, уже обрабатывались контактным тралом, а можно было не бояться якорных мин. Но оставалась возможность напороться на донные, неконтактные мины. Чтобы гарантировать от них, тральщикам еще предстояло «пахать и пахать». Однако выхода не было, и Строев мысленно одобрил решение командира.
Доложили, что вертолет уже виден. Строев вышел на крыло мостика. Похожая на серебристого жука маленькая машина, приблизившись, замерла на миг над кормой застопорившего ход корабля а вдруг словно бы упала, сильно ударившись колесами о палубу. И сразу оборвался треск лопастей. Строев кинулся на корму, но там уже хозяйничали врачи в белоснежных халатах.
Корабль словно вымер, молчали, турбины, не доносилось хлопанья дверей. Только, за бортами глухо плескались волны. Живой и сложный организм корабля замер. На время операции пришлось выключить даже вентиляцию.
Через два часа стало известно о благополучном всходе операции. Корабль снова ожил и пошел на зюйд, осторожно обходя опасные квадраты. Строев спросил командира:
— Как вы решились идти напрямую? Я понимаю: другого выхода не было, но как вы решились?
— На скорость понадеялся. Думал, проскочим, — ответил Володин.
— Ну что же, запишем на вас один галс.
— Какой галс?
— Обыкновенный. Мы же на тралении. Так что считайте: прошли боевой галс. Вместо тральщика…
XII
— Совсем сдурели! — заорал капитан-лейтенант Судаков и кинулся в рубку, схватил палочку микрофона.
Дружинин мягко, но решительно отобрал у него микрофон.
— Спокойней. Они только того и ждут, чтобы мы потеряли голову.
— Но ведь что позволяют!..
— На катере! — произнес Дружинин. — Вы нарушаете правила судовождения! Командование советского корабля заявляет решительный протест!..
Он сказал это по-русски, затем, спохватившись, быстро повторил по-английски и добавил уже только по-английски, что ответственность за последствия целиком ложится на израильское командование.
На катерах будто не слышали. Четыре сторожевых израильских катера носились перед тральщиком, хлопая днищами по высоким волнам, оглушая трескучими моторами. Они выделывали восьмерки, проскакивая почти у самых бортов, исчезая под форштевнем корабля.
— Как же, испугаешь их предупреждениями! — сказал Судаков. — Матюгом их.
— Этого они только и ждут. Небось и магнитофоны настроили.
— Но надо же как-то…
— Не надо. Сейчас сдержать их может только одно — наша спокойная непреклонность.
— Чихали они на нашу непреклонность.
Дружинин не отозвался, он напряженно смотрел на катер, только что крутившийся прямо по курсу и вдруг осевший, закачавшийся на волнах. Белый бурун за его кормой опал, но катер продолжал двигаться по инерции наперерез кораблю.
— Уходите с курса! — крикнул Дружинин в микрофон. — Мы на боевом галсе, идем с тралом!..
— Скажи: отвернуть не можем…
— Моряки там или сухопутные крысы! — взорвался Дружинин. — Сказано, идем с тралом!
Зубастая пасть, нарисованная на носу катера, скалилась на неумолимо надвигавшийся корабль, словно хотела напугать, остановить. Все, кто находился в рубке, смотрели на командира. А командир молчал, ничто в его лице не менялось, словно оно вдруг окаменело.
Отчаянно затрещав мотором, катер сорвался с места и пошел по широкой дуге, не заходя, впрочем, в непротраленную зону.
Дернулась палуба под ногами, и Дружинин выругался: порвался трал. Это был уже не первый случай. Морские карты, которыми снабдило их египетское командование, оказались устаревшими, на них не были нанесены многие подводные рифы и затонувшие суда.
«Придется снова делать этот галс», — подумал Дружинин. Освобожденный от трала корабль набирал скорость, и пришлось перевести ручки машинного телеграфа на «Самый малый».
Катер с акульей пастью снова подошел вплотную, на его палубу вылез знакомый длинноволосый переводчик и крикнул по-русски:
— Уходите, здесь нет мин!
— Вот это мы я хотим выяснить, — ответил Дружинин.
— Здесь — израильские воды.
— Мы проводим траление в египетских водах.
Переводчик, потоптавшись на палубе, нырнул в рубку. Но через минуту вышел оттуда, почему-то ухмыляясь во весь рот.
— Вы можете работать в этом районе, если Советское правительство официально обратится к израильскому правительству за разрешением.
Снова Дружинин не ответил. Да и что он мог ответить? Не его дело — решать такие вопросы.
На юте — с мостика это хорошо видно — торопливо сваривали части трала: металлические скобы сбрасывали, не дождавшись, когда они остынут. Дружинин каждый раз видел белое облачко пара, и ему казалось, что он слышит, как раскаленные скобы шипят, падая в воду.
Подбежал Судаков, уставился на израильский катер, который разворачивался к кораблю зубастой пастью. Другие катера тоже начали приближаться со всех сторон, словно собирались пойти на абордаж.
— Пока не закончили ремонт трала, проведем учение, — сказал Дружинин. — Что у нас по расписанию — борьба с пожаром? Начинай, да не забудь записать в вахтенный журнал.
Запылал, задымил на шкафуте таз с ветошью, облитой соляркой, покатились вдоль борта пожарные шланги, свернутые в диски, и вздулись под напором воды. Кто-то сорвал огнетушитель.
Дальнейшего Дружинин никак не ожидал, на палубу двух катеров вдруг высыпало до десятка пестро одетых людей с фотоаппаратами и кинокамерами. Вот, значит, в чем дело: все это сегодняшнее вызывающее поведение израильских катерников не более как специально разыгрываемый спектакль. И провокационные выкрики длинноволосого переводчика (ведь объяснились уже с ним, чего еще надо?), и опасные «восьмерки» перед форштевнем, и попытки заставить тральщик изменить курс. Все было рассчитано на то, чтобы вывести русских из себя, все — для прессы.
И пресса заработала. Дружинин не сомневался, что завтра израильские (и не только израильские) газеты распишут это учение как настоящий пожар на советском корабле. Репортеры теснили друг друга, лезли на крышу рубки, один забрался даже на невысокую мачту к радиолокационной антенне. Никто им не мешал, и они вели себя как хотели, кричали вразнобой злое, оскорбительное.
И тут с корабля кто-то раздраженно ответил им непонятной фразой, как вначале послышалось Дружинину, на немецком языке. Репортеры замолчали на миг, опешив от неожиданности, и вдруг разразились дикими воплями, не поймешь — возмущенными или восторженными.
Дружинин поморщился, понял, что произошло: кто-то из команды тральщика, не выдержав оскорблений, обругал крикунов на понятном им языке — на идиш. Именно на идиш, а не по-немецки, как вначале подумал Дружинин, — языки эти схожи. А идиш на корабле мог знать только один человек — старший матрос Войханский. Это было ЧП. Отсутствие выдержки у советского моряка — само по себе чрезвычайное происшествие, а тут, по существу, нежелательное общение с иностранцами, которое еще не известно чем обернется, поскольку нахальные репортеры уж постараются разрисовать этот факт до неузнаваемости…
Он снял микрофон с крючка, поднес к губам и крикнул по-английски так громко, что корабельные динамики захлебнулись звоном:
— Командование советского корабля решительно протестует против ваших провокационных действий!
И, не отнимая от губ микрофона, сказал тише:
— Старший матрос Войханский — к командиру!..
Но еще до того, как произнес это, он увидел сверкающую струю воды, ударившую по израильскому катеру, по шумной толпе репортеров. Катер сразу отвалил и пошел в сторону, набирая скорость. Палуба опустела, только из полуоткрытой двери рубки кто-то грозил кулаком и кричал угрожающе.
Войханский, бледный, решительный, без смущения в робости доложил о прибытии. Вода канала с его оранжевого спасательного жилета.
— Что это значит? — угрюмо спросил Дружинин.
— Шланг вырвался. Пожар же тушили.
— А что вы крикнули?
— Чтобы катились!..
Дружинин тяжелым взглядом посмотрел на матроса.
— Ладно, ступайте, потом разберемся.
Спокойно сделали один галс, потом другой. А затем сигнальщик доложил о приближающемся баркасе. На нем были командир отряда траления капитан 1 ранга Полонов и представитель политуправления капитан 1 ранга Прохоров.
Случайностями моряка не удивишь: вся служба на море — постоянная готовность к неожиданностям. И все восприняли визит начальства как закономерную случайность. Но сколько Дружинин ни уверял себя, что это лишь совпадение, что и без случившегося начальники прибыли бы, поскольку обычно дневали и ночевали на том или ином тральщике, все же не мог отделаться от ощущения, что на корабль прибыла комиссия. Он приготовился к разносу, хотя и знал, что начальнические разносы не в привычке Полонова.
Есть люди, чей внешний вид никак не назовешь начальническим. Кажется, что они созданы для застольных бесед, но не для того, чтобы вытягиваться перед ними по струнке. В движениях, в манере говорить, спрашивать просвечивает глубинная добродушность, готовность понять и помочь. Таким был командир отряда траления капитан 1 ранга Полонов. С мягкими чертами лица, полными губами и добрым взглядом широко расставленных глаз, он сразу располагал к себе людей, Но, может быть, именно поэтому его слова воспринимались подчиненными с особым вниманием. Каждому невыносима мысль потерять доверие уважаемого человека.
Дружинин и Полонов остались в рубке, а Прохоров, которому предстояло провести на тральщике несколько дней, в сопровождении Алтунина пошел на ют. Минеры стояли на своих местах, никак не отреагировав на появлений офицеров: корабль шел с тралом, и все их внимание было занято приборами, морем.
— Как живете, минеры? — весело спросил Прохоров.
— Как инкубаторские цыплята под рефлектором, — бойко ответил Турченко. Он не стоял на вахте и считал, что может позволить себе такую вольность.
— Просьбы есть?
— Померзнуть бы.
Прохоров ходил по юту, заглядывая в лица минеров. Ему все казалось, что по лицам, по глазам он сможет определить настроение людей, их затаенные думы.
Освободившиеся от вахты матросы пошли обедать, он направился за ними и, сев за общий стол, с удовольствием стал есть горячий, обжигающий борщ. Когда-то он жил в таком вот кубрике. Но это было давно, теперь ему хотелось хоть на миг почувствовать себя молодым, а заодно послушать, о чем говорят сегодняшние матросы в свободную минуту.
Матросы с недоумением посматривали на Прохорова и помалкивали. Только один, невысокий, кудрявый, беспрестанно острил.
— Ты не устал, Турченко? — не выдержал боцман. — Болтаешь невесть что, товарищу капитану первого ранга спокойно поесть не даешь.
— Так ведь товарищ капитан первого ранга, наверное, пришел с нами поговорить. Какой же разговор с молчунами? — бойко ответил Турченко.
Ударила наверху пушка, и миски на столе дернулись от близкого взрыва, расплескав борщ. Всех подмывало кинуться к трапу и посмотреть на море. Но Прохоров сидел на месте, и все сидели, шевелили ложками вдруг разонравившийся борщ.
По трапу соскользнул в кубрик черноволосый матрос с бровями, почти сросшимися над переносицей, тот самый Войханский, чью фамилию в этот день не раз повторяли офицеры.
— Еще одну рубанули! — возбужденно сказал он.
— А мы думали — это ты упал, — тотчас заметил Турченко.
Войханский никак не отреагировал на реплику. Спросив разрешения, он сел к столу. И тут же Турченко бросил насмешливо:
— Полиглоту — двойную порцию!
— Зачем смеяться? Вы знаете, что они кричали? Ахават Исроэль!
— А что это значит? Переведи.
— Это целая концепция, — терпеливо разъяснил Войханский. — Вроде лозунга, означающего всеобщую любовь еврея к еврею. Всякого ко всякому… Шли бы они!..
Матросы затихли. Прохоров отложил ложку, с интересом прислушиваясь к разговору. Он уже знал, что на сегодняшнем совещании, где, несомненно, речь зайдет о поступке Войханского, будет защищать его, настаивать, чтобы целиком оставить этот вопрос на усмотрение командира тральщика.
XIII
Последние дни траление велось даже по ночам, даже в пятибалльный шторм. Волны накрывали палубу, но когда они откатывались, командир, с мостика видел минеров, стоявших все там же, на своих местах. Последние дни, казалось, вымотали людей до последней возможности. Казалось, дай им сейчас выходной, и они будут спать вповалку все двадцать четыре часа. Но когда этот выходной им все-таки дали, даже не выходной, а всего лишь несколько свободных часов до начала повторного, контрольного траления, матросы высыпали на палубу, чтобы посидеть, покурить, поговорить.
Алтунин знал: нигде так не раскрываются матросские души, как во время таких вот перекуров. И он подсел к ним, заговорил о родных берегах. Скоро матросы наперебой принялись вспоминать каждый свои. Говорили о Кронштадте и Либаве, о каменистых берегах Балтики и долгих песчаных отмелях Каспия, о приморских городах и о селах, откуда моря не видать, вспоминали, тосковали, мечтали поскорей «пропахать» это чужое море и вернуться домой этакими «морскими волками», просоленными ветрами дальних стран.
Алтунин встал, считая, что свое дело сделал — настроил матросов на нужный лад, и пошел по шкафуту. И едва не столкнулся с капитаном 1 ранга Прохоровым, стоявшим за надстройкой и, как видно, слушавшим этот матросский разговор.
— О Родине говорят?
— О Родине.
— Я вот все думаю: что это такое — чувство Родины?
— Ну как же, — растерялся Алтунин. — Патриотизм… У каждого свое…
— У каждого свой патриотизм? Не думаю. Да, патриотизм — это любовь к своему народу. Но при непременном уважении других народов…
И тут над головой тревожно зачастили звонки. Прохоров кинулся на мостик, увидел вдали два пенных буруна: приближались израильские катера.
— Покоя от них нет, — проворчал стоявший на вахте капитан-лейтенант Судаков. — Еще бы два часа отдыхать команде. Но, видно, придется раньше начинать траление.
— Раньше начнем — раньше кончим, — сказал Дружинин.
Корабль снялся с якоря и пошел самым малым вдоль кромки минного поля, чтобы лечь на очередной галс.
Катера не приближались. Покрутившись по курсу тральщика, они ушли в сторону Синайского берега. Командир подождал, когда катера исчезли вдали, и хотел было снова встать на якорь, но тут сигнальщик доложил:
— Цель прямо но носу, пять кабельтовых!
— Какая цель? — спросил Дружинин, недовольно взглянув на сигнальщика.
— Вроде корзина, товарищ капитан третьего ранга.
Это и в самом деле была корзина, большая плетенка, белая, обесцвеченная морскими волнами. Но стояла она довольно высоко, не как намокшая, вот вот готовая утонуть.
— Может, пощупаем? — предложил Судаков.
Короткая, в два снаряда, очередь носовой артустановки вспенила волну возле самой корзины, затем прогремел еще один выстрел, и море вдруг вспучилось, жесткий удар толкнулся в борта так сильно, что все в рубке невольно схватились за поручни.
— Вот и добре, — сказал Дружинин. — Запишите: уничтожена мина, плавающая, сорванная с якоря, случайно подцепившая на рога корзину.
Прибежал боцман с банкой и кистью. Вскоре он уже стоял на баке, любовался своей работой. На серой плоскости рубки, симметрично располагаясь над тремя круглыми иллюминаторами, горели шесть красных звезд, свидетельствующих о шести уничтоженных минах, шести победах.
Тральщик медленно приближался к месту, где рванула мина, море было усеяно оглушенными рыбами. Командир внимательно всматривался в волны, хоть и понимал, что от корзины не могло остаться и щепы.
Прохоров, стоявший на мостике, тоже всматривался в волны, раздумывая о чересчур наглых провокациях израильтян. И тут он вдруг почувствовал, как палуба дернулась из-под ног, и упал, больно ударившись о переборку. Должно быть, на какой-то миг он потерял сознание, потому что не услышал взрыва. Очнулся оттого, что кто-то поднимал его. Под ногами хрустело: все плафоны и стекла в рубке были перебиты. Командир с крыла мостика кричал:
— Осмотреться по бортам и отсекам!
За кормой, совсем неподалеку, еще баламутилась вспученная взрывом вода, вился зеленоватый дым.
Трансляция не работала, и кто-то снизу, с палубы, начал передавать командиру доклады с боевых постов.
— Вышел из строя дизель-генератор!
— Разбит главный распределительный щит!
— Сорвана крышка фильтра, в машинное отделение поступает вода!
— Переносные пожарные насосы доставлены в моторное отделение!
Командир кивал, пока все шло нормально. Даже переносные электронасосы весом в сто килограммов так быстро перетащили по трапам из одного помещения в другое.
— Нет питания на руле! — доложил из глубины рубки пришедший в себя рулевой.
— Перейти на аварийное управление!
Рулевой побежал на корму, где в последнем отсеке был ахтерпик, румпельное отделение. В этот момент остановился двигатель, и непривычная тишина наступила на корабле.
— Отдать якорь! — приказал командир.
Боцман сам отдавал стопора. Якорь-цепь мирно загремела в клюзе. Она гремела долго: глубина в этом месте была приличной.
— Якорь не держит! — донеслось с бака.
Командир оглядел море. Видимо, попали на такое место, где дно — гладкая скала. Это был самый тревожный из всех докладов: рядом непротраленные участки, и дважды такого везения, чтобы мина взорвалась не под днищем, а чуть в стороне, могло не быть.
— Отдать второй якорь! — приказал Дружинин. — Что в машине? — крикнул он рассыльному внизу на палубе. И спохватился, вспомнил о переговорных трубах. Этим архаичным приспособлением обычно не пользовались, но сейчас они только и могли выручить. — Машина! — крикнул в раструб, вырвав пробку. — Что в машине?
— Вода поступает через кингстоны, — прохрипела труба голосом корабельного механика капитан-лейтенанта Викторова. — В топливной цистерне трещины — хлещет соляр!
— Заделать пробоины!
Дружинин бросил быстрый взгляд на Прохорова, и тот понял, чего от него ждут.
— Я туда, — сказал он, ткнув в палубу. — Не беспокойтесь.
Из машинного отделения дохнуло промасленной духотой. Внизу валялись дощатые пайолы, меж ними блестела замазученная вода. Из поврежденных кингстонов тремя фонтанами хлестало море. Через горловину топливной цистерны выпирало соляр. То и дело оступаясь на пайолах, скользя ногами в черной жиже, несколько человек аварийной команды заделывало пробоины.
Прохоров кинулся к цистерне. Соляр выдавливался забортной водой — значит, пробоина где-то внутри, и, чтобы заделать ее, надо лезть в этот соляр без водолазного костюма, иначе в горловину не протиснуться.
— Кто пойдет? — услышал он голос капитан-лейтенанта Викторова.
Невысокий коренастый матрос подался вперед, сказал обиженно:
— Это же мое заведование… Я первый сюда прибежал!
— Давай, Шаронов, только быстро. Остальным по местам. Машина чтоб работала!
— Идите к машине, там сейчас важнее всего, — сказал Прохоров.
— Я на минуту, сейчас вернусь, — обрадовался Викторов и побежал по сумрачному проходу. — Юркин, смотри, под твою ответственность.
Старшина 2-й статьи Юркин, наматывавший на руку страховочный конец, начал проверять, крепко ли он привязан на поясе Шаронова. Прохоров тоже проверил крепление. Хотелось сказать матросу что-то поощряющее, но лишь посмотрел на него ласково и промолчал.
Стараясь не суетиться, Шаронов поднялся к горловине, опустил ноги в черную поблескивающую массу. Соляр был густой и теплый. Деревянные клинья, обмотанные куделью, которые Шаронов держал в руках, вмиг стали скользкими и словно живыми — норовили вырваться. Он почувствовал, что поверхность соляра уже колышется под подбородком, щекочет кожу. Нащупать пробоину все не удавалось, и он, вдохнув поглубже, погрузился с головой. Вынырнул, шумно вздохнул, не открывая глаз, и снова заставил себя опуститься в черную жижу. Наконец он почувствовал под пальцами слабое движение воды, нащупал щель и начал заталкивать в нее узкие клинья.
Когда Шаронов вылез из горловины, его подхватили, поставили на ноги.
— Зудит, — сказал он, поводя плечами. — Кожа зудит.
— Как пробоина?
— Порядок.
— Бегом мыться! — распорядился Прохоров.
Поднявшись наверх, он услышал частый стук. Так стучат, когда зовут на помощь. Возле кают-компании топтался матрос Турченко, пытался открыть дверь. Оттуда, изнутри, доносился голос, глухой, не поймешь чей.
— Заклинило, — сказал матрос, отступая от двери. Он показал на прогнувшиеся трубопроводы.
— Кто там внутри?
— Не знаю. Похоже, замполит.
Вдвоем они раскачали дверь и увидели Алтунина. Из его виска сочилась кровь.
— Что на корабле? — разгоряченно спросил Алтунин, протискиваясь в узкую щель двери.
— Уже все в порядке.
— А я тут с ума схожу. Только зашел, а оно…
— Идите перевяжите голову, — перебил его Прохоров.
На мостике рулевой подметал осколки стекол. Из распахнутой двери радиорубки слышался голос Дружинина:
— …Нет, корпус в порядке. Течь была через кингстоны и фильтры. Устранена… Двигатель сейчас пустим… Нет, нет, помощь не требуется, дойдем сами.
Увидев Прохорова, Дружинин вышел из рубки. И тут в дверях показался кок, крикнул с неуместной радостью:
— Товарищ капитан третьего ранга, обеда не будет. Весь борщ на палубе, а макароны на подволоке…
— Чтобы обед был вовремя, — прервал его Дружинин. — Идите и пришлите сюда боцмана. — Он вдруг весело улыбнулся и повернулся к Прохорову: — Поняли, что тонуть не будем, и радуются, как дети.
— Молодежь.
— Молодежь! — с каким-то особым удовлетворением повторил Дружинин.
Пришел боцман. Он был в новой рубашке и синей, не выцветшей пилотке.
— Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться к капитану третьего ранга?
Обращение было обычным, уставным, но сейчас оно показалось Прохорову неестественным и ненужным.
— Проследите, чтобы обед был, — сказал Дружинин. — Пусть кок не паникует. Аварийная обстановка, она для всех аварийная.
В этот момент завибрировала палуба под ногами — заработал двигатель, и Дружинин махнул рукой боцману:
— Идите…
Наверх поднялся Алтунин с пластырем на виске.
— Что это было? — спросил он.
— Обычная мина, — ответил Дружинин.
— Мы же тут тралили.
— Может, магнитная. Десять раз корабль пропустит, а на одиннадцатый рванет. А может…
Через четверть часа командир снова вызвал боцмана.
— Что ж, рисуй седьмую звезду.
— Так ведь не мы эту мину, а вроде она нас…
— Когда боец ложится на амбразуру, разве он не выполняет боевую задачу?
Корабль с небольшим креном на правый борт пошел к берегу.
Над палубой, словно в праздничный день, гремела песня о том, как хорош березовый сок, стекающий с прохладных белых стволов, как дорога священная память обо всем родном и как нелегка служба вдали от Родины, вдали от России…
XIV
Лейтенант Алтунин как раз заканчивал бриться, когда в дверь постучали. В каюту вошел матрос Тухтай и доложил, что у трапа стоит подозрительный кривой старик, требует офицера.
— Доложи дежурному но кораблю.
— Докладывал. Он говорит: это по вашей части.
Старик стоял у самого трапа, напряженный, вытянувшийся. Возле него, словно стражи, застыли два араба в грязно-белых халатах-галябиях. Один был хмур, другой улыбался.
Увидев Алтунина, старик вынул из-за пазухи и протянул ему большую, похожую на бочонок фарфоровую кружку.
— Что это?
Алтунин с удивлением рассматривал кружку, массивную, с синим волновым окаймлением по низу, по которому плыл синий однотрубный, одномачтовый корабль с маленькими пушечками на баке и на юте. На другой стороне кружки золотились серп и молот и название корабля — «Воровский». По всему верхнему ободу тянулась надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
— Откуда это у вас? — хриплым от волнения голосом спросил он. — Продайте это, продайте. Сколько стоит? Би-кям да? — вспомнил он фразу из русско-арабского разговорника.
Старик затряс бородой, замахал руками, заговорил что-то быстро, безостановочно. Тухтай попросил повторить сказанное, чтобы понять и перевести. Спутника старика с каждым его словом оживлялись, удивленно качали головами, тоже размахивали рукавами своих галябий.
— Не хочет он продавать, бога боится, — наконец перевел Тухтай. — Просто так отдает.
Это было странно: чтобы бедный араб просто так отдал вещь, которую можно продать, для этого должна быть какая-то очень веская причина.
— Говорит: аллах не велит продавать.
— Спасибо, — сказал Алтунин, лихорадочно соображая, чем бы отдариться. И вдруг жестом пригласил старика на трап.
Оказавшись на палубе, старик взял из рук Алтунина кружку и начал тыкать узловатым пальцем то себя в грудь, то в изображение корабля.
— Он говорит, что взял кружку на этом корабле, — сказал Тухтай.
— На «Воровском»? Вы были на «Воровском»?! — разволновался Алтунин. — Когда? Впрочем, чего спрашивать? Это могло быть, только когда «Воровский» шел через эти воды. В двадцать четвертом году. Ай да старик!
— Он говорит, что сегодня как раз пятьдесят лет с того дня.
Алтунин облизал вдруг пересохшие губы. В этот самый момент щелкнул динамик корабельной трансляции и произнес скучным голосом:
— Замполита к командиру.
Алтунин заторопился, не выпуская из рук драгоценную кружку.
— Поговори с ним пока, порасспрашивай.
Он нырнул в ближайшую дверь, поднялся по трапу, но тут же сбежал вниз, направился в камбуз, кликнул кока.
— Есть что-нибудь получше?
— Только что от обеда осталось. Борщ, макароны, компот.
— А еще? Что-нибудь… этакое?
— Ну, салат можно нарезать. — И спохватился: — Сегодня день рождения машиниста Антипова. Торт буду делать. Потерпите, товарищ лейтенант, на ужин торт будет.
— Да не мне, не мне — одного араба надо накормить. Хорошо накормить…
Капитан 3 ранга Дружинин сидел за столом в своей каюте и что-то писал.
— Почему посторонний на корабле? — спросил он, не поднимая головы.
— Да он же!.. — Алтунин поставил перед командиром тяжелую кружку. — Вот. Старик принес.
— Ну и что?
— Он на «Воровском» был. Ровно полвека назад. Как раз сегодня…
— На том самом? — спросил командир, рассматривая кружку и больше удивляясь не тому, что нашелся человек, когда-то побывавший на советском корабле — мало ли таких в зарубежных портах, — сколько необычной горячности замполита.
— На том самом! — ответил Алтунин. — Это же был первый океанский поход советского военного корабля!.. Четырнадцать тысяч миль!..
Все больше воодушевляясь, он принялся рассказывать, что знал о том походе. А знал немало и говорил так увлеченно, что Дружинин забыл о своих бумагах и с интересом слушал. О том, как 12 мая 1924 года «Воровский» вышел из Архангельска, как уже через две недели обменивался салютными залпами с береговой крепостью Плимут, как еще через две недели прибыл в Неаполь, где его окружили полицейские кордоны, чтобы итальянские рабочие, не дай бог, не начали общаться с советскими морякам. Следующая стоянка была в Порт-Саиде. И здесь тоже английские власти, тогдашние хозяева Египта, никому не разрешили сходить с корабля… И никого на корабль не пускали…
— Как же он попал на корабль? — спросил Дружинин.
— Как попал? — снова замялся Алтунин. — Наверное, когда уголь принимали. Были же, наверное, рабочие на той угольной барже, что подходила к кораблю, стоявшему на рейде?..
— И откуда вы все это знаете?
— Так «Воровский» же был первым советским пограничным кораблем на Дальнем Востоке. В нашем музее про него все написано.
— В каком это «нашем»?
— Ну, в пограничном.
Командир пристально посмотрел на своего заместителя, вздохнул и махнул рукой:
— Как знаешь…
— Митинг бы надо, — сказал Алтунин.
— Какой митинг?
— Так ведь как раз полвека. Первый океанский поход. И живой свидетель.
— Митинг вроде бы ни к чему. А беседу можно провести. Вечером. Когда работу кончим.
Алтунин нашел гостя в кают-компании, куда привел его сообразительный боцман, разузнав все у кока и у матроса Тухтая. Старик ел борщ, останавливаясь после каждой ложки.
— Борщ, — сказал он по-русски, подняв влажные глаза на Алтунина. И повторил с удовольствием: — Борщ.
— Товарищ лейтенант! — обрадованно заговорил Тухтай. — Тут такая история!.. Прямо детектив! Он, оказывается, украл эту кружку…
— Как это украл? — Лицо Алтунина вытянулось. — Если украл, то какие же получатся торжества?!
— Пятьдесят лет назад, когда на корабле был…
— Не торопись, давай по порядку.
— Есть по порядку!
И Тухтай, нарочно медля, обдумывая фразы, чтобы поскладнее, начал рассказывать то, что успел выспросить у старика.
…В то время никаких особых чувств к русским у Мухаммеда не было — ни плохих, ни хороших. И когда подвернулась та работа — грузить уголь, он был рад ей просто как работе, не задумываясь о редкой тогда возможности близко увидеть русских.
Английский чиновник долго наставлял грузчиков: не общаться с русскими, не разговаривать, не ходить по кораблю. Но на палубе русский матрос снял с его плеча тяжелый куль и сам высыпал в угольную яму. О таком Мухаммед даже и не слышал, чтобы белый человек работал заодно с простым египтянином, и вначале даже испугался, отступил, вспомнив сразу обо всех карах, какими грозил чиновник-англичанин. Русский похлопал Мухаммеда по плечу, что-то сказал и так приветливо улыбнулся и так простецки подмигнул, что все страхи его вмиг исчезли.
Переодевшись в брезентовые робы, русские матросы работали вместе с египетскими грузчиками. Быстро научились объясняться между собой с помощью мимики, жестов, немногих — кто что знал — английских слов. После долгой работы, показавшейся вовсе не изнурительной, а какой-то легкой, веселой суматохой, русские втихую от надзирателей пригласили грузчиков «на борщ».
За столом Мухаммед все время думал о своей жене: что бы ей принести поесть? Просить побоялся. Когда им подали компот в красивых фарфоровых кружках, Мухаммед сунул кружку под грязный халат.
Из-за этой кружки он и задержался дольше других. Когда перебежал Мухаммед последним с корабля на баржу, англичанин, ничего не спрашивая, ничего не говоря, ударил его стеком по лицу. С тех пор и окривел Мухаммед, с тех пор и носит свой шрам.
Но самая большая беда ждала его дома: как раз в этот день заболела его маленькая Амаль. Она так и не поправилась, и Мухаммед решил, что это ему кара аллаха. Он бы и вернул кружку, да корабль в тот же день ушел. Так и висело это проклятие. До сегодняшнего дня.
— Попроси его прийти вечером, — сказал Алтунин Тухтаю. — Пусть расскажет всему экипажу.
Вечером Мухаммед пришел к кораблю переодетый в новую галябию. Он был доволен, что именно сегодня отдал эту кружку. Завтра начинался священный месяц поста — рамадан, когда нельзя ни есть, ни пить. Большой глаз аллаха — белое солнце — будет зорко смотреть за каждым человеком, и что он, старый Мухаммед, сказал бы этим добрым русским, пригласившим его на борщ?
Лейтенант Алтунин с палубы наблюдал за толпой. Всегда возле корабля собирались люди, а то, что их сегодня было больше, чем обычно, это он относил на счет старика Мухаммеда, который, по его мнению, несомненно, порассказал о теплом приеме.
Увидев в толпе Мухаммеда, Алтунин спустился по трапу. Но едва он ступил на землю, как толпа надвинулась на него, заговорила возбужденно. Особенно напирал один, круглолицый, в тонком свитерке неопределенного цвета. Он что-то говорил, кланялся.
— Чего он хочет?
— У него сын родился, — сказал Тухтай.
— Поздравляю…
— Он просит разрешения назвать его русским именем.
— Пусть называет. Зачем же спрашивать?
— Без разрешения не полагается. У арабов имя как талисман, предсказание судьбы. Имя обязывает.
— Называй, отец, — сказал Алтунин. — Желаю счастья и тебе, и твоим детям, и детям твоих детей. А какое имя ему нравится?
— Ему хочется назвать сына именем строгого русского командира — Надо.
— Он думает, что это имя? Объясни ему.
— Объяснял. Жара, говорит, не жара, а вы все равно работаете — Надо велел. Праздник, не праздник — Надо…
Алтунин засмеялся:
— Надо, значит, надо!
Он пригласил Мухаммеда на корабль. Старик, подняв голову, медленно и важно пошел по трапу.
— Вот что, — сказал Алтунин Тухтаю. — Скажи им, чтобы не расходились. Кино покажем.
— Да они и так не разойдутся.
Матросы уже натягивали на юте белое полотнище экрана.
XV
Арабских гостей было всего девять человек во главе со знакомым по приему на берегу заместителем командующего округом полковником Маамуном. Среди гостей Винченко увидел старого знакомого акыда бахри — капитана 1 ранга Гомоа Иткалима. Четыре года назад этот акыд приходил на крейсер, которым в ту пору командовал Винченко.
— Прошу к столу! — пригласил Гаранин и повторил приглашение по-арабски, да так непринужденно, что Винченко удивился: — Интфаддалю ли-тарабеза!
Гости сели без слов, с жадностью оглядывая стол. Винченко подумал, что они высматривают спиртное. Но арабские офицеры отказались даже и от еды.
— Нельзя, рамадан, — сказал акыд сидевшему рядом Винченко. — Ни есть, ни пить, ни курить, ничего нельзя. Пока не зайдет солнце.
— А как зайдет?
— Тогда можно.
— Можно и выпить?
Акыд пожал плечами и улыбнулся.
Наши офицеры, усевшиеся за стол с явным намерением как следует подкрепиться, не притронулись к еде не потому, что знали правила исламского этикета, считающего бестактным есть в присутствии постящихся, просто они были так воспитаны, русские офицеры, — без крайней необходимости не делать того, что неприятно другим людям.
Наступило неловкое молчание. Выручил Гаранин, предложив осмотреть картины и стенды, висевшие в кают-компании. Все встали, и тогда-то Винченко осторожно спросил полковника Маамуна о том, как он оценивает работу советских моряков. Полковник достал платок, высморкался и ответил торжественным, чуть напыщенным тоном:
— Мы знаем о выдержке моряков, достойно ответивших израильским провокаторам, знаем, как непросто дается траление в этих водах, и мы благодарны за помощь.
— Протралена, и неоднократно, вся указанная акватория. Работа в основном закончена…
— Жаль, что не обошлось без потерь, — вмешался в разговор акыд Иткалим. — У вас подорвался тральщик…
— Обошлось без потерь, — заверил его Винченко. — На тральщике лишь мелкие повреждения, он скоро вступит в строй. Любопытно другое: мина взорвалась на неоднократно протраленном участке…
И тут мысль его метнулась к недавним словам Иткалима, которые он понял теперь так: после захода солнца, когда аллах не видит, все может быть. Значит, ночью может быть и недисциплинированность? Арабы заверяли, что приборы кратности на всех донных минах при постановке были на нулях. То есть мины должны были взрываться под первым же проходящим над ними кораблем. Но случай с тральщиком доказывал, что могло быть иначе. Корабль не первый раз бороздил участок, когда взорвалась мина. А что, если она не единственная, эта мина?! Что, если лежат на дне и другие, отсчитывают проходящие над ними корабли, поджидая свои жертвы? Закончится траление, пойдут торговые суда, танкеры и начнут рваться на минах…
— Минирование производилось ночами? — спросил он у полковника Маамуна.
— Днем никак было невозможно, — ответил Маамун и снова начал разворачивать свой огромный платок.
— У вас есть полная уверенность, что все приборы кратности были на нулях? Вы можете это утверждать?
Полковник снова трубно высморкался, оглянулся на стоящего неподалеку акыда Иткалима.
— Вы можете это утверждать? — спросил он.
— Надо навести справки, — ответил акыд.
Он отошел к офицерам, стоявшим кучкой у открытого иллюминатора, начал с ними говорить. За иллюминатором темнело море, и небо в той восточной стороне тоже темнело, как всегда в предзакатный час. Винченко попытался представить, как поведут себя египетские офицеры после захода солнца. Ведь голодные, изнывающие от жажды — целый день ничего не ели и не пили, — а тут стол ломится от блюд и напитков. Поедят, подобреют, и разговор получится другим, более раскованным и доброжелательным. Но по каким-то неуловимым признакам, по тому, как нетерпеливо египтяне поглядывали на часы и друг на друга, но быстро слабевшему их интересу к кораблю Винченко понял: дожидаться здесь захода солнца они не будут.
— Возможно ли, что приборы кратности у некоторых мин стояли на других величинах? Скажем, на цифре «пять» или «десять»? — спросил полковника подошедший к нему Полонов.
— Все знает один только аллах, — воздел полковник очи к подволоку.
— Может быть, есть необходимость повсюду провести контрольное траление?
— Мы вас просим, — помолчав, сказал Маамун и оглянулся на своих офицеров, сгрудившихся у иллюминатора, с тоской посматривавших в морскую даль. — Мы вас просим провести дополнительное траление на полную кратность приборов.
В кают-компании наступило тягостное молчание. Винченко с тоской вспомнил последнее письмо жены, в котором она сообщила, что дочка на приемных экзаменах в институт сдала математику на «тройку» и может не поступить. Как бы ему надо быть сейчас дома! Но все складывалось по-иному. Действительно, при такой безалаберности минных постановок нельзя было уходить из Суэцкого залива даже после многократного траления. Необходима была полная уверенность, что работа выполнена, как говорится, со Знаком качества. А это могло быть лишь в том случае, если на всех минных полях траление будет проведено на полную кратность. Значит, нужно много раз пройти одно и то же место с электромагнитным и акустическим тралами. Значит, боевое траление далеко не окончено, как надеялись многие на кораблях. Значит, прости, дом родной, еще на несколько месяцев. Значит, еще торчать и торчать в этих надоевших водах, изнывать от жары на тральщиках, на координационных постах, в кабинах вертолетов… «Пахать и пахать» синие волны, ввязываться в нелепые дискуссии с провокаторами на катерах. И рисковать, каждый день рисковать кораблями, жизнями уставших людей, терпеливо несущих свою нелегкую службу.
Прием как-то сразу перестал интересовать и гостей, и хозяев. Одни сказали главное, что хотели сказать, другие узнали главное, что хотели узнать. Однако расстались по всем правилам дипломатического этикета. Хозяева подарили гостям наборы фотографий, гости улыбками, рукопожатиями и всем своим видом показали, что несказанно довольны теплым приемом, подарками. И, уже не скрывая своего нетерпения, заспешили к трапу, где, пофыркивая, покачивался на волнах военный катер.
Солнце клонилось к горизонту, и катер, мчавшийся на предельной скорости, быстро исчез из виду, растворился в синеве моря. Винченко смотрел в темнеющую даль и думал о новых сюрпризах, которые ждут наших моряков. Он не мог знать, что дополнительное траление, заняв еще целых два месяца, обойдется без ЧП. Но сейчас ему было тревожно. От неизвестности, от острой тоски по дому…
Валерий Гусев КООПЕРАТИВ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» Повесть о невероятных, но вполне возможных приключениях
1
— У меня приказ, — отрезал маленький майор и сделал решительный отстраняющий жест, чуть не толкнув меня в грудь твердой ладонью. — Город на особом положении, и никто в него, кроме воинских подразделений, не войдет. А уж пресса — в любом случае. И ордена ваши не помогут. Мы тоже солдатский хлеб не даром кушаем. Службу знаем! — Он значительно хмыкнул и скосил глаза на левую сторону груди, блестящей значками и медалями. — Так что, товарищ корреспондент, кругом! — и шагом марш… жаловаться!
Я продолжал, выигрывая время, нудно убеждать его, что мне надо обязательно побывать на месте событий, что я не случайный человек — прошел боевую школу в Афганистане и мне можно доверять, что у меня задание редакции, не менее важное, чем его приказ, что за моей спиной миллионная армия взволнованных читателей, которые в эпоху гласности и демократии с нетерпением ждут объективной информации, беспощадно опровергающей вздорные и нелепые слухи о том, что происходит в этом чертовом Дедовске. Я хорошо осознавал бесцельность уговоров — мне просто было нужно полнее изучить обстановку на дороге, чтобы безошибочно реализовать принятое решение.
Отступать без боя я не собирался. Отвык от этого за последние годы. Тем более, что цель была заманчиво близка и недосягаема.
Прямо перед нами, на холмах, под синим русским небом лежал совсем рядом древний городок, который когда-то был уездным, а со временем, в порядке преемственности, стал районным центром. Яркое солнце щедро заливало золотые купола его церквей среди зеленых крон деревьев, латаные крыши старинных усадеб и ажурную пожарную каланчу с кольцевой смотровой площадкой и длинным шпилем, На нем трепетал флаг, казавшийся в свете ясного летнего утра каким-то подозрительно сине-белым, и метались вокруг него неисчислимыми точками стаи галок. Вниз, к тенистой речке, скользящей змеей сползала дорога, теряющаяся у подножия холма в березовой роще, и уже здесь, меж раздольными полями неубранной ржи, занятая колонной камуфлированных грузовиков, боевых машин пехоты (БМП).
Колонна стояла. Солдаты, забросив автоматы за спину, азартно мочились в кюветы. Майор одобрительно поглядывал на них и ждал очередного приказа. И не пускал меня в город — даже отсюда такой, по-провинциальному уютный и мирный, в котором тем не менее творилось что-то вовсе дикое, невообразимое и загадочное.
Ну все, пора…
Усыпляя бдительность майора, я безнадежно вздохнул, будто смирившись с его армейской непреклонностью, обреченно понурил голову и побрел вдоль колонны, от города, неуклонно приближаясь к маленькой БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина), которую приметил и выбрал заранее. Я хорошо знал эту универсальную машину по Афганистану, приходилось и водить ее, и работать с пулеметами, и командовать ею, исхлестанной пулями, иссеченной осколками.
Броневичок стоял «под парами», попыхивая нежно-голубым дымком выхлопа, с откинутыми крышками обоих люков..
Возле него топтался, неумело покуривая, водитель-первогодок. Его укороченный АКС висел на кронштейне зеркала заднего вида. Жалко мне стало на секунду этого зеленого паренька — у него, наверное, и мама такая же: худенькая и в веснушках. Теперь он из-за меня в дисбате будет дослуживать. Но что же делать? — игра пошла всерьез. Да и не такая уж это для него большая беда по сравнению с тем, что выпадало на долю русских парней…
Я шел нарочито медленно, чувствуя между лопатками недоверчивый, тяжелеющий с каждым моим шагом взгляд майора.
— Вообще-то, вас надо задержать, — наконец сказал он мне в спину.
— Не успеешь, — бросил я, не оборачиваясь.
Водитель БРДМ, видимо повинуясь знаку майора, нерешительно шагнул мне навстречу, что, собственно, и требовалось. Я поймал его руку, рванул, одновременно сделав подсечку, и солдатик покатился по дороге, под ноги майора, вздымая локтями и коленями добротную среднерусскую пыль. Майор чихнул и задергал клапан пистолетной кобуры.
Взлетев на корпус машины, я по пути подхватил автомат, бросил его в люк, нырнул за ним следом и «ударил по газам». Броневичок прыгнул с места, над головой у меня брякнули, захлопнувшись, крышки люков. Майор отскочил в сторону, что-то беззвучно крича перекошенным ртом, выдергивая из кобуры застрявший в ней пистолет. Испугал ежа…
Я гнал машину вдоль колонны, левой обочиной. Солдаты, еще ничего не понимая, не разобравшись в обстановке, шарахались от меня — кто через кювет в поле, кто к машинам — и, наверное, удивленно ругались вслед.
Взвилась ракета, почти невидимая против солнца, прогремела запоздавшая автоматная очередь: гулко ударили сзади, в заслонку водомета, две-три пули. Ну-ну! А то я не знал, что выбрать. Главное — не вздумали бы с отчаяния реактивным снарядом с БМП шарахнуть. Тогда от меня, к удовольствию майора, одни награды останутся. А майор за это очередную получит.
В голове колонны произошла передвижка, и поперек дороги из-за грузовика вырулил командирский «уазик». Водитель его, открыв дверцу, стоял на подножке. Я сбавил обороты двигателя, потом резко газанул, чтобы он оглушительно взревел, и сделал вид, будто иду на столкновение. Водитель не выдержал «психологической атаки» и, спрыгнув на дорогу, метнулся за грузовик.
Тормознув в последнюю секунду, я включил передний мост, плавно подвел броневик и тихонько стал втискивать его между машинами. «Уазик» дрогнул, немного прополз бочком по дороге и мягко лег в канаву. Все, впереди чисто! Будем ехать.
Дорога, к счастью, как и положено всякому российскому тракту, неистово петляла, поминутно ныряла в кусты перелесков, поэтому прицельную стрельбу по мне было вести трудно, и я лишь два-три раза заметил впереди поднятые строчками крупнокалиберных пулеметов фонтанчики пыли, да упала на капот срезанная пулей ветка.
В город, конечно, мне не прорваться прямым ходом. У реки дорога была сплошь открыта и хорошо просматривалась, а за мостом неторопливо вилась вверх по холму, и на этом участке броневичок стал бы примитивной учебной мишенью. Поэтому на первом же подходящем повороте, укрытом от преследователей густым березняком, я выпустил из-под брюха машины вспомогательные колеса, переполз глубокий кювет и спрятался в леске, загнал броневик в тень большого дерева. Теперь можно и подумать, как быть дальше, а то все некогда было.
Только сейчас я заметил, что очень неудобно сижу, приподнялся и вытащил из-под себя автомат, на который так и плюхнулся в суматохе и спешке. Рядом, на сиденье командира машины, лежал такой же АКС и сумка с запасными магазинами. Здесь же я обнаружил ракетницу и ручные гранаты. Оба пулемета — крупнокалиберный и обычный — были заправлены боевыми патронами. Что же творится в городе, если готовятся его брать так серьезно? Что же там происходит — национальная резня или очередная экологическая катастрофа? Происки окончательно обнаглевшей мафии или десант инопланетян и экстрасенсов, вызвавший поголовное сумасшествие? Холера, забастовка, августовское восстание, реставрация монархии и возрождение капитализма?
Впрочем, что же тут невероятного, в наше-то время, полное неожиданностей, абсолютно неуправляемое?
Я выбрался наружу и сел на закраину люка. Нужно было сориентироваться в обстановке и пространстве.
На дороге еще шла стрельба, правда, редкая, остывающая, наобум — кому-то что-то где-то показалось: вот он, вот, видишь, бочок промелькнул, садани-ка, Вася, бронебойным…
Зато в роще было спокойно — шелестела листва, бегали по траве солнечные пятна, щелкали и свистели птицы. Воистину, родная природа куда как мудрее и последовательнее нас, ее терновых венцов.
2
Я достал из кармана куртки блокнот и сделал краткую запись о первых моих приключениях, по опыту зная, что в экстремальной обстановке такие вещи нельзя откладывать и, если есть возможность, лучше сразу зафиксировать горячие впечатления. Ведь ситуация может мгновенно измениться и никаких следов происшедшего не останется для истории.
К тому же это должно было помочь мне проанализировать положение и выработать план дальнейших действий, потому что я привык размышлять именно на бумаге и, как правило, уже после того, как что-нибудь натворю.
Вообще, мне хотелось бы о тех необычайных событиях, которые произошли в маленьком и незаметном доселе городке, рассказать спокойно и беспристрастно. Но, поскольку я оказался добровольным и убежденным участником этих событий, такая объективность в их изложении стала, естественно, невозможной. Тем более, что эта история не вполне еще завершилась и может получить самое непредсказуемое развитие.
Согласитесь, чаще всего бывает так, что длинная цепь необыкновенных происшествий, даже в историческом масштабе, начинается с самого заурядного звена. Неординарные события, если иметь терпение вернуться к их истокам, отталкиваются нередко от ничего не значащего фактора. Падение чайной ложечки на железную палубу линкора может в итоге привести к роковому выстрелу из 350-миллиметрового башенного орудия, не так ли?
В данном же случае в той истории, которую я взялся рассказать, все было иначе: нетрадиционное, необычное, удивительное начало, невероятное продолжение и, скорее всего, непредвидимое завершение.
Впрочем, постараюсь все-таки быть по возможности последовательным. Вернувшись на Родину после выполнения интернационального долга в Афганистане, где служил военным корреспондентом, я устроился на работу в молодежную газету, которая среди сложных и противоречивых процессов, происходящих в стране, сумела найти и занять независимое место. Заслуга в том, бесспорно, принадлежала нашему Редактору, сумевшему заразить коллектив чувством здорового авантюризма, замешанного на детском любопытстве и стремлении к первенству. Такие яркие черты характера толкали нашего шефа на довольно рискованные даже по нынешним временам шаги, но Редактор был уверен в себе, в приоритетном праве прессы на гласность и внушил эту уверенность нам.
Вчера он вызвал меня к себе и, плотно прикрыв дверь, захлопнув окно и сняв трубки с телефонов, толкнул в кресло, навис надо мной, таинственно сверкая очками.
— Я хочу поручить тебе, Мещерский, очень важное и, не скрою, опасное дело. Разумеется, ты можешь отказаться. Но, кроме тебя, никто с ним не справится. Это не лесть, поверь мне, это реальная оценка твоих возможностей. Дело вот в чем: из одного надежного неофициального источника…
Надо сказать, что наш Редактор вообще и исключительно предпочитал источники информации сугубо неофициального характера, как наиболее достоверные и привлекающие внимание. Откуда он получил сведения о том, что в Дедовске что-то происходит, я так никогда и не узнал, потому что к моему возвращению Редактора уже сняли и разыскать его не удалось. Это одна из причин того, что предполагаемая публикация своевременно не увидела свет и сейчас я прибегаю к такой форме изложения событий.
— …Так вот, в этом Дедовске творится что-то такое, необычайное настолько, что даже в обкоме мне не удалось ничего разнюхать. И отнюдь не потому, что там недостает сведений, напротив — их более чем достаточно. Но факты настолько противоречивы, что вызывают серьезные сомнения в достоверности. Больше того — верить им никак невозможно. И вроде даже такой слушок прошел, что город блокирован войсками. Короче, нужно пробраться туда, разнюхать все, что там происходит, и дать объективный репортаж с места событий. Не сомневаюсь — у тебя это получится: ты боевой «афганец», нахален и находчив, в меру беспринципен, обаятелен, смел… Берешься?
Еще бы! Не знаю, нашелся бы журналист, который отказался бы от такой возможности. Это ведь почище творческой командировки в Штаты.
Трудности на моем пути в Дедовск начались сразу. В то лето все курорты державы по тем или иным, политическим и экологическим, причинам были закрыты для отдыха — от Белого моря до Аральского. Массы отдыхающих, вспомнив о родных просторах, безбрежных грибных и ягодных лесах, о тихо журчащих речках средь ароматных лугов, устремились в нетрадиционных направлениях и более всего — на восток от столицы…
В аэропорту, пытаясь достать билет, я бесполезно исчерпал весь потенциал, который так высоко оценил Редактор. Пускал в ход наглость и обаяние, отчаяние и угрозы, звенел медалями и потрясал корреспондентской книжкой с командировочным удостоверением. И даже всерьез прикидывал, как половчее угнать вертолет, одиноко стоящий в дальнем углу летного поля. Остановило меня только сомнение в том, что он заправлен.
На железной дороге было не легче, но все же мне удалось сесть зайцем на проходящий поезд. Ночью он благополучно тронулся, а рано утром, уже вблизи от цели, вдруг заполошно загудел, завизжал и стал стремительно останавливаться, нагоняя вагоны друг на друга, словно кто-то отчаянно сорвал стоп-кран.
Я просунул голову в щель окна. Светало. После визга зажатых колес и ударов сцепок было тихо. Впереди кругами ходил какой-то красный свет, то и дело пропадая в луче электровозного прожектора. Мелькали чьи-то тени, доносились возбужденные и встревоженные голоса. По вагону пробежал заспанный проводник, одной рукой запихивая в брюки выбившуюся рубашку, другой волоча по полу замызганный форменный китель.
Забрав репортерку в толпе разбуженных взволнованных пассажиров, я вышел в тамбур и спрыгнул на землю. Поезд стоял среди чистого поля, над которым начинали звенеть жаворонки. К дымку вагонных титанов примешивался чистый запах трав и свежей соломы. Где-то далеко настырным кузнечиком стрекотал комбайн. Все было мирно и тревожно.
Пассажиры переговаривались, пытались расспрашивать бегущих к голове поезда проводников, а то нетерпеливо и раздраженно отмахивались, не отвечая. Скользя по обильно покрытой росой гальке, я тоже пошел к электровозу.
Из-за леса быстро поднялось и засияло любопытное солнце. Из вагона СВ, впереди меня, важно и неловко спустилась стайка его обитателей — все похожие друг на друга приятной полнотой, осанкой и выражением гладких штампованных лиц, все в «номенклатурных» пиджаках, с депутатскими значками, в одинаковых аккуратных шляпах и почему-то в пижамных штанах и шлепанцах. От них хорошо пахло хересом и флёрдоранжем. Они несуетливо, деловито направились к электровозу. Я незаметно пристроился к ним, прислушиваясь к обрывкам полного достоинства разговора: «Пути повреждены… забастовка железнодорожников… безобразие… привлечем к ответственности… беглых ищут» и тому подобный вздор.
Около электровоза поездная бригада толпилась перед армейским капитаном в полевой форме и с портативной рацией. За его спиной поперек пути стоял большой военный грузовик, продолжал добросовестно махать красным фонарем вспотевший от усердия сержант и рассыпалась цепь солдат с автоматами и в касках. Позади грузовика тянулись по полю глубокие следы — мятая стерня на взрыхленной протекторами земле.
Мои попутчики из СВ как-то незаметно и естественно оказались впереди всех и, назвавшись по очереди, строго потребовали от капитана объяснений.
С небрежной уверенностью человека, за спиной которого сила высокого приказа и… просто сила, тот коротко ответил, что поезд дальше не пойдет, а через полчаса, когда будут направлены по линии соответствующие распоряжения, состав вернется на предыдущую станцию. В Дедовск никто пропущен не будет — город на особом положении.
— Но позвольте, — горячо возмутился самый важный и полный из депутатской стайки и нервно поправил галстук, который по странной случайности очень хорошо гармонировал в расцветке с его пижамными штанами. — Позвольте, меня же там встречают… уважаемые и ответственные люди!
— Никто вас там не встречает, — отрубил капитан. — Все! По вагонам, — скомандовал он, будто отдавал приказ своим солдатам, и повернулся спиной, непреклонно перекрещенной портупейными ремнями.
Под шумок всяких «это возмутительно, так не оставим, безобразие» я спустился с насыпи.
— Молодой человек! — окликнул меня капитан. — Вернитесь!
— Сейчас! — послушно ответил я. — Я только пописать, — и нырнул в кустарник, верно рассудив, что капитану сейчас не до меня — ему еще предстоит отбиваться от возмущенной «номенклатуры».
Узенькой заросшей ложбинкой я быстро пошел параллельно следу грузовика — наверняка в том направлении шоссе. Сзади раздался свисток электровоза. Но меня это уже не касалось.
Вскоре впереди показалась грядка деревьев, а за деревьями — стоящая автоколонна. Спрятав на всякий случай под корнями приметного дуба репортерку, не выбираясь на шоссе, я из-за деревьев попытался изучить обстановку. Колонна была серьезная — несколько БМП, грузовики с живой силой, полевая кухня, пожарная машина и, кажется, два орудия.
Непростительно увлекшись, я потерял бдительность, был поднят из укрытия дозорным патрулем и доставлен на расправу невысокому крепенькому майору с выпуклыми глазами и брюхом.
Когда переговоры с ним зашли в безнадежный тупик, я предпринял тот отчаянный шаг, о котором уже рассказывал. В результате оказался в лесу, в угнанной мною боевой машине, совершив нападение на военнослужащего и став таким образом настоящим военным преступником, преследуемым личным составом неизвестного мне мотопехотного батальона, горящего высокими чувствами воинского долга и ответственности, справедливой мести и праведного гнева.
3
Покончив с записями, я занялся изучением карты, которую обнаружил в командирском планшете. Как и полагал, в город вела только одна дорога, она же, естественно, и выходила из него с восточной окраины. И наверняка тоже перекрыта. Впрочем, меня это не особенно беспокоило — маловероятно, что город оцеплен сплошь, кольцом, а уж на этой машине я найду щелку проскочить. Незамеченным, конечно, не удастся, но невредимым — вполне реально. Нужно только вернуться сначала за моей авоськой под дубом — пригодится.
Над лесом послышался характерный постукивающий шум, и прямо надо мной взволновал листву пролетевший вертолет. Я не отказал себе в удовольствия показать ему мысленный кукиш.
Ну, ладно, теперь маленький отвлекающий маневр — и снова в бой.
Я спустился в машину, сел в командирское кресло и снял трубку радиотелефона. Радист из меня, можно сказать, никакой, но я знал, что рация в БРДМ — беспоисковая и бесподстроечная, работает почти как обычный прямой телефон.
— Первый, Первый, — сказал я наугад. — Здесь Мещерский. Прошу майора на связь.
Та секунда, которая потребовалась радисту, чтобы передать трубку майору, взорвалась таким яростным, крутым, с солью и перцем, российским матом, что у меня над головой снова буйно зашелестела листва и прямо на глазах пожухла, как от холодного осеннего ветра.
— Спокойно, майор, спокойно! — вставил я, когда он перезаряжался. — У вас своя задача, у меня — своя. Как только я ее выполню, верну вам в целости и сохранности и машину, и автомат.
— Не вернешь! — вдруг зловеще спокойно сказал майор. — Я тебя уничтожу. Вместе с машиной.
— Действуйте, — ответил я в тоне одобрительного приказа. — Я пошел!
Сейчас майор развернет весь личный состав, наведет на дорогу все наличные пушки, воткнет выпуклые глаза в окуляры бинокля, а я тем временем не спеша поеду назад, в тыл его боевого подразделения.
Захлопнув люки, я вывел машину из укрытия и, делая большой крюк, повел ее к тому месту, где меня взяли дозорные. Предусмотрительно не доезжая до него метров триста, я остановился, осмотрелся и, прихватив найденную в машине гимнастерку х/б второго срока, приготовленную, видимо, на обтирку, подобрался к заветному дубу.
Репортерка была на месте. Я выложил из нее диктофон, кассеты, запасные батарейки, рубашки и носки, словом, почти все, что там было, оставив только несессер, и уложил вместо этого автомат, сумку с магазинами, ракетницу, противогаз и пару гранат: кто знает, что меня ждет в Дедовске? Лучше быть готовым к самому неожиданному, оружие в этом случае всего надежнее: с ним всегда получишь и стол, и дом, и спать в том дому будет гораздо спокойнее. Ненужное пока имущество я завязал в гимнастерку и подвесил на ветку дуба, до лучших времен.
На дороге опять поднялась стрельба — снова, видимо, почудилась майору мятежная тень отца Гамлета. Ну что ж, скоро бравому вояке представится неплохая возможность проверить боевую выучку вверенных ему расчетов прицельным огнем.
Забравшись в машину, я задраил входные и смотровые люки, проверил показания приборов, разрядил пулеметы, чтобы избежать искушения, и потихонечку, прячась за деревьями, покатил к городу.
Самым опасным участком предстоящего мне пути обещала быть дорога, петляющая по склону холма, — она отлично просматривалась и, конечно же, не менее отлично простреливалась. Думаю, что майор «зная службу», не преминул уже пристрелять ее повороты как наиболее удобные цели. Ничего, проскочу, есть у меня кое-что в запасе.
Броневичок бодро прыгал по лесным кочкам, продирался, как упрямая коза, через кусты и вскоре остановился, пофыркивая, на берегу не добитой техническим прогрессом речонки — чистой, глубокой. Левее, где-то в полукилометре, я успел разглядеть деревянный мост через нее, который вдруг исчез, и на его месте вспыхнуло огненное облако. Это неутомимый майор отрезал мне путь к городу. Но мост мне и не был нужен, туда только сунься — костей не соберешь.
Осторожно спустив машину с берега в воду, я открыл заслонку водомета и включил его — броневик идиллической лодочкой поплыл по тихой речке, поднятыми волнами колебля прибрежные травы и заставляя нырять раскрытые кувшинки, наверное, последние в нашей стране, в наших неистощимых природных ресурсах.
Однако любоваться природой было не время — впереди над кромкой леса снова мелькнул вертолет — майору не откажешь в предусмотрительности — и я едва успел спрятаться под развесистой ветлой, купавшей длинные ветви в холодной воде. Вертолет прошумел низко над рекой и стал набирать высоту. Теперь победит быстрейший. Как только я выберусь на дорогу, меня засекут сверху и будут корректировать действия стрелков.
Я включил водомет на максимум и помчался по реке, выбирая место, удобное для того, чтобы взобраться под прикрытием леса на холм. Здесь стало заметно мельче, и машина порой не плыла, а катилась по песчаному дну реки.
За крутой излучиной открылся узенький пляж — то, что мне надо. Выбравшись на берег, я включил передний мост, выпустил дополнительные колеса и полез в гору. Уклон здесь был не меньше тридцати градусов, двигатель ревел на полных оборотах, по броне хлестали ветки кустарника, вспорхнула прямо из-под колес какая-то крупная птица, а машина упрямо лезла на холм, взрывая протекторами влажную травянистую почву.
Последний рывок — и мы на дороге. И тут же, словно услышав торжествующий рев майора, я включил дымовик и помчался, по дуге опоясывая холм, оставляя за собой расширяющийся густеющий шлейф. Главное — успеть проскочить этот кусочек до поворота. Мне показалось, что сзади что-то громко хлопнуло — машину ощутимо толкнуло вперед, где вдруг тоже встал черно-красный куст, и я еле успел обогнуть мгновенно появившуюся воронку.
Все! Поворот — и я скрываюсь в собственном дыму, который по всем законам природы восходящие но склону холма потоки нагретого солнцем воздуха подняли на следующий виток дороги. Здесь пришлось снизить скорость — видимость стала почти нулевой, не помогал даже прибор ночного видения.
В том месте, где лес незаметно превращался в парк и начинался фактически уже пригород, я выскользнул из дымовой завесы и завел машину за зеленую беседку. Тут миловалась молодая парочка, ничуть не встревоженная ни пальбой на шоссе, ни тем более моим появлением. Это была первая загадка, с которой я столкнулся в Дедовске.
Но сейчас не время ее решать — закончилось мое прекрасное путешествие по волнам и по горам. Мои мысли были уже в городе. На всякий случай, не зная, что меня там ждет, я посмотрел на рентгенометр и прибор химразведки — ничего угрожающего. Уже хорошо.
Я тщательно закрыл машину и, попросив у девушки губную помаду, написал на бортах и капоте: «Заминировано!» Парочка, не отрываясь друг от друга, с детским интересом наблюдала, не комментируя, мои действия.
Поблагодарив их, я повесил сумку на плечо и узкой тропкой вышел на аккуратную бетонную дорожку, которая, несомненно, вела в город.
Уверенность моя оправдалась — вскоре я вышел на автобусную остановку маршрута Приречье — Центр, где собралось довольно много народа, также поразительно равнодушного к тому, что происходило почти у них на глазах.
На меня посмотрели с вежливым любопытством — и только. Никто не задал ни одного вопроса.
Подошел автобус, и случилось второе чудо. Штурм автобуса был корректный. Без обычных схваток и свалок у дверей, без ругани, нетерпения. Старики, женщины и дети безропотно пропускались мужчинами вперед и занимали лучшие места. Кондукторша, пожилая и усталая, была тем не менее ровна и приветлива. Водитель вежливо объявлял остановки, несмотря на то, что все их и так знали, не дергал машину, резко не тормозил и заботливо снижал скорость на поворотах.
Странно, но это меня насторожило и встревожило еще больше.
Высаживаясь в центре города из пустого уже почти автобуса, я был готов ко всему, к самому худшему: к не убранным с улиц трупам, к перевернутым и сожженным машинам, к разрушенным домам, к гнусным, неграмотным лозунгам на стенах, словом, ко всему тому, к чему мы, как это ни печально, начинаем уже привыкать.
Так вот: ничего этого не было. И потому стало еще страшнее, угадывалась какая-то неведомая опасность. Бросалось прежде всего в глаза то, что город был непривычно, поразительно чист, на вымытых с раннего утра тротуарах — ни окурков, ни плевков, ни семечковой шелухи, ни использованных накануне презервативов. Жители на улицах — светлы и дружелюбны, спокойны и неторопливы. Я бы даже сказал, счастливы. Да, вот еще: не было очередей!
И что-то мне буквально резало слух. Или наоборот — не резало, а ласкало. Я долго не мог понять, что именно и как мне определить это чувство, и вдруг меня осенило: люди разговаривали нормально, без ругани, не висело над ними грязное облако мерзких слов, не сочилась из него на детей и женщин, увы, привычная нам черная матерщина, без которой мы не можем уже не только в быту, но и в книгах, на сцене и экранах, даже на торжественных собраниях и в кулуарах весьма ответственных и высоких мероприятий.
Может быть, я так скоро и не обнаружил бы этот феномен, если бы не обратил внимания на нескольких рабочих, разгружавших у магазина ящики с продуктами. Мало того, что они делали это аккуратно, без стука и бряка, были абсолютно трезвы и не с похмелья, не покрикивали на прохожих, так они еще и не ругались! И, кажется, были друг с другом на «вы»!
Я покрепче прижал локтем сумку с автоматом, чтобы обрести утраченную уверенность в себе. Перешел на другую сторону улицы. Попытался анализировать ситуацию. Что это — неведомая нам эпидемия, грозящая неведомыми последствиями? Или мой собственный бред? Или я оказался в городе сумасшедших? Зря, кажется, не послушался майора. Вполне возможно, что он искренне желал мне добра.
Тут на глаза мне попалось объявление, отпечатанное типографским способом и наклеенное на афишной тумбе. Я устремился к нему, как матрос, оказавшийся за бортом, к спасательному кругу. Вот его текст, привожу дословно:
«Друзья, братья!
Оснований для беспокойства нет. Ресурсы продовольствия в городе превышают недельный запас. Вчера группе окрестных крестьян удалось провести в город обоз с мясом, молоком в мукой. Однако призываем вас к бережливости и аккуратности. Будьте заботливы друг к другу. Для домашних животных (собак, кошек, птиц и др.) организованы центры трехразового кормления на ветпунктах. Штаб «Справедливости» принимает меры к тому, чтобы проблему обеспечения населения продуктами питания решить раз и навсегда в семидневный срок».
Самое удивительное, что в фактически осажденном городе ни у кого, кроме меня, это объявление не вызывало ни тревоги, ни волнения, ни даже простого интереса. Так же, как и белый флаг с синим диагональным крестом, развевающийся над пожарной каланчой.
Я потряс головой, пытаясь привести ее хоть немного в порядок, и пошел дальше, к Советской площади, где рассчитывал получить разъяснения в самых главных учреждениях города, у его мудрых отцов.
По мере приближения к площади на улице становилось все меньше прохожих, однако все чаще попадались молодые люди в штатском, но с военной выправкой, иногда со знакомыми мне орденами на пиджаках. Одеты они были по-разному, но у каждого расстегнутый воротничок рубахи открывал сине-белые полоски тельняшек, да на левых рукавах, повыше локтя, алели повязки с двумя литерами «ПС» — патруль справедливости, как пояснили мне позже.
Молодые люди по двое, неторопливо, в ногу шагали по улицам, напоминая спокойной уверенностью военный дозор.
Советская площадь, почти безлюдная, ограничивалась с одной стороны чудом сохранившимся великолепным Храмом Божьим, а с другой — беломраморным зданием сугубо современной архитектуры: символом и средоточием власти, мирской и духовной. Меж ними лежала необозримая брусчатка, отполированная подошвами столетий, свинцово блестящая в полуденном солнце. И если у церкви толпился народ, то у официального городского центра было как-то непривычно неоживленно, точнее сказать — вовсе пусто. Не вертелись стеклянные двери, не подъезжали и не отъезжали одна за другой машины. Более того, шторы на окнах были спущены, здание имело очень неживой вид, и это впечатление еще больше усиливалось одиноко стоящей чуть в стороне от центрального подъезда черной «Волгой» с номером 00-01 ДЕА на спущенных скатах, сильно запыленной. Но то была не дорожная пыль проселков и городов — машина запылилась на долгой стоянке. Вдоль модернового фасада неторопливо прохаживалась пара все тех же патрулей.
В это время на площадь вышли строем пионеры, со знаменем, горном и барабаном. С другой стороны, направляясь к церкви, гуськом поплыли чинные старушки с узелками. Пути их должны были пересечься в самом центре площади. Столкновение было неизбежно. Но тем не менее оно не произошло. Пионеры сменили походный шаг на шаг на месте, перестали хрипеть в трубы и бить в барабаны, вежливо пропустили мимо себя старушек. Здесь, в зоне соприкосновения, произошла коротенькая заминка в обеих группах. Они немного смешались, и, когда порядок был восстановлен, юная смена вновь зашагала во Дворец пионеров, а к ним пристроились три-четыре бабульки покрепче и, семеня, старались идти в ногу и громко припечатывать шаг праздничными башмаками.
В свою очередь, среди черных платочков, плывущих к церкви, красиво замелькали красные галстуки…
Мои растерянные размышления над этим очередным чудом прервал вежливый голос. Я обернулся.
Передо мной стояли двое загорелых ребят в десантных комбинезонах и беретах, по-моему, оба грузины.
— Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Вам придется пройти в штаб. Это недалеко, дорогой.
Ребята не были вооружены, но наметанным глазом я сразу определил, что всерьез возражать им не стоит. И подчинился. Тем более, это входило в мои планы. Да и другого выхода все равно не было.
— Здесь у вас оружие? — скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал один из парней и, не дожидаясь ответа, снял с моего плеча репортерку.
— Руки на голову? — спросил я.
— Ну зачем же? — улыбнулся второй.
Шли мы действительно недолго и на красивой старинной улице, засаженной мощными липами, остановились у небольшого особнячка, над входом в который висела скромная вывеска: «Кооператив «Справедливость», а пониже и помельче: «Штаб-квартира. Прием круглосуточный, без выходных дней и перерыва на обед».
Мы вошли внутрь — на первый взгляд обычное учреждение, но деловое, без суеты. В холле — хорошая мебель, цветы, тихая музыка, клетка с вороной.
Меня провели через приемную и открыли обитую кожей дверь. В кабинете, строгом и солнечном, сидел за столом седой мужчина с крутыми морщинами вокруг рта. Он просматривал бумаги и делал на отдельном листе пометки. За его спиной висела большая карта города, утыканная красными флажками. Флажков было очень много, особенно по окраинам, а в центре — поменьше. За пределами города их не было вовсе.
Один из сопровождавших меня парней подошел к столу, что-то тихо сказал и положил перед мужчиной, которого назвал Генералом, мое удостоверение. Другой поставил на журнальный столик репортерку и принялся выкладывать из нее обильный боезапас. Действовал он привычно, уверенно, без опаски — с оружием был хорошо знаком, умел обращаться.
Мужчина встал и спросил с чуть заметной иронией:
— Это вы вели бой на подступах к городу с превосходящими силами противника? Как вам удалось сюда прорваться?
Я коротко ответил.
— С какой целью?
Верхним чутьем я понял, что врать нельзя, опасно и бессмысленно.
Выслушав меня, седой Генерал многозначительно переглянулся с ребятами, словно напоминая: ну, что я вам говорил?
Я бы не удивился, если бы услышал короткое: «Повесить его!» Похоже, отвечать мне придется как шпиону, по всем законам военного времени.
Генерал вышел из-за стола, осмотрел разложенное на столике оружие и неожиданно улыбнулся:
— Богатый арсенал! Хорошо подготовились, — и сказал в селектор: — Секретаря-один ко мне.
Тут же, будто стоял и ждал за дверью, вошел русоволосый парень с голубыми глазами, тоже при тельняшке и орденах. Лицо его показалось мне знакомым.
— Ваня, устрой корреспондента в гостинице для приезжающих по обмену опытом и введи в курс дела. А там решим.
Гостиница располагалась здесь же, во дворе, называлась романтично: «Под липами». Едва мы вошли в номер, как появилась хорошенькая девушка с подносом, на котором стояли кофейник, сахарница и чашки.
— Вам черный, с молоком? — спросила она меня.
— Черный. И если можно, что-нибудь поесть.
— Не надо, — сказал Ваня. — Скоро пообедаем. Ты где воевал?
— Везде, — ответил я, принимая от него чашку кофе. — Я военкорром служил.
— А! — злорадно засмеялся он. — Значит, это ты тот самый Мещерский, который про меня писал? Наказать тебя за это надо. Не пел я, дружище, эту дурацкую песню про миллион алых роз, когда шел в атаку. И любимой девушке не посылал пулю, которую полевой хирург вынул у меня из-под самого сердца. Потому что любимой девушки у меня еще нет, а пуля до сих пор еще там.
— Извини, — смутился я. — Это был мой первый репортаж, хотелось сразу отличиться.
— Трепло, — добродушно констатировал Ваня. — Так зачем же ты сюда явился?
Я снова, уже подробнее, рассказал о задании редакции, о путевых приключениях, не скрыл и удивления тем, что творится в Дедовске.
— Творится? — искренне изумился мой собеседник (или допрашивающий?). — Что же такое особенное творится? По-моему, здесь уже почти полный порядок. Как и должно быть. Как и будет везде. Это раньше творилось…
— Подожди, давай-ка по порядку. Записывать можно?
— Даже обязательно, — подчеркнул Ваня.
Чтобы не томить дальше читателей и постараться ввести их в самую суть событий, привожу здесь, в собственном изложении, выдержки из длинного рассказа бывшего воина-интернационалиста Ивана Р.
4
Т р и д ц а т ь п е р в о г о д е к а б р я прошлого года в одном из служебных кабинетов Дедгорисполкома регистрировался новый кооператив.
— Название у вас какое-то странное: «Робин Гуд», — ухмыльнулся инспектор, просматривая представленные документы. — Луки и стрелы, что ли, будете изготовлять?
— Не совсем, — вежливо, но уклончиво пояснил Председатель будущего кооператива, седой мужчина с крутыми морщинами вокруг рта. — Наша задача — утешать страждущих, поддерживать павших духом и возвращать им веру в справедливость.
— Служба доверия? — многозначительно проявил осведомленность инспектор, украдкой поглядывая на часы. Его ждали дома приятные обязанности, связанные с подготовкой встречи Нового года.
— Вроде того. Но гораздо эффективнее, — ответил Председатель. — Впрочем, можно взять любое другое название, если вас смущает именно это. Мы не возражаем, здесь важен дух, не буква. Назовемся, например, «Око за око», или «Справедливость».
— Последнее мне лучше нравится, — важно, но не совсем грамотно согласился инспектор. — Как-то полнее отражает задачи времени. Только придется переписать бумаги. А первоначальными средствами вы располагаете? Укажите сумму.
— Не беспокойтесь, деньги у нас есть. Что-то около пятидесяти тысяч. А потом начнутся, я уверен, весьма значительные поступления.
Через полчаса новые документы снова лежали на столе. Инспектор нетерпеливо прочитал их, скрепил печатями и встал, протянув через стол руку:
— Ну, желаю удачи в вашем благородном деле.
— Благодарю вас, — легко улыбнулся Председатель. — В свою очередь желаю вам никогда не оказаться нашим клиентом, — и вышел, без стука прикрыв за собой дверь.
Инспектор нахмурился, пытаясь осмыслить сказанное, потом покивал головой и принялся перекладывать из ящиков стола в объемистый портфель продукты и напитки, припасенные к празднику.
Если бы знал бедный инспектор, какому делу положил невольно начало и к чему это дело приведет, то не спал бы в новогоднюю ночь по причинам, очень далеким от праздничных радостей.
5
П е р в о г о я н в а р я нового года директор городского торга, предусмотрительно спровадив накануне жену и дочку к теще в деревню, сверх меры обожравшись деликатесами и экспортной водкой, утомившись щедрой женской лаской, вяло догуливал новогоднюю ночь с двумя молодыми очаровательными блондинками из галантереи местного универсама.
В его квартиру, сильно задымленную свечами, сигаретами «Данхилл» и пригоревшей индейкой, вошли без стука, звонка, а тем более приглашения двое приятных молодых людей с загорелыми лицами.
Блондинок молодые люди не тронули, даже обидно не обратили на них внимания. А их почти голому начальнику, неэстетичную наготу которого прикрывала лишь грязная седина на груди, животе и лопатках, предъявили бумагу, где с неотразимой точностью были подсчитаны его личные доходы за последний месяц прошедшего года и так же неопровержимо были указаны незаконные источники приведенных доходов. В соответствии с этой бумагой они молча приняли в обмен на нее пятьдесят тысяч рублей отечественными дензнаками, вежливо пожелали присутствующим счастливого Нового года, попрощались и ушли.
Утром следующего дня на текущий счет кооператива «Справедливость» легла именно эта сумма, в тех же самых купюрах.
6
Надо сказать, что открытие кооператива «Справедливость» ничем особенным не ознаменовалось, и в первый день существования он остался почти незамеченным. И это понятно. В Дедовске, как и повсюду в стране, под благодатным солнечным дождем разрешительных постановлений кооперативы появлялись как грибы. Были среди них и добротные боровички, были и откровенные поганки. И к тем, и к другим люди привыкали быстро, нездоровый интерес сменялся стойким равнодушием. Перемены вообще становились обыденным явлением. И мимо очередного кооператива граждане проходили спокойно, без особых эмоций бросали взгляд на его вывеску, потому что слово «справедливость» тоже прочно заняло постоянное место в газетных столбцах и на устах комментаторов, стало яркой приметой времени, и больших надежд на него соотечественники также не возлагали.
Те же, кто из любопытства заходил внутрь, могли ознакомиться с предполагаемой деятельностью нового кооператива, выяснить, какие он оказывает услуги и на каких условиях. Об этом подробно сообщалось в приемной, где на самом видном месте между портретами Робин Гуда и Дубровского, Дон Кихота и капитана Немо помещалась красиво оформленная и забранная под толстое стекло информация.
Вот некоторые ее пункты:
…Кооператив принимает жалобы от частных лиц на любую несправедливость, совершенную по отношению к ним, с гарантированным устранением ее в самый короткий срок и возмещением любого вида ущерба (морального или материального), понесенного заявителем, либо за счет кооператива, либо за счет нанесшего этот ущерб лица или учреждения.
…По жалобе заявителя проводится контрольная проверка в течение одного — трех дней. Лица, обращающиеся в кооператив, обязаны представить любой достоверный документ или равноценные ему сведения, подтверждающие, что официальным путем решить данный вопрос не удалось.
…При исполнении заказа клиент ставится в известность о принятых мерах. При желании он может присутствовать в момент проведения акции по восстановлению справедливости, а также в отдельных случаях и участвовать в ней.
…Оплата услуг производится в соответствии с затратами на проверку и исполнение заказа. В том случае, когда клиент, по достоверной информации, не имеет возможности оплатить услуги, последние оказываются бесплатно.
…При поступлении недобросовестной жалобы с ее автора взимаются понесенные на проверку расходы и к нему применяется та же акция, на которую указано в ложном заявлении.
Сразу оговорюсь — подобные случаи за все время существования кооператива не зарегистрированы.
Вполне естественно, что люди, которые знакомились с этим объявлением в самом кооперативе или в местной печати, реагировали на него по-разному: кто-то недоверчиво улыбался или глубоко задумывался, кто-то недоуменно пожимал плечами, а иной и возмущался. Однако клиентов пока не было.
Правда, ближе к вечеру произошел маленький инцидент, который сослужил кооперативу некоторую службу типично рекламного характера.
С ревом и свистом к нему подкатила группа местных рокеров — гроза и проклятие ночного города. Они лихо покинули седла храпящих и вздрагивающих коней и, поигрывая велосипедными цепями, пошли в здание, решив немного поразвлечься. И как выяснилось — в последний раз.
Большого ущерба приемной рокерманы нанести не успели и молоденькую приемщицу заявлений тоже на испугали. Она улыбнулась, нажала кнопочку на крышке стола, и через внутренние двери в приемную вышли трое молодых людей в выгоревших военных комбинезонах со значками и наградами на груди. Объяснять им ничего не пришлось, они все поняли без слов, и девушка-приемщица, так же вежливо улыбаясь, даже не привстав с рабочего кресла, с интересом просмотрела последовавшую короткую, во выразительную сцену.
Один из молодых людей открыл дверь на улицу и некоторое время придерживал ее в этом положении. Двое других очень ловкими приемами хватали по очереди каждого рокера за воротник и сзади за штаны и выбрасывали в открытую дверь на асфальт проезжей части, куда те шлепались погаными жабами. Последнему из них пришлось задержаться: его вежливо попросили собрать и выбросить в мусор оставшиеся на поле боя цепи и шлемы, а также вымыть плевки его товарищей на полу приемной, что он и сделал, обливаясь трусливыми слезами.
Акция была осуществлена без суеты, очень спокойно и отлаженно, даже с некоторым изяществом и артистичностью. Ее провели, как пояснил мне Иван, члены кооператива из группы мгновенного реагирования.
Вообще же штат кооператива был довольно солидным. Его основную силу составляли так называемые секретари-исполнители, крепкие, немногословные, очень дисциплинированные и понятливые ребята с военной выправкой и светскими манерами. Имелась также группа консультантов: юрист, врач-психолог, журналист, артист и другие. В задачу группы мгновенного реагирования входило проведение немедленных акций без предварительной проверки в наиболее горячих точках города — на дискотеках, в очередях, на транспорте и в других общественных местах, в приемных учреждений.
Действовали в кооперативе и другие службы, с ними я стану знакомить читателей по мере развития событий на конкретных примерах, а также по мере организации новых служб, которые вводились, исходя из потребности в них — как временные, так и постоянные.
Создал кооператив, руководил им, как вы уже знаете, седой Председатель, которого его ближайшие помощники — секретари-исполнители — называли в своем тесном кругу почему-то Генералом.
За время моих контактов с членами кооператива я имел возможность глубоко изучить принципы его деятельности, познакомился практически со всем коллективом, с наиболее активными внештатными помощниками, с массой удовлетворенных клиентов, но о Председателе мне удалось узнать обидно мало, приподнять завесу над его прошлым, да и настоящим, тоже не удалось. Я собрал о нем только отрывочные сведения, но и то с большим трудом. Когда-то он был довольно известным человеком, вероятно, даже крупным общественным и политическим деятелем, и вроде Героем Труда, а может быть, и Союза. Он воевал десантником во Вторую Отечественную, восстанавливал и поднимал, возводил и перекрывал, отстаивал и прокладывал, боролся и побеждал, и все это, как теперь выяснилось, совершенно напрасно. Поэтому он и взялся за организацию такого странного кооператива.
7
С е м н а д ц а т о г о я н в а р я произошло весьма знаменательное событие — кооператив «Справедливость» обслужил первого клиента. Им оказался детсадовский малыш, которому по случаю дебюта были торжественно вручены игрушечный лук со стрелами, петушок на палочке и почетное свидетельство за номером один, где на обложке были изображены весы с находящимися в строгом равновесии чашками, на которых лежали два абсолютно одинаковых глаза.
Жалобу малыша принял сам Председатель, под стенограмму, в присутствии всех секретарей-исполнителей, выстроившихся по-военному вдоль свободной стены.
Клиент, по его собственным словам, пришел «наябедничать» на воспитательницу Марь Иванну за то, что она «дерет за ухи, кричит и шлепает по затылку».
— Ну что же, — резюмировал Председатель, подписывая распечатанную стенограмму, — случай не сложный. Как раз для начала. Однако, учитывая важность сегодняшнего события, которое, надеюсь, задаст тон всей нашей дальнейшей деятельности, поручим проверку и исполнение секретарю-один.
— Есть, — сказал правофланговый в строю красивых молодых людей и сделал шаг вперед. — Разрешите приступить?
— С Богом! — напутствовал его Председатель.
Номер первый взял малыша за руку и повел его к дверям. Все смотрели им вслед, словно держа на них равнение.
По дороге в детский сад между секретарем и клиентом состоялся небольшой разговор, прерываемый время от времени поочередным облизыванием петушка.
— А ваша Марь Иванна всех дерет за уши или только тебя?
— Всех. Она нас и в столовую, и на занятия за ухи водит.
— За уши, — поправил секретарь.
— Ну — за уши, — согласился клиент и хрупнул петушиной головой.
— Всех сразу? — удивился секретарь.
— Нет. Который первым идет, того и за ухо. А остальные — на цыпочках и без разговоров за ним. Вовочке Баулину больше всех достается, он самый большой и всегда впереди стоит. А мне — меньше всех, я почти что самый мелкий. А Ляльку Ерохину она совсем не обижает, у Ляльки папа главный милиционер, он ей покажет.
— А у тебя кто?
— А у меня в командировке.
— Понятно. Ну, иди в группу, я сейчас тоже к вам приду, переоденусь только.
Через полчаса на территории детского сада появился приветливый молодой человек в хорошем пальто, которое очень ладно сидело на нем, как на отставном военном. Молодой человек весело поиграл с детишками, о чем-то их при этом расспрашивая. Когда на него обратили внимание взрослые, он представился новым инспектором гороно и попросил весь коллектив садика собраться в зале, чтобы он мог рассказать о новых методических разработках по воспитанию подрастающего поколения.
Детишки привычно расставились по группам вдоль трех стен зала, а у четвертой сгрудились заведующая, музыкальный руководитель, воспитатели, нянечки, в общем, практически весь персонал садика, кроме дворника, который зимой исполнял по совместительству обязанности истопника и Деда Мороза и к которому у детей не было никаких претензий, кроме искренней любви.
Молодой человек поискал глазами Марь Иванну, очень большую, массивную женщину с коровьим выменем вместо груди, подошел к ней и сильно взял ее за ухо железными пальцами. Марь Иванна вскрикнула. От нее запахло потом и щами, немного вином и очень сильно не дошедшими до детишек мандаринами.
Молодой человек, вежливо улыбаясь, повел бедную Марь Иванну, держа ее за ухо, по кругу, вдоль всех стен зала, перед всеми ребятишками и взрослыми. Он шел не спеша, размеренно, чтобы всем было видно происходящее поучительное событие, но Марь Иванна все-таки немного отставала от него, тянулась за ним вывернутой головой, нелепо махала руками, роняя с ног растоптанные шлепанцы.
Детишки визжали от восторга. Взрослые остолбенели. Они даже не смогли, пораженные неожиданной дикостью этого зрелища, вымолвить ни слова протеста, когда молодой человек вывел Марь Иванну в центр зала и, опуская вниз правую руку с зажатым в ней распухшим и красным ухом, медленно поставил ее на колени.
— Не надо обижать маленьких детей, — громко и спокойно изложил молодой человек новые методические разработки. — Ведь они вырастут. И станут сильными и жестокими.
Он выпустил ухо, и Марь Иванна брякнулась на ковер. А молодой человек, достав белоснежный платок, легонько вытер им пальцы, вернул его в нагрудный карман пиджака и вышел в коридор, ступая строевым шагом. Там он снял трубку телефона, набрал номер и сказал: «Это первый. Отметь карточку за номером один и доложи Генералу об исполнении».
Марь Иванна тем временем, хотя и была почти без чувств, нашла все-таки в себе силы провизжать, чтобы вызвали милицию.
— Какую тебе милицию? — резонно возразила заведующая. — Как ты с ней будешь объясняться? Расскажешь, что детей лупишь, что фрукты их жрешь, что форточки наискось открываешь, чтобы они простужались и побольше дома сидели? Что своего кобеля в детские спальни водишь? И что тебе за это, как дрянной девчонке, надрали уши?
— Но это же издевательство, — всхлипнула Марь Иванна.
— Как посмотреть, — мудро рассудила заведующая. — Надевай, Машка, тапочки и пиши по собственному желанию.
Вот таким образом оказал обществу первую услугу кооператив «Справедливость».
8
Здесь я вынужден прерваться, чтобы вместе с возмущенными читателями задать вопрос: а не слишком ли? В наше время, в эпоху милосердия, гуманизации — и такая черная жестокость?
— Жестокость? — переспросил Иван. — Как можно всерьез говорить о жестокости по отношению к жестокому человеку? Причем жестокому к детям — самым беззащитным членам нашего общества…
— Подожди, скажи честно: осуществляя эту так называемую акцию, не испытывал ты хотя бы чувства жалости, не пришлось тебе что-то переступить, сломать в себе? Что ты почувствовал? Только честно, повторяю.
— Я испытывал чувство глубокого удовлетворения, — спокойно и иронично ответил он. — В Афганистане, я убивал людей, которые не сделали ничего плохого ни мне, ни моей Родине, а здесь, если говорить именно об этой акции, я видел перед собой реального, конкретного, почти личного врага, который безнаказанно, даже получая за это зарплату, калечит души моих детей, все наше будущее. А что до гуманизма, то он должен иметь один исключительный адрес — служить т о л ь к о порядочным и честным людям, закономерно при защите их интересов превращаясь в жестокость по отношению к подлецам, негодяям и преступникам. Это наше глубочайшее убеждение. Поэтому мы и встали под знамена Генерала. Надо искупать вину и перед чужой, и перед своей Родиной.
— Но ведь жестокость порождает ответную жестокость, зла не искоренишь злом, — возразил я уже но очень уверенно. — Вся история человечества говорит об этом.
— История не менее убедительно показала, что и добром — тоже. Для победы добра нужна прежде всего высокая культура отдельной личности и общества в целом, а пока этого нет — пусть добро утверждает себя мечом возмездия.
— Страх перед наказанием не остановит преступника — это аксиома, — совсем уж безнадежно пробормотал я. Давно не встречал людей с такой увлеченностью идеей, так последовательно воплощающих ее в жизнь.
— Тот абстрактный страх, которым пугает подлеца и негодяя наша юстиция — нет, согласен. Но страх неотвратимого, мгновенного и справедливого возмездия — да! Причем возмездия полной мерой — око за око. Еще, кажется, Овидий сказал: нет справедливей закона, чтобы всегда душегуб сам погибал от меча.
— Вы доводите идею справедливости до абсурда! — в отчаянии завопил я.
— Почему же до абсурда? До железной неумолимой логики. Безнаказанность поощряет преступления. Ведь многие наши беды происходили и происходят из-за того, что никто ни за что никогда у нас не ответил, как бы ни были велики его прегрешения перед страной, перед всем миром. Мы только мертвых наловчились тягать из могил и стегать их при всем народе, чтобы отвлечь его от новых бед и новых преступлений имущих власть.
— И что же вы мыслите в итоге? Империю зла?
— Во-первых, эта мера — временная, она нужна только в определенных условиях, когда нет другого рационального выхода, необходима, чтобы предотвратить окончательную деградацию общества. И составляет лишь малую часть общей идеи справедливости. Во-вторых, как и рассчитывали, мы сразу же ощутили мощную поддержку здоровых сил, а их оказалось немало. И, в третьих, мы обеспечиваем постепенный переход и к другим методам массового воспитания, главным образом через возврат к культуре… Впрочем, об этом лучше поговорить с Генералом. Он у нас не только храбр, как орел, но и мудр, как ворон.
— Кстати, эта ворона в холле — тоже какой-то символ? Мудрость в клетке предрассудков и стереотипов?
— Нет, — наконец-то улыбнулся Иван. Улыбка у него была прекрасная — до ушей, белозубая и великодушная. Правду говорил один русский писатель, что все у человека — и руки, и ноги — только для него, а улыбка — для других. — Нет, она отбывает наказание. Ее пионеры из отряда «Юный мститель» отловили за разорение гнезд певчих птиц. И за кражи.
— И долго ей еще сидеть?
— Пожизненно. Она безнадежна. Все равно не исправится.
Эти слова, сказанные уже без улыбки, заставили меня подумать и о собственной судьбе. Не окажется ли она подобной судьбе несчастной вороны?
Вообще говоря, дискуссия с Иваном меня не убедила — слишком крепко я был набит нашими древними предрассудками, но на серьезные размышления все-таки навела. Здравое зерно в этой по-мальчишески мудрой и наивно-жестокой справедливости, насаждаемой в городе, все же скрывалось. И трогала сердце искренняя боль, забота и тревога за судьбу Отечества. Ведь нечто подобное у нас было и в прежние годы — от Тимура с его командой до Воронежской коммунистической партии молодежи. И то, что кооператив «Справедливость» появился именно в Дедовске, — тоже имело свою закономерность.
Городок этот (до начала событий, которые мы пытаемся описать) был самым обычным, с типичными проблемами любого населенного пункта — жилищными и коммунальными, социальными и криминальными, молодежными и геронтологическими, экологическими и продовольственными. Жил он общей жизнью страны, и потому наряду с отдельными успехами не обошли его стороной и типичные недостатки — взяточничество и злоупотребления служебным положением, неуважение к людям и хамство, пьянство и наркомания, сквернословие и разврат — словом, все, чем в значительной степени заражено современное общество и чему во всех газетах официально объявлена непримиримая борьба.
Правда, Дедовску, расположенному в самом сердце России, было присуще одно свойство, серьезно отличавшее его от многих других больших и малых городов страны. Свойство это, сохранившееся с незапамятных времен, не потерявшееся в веках и переменах, заключалось в том, что был городок очень русским по духу и коренные его жители обладали двумя характерными чертами — добротой и мужеством. Видимо, поэтому от седой древности и до наших дней здесь рождались и росли добрые молодцы, встававшие, когда была в том нужда, на защиту святой Руси. Лучшие воины, цвет нации, шли отсюда на поля сражений и побед: витязи Непрядвы, гренадеры Петра, гусары двенадцатого года и гвардейцы сорок пятого. Да и в эту, последнюю (?) войну, которая гремела далеко от России, многие красивые и ладные парии безвозвратно ушли на нее.
А те, кто вернулся, пришли к родному дому совсем другими. Потому как было им что и с чем сравнить, было над чем задуматься. И если до войны им все было любо — от Москвы до самых до окраин, то теперь они увидели многолетнюю ложь, лицемерие в предательство, откровенный цинизм красивых лозунгов и покорность им народа, которому выпала несчастная доля, надрываясь, брести к «зияющим высотам» под поочередным руководством тиранов, глупцов и преступников, ввергавших страну то в пропасть войны, то в пучину голода, то в ад братской резни. И тогда они потянулись друг к другу, потому что научились не говорить, а действовать, жить едиными целями, потому что позвал их на последний бой долг перед памятью погибших на чужбине братьев. «И если не мы, то кто же?» — говорили они, сильные и смелые, с усами да с синими полосочками тельняшек под расстегнутыми воротниками рубах, со страшным юным прошлым за спиной, с осознанной ответственностью за будущее.
Полагаю, именно эти причины и создали условия, в которых стали возможными описываемые события. Однако вернемся к их началу.
9
Д в а д ц а т о е я н в а р я. Следует заметить, что в первое время кооператив «Справедливость» не пользовался особой популярностью у населения городка, К нему относились с обидной и необоснованной настороженностью, даже с некоторым недоверием. Слишком уж необычными были функции, которые кооператив взял на себя. Да и не очень-то любят наши люди жаловаться: одни считают, что это неловко и непорядочно, другие — бесполезным занятием.
Поэтому клиентов вначале было мало. Стеснялись, не верили, побаивались. И приходили в основном старики, женщины да дети, простодушные, наивные и отчаявшиеся. Из тех, кто не знал, куда жаловаться, и из тех, кто знал, да уже не верил.
Тем не менее по мелочам, по пустякам, но кооператив действовал, трудно зарабатывал себе будущий авторитет, неукоснительно при этом соблюдая главный принцип: око за око. И принцип этот, как ни странно, оказался весьма действенным вопреки официальным утверждениям специалистов, вопреки общественному мнению.
Впрочем, судите сами. Приплелась как-то тихая старушка и безнадежно пожаловалась на верхнего соседа. Сей злостный меломан, приходя с работы, врубал обыкновенно на полную мощность зарубежные колонки и системы, а сам уходил на балкон ужинать и заниматься любимым столярным делом. Не раз слезно просила пощады бедная старушка, у которой не приживались кошки и канарейки, прыгала в шкафу и сама собой лопалась посуда от взрывов современных ритмов. Но в ответ получала бабуля только грубо-непечатные слова, сопровождаемые соответствующими действиями, в результате которых оказывалась она на своем этаже гораздо быстрее, чем естественным путем.
Жалобу беспристрастно и оперативно проверили. Один из секретарей побывал у старушки на квартире со специальным приборчиком и огорченно присвистнул, когда тот зашкалил, не выдержав напора немыслимых децибелов. Секретарь заверил хозяйку, что завтра же это хамство и безобразие кончатся навсегда. Старушка не очень-то поверила, но перекрестилась, закрыла за ним дверь и снова заложила уши ватой.
Сам же страстный мелохулиган, когда неустановленное нейтральное лицо высказало ему те же претензии, только буркнул в ответ: «Имею право за свои деньги до одиннадцати часов. Пошел вон с моей жилплощади!»
На следующий день, на работе, он получил по телефону неожиданное, но тем более приятное известие о том, где, когда и какие именно интересующие его диски и кассеты он может приобрести с необременительной наценкой. Меломан, естественно, помчался по указанному адресу, а тем временем из его квартиры исчезли записи с так горячо любимыми мелодиями. Впрочем, записи эти были владельцу скоро возвращены в том же виде, в каком и были взяты, но, правда, они ему больше не понадобились.
Далее события развивались еще проще. Ответчик оказался в звукоизолированном подвале, куда он был спущен тем же способом, каким расправлялся с надоевшей ему бабкой, и где в течение трех суток, без сна и отдыха, прослушивал многократно усиленные и без конца повторяемые любимые мелодии.
Заметим в скобках, что в точно таком же соседнем помещении в это время добивались остатки городских рокеров, которые тоже вместо пищи и сна получали в огромных дозах лишь грозный, то нарастающий, то убывающий рев любимых боевых машин.
По окончании музыкальной экзекуции меломан был выпущен на волю с напутственными словами: «Порядочным человеком надо быть всегда, а не только после двадцати трех часов», и ему были возвращены его собственные кассеты, при виде которых их владельца безжалостно вырвало.
Были и вовсе курьезные случаи, например, когда повариху детского дома заставили съесть состряпанные ею для младших ребят котлеты, и с ней после этого приключился медвежий конфуз прямо на главной улице.
Были и другие факты. Они учащались, но даже если становились достоянием общественности, никому еще не приходило в голову, кроме, конечно, непосредственных участников, связывать их с деятельностью нового кооператива.
Я привожу ниже лишь наиболее характерные эпизоды на пути кооператива к главной цели.
10
С е д ь м о г о ф е в р а л я Генерал лично принял молодую, очень красивую и гордую женщину, с которой беседовал при закрытых дверях. В порядке исключения он зарегистрировал ее заявление, где содержалась лишь просьба о помощи без изложения обстоятельств дела, суть которого потерпевшая изложила ему устно.
Выслушав жалобу, Генерал, сузив глаза от бешенства, вызвал секретаря шесть (Автандила Г.) и поручил ему проверку и исполнение. Затем встал, подошел к женщине и, положив твердую руку ей на плечо, внимательно посмотрел в лицо:
— Вам сообщат о принятых мерах. Мы поможем вам, верьте. Этот негодяй будет наказан беспощадно.
Женщина глубоко вздохнула и вдруг благодарно прижалась щекой к его руке.
В тот же день в кабинет начальника снабженческой конторы весело, без доклада ввалился молодой энергичный проситель с открытым загорелым лицом. Угостив начальника хорошей сигаретой, горячо одобрив его мужской вкус, имея в виду молоденькую секретаршу, он обаятельно добился решения своего вопроса, не скупясь на обещания, и, чтобы не быть голословным, пригласил в качестве аванса провести вечерок в одном интимном кооперативном кафе под названием «Грация».
Согласие последовало с быстротой, свидетельствующей о том, что начальник очень правильно его понял, оценил предупредительность и был далеко не чужд мирских утех и соблазнов.
Ближе к вечеру к конторе подкатил новенький «жигуленок», еще без номеров. Через пятнадцать минут новые приятели в отдельном зашторенном кабинете кафе потягивали доброе винцо и внимательно смотрели по «видику» прекрасное шоу-стриптиз, дружески, со знанием дела, обмениваясь замечаниями по поводу тех или иных достоинств его солисток.
Вскоре, однако, молодой человек заметно загрустил, налил себе полный бокал «хванчкары» и почти весь выпил залпом.
Начальник снаба, напротив, все больше оживлялся, сучил коротенькими кривыми ножками и не замечал, что по его подбородку-пипочке стекает похотливая слюна.
— Хороши девочки! Ах, хороши! Ни одну бы не пропустил. Да что ты все вздыхаешь? Не мужик, что ли?
Молодой человек допил вино и указал на экран пустым бокалом:
— Вон та, крайняя, длинноногая, совсем, как моя соседка. Полжизни бы отдал за одну ночь с ней!
— Так в чем же дело? — спросил начальник, не сводя туманного взгляда с экрана.
— Не дается, стерва. Никак.
— Ребенок ты! Подходов не знаешь. Подари ей что-нибудь. Или денег дай.
— Пробовал. По морде схлопотал.
— Не может быть! — заржал начальник снаба. — Видно, мало предложил, обиделась.
— Не мало, «Волгу» могла купить нищему дураку-мужу.
— Сама, значит, тоже дура. И ты — дурак. Не унывай, другие пути ищи, творчески надо работать. Нет такой бабы, которую нельзя взять, если очень хочется.
— Тебе легко говорить, дорогой, ты так не обжигался, тебе, верно, отказа не было.
— Это точно, я своего всегда добьюсь. У меня вон была одна трудная, в моей конторе работала. Тоже долго ломалась. Разожгла так, что я даже с собственной супругой снова стал спать. И чего только не применял к ней: и кнут, и пряник! Премий лишал, на овощную базу чаще других посылал, сынишке путевку в лагерь зажимал, оклад обещался прибавить, уволил наконец… Ну, никак не давалась! Мужа, говорит, люблю, а вас нет. Нужна мне ее любовь!
Молодой человек выключил телевизор.
— Так и отступился?
— Еще чего! До сих пор пользуюсь, как охота придет. Случай помог. Но, как говорил в таких случаях французский поэт Мопассан, удача лишь за тех, кто не плошает сам.
— Подпоил?
— Больно надо — с пьяной чуркой возиться. Муж помог. С ихней любовью. Он у ней псих какой-то, с придурью, все по горам лазает, ископаемых ищет, ну и доискался — подцепил в тайге какую-то редкую болезнь. Импортное лекарство надо. Кто может в нашей глуши достать? Один я! Ну, прибежала — в слезах, чуть на колени не падает — хороша, слов нет! Слюнки текут, руки дрожат! Ладно, говорю, я зла не помню, помогу, спасу твоего любимого мужа. Но за этот подвиг прямо сейчас со мной ляжешь, здесь, в кабинете. Если тебе твой муж дорог и ты не врешь, что его любишь. Побледнела, пошатнулась, замахнулась было. Но легла. Разделась даже сама. Понял, как надо?
Молодой человек с таким восхищением смотрел на снабженца, что даже его хороший загар, который он получил, видимо, где-то в горах, под синим небом, бесследно исчез с лица и побелели костяшки пальцев, которыми он вцепился в подлокотники кресла.
— Ну, это что, — сказал он, тяжело дыша. — Одна раз своего добился…
— Не скажи. После этого она у меня в руках. Чуть приспичит — вызываю и, если упрямится, напоминаю, что ее любимый может случайно узнать, какой ценой она спасла его жизнь. Но, скажу тебе, червоточинка в ней оказалась. На вид — огонь, а в деле — холодна.
Молодой человек зачем-то поменял бокалы и снова валил вина. Они выпили за прекрасных дам.
— Слушай, — попросил молодой человек, — поедем сейчас к моей соседке, может, поможешь мне, а? С твоим-то опытом, с твоей хваткой? Поедем, дорогой?
— А что? Я для друга — сам первый друг. Только не обижайся, если отобью! — и снова заржал.
— Ну, хоп, я ей сейчас позвоню.
Молодой человек вышел и набрал по автомату номер:
— Это шестой. Доложи — проверка проведена, факты подтвердились, выезжаю с ответчиком на третью точку для исполнения акции.
Когда он вернулся, снабженец клевал носом и жмурил глаза, засыпая.
В маленькой комнатке, похожей на приемную частного доктора, сидел наш загорелый молодой человек, курил и поглядывал на круглые стенные часы. Зазвонил телефон, он снял трубку:
— Здесь шестой, слушаю.
— Это четвертый, — сказали ему, — Операционная не занята?
— Сейчас освободится.
— А что там?
— Кастрация.
— А, это быстро. Тогда мы тоже сейчас своих пациентов готовим и доставляем. Тоже ненадолго — совратитель малолетней и групповое изнасилование.
— Хорошо. Доложи первому, пусть на восемьдесят второй карточке отметят исполнение. И клиенту сообщат.
11
Д в а д ц а т ь п е р в о е а п р е л я.
— Вы понимаете, — взволнованно говорила молодая женщина, — они фактически терроризируют весь наш район. Мы специально даем деньги нашим детям, чтобы их не избивали.
— А к участковому вы обращались?
— И к участковому, и в отделение милиции. Участковый ждет не дождется заслуженного отдыха, бережется, а в милиции говорят, что это просто мальчишеские шалости, болезнь роста, не надо драматизировать и нагнетать, сами разберутся. На моем сынишке места живого нет, потому что он не сдается, а вчера пришел домой весь мокрый. Они хотели заставить его кричать какой-то нацистский лозунг, он отказался, сказал, что его дедушка погиб в борьбе с фашистами. Тогда они его оплевали с головы до ног. Вы понимаете, за него некому заступиться, я весь день на работе, да и не справиться мне с ними, я сама их боюсь.
— А отец?
— Отец погиб в Афганистане.
— Где сейчас ваш мальчик?
— Здесь, ждет на улице.
— Позовите его, он поедет с нами. Проверку по этому факту мы проводить не будем, у нас уже есть подобные сигналы. Сегодня же мы прекратим их деятельность, навсегда. Где они чаще всего собираются?
Новенькие «Жигули» без номера свернули в глухую улочку и спрятались под деревьями. Из машины вышли трое загорелых молодых людей (Алесь В., Янис Л., Петро У.) в выгоревших форменных комбинезонах, в беретах и орденах. С ними был мальчик десяти лет.
Район был старый: много деревянных домов, заборов, дворов, засаженных тополями, и подворотен. В одной из них и скрылись приехавшие. Там они задержались, пока один из них производил разведку, изучал обстановку. Вернулся он быстро, обменялся со своими товарищами короткими фразами и сказал мальчику:
— Иди, малыш, не бойся. Мы с тобой.
— Я не боюсь, — ответил мальчик. — Самые главные там — четверо. У них есть ножи и кастеты, они сильные.
— А мы сильнее, — сказал кто-то из молодых людей. — Хотя и без кастетов. Иди.
Мальчуган вошел во двор, из которого доносились магнитофонная музыка, грязная ругань, дикие крики, и с бьющимся сердцем пошел через него к выходу на другую улицу.
— Эй, ты! — сразу же последовал грубый и злой окрик. Так кричат люди, привыкшие к безнаказанности, уверенные в ней. — Иди сюда!
Мальчуган покорно подошел к группе подростков, развалившихся на изрезанных похабщиной скамейках около глухой бревенчатой стены. Опустив голову, он уставился в землю, заплеванную и замусоренную винными пробками, растоптанными пачками от сигарет и окурками.
— Деньги принес? — спросил его самый высокий и крепкий парень, стриженный наголо, в черной кожаной куртке с фашистским орлом на лацкане. — Гони монету.
— А не то мы твою мамочку вечерком встретим! — заржал другой, у которого на голой руке темнела повыше локтя повязка со свастикой. — Она тебе большие сумки таскает, далеко от нас не убежит. Давай, давай, выкладывай марки и эти… как их… пфенниги.
— У меня нет, — прошептал мальчуган упрямо.
— Ах, вот как! Ты бедный? Несчастный? Глупенький? Ну, тогда снимай штаны, побегаешь голеньким, образумишься, — и рука со свастикой потянулась к малышу.
Вопль скотского восторга взорвался во дворе и бросился в открытые окна, которые тут же стали возмущенно захлопываться.
— Мы тебя немножечко нашлепаем, — сказали двое других и стали вытягивать из брюк широкие ремни с пряжками, на которых были готические буквы. — Чтоб ты был послушненьким.
Мальчик сделал шаг назад, а на его месте вдруг оказались двое из приехавших с ним молодых людей.
И странно они себя повели — не стали стыдить и укорять хулиганов, взывать к их совести, напоминать о тех бедах, которые принес нашему народу обыкновенный фашизм, пугать родителями и школой. Они поступили как-то уж ни на что не похоже. И сначала даже непонятно.
Четверо негодяев поочередно, но очень быстро, были с силой брошены спинами в стену дома, но которой они вяло сползли на землю. Тут же их попарно соединили наручниками, и, когда они немного пришли в себя, с ними было добросовестно проделано все то, в чем они изощрялись, издеваясь над слабыми.
При этом каждое действие карателей сопровождалось ссылкой на первопричину — это вам за то, а вот за это — и мастерским, даже виртуозным, неотразимым избиением. Со стороны было похоже, что молодые люди легко и непринужденно показывают ловкий и красивый, спортивный современный танец.
Вся компания и не думала вступаться за идейных главарей: кто-то предусмотрительно брызнул на забор и исчез, а кто-то ошалело взирал на проводимую экзекуцию.
А та между тем шла своим чередом. Одну парочку заставили выпороть друг друга ремнями с готическими пряжками, а другой строго приказали плеваться. Это было очень смешно. Утирая свободными руками сопли и слезы, «белокурые бестии», которым «принадлежит весь мир», старательно и мстительно оплевывали друг друга.
— Так, достаточно, — остановил плевалище секретарь-четыре. — Теперь быстро снять штаны. Побегаете голенькими, образумитесь.
Сопротивляться, конечно, никто из них не стал — опасно да и бесполезно. В багажник подъехавшего «жигуленка» были брезгливо брошены джинсы и исподнее, а их бывшие владельцы, присевшие на корточки, чтобы прикрыть рубашками срам, получили расписки.
В этих расписках указывалось, что данные предметы гардероба или их стоимость они могут получить в таком-то месте в обмен на подробное письменное объяснение причин, во которым они были их лишены и с обещанием не подавать впредь повода к повторным акциям.
За штанами, естественно, никто на явился и объяснений не принес. Пришла только повеселевшая мама мальчугана, горячо поблагодарила за оказанную помощь и рассказала, что уже несколько вечеров бывшие хулиганы встречают ее на остановке трамвая, провожают до дома и вежливо предлагают донести сумки с продуктами, а сынишке подарили совсем новенький скейт и заботливо помогают осваивать этот капризный и модный спортивный снаряд.
Она внесла в кассу положенную сумму и предложила кооперативу свои услуги. Секретарь, принимавший ее, немедленно дал согласие и, сообщив, что в таком случае плата за услуги не взимается, вернул ей деньги.
12
Кооператив, пока еще незаметно для постороннего глаза, набирал силу, расширял скрытое влияние на жизнь горожан.
Особый вклад в это дело вносила группа мгновенного реагирования, которая, как я уже говорил, держала под контролем горячие точки города. Причем ее действия сказались очень быстро, потому что совершались, как правило, при свидетелях, имели большое воспитательное значение, и преувеличенные слухи о проведенных акциях мгновенно становились достоянием граждан, чем весьма способствовали росту популярности кооператива.
Вскоре практически все почувствовали, что жизнь в городе несколько изменилась, появились в ней какие-то необычные и потому тревожные признаки.
Люди сдержаннее вели себя в очередях, не грубили за прилавками, пьяницы не показывались на улицах, драчуны поглубже засунули зудящие кулаки в карманы, сквернословы теснее сжали зубы, за которыми бушевала блевотина мерзкой ругани.
Магазины теперь всегда открывались вовремя и никогда не заканчивали работу раньше положенного времени. Справки в учреждениях выдавались в срок и без волокиты, печати ставились четкие и именно туда, куда нужно.
Люди снова познали прелесть вечерних и ночных прогулок под липами городского парка без риска быть сбитыми рокерами или избитыми металлистами. Девушки и женщины больше не опасались за честь, возвращаясь домой в позднее время. Старушки стали смелее отстаивать права, на которые уже не находилось охотников покушаться, и в частности, молодые люди уже не занимали в городском транспорте места для стариков и инвалидов. А ведь понадобилась для этого всего одна примерная акция. Как-то в автобусе развалившийся на сиденье молодой и крепкий человек на робкую просьбу старушки уступить ей место имел несчастье (или глупость) ответить: «По очередям и поликлиникам шляться здоровье есть? Постоишь, бабка, не развалишься». И тут же двое беспощадных из группы мгновенного реагирования приняли положенные меры. Один из них попросил водителя немного притормозить и открыть переднюю дверь, а другой тем временем крепко взял молодого хама за нос и назидательно произнес: «Старых людей надо уважать и беречь. Они прожили большую и трудную жизнь. У них плохое здоровье, и им тяжело стоять в транспорте. Запомнил?» После этого молодой негодяй был выброшен из автобуса на ходу.
Жестоко, конечно, но, знаете, эффективно. За тридцать секунд было сделано то, чего мы не могли добиться десятилетиями, потому что слух об этой акции мгновенно разлетелся по городу, приукрашенный подробностями. С тех пор во всех автобусах и трамваях городка места для пассажиров с детьми, инвалидов и лиц престарелого возраста либо вовсе пустовали, либо были заняты теми, для кого они и предназначались. И такое положение стало постепенно естественным. О первопричине же его постепенно забыли.
В городе стало не только спокойнее, но и чище, после того как одному простоватому гражданину, дожидавшемуся супругу у входа в универсам, пришлось собственной кепкой вытереть свои же плевки на асфальте. И оказалось вообще довольно простым делом — бросать мусор в урны, а не рядом, нужно только подойти поближе. Да так оно и безопаснее, не ровен час головой в нее сунут.
Словом, в городе шла некая скрытная деятельность, незаметная сама по себе, но дающая явные результаты. И все же благодатные перемены, происходящие буквально на глазах у людей, горожане еще не связывали напрямую с кооперативом «Справедливость». Но появление загадочной и нешуточной силы почувствовали все.
И только один из всех довольно быстро докопался до сути дела. Это был молодой, толковый и честный работник милиции, следователь. Не очень доверяя служебной статистике, он вел яичный учет правонарушений в городе, основанный на собственных источниках информации. Это очень помогало ему в работе. И вот однажды он вдруг заметил одну странную и необъяснимую на первый взгляд тенденцию: начиная с января в городе ровно вдвое возросло число хулиганских проявлений. Однако официально было зарегистрировано гораздо меньше половины. Такое небывалое расхождение требовало точного анализа. Проделав его, следователь получил в результате еще одну интересную информацию: количественный рост правонарушений содержал в себе еще и качественные признаки. Поясним — каждый вид хулиганства тоже возрос ровно вдвое.
Вывод, который сделал следователь, был однозначен: на каждое негативное действие следовало мгновенное противодействие той же степени и качества. Легкие телесные повреждения влекли за собой тот же ответ, особо циничное хулиганство — точно такую же ответную реакцию, оскорбление действием — встречный отпор и так далее. Но странным ему показалось еще и то, что на эти ответные действия не было ни одной жалобы. Правда, попался ему один протокол об избиении пьяного, но как только этому пьяному был задан вопрос, чем оно вызвано, он тут же наглухо замкнулся, отказался отвечать и забрал заявление.
Поразмыслив над всеми собранными фактами, логически расположив их, следователь пришел к неожиданному заключению — все нити тянутся и сходятся в одной точке: в странном кооперативе с детским названием «Справедливость», Отсюда же исходит эта беспощадная, но справедливая сила, умно и точно направляемая на конкретное зло, на слабые в этом смысле места в нашей жизни, о чем убедительно говорила первая из тенденций, выявленная следователем.
Но мы можем сказать и еще об одной явной тенденции, о которой пока смутно догадывался следователь. Дело в том, что при весьма многообразной справедливо-карательной деятельности кооператива особо строгому наказанию, без всякого снисхождения, подвергались лица, облеченные государственными или общественными полномочиями и злоупотребляющие ими в личных интересах. Так, по коллективной жалобе строительного НИИ был привлечен к ответственности специалист, ведающая распределением санаторных путевок. Проверка, проведенная юристом кооператива, показала, что факты, указанные в заявлении работников института, подтвердились, что путевки действительно уходили в другие организации за взятки, что указанный специалист построил на них хорошую дачу в приобрел автомашину марки «Алеко» — «Москвич» в экспортном исполнении.
В приватной беседе с ним выяснилось также, что никакого снисхождения тот не заслуживает. Это был еще очень молодой, но уже безнадежный человек, несколько полноватый, с сонным взглядом, с гладким розовым лицом, с которого не сходило выражение добродушного презрения к тем, кто пользуется общественным транспортом, давится в очередях и покупает мясо и масло по талонам; респектабельный, но молчаливый, что диктовалось необходимостью скрывать слишком явную природную тупость, духовную день и абсолютную безграмотность.
Акция по отношению к нему была проведена с присущей кооперативу беспощадностью, оперативностью и справедливостью. Дача сгорела до фундамента во время грозы, автомашина была смята в лепешку упавшей со строящегося дома панелью, квартира залита горячей водой из прорвавшейся трубы. Причем все это имущество, как выяснилось, было по вполне понятным причинам не застраховано.
Вместе со специалистом по путевкам понесли заслуженное наказание инспектор ОБХСС, неоднократно проверявший его деятельность по сигналам честных граждан, и районный прокурор, осуществлявший за этим надзор и систематически отказывающий в возбуждении уголовного дела «ввиду отсутствия состава преступления». У инспектора взорвалась в квартире импортная музыкальная система и сорвалась с подвески импортная же хрустальная люстра. У прокурора заболела чумкой и погибла собака очень дорогой и редкой породы бедлингтон-терьер, полученная в подарок от туповатого специалиста по путевкам. Причем все это было сделано так, что претензий никому предъявить было нельзя и компенсации потребовать — тоже.
Полученные данные о деятельности кооператива, как ни странно, следователя не насторожили, а, напротив, обнадежили. Он собрал в отдельную папочку систематизированную информацию и решительно отправился… Нет, не к начальству, не в прокуратуру, а прямо в кооператив «Справедливость», где в кабинете Председателя выложил, как говорится, карты на стол и потребовал… Опять же нет, не объяснений, не прекращения незаконной деятельности, а немедленного приема в члены этой, будем говорить, организации как самого следователя, так и значительного числа его добросовестных коллег. Ведь были же и такие!
Председатель ответил ему встречным пониманием и выразил удовлетворение тем, что теперь в правоохранительных органах города кооператив будет иметь своих честных людей, профессионалов на ниве соблюдения законности и правопорядка, что, конечно же, открывает новые большие возможности в борьбе за справедливость, за расширение сферы благотворного влияния кооператива на общественную жизнь населения.
В подтверждение этих слов Председатель показал следователю письмо из Архангельской области, где отбывал незаслуженное наказание один из молодых жителей городка, прознавший какими-то неисповедимыми путями о существовании «Справедливости» и возложивший на нее последнюю надежду.
— Проверьте, пожалуйста, факты, — поручил Генерал, — и если они подтвердятся, разработайте и осуществите с одним из секретарей надлежащие меры.
— А эти факты не надо проверять, — ответил следователь, прочитав письмо. — Здесь все верно изложено. Я вел это дело, суд дважды возвращал его мне на доследование, наконец меня отстранили и назначили более покладистого следователя.
— За что осудили парня?
— Превышение пределов необходимой обороны. Мне так и не удалось, вернее, мне не позволили доказать, что парень действовал строго в рамках закона. Ему нужно было грамоту дать или ценный подарок за активные и самоотверженные действия по охране общественного порядка, а не срок.
— Состав суда вам известен?
— Да, конечно. Но заседателей, по моему мнению, не надо наказывать — темные люди, не ведают, что творят, а председатель — недобросовестный профессионал — действовал умышленно.
— Хорошо. — Генерал вызвал очередного секретаря и спросил его: — У вас есть какая-нибудь группа отпетых, подлежащая наказанию?
— Есть, — ответил секретарь, заглянув в блокнот. — На очереди неформалы из ПТУ, нанесение тяжких телесных повреждений.
— Действуйте.
В тот же день городской судья получил анонимное предупреждение о том, что некие «кореши» осужденного им хулигана готовятся к акту мести. Соответствующая работа была проведена и с отпетыми неформалами из городского ПТУ. И вот спустя некоторое, очень небольшое время в почти безлюдном переулке, выходящем к зданию городского Дворца правосудия, на судью было совершено нападение. Вооруженный обрезком армированного масляного шланга от военного самолета судья легко отразил нападение и успел уложить двоих или троих нападавших, нанеся им серьезные повреждения, и обратить в позорное бегство остальных. Случившиеся здесь свидетели вызвали милицию и ей, а затем и следователю и суду безупречно показали, что дикая выходка судьи ничем не была спровоцирована, что он по собственной инициативе напал на подростков, спокойно идущих по улице в кружок авиамоделистов и ручного вязания, и с криком «Бей неформалов!» начал наносить им жестокие побои.
Забегая несколько вперед, сообщим, что на состоявшемся в свое время судебном заседании бывший судья, несмотря на сильнейшее сопротивление, был приговорен по статье 108 УК РСФСР — умышленное тяжкое телесное повреждение — к лишению свободы сроком на 8 лет с отбытием наказания в колонии усиленного режима и имел возможность испытать на себе беспощадность судебной машины, управляемой человеческими руками.
Надо сказать, что в немалой степени осуществлению этого справедливого акта возмездия способствовало общественное мнение, взбудораженное критической статьей в адрес местной юстиции, чудом проскочившей мимо бдительного, где не надо, ока городских властей.
Так или иначе, а в кооперативе «Справедливость» еще на две очередные карточки легли отметки об исполнении. Виноват, на три карточки, так как в ближайшее время были заново пересмотрены дела судьи неправедного и по ним был отменен ряд приговоров, в том числе и в отношении того парня, который обращался в кооператив из Архангельской области.
13
Доверительный разговор с Иваном, с одной стороны, был мне очень полезен. Я получил массу нужной мне информации и стал постепенно не только разбираться в обстановке, сложившейся в Дедовске, но и проникся глубокой симпатией, если не благодарностью, к тем, кто эту обстановку создал. Все мы стосковались по справедливости и порядку. Но, с другой стороны, такая предельная откровенность вызывала тревогу. Видимо, мне предстоит выбрать сторону баррикады и либо включиться в работу кооператива, либо в самой деле разделить судьбу несчастной вороны, хотя основания для такой акции в отношении меня я искренне не видел. Тут было над чем задуматься. Правда, немного успокаивала возможность иной альтернативы. Вполне вероятно, информация мне предоставляется с тем, чтобы я объективно распространил ее по стране и косвенно способствовал расширению сферы влияния «Справедливости» до полного ее торжества…
В самый разгар нашей беседы в номер шумно и весело ввалились другие секретари-исполнители. Давно я не видел таких чистых, одухотворенных лиц. Эти молодые люди были непоколебимы в своей вере, твердо убеждены, что идут беспощадно правильной дорогой к благородной цели очищения, и готовы на этом пути к самопожертвованию на пределе фанатизма. А ведь когда то почти весь наш народ был таким. Куда же все делось? Кто в этом виноват? И как нам вернуть былое единство?..
Я легко перезнакомился с секретарями, нам было что вспомнить, о чем пожалеть и чему порадоваться. Непринужденно, без тени настороженности ребята включились в мое посвящение, нимало не сомневаясь, что видят во мне пока единомышленника, а затем и соратника. Один из них даже сбегал за сводными отчетами кооператива и помог выбрать из них наиболее этапные акции, которые и вошли впоследствии в мое правдивое повествование.
Такому дружелюбию во многом способствовал совершенный мною героический прорыв блокадного кольца, и мы с профессиональной точки зрения обсудили мои действия. Воспользовавшись этим, я попросил позаботиться о броневике, так как справедливо полагал, что по крайней мере в ближайшее время мои возможности свободного перемещения по городу будут весьма ограничены, а обещание, данное маленькому майору, необходимо выполнить — у него и так хватит неприятностей из-за меня.
— Хорошая машина, — ответил Иван и подозвал меня к окну.
В глубине двора с неподражаемым нахальством торчал из ворот хозяйственного помещения туповатый нос моего надежного Россинанта.
— Тебе еще придется им воспользоваться, — загадочно добавил секретарь-один.
Эти слова меня обнадежили, но знал бы я, что за ними крылось!
Интересно, что во время этого разговора и в дальнейшем ни один из секретарей не попытался у меня узнать никаких подробностей, что было бы вполне естественно, о дислокации частей вокруг Дедовска, их составе, вооружении, планах. Что это — проявление вполне уместного такта и щепетильности или хорошо отлаженная разведка не только в городе, но и за его пределами? Или просто юношеская беззаботность? А как же тогда седой Генерал, который тоже не спросил об этом ни слова, а уж он-то имел на это право. Нет, никогда мне до конца не понять этих людей, сколько бы я тут ни пробыл. Они какие-то иные, новые…
И еще один интересный и располагающий факт.
Когда мы пошли обедать, секретарь-два, заботясь о моей предстоящей решающей встрече с Генералом, мягко посоветовал снять награды. Это у него такая слабость, подчеркнул второй, наш Генерал считает, что медаль дается не только раз, но и навсегда, и что нужно постоянно подтверждать право на нее всей последующей жизнью. Что же, в этом, пожалуй, есть резон.
Вернувшись в номер, я услышал телефонный звонок и снял трубку. Приятный женский голос передал мне от имени Генерала извинения из-за того, что ввиду неожиданно срочного дела тот не сможет принять меня и переносит встречу на вечер. Генерал советует пока продолжить знакомство с делами кооператива, для чего предоставляет в мое распоряжение отчеты, вырезки из лояльной местной печати, протоколы заседаний. По любым вопросам я могу также обращаться к любому секретарю-исполнителю — соответствующие распоряжения им отданы.
Я попросил в ответ передать Генералу мою признательность и выразил удовлетворение его вниманием ко мне.
14
Наступил веселый месяц м а й. Кооператив продолжал действовать, завоевывая все большую популярность у населения городка, все увереннее вмешиваясь в общественную жизнь.
Правда, в его работе появилось кое-что новое. Многие граждане, по отношению к которым была восстановлена справедливость, предлагали ответную помощь, не требуя никакого материального вознаграждения, а испытывая только чувство благодарности и морального удовлетворения, если им удавалось внести собственный вклад в это благородное движение.
Помощь населения стала весьма действенной. Теперь необходимые проверки предельно упростились и сроки их сжались буквально до условных, потому как проверочную информацию но каждому заявлению можно было получать практически мгновенно — стоило лишь откровенно обратиться к тем людям, которые ею располагали. И они с готовностью шли навстречу. Словом, в городе развивалась активная консолидация здоровых сил.
Неотвратимость и быстрота наказания делали свое дело. Город стал неузнаваем. Заявления по частным лицам появлялись все реже, поток их иссякал. Кооператив добивал хамство, подлость, моральную нечистоту и низость поступков — пороки не личности, а общества.
Одной из последних в этом роде стала скандальная акция в отношении местного ловеласа, который похвалялся гнусной славой покорителя женских сердец и неутомимой мужской силой.
Жалобу написала молодая и наивная женщина по фамилии Д., его жена, которая вначале не верила в непорядочность и неразборчивость мужа в связях, а затем пыталась на него благотворно повлиять и, наконец, отчаявшись, подала на развод, несмотря на то что продолжала питать к нему весьма нежные чувства.
Тут для Д. начался форменный ад. Супруги жили в одной комнате, женщине некуда было уйти, хотя бы на время, а муж задался целью выжить ее с собственной жилплощади и изобрел для этого низкий, изощренный и жестокий способ. Он стал приводить временных подруг домой и заниматься с ними любовью на глазах любящей жены.
Рассказывая об этом, бедная Д. бледнела и едва не теряла сознание от унижения и стыда.
— Уйти я не могу, он запирает дверь изнутри, да и пойти мне некуда. Несколько раз я ночевала на автобусной станции, но меня потом стал прогонять милиционер… И пожаловаться некому. Я попыталась рассказать участковому, он только посмеялся. Просто не знаю, что делать, боюсь, что больше не выдержу. Помогите мне, пожалуйста.
К сожалению, по причине глубоко интимного характера последовавшей акции я не имею возможности рассказать о ней. Даже в отчете она не приводится. Но суть ее была строго выдержана по главному принципу «око за око», и после проведения акции у любителя доставлять жене острые впечатления началась быстро прогрессирующая импотенция, и к тому времени, когда было назначено слушание дела о разводе, он был уже полностью несостоятелен как мужчина. Именно этот неотразимый довод и выдвинула его жена, мотивируя им необходимость развода. Конечно же, новость быстро разнеслась по городу, и бесславно закончившему половую карьеру ловеласу ничего другого не оставалось, как быстро покинуть пределы Дедовска.
Если акции кооператива по отношению к частным лицам становились все реже, поскольку постепенно отпадала в них необходимость, то в отношении должностных лиц и организаций они неуклонно усиливались. И это не оставалось незамеченным.
Первый симптом был таков. Принимая жалобу на официальные органы, кооператив требовал справку, подтверждающую, что они отказывают в решении вопроса. И если прежде такие справки все-таки выдавались, правда, больше в насмешку — иди, иди, жалуйся выше, то теперь чиновники и бюрократы в них отказывали, а позже стали сами, как и положено, принимать надлежащие меры.
Но для этого кооперативу пришлось немало потрудиться. Привожу здесь несколько примеров, характерных как по стилю и методам его работы, так и по достигнутым результатам.
Когда участились весенние грозы, увеличился в соответствующие инстанции и поток жалоб от жильцов неотремонтированных вовремя домов. Кооперативу удалось быстро, с помощью всего одной поучительной акции, переориентировать коммунальные службы города на должную оперативность в устранении протечек и их последствий.
Вот как это произошло. Рассмотрев одно из многочисленных оставшихся без последствий заявлений, кооператив организовал две временные рабочие группы, куда, кстати, вошли и несколько добровольных помощников из числа пострадавших. Одна группа занялась квартирой начальника ЖЭКа, другая — самого зампреда горисполкома. В обеих указанных квартирах вдруг без видимых внешних причин начались обильные протечки потолков, вызывая отслоение финских обоев, разрушение штукатурки, порчу импортной мебели и дефицитных книг. Аварийные бригады, вызванные в обе квартиры, установили лишь огромные дыры в перекрытиях и повышенную влажность в этих местах, Дыры были срочно заделаны, но эта мера практического результата не дала: протечки регулярно возобновлялись, последовательно приводя владельцев квартир то в дурное настроение, то в бешенство или в тихое отчаяние.
Зампред распорядился установить на крыше дома постоянный милицейский пост, но это ничуть не помогло. Скорее всего потому, что дежурный милиционер тоже оказался поборником справедливости и не только не отлучался в нужный момент, но и сам помогал ковырять крышу и носить ведра с водой.
Наконец оба должностных лица капитулировали. Нашлись для ремонта жилого фонда и необходимые средства, и материалы, и рабочие руки.
Ко всему прочему и эта история также получила огласку в местной печати, так как уже в двух редакциях городских газет работали люди из кооператива «Справедливость».
Самое интересное, а пожалуй и тревожное, было то, что бурная слава кооператива вырвалась за пределы города, жалобщики начали приезжать из окрестных сел, а некоторые — даже из области. К этому времени кооператив разросся, обзавелся новыми точками в филиалами, бесчисленным числом добровольных помощников, которые порой уже решали некоторые вопросы самостоятельно.
15
Отцвели яблони и липы, желтые одуванчики сменились белыми. Вольные ветры заносили в городок тепло созревающих хлебов. Солнце весь день стояло высоко и светило жарко. Пришло лето.
Грубую и нечистую на руку продавщицу овощного магазина неожиданно вызвали в торг, где один из начальников настолько мастерски накричал на нее, что с ней сделалась такая дикая истерика, после которой она вообще перестала разговаривать с покупателями, а только молча улыбалась им и откладывала в сторону гнилые фрукты.
Но это мелочь, эпизод. Главные силы кооператив направил, учитывая специфику сезона, на городской рынок, где установил, не доверяя официальному, собственный негласный, но действенный контроль. В результате ни один из перекупщиков так и не смог проникнуть ни на территорию рынка, ни на привоз. Торговали нынче только те, кто собственным трудом выращивал дары природы. Причем торговля шла по вполне доступным ценам. Была, правда, сделана попытка бунта со стороны группы кавказцев, возглавляемой человеком в большой войлочной кепке и при обильных усах.
— Ничего у тебя не получится, — сказал он секретарю-два. — Люди ягоду хочут. Народ тебя заставит. А штрикбрехтеров мы сами разгоним.
Бунт был подавлен без применения силы — просто и надежно. Кооператив организовал молодежный десант в ближайший колхоз, где перезревала на корню нежная ягода, и утром все прилавки торговой сети города благоухали и светились багровым и алым светом. «Войлочная кепка» встала перед выбором: либо реализовать товар по диктуемой цене, либо вообще лишиться выручки за урожай. Понятно, какому варианту было отдано предпочтение.
Когда я выразил сомнение в действенности контроля за рыночными ценами, секретарь-девять Амирхан Т., ответственный за эту операцию, тепло, как несмышленышу, улыбнулся:
— Слушай, какой ты смешной сегодня. Пусть он другой рынок едет, там такой же цена стоит, он в третий пойдет, а нежный персик уже сок течет, пахнет плохо. Что делать станет? Если сам этот фрукт растил и по́том поливал — свой труд сильно жалко будет. У другого купил — за свой деньги заплачет. Вот какой компот из сухофруктов!
Д в а д ц а т ь в т о р о е и ю л я было отмечено большим событием — вступлением кооператива в новую фазу деятельности. Правда, событие это произошло так же незаметно, как и все предыдущие, и не ознаменовалось ничем ярким и торжественным. Не было салюта и всеобщего ликования, приветственных лозунгов и праздничных речей. Просто были приняты ходоки из колхоза «Победа», прибывшие с жалобой на председателя.
Колхоз «Победа» когда-то выбился в передовые, да так им и остался по традиции на многие годы, хотя дела в нем шли уже давно не блестяще и миллионы плюсовых рублей в колхозной кассе незаметно перебрались в полярную графу баланса, превратились в сотни тысяч убытков. Председатель колхоза, удостоенный и облеченный, занимающий многие почетные и представительские посты, депутат и кандидат, совершенно забросил руководство хозяйством, что не замедлило сказаться на показателях его производственной деятельности и финансовом состоянии. Вместо того, чтобы всерьез прислушаться к критике и взяться за работу, председатель, надежно защищенный высокими званиями и покровителями областного и республиканского уровня, пошел по пути сведения счетов с недовольными, и лихорадочная кадровая чехарда еще больше усугубила положение дел.
Увольнения следовали за увольнениями, выговоры — за выговорами, жалобы — за жалобами.
По уже имеющимся материалам и по дополнительным сведениям, полученным от ходоков, один из журналистов, облеченных доверием кооператива, подготовил неотразимый по фактуре материал и опубликовал его в центральной печати, где у него были друзья, тоже честные и справедливые журналисты. Несколькими днями позже этот материал со ссылкой на первоисточник был перепечатан и в местной газете. Тут уж ничего не смогли сделать и высокие покровители зарвавшегося председателя. Им даже не удалось отправить его с почетом на персональную пенсию. Он был с треском снят, исключен из партии, а по некоторым фактам — преследование за критику, должностные и финансовые злоупотребления — против него было возбуждено уголовное дело.
Затем последовала целая серия снятия с работы и исключения из рядов КПСС должностных лиц, ранее недосягаемых, практически неприкосновенных. Причем все операции проделывались по одной схеме, простейшей методе: беспощадная публикация, взбудораженное общественное мнение и вынужденные, но неизбежные оргвыводы.
За какие-то две недели были освобождены от занимаемых должностей директор школы, заместитель начальника районного управления внутренних дел, военный комиссар, жуликоватое руководство профсоюзов, ожиревший и абсолютно беспомощный штаб гражданской обороны.
Но как же было их не освободить? Судите сами. Школа, которая славилась на весь район и даже область отличными показателями в деле общеобразовательной реформы, прекрасным ВИА — лауреатом нескольких межобластных конкурсов «Лети, наша песня» и непобедимой футбольной командой, как оказалось, с основной задачей не справлялась. За годы последней пятилетки ни один ее выпускник не смог продолжить обучение в стенах вуза в силу совершенно недостаточной подготовки, несмотря на безупречные аттестаты зрелости. Милиция города издавна славилась искренней дружбой с торговой мафией, занималась поборами и грабежами, а в военкомате царила такая неразбериха, что повестки с призывом на воинскую службу ежегодно направлялись не только тем, кому это положено, но чуть ли не участникам русско-турецкой войны и Куликовской битвы.
Город кипел страстями как муравейник, в который бухнулся всеми лапами огромный прожорливый медведь. И только официальные власти, отцы города, дольше других находились в счастливом неведении. Информация о деятельности кооператива доходила до них настолько скупо и противоречиво, что не вызывала никакого беспокойства и не принималась, к несчастью, во внимание до той поры, пока городское руководство вдруг не почувствовало, что нити управления обрезаны и ситуация ими больше не контролируется. Таинственная неведомая сила осуществляет помимо них все виды политики в городе.
Началась вакханалия замены руководящих кадров. На их место приходили молодые интеллигентные люди, умные и смелые, без груза предрассудков прежних лет, знающие, что сейчас нужно и как это сделать. Они были сильны, глубоко и всесторонне образованны и одинаково хорошо смотрелись бы и на дипломатическом приеме, и на боксерском ринге.
Они решительно захватывали ответственные посты и не менее решительно начинали на них действовать.
И что же? Странно, но эти люди, главным недостатком, а может, и преимуществом которых было отсутствие житейского опыта, вдруг стали быстро и эффективно решать вопросы, которые не решались десятилетиями. Ритмичнее заработали предприятия, резко упали вредные выбросы в окружающую среду, рассосались очереди за мылом, спичками и солью, молодежь азартно включилась в решение горячих проблем общественной жизни.
Упорнее всего шла борьба за должность председателя горисполкома. Кооператив к ней давно подбирался, но городским властям некоторое время удавалось проводить своих людей, которые, впрочем, слетали один за другим с этого хорошего поста. И в народе его стали называть заколдованным местом. Дольше всех держался на нем одни удивительно упорный негодяй.
Но вот надо же случиться такой беде. В один из всенародных праздников, кажется, это был День Военно-Морского Флота, упрямый мэр врезался на автомобиле в главную достопримечательность города — пожарную каланчу прошлого века. Правда, ничуть при этом не пострадал, но в машине, по нелепой случайности, оказалась с ним почему-то не законная жена, а любовница, да и сам мэр был безобразно пьян. Раньше бы это, конечно же, обошлось без последствий, но теперь мэра пришлось лишить должности, водительских прав и обязать компенсировать ущерб, нанесенный городской достопримечательности.
И вот что особенно интересно — те люди, которые занимали ранее крайне ответственные посты, которых почему-то уважали и боялись, которые вершили судьбы города и его населения, эти люди, лишившись ореола власти и положения, вдруг оказались абсолютно беспомощными, ни на что не годными, никому не нужными. Они ничего не знали, ничего не умели и, если бы не предусмотрительно нахапанные запасы, наверное, умерли бы с голоду.
В к о н ц е а в г у с т а ситуация обострилась до предела. Власть в городе фактически сменилась. Страшные вести об этом дошли до области, даже до самого центра, и были приняты самые крайние и решительные меры, вплоть до попытки введения воинских подразделений.
К этому времени кооператив завершал самую крупную и решающую акцию. Изучив множество документов, опросив большое количество свидетелей и пострадавших, которые, не опасаясь за свою судьбу, давала бесценные показания, кооператив, опираясь на поддержку очищенных и усиленных органов РУВД и населения, выявил всю головку районной партийно-советско-торгово-хозяйственно-правоохранительной коррупции, арестовал ее, предварительно нейтрализовав телохранителей, — кстати, наиболее разумная часть их своевременно перешла на «нашу» сторону — и заключил под стражу в храме Спасителя, который уже много лет разрушался без присмотра.
После терпеливых доверительных бесед с каждый из задержанных многие из них поняли сложность и безвыходность положения и дали торжественное согласие навсегда оставить преступную деятельность и на собственные средства, дабы не изымать их официальным путем, отреставрировать запущенный храм. Эти лица были отпущены на относительную свободу с относительно чистой совестью. Большая часть мафиози была оставлена под стражей до окончательного решения их судьбы.
16
Накануне моего появления в Дедовске Генерал работал у себя в кабинете. К нему зашел секретарь-один.
— Город окружен и блокирован воинскими частями, — доложил он.
— Некогда мне, ребята, заниматься всякой ерундой, — спокойно ответил Генерал. — Видите, сколько работы? Нужно двигать наше дело дальше. — И он положил сильную загорелую руку на стопку телеграмм и писем. — Со всех городов и весей пишут. Просят поделиться опытом. Так что готовьтесь, друзья, к творческим семинарам.
— А войска? — спросил вновь секретарь-один. Он ждал указаний к действиям.
— Войска? Что ж войска, там ведь тоже люди, которые хотят справедливости. Отдайте им мафию, которая сидит в подвалах храма. Вместо мишеней, — шутливо распорядился Генерал.
Долго и требовательно зазвонил телефон — междугородная. Генерал снял трубку.
— Да, я! Консультация? Сложный случай? Хорошо, могу и лично. Добро, на днях вылетаю. Каким рейсом? А зачем мне рейс? Вылечу вертолетом, ребята у меня — на все руки.
Ближе к вечеру, проведя обычное совещание с секретарями-исполнителями, где подводились итоги дня и намечались дела на завтра, Генерал отбросил перо и с наслаждением потянулся.
— А не прогуляться ли нам, ребята? Вечер сегодня очень хорош.
Они вышли на улицу и постояли немного у дверей.
Крепенький акселерат, перебегая улицу, споткнулся, ушиб ногу и осторожно, вполголоса выругался. Тут же пожилой прохожий смело щелкнул его в лоб.
— Извините, — смущенно пробормотал мальчишка и покраснел.
Генерал я его секретари переглянулись и, улыбнувшись друг другу, пошли вдоль улицы — туда, где далеко за рекой садилось красивое солнце.
Они шли неторопливо: в центре — седой Генерал, а по бокам — его верные соратники, и их ровные, ритмичные шаги мерно звучали в вечереющем воздухе неумолимой поступью патрулей Справедливости…
Такая вот была раскладка сил и событий, когда я оказался вовлеченным в них, как говорится, стремительной силой роста народного самосознания и ответственности за собственную судьбу. Судите сами, мог ли я сделать иной выбор?
Я захлопнул блокнот, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мне надо было сосредоточиться, подумать, оценить все, что я узнал за такой короткий срок. Поверите, это было нелегко…
Мои лихорадочные размышления прервал телефонный звонок.
— Быстро к Генералу! — прозвучал в трубке неузнаваемо требовательный женский голос.
Вот, мною снова командуют. Но странно, этой команде я подчинился с радостью и нетерпением.
У Генерала собрались секретари, другие члены кооператива, которые, знакомясь со мной, представились как консультанты по юридическим и национальным вопросам.
— Прошу садиться, — пригласил Генерал. — Оперативное совещание. Докладывает секретарь-двенадцать.
Коротко, толково, без эмоций секретарь сообщил присутствующим, что в Татарской слободе города происходят беспорядки на межнациональной почве. По предварительным данным, есть пострадавшие. Первопричиной разросшегося конфликта явилась драка между двумя подростками — татарином и русским. Сейчас туда брошены значительные силы, порядок восстановлен, район оцеплен.
После сообщения секретарю были заданы вопросы, он так же сжато, но исчерпывающе ответил на них, и слово взял Генерал.
— Необходимо выехать на место, тщательно разобраться в обстановке и принять решительные меры к тому, чтобы подобными вопросами впредь заниматься нам не приходилось. Выявить подстрекателей и расстрелять на месте. Это все! По машинам! Вы, Мещерский, — обратился Генерал ко мне, — пожалуйста, задержитесь на минутку.
Я пересел поближе к его столу. За окном одна за другой срывались с места машины, и ревущий звук их двигателей мгновенно исчезал вдали, будто они брали старт в престижной международной гонке.
Генерал потер ладонями лицо, одобрительно скользнул взглядом по моей груди, где уже не звенели медали, и чуть заметно улыбнулся глазами, отдавая должное внимательным секретарям и моему признанию его принципов.
— Насколько мне известно, — начал он, — вы ознакомились и в целом одобряете нашу деятельность, считаете возможным включиться в нее. Это тем более отрадно, что снимает с нас неприятную миссию по проведению в отношении вас воспитательной акции.
— Это за какие грехи? — возмутился я.
— Мы не замыкаемся на внутренних проблемах города и достаточно широко информированы о делах в стране. Я получаю практически всю периодику и имел возможность ознакомиться с материалами издания, в котором вы служите. — Генерал положил тяжелую руку на папку с газетными вырезками, на которую был наклеен заголовок моей газеты. — К сожалению, в связи с этим у меня есть много претензий как к вашим коллегам, так и к вам лично.
— Не понимаю вас, — пробормотал я, в общем-то догадываясь, что он имел в виду.
— Постараюсь объяснить. Сейчас журналистам предоставлена возможность искренне и объективно проанализировать положение и помочь людям выбрать наконец правильный путь, объединить и мобилизовать их силы на окончательное оздоровление обстановки, общества. Вместо этого под знаменами оголтелой гласности и разгула так называемой демократии бесчестная, коррумпированная и клановая пишущая братия занимает целые полосы изданий для сведения личных счетов и желтых разоблачений. Несть числа выяснениям на уровне коммунальной кухни — кто в минувшую застойно-болотную пору больше нагадил в соседские кастрюли, кто громче пел панегирики ушедшим в небытие руководителям и не оправдавшим себя лозунгам, кто яростнее клеветал и стучал на собратьев по перу! Вы смакуете наши прошлые беды, изощренно машете мочальными кистями, макая их в помои, дерьмо и непроницаемо черный деготь. Ваше кредо — беспринципность, лакейское «чего изволите?» — затравить человека, обмануть народ, поддержать нелепое решение? — пожалуйста, сила публицистики велика, сделаем, не извольте беспокоиться.
Неужели за все эти годы ничего хорошего, достойного теплого слова и доброй памяти, законной гордости, не было сделано нашим народом? Неужели были только ошибки и ложь? Подлость и предательство?
Подобные публикации окончательно лишают людей надежды на лучшее, выбивают скамью из-под ног несчастного, на шее которого — петля. Сейчас людям надо дышать, а не захлебываться в грязи, которую санкционированно разводит пресса. Нет, видно не зря вашу профессию ставят в один ряд с другой, древнейшей, — с отвращением проговорил Генерал. — Людям надо думать о будущем, а это невозможно без веры а уважения к прошлому. Не отвлекать народ старыми бедами и врагами, а поднимать его на борьбу с врагами и бедами сегодняшними во имя завтрашнего дня. «Не как раньше, а как дальше» — вот главная тема для честных журналистов наших трудных дней.
Генерал встал и нервно прошелся по кабинету.
— Конечно, я понимаю, что немного преувеличиваю, но говорить об этом спокойно не могу. Я вижу здесь я побочный негативный эффект, еще одну опасность, на меньшую. При колоссальном, нарастающем дефиците культуры общества вы делаете все, чтобы этот процесс стал необратимым. Своим без меры наперченным, однодневным варевом безнадежно портите духовный вкус людей, отторгаете их от великих и нетленных ценностей классики. Вместо того чтобы учить их добру и чести, благородству и верности, ведете пропаганду зла и хамства, пошлости и бескультурья.
Что я мог возразить? Помимо социальной логики в словах Генерала была заразительная убежденность, подкрепленная реальностью уже осуществленных им идей.
— У меня есть к вам предложение, — продолжал Генерал. — Мы могли бы поручить вам работу по специальности. У вас хорошее перо. Вы не безнадежны. Мне очень понравилась ваша критическая статья об ужасах современного театра. В оценке его вы абсолютно правы, и я полностью разделяю вашу позицию. Чувствуется, что вы писали не умом, а сердцем, не по указанию, а по глубокому личному убеждению. Меня тоже возмущает, когда дурачат публику и выдают всякую пошлую чушь за новаторство и творческую смелость, пытаясь подменить этим отсутствие ума и таланта. Вы правы, когда пишете, что в иных спектаклях актеры ведут себя подобно мартышкам в клетках, которые, ничуть не смущаясь присутствием публики, непринужденно заголяются, осуществляют естественные отправления и половые акты. Вы правы, когда возмущаетесь «новыми» прочтениями шедевров старых мастеров, пресловутыми «я так вижу» в устах бездарностей, спекулирующих громкими и честными именами подлинных творцов. Я согласен с вами, что право на свое видение, свое прочтение, свою интерпретацию идей классика может иметь только тот, чей талант, по крайней мере, равен таланту великого возрождаемого автора. Впрочем, это частности, предварительные замечания. Суть не в том, что мы переходим к мирному строительству. В основе его — восстановление старой доброй культуры, духовный возврат к ценностям прошлого. Первые шаги сделаны: когда мы освобождали жилую площадь от нашей бывшей руководящей элиты, ее родственников и обслуги, то заодно выдворили из города практически всех поэтов-песенников, так называемых бардов, эстрадные ансамбли и рок-группы. Их уровень безобразно низок, их репертуар — это та же ложь, хамство, бескультурье и неуважение к оболваненной публике. Мне представляется, что только заложив в качестве фундамента проверенную годами и столетиями классику, можно будет развивать на этой основе и прикладные направления в литературе и искусстве.
Программа разработана, сейчас мы формируем группу по ее реализации. Беретесь за это дело? Причем не обязательно здесь, в Дедовске, — можете вести эту работу в центре.
Я молча кивнул.
— Тогда первое поручение — подготовьте содержание листовок для воинских частей, окруживших город. Отработанный текст представьте мне на утверждение, а затем — в типографию и на вертолет. Да, составляя листовку, имейте в виду один нюанс: с этими солдатами вам, видимо, придется встретиться лично, в качестве парламентера.
Перед моими глазами появилась родная газета, последняя полоса с некрологом в три строки: «При исполнении служебных обязанностей… трагически оборвалась… талантливое перо… светлая память…»
— Мне нельзя туда. Майор меня повесит.
— Вряд ли. Я связывался с ним — хороший солдат, толковый, справедливый офицер. Претензий к вам у него уже нет, — успокоил меня Генерал, вставая. — Вопросы есть? Тогда отправляйтесь в Татарскую слободу — посмотрите на месте, как мы работаем. Можете принять личное участие в акции. Машина — у подъезда.
Татарской слободе моего личного участия не потребовалось. Конфликт был урегулирован. Выяснилось, что национальных корней он не содержал. Мальчишки подрались но сугубо личной причине: соперничество в любви к однокласснице. После митинга, на котором выступил всего один оратор, Джафар А., были созданы рабочие бригады по ремонту поврежденных домов (к счастью, дело зашло не дальше битых стекол и сорванных дверей) и замене камер у одной автомашины. Членами бригад, естественно, стали те, кто непосредственно причинил эти повреждения. Отцы выпороли мальчишек-зачинщиков, матери пояснили им, что любовь девочек завоевывается не кулаками, а в основном хорошей учебой и успехами в общественно полезном труде. Что касается подстрекателей, то они оказались представителями той части городской мафии, которой пока удалось ускользнуть от ответственности и которая надеялась путем разжигания национальной розни дестабилизировать обстановку и повернуть события вспять.
По возвращении в штаб-квартиру и завершении обсуждения хода операции я поинтересовался у Джафара, каким образом ему удалось успокоить людей?
Джафар пожал плечами.
— Как можно повторить, что говоришь от самого сердца в такую минуту? Наверное, я их пристыдил. Я сказал: люди, вспомните — когда было трудно, вы всегда были вместе. Вы несли друг другу соль и хлеб, свет и утешение. А сейчас опять трудно, а вы ненавидите друг друга. Не туда вы злитесь, люди, не там видите врага. Вы бьете друга и брата, такого же несчастного, как вы сами, а раньше могли отдать за него жизнь…
Слушая конспект Джафаровой речи, я подумал: действительно, может быть, все эти распри, раздирающие страну, когда нам больше всего нужно единение, а не рознь, идут не под знаком наций и народов, а под гнетом бескультурья и злобы, которую человеку всегда было свойственно срывать на ближнем, на том, кто под рукой, а не искать и наказывать истинного виновника его бед?
17
Утром следующего дня за мной зашли первый и второй секретари. Они были по-особому подтянуты и даже торжественно горды. Первый протянул мне репортерку, и по ее тяжести я понял, что она снова полна боеприпасами.
Мы получили инструктаж у Генерала, пожали руки провожавших, выслушали их напутственные слова и спустились в холл, где клеточная ворона закаркала и забила крыльями нам вслед.
На улице нас ожидал мой старый друг — чисто вымытый, без следов помады, с гостеприимно распахнутыми люками. Второй сел за руль, мне было предложено командирское кресло, первый придерживал свернутые флаги. Мы тронулись.
Казалось, что мы очень долго крутили по городу между стоящими на тротуарах людьми, пока не выбрались к главным воротам в городской стене. Возможно, так и было задумано.
Патрульные распахнули ворота и отдали нам честь. Молодая женщина замахала платком. Броневик выехал из города и на секунду приостановился, словно в раздумье. Сзади железно брякнули захлопнутые за нами тяжелые створки. Подстегнутая этим звуком, машина плавно побежала вниз по дороге к подножию холма, где нас ожидали старшие офицеры части. И хотя я знал о предварительной договоренности с ними нашего Генерала, всякий раз, когда внизу вспыхивали стекла бинокля, малодушно жалел, что ввязался в эту историю, которая неизвестно чем закончится.
Броневик объехал воронки, оставленные маленьким настойчивым майором, сделал еще два-три поворота и остановился. Мы переглянулись и одновременно вздохнули. Вылезать из уютной машины очень не хотелось…
Медленно мы пошли навстречу тоже двинувшимся к нам офицерам во главе с полковником. Секретари шагали по бокам, чуть приотстав, держа перед собой развернутые флаги — андреевский и красный. В моих руках полоскался белый.
Пройдя установленный церемониал, мы смешались в одну группу и направились к солдатам, выстроенным на поле в каре, в центре которого стоял походный стол и лежал на нем мегафон.
По дороге маленький майор толкнул меня в бок как доброго знакомого и шепнул: «Что там у вас? Власть поменялась?»
— Не знаю, — тоже одними губами, не поворачивая головы, ответил я. — Похоже, просто восстановилась.
Мы стали возле стола. Полковник произнес несколько поясняющих слов и властно кивнул мне на мегафон. Я взял его и сделал несколько шагов вперед.
— Друзья, братья! — сказал я. — Соотечественники!
Никак не могу вспомнить, что именно говорил я тогда солдатам. Скорее всего, рассказал о положении в городе, о том, с кем и как там велась борьба, о том, что у нас общие враги и цели, что… Словом, видимо, сказал все то, что и вы, наверное, не раз произносили в уме и мечтах в горячую минуту.
Помню только, как менялись лица солдат, хмурились брови, загорались глаза и сжимались кулаки. Помню, как защелкали затворы автоматов. И мне привиделось, что в строю, меж гимнастерок и касок, появились вдруг мужики в длинных, расшитых по подолу рубахах, в остроконечных шлемах, что заколебались над ними наконечники копий, засверкали на солнце поднятые мечи…
Парламентские переговоры закончились к обоюдному удовлетворению сторон. Нас пригласили отобедать солдатской кашей. Устроили импровизированную самодеятельность, в которой больше всех отличился властный полковник, лихо сплясавший цыганочку. Впечатление от его пляски немного портило то, что одной рукой он все время придерживал на голове бешено прыгающую фуражку.
Потом я снова взял броневик, чтобы съездить за оставленным в лесу имуществом. Майор дружелюбно предложил мне в помощь водителя. Я отказался.
Вернувшись, я сдал машину и оружие, нахально потребовав расписку.
К этому времени из города вывели арестантов, которых кооператив по договору передавал в распоряжение части.
Затем мы сердечно распрощались и разошлись по своим делам и заботам.
Взобравшись на холм, я оглянулся. Далеко, почти у горизонта, колонна втягивалась в лес и скоро совсем скрылась из глаз. И только ветер рывками доносил бравую строевую песню про Марусю.
Мы вошли в город, и обитые железом ворота крепостной стены захлопнулись за нами.
РАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОССИИ
Юрий Лубченков ВИВАТ, ВИВАТ!..
Первые годы правления императрицы Елизаветы Петровны прошли для России без войн. Поход на Рейн 1748 года Репнина — лишь незначительный эпизод, если учесть общеевропейскую обстановку. Но в конце своего правления императрица логикой малозначительных поначалу и в отдельности как бы незаметных на фоне бурной жизни внешнеэкономических акций подвела страну вплотную к войне, вошедшей в историю под названием Семилетней, к войне, которая прекратилась только с ее смертью.
После окончания битв за австрийское наследство, в которых русские приняли участие корпусом Репнина, возросшая мощь Пруссии вызывала опасения французского двора. Алексей Бестужев-Рюмин, с 1744 года — канцлер, глава внешней политики России, терпеливо внушал Елизавете, постоянно отвлекавшейся от скучных истин, высказываемых канцлером монотонным, скрипучим голосом:
— Государь французский Людовик XV никогда не устанет бороться со своим извечным противником — Англией за колонии, особливо индейские, да и мировое господство уступать не хочет.
— Господи, все людям неймется! Нечто земли им не хватает?
— Хватает, ваше императорское величество, но кто же откажется от большего?
— Это точно. Однако при чем же здесь Пруссия?
— После утверждения Марии-Терезии на престоле Англия помогает Пруссии, видя в ней гаранта неприкосновенности своих ганноверских владений — ведь сюзерены помогают лишь золотом, а не людьми. Но Фридриху люди и не нужны — у него и так лучшая армия в Европе. А золото очень кстати. И не поймешь тут: то ли англичане платят ему, чтобы он защищал их Ганновер от французов, то ли из опасения, как бы пруссак на него не покусился. Дело запутанное.
— Скажи уж лучше — политическое.
— Истинно так, матушка-императрица.
— Ну, а нам-то с этого какой резон? Я уж изрядно запуталась во всех этих договорах и конвенциях. Не попасть бы нам опять впросак, как в последней войне со шведом.
— Не попадем, ваше величество. Позвольте продолжить?
— Ну, давай, продолжай…
— Позвольте обратить ваше просвещенное внимание на то, что Франция — в противовес Англии — начала оказывать помощь Габсбургам, желая тем самым заручиться союзником против Фридриха, который рассчитывает на первенство в делах германских — в ущерб Австрии. Исходя из этого, Людовик французский и с нами дружбы ищет. Мы же, по моему разумению, должны всецело поддержать идею сего альянса, ибо и для нас король Прусский опаснее всех и является всегдашним и натуральным России неприятелем.
— Пока, канцлер, я так и не поняла почему.
— Его планы о полном подчинении Польши Пруссии и стремление посадить на курляндский престол брата своего Генриха Гогенцоллерна тому причиной.
— Правда ли?
— Наши агенты европейские передают. Да и посланник французский о том говорит. Есть и сведения из самой Курляндии…
— Посланник чужеземный нам не указ…
— Все подтверждается, ваше императорское величество.
— Ну, что ж, значит, пора унять сего предприимчивого государя. Действуйте, Алексей Петрович!
Разговоры на подобные темы велись в кругу, естественно, весьма ограниченном, так что мало кто и думал о возможности войны для России.
Мало думал об этом и Петр Румянцев. За несколько дней до наступления нового, 1756 года, а именно 25 декабря, ему был пожалован чин генерал-майора. Он получил его через двенадцать лет после предыдущего полковничьего, и теперь мог смело всем смотреть в глаза, не боясь ни усмешки, ни завистливого укора.
— Я, Катя, — говорил он жене, — отныне могу всем сказать: чин свой выслужил не милостью лиц вышестоящих, не исканиями родных и друзей, а токмо делами своими.
— Да уж. Сколько продвинулось за эти годы, а ты все в полковниках!
— Ничего, жена. И в тридцать один не страшно еще в генерал-майорах быть — времени впереди достаточно. Мы еще свое возьмем. Главный порог пройден: генералы — все на виду, так что теперь все зависит токмо от нас. Что заслужим — то и получим.
— Дай-то бог.
— Хотя, конечно, да ведь недаром говорят: бог-то бог, да сам не будь плох!
— Вот и не будь!
— Да уж постараюсь!
— И знаешь, Петя, что. Вот ты сейчас сказал: все, мол, зависит от меня — что, мол, заслужу, то и получу. Но ведь заслуживать будешь — стало быть, кто-то оценивать будет, а ты ведь бываешь иногда весьма несдержан, и…
— Не искательствовал, не льстил и впредь не намерен! И это говоришь мне ты, Голицына! Разве ты забыла нашу первую встречу? У кого мы тогда свиделись? Не у твоего ли дяди Дмитрия? Ты и ему бы сказала то, что сказала сейчас мне? Или мне — только мне — сие можно говорить?
— Прости, я не хотела тебя обидеть. Я хотела как лучше.
— Мы все хотим как лучше. Но не всегда это получается. Все дороги в преисподнюю начинались с благих намерений. Но это, в общем-то, так, к слову. Не будем омрачать Рождества.
— И твоего назначения, дорогой.
— Да уж, праздник к празднику!
Через десять дней и третий праздник — день рождения. Спустя месяц — новое назначение — в Ревель, в стоящую там Лифляндскую дивизию. Отбывая к месту службы, Румянцев доносил об оном главнокомандующему генерал-фельцейхместеру Петру Ивановичу Шувалову лаконичным рапортом:
«Во исполнение вашего высокографского сиятельства ордера я сего числа к команде в Ревель выступил, о чем вашему высокографскому сиятельству покорнейше доношу».
Искательствовать он намерен не был.
Однако на новом месте он пробыл недолго — в воздухе все отчетливее пахло войной, и Румянцева отозвали назад, в Петербург, откуда он скоро — по получении секретного задания — спешно выехал в Ригу. Ему наряду с еще двумя молодыми и перспективными генералами — Василием Долгоруковым и Захаром Чернышевым — поручалось приступить к созданию отборных боевых частей — гренадерских полков, набираемых из гренадерских рот пехотных полков.
Это распоряжение было отдано уже новым высшим военным органом — «Конференцией при высочайшем дворе». «Конференция» взяла на себя не только обязанности Высшего военного совета, но и все руководство внутренней и внешней политикой России. Она занималась разработкой стратегии будущей войны — предполагалось, что непосредственное командование армии в войне с Пруссией будешь лишь покорным исполнителем решений «Конференции», — занималась и вопросами комплектования войска, чему и стало следствием новое назначение Петра Румянцева.
«Конференция» приняла план подготовки к войне армии и флота.
31 июня 1756 года Петр Шувалов — один из членов «Конференции» — доложил Военной коллегии о маршруте русских войск в Восточную Пруссию. Менее чем через два месяца после этого, видя, что коалиция против него обретает весьма зримые и опасные черты — к союзу России и Австрии примкнули Франция, Саксония и Швеция, — Фридрих решил показать всем, что отнюдь не безопасно иметь его своим врагом: он вторгся в Силезию.
Российская армия, растянувшись по западной границе, к непосредственным боевым действиям готова не была. Румянцев возмущался:
— Что за страна такая! Ведь всегда так: уже ведь и пора, и знают все об этом, а пока по башке нам не дадут — ведь и не почешемся!
Его утешали:
— И что вы возмущаетесь, генерал! Сами же сказали: всегда так. Стало быть, не нами заведено, не нам и ломать! А в утешение вам — не одни мы не готовы, союзники наши тоже не больно-то…
— А мне на них плевать! Накладки европейские за образец держать не намерен!
А время шло. Только в сентябре утвердили командующего русской армией — генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина. Тут уж возмущался не один Румянцев. Все — от солдата до генерала — знали, чего реально стоит их новый фельдмаршал, любитель хорошего стола и гардероба, личный обоз которого даже в районе боевых действий, случалось, состоял из сотен подвод.
— Ну что, господа, — злорадствовал Румянцев, — а каково теперь ваше мнение, что должно оставлять, а что ломать в порядках наших?
— Не ехидствуйте, генерал, — отвечали ему те, кто имел еще слабый запал поспорить, — вы ведь тоже с нами совместно, под командой сего стратега, воевать пойдете!
— Пойду, — соглашался Румянцев, — но когда мне оторвет голову ядром — случайно, разумеется, — просто командующий поставит всю свою армию от большого ума под пушки Фридриха, я буду спокоен — вслед за моей отлетят и ваши головы, столь боящиеся задуматься!
— Ну, хорошо, задумаемся мы. А дальше что? Плетью обуха не перешибешь! Фельдмаршал наш ставлен самим канцлером Бестужевым-Рюминым! Вы что-нибудь имеете сказать канцлеру? Или персонам — членам «Конференции»?
Король Прусский Фридрих II разговоров сих не слышал, иначе поспешил бы с ними согласиться. Но и не слыша их, он поступал так, как будто был их участником, то есть особого внимания на русскую армию не обращал.
Он считал, что основные события развернутся в Силезии, Богемии, Саксонии. Восточная же Пруссия может особо не опасаться: у губернатора Пруссии фельдмаршала Ганса фон Левальда тридцать тысяч войск во главе с блестящими офицерами — Манштейном, Мантейфелем, Доной, кавалеристами Платтеном, Платтенбергом и Рюшем. Фридрих все рассчитал еще в самом начале войны — в 1756 году.
А теперь шел уже 1757-й. В июне, согласно планам «Конференции», военные действия наконец начались — генерал-аншеф Фермор взял Мемель. Тогда же русская армия начала медленное движение к Кенигсбергу. Одна из ночевок в пути пришлась на местность на западном берегу реки Прогодь, невдалеке от забытой богом и людьми деревушки Гросс-Егерсдорф.
Глава I
Под барабанную дробь, выбивающую генеральный марш, началось построение в ротные походные колонны. Раннее утро окутало землю белесым непроницаемым пологом влажного тумана, в который ныряли со своими командирами невыспавшиеся и оттого настроенные весьма мрачно солдаты.
Узкая дорога была со всех сторон окружена густым Норкинтенским лесом, получившим свое название от деревни, где и проходил ночлег русской армии.
В силу своей достаточно большой численности — до 55 тысяч человек — армия вместе с командующим фельдмаршалом графом Апраксиным уверенно смотрела на возможность предстоящих сражений с пруссаками. Уверенность эта опиралась на немаловажное обстоятельство: пруссаки избегали столкновений с русской армией, позволяя ей беспрепятственно разгуливать по своим владениям.
Согласно решению Апраксина армия, снявшаяся с ночлега около четырех часов утра 19 августа 1757 года, осуществляла марш в общем направлении на Алленбург. Движение предполагалось осуществлять двумя колоннами: правой — в составе 1-й дивизии Фермора и части 3-й дивизии Броуна и левой, состоящей из 2-й дивизии Лопухина и частей 3-й дивизии. Впереди — исходя из плана — предусматривалось следование авангарда Сибильского в составе 10 тысяч пехоты и конницы, усиленных бригадой артиллерии.
Плохо поставленная русская разведка так до самого боя и не узнала, что Левальд, еще к вечеру 17 августа расположивший свою армию южнее Норкинтенского леса, решил атаковать Апраксина по обоим флангам: главный удар от деревни Улербален через прогалину, ведущую к русскому лагерю, вспомогательный — по правому флангу русских вдоль дорог, ведущих в деревню Норкинтен с северо-запада и запада. На рассвете 19-го Левальд занял исходную позицию, и внезапно на русские колонны авангарда и дивизии Лопухина, уже начавшие движение, обрушился жестокий артиллерийский огонь. Туман и наша разведка, вернее ее практическое отсутствие, позволили пруссакам бить залпами с весьма выгодных позиций, почти в упор.
Дивизии Фермора и Броуна также собирались и ближайшее время выступить, поэтому их обозы уже тронулись в путь. По диспозиции Апраксина предполагался общий марш через единственно возможный узкий прогал. И теперь обозы армии свалились к этому месту и создали толчею, пробку, сопровождающуюся массовыми истерическими ругательствами скучившихся людей. Залпы, начавшие звучать все более и более громко, усугубили толчею, могущую легко перейти в панику. По ходу движения оказался и неизвестно откуда возникший ручей, что дополнительно усугубило обстановку неустойчивости.
Основной удар Левальд нанес по дивизии Лопухина. Массированный огонь артиллерии и густые порядки наступающей прусской армии вызвали поначалу замешательство:
— Сюда, сюда артиллерию!
— Сюда кавалерию!
— Пришлите как можно скорее кавалерию!
— К черту обоз!
— Назад, назад!
Паника, однако, фактически не начавшись, утихла. От злополучного ручья и многострадального обоза через лес, топь и фуры начали пробиваться к опушке отдельные солдаты и небольшие отряды под командой наиболее инициативных начальников. Выбираясь на открытое пространство, они, не обращая внимания на канонаду, выстраивались в боевые порядки. Таким образом, намерение Левальда уничтожить русскую армию, не дав ей построиться для боя и тем самым вызвать при своем наступлении панику, провалилось. Это было первым звоночком прусскому фельдмаршалу, имевшему в своем распоряжении всего 24 тысячи солдат и намеревавшегося с их помощью просто разогнать и затем добить русских.
Но все же управление войсками было нарушено — впрочем, общего командования со стороны Апраксина трудно было и ожидать, — большая часть армии не была задействована в силу крайне неудачных маршевых маневров, поэтому вся тяжесть принятия оперативных решений выпала на долю генерал-аншефа Лопухина.
Только что вернувшийся от Апраксина, весьма путано наметившего общую диспозицию армии, и с первого взгляда понявший, что умом фельдмаршала здесь не прожить, Лопухин первым делом приказал себе не торопиться и внимательно осмотреть прусские позиции, потом перевел взгляд на свои.
— Иван Ефимович, — обратился он к своему заместителю генерал-поручику Зыбину, — прикажите прекратить огонь. Подпустим неприятеля ближе. Все равно для пуль пока слишком далеко.
— Слушаюсь, ваше превосходительство!
— И распорядитесь насчет раненых. Пусть отнесут в тыл.
И, повернувшись, пошел к солдатским шеренгам.
— Ребята, — звонко крикнул им Лопухин, — наше дело — не робеть. Пусть пруссак робеет!
И вместе с Зыбиным, также выхватившим шпагу и ставшим во главе уже почти прямых боевых линий, быстрым шагом, постепенно все ускоряя его и переходя на бег, направился в сторону прусской пехоты. Солдаты обогнали его, уже не слишком молодого человека, и ударили в штыки. Штык сошелся со штыком — прусская пехота, пережив русский залп, почти в упор, который был по ним произведен по приказу Лопухина перед самой контратакой, не потеряла наступательного задора и твердо надеялась сломить в открытом рукопашном поединке русских. И это им начало удаваться. Нарвский и второй гренадерский полки, понесшие значительные потери еще при прусском артобстреле, сейчас таяли прямо на глазах.
Лопухин принял первый штык на шпагу, и когда он скользнул к эфесу, ударил неприятельского солдата рукоятью пистолета, зажатого в левой руке, в основание переносицы. Тот сразу закатил глаза и беззвучным мешком осел на землю. Перепрыгнув через него, генерал поспешил на помощь к своему любимцу — поручику Попову, отбивавшемуся уже не шпагой, валявшейся сломанной пополам в нескольких шагах от него, а наскоро подобранным ружьем. Хороший фехтовальщик, Дмитрий Попов отбил выпад одного из нападавших, тут же прыгнул в сторону второго и заколол его, успев ударом ноги опрокинуть третьего. Но еще несколько оставшихся упорно старались взять Попова в кольцо. Русских пехотинцев рядом оказалось мало — большинство в горячке боя проскочили дальше или полегли на поле брани — так что в данный момент под началом генерала Лопухина оказалось меньше солдат, чем положено табельному капралу. Пруссаки, увидев подбегавшего к ним русского генерала, развернулись и дали залп. Лопухин почувствовал внезапный толчок и схватился за левый бок. Пистолет выпал у него из руки, он пошатнулся и был подхвачен успевшим подбежать к нему офицером. Теперь группа русских потеряла свободу маневра — она окружила раненого генерала и начала пятиться, сдерживая пруссаков. Не прекращая штыковых наскоков, противник начал лихорадочно обстреливать маленькое каре русских. Они падали один за другим. Последним упал получивший сразу несколько штыковых ран Попов. Подбежавшие к Лопухину прусские пехотинцы, увидев, что он лежит недвижим, устремились дальше. К этому времени уже все поле было за пруссаками. Они глубоко охватили правый фланг дивизии Лопухина, смяли его и оттесняли дивизию к лесу, грозя зайти ей в тыл.
Генерал-поручик Зыбин был убит еще в самом начале рукопашного боя. Заступивший на его место бригадир Племянников приказал полкам, — а вернее тому, что от них осталось, отступать на первоначальные позиции на опушке леса. В это время раздались крики:
— Братцы! Ребята! Жив наш генерал-то! И правда, живой!
Лопухин пришел в себя и старался привстать. Заметив это, к нему бросились несколько пруссаков.
— А-а-а! — раздалось со стороны русской позиции. — Не отдадим! Ребята, что же мы?
Племянников приказал идти в контратаку и первым с криком «Вперед!» побежал по только что оставленному русскими полю, обильно политому их и вражеской кровью. Единый порыв вмиг подхватил солдат второй дивизии; он был так силен, что не ожидавшие его неприятельские солдаты даже начали было понемногу очищать с таким трудом завоеванное ими пространство, но бригадир, твердо решивший не увлекаться, сразу после того как Лопухина отбили, распорядился об общем отступлении к лесу.
Там уже были установлены полковые батареи, заблудившиеся поначалу неведомо где и наконец благополучно отыскавшиеся, так что Племянников на вопрос раненого генерала, заданный тихим прерывающимся голосом: «Ну как?», имел полное основание ответить:
— Еще подержимся, ваше превосходительство. Хоть и жмет пруссак.
— Главное — не допустить паники, Петр Григорьевич. Если нас опрокинут, Левальд пройдется железной метлой по всему пути до нашего ночлега, и армия перестанет существовать. Так что держитесь. Помощь должна быть!
— Слушаюсь. Будем держаться.
Он собрался тихо отойти от лежавшего на разостланных плащах Лопухина и вдруг насторожился, стал пристально вглядываться вдаль — в тылы пруссакам. Там, в тылах пруссаков, что-то происходило. Бой? Но, насколько знал Племянников, русских сил там не было.
Но это были именно русские и именно силы. В тыл прусской пехоте, все более и более окружавшей дивизию Лопухина, внезапно вышли четыре свежих русских полка: Воронежский, Новгородский и Троицкий пехотные и Сводный гренадерский. Это были полки бригады генерал-майора Румянцева.
С начала боя его бригада располагалась на месте ранним утром завершившегося ночлега на северной опушке леса. Бригада числилась в резерве и никаких приказаний о дальнейших действиях не получала. Начавшийся внезапно бой внес сумятицу в действия высшего командования, и о бригаде Румянцева попросту забыли.
По собственному разумению и инициативе Румянцев построил свою бригаду в каре — на случай отражения кавалерийских атак пруссаков — и организовал разведку. Через некоторое время поручик, возглавлявший разведывательную группу, докладывал:
— Ваше превосходительство, неприятель атакует нашу армию. Основной удар — по центру, по дивизии генерал-аншефа Лопухина. Правый фланг — там недалеко какой-то фольверк — держится.
— А, фольверк Вейнотен!
— На левом фланге кавалерию пруссаков, ваше превосходительство, заманили под огонь артиллерии и пехоты авангарда на высотах западнее Зитерфельде.
— Хорошо. Что со второй дивизией, поручик?
— Главная атака ведется против ее правого фланга. Положение опасное: большие потери, артиллерии я не видел, прусская пехота отжимает их от леса и окружает…
— Окружает или окружила?
— Окружает, ваше превосходительство. Дивизия держится стойко, но потери и отсутствие артиллерии…
— Достаточно, поручик, я сам знаю достоинства дивизии. Скажите лучше, как лес, через который вы сейчас изволили прогуляться туда и обратно? Его ширина, проходимость?
— Около полверсты, ваше превосходительство. Лес болотистый, но пройти можно.
— Спасибо, поручик. Свободны.
Проводив глазами отошедшего офицера, Румянцев задумался. Потом резко тряхнул головой и направился к каре. При его приближении тихий шепот, стоявший в шеренгах, сразу замолк.
— Солдаты! — поднявшись на повозку, начал командир бригады. — Вы слышите, — он махнул рукой на лес, — там идет бой. Наши братья сражаются там. Им трудно, и долг наш — прийти к ним на помощь. И мы пойдем к ним на помощь, пойдем сквозь этот лес. Пойдем быстро — от этого зависит жизнь наших товарищей. Поэтому обозы, артиллерию, патронные повозки, мешки, шанцы — все оставить здесь. Только ружья! Только штыки. Без дела не стрелять — а залпом, по моей команде. И молча. «Ура» крикнем, когда победим! Идти полковыми колоннами. Все!
Полки шли через лес, проваливаясь в глубокие выбоины, наполненные застоявшейся водой, и в мелкие болотца, цепляясь за острые сучья и проваливаясь в лиственную и хвойную труху, сплошным темно-рыжим ковром покрывавшую землю.
То, что Румянцев сейчас делал, было вопиющим нарушением основополагающих принципов линейной тактики, господствовавшей в военных доктринах этого периода, кроме того, — формальным нарушением всех принципов субординации и дисциплины, так как никакого приказа он не получал, что могло иметь для молодого генерала далеко идущие последствия, особенно в случае поражения. А кто в бою возьмет на себя смелость гарантировать победу? Румянцев шел на все эти нарушения сознательно. Пренебрежительно относясь к закостеневшим доктринам западноевропейских стратегов, он давно пришел к выводу, что только отказ от них может стать залогом победы.
Солдаты бригады Румянцева внезапно, вдруг во множестве появились на опушке. Румянцев быстро осмотрел поле сражения. Появление русских, оценил он, именно сейчас и именно здесь было чрезвычайно удачным: пруссаки повернули свои боевые порядки против фланга дивизии Лопухина и тем самым подставляли под удар Румянцева свой фланг и тыл. Командир бригады не замедлил воспользоваться этим. Он отрывисто скомандовал:
— Огонь!
И сразу же:
— Вперед!
Бригада стремительным рывком сошлась с первой линией прусской пехоты. Минутный лязг штыков, многоголосое «Ура!» и… пруссаки обращены в бегство. Вторая линия пруссаков пытается дать отпор подбегающим пехотинцам Румянцева, но все напрасно. Сопротивление сломлено! Прусские батареи захвачены, прусская пехота и артиллерия начинают сдаваться в плен.
Солдаты Румянцева дошли с боем почти до противоположного леса и неожиданно встретили там Племянникова с его солдатами, который, увидев наступление, повел в атаку и свою пехоту. Поблагодарив Румянцева за своевременную помощь, он поведал ему о потерях дивизии. Поведал кратко, ослабев от раны в голову. Да и что было говорить? Лучше всех слов говорило за себя поле боя, почти сплошь усеянное убитыми и ранеными.
— Пойдемте, Петр Александрович, — морщась, сказал Племянников, — покажитесь Василию Абрамовичу. Он сразу понял, что это вы со своей бригадой.
— Как он?
— Вельми плохо. Так что поторопимся.
Лопухин умирал. Дышал он с хрипом, грудь его судорожно вздымалась, но воздуха генералу все же не хватало.
— Победа, Василий Абрамович, — радостно произнес Племянников, подталкивая Румянцева поближе к раненому, — узнаете виновника виктории?
— Спасибо вам, генерал, — тихо произнес Лопухин. — Русская честь спасена. Теперь умираю спокойно, отдав мой долг государыне и Отечеству…
Генералы склонили головы над умершим. Их шляпы были потеряны в бою — им нечего было снять из уважения к герою, погибшему на поле брани. Ветер развевал их волосы. Помолчали. Потом Румянцев повернулся к Племянникову:
— Вот и все. И еще одного солдата мы оставили на поле. Кстати, эта деревушка там, в конце поля, Гросс-Егерсдорф?
— Она самая, Петр Александрович.
— Запомним.
— Да и королю Прусскому отныне ее не забыть. И детям своим передаст, что есть такая деревня в Пруссии — Гросс-Егерсдорф!
Русская армия отступала. Это была та самая армия, что лишь малое время назад доказала всем и самой себе, что есть она на самом деле. Теперь же она пятилась к Курляндии.
После Гросс-Егерсдорфа русские несколько дней держали победное поле битвы за собой, потом неторопко пошли вперед, но, пройдя лишь самую малость, затоптались на месте, а затем почему-то начали отход в сторону своих баз, на восток, в Курляндию.
Двигались в тяжелейших условиях: наступившая распутица сделала дороги почти непроходимыми. Не хватало продовольствия, армейские лошади, привыкшие к овсу, по недостатку оного, перейдя лишь на подножный корм, быстро теряли силы. Черные гусары пруссаков донимали своими уколочными молниеносными налетами. Армия таяла.
Труднее всего было раненым, повозки с которыми были помещены в хвосте. После каждого привала умерших спешно зарывали при дороге. Это становилось привычным. И это пугало.
О раненых вспоминали редко. Еще реже кто-либо из генералов подъезжал к ним. Румянцев был одним из немногих. Как-то раз подъехав к фурам, он встретил там Племянникова, беседовавшего с офицером, лежавшим на одной из передних повозок.
— Вот, Петр Александрович, — поспешно, даже с каким-то облегчением, поспешил Племянников представить раненого Румянцеву, — рекомендую: герой Гросс-Егерсдорфа — поручик Попов.
— Право, господин генерал, — замялся поручик, — вся армия знает истинного героя баталии.
Офицер выразительно посмотрел на Румянцева.
— Ну, что же, господа, — после непродолжительного молчания сказал Племянников. — Я вынужден вас покинуть. И все же, Петр Александрович, — обратился он к генералу, — все же еще раз позволю себе рекомендовать нашего героя. Кроме сугубой смелости в баталиях он так же смел и в мыслях своих.
Бригадир тут же после этих слов хлестнул лошадь и отъехал. Румянцев задумчиво покусал губы, провожая его взглядом, и повернулся к повозке с раненым.
— Господин поручик, господин бригадир как-то не очень ясно очертил, как вы слышали, тот круг вопросов, что вы изволили с ним обсуждать.
— Ваше превосходительство, господин бригадир изволил говорить со мной о русской армии, о некоторых баталиях, в коих она участвовала. Но мы сошлись с ним не во всех оценках…
— В каких же?
— Я говорил, что вы — победитель Левальда…
— Прусского фельдмаршала разбила армия, предводительствуемая фельдмаршалом Апраксиным, молодой человек.
— Коей он в бою не управлял…
— Попрошу вас…
— Слушаюсь. Впрочем, это не суть. Я лишь хотел сказать, что почту за счастье услышать ваше мнение. Мы говорили с ним о различных баталиях, проходивших с участием русской армии, и не могли прийти к согласию в оценке значимости этих побед…
— Вы отрицали их значение?
— Ни в малейшей степени. Просто господин бригадир расценивал их как суть свидетельство нашей русской силы, а я же находил в них проявление нашей слабости.
— Казуистический вывод, достойный древних софистов, — усмехнулся Румянцев, глядя на разгоряченного поручика как на расшалившегося ребенка. — И на чем же вы основываете свое столь неординарное умозаключение? Ведь для подобного вывода, как вы сами понимаете, одного посыла недостаточно. Тут должно иметь стройную систему взглядов, из коих и проистекает подобный тезис…
— Да, разумеется, я все понимаю. Даже то, что мои слова вы не воспринимаете всерьез. Господин бригадир вел себя так же. А потом, как вы заметили, отъехал весьма поспешно.
— И каким же доводом, — насмешливо бросил генерал, — вы обратили его в столь бесславную ретираду?
— Я лишь сказал ему, что наши солдаты воюют почти без воинского умения.
— То есть как это, господин поручик, а кто же тогда побеждает, как не русские солдаты? Вот хотя бы у Гросс-Егерсдорфа?
— Ваше сиятельство, вы не изволили дослушать. Я разумел под умением воинским всю совокупность ремесленных навыков войны, без коих солдат всегда будет суть существо страдательное. Русские же солдаты пока воюют и побеждают благодаря лишь смелости и цепкости природным, кои были воспитаны в нас предшествующими веками.
— Значит, надо, по-вашему, готовить из русских солдат куклы военные?
— Нет, не надо. Вот, — он взял оказавшийся на повозке кленовый листок, — с одной стороны — темнее, с другой — светлее. Так и мои слова. Если к смелости и разумной осмотрительности нашего солдата добавить еще и прочное владение им воинской наукой — его никто не победит. А пока он воюет и добивается побед слишком большими жертвами, большой кровью.
— Разумно.
— Как разумно и то, что кровь эта льется не токмо из-за солдатской неумелости, но и — даже больше — из-за неумелости командиров. Наши генералы — я не вас, разумеется, ваше превосходительство, имею в виду…
— Да уж конечно…
— Наши генералы либо вообще ничего не знают из военной теории и норовят переть — как древние рыцари — грудь в грудь, силой силу ломать, либо затвердили два-три образца из прошлых времен, все хотят их в своих войнах применить…
— Сие справедливо.
— А ведь полководец-то должен быть ярым мыслителем. Ведь на войне все может смениться за миг, и сие должно уловить и использовать к своей выгоде, Звание, разум, острое чувствование — вот что такое водитель полков. А у нас? Вот вы, ваше сиятельство, ведь у Егерсдорфа поступили так — и победа. А ведь правила-то нарушили!
— Нарушил. Но ведь, поручик, они — правила — европейские. Как же без них-то?
— А вот так, как вы делали. Я ведь не зову все иноземное копировать. Я хочу, чтобы, свою силу сохранив, мы все доброе и за морями взяли — ведь целые фолианты в Европе написаны о полководцах — вот бы изучить. Изучить, но не заучить, знать, но не слепо копировать. У них — свое, у нас — свое. И если мы начнем у них брать что ни попадя, то мы возьмем себе и их поражения.
— Значит, брать не будем?
— Плохого не будем. Токмо хорошее бы. У Фридриха его военачальники как волки натасканы — они еще накажут нас.
— За что такая пагуба?
— А за то, что если из своих поражений мы еще умеем извлекать уроки, то из побед — никогда.
— Хорошо сказано. Но, подмечая в своем народе столько дурного, не грозим ли мы ему и себе вместе с ним жалким прозябанием?
— Я хулю лишь то, что должно. И не нахожу в этом приятности. Достойное же хвалю. Невозможно излечение больного без определения его болезни.
— А не опустит больной руки, вызнав все? Не лучше ли приоткрыть ему истину не целиком, а частично?
— Ложь во спасение? Она хороша, как вы мудро подметили, для больных. Народ же наш, пока он есть, в основе своей здоров. И для него необходимо знать правду.
Глава II
Военная кампания 1758 года совершалась русской армией уже без фельдмаршала Апраксина, отстраненного от командования. Опального полководца вызвали в Россию и взяли под стражу. Там, в заточении, он и умер от апоплексического удара на одном из первых допросов.
Столь немилостиво судьба обошлась с недавним победителем гросс-егерсдорфским все из-за его очень уж поспешного отступления с места баталии, вызвавшего подозрение в Петербурге, ибо циркулировали слухи, что сие столь не характерное для медлительного по натуре фельдмаршала лихорадочно-быстрое движение не токмо акция военная, но и сугубо политическая. Поскольку в это время, именно в это, императрицын двор пребывал в неустойчивой лихорадке ожидания — Елизавета всерьез занемогла, надежд на выздоровление было мало, стало быть, вставал вопрос о преемнике. Или преемнице — канцлер Бестужев-Рюмин, ненавидя официального наследника трона — великого князя Петра Федоровича, намеревался способствовать воцарению супруги Петра — Екатерины.
Канцлер отписал о сей болезни фельдмаршалу. После чего началось движение русской армии к своим границам, возможно для того, чтобы в нужный момент бросить тяжесть ее штыков на неустойчивую чашу весов выбора преемника умирающей ныне императрицы. Но Елизавета выздоровела. Канцлер за пессимистические намеки в переписке был приговорен к смертной казня, правда, замененной ему ссылкой с лишением чинов и орденов. Конец Апраксина известен.
На следствии ему инкриминировали поспешность и необъяснимость отступления. Его объяснения — провианта, мол, не было — вызывали вроде бы резонный вопрос:
— Почему отступал к границе, а не повел войско к Кенигсбергу?
— Так ведь там пруссаки! — наивно-испуганно оправдывался Апраксин.
— А ты на что, фельдмаршал хренов? Тебе на что войско было дадено? — грозно вопрошал подозреваемого допрашивающий член «Конференции» Александр Иванович Шувалов.
— Так ведь осада дело долгое, а провианта нету!
Эта сказка про белого бычка, как ей и положено, шла по кругу. Вслух не произносилось главное — думал или не думал полководец подправить штыками престол. Но в воздухе это главное постоянно витало. Как-то не учитывалось — наверное, от страха перед положительным ответом, — что решение об отступлении принимал не Апраксин единолично, а военный совет, собиравшийся трижды.
Итак, на допросах «да» и «нет» не говорили. Не пыткой Апраксину грозили, чего он и не перенес. Дело — за отсутствием главного виновника — закрыли. Главнокомандующим был назначен генерал-аншеф В. В. Фермор, англичанин по происхождению, бывший некогда начальником штаба у Миниха, а последнее время служивший главным директором императрициных построек.
Армия под командованием Фермора по первому зимнему пути снова двинулась в Восточную Пруссию и в короткое время, в январе 1758 года, заняла ее. Благо, Левальда там уже не было — его корпус был переброшен в Померанию против шведов. В этом походе Петр Румянцев командовал одной из двух наступающих колонн и занял Тильзит. Затем во главе своих частей он вместе с войсками генерала И. Салтыкова вступил в Кенигсберг и Эльбинг. Вступил уже генерал-поручиком — сей чин был пожалован ему на Рождество.
Из Кенигсберга вновь испеченный генерал-поручик был отправлен в Столбцы, что около Минска, — переформировывать кавалерию. Здесь учли его опыт 1756 года, когда он формировал новые гренадерские полки. Через три месяца Румянцев привел в Мариенвердер 18 эскадронов, оставив на месте кадры для дальнейшего пополнения. Это вместе с переформированными им же кирасирами дало до семи тысяч регулярной конницы. С частью ее он и маневрировал до последовавшей в августе осады Кюстрина.
Ох, Кюстрин, Кюстрин! Несчастливый для русских городок. Как ни крути, а несчастливый. Ведь с него все началось, а уж как закончилось-то!
Вообще-то, Кюстрин после занятия Восточной Пруссии стал главной стратегической целью военного плана «Конференции». Эта крепость была узлом дорог в переправ при слиянии Варты с Одером на правом берегу последнего. «Через то король прусский лишился бы всей Померании и части Бранденбургии», — отмечалось в плане. «Конференция» считала, что, «овладев Кюстрином, можно по справедливости удовольствоваться тем почти на всю кампанию нам и нашим союзникам». Это был типичный подход западноевропейской стратегии. Стратегия эта проявилась и в том, что сформированные в западных областях России пополнения были организованы, вместо того чтобы влиться свежей кровью в поредевшие полки ветеранов, в отдельную группу, названную Обсервационным корпусом и двигавшуюся из района формирования с отставанием от главных сил армии, шедшей из Нижней Вислы. Фактическое разделение армии на две группы имело своим следствием ошибочную мысль «Конференции» и Фермора решать различные самостоятельные задачи каждой из этих групп. Планировалось направить Обсервационный корпус к крепости Глогау и Франкфурту-на-Одере с целью овладения ими только силами этой группы.
Фермор вышел с зимних квартир в начале мая, но лишь 4 августа 1758 года русская армия подошла к Кюстрину и после жестокого обстрела всей своей артиллерией зажгла крепость. Фридрих во главе тридцатидвухтысячной армии поспешил на помощь гарнизону. Тогда Фермор приказал снять блокаду и отступить.
Согласно его распоряжениям армия заняла позицию на обширном поле, имея в тылу деревню Цорндорф. Поле было все в холмах, его перерезали два больших оврага. Словом, для человека, свято верившего в линейную тактику ведения боевых действий, Фермор выбрал не самую лучшую позицию.
В ночь на четырнадцатое Фридрих в обход правого фланга русской позиции зашел Фермору в тыл. Тот, перепутав прусскую армию с турецкой, решил построение своей армии скопировать с классических каре, применяемых против осман. Продолговатый четырехугольник со спрятанными внутри его обозами и артиллерией — таково было построение русского войска. Поскольку пруссаки зашли Фермору в тыл, тот был вынужден с утра перевернуть фронт армии, то есть первая линия стала второй, правый фланг — левым.
По приказу главнокомандующего русская кавалерия в самом начале боя устремилась на левый фланг пруссаков с явным намерением врубиться в ряды пехоты и паникой решить исход баталии. Но Фермор не учел все более доминирующей роли артиллерии на первых этапах боя и того, что Фридрих — талантливый полководец — усовершенствовал линейную тактику и атаковал всегда один фланг противника, охватывая его затем своим сильным флангом. Это создавало перевес живой силы в нужном месте в нужное время. В данном случае сильным своим флангом Фридрих считал как раз левый…
И поэтому русская конница по подходе к боевым порядкам пруссаков была встречена сильным артиллерийским и ружейным огнем. Батареи Фридриха били с высот севернее деревни. Кавалерия повернула назад и подпала под огонь своего каре, палившего в клубах поднявшегося дыма наугад.
Тогда около одиннадцати часов утра прусские порядки в свою очередь предприняли атаку правого крыла русской армии, где стояла дивизия князя Голицына. Под все усиливающимся артиллерийским огнем, под натиском пехоты, одной из лучших в Европе, русские стояли неподвижно.
При первых неприятельских залпах ближайшее окружение осторожно обратилось к Фермору:
— Ваше превосходительство, не послать ли за подкреплением — ведь Румянцев недалеко. Хотя солдаты и держатся, но ведь известно: кашу маслом не испортишь!
— Ах, господа, — взвинченно вскинулся главнокомандующий, — разве вы не видите, что уже слишком поздно? Его королевское величество Фридрих не таков полководец, чтобы выпустить победу из рук. Но для очистки совести пошлите, пошлите к Румянцеву. Хотя и не думаю, что это что-нибудь изменит!
Почти тотчас же после этих слов командующий исчез, оставив подчиненных наедине с их собственной судьбой. Дурной пример, как известно, заразителен: почти весь генералитет последовал примеру Фермора. Но солдаты и офицеры не воспользовались лукавой подсказкой начальства — армия продолжала бой.
— Не робей, ребята, не робей, — подбадривал солдат совсем еще молодой и зеленый поручик Михайлов в забрызганном своей и чужой кровью мундире. Он морщился, когда кто-нибудь случайно задевал его левое плечо.
— Ништо, сами бы не заробели, — вполголоса ворчали старые солдаты. Но говорили они это вполголоса и с таким расчетом, дабы офицер их не услышал. — А то уж и поярче мундиры тут были, а кака робость напала!
Офицер услышал, наконец, словесные экивоки подчиненных и покраснел. Но не от гнева, а от стыда — действительно, чего уж тут: сбежали…
— Ребята, так ведь долг наш…
— Знаем, ваше благородие, — перебили поручика. — На войну приведены и воевать будем. А смерть что — на то и война, чтоб умирать.
— Отставить разговоры, — теперь уже и рассердился Михайлов. — На войне не умирать, а побеждать должно! Побеждать. Слушай команду! Ружья снарядить! Залпом — пли!
В ответ на ружейный треск пруссаки ответили огнем батарей. Вздыбившаяся земля вновь на мгновенно закрыла солнце. Когда пыльная мгла рассеялась, солдаты увидели лежащих рядом поручика и нескольких своих товарищей.
И тогда правое крыло русских — пехота и кавалерия — пошло в контратаку. Прусские батальоны были опрокинуты штыковым ударом. На левом крыле пехота Обсервационного корпуса, также совместно с кавалерией, не дожидаясь прусского наступления, сама перешла в атаку и полностью разгромила противостоящую пехоту Фридриха. Но отсутствие руководства и управления в русской армии сказывалось все фатальнее: кавалерия противника, втрое превышавшая число русской конницы, терзала фланги. Фридрих умело маневрировал, и ему удалось нарушить боевые порядки неприятеля.
Под беспрерывным молотом артогня, ружейных залпов и конных атак угол русского каре начал пятиться сначала чуть-чуть, потом все сильнее. Еще несколько минут такого движения — и не будет боевого монолита, но лишь толпа, в которой каждый ощущает себя одиноким.
— Стой! — Попов с измученным и насмешливым лицом раскинул руки. В одной руке был пистолет, в другой — шпага. — Докуда бежать думаете? Неужто прямо до России? А сил хватит?
— Хватит! — произнес сивоусый солдат, вызывающе глядя на офицера.
— Это хорошо, — неожиданно легко перешел Попов на мирный тон. — Ежели у тебя сил хватает до дому бечь, может, немного отдашь и сейчас? Пруссакам, а?
— Можно, чего не отдать, — примирительно ответил сивоусый. — Ох, хитер ты, ваше благородие!
Солдаты, окружавшие говорящих, одобрительно загалдели.
— Ну, а если можно, тогда слушай меня! Пробежки ваши на сем кончим! Ружья зарядить. Лечь и ждать: стрелять по моей команде. В штыки идти тоже всем по команде. И кучно.
Через несколько минут вместо беспорядочной толпы лежали, выставив ружья в сторону врага, четыре густых ряда пехоты. Пруссаки приближались.
— Огонь!
Залп для королевской пехоты был неожиданным и весьма ощутимым. Но инерция набравшего силу движения гнала вперед, и остановить их сейчас могло лишь такое же встречное движение. Офицер понял это:
— В штыки! Вперед!
Его солдаты набрали необходимый разгон и встретили пруссаков грудь в грудь.
Мало кто мог выдержать штыковую атаку русской пехоты. Не были исключением и солдаты Фридриха. Хорошо обученные профессионалы, они умели и любили воевать в монолите строя, чаще — с помощью ружейного огня и всегда — под взглядом строгих, но мудрых начальников. Бой на штыках же — бой индивидуальный. Когда ты сам себе командир, когда ты сам для себя решаешь — упасть ли тебе, притворись мертвым в надежде, что пронесет и тебя не заметят, или встретить блеск твердым взглядом. Прусская армия не горела неукротимым желанием положить животы своя во славу короля Фридриха, и поэтому поле боя осталось за русскими. Новая контратака — солдат в атаку гнали унтера и офицеры — и снова после прямой сшибки пруссаки откатились обратно.
Таким был один из островков сопротивления. Преданные и брошенные начальством русские солдаты стояли и умирали каждый на своем месте. Но не отступали.
Румянцева не было в этом сражении — его корпус Фермор направил к Шведту, расположенному также на Одере, в шестидесяти километрах от Кюстрина, где ожидалась переправа неприятеля. Не удовлетворясь этим, Фермор приказал отделить Румянцеву от своего корпуса отряд генерала Рязанова — для осады Кольберга. Румянцев предупреждал главнокомандующего, чем может кончиться подобное распыление сил, но ему не вняли, и теперь, в день боя, он ждал распоряжений Фермора о своих дальнейших действиях.
Постоянно обвиняемый в своеволии, на этот раз он решил дождаться распоряжений командования, хотя, как военачальник, и понимал, что единственное правильное с его стороны действие — идти на соединение с главными силами армии. Но решился ли Фермер на генеральное сражение или опять начнет набившие уже оскомину проволочки мелких стычек?
Начавшаяся вдалеке канонада, все более и более усиливающаяся, положила конец его сомнениям.
— Господин бригадир, приказываю вам завладеть неприятельской переправой.
Бригадир Берг, молча отдав честь, послал свой отряд с места в галоп.
Румянцев обернулся к адъютанту:
— Потрудитесь передать: полкам быть готовыми к выступлению.
По лагерю разнесся шум команд. Все и всё пришло в движение. Началось построение в батальонные колонны. Разговоры в них еще не до конца затихли, как с аванпостов начал приближаться, разрастаясь по мере движения, встревоженный гул. Выскочив из палатки, командир корпуса увидел своего родственника и приятеля — командира одной из дивизий армии князя Голицына.
— Что случилось, князь? Почему вы не с дивизией? И так бледны…
— Граф, мы разбиты. Моя дивизия и все армия. Их больше нет!
— А канонада? — Румянцев выбросил руку в сторону доносящихся выстрелов. — Откуда же тогда канонада? Против кого ведут огонь прусские пушки? Я полагаю, что против наших войск. Другой армии, кроме нашей, господин Голицын, здесь нет! А, может быть, там слышны голоса и наших пушек?
— Петр Александрович! Вы ведь военный человек и знаете, почему бьют пушки. Они убивают нашу армию. И к тому же, слышите? — канонада стихает…
Генералы замолчали. Наступившая тишина, казалось, подтвердила военно-теоретические выкладки Голицына.
— Главнокомандующий? — наконец отрывисто-грубо, почти как ругательство, спросил Румянцев.
— Исчез. В самом начале. То ли убит, то ли убежал.
— А вы?
Голицын побледнел и отвернулся. Говорить им стало не о чем. А вскоре начавшие сбегаться в лагерь Румянцева высшие офицеры армии одним своим видом лучше всяких слов подтвердили и кажущуюся горькую правоту слов князя и сняли остроту заданного ему вопроса: когда виноваты все — отвечать некому.
Румянцев уверился, что сражение проиграно, хотя бой продолжался еще несколько часов, но рукопашный. Ибо противники настолько приблизились друг к другу, их боевые порядки настолько перемешались, что артиллерии уж не было места в сражении — все решало холодное оружие.
Но командир корпуса этого не знал. Сумрачно осмотрев прибившихся к нему офицеров, Румянцев ушел в палатку и отдал приказ адъютанту собрать Военный совет.
Совет был краток. Генерал-поручик Румянцев подчеркнуто игнорировал генералов из главной армии, так что было высказано единственное мнение — его собственное.
— Господа, в создавшейся обстановке считаю необходимым движение вверенного мне корпуса на север — на соединение с войсками генерал-майора Рязанова. Другие предложения?
Все молчали. Исходя из поведения генерал-поручика, предложения могли быть высказаны лишь его подчиненными, но те-то лучше знали, что, раз приняв решение, Румянцев вносил в него коррективы лишь в исключительных случаях. К тому же он предлагал сейчас единственно возможное решение.
Отдав распоряжение бригадиру Бергу присоединить свой отряд к корпусу, Румянцев повел колонны на Штаргард.
Главная же армия в это время продолжала сражаться. К вечеру бой начал затихать. А утром Фридрих вновь увидел перед собой монолит русских полков и не решился наступать.
Когда русские вышли из лагеря и направились в сторону корпуса Румянцева, прусский король уклонился с их дороги, сказав: «Русских мало убить, их еще надо и повалить».
Фермера отстранили от командования армией. На его место был назначен в мае 1755 года генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков, решивший вести более решительную военную политику.
Поначалу мало кто воспринимал это всерьез. Начавший свою службу еще при Петре I в гвардии — в 1714 году, он затем по приказу императора изучал во Франции морское дело, участвовал в походе Миниха в Польшу в 1734 году и в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Он имел и придворное звание камергера, а в последние годы командовал на юге Украины ландмилицейскими полками, призванными защищать границы от нападений крымский татар. Именно в ландмилицейском белом мундире, без орденов и украшений, он и прибыл в войска, сражавшиеся уже не один год в самом центре Европы.
Привыкшие за это время к представительному виду, ярким нарядам и многочисленным знакам не всегда заслуженной доблести своих командующих, солдаты и офицеры с удивлением взирали на скромную, непрезентабельную фигуру нового командующего.
— Чевой-то фигура у него кака-така…
— Кака така?
— Да не осаниста! Нешто можно генералу быть таким?
— Это точно, мужики. Ни мундира, ни орденочка. Прям херувим какой, а не енерал!
— И голос тихий, и взгляд чевой-то без суровинки.
— Да, завалящий, прямо скажем, ребята, генерал нам достался. Нешто матушка-императрица посолиднее да побойчее никого найтить не могла! Чистый срам!
— Одним словом, не енерал, а курочка!
Слово было произнесено. Через несколько дней вся армия называла своего главнокомандующего «курочкой», но весьма скоро прозвище это вместо уничижительного приобрело ласковый оттенок.
Произошла данная смена оттенков после Пальцига…
«Конференция», исходя из сиюминутных нужд высшей политики, предписала Салтыкову соединиться в июле месяце с войсками австрийскими, над которыми начальствовал фельдмаршал Даун. Фельдмаршал, хорошо усвоивший и умно применяющий в своей стратегии такое понятие, как загребать жар чужими руками, на данное соединение не торопился. Тогда Салтыков сам пошел ему навстречу. Салтыкову пытался преградить путь прусский корпус генерал-поручика Веделя, одного из любимцев своего короля. Корпус этот, действовавший отдельными отрядами, усиленно тревожил русские тылы, разбивая магазины и нападая на отдельные мелкие тыловые части.
Под Пальцигом Ведель решил пойти на открытое единоборство с этими неповоротливыми и плохо обученными русскими.
Русские полки стояли у деревни Пальциг, расположенной в девяти верстах от Одера.
— Пруссаки!
— Кавалерия! Прусская кавалерия!
— Тревога! Тревога!
Ведель остался верен своей излюбленной тактике и свалился на русский лагерь отдельными кавалерийскими отрядами. Фактор внезапности был на его стороне, однако замешательство русских было недолгим. По наступающей лаве ударила картечь. Это отрезвило пруссаков и приостановило их. Салтыков, решив, что нечего откладывать, быстро перегруппировал свой фронт. Это позволило ему охватить фланги одного из самых крупных отрядов, рвавшихся вперед по равнине между болотами, с одной стороны, и холмами — с другой. Разгромив его, русская армия так же поступила и с остальными частями прусского корпуса.
Бой продолжался с четырех дня до захода солнца. Пруссаки бежали, потеряв около шести тысяч пленными, убитыми и ранеными. Ведель через два дня попытался еще раз остановить Салтыкова, заняв со своим отрядом Кроссен. И снова — неудача. Кроссенский замок ему пришлось сдать, как и весь город.
Салтыков, найдя в Кроссене Веделя, не удивился. Он удивился другому, тому, что там не было Дауна, ибо именно в Кроссене они собирались соединить свои армии. Поудивлявшись — ведь вроде фельдмаршал благородный человек, а слово-то вот как не держит! — русский главнокомандующий решил двигаться к Франкфурту-на-Одере. В это время прибыла весточка от Дауна.
— Ваше сиятельство, — доложил Салтыкову адъютант, — пакет от господина фельдмаршала Дауна!
— Зачти, голубчик. Что там господин фельдмаршал нам сообщить хочет?
— Требует, ваше сиятельство, идти на соединенно к нему в Силезию, а оттуда — совместно на Берлин.
— Отпиши ему, что для меня путь на Берлин открыт через Франкфурт, туда и пойти. Союзников же дражайших прошу поторопиться туда же. Да повежливей все это там раскрась. Все же не кому-нибудь — фельдмаршалу пишем!
— Слушаюсь, ваше сиятельство!
— Да не забудь поздравить его с пашей союзной викторией при Пальциге, а то он так на Берлин торопится, что сам-то забыл об этом. Мы же люди дикие: нам о таком забывать никак нельзя!
Румянцев узнал о Пальциге, направляясь в ставку Салтыкова. Новый главнокомандующий снял его с командиров особого тылового корпуса и дал ему вторую дивизию, свою ударную силу.
Вскоре к русской армии присоединился, наконец, и австрийский корпус генерала Лаудона. Фельдмаршал Даун посчитал возможным выделить лишь его для совместных операций со своим северным союзником. Но все же корпус насчитывал 18 тысяч солдат и был хорошим подспорьем Салтыкову в исполнении его широких планов. Соединение сил произошло во Франкфурте, и союзники уже было совсем собрались двигаться на Берлин, как разведка донесла, что дорога на прусскую столицу перекрыта армией самого Фридриха, намеренного приложить и на этот раз все силы, дабы навсегда вывести из игры русскую армию.
Армия Салтыкова, усиленная корпусом Лаудона, занимала позицию в районе деревни Кунерсдорф, что около Франкфурта, и когда стало известно о приближении пруссаков, русский командующий приказал именно здесь принять бой, максимально усилив оборонительную мощь армии путем отрытия окопов с брустверами бастионного начертания для защиты артиллерийских батарей и устройства куртин между ними для пехоты.
Позиция располагалась на гряде высот Мюльберг, Гросс-Шпицберг и Юденберг по их гребням фронтом на север. Высоты протянулись на четыре с лишним километра с северо-востока на юго-запад. С севера позиция прикрывалась труднопроходимыми болотами, с запада, там, где располагался Юденберг, примыкала к Одеру, мосты через который вели на Франкфурт. Эти мосты обеспечивали связь Салтыкова с Дауном. С востока и юга подступы к позиции были по местности, иссеченной рвами, отдельными высотами и прудами. Тут же, с юга, в километре от Мюльберга начинался и большой Франкфуртский лес. На высоте, где был левый фланг русских, располагались пять вновь сформированных полков под командованием Голицына. На центральной высоте — Гросс-Шпицберге — расположилась 2-я дивизия Румянцева, состоявшая из 17 полков. Справа, на Юденберге, был Фермор со своей дивизией. Лаудон находился позади правого крыла русских…
Фридрих решил нанести основной удар левому флангу по Мюльбергу. К началу одиннадцатого утра он развернул свои силы для атаки и после часа сильного артиллерийского огня предпринял атаку с трех сторон: с севера, северо-востока и востока. Три гигантские шеренги солдат в синих мундирах с яркими разноцветными отворотами охватывали полки Голицына, Резкие голоса офицеров и унтеров поначалу еще поддерживали эти шеренги прямыми, но пересеченная местность и залпы единорогов быстро сломали их.
Огонь из пушек и ружей с обеих сторон окутал холм пороховым дымом. Русские, имевшие на Мюльберге всего пять полков и четыре небольшие артиллерийские батареи против фактически всей армии Фридриха, несли огромные потери; князь Голицын был ранен. Наконец, исчерпав все силы и не выдержав атаки превосходящих сил пруссаков, полки начали отходить.
По приказу Салтыкова Румянцев выделил четыре полка из своей дивизии для прикрытия отхода Голицына. Контратака задержала продвижение Фридриха и сорвала его внезапную атаку на Гросс-Шпицберг. Батареи Румянцева успели перенести свой огонь на Кугрунд — овраг, отделявший их холм от Мюльберга, куда ринулась прусская пехота.
Уверенный, что осталось лишь последнее усилие для достижения окончательной победы, Фридрих посылает бюллетени о поражении русских в Берлин. Он рассчитывал на деморализующее влияние хотя бы частичного поражения русской армии. Фридрих не желал никак верить, что разрозненные части русского войска способны держаться и что полки не просто отступили, но также измотали его армию.
— Вперед! — воскликнул Фридрих.
Прусская пехота, построенная в несколько линий, пошла на приступ позиций Румянцева. Там ее встретили ряды русских фузелиров, беспрерывными залпами сбившие наступательный порыв пруссаков.
Вступила в действие русская тяжелая артиллерия, размещавшаяся в крепости. Свои же батареи Фридрих задействовать не мог, ибо песчаная почва препятствовала движению орудий. Так что фактически пехота пруссаков оказалась один на один с русской артиллерией.
— Атаковать! — взывал Фридрих.
Трижды он сам водил пехоту в атаку, и трижды Румянцев отбрасывал ее.
Конницу Зейдлица, считавшуюся лучшей в Европе, Фридрих еще ранее наметил для атаки с юго-востока и юга. Теперь, как посчитал король, пришло ее время.
— Генерал! Вы все видите — только атака!
— Ваше величество, русская артиллерия…
— Только вперед! Промедление для нас — это смерть!
— Мы все будем уничтожены, ваше величество! Я иду.
Зейдлиц сам возглавил атаку своих эскадронов и пал одним из первых. Лучшая конница в Европе была расстреляна еще на подходе. Когда она поворачивала уже в расстройстве назад, вслед ей пошли три лавы русской и тяжелой австрийской конницы. Остатки прусской кавалерии в полном беспорядке откатились к Кунерсдорфу.
Фридриху так и не удалось больше бросить пехоту в новую атаку. Отброшенная в очередной раз к Мюльбергу, она бессмысленно топталась там под огнем русских батарей.
Уловив благоприятный момент, Салтыков приказал:
— Петр Александрович, батюшка, пехоте — вперед.
Русские снова пошли в контратаку на Мюльберг.
Генерал Ведель, так же как и король, не могущий примириться с тем, что победа ускользает из державных рук Фридриха, подошел к своему главнокомандующему и повелителю:
— Ваше величество, позвольте ввести в дело кирасир. Со стороны Кугрунда. Русские батареи не смогут ударить по ним массированно, а их пехоту мы сомнем.
— Действуйте, Ведель!
Генерал лично повел кирасир. Железная стена конницы, появившаяся с востока и северо-востока, вырастая на глазах, рвалась к Шпицу. Залпы батарей не успевали за ее перемещениями. К тому же артиллеристы, ориентированные на другие цели, сейчас запаздывали со сменой позиций. Момент стал воистину критическим. Как вдруг — на войне все часто бывает вдруг, особенно если импровизации долговременно планируются и заранее обязательно готовятся — навстречу кирасирам пошла русская кавалерия. Ее возглавил сам Румянцев, доказывавший правильность своего мнения, что латы и ружья в конной атаке лишь мешают, главное — смелость и благородное белое оружие. Стесненные сталью брони и болтающимися за спинами ружьями, кирасиры уступали в стремительности атак коннице Румянцева. Появившаяся кавалерия Лаудона довершила разгром.
Последней надеждой Фридриха были драгуны принца Вюртембургского и гусары генерала Путткаммера. Подстегиваемая своим королем, впадавшим в истерику ярости, прусская кавалерия отчаянно рвалась к Гросс-Шпицбергу. Ей удалось невероятное — она сумела пройти огненную завесу русской артиллерии, растерзать линии стрелков Шпица и прорваться на вершину холма. И это было все, что она достигла. Русская и австрийская пехота в молниеносном бою штыками опрокинула кавалерию, а артиллеристы Гросс-Шпицберга довершили начатое, открыв по отступающим шквальный огонь. Был убит и доблестный Путткаммер.
После этого пруссаки уже не пытались атаковать. Вскоре пехота генерал-поручика Панина загнала пехоту Фридриха на Мюльберг, где многие нашли свой конец, поражаемые артиллерийскими залпами. Начавшееся отступление прусской пехоты превратилось в повальное бегство.
Армия прусского короля не существовала более. Потери до 17 тысяч, масса дезертиров, в строю осталось не более трех тысяч солдат.
Сразу после сражения, когда союзная конница ушла вдогон отступающим, Румянцев объезжал позицию на Гросс-Шпицберге, дабы отдать своим павшим товарищам последний долг. Огибая небольшую проплешину, на которой, судя по количеству неподвижных тел в русских и чужеземных мундирах, разыгралась особенно жаркая рукопашная, генерал наткнулся на сидящего тут же на чьем-то ранце офицера с окровавленной повязкой на лбу, который, несмотря на это, ловко и довольно бодро бинтовал себе левую руку. Его шпага, покрытая засохшей уже кровью, была воткнута в землю. Тут же рядом валялись и пистолеты, Румянцеву раненый показался знакомым. Приглядевшись, он обрадованно воскликнул:
— Ба! Поручик Попов!
Офицер вскинул глаза и, узнав Румянцева, поспешно вскочил:
— Так точно, ваше превосходительство! Капитан Попов к вашим услугам!
— О, поздравляю с капитаном. Ранены, Дмитрий Николаевич?
— Есть немного, Петр Александрович. Саблей да штыком зацепило.
— Серьезно зацепило-то?
— Пустяки, ваше превосходительство! Чтоб на солдате, да не зажило!
— Ну и хорошо. Хочу поблагодарить вас, капитан. Вас и солдат ваших. Славно, вижу, здесь вы сражались. Теперь уж у Фридриха хребет окончательно сломан.
— Пора уж и сломать, господин генерал-поручик. Кой год воюем. Пора уж дело доделать — и по домам.
— Скучаете по дому?
— По России, Петр Александрович. Дома-то ведь у меня и нет. Всю жизнь с отцом по гарнизонам да домам государственным жил. А умер он, и никого у меня не осталось. А по родине скучаю.
— Скоро, я думаю, двинем по домам.
— Ох, ваше превосходительство, хорошо бы. Да вот сомнение меня берет.
— Это в чем же, Дмитрий Николаевич, ваше сомнение?
— А в том, что коли хотели бы мы быстрее окончить кампании эти, то я бы сейчас не сидел здесь, перевязками своими занимаясь, а гнал бы прусса к Берлину! А то ведь опять дадим ему оправиться. Он же у себя дома. Что ему стоит войско заново набрать!
— Так ведь преследуют Фридриха, господин капитан. Или не знаете вы, что союзные части гонят неприятеля?
— Да видел я все. Отсюда сверху хорошо все видать. Только ведь кавалерия вдогон-то пошла. А ведь вы знаете, ваше превосходительство, что пока пехота своим сапогом куда ни ступила, та земля еще не отвоевана.
— Прав ты, Дмитрий Николаевич, во всем прав. Союзничкам хоть кол на голове теши — ну, никак не хотят вперед идти. Норовят нашей кровью земли себе откупить у Фридриха. Но все равно, я уверен, — конец Фридриха не за горами.
— Вашими бы устами, ваше превосходительство. Поживем — увидим.
— Вот именно, капитан. Поживем. Как там говорят в Европах: короткий язык способствует длинной жизни? Не по чину рассуждаешь. С другими остерегись, а то неровен час…
— Не вчера с елки упали, Петр Александрович! С кем же, как не с вами, и поговорить-то? Не с Фермором же. Он, известное дело, как и Апраксин — царствие ему небесное, — все на Петербург глазами косит, вот на противника смотреть и некогда!
— Капитан!
— Слушаюсь, ваше превосходительство!
— Я не слышал, вы не говорили. Твое дело не рассуждать, а исполнять.
— Так точно! Не сомневайтесь, Петр Александрович. Свой долг мы исполним. Они, — Попов показал рукой на убитых солдат, — выполнили его до конца. Ну, и мы постараемся не подвести. Но ведь обидно! За что гибнем-то? За государство и Отчизну! А генералы наши во славу чего нас под пушки прусские подводят? У меня вот, — капитан рванул мундир: рваный шрам уходил от ключицы вниз, — от Цорндорфа мета на всю жизнь осталась! А Гросс-Егерсдорф? Доколе нам опаснее прусских генералов свои будут? Сколько можно на солдатской крови учиться? Ведь солдаты же все видят! Мне стыдно перед ними, ваше превосходительство!
— Мне тоже, капитан. Но не мы командуем армией, не нам и решать. Наше дело — солдатское. Это все, что я могу тебе, Дмитрий Николаевич, сказать. Будем бить врага Отечества нашего, даже имея гири чугунные на обеих ногах. Надо! Если не мы — то кто?
— Понимаю, ваше превосходительство. Сурова ваша правда, да вижу, другой нам не найти. Не беспокойтесь, русский солдат еще никогда не подводил! И не подведет.
Глава III
Армия отдыхала на зимних квартирах; кампания 1759 года кончилась ничем. Опять все сражения, все смерти, вся кровь и пот были списаны одним росчерком пера: австрийцы, никак не желавшие смириться с потерей Силезии, после Кунерсдорфа выдвинули свой план дальнейшего ведения войны, поставивший крест на помыслах Салтыкова добиться окончательной победы в ближайшем будущем. Так что русской армии вновь предстоял зимний постой — в преддверии очередных летних баталий…
Монотонность существования войска, выведенного из лавы битв, не могли развеять немногие радости, коим предавались все, и особенно офицеры, — по чину, по чину!
В один из дней, ближе к вечеру, проспав от нечего делать после плотного обеда аж целых полдня, капитан Попов сидел на скамеечке около дома, где судьба и начальство определили ему постой, и лениво-лениво просматривал явным чудом занесенную сюда книгу, прочитанную к сему моменту не единожды.
Послышалось осторожное покашливание. Попов поднял от книги глаза и увидел перед собой улыбающуюся физиономию секунд-майора Нефедьева, нового своего сослуживца, недавно переведенного в полк.
— Не хотите ли составить компанию, Дмитрий Николаевич? Решил вот, знаете, прогуляться. Вечерний, так сказать, моцион.
— Что ж, можно. Только извольте подождать. Буквально несколько минут: лишь оставлю сей сосуд учености, да экипируюсь соответственно.
— Конечно, конечно. Бога ради!
Капитан зашел в дом, и вскоре два офицера, весело переговариваясь, неторопливо пошли по деревне. Миновав околицу, оказались в поле, вдалеке переходящем в редкий лесок.
И почти сразу же, как только их окружило безмолвие природы, Нефедьев посерьезнел.
— Дмитрий Николаевич, простите, что решаюсь нарушить ваше отдохновение, но я вас не совсем случайно пригласил с собой на прогулку. У меня к вам значительный разговор.
— Я так и понял, Александр Петрович. Слушаю внимательно.
— Прошу вас отнестись к нашему разговору весьма серьезно. От него многое будет зависеть. Включая и ваше благосостояние.
— Александр Петрович, вы меня интригуете.
— Дмитрий Николаевич! Вы человек военный, я — тоже, поэтому не будем ходить вокруг да около. Сразу суть: мы предлагаем вам вступить в наше сообщество.
— Кто это «мы»?
— Братство «вольных каменщиков». Вы слышали о сем братстве?
— Слышал.
— Ну, и как ваше мнение?
— Сначала я хочу послушать вас.
— То есть, я понимаю, вы не в восторге от нашего лестного предложения?
— Лестного?
— Разумеется, Дмитрий Николаевич, разумеется. Лестного и весьма. Сам наследник престола, великий князь Петр Федорович, симпатизирует нам.
— И принадлежит к вам?
— Пока нет, но будет, ибо полностью разделяет наши идеалы.
— И каковы же они?
— Они многообразны. И один из них — нести свет истины. Нести через достойных и строго оберегать от него неискушенных…
— Так, стало быть, мне сей свет знать можно, как я понимаю, коли вы со мной данный разговор повели?
— Конечно, Дмитрий Николаевич! Недаром мы долго присматривались к вам.
— Каким это, простите, образом?
— Различными, драгоценный Дмитрий Николаевич! Вы вот не знаете, но вокруг вас множество наших братьев, с попечительством взирающих окрест.
— Да я из армии — никуда!
— А я и говорю про армию. Или, скажем так, и про армию тоже, поскольку она — наиглавнейший нерв государства, его броня и защита, залог существования и процветания, то нам должно иметь здесь своих людей.
— Для способствования процветанию и существованию или для пресечения оных?
— Откуда сей вопрос, Дмитрий Николаевич? Разве я дал вам хоть малейший повод к подобному умозаключению?
— Нет, конечно, нет. Просто игра ума, логические, так сказать, умозрения. Простите, что отвлек вас. Вы говорили, что присматривались ко мне, так что же вы в конце концов обнаружили?
— Мы обнаружили и то, что сейчас прозвучало в вашем вопросе: здоровое тщеславие и стремление к достижению большего. Плюс способности к достижению сего большего: независимость ума, воля, храбрость, умение приказывать и подчиняться. Поверьте, подобное сочетание редко. Крайне редко. Нам приходится иметь дело с несовершенной человеческой природой, постепенно поднимая ее до высот, необходимых нам для вашего дела. И поэтому такой человек, как вы, почти идеален для нас и крайне нам нужен.
— Вы так говорите всем?
— Нет. Я понимаю, что вы имеете в виду. Да, мы играем на струнах души. Впрочем, как и все разумные люди в общении с другими, но играем более тонко и осторожно. И, разумеется, в первоначальных разговорах, а со многими и в дальнейшем, мы говорим так, чтобы быть приятными собеседнику, подчеркивая его лучшие качества — даже при их полном отсутствии.
— Откуда такая откровенность?
— Сие тоже игра! Но более высокой ступени. Я говорю все это вам в расчете на ваш разум — умному человеку более всего льстит, когда за ним признают эту его способность.
— И вы говорите это мне, обращаемому? Так что же здесь правда, а что нет?
— Вы ставите вопрос слишком лобово. Где же ваша страсть к тонким логическим умозрениям и игре ума? То, что я вам сейчас сказал, это и правда, и ложь. Но сии понятия нельзя расчленять, так же как не отделить свет от тьмы. Они наличествуют лишь благодаря своему единству и взаимодополнению. Нельзя сравнить их с чем-либо иным, а только лишь со своей кажущейся противоположностью. Но именно благодаря своей неразрывности, как я только что сказал, противоположность сия кажущаяся. Так и в ответе на ваш вопрос: все будет зависеть от вас — как вы отнесетесь к нашему разговору. Если поймете, что вы — наш, тогда все сказанное станет правдой, и я действительно искренним образом взывал к вашему разуму и добился отклика. Если же нет — то были всего лишь ложь и игра: в силу отсутствия у вас необходимых задатков я не нашел отклика. И тогда получается, что я лишь грубо льстил, а вы с удовольствием сему внимали.
— Вы ставите меня в трудное положение: либо я признаю себя дураком, либо «вольным каменщиком». Согласитесь, что сие обидно.
— Обидно признать себя принадлежащим к нашему братству?
— Обидно лишиться возможности выбора. Ведь тем самым я как бы признаю отсутствие у себя того самого разума — поскольку решаю не я, а за меня — о котором вы только что так хорошо говорили и к которому так горячо взывали.
— Простите, Дмитрий Николаевич, что прерву ваш силлогизм, но не кажется ли вам, что разум, проявляется и, наверное, прежде всего в умении приспособиться к обстоятельствам и приспособить обстоятельства к себе, а не ломиться в открытую дверь. Так что противоречия я здесь не вижу. И уж если мы заговорили здесь о возможности выбора и разумности решений, то позвольте подбросить еще одно полешко в костерок ваших умозаключений. Наше общество, как вы должны знать, коли слыхали о нас, свято хранит свои тайны. Знали о сем?
— Не знал, но догадывался, ибо общаясь с тема немногими, коих я, наверное, знал за ваших собратьев, в разговорах с ними я натыкался, доходя до определенной степени, на каменное молчание, прикрываемое гримасами любезности и потоками словоблудия.
— Совершенно верно по сути, хотя мне и не нравится ваши тон и слова, подбираемые для выражений сей своей мысли. Так вот, у нас существуют свои маленькие тайны, которые мы истово храним, ибо сказано еще задолго до нас: «Не мечите бисер перед свиньями». И за раскрытие этих наших маленьких секретов с болтунов мы спрашиваем весьма строго.
— То есть, если не сумеете меня уговорить, то вы хотите сказать, что вас накажут за разговоры со мной?
— Нет, любезный Дмитрий Николаевич, все несколько не так. На разговор с вами я получил разрешение орденских начальников…
— Но хотите ли вы сказать, что меня…
— Совершенно верно. Вы теперь наш, поскольку вам раскрыты наши тайны, и в случае если вы не захотите сие осознать и не примкнете к нам, то…
— То что?
— Способы воздействовать на человека весьма разнообразны. Вы вот не имеете семьи, а представьте, каково имеющему ее, когда он сознает, что от его благоразумия зависят благосостояние домочадцев и сама их жизнь?
— Вы что — способны убивать женщин и детей?
— Ну, зачем вы так? Ведь умирают не только от пули, кинжала или яда, но и от голода, болезней, от безысходности и бесчестия. И, кстати, возвращаясь к вашему вопросу. Вы человек военный и, как я понимаю, смерти не боитесь?
— Совершенно верно, милостивый государь!
— Я собственно, так и думал. Семьи у вас нет.
— Впервые скажу: к счастью!
— Ну, ну. Но все равно: неуязвимых, драгоценный Дмитрий Николаевич, людей нет. Вы ведь дорожите мнением своих товарищей и общества. Что вы скажете я что сделаете, ежели общество признает вас бесчестным человеком?
— Это каким образом?
— Самым наипростейшим. Общий слух о мелкой воровстве, карточном бесчестье, растлении малолетних ли, например, содомии. И слух сей подкрепляется свидетельством лиц, знаемых с лучшей стороны.
— Ваших братьев?
— Разумеется. Или еще такой вариант. Вы молоды, здоровы, сильны, жаждете деятельности. Но вдруг приключается с вами болезнь, и вы — только что в расцвете сил и надежд — на долгие годы приковываетесь к постели, медленно угасая. По существу — живой, все чувствующий, понимающий, все желающий труп.
— Сильно.
— Есть и другие способы. Но, может быть, и сих достаточно?
— Вполне. И что, вы всех так к себе привлекаете? Но ведь разумный, чувствующий человек — а вы говорили, что желаете иметь у себя прежде всего и только таких — из-под палки действует плохо.
— Совершенно с вами согласен. Право, приятно говорить с вами — редко удается потешить себя достойной беседой. Но мы ведь не варвары, мы взяли у прошлых поколений все заслуживающее — на наш взгляд — внимания. Вы слыхали выражение «кнутом и пряником»?
— Понятно…
— Ну, вот видите. Не желающего поначалу идти нам приходится подталкивать, желающему же мы даем богатый выбор наград за исполнительность. В смысле удовлетворения его хотений. Наш только что окончившийся разговор о принуждении обратите в противоположность и примените к поощрениям. Наши силы велики, и мы можем дать человеку многое.
— Вы только что угрожали смертью. Что ей противоположно — бессмертие?
— Вы шутите, я бы сказал, глумливо над сим предметом. Но рассмотрим вопрос философически: бессмертие — это память людская, как забвение — смерть. И сие в нашей власти. Что же касается точного ответа на ваш вопрос, то вот вам ответ: мы стремимся к этому. И дабы вы окончательно поняли, что дороги назад для вас нет и смирились с новой своей судьбой, я открою вам то, что говорят братьям лишь после долгих лет искуса. Так вот, цель наша — стать богочеловеками. Во всем. И наши учителя работают над этим. Работают долго и много. И день окончания работы наступит!
— И кто же эти учителя?
— Этого я сказать не могу.
— Не знаете? Даже вы?
— Знаю.
— Хорошо, может быть, со временем я заслужу вашу откровенность.
— Это не моя тайна.
— Понятно. Разные тайны для разноприобщенных. Ну, хорошо. Ответьте на иной вопрос.
— С удовольствием.
— Вот мы говорили с вами о великом князе, и вы упомянули, что он приемлет вас и ваши цели.
— Сие так.
— Почему же тогда он не стал до сих пор вашим? Или даже не так. Он, может быть, колеблется, как и я, но поскольку он вам более нужен, вы хотите его не силой, а лаской…
— Сие не так.
— Что «не так?» Стало быть, он хочет, а ему препятствуют? Кто же может препятствовать великому князю? Императрица? Молчите? Значит, действительно императрица. Что ж, ее можно понять, ибо сейчас я буду думать как бы от ее лица, а вы попытайтесь разрешить мои сомнения.
— При чем здесь императрица?
— Не при чем. Сии мысли могут прийти в голову и Петру Федоровичу. Для этого надо лишь немного подумать. И ему, как и Елизавете Петровне, это легче, чем нам, ибо мы маленькие люди, испокон веков подчиняемся стоящим над нами, а венценосцам надлежит отчитываться в делах своих лишь пред всевышним. И вот как думает венценосец: я правлю державой, меня призывают вступить в «вольные каменщики». Ну, для начала и название для меня, миропомазанника, не ахти, да бог с ним, с названием. Это можно и пережить. Я вступаю в орден, и что же? Для меня есть два пути. Или мне раскрывают все тайны и я становлюсь во главе общества, или я не буду там первым. Но как я могу подчиняться кому-то? Я, монарх? А вдруг мне прикажут нечто идущее вразрез с чаяниями моего народа, моей страны? Значит, останется лишь первый путь. Я вступаю — и мне раскрывают все тайны. Опять же тут два пути: идеалы братства, сиречь ордена, совпадают с тем, что нужно мне и моему народу, тогда зачем тайны? Или, наоборот, цели каменщицкие не те, которыми живет и за которые умирает народ в моей стране. Тогда орден опасен и не имеет права на существование. И последнее. Поскольку императрица против вашей деятельности — она что-то знает. Великий князь не у вас, и вы прекрасно без него обходитесь. Из сего — неучастия в братстве венценосных персон — следует единственное умозаключение…
— Какое?
— Что правители ваши — вне пределов России?
— Это вопрос?
— Да.
— Ну что же, вы правы в своих размышлениях. И я с удовольствием их сейчас выслушал. Что же до наших орденских начальников — они действительно не в России.
— А где, если не секрет?
— В Германии, Швеции, Франции, Англии.
— Что, у вас так много начальников или кто-то управляет и ими?
— На сие я ответить не могу.
— Не можете или не хотите?
— Не могу.
— Вот как. Вы, открывающий мне тайны, но не говорящий, чего же вы с вашим орденом жаждете, теперь отказываетесь сказать, кто же управляет вами, мне, которого вы собираетесь сделать своим! А вступив, я узнаю о них?
— Не сразу.
— Стало быть, и по вступлении мне нельзя будет знать ваши стремления и ваших вождей — до тех пор, пока вы не обтешете меня по своему образу и подобию и от меня останется лишь оболочка, наполненная вами.
— Да! И горе сопротивляющемуся.
— Чего же вы хотите? Власти над нами? Власти — вам, уже проникшим в Европу? Значит, власти над миром? Власти над телами и душами людей? Вы опасны и…
— И что?
— Нет, к вам нельзя примыкать, ибо это значит поддаться чувству малодушия, страха, восхотеть теплого стойла и полной кормушки… Но человек не скотина. Он хочет жить собственной совестью, волей и разумом. Он хочет уважать себя. А став одним из вас, сего будет сделать уже невозможно. Вот вы говорили о единстве и равновеликости правды и лжи, света и тьмы. Но ни слова о добре и зле…
— Можно и о сем предмете…
— Не утруждайтесь. Я догадываюсь, что вы скажете. Но ведь это не так. Существует лишь добро, зло же возможно лишь при соотношении с ним. Зло само по себе — пустота, искривленное добро. Вы и есть это искривленное ничто, примазывающееся к настоящей жизни, пытающееся запутать и извратить все хорошее, разумеется, во имя еще более лучшего, но… определенного вами. Нет, с вами нельзя иметь никаких дел. С вами можно только драться!
— Драться? Что можете вы, одиночка, против нас, спаянных единой волей и беспрекословным подчинением, играющим на всех струнах душ человеческих — от ужаса до вожделений?
— Так ведь нас много, одиночек. Собственно, только мы и есть. Нам главное понять сие. Вы же — лишь омелы на деревьях, наросты-паразиты.
— Наросты могут и задушить дерево!
— Да! Если их не удалить.
— Это ваше последнее слово?
— В каком смысле?
— Вам больше нечего мне сказать?
— Нечего.
— Но вы больше ничего и не сможете сказать. Некому!
Нефедьев протяжно свистнул. Тотчас из-за кустов выскочили двое с ружьями и начали целиться в Попова. Капитан успел схватить своего многочасового оппонента за шиворот и поставить между собой и стрелявшими. Раздались два выстрела, и секунд-майор, даже не охнув, начал валиться на землю. Выпустив из рук отяжелевшее тело, Попов бросился на стрелявших, на ходу выхватывая шпагу из ножен и не давая им времени заново зарядить ружья.
Капитану повезло — ружья у его противников были без штыков, и поэтому они могли действовать ими лишь как дубинками. Уклонившись от удара, Попов нанес укол, сразу уложивший одного из нападавших. Второй бросился было бежать, но скоро и он сунулся лицом в траву, пораженный под левую лопатку.
Попов вернулся к Нефедьеву. В открытых глазах секунд-майора отражалась луна. Капитан наклонился над лежащим и расстегнул мундир, однако никаких бумаг при Нефедьеве не оказалось. Подняв платок, выпавший из кармана секунд-майора, Попов обтер им свою шпагу. Прислушался. Кругом стояла глухая, какая-то ватная тишина…
Убрав шпагу в ножны, Попов спокойно, не торопясь возвратился в деревню.
В 1760 году заболевший генерал-фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, получивший этот высший воинский чин за Кунерсдорфскую викторию, был заменен генерал-фельдмаршалом Александром Борисовичем Бутурлиным, одним из первых фаворитов Елизаветы.
Приблизительно в это время корпусом русских войск под командованием генерала Захара Чернышева был осуществлен набег на Берлин.
Уже пятый год в Европе шла война. Никто не знал еще, что она войдет в историю под названием Семилетней, и поэтому каждый наступающий год казался последним.
Пруссия в это время впервые выходила на европейскую авансцену, демонстрируя всем свои молодые и хищные зубки. Континентальные монархии, кичившиеся своей многовековой традицией имперской государственности, чувствовали это на себе: прусский государь Фридрих II в этой войне периодически их жестко бил.
А от России он терпел поражения, поначалу недооценив ее, а потом уже и будучи не в силах что-либо противопоставить ей. Держался Фридрих пока лишь на постоянно углубляющихся разногласиях союзников, связанных между собой деловым взаимовыгодным партнерством.
Прусская крепость Кольберг, расположившаяся на берегу Балтийского моря в Померании, была поистине ключевой, ибо ее гавань могла быть использована в качестве базы для снабжения русской армии. Фридрих понимал значение крепости, понимал это и русский генералитет, купно с «Конференцией» и самой императрицей.
Две осады — осенью 1758 года под руководством генерала Пальменбаха и в конце лета 1760 года под командованием адмирала Мишукова — победительных лавров русским не принесли. Теперь наступило время очередной осады.
План петербургской «Конференции» на 1761 год отводил взятию Кольберга особое место. Предполагалось создание специального корпуса, по сути — отдельной армии.
Новому главнокомандующему был сделан запрос относительно оценки им деловых качеств своих подчиненных. Фельдмаршал Бутурлин, памятуя, что, хваля собственных подчиненных, ты, вероятнее всего, создаешь сам себе будущих конкурентов, весьма осторожно отозвался о вверенных ему генералах, подчеркнув при этом четко и недвусмысленно, что единый дельный стратег во всей армии — это он сам.
Однако члены «Конференции», зная его хорошо еще по предшествующим деяниям и баталиям, позволили себе в этом усомниться и предложили фельдмаршалу назначить командиром корпуса уже известного своими предшествующими викториями генерал-поручика Румянцева. Бутурлин по мере возможности пооттягивал это назначение, но наконец оно все же стало свершившимся фактом.
Отныне брать Кольберг надлежало Петру Румянцеву…
Главнокомандующий составил своему подчиненному подробную инструкцию, как вершить сие, которую и проборматывал сейчас Румянцев, поглядывая в текст, лежащий перед ним, и выражая вслух и про себя свое отношение к фельдмаршалу:
— …Так, значит, надлежит мне по установлению связи с флотом к самому Кольбергу идти, столь паче, что когда флот приблизится, надо мне с моим корпусом там быть и гаванью завладеть, дабы перевоз с флота людей и артиллерии не столь труден был. Тьфу, Анибал еще один уродился — мало нам карфагенского, так теперь еще и гиперборейский свои стратагемы разрабатывает! Флот мне, понимаешь, только везет треть живой силы и всю осадную артиллерию, а я ему уже должен гаванью, то есть, попросту говоря, самим Кольбергом завладеть! Зачем мне тогда этот флот? Стратег! Полка бы не дал! Ну, да бог с ним — пусть тешится бумажками своими. Посмотрим лучше, что я тут сам нацарапал предварительно…
Командир корпуса достал из сумки пачку бумаг — свою инструкцию корпусу, свой устав, который он сочинял с зимы, как только ему стало известно, что крепость на этот раз решено брать во что бы то ни стало, и брать, по всей видимости, предстоит ему. Теперь на дворе уже май, и лишь сейчас, смирившийся с подобной конфузной для его военных талантов несправедливостью, Бутурлин официально проинформировал его о сем назначении. Но, говорят, нет худа без добра: у Румянцева было время подумать, о чем наглядно свидетельствовало своим солидным видом его «Учреждение» — своего рода Устав.
— Ага, вот: единые правила несения строевой и караульной служб, порядок марша, лагерного расположения полков. Вот и план захвата — карты, смею надеяться, недаром изучались. Что же касается высокоумных планов господина фельдмаршала, то пусть он меня простит, но надлежит на них, по моему скромному разумению, незначительнейшего Петрушки Александрова, сына Румянцева, наплевать и забыть!
Фельдмаршал ответил подобной же любезностью: все рапорты Румянцева о своевременной передаче под его начало определенных под Кольберг войск ни к чему не привели, и его буквально выпихнули в Померанию с половинным составом и заверением, что остальное будет направлено в его распоряжение при первой же возможности.
Сия возможность предоставилась, по мнению главнокомандующего, лишь через три месяца; до этого же осаждаемые превосходили русский корпус в полтора раза, не говоря уже об артиллерии, которой до подхода августовского морского десанта Румянцев почти вовсе не имел.
Еще на марше командир корпуса наладил сторожевую службу, создал сеть магазинов, заложив в них достаточные запасы продовольствия и снаряжения, те есть всячески укреплял свой тыл, не желая в дальнейшем неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент и памятуя, что где тонко, там и рвется. Он же плел свою сеть везде крепко, твердо надеясь, что она не прорвется и уж кто в нее попадет — не вырвется.
В августе, сосредоточив в своем укрепленном лагере Альт-Бельц все предусмотренные ему по штату войска, он прежде всего занялся их обучением, поскольку еще сразу же по принятии командования над корпусом понял, что без этого ему ничего ее добиться, настолько плоха подготовка солдат.
Для начала он разбил свой корпус на бригады, в составе двух полков пехоты и батальона отборной пехоты — гренадер, создав его из отдельных гренадерских рот, бывших при каждом полку, сформировал особые легкие батальоны из охотников для действий в лесах и для поддержки операций легкой конницы — прообраз будущих знаменитых егерей, красы и гордости русской армии на долгие годы и десятилетия.
Дабы не отвлекать основную массу солдат от наиважнейшего, по его мнению, дела — военной учебы, Румянцев создает «штабной батальон» и «штабной эскадрон» для несения нарядов, организует бесперебойное снабжение, бывшее до этого всегда ахиллесовой пятой русской армии. После чего с чистой душой призвал к себе старого своего друга еще по Кадетскому корпусу, а ныне находящегося в его корпусе и подчинении генерал-майора Еропкина.
— Садитесь, Петр Дмитриевич.
— Благодарю, ваше высокопревосходительство.
— Вы забыли мое имя, господин генерал-майор?
— Нет, Петр Александрович, просто…
— Вот и прекрасно. Мы с вами не на параде и не на плацу, Петр Дмитриевич. Почел бы за честь быть с вами на «ты», сейчас же считаю сие излишним. А ваше мнение по сему предмету?
— Совершенно согласен с вами, Петр Александрович.
— Благодарю. Всегда приятно обнаружить в подчиненном единомышленника. Что до официальщины, то мне она, тезка, не нужна. Да и знаем мы друг друга достаточно долго, дабы обойтись без нее. Так что с сим вопросом покончим отныне и навсегда и перейдем к делам настоящим.
— Слушаю вас.
— Так вот, Петр Дмитриевич, вызвал я вас по сугубо важному и серьезному вопросу. Вы, думаю, поняли, что части вверенного моему командованию корпуса я переорганизовывал не из одного лишь суетного желания прикрыть одну заплату другой. Смею надеяться, вы поняли, что делалось сие с целью получить единые, не слишком громоздкие отряды войск наших, кои легко обучить необходимому для военного дела. Теперь они сформированы, отныне их надлежит обучать. И обучение оное я намерен возложить на вас, Петр Дмитриевич!
— Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Почту за честь.
— Пусть вас не смущает некоторая несвоевременность сего. Она кажущаяся.
— Петр Александрович, меня смущает не это. Насущность вашего решения я отлично понимаю. Стоит только посмотреть на наше войско, как всякое сомнение отпадает. Меня тревожат сроки. Уже август. Хватит ли у нас времени до зимы и обучить наших солдат, и с ними, обученными, взять Кольберг?
— Ничего. Петр Дмитриевич, на войне люди учатся быстрее. И насчет зимы не беспокойтесь — Кольберг будет взят!
— Но кто же воюет зимой?
— Мы будем воевать. Разбаловались — в стародавние времена, когда ставкой на кону была держава, сие не служило препятствием. Как вы помните, Невский любил воевать именно зимой — мечи звонче на морозе. Так и мы будем воевать и зимой, и летом. При достаточной организации всех служб погода не так уж я страшна. Она прежде всего пугает военачальников-разгильдяев, которые привыкли, что их войско спит под кустом и жует то, что у селянина из грядки вытащит.
Обучение, тут же и начавшееся, шло скоро и успешно, если не считать досадных помех, которые создавали пруссаки.
Фридрих, справедливо решивший, что коли за осаду взялся Румянцев, то не грех будет и усилить своя войска в районе Кольберга, послал своего кавалерийского генерала фон Вернера, укрепленного артиллерией, к крепости.
Гусары Вернера ударили по казачьему полку, расположенному в деревне Фархмине. Но разведка вовремя донесла о движении пруссаков, и командир полка имел время прикинуть, что нужно, и наметить диспозицию, которую он и изложил командирам своих сотен кратко и энергично:
— Пруссак — дурак. Он думает, что мы его в деревне этой чертовой ждать будем. Дулю им! Хлопцы! Оставим им тут — чтоб не огорчались — душ тридцать, а сами — по сторонам. А когда они пройдут — тут уж не зевай!
Темные казаки нехорошо, не по-европейски обошлись с образованным генералом фон Вернером. Его тщательно подготовленный и любовно исполненный массированный удар пришелся по тридцатисабельному отряду, начавшему паническое бегство перед непобедимыми гусарами. Увлекшись, Вернер забыл, что у него, как и у всех прочих воинских частей, существуют, кроме фронта, еще и тыл, и фланги. Казаки напомнили ему об этом. Вернер был обращен в бегство, которое ускорил непосредственно сам Румянцев, приведший подкрепление. Взяли много пленных, в числе коих был и сам генерал. Этому весьма содействовал отряд полковника Бибикова, состоящий из драгун, казаков и двух батальонов пехоты. Именно Бибиков, брошенный Румянцевым вдогон Вернеру, настиг пруссаков в Трептове, окружил и наголову разбил. Здесь впервые было применено новшество, коему Еропкин по прямому указанию командира корпуса обучал солдат — гренадеры Бибикова атаковали Вернера не линией, а глубоко эшелонированной батальонной колонной.
Вернер рвался на помощь принцу Вюртембергскому по приказу которого еще в июне линия обороны города была вынесена вперед на одну-две версты, и сама крепость Кольберг осталась лишь цитаделью в глубине укрепленного лагеря.
Линия обороны лагеря корпуса принца проходила по высотам севернее и западнее деревень Буленвинкель и Некнин и упиралась левым флангом в море, а правым — в реку Персанту. На этих высотах были вырыты укрепления — Фридрих больше уже не верил в некомпетентность и разгильдяйство противника.
Действия корпуса Румянцева затрудняло то, что промежутки между этими укреплениями представляли собой болотистые низины, прикрытые специально устроенными затопляемыми районами и засеками. Юго-восточнее Буленвинкеля пруссаки расположили сильное передовое укрепление, западнее Некнина — другое. Кроме того, до последних дней корпуса Вернера и Платена прикрывали подходы к Кольбергу с востока. Теперь одного из этих нависающих над русским тылом корпусов не существовало, но оставался еще Шатен, имевший под своим началом четырнадцать батальонов пехоты, двадцать пять эскадронов драгун и тридцать — гусар. Это была сила, способная изменить ход военных событий.
А тут еще этот пустослов де Молин, инженер-полковник, рекомендованный самим его высокопревосходительством господином фельдмаршалом Бутурлиным! Воистину все, что советовал и рекомендовал сей военачальник, — негодно! Его, де Молина, план осады, с похвальной оперативностью составленный, оказался настолько странен, что Румянцев поначалу поперхнулся от изумления.
— Господин инженер-полковник, — наконец заговорил командир корпуса, — что сие значит? Сей план ваш… Как я мог понять из него, он требует от нас применять при осаде то, чем мы не располагаем и, судя по оторванности нашей от Отечества, располагать не будем. Вам сие ведомо?
— Ведомо, ваше превосходительство. Согласно науке…
— Грош цена той науке, коя объявляет матерью своей талмудическую схоластику! От вас требовалась не теория — я и мои генералы знаем, что означает сие понятие, — а реальное дело. Каковы ваши практические соображения?
— При существующем положении дел, ваше высокопревосходительство, взятие крепости есть дело весьма сложное!
— Благодарю вас за чрезвычайно ценное и тонкое замечание, господин инженер-полковник! Как я понимаю, окромя сего вам добавить уже более нечего?
— Увы, ваше высокопревосходительство… Конечно, со временем…
— Времени у вас было достаточно — никто не торопил. Но уж коли вы сами поторопились представить этот план — значит, времени вам больше не потребовалось. Так что отныне я буду лишен удовольствия и счастья беседовать со столь умудренным различными знаниями и науками — сиречь с вами — на столь захватывающие темы! Конечно, я понимаю, что полковник Гербель ни в коей мере не сможет заменить мне вас, мужа столь могучей и дерзкой образованности, не я заранее мирюсь с подобным прискорбным обстоятельством. Сам, будучи человеком необразованным я темным, я не буду чувствовать себя рядом с ним уж полным неучем. Вас же, господин инженер-полковник, отныне не задерживаю.
Вскоре после этого разговора Гербель представил новый план, который и был принят Румянцевым с некоторыми поправками.
19 августа русский корпус двинулся к Кольбергу. Тогда же флот вице-адмирала Полянского подверг трехдневной бомбардировке береговые батареи крепости.
Румянцев подступил к лагерю принца Вюртембергского, В помощь армии Полянский бросил двухтысячный десант под командованием Свиридова. Тут-то и пытался генерал фон Вернер перехватить у Румянцева инициативу.
Но фортуна благоволила русским: предпринятая пруссаками атака была сорвана.
Как раз в эти дни активизировался Платен. Доселе, согласно приказу Фридриха, он уничтожал русские коммуникации в Польше — на пути от Познани к Бреславлю — разбивал магазины и транспорты. Теперь он своим движением к Висле угрожал отрезать корпус Румянцева от главных сил русской армии.
В тылу пруссаков действовала легкая конница русских под началом Берга, заменившего на этом посту Тотлебена, недавно арестованного за шпионаж в пользу Фридриха. Но удачно пока действовал лишь один подполковник Александр Суворов, все основные же силы Берга собирались обрушиться на Платена, упорно шедшего к Кольбергу. Вдогон Платену Бутурлин, кроме Берга, послал дивизию князя Долгорукова, но она отставала от пруссаков на два-три перехода.
В середине сентября Платен захватывает Керлин. Румянцев посылает Долгорукову приказ:
— Наступать на Керлин!
Такой же приказ получает командир отряда Минстер. Сам Румянцев с полком пехоты поспешил следом за Минстером.
Казалось, Платен, попавший в такие клещи, будет раздавлен, но все получилось иначе.
— Ваше превосходительство, — доложил командир разведки Долгорукову, — прусс стоит лагерем под Керлином. Судя по кострам — намеревается заночевать!
— Хорошо, капитан. Свободны. Вот видите, господа, — обратился командир дивизии к полковым командирам, — мы и догнали сего неугомонного Платена. А завтра с утречка навалимся на него — только пыль и останется!
— Так точно! — дружно согласились офицеры.
Наутро их всех ждало горькое разочарование — Платен, разложив лагерные костры, не остался ночевать, а ушел на соединение с корпусом принца Вюртембергского. Принц ударил по блокирующим его русским частям. Румянцев был вынужден повернуть назад, но Платен успел прорваться в лагерь.
Общее количество осаждаемых, состоящее доселе из двенадцати тысяч корпуса Вюртембергского и четырех тысяч непосредственно гарнизона, увеличилось еще на десять тысяч. Положение для Румянцева сделалось угрожающим, несмотря на то что дивизия Долгорукова к нему все же подошла и влилась в его корпус. Однако численный перевес был на стороне пруссаков, сидевших к тому же за стенами сильных долговременных укреплений.
Именно об этом сразу же зашел разговор, когда Румянцев собрал генералов на Военный совет.
— Господин генерал-поручик! — начал один из ближайших помощников Румянцева по осадному корпусу Леонтьев, сам по чину генерал-поручик. — Военный совет единодушно считает, что при данном положении дел, то есть после воссоединения Платена с корпусом принца Вюртембергского и гарнизоном полковника Гейде, дальнейшая осада нецелесообразна и даже опасна!
Леонтьев обвел взглядом собравшихся. Отовсюду ему одобрительно кивали. Румянцев, не поднимая глаз, глухо спросил:
— Ваши доводы, ваше превосходительство?
— Извольте, ваше высокопревосходительство. Доводы таковы: главнокомандующий господин фельдмаршал Бутурлин, кроме дивизии присутствующего здесь господина генерала князя Долгорукова, подкреплений ведь нам более не выделяет?
— Вы забыли легкую конницу Берга…
— Ваше превосходительство! Сия легкая конница не могла догнать пехоту Платена! К тому же при нашем положении осаждающих нам более, нежели кавалерия, уместна и надобна пехота!
— Кавалериста можно спешить.
— Это не значит сделать из него в сей же миг пехотинца. Ваши собственные деяния по обучению вверенных вам войск как раз свидетельствуют именно об этом.
— Вы забываете, еще одну мою мысль, столь же неустанно мною повторяемую: война учит быстро.
— Но…
— Господин генерал-поручик, оставим пока этот спор — он ни о чем: все равно кроме Берга ничего иного у нас нет.
— Именно об этом я и говорю.
— Я понял вашу мысль. Продолжайте.
— Хорошо. Далее: флот, по условиям погоды, скоро уйдет, тем самым деблокировав Кольберг с моря, что позволит подвозить пруссакам припасы.
Румянцев быстро вскинул на Леонтьева глаза. Тот, не отводя взгляда от лица командующего, продолжал:
— Я не говорю уже о соотношении сил. Просто хочу напомнить вашему превосходительству о рескрипте высокой Конференции относительно того, что паки произойдет нечаянное соединение Платена с защищающими Кольберг, нам надлежит отходить.
— Это все?
— Нет, не все, — вмешался Еропкин, последние минуты ерзавший от нетерпеливого желания вставить слово. — Противник, ваше высокопревосходительство, обладая преимуществом в кавалерии, восстановил связь со Штеттином, откуда черпает ноне припасы. А наш подвоз затруднен недостатком транспорта.
— И еще, господин генерал-поручик, — подал голос бригадир Брандт, — скоро зима, у нас уже много больных…
— Надо отходить, — опять загорячился Еропкин.
— Ваше превосходительство, — с бешенством процедил Румянцев, — я просил вас высказывать доводы, а не советы. Принимать решение буду я сам. У вас все, господа?
Члены Военного совета молчали.
— Ну, что ж, господа, отвечу вам. Да, вы правы, неприятель превосходит нас числом, и он в укреплениях. Но ведь никто и не предлагает немедленный штурм! Речь идет об осаде. Прошу также не забывать, что припасов в Кольберге не так уж и много, в скоро неприятель будет испытывать недостаток в продовольствии и фураже. Зима ведь не только прогонит наш флот от Кольберга, она не даст возможности подойти и кораблям противника. Что же касается подвоза из Штеттина, то мы при помощи господина Берга в состоянии прекратить подобные сообщения. Мы осаждаем, и у нас больше возможности маневра. О нашем снабжении. Кроме подвоза, кроме наших магазинов, надо налаживать реквизиции. Война затрагивает всех, включая и тех, на чьей земле она ведется.
— А холода, — снова заговорил Брандт, — как быть с холодами?
— Будем готовиться к ним. Я уже говорил как-то генерал-майору Еропкину, что война — не карнавал, не парад и не маневры. Она не должна зависеть от того, есть ли на небе солнце или идет дождь.
— А как быть с рескриптом, ваше высокопревосходительство? — со значением напомнил свой аргумент и Леонтьев.
— Господин генерал-поручик, рескрипты ее величества говорят об одном: России нужна победа. Мы к противнику ближе и видим его более, так что не грех нам самим принять решение.
Леонтьев побагровел.
— И последнее, господа. Ведя осаду, мы ослабляем на основном фронте Фридриха и тем самым помогаем нашей главной армии. Я решил, господа, продолжать осаду. Мы слишком долго здесь пробыли и слишком много затратили сил, дабы после всего этого отступить ни с чем. Осада будет продолжаться, и крепость будет взята! Несмотря на все и всяческие противодействия — как со стороны противника, так и со стороны своих маловеров. Я призываю вас, господа, выполнять свой долг. Мы — солдаты, а, стало быть, должны сражаться и побеждать! Для этого мы и нужны России. Все свободны, господа. Спокойной ночи.
На следующий день активные участники спора, продумав свою позицию за ночь, подали Румянцеву рапорты с прошением об отпусках по болезни. Румянцев хмыкнул:
— Насильно мил не будешь.
И подписал. В таком деле сомневающийся помощник — не помощник. Теперь его всерьез волновало лишь одно — отношение Конференции и главнокомандующего к его самоволию. Он не стал на совете смущать умы своих подчиненных этими своими раздумьями, но про себя передумал о сем предмете предостаточно.
Некоторое время спустя он с удовлетворением зачитал оставшимся генералам очередной рескрипт на свое имя:
— «…Службу вашу не с тем отправляете, чтоб только простой долг исполнить, но паче о том ревнуете, чтоб имя ваше и заслуги сделать незабвенными». Все ясно, господа совет? Нашу настойчивость осадную, — Румянцев щедро делился единоличным решением сейчас со всеми, хотя на том совете и был в полном одиночестве, — одобряют. И поддерживают. Надеюсь, что более из нас, оставшихся, никто отныне не занедужит и что это успокоит тех, кто боялся державного гнева за выполнение долга своего. И заставит всех сделать все возможное, дабы оценка верховная наших ратных заслуг не пропала втуне! За работу, господа!
Легкая конница Берга вовсю тревожила пруссаков, постепенно отбирая у них контроль над жизненно важной артерией Кольберг — Штеттин.
В начале октября Берг у деревни Вейсенштейн разбил наголову отряд прусского майора Подчарли, пленив при этом и самого майора.
На подмогу Подчарли шел отряд де Корбиера. Увидев, что нужда в его подмоге уже отпала, Корбиер пытался отойти и избегнуть поражения. Но Суворов, подполковник конницы Берга, настиг его с эскадроном сербских гусар.
Платен попытался уйти из крепости. Румянцев вынудил прусского генерала к ретираде. Поначалу Платен отошел к Трептову, а затем начал движение на Гольнау, выдвинув арьергардом сильный отряд Корбиера.
Авангард этот Берг атаковал у самого Гольнау на открытой равнинной местности, раскисшей после ливней. Заболоченность, затруднившая наступление тяжелой русской кавалерии, позволила пруссакам заблаговременно приготовиться и открыть по наступающим огонь картечью. Построившиеся в каре прусские пехотинцы в подкрепление своей артиллерии давали залп за залпом, но русские шли прямо на свинцовый дождь и первой же атакой опрокинули каре.
Корбиер попытался спасти ситуацию, введя в дело кавалерию, но ему снова помешал Суворов, выведший своих гусар навстречу неприятельской лаве. Пруссаки были опрокинуты.
— Господин генерал, позвольте наказать этих дерзких русских. Всего несколько эскадронов драгун — и с ними будет покончено, — умоляли Платена его офицеры.
— Запрещаю, — отвечал Платен. — Если мы сейчас ввяжемся в бой, то на нас нападет Румянцев! Вы этого хотите? На войне случается, что нужно пожертвовать частью, дабы спасти все!
Платен недолго пробыл в крепости. Подошедший Фермор подверг Гольнау двухчасовой бомбардировке, но не решился на штурм из-за якобы чрезмерной укрепленности Гольнау и позволил пруссакам отойти.
Прусский командир — от греха подальше — перенес свой основной лагерь поглубже в лес, приказав все же закрепиться в крепости гарнизону, прикрываемому несколькими батальонами пехоты с приданными кавалерией и артиллерией. Прикрытие расположилось на мосту, ведущем из Гольнау. По приказу Берга Суворов с гренадерским батальоном смел всех этих прикрывающих, ворвался, взломав ворота, в крепость и, выбив оттуда гарнизон, гнал неприятеля до лагеря Платена.
Платен почел за лучшее отступить.
Осадный корпус в эти дни тоже не дремал. Румянцев оставил для сдерживания наступательных амбиций принца Вюртембергского пехоту Долгорукова, посла чего перешел на западный берег Персанты и принялся громить прусские посты. Расправившись с оными, русские войска двинулись к Трептову — выкуривать генерал-майора Кноблоха, отряд которого был направлен туда принцем Вюртембергским — для облегчения положения Платена.
Платен же, отступая на Штеттин, оставил в Трептове Кноблоха защищать свои коммуникации. Эта задача оказалась прусскому генерал-майору не по силам. Подвергнутый артиллерийскому обстрелу, он решил не дожидаться штурма и предпочел сдаться. В свой актив русские записали 61 офицера, 1639 солдат, 15 знамен и 7 пушек.
Румянцев с войсками вернулся в лагерь продолжить осаду Кольберга. Его корпус был усилен до тридцати пяти тысяч человек. Главная же армия была уведена Бутурлиным на зимние квартиры за Вислу в Мариенвердер. В помощь осадному корпусу фельдмаршал оставил корпус Волконского на Варте и корпус Чернышева в Силезии. Румянцев пытался критиковать подобное весьма неудачное расположение, но Бутурлин его доводов не принял.
Фридрих не жалел сил для поддержки Кольберга. Он усилил Платена отрядом Шенкендорфа, насчитывающего пять тысяч. Но это уже мало чем могло помочь осажденным. Румянцев, когда ему донесли об этом отряде, отвечал на вопрошающие взгляды своих генералов:
— Господа, сей отряд, конечно, усиливает генерала Платена, но что Платен, что Шенкендорф — они способны только кусать исподтишка.
— Простите, ваше превосходительство, — спокойно возразил ему генерал-майор Яковлев, — а такую возможность, как совокупный удар Платена, Шенкендорфа и принца Вюртембергского, вы учитываете?
— Учитываю, ваше превосходительство, — весело отвечал командир корпуса. — Равно как и то, что совокупные силы пруссаков ныне наконец-то менее наших. Чем быстрее пруссаки пойдут на решительную сшибку — тем лучше.
— Вы так уверены в победе, ваше высокопревосходительство?
— Уверен, господа. Воевать без уверенности — значит терпеть поражения. Сейчас же обстоятельства складываются для нас благоприятно. Хотя бы из-за тех же холодов, которые некоторых из вас так пугали ранее. Наши солдаты худо-бедно уже обжились. Платену же с Шенкендорфом придется идти по не подготовленным для зимнего проживания местам. И потом: у них много кавалерии. А фураж? Вот вам, господин генерал-майор, и еще один довод. Кто еще хочет высказаться?
Генералы молчали. Они уже усвоили, что если, трудно и тщательно что-то для себя продумав и выверив, Румянцев приходил к какому-то выводу, то он уже не отступал, пребывая в своей уверенности до конца, и сейчас возражали ему больше по инерции. По инерции нежелания принимать на свои плечи груз ответственности.
Румянцев же подобную ответственность на себя брать не боялся.
Осада продолжалась. Защитники крепости испытывали все большие лишения, Платен же и Шенкендорф, скованные кавалерией Берга, не рисковали нанести румянцевскому корпусу удар, дабы попытаться деблокировать Кольберг.
Корпус Вюртембергского, так и не дождавшись действенной помощи, ушел из лагеря, наведя мост через протоку.
Отступающих обнаружил Берг, он попытался преградить им дорогу, но пруссакам все же удалось пробиться и соединиться с Платеном.
Заняв укрепленный лагерь принца, Румянцев оставил в нем несколько батальонов пехоты, а сам с основными силами перебрался на западный берег Персанты.
Пока руководивший осадными работами инженер-полковник Гербель вел подкоп под земляную насыпь крепости, Румянцев на левом берегу реки выбивал пруссаков из укрепления Вольфсберга.
Первого декабря прусские войска двинулись на приступ русских позиций. Основной удар они наносили по Шпигскому проходу, защищенному лишь одним гренадерским батальоном с пятью пушками.
Румянцев знал о недостаточности сил на этом участке. Он рассуждал так:
— Хочу надеяться, что знатные прусские тактики купно с вами оценят эту слабость и попытаются ее использовать! И сие будет весьма к месту!
Прусские генералы оправдали надежды русского командующего. Они бросили на этот проход кавалерию, которую гренадеры, прежде чем отступить, еще успели потрепать картечью.
Гренадеры занимали позицию, не имевшую флангов, по причине незамерзающих болот вокруг. И когда торжествующие пруссаки отбросили русский батальон с прохода и устремились по нему, они внезапно увидели, что в тыл им заходят пехотные колонны, усиленные конницей, включающей и казаков. Началась паника. Румянцев бросил вдогонку отступающим кавалерию и легкие стрелковые батальоны, которые гнали пруссаков до Одера.
Гейде, узнав о поражении тех, в ком видел свою единственную надежду, капитулировал.
Сообщение о победе вместе с ключами от крепости повез в Россию бригадир Мельгунов. Донесение Румянцева о взятии Кольберга было, согласно распоряжению императрицы, напечатано и разослано по стране 25 декабря 1761 года.
В этот же день по смерти Елизаветы Петровны на престол России вступил Петр III.
Новый император немедля заключил с Фридрихом мир — Пруссия была спасена. Румянцев был назначен командующим корпусом, коему надлежало воевать с Данией. Но русская армия не успела начать военные действия. В результате дворцового переворота Петр III был низложен, и на престол села его супруга, ставшая императрицей, Екатериной II. Румянцев промедлил с принятием присяги и… ему на смену прибыл другой командующий — Петр Панин.
Обиженный Румянцев ушел в отставку, но вскоре был обласкан новой императрицей и назначен президентом Малороссийской коллегии. Начавшаяся в 1769 году война с турками сделала его командующим армией, во главе которой он разбил неприятеля при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле, форсировал Дунай и заключил первый из многих выгодных для России мир с османами — Кучук-Кайнарджийский. Эта война сделала его Румянцевым-Задунайским.
Дмитрий Попов тоже участвовал в этой войне, Он погиб в одном из боев в 1772 году.
СЛУШАЙТЕ ВСЕ!
Александр Горлов ЗИГЗАГИ ГУМАННОСТИ Проблема «дедовщины» на страницах молодежной прессы
Гуманный — проникнутый любовью к человеку, уважением к человеческой личности; человечный, человеколюбивый.
Словарь русского языка«С учетом собранных по делу доказательств Сакалаускасу предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства двух и более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пп. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР), хищении оружия и боеприпасов, их незаконном ношении и хранении (ч. 1 ст. 218; ч. 3 ст. 218-1 УК РСФСР), краже личного имущества (ч. 2 ст. 144 УК РСФСР) и дезертирстве (п. «а» ст. 247 УК РСФСР).
Кроме личного признания, виновность Сакалаускаса в содеянном полностью подтверждается имеющимися в деле доказательствами. Ряд совершенных им преступлений отнесены законом к категории тяжких, представляющих повышенную общественную опасность. Его действия, связанные с расстрелом людей, носили безжалостный характер. Убиты ни в чем не повинные прапорщик Котовский и проводник вагона гр-н Демичев, который никакого отношения к военнослужащим не имел..»
(Из официального ответа Главной военной прокуратуры)«Ты стал судьей, ее имея на то полномочий. Ты не принадлежал к бюрократическому обществу… Ты защищал человеческое достоинство и стал жертвой. Однако перед великими законами человеческого рода ты не виноват!»
(Открытое письмо А. Сакалаускасу В. Казлаускаса, кандидата философских наук. Газета «Комсомольская правда», орган ЦК ЛКСМ Литвы)Бывший солдат внутренних войск одной из частей Ленинградского гарнизона Артурас Сакалаускас при исполнении служебных обязанностей в специальном вагоне расстрелял караул. Резонанс этого чрезвычайного происшествия был широк и звонок. О нем не раз сообщалось в средствах массовой информации. С сенсационным, а по сути, тенденциозным очерком «Случай в спецвагоне» выступила «Комсомольская правда». В нем переплеталось все: и половинчатость происшедшего, и подтасовка фактов, и полемика со служебными лицами, с коими не происходило ни встреч, ни бесед…
Говорят, что у лжи короткие ноги. Может, и было когда-то так. Но ныне, в пору НТР, старая мудрость заметно видоизменилась. Ложь на коротких ногах, тиражированная миллионами газетных полос, со скоростью звука формирует общественное мнение, способна повергнуть людей в шоковое состояние. И порой это первое впечатление бывает настолько устойчивым, что переходит из качества впечатления в качество убеждения.
Альтернативную точку зрения на дело Сакалаускаса заняли журналисты «На боевом посту», а вслед за ним газета «Советский патриот», орган ЦК ДОСААФ. Но их тираж не идет ни в какое сравнение с «Комсомолкой». Интересам гласности в данном случае не помогла «Красная звезда», отказавшись публиковать материал «Правда о расстрелянном карауле», хотя подобного рода преступления тревожат части Советской Армии не в меньшей мере, чем внутренние войска. Итак, гласность, как ныне еще нередко случается, оказалась усеченной. Печатная машина «Комсомольской правды» узурпировала ее.
Вскоре в своей публикации «Рекорд уходящего года?..» «Комсомолка» заявила, что очерк «Случай в спецвагоне» собрал рекордный урожай писем и что ни одна газета в стране на свои выступления не получила столько откликов. Вот так. Кто там еще пытается полемизировать? Какие-то военные издания? Сказали рекорд — значит рекорд! Но при чем тут, если речь идет о смертях, об изувеченных судьбах, неимоверных страданиях десятков людей, которые по сей день слышат и будут слышать много позже те зловещие выстрелы в своих сыновей, братьев, женихов, мужей. Наконец, речь идет о нравственной позиции газеты. А нравственность, как известно, не подразделяется на ведомственную и центральную. Но что газете до этого! Перед обесчещенными на всю страну родителями и памятью невинно погибших она даже не извинилась. Это ли не худший из рецидивов застоя для столь популярного издания?
Или что стоит, к примеру, одно из резюме социологов «Рекорда уходящего года?»:
«В свое время создатели административно-командной системы не случайно называли армию «школой жизни». Всеобщая воинская обязанность, благо она всеобщая, стала средством пропустить через такую систему «обучения» и «воспитания» практически всех. При этом армия выступала не как собственно вооруженная сила, но как образец осуществления власти, идеала сильной руки, сильной личности, как школа командных порядков и методов управления…»
Оказывается, всеобщая воинская обязанность — самый справедливый принцип формирования истинно народной армии — и есть тот самый институт, который в изобилии поставлял и поставляет кадры для административно-командной системы (?!)
Вот ведь до каких «теоретических обоснований» можно договориться, если сквозь «призму социологии» взглянуть на случай в спецвагоне.
Из почты читателей.
«Нас, военнослужащих, не говоря о матерях наших, буквально потряс «Случай в спецвагоне» в «Комсомолке». Первое впечатление: поделом им всем — садистам в военной форме. И только гораздо позже, когда нас познакомили с официальными документами тщательного расследования и когда появилась статья «Правда о расстрелянном карауле», мы поняли, что «Комсомолка» обманула всех матерей и отцов страны, ввела в заблуждение общественность и армию. Неужели сенсация для нее прежде всего?! Как же можно защищать Сакалаускаса, выставлять его жертвой, неким борцом с «дедовщиной», оправдывать его права на месть, на кровь, самосуд? Это не вяжется ни с законом, ни с гуманистической позицией газеты.
А. Генетис, О. Филатов, О. Махмудов, И. Напорянский, А. Курмаз, А. Абыкеев, И. Лукьянчук, Ж. Салиподжаев».Нет, не только сегодня в обществе кричит о себе проблема неблагополучия среди молодежи, она обозначилась давно. Процветают издевательства в школах, ПТУ, в миллионных городах, в армии. Вослед издевательствам еще более жестокая реакция — расправа оружием. А газета в эйфории от полученных откликов на сенсацию, И довольно странно проблему «дедовщины» она закрывает процентами. Оказывается, в ее существовании повинны: молодежь, ее нравы — 5 процентов, семья, родители — 25 и командование и политорганы Вооруженных Сил — 55 процентов. Оставшиеся незафиксированные 15 процентов вины социологи «Случай в спецвагоне» не нашли кому навесить. Уж не для комсомола ли зарезервировали? Ведь командование, политорганы и родители, надо полагать, давно уже не комсомольского возраста. Так что нелишне иногда и на себя оборотиться, а не создавать мнимого приоритета в борьбе с «дедовщиной». Приоритет этот у военных и у военной печати серьезный и конструктивный, а вот сенсационный, крикливый, не спорим — у молодежных изданий. Появившиеся на ее страницах публикации о трагедии в спецвагоне разожгли нездоровый ажиотаж и весьма разноречивую реакцию читателей, а стремление авторов оказаться первыми в его освещении с претензией своих выводов на единственно истинные привело к тому, что уголовное дело Сакалаускаса задолго до его судебного разрешения стало предметом самых крайних толкований.
Но даже при благоприятном исходе дела вряд ли Сакалаускас испытывает удовлетворение от своей «популярности». Убийство 8 человек будет всегда лежать тяжелым камнем на его душе. Кому же тогда нужна его общеизвестность, сложившаяся благодаря стараниям печати, телевидения, кино?
Если все делается из соображений обнажить проблему так называемых неуставных взаимоотношений, то о ней все знают, с этим злом ведется активная борьба, и небезуспешно. По данным Главной военной прокуратуры, число этих преступлений постоянно сокращается. И в целом нравственная атмосфера в Вооруженных Силах, внутренних войсках оздоровляется, преступность снизилась по всем показателям.
Кстати, небезынтересно в этом плане социологическое исследование, проведенное в войсках Белорусского военного округа. Пусть простит нас читатель за обилие цифр, но без них в данном случае не обойтись. Итак, из призывного контингента в войсках 60 процентов всех виновных в «дедовщине» обучались в ПТУ (подавляющее большинство с отрывом от дома). Выпускники средней школы, допустившие неуставные взаимоотношения, составляют 30 процентов, а обучавшиеся в вечерних школах, техникумах и институтах — лишь 10 процентов. Среди всех участников преступлений на почве «дедовщины» лишь 18 процентов солдат и сержантов воспитывались в неблагополучных семьях.
60 процентов военнослужащих, виновных в неуставных взаимоотношениях, до призыва в армию избивали своих сверстников либо избивали их самих. 40 процентов из них употребляли спиртное, 26 процентов привлекались к административной ответственности либо судимы за хулиганство.
54 процента призываемых знают о существовании в армии «дедовщины» в основном от уволенных в запас. Причем более 50 процентов из них получают советы активно защищаться от обидчиков и давать сдачи, — 19 — молчать и сносить оскорбления и побои, 15 — докладывать командирам и лишь 7 процентов — пресекать неуставные взаимоотношения в отношении кого бы то ни было.
Подавляющее число глумлений происходит в присутствии личного состава срочной службы — 80 процентов. 96 процентов очевидцев казарменного хулиганства безразлично относятся к происходящему. Пренебрежительное отношение к молодым солдатам со стороны старшего призыва составляет 42 процента — традиционно. Столько же — за неспособность качественно выполнять боевые задачи, 8 процентов — из-за желания покуражиться, 6 процентов — на почве мести и только 2 процента — из-за национальной неприязни.
А вот социологи «Комсомольской правды» Е. Матюхина, А. Гражданкин, А. Левинсон, Л. Серов в своем исследовании «Рекорд уходящего года?» весьма лукаво представляют читателю проблему: «Не хотелось бы включаться в спор, откуда что взялось: пришла ли «дедовщина» из армии на гражданку или с гражданки в армию» (?!). Не правда ли, посыл своеобразный?
Борьбе с «дедовщиной» сенсацией не поможешь, моралистикой ужасов — тоже. Глубинная природа позорного явления не в армейском укладе, не в «военной тайне», как силится это доказать журналист М. Пастернак, который договорился до такого абсурда, что, оказывается, проблемы неуставных взаимоотношений в армии слушатели военных академий изучают по его статьям в «Московском комсомольце» (?!)
Как правило, ему подобные «теоретики», не имеющие ни должной военной подготовки, ни опыта службы, доходят до такого примитивизма в суждениях, что диву даешься. Как-то такому ортодоксу предложили хотя бы на год надеть офицерские погоны и изучить истоки «дедовщины» в любой части, в которой он только пожелает. Но он справками о внезапно пошатнувшемся здоровье стал спасаться. Вот такие радетели от комсомольской печати борются за перестройку в армии.
Удивительно, что по сей день армейскую тему в молодежной прессе ведут бойкие мальчики, весьма далекие от нее, или чувствительные репортерши, обрушившие на читателя каскад несуразиц. Одной из «первооткрывательниц» дела Сакалаускаса была корреспондент ленинградской областной комсомольской газеты «Смена» Т. Зазорина. Факты для своих публикаций «Роковой рейс», «До и после рокового рейса» (так и чувствуется влияние рока в судьбе Сакалаускаса) и других она собирала везде, но только не в воинской части, где совершил преступление «герой». Побывав на экскурсии в психиатрической лечебнице, как она справедливо замечает в корреспонденции «И милость в мажорном тоне», информирует читателей, что в означенном заведении внимательные врачи, есть библиотека, радио в каждой палате и даже телевизор, больных выводят на прогулку, они ежедневно получают передачи с апельсинами, гранатами и копченой колбасой. Здесь цветы на окнах, стопка газет и журналов — сверху «Огонек». Вот такими перлами корреспондент доказывает «приближение их (душевнобольных) жизни к домашним условиям».
Ах, бедный и неискушенный читатель, за кого же тебя держат пишущие братья и сестры! Когда мы вот так топорно исследуем самые серьезнейшие явления, то читающий слепнет. Нет, глаза его видят. Он слепнет как бы изнутри. Душой. И не спасает тут самореклама, в которой так назойливо кокетлива Т. Зазорина: «До меня здесь не ступала нога газетчика. А если о больнице ничего не знали журналисты, то уж ваши читатели и тем более» (!?) Вот и здесь Т. Зазорина — первооткрывательница. Только интересно, кого она подразумевает под читателями? Конечно же не тех, кто несет колбасу и апельсины! Вот такая железная женская логика.
Но экскурсия в психбольницу репортерше понадобилась еще и для того, чтобы подчеркнуть, как милосердны к Сакалаускасу все без исключения врачи, консультанты, главный психиатр Литвы и аж два адвоката, один из Ленинграда, второй из Вильнюса, который разразился в литовской молодежной газете ругательствами о «грязном мундире» и «испачканных погонах» внутренних войск, и какие злодеи в ведомственном военном журнале «На боевом посту», напечатавшие статью «Правда о расстрелянном карауле». И так это волнует Зазорину, что готовит четвертую статью в защиту убийцы и по телефону звонит то прокурору, то председателю трибунала, требуя опровергательных аргументов.
И если Сакалаускас расстрелял 8 человек в состоянии физиологического аффекта, то без оного состояния разгуливал он по кинотеатрам и кафе многомиллионного города с портфелем, набитым оружием и двумя заряженными пистолетами в карманах, кстати поставленными на боевой взвод. И предсказуема ли была ситуация в автобусе, если бы его, Сакалаускаса, к счастью полусонного, так профессионально не взяли бы работники милиции. Случись иное, и кто бы мог гарантировать, что вновь не пролилась бы кровь невинных? Может быть, Зазорина? Как и Мельнику, ей неведома анатомия этого преступления.
Можно ли себе представить, чтобы Шолохов, прожив безвыездно, скажем, в Ленинграде, написал бы свой «Тихий Дон»? Абсурдно? Абсурдно и для журналиста писать о событии сложном, противоречивом, исключительно по своей психологии, не побывав на месте события. Если газетчик запамятовал, как квалифицируется подобное, можно напомнить: профессиональная недобросовестность.
Нет, не забота о гуманности воинской службы, ее демократизации, не перестроечные реалии в армии а внутренних войсках привлекают Мельника, Пастернака, Зазорину. Ими движет зуд «жареных» фактов, стремление на пене гласности взбудоражить общественное мнение, завоевать дешевую популярность у обывателя, жаждущего остренького, скандального. Главное, чтобы читатель «вздрогнул», а там хоть трава не расти.
Однажды Илья Эренбург подметил, что, если в оркестре гремит много барабанов, они заглушают все остальное. Сдается, что именно барабанной дробью пытаются «помочь» командованию, политорганам внутренних войск и общественности страны некоторые молодежные средства массовой информации в борьбе с «дедовщиной».
Как-то радиостанция «Юность» передавала отклики на публикацию «Случай в спецвагоне». Из письма разгневанной слушательницы в эфире прозвучало примерно следующее: «Сынок, ежели над тобой будут издеваться так же, как над Артуром, бери автомат в всех расстреливай…» Если в данном случае еще можно как-то понять экзальтированную мамашу, дающую наобум ковбойские рецепты своему взрослому дитяти, то куда же смотрит редакция, вещающая садистские рекомендации?
Это что же, за каждую обиду в солдатской среде, оплеуху, синяк — пусть неправедные, рассчитываться автоматными очередями или пулей из пистолета? Далеко нас могут завести дебаты по схеме «преступник или жертва», навязанные литовской группой в поддержку Сакалаускаса. И впрямь заштормило в «море гуманности»!
Есть особенность в службе внутренних войск: здесь, образно говоря, никогда не ставится оружие в пирамиду. Днем и ночью караулы, патрульные и войсковые наряды выполняют важные государственные задачи по охране общественного порядка, опасных уголовников, защищая наш покой и безопасность. Многие десятки военнослужащих внутренних войск погибли в схватках с оголтелыми бандитами, грудью прикрыв советских граждан. В небезызвестных событиях в Армении и Азербайджане, в Грузии и Узбекистане, Абхазии воины лицом к лицу с распоясавшимися националистами, самозваными лидерами-экстремистами проявили мужество, твердость гражданской позиции, самопожертвование, защищая конституционные основы государства, перестройку. Они постоянно на страже социалистической законности, ибо демократизация без нее захлебнется анархией.
Из почты читателей.
«…Удивляет факт, что и поныне любители «жареных» новостей с усердием стряпают сенсации, а военные молчат, с неоправданным равнодушием взирая на довольно успешную «работу» по обливанию грязью чести и достоинства армии и внутренних войск. Орган ЦК Компартии Грузии газета «Заря Востока» сочиняет небылицы о применении в Тбилиси «химического оружия», о «карательных действиях специально натасканных групп», а генерал-полковник Родионов фигурирует на ее страницах не иначе, как палач, убийца, каратель. Выходит, кому-то нужны кривые зеркала?
Прошло много времени, как расстрелял караул Сакалаускас. Но суда над ним нет. Это рождает новые слухи и домыслы. К примеру, говорят, что он освобожден от стражи, переведен на лечение в Литву, а правительство республики направило в Верховный Совет СССР ходатайство о его помиловании. Судьбой Сакалаускаса занимаются лично Первый секретарь ЦК Компартии Литвы, «Саюдис». На банковский счет в помощь Сакалаускасу идут пожертвования. А кто же занимается судьбой пострадавших? И это называется гуманизацией и милосердием?
К. Агулов, В. Устинович, И. Бибик, Л. Подреза, А. Поддубный, В. Васильев, С. Попов».«Р. …Никогда социальное самочувствие народа и его армии не будет нормальным, если мы будем милосердны к бандитам, насильникам, ворам, спекулянтам и таким маньякам, которые, заслышав смех и отнеся его к своей персоне, способны разрядить пистолет».
Недавно в популярной ленинградской телепрограмме «600 секунд» показывали сюжет из криминальной хроники. В квартире на полу лежала молодая женщина с перерезанным горлом и множеством ножевых ран.
Здоровенный детина с шапкой длинных, под шестимесячную завивку, волос на вопрос о причине убийства ответил:
— Она назвала меня козлом…
Произнес это убийца так спокойно и раскованно, как будто у него спросили, что он сегодня отведал на завтрак. Вот такой гомо сапиенс…
А нам в связи с этим вспомнился тот ленинградский сентябрьский день с прослойкой бабьего лета, когда мы зашли в старый питерский двор-колодец на Невском, где располагается прокуратура Ленинградского военного округа.
В многотомном деле Сакалаускаса потрясли снимки, сделанные в те часы, когда обнаружилась страшная картина расправы в спецвагоне. В каких жутких в своей неестественности позах лежали тела солдат, вмерзшие в лужи крови. Фотографии терзали мозг, давили, сжимали сердце. И если бы литовские так называемые кинодокументалисты показали бы эти снимки в кадрах своего детища «Кирпичный флаг», вся их сенсация с «жертвенностью» Сакалаускаса рассыпалась бы как карточный домик. Но эти документы не вписывались в их «документальный» изыск.
Из почты читателей.
«Саша Слесарев рос в деревне у всех на глазах, ведь деревня — как одна большая семья. Когда вышла статья М. Мельника в «Комсомолке», к нам приходили люди, читали ее и возмущались. Мол, Сакалаускас добрый, ласковый, хилый, а какими росли наши дети — ни слова. А ведь и Саша был добрым, очень любил детишек. Однажды увидел, что тезка его, Лазарев, стоит без шапки — холодно было, — снял свою, надел парнишке на голову и говорит: «Носи, она почти новая, а мне скоро в армию…» Дружил Саша с девушкой, звать Вита. Провожала, обещала ждать. И ждет — не верит, что его больше нет. Приезжает из Ворошиловграда, идет к могиле. С живыми цветами. И так каждое воскресенье. Зимой и летом… Не верим, Сашок никогда не был жестоким. Требовательным, исполнительным — да. Об этом говорили его командиры. Об этом знает вся наша деревня».
За требовательность, принципиальность и невзлюбил Сакалаускас старшего сержанта Александра Слесарева, называя его одним из главных своих обидчиков. Именно в Ворошиловградскую область, где в селе Ореховка прошло детство Саши, и отправилась съемочная группа литовских кинодокументалистов. Как снимали гости из Литвы фильм, рассказал в письме родственница Александра — Анна Максимовна:
«Они позвонили нам из Вильнюса, заверив, что едут искать правду. Говорили, что не знают ни Артураса, ни нас. «Дойдем до сути, все выясним и снимем фильм. Обязательно сообщим, когда будет просмотр». Приехали они на ворошиловградском такси и сразу, «забыв» по украинскому обычаю зайти в дом и поздороваться, начали съемки. Фотографировали кухню, сарай, гараж. И лишь потом представились, показали документы. Сашина мама начала плакать, а человек с камерой обнял ее за плечи, целовал ей руки и тоже плакал. Выразили свое соболезнование и начали объяснять, что задумали. Мол, в армии «дедовщина», и Сакалаускас на следствии использовал это для своих показаний: стал лить грязь на всех погибших, выгораживая себя. Режиссер назвал Артураса увальнем и лодырем, сказал, что армию тот не любил, погоны называл красным мясом, был самолюбив, представителей Средней Азия презирал и обзывал их «чурками». В строй становился неопрятным, опаздывал, и было это не раз. Так земляки говорили об убийце. Когда речь зашла о статье, опубликованной в «Комсомолке», они сказали, что этот Мельник нехороший человек. «Как можно писать такое, — говорили они, — не побывав в семьях погибших, не побеседовав с родителями. Неправильно поступил корреспондент. А мы вот ездим, ищем правду».
Потом литовские кинодокументалисты попросили показать фотографии, где запечатлен Саша. Снимков его у нас много — около пятидесяти. Есть как память о детстве, есть групповые с семьей, за шахматами. Бережно храним мы и армейские фотокарточки. Гости из Вильнюса прикрепили их на воротах и начали снимать. Снимают, а сами по-литовски разговаривают. Не выдержав, спросила: «Почему не на русском? Мы ваш язык не понимаем». — «Зачем нам русский? — сказали они. — И вам он не нужен. Общаться необходимо на родном языке. Надо бороться за автономию, за то, чтобы на ответственных постах были только представители Украины. Ваши сыновья должны служить у себя дома. Так будет лучше для вас, для республики».
Побывали гости из Литвы и в школе, где учился Саша Слесарев, побеседовали с классным руководителем. Прасковья Яковлевна рассказывала о своем ученике только хорошее, а дурного у него не было. Вернувшись, кинодокументалисты снова осудили убийцу: «Жестоко поступил Артурас. Все так хвалят вашего сына!»
Прощались с нами тепло, благодарили за хлеб-соль. Сказали, что фильм будет правдивый, что в нем будут учтены добрые отзывы земляков о Саше.
И вдруг мы узнаем: в фильме «Кирпичный флаг» крупным планом показана фотокарточка Александра — та, где он стоит после физзарядки с расстегнутым воротничком, держа руки в карманах. Из пятидесяти выбрали именно эту! Иуды! Такая вежливость, такое благородство, целуют руки убитой горем матери, клеймят Сакалаускаса, и вдруг такое… Используя непозволительные для истинных кинодокументалистов приемчики, они не только оскорбили мать и отца Саши, но и всю Ореховку. Приехать за правдой и повернуться к ней спиной? Теперь понятно, почему кинодокументалисты не снимали Почетных грамот, которыми был награжден Саша за ударный труд на гражданке, почему не прозвучали с экрана добрые отзывы о нем бывшего классного руководителя Прасковьи Яковлевны. Им на это было наплевать».
Потряс в прокуратуре и многочасовой видеоролик допроса Артураса и особенно тот момент в нем, когда на вопросы следователей, почему убили проводника, тот сказал: «Он смеялся».
Что и говорить: веская причина. Как и для того детины, который обиделся, что его обозвали козлом.
Не кажется ли некоторым защитникам «интеллигентного Артураса», что они на виражах дороги элементарной человеческой нравственности стали дальтониками и что, исследуя истоки аномального поведения двадцатилетнего мужчины, им не пристало пользоваться закостеневшей формулой: он из благополучной семьи и, значит, причины надо искать в другом и других. И семья как бы получает индульгенцию, как некий посторонний аморфный объект. Это все из той же оперы газетного примитивизма Т. Зазориной, когда душевнобольные, слушая радио, смотря телевизор, читая «Огонек», закусывая копченой колбасой, апельсинами и гранатами, приближаются к домашним условиям.
Тяжесть проблемы как раз в том, что ныне две трети дерзких правонарушителей — выходцы из так называемых благополучных семей.
И почты читателей.
«Я мать. Через год с лишним моему сыну предстоит выполнять воинский долг. Тревога за его будущую службу есть. В немалой степени она навеяна такими материальчиками, как «Случай в спецвагоне», в «Комсомолке». По моему глубокому убеждению, «дедовщина» привносится в армию из школы, ПТУ и даже из детсада. Что ныне там делается — уму непостижимо. И еще — из семьи. Да, из семьи. Уже давно мы являемся свидетелями тому, что самые бесчеловечные преступления совершают те дети, у которых большой достаток в семье, внешне респектабельные и «воспитанные» родители. Однако печать захлебывается от «доказательств», что преступников поставляют неблагополучные семьи…
Часто приходится слышать: «Сын плохо учится, армия дурь выбьет, хулиган — армия воспитает». В течение многих десятилетий родители видели в армии некий перевоспитательный аппарат, панацею от всех бед. Теперь же, когда в армии накопилось немало своих негативных явлений, все готовы пригвоздить ее к стенке позора. Вот, мол, военные, с «дедовщиной» не могут справиться. А где же семья, отцы, которые тоже прошли армию, матери? Какое место в воспитании Артура занимали родители? Почему он так и не нашел места в воинском коллективе, почему его озлобленность против всех сделала его убийцей? Своим женским сердцем не могу понять этого злодея и его родителей.
Поставничная Клавдия Ивановна».Мы далеки от предъявления конкретных воспитательных счетов отцу и матери Сакалаускаса. Но бесспорно одно: ни душевной близости, ни открытости, ни интимной доверительности в отношениях с родителями у него не было. За восемь месяцев воинской службы от Артураса не поступило в родной дом ни одного сигнала о том, что его служба не складывается, что в коллективе он инородное тело. И только, когда грянула катастрофа, написал: «Случилось несчастье, которое перечеркнуло всю мою жизнь». Но и осознав собственное несчастье, он не пошел по дороге здравого смысла: совершил дезертирство с оружием, обокрал мертвых сослуживцев, пожилую женщину, приютившую его. Это деяние не заблудшего подростка. В армию он пришел сложившимся человеком, после окончания техникума. Был старше, грамотнее, эрудированнее своих сослуживцев по взводу, подчеркнем: только по взводу, по холоднее рассудком, замкнутей, надменнее. Один из офицеров сказал об Артурасе: «В нем было что-то недочеловеческое, какая-то недоразвитость добрых чувств». И эта оценка не лишена рациональности. В одночасье личность не может стать злой, ожесточившейся, готовой на чудовищное убийство. И если подобное случается, то причины этого следует искать в самой личности, там, где она формировалась, на какой почве взрастала, какими установками вооружалась в семье. Свою жизнь, как и жизнь наших детей, к которой мы их готовим, нельзя обмануть. Жизнь, как эхо: что мы ей крикнем, тем она и отзовется.
Отвечая на зрительские вопросы, создатели фильма «Кирпичный флаг» говорили, что воины-прибалты якобы гонимы в частях и подразделениях за то, что они по уровню образования и культуры выше остального контингента Советской Армии (?!). Не слишком ли глобально и самонадеянно? Не будем уточнять, откуда позаимствован этот образчик «цивилизованного превосходства», скажем только, что в армии, в том числе русской, с самого начала ее регулярного статуса более всего почитались честь и благородство, верность присяге, крепкие узы войскового товарищества, гуманность к местному населению.
Нельзя быть культурным человеком и в то же время нечестным. Нельзя быть культурным солдатом и забыть о долге перед Родиной, нарушить присягу. Нельзя быть культурным и образованным и презирать товарищей, с которыми делишь кров, пищу, тяготы службы. Нельзя быть культурным и одновременно бесчеловечным, не умеющим сострадать. И это не любительские сенсации. Они зиждутся на вековой морали наших соотечественников. А образованность, так называемое многознание, не научает культуре. Она — прежде всего свойство духовное.
Вспомним тургеневского Пеночкина, лощеного, образованного дикаря, который никогда не поднимал руку на своих крепостных и никогда на них не повышал голоса. Просто он любил стоять у конюшни и слушать посвист плетей, которыми секли дворовых за разного рода прегрешения. При этом лицо его растекалось в улыбке, становилось мечтательным. И в такт кнуту он повторял: «Чоки-чоки, чок-чок, чоки-чоки, чок-чок…» Таким гуманным был «культурный» баран Пеночкин.
Не думаю, что подобный культурный уровень разделяют авторы «Кирпичного флага». Но тогда зачем им понадобилось «окультуривать» Сакалаускаса и в фильме, и на зрительских встречах. Ведь речь шла о нем, и только о нем. Воистину оценки режиссера Бержиниса, его коллег и реальность, что называется, друг на друга волком воют.
В видеопротоколе следствия есть один колоритный ответ Сакалаускаса.
— Кто-либо из потерпевших просил у вас пощады? — спросил полковник.
Не отводя глаз от военного юриста, он сквозь хныканье сказал:
— Не просили…
Никто не попытался расшифровать это «не просили». Думается, зря. Здесь много напрашивается «почему». Ибо и ложь, и ущербный эгоизм, и жестокость Сакалаускаса — это все плоды предательства, плоды поражения личности, к чему он в конечном итоге я пришел. Когда он впервые не выплыл из реки жизненных обстоятельств, сейчас уже невозможно определить. Достаточно было не помочь ему лишь один раз. И все. Захлебывался и тонул он уже сам.
Предвидим, что авторы мифа об «интеллигентности» Артураса вновь взвизгнут: нет, он не лжец, не эгоист, он не жесток, а на жестокость ответил жестокостью. Тогда позвольте алаверды, как говорят в Грузии.
Во время следствия Сакалаускас заявил, что весь караул, за исключением его, был пьян. И это, дескать, укрепило в его сознании мысль, что с пьяными подонками надо рассчитаться. И если вспомнить, что два с лишним года назад за употребление спиртного профессоров и генералов исключали из партии, лишали должностей в назидание простым смертным, и это считалось «непримиримой борьбой за трезвый образ жизни», то нетрудно уловить, на какие дивиденды рассчитывал Сакалаускас, обвиняя мертвых сослуживцев в пьянке на боевой службе. Кроме адвоката, эту версию никто не поддержал. Знали: экспертиза отринула ложь.
Как Сакалаускасу могло прийти в голову обмануть то, что обмануть невозможно? Или мертвые сраму не имут?
К сведению адвоката Г. Жукович, которая так же, как и ее подзащитный, предпочитает, мягко говоря, некорректные поступки: служба караула спецвагона проверяется офицерами других частей практически на каждой станции. Употребление спиртных напитков в карауле — тяжелое ЧП. Последний такой случай был в части, где служил Сакалаускас, 17 лет назад.
Из материалов следствия.
«Свидетель С. Городецкий: «В следственном изоляторе нашим соседом по камере был Сакалаускас. О расстреле караула нам с Коротковым рассказывал во всех подробностях. «Я израсходовал на них 46 патронов, — говорил он, — стрелял из двух пистолетов в упор. У всех были испуганные лица, они метались по купе и по стенкам и не знали, куда деться. Я заходил в купе и добивал их, лежащих на полу». Мы осуждали его за безвинные жертвы, а ему хоть бы что. Отрабатывал в камере приемы каратэ и распевал романс «Гори, гори, моя звезда».
Теперь о жестокости. Лишь один факт из множества. Прапорщик Алексей Котовский всего на год был старше Сакалаускаса. Пока тот заканчивал техникум, Алексей отслужил на «отлично» срочную, закончил школу прапорщиков. Скромный, мягкий по характеру, он мухи никогда не обидел. Так о нем отзывались сослуживцы и командиры. С Сакалаускасом ехал в спецвагоне второй раз. Никаких личных обид у Артураса к прапорщику не было. Он даже не знал его фамилии, как выяснилось на следствии. Тем не менее все это не помешало Сакалаускасу первую пулю пустить в голову спящего начальника караула. И когда тот, тяжело раненный, окровавленный, все-таки нашел в себе силы выйти из купе, Сакалаускас еще всадил ему шесть пуль. За что? Только за то, чтобы переодеться в форму прапорщика — вероятность задержания военным патрулем гораздо меньше, чем солдата. Даже подтяжки с брюк Алеши Котовского прихватил с собой убийца.
Таких деталей, от которых горло перехватывает сухая судорога, читатель не найдет ни у Мельника, ни у Зазориной, ни у литовских журналистов. Им был нужен другой Сакалаускас, лубочный, некий великомученик от армии. Что им до других судеб!
А вот позиция ленинградского тележурналиста С. Мелейко. На письмо семьи прапорщика Котовского, спустя четыре месяца, он ответил так: «Мне не очень хотелось писать вам, потому что вы назвали Сакалаускаса убийцей, а он только жертва». Затем следуют обвинительные рассуждения в политической незрелости отца и матери. Каково? Не знаем, знакомилось ли руководство Ленинградского телевидения с ответом Мелейко, но до какого же цинизма можно дойти, чтобы обвинить в политической незрелости… скорбящую мать. И вообще, из какого времени этот одергивающий глас в политической близорукости тех, у кого отнят навсегда единственный сын, одна и последняя надежда в старости.
Из вопросов следствия Сакалаускасу А. А.
— За что вы убили повара караула рядового Мансурманкулова?
— Он заставлял меня растапливать топку вагона и колоть дрова.
Из почты читателей.
«Рано или поздно люди все равно узнают об истоках бесчеловечности Сакалаускаса, у которого не дрогнула рука расстрелять своих сослуживцев и проводника, годившегося ему в отцы. Вопреки «Комсомолке» мы верили, что наш земляк Алишер Мансурманкулов ни в чем не виноват. Выросший в бедной многодетной семье, с детства привыкший к труду, никем и ничем не избалованный, он не мог делать кому-либо зло. «Комсомолка» утверждает, что Сакалаускаса пытались даже изнасиловать… Это кто, сельские ребята? В карауле все были сельские, кроме самого убийцы. Они до службы в армии выращивали хлеб и хлопок, принося в семью заработанные рубли. Они не знали ни рока, ни «металла», некогда им было проходить и сексуальную науку. Да и в кишлаке, на хуторе, в деревне ее не пройдешь. Эту версию могли сочинить только такие столичные грамотеи, как Мельник и его подзащитный Сакалаускас. Для нас не стоит вопрос: «Преступник он или жертва?» Изощренный убийца должен понести самое суровое наказание.
Жители кишлака Кызыл-Hyp Ленинабадской области».Из беседы с полковником юстиции А. Коротковым, заместителем военного прокурора ЛенВО.
Пожалуй, самый «смелый» вымысел вот в этих словах их статьи «Случай в спецвагоне»: «В туалете произошло страшное. Ударили несколько раз в живот, мучители стали лихорадочно сдирать с Артура брюки… Сколько пролежал на железном полу, не помнит. Пришел в себя от дикой боли — кто-то поднес к его телу горящую спичку». Ситуация, как видите, описывается очень подробно, как будто Мельник был тому свидетелем. Однако следствие такими данными не располагает. В частности, о том, что мучители стали сдирать с него брюки, что лежал на полу без сознания, даже сам Сакалаускас не говорил. Других же данных в деле нет. Это ли не беспардонный вымысел?»
Сколько существует человечество, столько оно и стремится к победе над смертью. Да и как же можно уступать ей самое дорогое, бесценное Ведь жизнь — это не частная собственность, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Никто не вправе решать ее конец. А. Т. Зазорина, видимо, считает, что вправе, и даже стыдливо умолчала в «Роковом рейсе», что Сакалаускас распорядился восемью жизнями. Подобная невинная «дозировка» по душе и молодежной газете Литвы. Она пишет: «Погибли несколько человек…»
Как все-таки сильна тяга к застойной эквилибристике, когда как бы вскользь сообщалось об очередной трагедии: «Есть жертвы». Расплывчатое и бесчестное «несколько человек» оскорбительно для всех отцов а матерей погибших, их братьев и сестер, товарищей и сослуживцев. Ибо полуправда может вновь восторжествовать.
Из почты читателей.
«Нас, литовцев, в свое время заинтересовало все, что связано с так называемым делом Сакалаускаса.
Мы не раз обсуждали событие в спецвагоне, И не было среди нас человека, который бы встал на его защиту. Восемь прерванных жизней — слишком большая цена даже за издевательства и унижения, если таковые были.
В последнее время страсти вроде бы улеглись, но оказалось, ненадолго. Вышел фильм «Кирпичный флаг», вновь выступила «Комсомолка» со статьей «Так где же правда о расстрелянном карауле?» И сразу уместен вопрос: зачем и кому нужен новый виток шумихи о ЧП в спецвагоне? И о какой правде вдет речь? Ведь она одна и неоспорима: зверский расстрел караула…
У каждого из нас за плечами два года службы. И недосыпали, и служебная нагрузка была такая, что падали с ног от усталости. Кто был солдатом, тот нас поймет. Не скроем, было и на нас давление со стороны старослужащих. Понять их можно: многого мы не знали, не умели, а ноша ведь общая, за тебя на пост никто не станет. Вот и старались опытные солдаты быстрее научить нас тому, что приобрели. И делали это без издевательств, унижений. Весь наш призыв литовцев — нас 13 человек в части — возвращается домой живыми, здоровыми, возмужавшими. Все честно выполнили свой долг: заслужили звания, отпуска, поощрения. В записных книжках каждого адреса ребят, с которыми служили. Среди них русские, украинцы, эстонцы.
Скажем честно, все литовцы пользовались доверием и уважением у командиров и сослуживцев, и никто не делал проблемы из того, с какой республики тот или иной солдат. А ведь фильмом «Кирпичный флаг» кое-кто вновь пытается разыграть «литовскую карту». Да чепуха все это, что именно литовцев обижают и притесняют. Служить надо по совести, не ставить себя выше других, маменькиным сынком не быть — тогда и уважать будут. В армейской среде ведь как: или ты личность, или ноль. Конечно, резко сказано, но это так. И авторитетом пользуются не потому, что ты русский, грузин или литовец, а как службу несешь, с людьми ладишь, «Комсомолка» назвала фильм «Кирпичный флаг» публицистикой. А мы скажем по-солдатски и по-рабочему: фальшивка это и поклеп на армию. Уж очень кому-то хочется поссорить армию и народ.
Старший сержант Юркус, ефрейтор Баршаускас, ефрейтор Пятрайтис, рядовой Виткус, рядовой Эйтмовас».«Белым пятном», на наш взгляд, остался в следствии весьма существенный факт: каким образом удалось убийце завладеть всем наличным оружием и боеприпасами караула? Вряд ли, что прапорщик Котовский, который, по сути дела, только стажировался на должности начальника караула, мог держать незапертым сейф с оружием. Малоопытное должностное лицо никогда этого не сделает — прежде всего из-за страха перед инструкцией, перед ответственностью небывалых ранее служебных обязанностей. А они у начальника караула, особенно в спецвагоне, тяжелы чрезвычайно и физически, и морально. К тому же Котовский отличался дисциплинированностью, пунктуальностью. Каким образом Сакалаускас похитил оружие и боеприпасы? Это можно только предполагать. Свидетелей нет. И в данном случае верить Сакалаускасу, что сейф был открыт, по крайней мере наивно. Достаточно вспомнить его наглую ложь о пьянстве сослуживцев при выполнении боевой задачи и то, как он менял показания в ходе следствия.
Подготовка к расправе над караулом требовала от Сакалаускаса не только продуманного сценария, его детализации, но и четкого исполнения. И кто пытается доказать спонтанность этой расправы, тот или по-дилетантски заблуждается, или намеренно перекрашивает черное в белое. Так что «тихий, застенчивый юноша», как его представляла читателям «Комсомольская правда» Литвы, оказался не только сильнее я расчетливее всех, но и хитрее, коварнее, беспощаднее.
Наконец, есть необходимость обратиться к последнему выступлению «Комсомолки», продолжающему тему происшествия в спецвагоне («Так где же правда о расстрелянном карауле?» (1989. 29 июня), под которым стоит подпись: «Отдел пропаганды и военно-патриотического воспитания молодежи». Начнем с первого опровергательного утверждения:
«…поскольку автор «Правды о расстрелянном карауле» не только претендует на единоличное обладание истиной, но и пытается при этом доказать нечистоплотность, несостоятельность журналиста «Комсомольской правды», придется еще раз вернуться к тем часам, когда спецвагон № 760040 (№ 76040. — А. Г.) вышел в свой трагический рейс».
Автор не мог претендовать и не претендует на обладание истиной, ибо ее может восстановить суд, только суд. Второе. Наше выступление появилось после «Случая в спецвагоне», и оно, повторяем еще раз, предлагалось «Комсомольской правде» как взгляд на проблему военного профессионала. Но, как говорится, увы…
А вот насчет нечистоплотности и несостоятельности журналиста «Комсомольской правды» уточним.
Можно ли писать о событии и делать обобщения по нему, не побывав на месте события? Именно такой путь «исследования фактов» избрал Мельник. Клеймить «дедовщину» в конкретной воинской части, где на ее почве произошло ЧП, и не прийти в эту часть, не встретиться с людьми — разве это чистоплотность к состоятельность? Не похоже ли это на ситуацию, когда газетчик делится впечатлениями о пребывании в тропических джунглях, а сам, кроме как на своем садовом участке, нигде не бывал?
На стадии следствия корреспондент «КП» исхитрился — иначе не скажешь — не встретиться даже со следователем, ведущим дело Сакалаускаса, не говоря о других должностных лицах окружной и гарнизонной прокуратур, которые имели непосредственное отношение к сложному и, можно сказать, уникальному преступлению в психологическом плане. Тем не менее Мельник в своей статье беззастенчиво заявляет: «..мне ответил военный прокурор Ленинградского округа О. Гаврилюк» (?!). Но ведь Гаврилюк и не подозревал о существовании М. Мельника и, естественно, никогда с ним не беседовал.
Или еще. Корреспондент «Комсомолки», отнюдь не заочно полемизируя в своей статье с начальником политотдела Управления внутренних войск по Северо-Западу и Прибалтике генерал-майором В. М. Петровым, восклицает: «Хотелось бы разделить оптимизм Виктора Михайловича. Но…»
На совещании Политического управления внутренних войск генералу Петрову был задан вопрос: «Расскажите, как же вы беседовали с тов. Мельником о методике поэтапной профилактики неуставных взаимоотношений, если он вас поставил в тупик?»
Виктор Михайлович возмутился: «Помилуйте, я и в глаза не видел корреспондента!»
Если все вышеназванное и есть чистоплотность, то что же тогда, по мнению отдела, недобросовестность? Тут бы просто надо порадоваться отделу пропаганды и военно-патриотического воспитания молодежи «КП», что генералы Гаврилюк и Петров в отличие от генерала Вязигина не написали протест в редакцию и не уличили Мельника не только в отсутствии встреч с ними, но и передергивании их позиции по делу Сакалаускаса.
После публикации «Правды о расстрелянном карауле» и перепечатки ее журналом «Военный вестник» к десятком военных газет М. Мельник выехал в Ленинград, чтобы заручиться поддержкой военных юристов о «жизнеспособности» своей статьи «Случай в спецвагоне». Тут он впервые и переступил порог прокуратуры округа, где ему со всей откровенностью сказали: «Помощь не можем оказать ни «Комсомолке», ни вам, впредь обращайтесь не к эмоциям, а к фактам». Вот так защищала свой мундир «Комсомолка» в лице своего спецкора.
В публикации «Так где же правда о расстрелянном карауле?» отдел пропаганды «КП» пытается «доказать», что наличие, мягко говоря, неуставных взаимоотношений» в спецвагоне кроме рецидивиста Евтухова подтверждают в деле осужденные Е. Лебедев, К. Суховский, Г. Богачев, И. Морозов. Но почему же отделу не привести вот такие показания осужденных из дела Сакалаускаса:
«Е. Зиновьев: «На моих глазах фактов конфликта и стычек между лицами караула не было. Никаких звуков, побоев я не слышал». «А. Гвалдов: «Стычек не видел, не слышал, чтобы кто-нибудь кричал. Заметил, что прибалт чаще других стоял на посту». «В. Баранов: «Никаких конфликтов не замечал. Видел, что солдаты бросались картошкой». «Е. Гончаров: «Драк на моих глазах не было. Как картошкой бросались друг в друга — это было».
Уж очень хочется «Комсомольской правде», чтобы «отношения солдат в карауле были хуже, чем между заключенными», но и в этом мы разочаруем авторов: более 40 осужденных не подтвердили издевательства над Сакалаускасом и только более 10 сказали, что они имели место, но отнюдь не такие, которые «выпорхнули» из-под пера Мельника. Приведенные свидетельства явно «невыгодны» отделу пропаганды «КП», поэтому можно о них и умолчать. Ведь читатель в дело Сакалаускаса не заглянет. Неизвестна массовому читателю и публикация «Правда о расстрелянном карауле».
Или что стоит за реальностью такой «картинки» Мельника:
«…купе караула сотряс крик. «Товарищи» Артура разбудили его. Сделали так: между пальцами ног вложили комок бумаги и подожгли».
По этому эпизоду было допрошено 170 осужденных, и никто из них не подтвердил, что слышал крик, не говоря уже о таком, который «сотряс купе». Ну, не может же быть такого, чтобы все 170 свидетелей в одно мгновение… оглохли?! Тут, думается, другое: уповая на авторитет и популярность «Комсомолки», некоторые «раскрепощенные» сотрудники не гнушаются «сотрясать» страницы издания ЦК ВЛКСМ всякого рода небылицами.
Теперь о якобы «странной забывчивости», которая вменяется автору «Правды о расстрелянном карауле». «КП» утверждает, что председатель военного трибунала округа Ю. С. Вязигин несколько раз повторил Дурневу, что выдает ему дело после корреспондента «Комсомолки» (?!). Но об этом Вязигин не только не «повторял», но и вообще не говорил по одной простой причине: полковник Ю. Дурнев в сборе фактов к очерку абсолютно никакими материалами по делу Сакалаускаса в военном трибунале не пользовался. Задолго до посещения председателя военного трибунала наш корреспондент изучил надзорное дело Сакалаускаса в Главной военной прокуратуре, в Москве, а затем 13-томное дело о трагедии в спецвагоне в военной прокуратуре округа. Там же ему показали видеоролик допроса обвиняемого. Единственное, чем поделился генерал Вязигин, — это копией опровержения, адресованного в «Комсомольскую правду».
«Странную забывчивость» отдел пропаганды «КП» должен, на наш взгляд, отнести к себе. Он «забыл» прежде всего о том, что каждое выступление прессы до суда, да еще с оправдательным уклоном, есть нечто иное, как прессинг средств массовой информации на органы следствия и правосудия. Журнал «На боевом посту» не планировал публикации по делу Сакалаускаса до решения трибунала. Но он вынужден был выступить в связи с развернувшейся массовой кампанией молодежных газет, ленинградского и литовского телевидения, которые всецело представляли преступника как «жертву армии, ее уклада, ее командиров и политорганов». Именно поэтому автор очерка «Правда о расстрелянном карауле» поддержал позицию следствия.
Говоря об этом, приведем размышления заместителя военного прокурора Ленинградского гарнизона подполковника юстиции А. И. Марченко:
«Статьи молодежных газет, фильм «Кирпичный флаг», к сожалению, опираются в основном на показания Сакалаускаса и эмоции. Большую роль здесь сыграло преждевременное заключение экспертной комиссии психиатров и психологов, в том числе профессора Кудрявцева, о том, что преступление было совершено в состоянии физиологического аффекта.
Как мне представляется: такое заключение дано без достаточного материала, то есть в деле не было на тот момент модели преступления (Сакалаускас свидетелей не оставил), хотя его состав требовал более скрупулезного подхода, что впоследствии и было сделано. В личной беседе профессор Кудрявцев заявил, что модель преступлений, совершенных Сакалаускасом, он представил воображением. Именно тогда за это заключение и ухватились журналисты Зазорина (газета «Смена»), Мелейко (Ленинградское телевидение), Мельник («Комсомольская правда»), а потом и съемочная группа Литовской киностудии.
Нельзя признать нравственной позицию журналистов, которые начали разглашать материалы следствия еще в тот период, когда оно не было закончено, и выступать против обвинительного, если в результате содеянного Сакалаускасом в восемь семей ворвалось непоправимое несчастье. А его можно было вполне избежать. Расстрел не был вызван безысходностью ситуации. Как раз этой драмы молодежная печать не увидела.
Ныне в деле Сакалаускаса имеется модель преступления. На мой взгляд, это очень серьезный документ, и возникает сомнение, что Артурас совершил преступление в состоянии физиологического аффекта.
Добираясь до основных обидчиков — Сафарова и Маджунова, он вначале убивает троих: начальника караула, совсем постороннего в конфликте проводника, своего сослуживца, мало чем ему насолившего, и уже потом Сафарова, Маджунова, старшего сержанта Слесарева, с кем он сводит таким образом счеты. И заодно убивает затем еще двух свидетелей — сослуживцев. Забрасывает трупы матрацами, сжигает в топке вагона свою военную форму, одевшись в форму прапорщика и похитив у убитых деньги, ценности, прихватив с собой пистолеты и патроны, скрывается. На станции Бабаево, назвавшись чужим именем, входит в доверие к одинокой женщине и обворовывает ее. Переодевшись в гражданскую одежду, вновь скрывается. Пытался, как он говорил на допросе, пробраться в Литву и спрятаться у бабушки в деревне. Его действия настолько четки и последовательны, что крайне трудно говорить о физиологическом аффекте».
Подобную версию и отстаивал автор очерка «Правда о расстрелянном карауле», что и разгневало «защитников» Сакалаускаса, представивших его неким агнцем, страдальцем от армии и лубочным пай-мальчиком. И уж совсем некоторые радетели ложного авторитета «КП» теряют чувство реальности, когда позволяют себе выходки, несовместимые со статусом журналиста центральной печати. Так было с Мельником, когда, приехав в Армению после землетрясения, он в присутствии группы офицеров Главного политического управления со свойственным ему снобизмом заявил: «Я приехал, чтобы реабилитировать внутренние войска… А этого полковника Дурнева я сделаю подполковником…»
Тут, как говорится, комментарии излишни.
В том же номере «КП» за 29 июня, где опубликован материал «Так где же правда о расстрелянном карауле?», есть информация «Погуляли…», в которой живописуется, как призывники в г. Емва, что в Коми АССР, перепившись, устроили дебош. Они перебили стекла в 15 домах, повредили несколько автомобилей, избили четырех прохожих. Милицейский наряд из 12 человек пытался образумить пьяную молодежь, но та начала избивать их ногами. В представителей правопорядка полетели камни, пошли в ход палки и пустые бутылки. Четверо сотрудников получили телесные повреждения.
Наверное, этот вопиющий факт достоин того, чтобы отдел пропаганды и военно-патриотического воспитания «КП» проанализировал положение дел с допризывной молодежью, подготовкой ее к армии, роли в этом комсомольских организаций Коми республики. Но вновь «просочилась» на страницы «Комсомолки» сенсация с оговоркой, что это случилось по вине тех, кто сопровождал призывников. Значит, опять армия «виновата», что в нее направлялась очередная толпа уже готовых «дедов»?
И последнее. Реплику отдела пропаганды «Так где же правда о расстрелянном карауле?» «Комсомольская правда» опубликовала в те дни, когда вышло в свет Постановление Секретариата ЦК КПСС и записка к нему «Об освещении в центральной печати жизни и деятельности Советских Вооруженных Сил». В ней, в частности, говорится:
«Вместо серьезного, вдумчивого анализа… широкому читателю без достаточной проверки нередко подаются всякого рода «жареные» факты. Порой отдельные, правдиво показанные детали обрастают надуманными ситуациями и оттенками, в результате чего таким выступлениям придается сенсационный характер. Так получилось с публикацией, в результате чего таким выступлениям придается сенсационный характер. Так получилось с публикацией в газете «Комсомольская правда» статьи «Выстрел в вагоне» (здесь допущена опечатка, следует читать: «Случай в спецвагоне», — А. Г.). В ней еще до окончания следствия были сделаны преждевременные выводы о мотивах, которыми руководствовался солдат, совершивший тягчайшее преступление. Генерал-майор Вязигин направил письмо в газету «Комсомольская правда» с протестом на недобросовестное, неточное цитирование его высказываний об этом факте, однако ответа не получил, его письмо опубликовано не было. И это не единичный факт. Редакции многих изданий, отстаивая честь ведомственного мундира, не считают возможным печатать материалы, расходящиеся с их мнением или опровергающие его».
Амбиции не позволили «Комсомольской правде» прислушаться к Постановлению Секретариата ЦК КПСС.
…Правильно пишут матери расстрелянных сыновей, что Сакалаускас расстрелял материнские сердца. Родителей младшего сержанта Никифорова известие о гибели сына надолго приковало к постели. Весть о смерти любимого внука ефрейтора Сафарова унесла в могилу его деда, инвалида Великой Отечественной войны. Чудом спасли мать старшего сержанта Слесарева. Она пыталась покончить жизнь самоубийством. Мать рядового Маджунова парализовало, а отец не может приступить к работе — отнялась левая рука. Прапорщик Котовский так и не успел стать отцом. Сын родился через несколько месяцев после его гибели…
Таковы метастазы трагедии в спецвагоне, а не «случая», как игриво оценила ее «Комсомолка».
А на счет Вильнюсского Сбербанка поступают деньги в помощь в защиту Артураса Сакалаускаса…
Примечания
1
Шималь! — Налево! (араб.).
(обратно)2
Дийа! — Минута! (араб.).
(обратно)

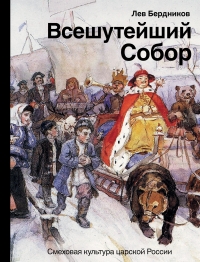


Комментарии к книге «Военные приключения. Выпуск 4», Валерий Борисович Гусев
Всего 0 комментариев