Виктор Соснора Cтихотворения
ВСАДНИКИ 1959–1966
ЗА ИЗЮМСКИМ БУГРОМ
За Изюмским бугром побурела трава, был закат не багров, а багрово-кровав, желтый, глиняный грунт от жары почернел. Притащился к бугру богатырь печенег. Пал ничком у бугра в колосящийся ров, и урчала из ран черно-бурая кровь. Печенег шел на Русь, в сталь и мех наряжен, только не подобру шел — с ножом на рожон, не слабец и не трус, — получился просчет… И кочевнику Русь обломала плечо. Был закат не багров, а багрово-кровав. За Изюмским бугром побурела трава. Солнце четкий овал задвигало за гать. Печенег доживал свой последний закат.У половецких веж
Ну и луг! И вдоль и поперек раскошен. Тихо. Громкие копыта окутаны рогожей. Тихо. Кони сумасбродные под шпорами покорны. Тихо. Под луной дымятся потные попоны. Тихо. Войско восемь тысяч, и восемь тысяч доблестны. Тихо. Латы златокованы, а на латах отблески. Тихо. Волки чуют падаль, приумолкли волки. Тихо! Сеча! Скоро сеча! И — победа, только… тихо…Пир Владимира
Выдав на бойню отару, бубен добыл берендей. Купно придвинуты чары. Бей, бубен, бей, бубен, бей! Очень обижен Добрыня — крутит чупрыною аж: — Вот что, Владимир, отныне ты мне, племяш, — не племяш. Красное Солнце, не гоже ложке шуршать на губе. Тьфу! Деревянные ложки! — Бей, бубен, бей, бубен, бей! Хмуро десятники встали: — Выковать ложки пора! Разве мы не добывали разного злат-серебра? Липовой ложкой как можно мучить дружину тебе? Слава серебряным ложкам! — Бей, бубен, бей, бубен, бей! Бочки рядами и рядом. Днища мокры от росы. Брызжет в жаровнях говяда. Ромбами вырублен сыр. В чаши, кувшины, ендовы хлещет медовый ручей, — добрый, медово-бедовый! Бей, бубен, бей, бубен, бей!Рогнеда
На Днепре апрель, на Днепре весна волны валкие выкорчевывает. А челны черны, от кормы до весла просмоленные, прокопченные. А Смоленск в смоле, на бойницах крюки, в теремах горячится пожарище. У Днепра курган, по Днепру круги, и курган в кругах отражается. Во курган- горе пять бога- тырей, груди в шрамах — военных отметинах, непробудно спят. Порубил супостат Володимир родину Рогнедину. На передней короге в честь предка Сварога пир горой — коромыслами дымными. Но Рогнеда дичится, сдвинув плечи- ключицы, отвернулась от князя Владимира. Хорохорятся кметы: — Дай рог Рогнеде, продрогнет Рогнеда под сорочкою. — Но Владимир рог не дал нелюдимой Рогнеде. Он промолвил: — Ах ты, сука непорочная Ты грозишь: в грязи народишь сынка, хитроумника, ненавистника, и сынок отца завлечет в капкан и прикончит Владимира быстренько. Не брильянты глаза у тебя! Отнюдь! Не краса — коса цвета просового. От любви убил я твою родню, от любви к тебе, дура стоеросовая! — Прослезился князь, преподносит — на! — скатный жемчуг в бисерной сумочке. Но челны черны, и княжна мрачна, только очи ворочает сумрачно.Калики
Приходили калики к Владимиру. Развлекали Владимира песенками. И поили их винами дивными. И кормили заморскими персиками. Только стольники-прихлебатели на калик возводили напраслину: будто утром певучая братия блуд вершила с княгиней Апраксией. Взволновался Владимир за женушку. Понасупил бороду грозную. Выдал стольникам розги саженные… И мычали калики под розгами. Отмычав, подтянули подштанники. Заострили кинжалы до толики. Рано-раненько за баштанами прикололи калики стольников.Карачарово
В Карачарове селяне — крикуны. Ох и любят они глотку размять, ох и любят помянуть под блины новоявленного бога и мать. Соберутся в кабаке — и в бока заскорузлые ладони: — Дуду! — И закатят в кабаке трепака под дуду, да так, что бревна гудут в кабаке. А кабацкая голь, завшивевшая, в парше голова, уворовывает яйца и соль, огурцы и куропаток в рукава! В Карачарове селяне — крепыши, бабы — пышки, а детворня кривонога, на ушибе ушиб, испекает на угольях воронят и, прищурив хитрющие ресницы, преподносит воронят папашам: — Вот попашете, попьете из криницы, и откушаете уточки с кашей…Скоморохи
В белоцерковном Киеве такие скоморохи — поигрывают гирями, торгуют сковородками, окручивают лентами округлых дунек… И даже девы бледные уходят хохотуньями от скоморохов, охают в пуховиках ночью, ведь ночью очень плохо девам-одиночкам. Одним, как ни старайся, — тоска, морока… И девы пробираются к ско- морохам. Зубами девы лязгают от стужи. Ночи мглисты. А скоморохи ласковы и мускулисты, и дозволяют вольности… А утром, утром у дев уже не волосы на лбу, а кудри окутывают клубом чело девам, у дев уже не губы — уста рдеют! Дождь сыплется… Счастливые, растрепанные, мокрые, смеются девы: — В Киеве такие скоморохи!Калика
Посох тук-тук… Плетется калика, посох тук-тук… в портянках плетеных, посох тук-тук, стихарь да коврига, посох тук-тук, у калики в плетенке. За плечом летописные списки о российских ликующих кликах. Напевая стишок византийский, вперевалку плетется калика. Над каликой гогочут вприсядку дядьки-ваньки и девки-нахалки, и кусают калику за пятки шелудивые псы-зубоскалы. Посох тук-тук по сухому суглинку, посох тук-тук по кремнистому насту. Непутево плетется калика. Ничего-то калике не надо.Застольная новгородских мятежников
Приподнимем братины, братья! Пузырями в братинах брага! За отвагу прошедших ратей! За врагов, размешанных с прахом! Мы подлунны, как вся, мы — смертны, только преть в перинах противно. Приподнимем братины, смерды, за разгул — к потолку братины! Приподнимем братины, други, за мятеж! Заострим рогати! Всех владык толстобрюхих — крюком, и на дыбу владык брюхатых! Жрать горбуху и квас не вечно нам, на пашнях дробящим камни. Будет править Новградом вече — не науськанное князьками. Быть в Новграде холопской правде, быть холопскому дьяку в храме! Приподнимем братины, братья! Побратаемся с топорами!Бой Мстислава с Редедей
Мстислав пучеглаз и угрюм, как пучина. Не ведал он ласк и девичьей кручины и не подносил полонянкам парчи. Закрученный ус у Мстислава торчит. Мстислав солнцелик. Но не ясен, а красен лицом, а плечами устойчивей граба. Мудрец Ярослав и молва не напрасно прозвали Мстислава маститого Храбрым. Из рощи, где ропщет в трясине осока, ведет русых руссов Мстислав на косогов. Из бора, где ели у кромки редеют, ведет горбоносых косогов Редедя. И сдвинулись армии. Встали, горланя орлами голодными перед бранью с орлами голодными. Рявкнул Редедя: — Вы, руссы, вы — трусы, собакины дети! Ваш князь — недоносок, и харя вдобавок. — Мстислав ухмыльнулся. Мстиславу забавно. Мстислав до мизинцев улыбкою застлан: — О, витязь Редедя опять нализался! — Летят в лопухи оборонные латы. Сцепились два князя. Кулачная схватка! Мечи — в лопухи! Если драться — то драться! Наметан кулак. Мимо скулы не клацнет. Обучены витязи скулы мочалить. Придвинулись армии ближе. Молчали, борцов одобряя бряцаньем металла. Вспотевшая пыль над борцами металась. Вот вскрикнул Редедя — и замертво рухнул, раскинув черноволосые руки. Он рухнул, как ствол под секирою грубой, не выпивший всласть черноземного сока. Мстислав прикусил размозженные губы и, шею набычив, пошел на косогов, пошел, кулаками по воздуху тыча, один — против армии в несколько тысяч, с двумя кулаками — на полчища стали. Смутились косоги и побежали… Пирует Мстислав. Созывает на праздник окрестных крестьян и пирует — до храпа! Мудрец Ярослав и молва не напрасно прозвали Мстислава маститого Храбрым.1111 год
Между реками, яругами, лесами, переполненными лисами, лосями, сани, сани, сани, сани, сани, сани… Наступают неустанно россияне. Под порошей пни, коренья нетелесны, рассекают завихренья нити лезвий. На дружинниках меха — баранья роба. На санях щиты поставлены на ребра. Шустро плещутся плащи по перелескам. Даже блестки снеговые в переплеске, от полозьев — только полосы на насте… Как бояре взъерепенились на князя: — Ты, Владимир Мономах, мужик не промах: ты казну и барахло оставил дома: ты заставил нас покинуть жен, халупы, обрядить свою холопину в тулупы. Где ж добыча, князь? Морозы-то — не охнуть! Все в сугробах половецких передо́хнем! Разъярился Мономах: — Чего разнылись? Разве сани не резвы и не резные? Разве сабли не заточены на шеях? Так чего же вы разнюнились, кощеи? Не озябли вы, бояре, не устали, — вам давненько по ноздрям не попадало! — Тяжела у Мономаха шапка-ярость! Покрутив заледенелыми носами, приумолкли пристыженные бояре… Между реками, яругами, лесами снова — сани, сани, сани, сани, сани… Наступают неустанно россияне.МАЛЬЧИК БОЯН ИЗ ЗАГОРЬЯ
Буран терзал обочины, ласкал бурьян обманчиво. Шли по полю оброчные и увидали мальчика. И увидали мальчика по росту — меньше валенка. Ни матушки, ни мачехи не помнил мальчик маленький. Не помнил мальчик маленький ни батюшки, ни отчима. На нем — доха в подпалинах овчиной оторочена, шапчонка одноухая, вихры клочками мерзлыми. Крестьяне убаюкали мальчишку низкорослого. В печи до самой полночи рычало пламя пылкое. Мальчишка встал тихонечко и сел в куток с сопилкою. И заиграл о Загорье, о загорелых ратниках, о тропах, что зигзагами уводят в горы раненых. Сны у оброчных прочные, — сопят во все подусники… Проспали ночь оброчные и не слыхали музыки.Боян
Стихи да кулак булатный — все достоянье Бояна. Есть латы. Но эти латы отнюдь не достоянье. Под латами-то рубаха в прорехах, в зубцах-заплатах. Всучил Ярослав-рубака за песни Бояну латы. Не князь — перекатной голью слоняться бы вечно певчему. А нынче идет что гоголь, посвечивая наплечниками. Увидит кабак нараспашку, клокочущий ковш осушит, такое понарасскажет — от хохота пухнут уши! И выпьет на полполушки, а набузит на тыщу. Отыщет боярина-клушу и под бока натычет. Кулак у Бояна отборный. Под забором, на бревнах тухлых боярина долго и больно колотит Боян по уху. Что удар — то майский подарок, что удар — громыхают кости. И кличет боярина Ставра Боян «поросенком бесшерстным».Боярин
У боярина Ставра хоромы. Закрома у Ставра огромны. Проживает боярин в палате. А носит обноски-лапти. И сам-то боярин — лапоть, и лоб у него — не очень. И любит боярин лапой в пушистой ноздре ворочать. Добро, был бы хрыч старый, а то — двадцатитрехлетний. Вершина деяний Ставра — валяться в пшеничной клети. Прихватит персидский коврик, заляжет с утра в малинник… Напрасно Ставра торговле обучает жена Марина. Боярин лепечет — умора! — называет полушку аршином. И хлещет его по морде сковородой Марина.Марина
Не отменна Марина станом. Невысока, курноса явно. Но, конечно, не кринкой сметаны обаяла Марина Бояна. У Марины очи неистовы, голубее бабьего лета. А походка — увидишь издали и пойдешь далеко следом. Обожает Марина вина. Пьет с Бояном и спит в чернике. Только не побежит Марина за Бояном в родной Чернигов. Что возьмешь с гусляра Бояна, продувного, как сито, разве будешь от песни пьяной? Или сытой? Песня ценится много ниже, чем на властном заду прыщик. Никогда не уйдет Марина от боярских бочонков и пищи.ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ БОЯНА
«Я всадник. Я воин. Я в поле один…»
Я всадник. Я воин. Я в поле один. Последний династии вольной орды. Я всадник. Я воин. Встречаю восход с повернутым к солнцу веселым виском. Я всадник. Я воин во все времена. На левом ремне моем фляга вина. На левом плече моем дремлет сова, и древнее стремя звенит. Но я не военный потомок славян. Я всадник весенней земли.«Возвращайся, воин, в дом…»
Возвращайся, воин, в дом, в дом дрём, без руля и без колес дом грёз, истреблен и гнет и трон — дом дрём, всё взаправду, всё всерьез, дом грёз. Возвращайся, воин, к винам, прекращай обиды битв, обращайся, воин, к вилам, обещай баклуши бить, пригляни себе сутану семейную… Прокляни меня, солдат, за советы.«И грустить не надо…»
И грустить не надо. Даже в самый крайний, даже на канатах играйте, играйте! Алёнушка, трудно? Иванушка, украли? Эх, мильонострунно играйте, играйте! Или наши игры оградим оградой? Или — или — или! Играйте, играйте! Расторгуйте храмы, алтари разграбьте, на хоругвях храбро играйте, играйте! На парных перинах предадимся росту! Так на пепелищах люди плачут, поэты — юродствуют.«Был крыжовник…»
Был крыжовник больше арбуза, на мраморной березе во́роны сидели, во́роны сидели, они целовались, один ворон черный, другой ворон белый, один ворон каркал, другой кукарекал… Это в сказке. В жизни такого не бывает. В жизни всё иначе, всё обыкновенно: был помидор, маленький, как клюква, на двух муравьях две вороны ехали, две вороны ехали, в клювах по сабле, одна ворона белая, другая не малиновая, а по небу бегала ворона в туфельках, из мраморных жилок плела паутину… Это в жизни. В сказке такого не бывает.«Догорай, моя лучина, догорай…»
Догорай, моя лучина, догорай! Всё, что было, всё, что сплыло, догоняй. Да цыганки, да кабак, да балаган, только тройки — по кисельным берегам. Только тройки — суета моя, судьба, а на тройках по три ворона сидят. Кто он, этот караван и улюлюк? Эти головы оторваны, старик. А в отверстиях, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит. По фонарику — зеленая тоска! Расскажи мне, диво-девица, рассказ, как в синицу превратился таракан, улетел на двух драконах за моря… Да гуляй, моя последняя тоска, как и вся больная родина моя!«Где же наши кони…»
Где же наши кони, кони вороные? Где же наши копья, копья воронёные? Отстарались кони. Отстрелялись копья. Незадаром в роще, бедной и беззвучной, ходит странный ворон ходуном по сучьям, ходит и вздыхает, на лице громадном, на лице пернатом скорбная гримаса. Ничего не надо: ни чужих отечеств, ни коней, ни копий… Осенью огромной с нами наше счастье: белые одежды, бедный бор да ворон, ворон воронёный.«И вот опять, и вот — вниманье!..»
И вот опять, и вот — вниманье! — и вот метели, стражи стужи. Я понимаю, понимаю мятущиеся ваши души. Когда хлеба́ ревут «Мы в теле!», я так спокоен, так неспешен: мои костлявые метели придут надежно, неизбежно, — и кто бы как бы ни хотели, — над всей над повседневной сушей! Здоро́во, белые метели, мои соратники по стуже!«Завидуешь, соратник, моему…»
Завидуешь, соратник, моему придуманному дому? Да, велик он, храм химерный моему уму, хранилище иллюзий — или книг. Взойди в мой дом, и ты увидишь, как посмешище — любой людской уют, там птицы (поднебесная тоска!) слова полузабытые поют. Мой дом, увы, — богат и, правда, прост: богат, как одуванчик, прост, как смерть. Но вместо девы дивной, райских роз на ложе брачном шестикрылый зверь. И не завидуй. Нет у нас, поверь, ни лавра, ни тернового венца. Лишь на крюке для утвари твоей мои сердца, как луковки, висят.«Дождь идет никуда, ниоткуда…»
Дождь идет никуда, ниоткуда, как старательная саранча. Капли маленькие, как секунды, надо мною звучат и звучат, не устанут и не перестанут, суждены потому что судьбой, эти капли теперь прорастают, может, деревом, может — тобой. Воздух так водянист и рассеян. Ты, любимая, мы — воробьи. В полутьме наших птиц и растений я любил тебя или убил? Пусть мне всякий приют — на закланье! Поводырь, меня — не доведи! Ворон грянет ли, псы ли залают, — веселись! — восвояси! — в дожди! Дождь идет всё сильнее, всё время, племена без ветрил, без вождя. Он рассеет печальное племя, то есть каждую каплю дождя. Где я? Кто я? Куда я? Достигну старых солнц или новых тенет? Ты в толпе торопливых дождинок потеряешь меня или нет? Меч мой чист. И призванье дано мне: в одиночку — с огульной ордой. Я один. Над одним надо мною дождь идет. Дождь идет. Дождь идет.Первая молитва Магдалине
На ясных листьях сентября росинки молока. Строения из серебра сиреневы слегка. Ты помни обо мне, о нем, товарище чудес. Я вижу вина за окном. Я вовсе не воскрес. Я тень меня. Увы, не тот. Не привлекай кликуш. Не объявляй обильный тост. Мария! Не ликуй. Я тень. Я только дух себя. Я отблеск отчих лиц. Твоя наземная судьба — для юношей земли. Тебе заздравье в их сердцах. Не надо. Не молись. И что тебе в такой сентябрь сомнения мои! Твой страх постыден в день суда. Оставим судьям страх. А я? Что я?! Не сострадай, несчастная, сестра. Их жизнь — похлебка, труд и кнут, их зрелища манят. Они двуногий свой уют распяли — не меня. Сестра! Не плачь и не взыщи. Не сострадай, моя. Глумятся надо мной — молчи, внимательно молясь. Но ты мои не променяй сомнения и сны. Ты сказку, сказку про меня, ты сказку сочини.«Наше время — веселиться…»
Наше время — веселиться, размотать души клубок. Ты — царица Василиса, я — твой первый теремок. В этом доме пели мало и не плакали еще. Понемножку пировали, целовались под плащом. И порхали очень просто ноготки, как лепестки. Наше время — время тостов от безвременья тоски.Вторая молитва Магдалине
Это птицы к подоконникам льнут. Это небо наполняет луну. Это хижины под небом луны переполнены ночными людьми. Невозможно различить в темноте одинаковых, как птицы, людей. Ты целуй меня. Я издалека обнимаю! Обвиняю свой страх. Я неверье из вина извлекал, от, любимая, неверья устал. Нет привала. Вся судьба — перевал! Запорожье! Нет реки Иордань! Если хочешь предавать — предавай, поторапливайся! Эра — не та! Нынче тридцать за меня не дадут. Многовато бескорыстных иуд. Поспешай! Петух Голгофы поет. Да святится святотатство твое…Язычники
Обличает волк луну, как людей Божий Сын… Житие — ни тпру ни ну, то ли чернориз-цы! Ратуют они за рай, там нектары — ложками! Если житие — сарай, проповеди — ложны! Пред амвоном гнись дугой, гуди — как положено! Если всюду пьянь да голь, проповеди — ложны! Белениться? Не балу́й! Плуг тебе да лошади! Если поголовный блуд, проповеди — ложны! Черноризцам — все азы, патоку и птаху, а язычникам — язык на полку? на плаху? За любовь пред паствой маяться? Псалтыри за счастье? Верим в солнце, верим в мясо, в соль, в зерно, в зачатье, в бубны, в бани, в хоровод, в гусельные весла! В нашей жизни горевой ой как редко звездно…«Белый вечер, белый вечер…»
Белый вечер, белый вечер, колоски зарниц. Не кузнечик, а бубенчик надо мной звенит. Белый вечер, белый вечер, блеяние стад. И заборы будто свечи белые стоят. Прошумят березы скорбно, выразят печаль. Прошумят они: — О скоро твой последний час. — Что же, скоро, я не дрогну в свой последний час. Не приобрету в дорогу ни мечей, ни чаш. Не заполучу надежды годовщин и книг. Выну белые одежды и надену их. Белый вечер, белый вечер, колоски зарниц. И кузнечик, как бубенчик, надо мной звенит.«О чем плачет филин?…»
О чем плачет филин? О том, что нет неба, что в темноте только двенадцать звезд, что ли. Двенадцать звезд ходят, игру играют, что месяц мышь съела, склевал его ворон. Унес ворон время за семь царств счастья, а в пустоте плачет один, как есть, филин. О чем плачет филин? Что мир мал плачу, что на земле — мыши, все звезды лишь — цепи… Когда погас месяц, и таяло солнце, и воздух воздушен был, как одуванчик, когда во все небо скакал конь красный и двадцать две птицы дневных смеялись… Что та́к плакал филин, что весь плач птичий — бессилье бессонниц, ни больше, ни меньше.«Легенду, которую мне рассказали…»
Легенду, которую мне рассказали, веками рассказывают русалки. Хвостами-кострами русалки мерцают, их серьги позванивают бубенцами. Наследницы слез и последних лишений вставали над озером в белых одеждах, наследницы слез и последних лишений, всё женщины чаще, а девушки реже. Хвостами-кострами русалки мерцали, их серьги позванивали бубенцами. Их озеро требовало пополненья: пришло и последнее поколенье. Различия — те же, причины — как прежде, лишь девушки чаще, а женщины — реже. Немые русалки плывут по каналам и рыбье бессмертье свое проклинают…Обращение
Подари мне еще десять лет, десять лет, да в степи, да в седле. Подари мне еще десять книг, да перо, да кнутом да стегни. Подари мне еще десять шей, десять шей да десять ножей. Срежешь первую шею — живой, срежешь пятую шею — живой, лишь умоюсь водой дождевой. А десятую срежешь — мертв. Не дари оживляющих влаг или скоропалительных солнц, — лишь родник, да сентябрь, да кулак неизменного солнца. И всё.СМЕРТЬ БОЯНА
За городом Галичем, на перепутье, харчевня. Для панства — харчевня, а простонародью — корчма. И русич, и лях, и турпей — неумытый кочевник — отыщут в харчевне любое питье и корма. На прочную ногу — скамьи из точеного бука — поставил харчевню еврей-весельчак Самуил. То флейтой зальется, то филином зычно аукнет… Гогочут пьянчуги, вздымая усы: — Уморил! — Давненько не хаживал к весельчаку иудею соратник Бояна, хоробр новгородский Поток. Хозяин угодлив: склоняя оплывшую шею, подносит сивуху, арбуз и куриный пупок. А гости, а гости, а гости печатают песню, отменную песню, что слово — то конника топ. Хозяин доволен: лоснятся колечками пейсы. Хозяин смущен: плачет паче младенца Поток: — В песчаном Чернигове рынок что сточная яма, в помоях и в рытвинах — лоб расколоть нипочем. На рынке под вечер, в сочельник, казнили Бояна, Бояна казнили, назначив меня палачом. Сбегались на рынок скуластые тощие пряхи, сопливых потомков таща на костистых плечах. Они воздевали сонливые очи на плаху и, плача в платочки, костили меня, палача. А люди, а люди, а люди болтали о рае, что рай не Бояну, Бояну — отъявленный ад. Глазели на плаху, колючие семечки жрали, судачили: влево иль вправо падет голова. Потом разбредались, мурлыча Бояновы строки, — лелеять иконы в своих утепленных углах. Марина, которой Бояном написано столько, в ту ночь, как обычно, с боярином Ставром легла. Я выкрал у стражи Бояновы гусли и перстень, и — к черту Чернигов, лишь только забрезжила рань… Замолкните, пьянь! На Руси обезглавлена Песня. Отныне вовеки угомонился Боян. Родятся гусляры, бренчащие песни-услады, но время задиристых песен вовеки зашло… В ночь казни смутилось шестнадцать полков Ярослава. Они посмущались, но смуты не произошло.СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ
«Вот и рядом…»
Вот и рядом. Чаяли — простимся. Рассвело, и рядом проще стало… Правда, ты печальной Евфросиньей обо мне в Путивле причитала? Я тогда не поводил и усом, посвист копий да охоту чтил. Думал — не вернусь, а вот вернулся через восемь сотен лет почти. Разве мы в своей судьбе студеной не прошли тревожные азы? Дождик-дождь, старательный садовник! Нет, но нам не миновать грозы. Разве нам впервой река — отчизна, а сухая плоскодонка — дом? Разве нам впервой иголки-брызги собирать, а завтракать дождем? Ты припомни: на реке Каяле, той реке общеславянской боли, мы стрелой из ялика карали княжичей, перебежавших в Поле в непогодь Руси… Теперь — не надо. Нет и нет как нет реки Каял. Есть — туман. В тумане — лодка наша, как и ты, плывущая, и я. А повсюду, сбрасывая перья, птицы улетают цифрой «семь»… Есть ладонь твоя — твое доверье, нами позабытое совсем.Слово о полку Игореве (по мотивам)
Братья! Настала година браться за Слово Великое! У Бояна стозвонные гусли, а на гуслях русский орнамент, гусли могут стенать, как гуси, могут и клекотать орлами, могут мудростью с дубом спорить, спорить скоростью с волком могут, радость князю — ликуют, горе — разом с князем горестно молкнут. У Бояна бойкие струны! Словно десять кречетов статных напускает Боян на юное лебединое стадо. Первый кречет кричит победно песню-здравицу в честь Мстислава, что прирезал Редедю пред полками косогов бравых. То не десять кречетов юных — десять пальцев, от песен скорченных, задевают струны, а струны сами славу князьям рокочут. Или вдруг заструятся грустью, журавлиною перекличкою… У Бояна стозвонные гусли — пере- лив- ча- тые!* * *
Тогда Игорь поднял глаза на солнце, тогда Игорь опустил глаза на войско, тогда Игорь увидел: солнце затмилось, а войско было во тьме и мигало металлом. Семьдесят ковуев в полотняных латах ускакали без оружия, а много тысяч воинов поднимали к темному солнцу руки, а руки были голые, как свечи, потому что тяжелые, связанные из железа рукава соскальзывали к плечам. И собаки не лаяли. Они сидели в позе лягушек и закрывали глаза. Это было первого мая, через девять дней после выступления войска. Все кони во тьме были темной масти, они опускались на колени, а потом ложились на бок. Это было в среду. Это было в три часа дня. И были большие звезды около солнца и дальше. Конь у Игоря игривый, глаз играет и горит, — ухмыльнулся Игорь криво, говорит: — Лучше быть убитым в поле, чем захваченным в полон, не пеняйте, кто не понял: мы посмотрим синий Дон! Влагу пресную (о битва!) кровью посолим, тьма-знамение обиду нам не посулит. Если двинем встречу грому скорым скопом — либо головы преломим, либо копья!* * *
О Боян, соловей стародавний, песнопевец земли беспутной, сколько струны твои страдали на безлюдье, в беде и в бунте! Наши песни — твое веленье! — выше звездной Тропы Трояна! Так пропел бы ты, внук Велеса, увидав своих россиян: — За Сулой игогочут кони, надрываются трубы в Путивле, развеваются, будто корни, стяги! Будет побит противник! — Или так: — Не ураганы соколов пригнали к Дону, скачет войско днем угарным пить из Дона из студеного.* * *
Скоро бой! Победа скоро! Под шатровыми жердями у Оскола, у Оскола Игорь брата поджидает. Что-то третье утро выдаст? Ждать еще придется сколько? Скачет Всеволод — буй-витязь утром третьедня к Осколу. Разумом он — волхв отменный, твердостью — терновый куст. Вдоль донской степи степенной горлопанит песню Курск: — Мы, куряне, с пеленок воины, нами все путь-дороги зна́емы, наши тулы настежь отво́рены, и всегда насторо́же зна́мена. Если пьем — до отруты бе́ленной, если жрем — в животах оскомина. Мы под вопли труб всколыбелены, с наконечников копий вскормлены. Наши сабли в брусках изо́стрены, луки, что желваки, напря́жены, сами скачем степями жесткими день и ночь за врагами княжьими.* * *
И поехали полки по полю. Тогда была гроза, было много молний, птицы опускали мокрые и красные крылья. Всадники еле-еле ехали в красных кольчугах. Чернь, или черные люди, заслоняли щитами головы, и дождь разбивался о щиты и сбегал со щитов уже медленнее. А единственный не воин, старичок с большими ушами, без меча, но с бубном, бил в бубен указательным пальцем. Он бил в бубен тихо и тихо пел песню. Эту песню все слышали: «Ой, пурга, пурга, ой, белы снега! В чистом поле полк волю воевал. В чистом поле волк где-то завывал. Ой, пурга, пурга, ой, белы снега! В чистом поле волк умер от пурги, в чистом поле полк до бойца погиб…»* * *
Растрепали перья птицы, клык оскалил зверь, Див вопит с макушки тиса: — Россиянам смерть! — Быть обиде! Россиянам в ранах истекать. Неспроста в Тмуторокани плачет Истукан! Быть беде! Беда шагает с Игорем из мглы. На трупье зовут шакалов клекотом орлы. Горе! Запах трупов прелый всюду ощутим. Лисы-псы остервенело лают на щиты. — В пятницу на Сюурлий потоптал Игорь полки половецкие. В грязь — ковры и аксамиты! Шелком — топь мостить! Половчанок неумытых — в теплые кусты! А отличия почета — Игорю в шатер: древко, стяг, хоругвь и челку — жечь густой костер! Отступают половчане к хижинам, к харчам. И телеги их ночами жалобно кричат. — О Русское племя! Ты уже за Изюмским бугром!* * *
Налегла на Сюурлий мгла — лиловый чад, замигала, заюлила юркая заря над разливом Сюурлий. Соловьи закрыли клювы, но, в предвестье орд, вытаращив очи-клюквы, воронье ревет над разливом Сюурлий. Прислонив щиты к телегам — там казна и раб, — дремлют правнуки Олега. Богатырский храп над разливом Сюурлий. Хан Кончак полки скликает, и крадется Гза… Замолчала под клинками ратная гроза над разливом Сюурлий. Тогда половчане варили рис и просо в молоке, и ели сыр, и пили кобылье молоко, они подсовывали под седла лошадей куски конины, они гнали лошадей, лошади потели, и мясо нагревалось, и кочевники ели теплое мясо, и что было на следующий день…* * *
На другой день ранней ранью: С Азовского моря бредут черно-бурые тучи. Они прибредут, они разразятся грозой. И гром застучит, как под смерчем громоздкие сучья, и молнии накрест перечеркнут горизонт. И дождь не водичкой — пернатыми стрелами хлынет, и будет не бой — будет бойня корежить дубы, и сабли преломятся о половецкую глину, и копья потупятся о половецкие лбы. И буйные ветры, великие внуки Стрибога, накрутят спиралями пыль на копыта волов… С Азовского моря ползет половецкая погань, мотая шарами нечесаных черных голов. Горланят быки, запрокинув двурогие морды, бесштанные половчата в скрипучих телегах юлят… Шары волосатых голов от Кальмиуса до моря гортанными гиками загородили поля. — О Русское племя! Ты уже за Изюмским бугром! То было в те бои и рати, когда разладица росла, когда в черниговской палате скончался мудрый Ярослав, когда Олег, призвав Бориса в болотистый Тмуторокань, по всей Руси с Борисом рыскал, да так, что уши затыкал, заслышав бряк стремян Олега, неколебимый Мономах и за дружинниками бегал, ломясь в кабацкие дома, и двигал косяки дружин не щит на щит — на тело тело… Так рухнул у ручья Канин Борис, прокняживший неделю. Вода в Кагальнике горька, но пуще прежнего прогоркла, как подломился Тугоркан под саблей зятя Святополка. Междоусобья и крамолы век человечий коротали. На пашнях злаки перемерли, не слышно покриков ратаев. Одни воро́ны, брюха ради, на падаль падали повально. То было в те бои и рати, но равной рати не бывало. Что мне шумит, что мне звенит далеко-далече рано перед зорями? С рассвета до полночи, с полночи до рассвета втыкаются стрелы в разинутые зрачки и копья прокалывают кольчужные сетки насквозь, до лопаток. Кобылы, храпя у реки, колотят копытом еще не остывшие ребра, и ребра потрескивают. Пробираясь по ребрам вперед, бойцы-половчане, чумея от бычьего рева, сдирают с трупья золотое добро и тряпье. Беснуется Всеволод. Разве зарубленный ляжет. Забыты Чернигов, отеческий ласковый стол, где дымом исходят котлы поросячьих ляжек, где Глебовна блещет грудастою красотой. На третьем рассвете ковуи не вынесли боя, бегут, озираясь, роняя тупые мечи, кровь затвердевает, кровь крошится под ногою и красными щепками в спины ковуям стучит! Напрасно князь Игорь ковуям грозит: «Берегитесь!» — на иноходце бичом вымещая зло, — ковуи бегут! А у князя рука перебита, рука омертвела, висит на плече, как весло.* * *
И тропинки нет обратно: стяги пали, разлучились два брата на реке Каяле, на Макатихе кручинной, где на месте свалки ковыряют мертвечину голодранцы-галки. Галки прыгают, пугаясь: там скула, там ус торчит. Сватов напоив поганых, полегли русичи, пир докончили со славой за краину Русскую… Преклонили дубравы разветвленья хрусткие. Закачались ковыли жалостливо по́ полю. Убирают ковали наковальни в по́дполье. Не ковать им, ковалям, ни мечей, ни копий. Им по избам ковылять с мелочной поковкой.* * *
Мерзлотой засквозило с гор. Этот год будет Год — Скорбь, этот год будет Год Зла. Полушубки сгниют на плечах, негасимая зола заледенеет в печах. Этот год будет Год — Мор. Лед сукровицей запятнается. В этот год приплетется домой уцелевшее войско: пятнадцать замордованных смердов-кощеев. И расскажут пятнадцать о битве, раздвигая красные щели, щели красные ртов… Обида приподнимется хмурой Девой в предрассветном пресном сиянье. И расплачется Дева: — Где вы, русоусые россияне? Где вы, мужественные хоробры? Почему не вернулись утром? — Завалил бурелом тропы, и дороги бурьян запутал. Не ценили князья правду, чуть нелад — вынимали нож, говорил брат брату: — Вот мое, а вот мое ж! — И делишки кромешно крошечные величали Делом Великим… И растаптывал враг лошадью Русь, лихую да лыковую. О, далече зашел сокол, птиц гоня к морю! А Игорева храброго полка не воскресить! Непустеющая половецкая степь! От Дуная до Волги углом под уклон. Сколько разноплеменных костей в половецкой степи полегло. Поле глохло от сеч. Пёк песок — не ступить. Преклоняли уродцы стволы. Полоумные дрофы дразнили в степи. Незнакомые злаки цвели. Да шумливо шныряли по хрупким бобам шайки сусликов-свистунов. Да над чабером чавкал сонливый байбак, вымирающий гений степной.* * *
В Киеве на горах… Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. — Всю ночь с вечера, — сказал он, — у моей серебряной кровати стояло семь воронов, как семь апостолов Византии — окаянные очи, пернатые лица. — Всю ночь с вечера, — сказал он, — они не сказали ни единого слова, ни вороньего, ни человечьего. Они подавали вино, у них были не птичьи, а девичьи пальцы, а на мизинцах мигали драгоценные перстни, и нежили они меня, а вино было цвета отруты. А потом у них стали восточные лица, и семь лиц улыбались четырнадцатью восточными глазами. Они держали в желтых руках четырнадцать белых свечей, но не воск замерзал на свечах, а красные капли крови. И еще они шили мне саван иглами большими, как копья. — Всю ночь с вечера шили, — сказал он. И сказали бояре князю: — Уже, княже, горе ум полонило. Византийских апостолов нет и в помине. Не боимся востока. Там бегает племя — маленькие люди на маленьких лошадках, смешное племя! Смешные сны. — И тогда сказал Святослав: — О мои сыны, Игорь и Всеволод! В Тмуторокани сладкие сады, лоснится масло на окороках, но только не ко времени зудить мечом жиреющий Тмуторокань. Ко времени разладицу кончать, совместно браться за топор и плеть. Напорист Гза. Несокрушим Кончак. Нам в одиночку их не одолеть. Ты, Игорь, вспыльчивая голова! Ты, Всеволод! Бог боя и стола! Вы думали, что слава — каравай, который получают пополам? Вы, братья, позавидовали мне, — я потоптал на вежах погань орд, — встревожились вы! Не прошло двух дней — поспешно сами сорвались в поход. Не сомневаюсь, братья, вы — храбры, сердца что груди в греческой броне, не раз вы кувыркались под обрыв, ломая позвоночники коней. Но слава где же? Помню, Ярослав с безбожной рванью рвался на рожон, их слава по чужим степям несла с корявым засапожником-ножом. А где же ваша слава? Как назад поворотить прославленную быль? Князья! Вы не пособники, князья! Вы — оборотни киевской судьбы! Разграблен Римов: рухнули вовнутрь сооруженья рыхлых городниц. Враги хоругви золотые мнут, на алтарях насилуют девиц. Великий князь Всеволод Суздальский! Ты над своими чарками дрожишь, а мог бы, бросив чарки-черепа, разбрызгать Волгу вёслами дружин и Дон до дна ладонью расчерпать! О, будь ты рядом — половцам-рабам несдобровать! Рассевшись широко, мы б торговали по нога́те баб, по ре́зани — плюгавых мужиков! Галицкий Осмомысл Ярослав! Ты сторожишь старательно страну. Как псы — твои дунайские суда. Не ты своими стрелами согнул границы Польши? Не тебе султан сулил гаремы? Галич — мой капкан на Западе. Царюешь ты, играя. Стреляй же, господине, Кончака, — за землю Русскую, за Игоревы раны! А ты, Роман, и ты, Мстислав! Под шлемами латинскими богам латинским как вам мо́лится в Руси? А Игорева храброго полка уже не воскресить. Ярослав и все внуки Всеславовы! Вам на могилах собственных мечей маячить! Честь искать — не отыскать! Каких сегодня предали мужей? Куда еще знамена опускать? Ты, Рюрик, и ты, Давид! Когда устал от ужаса холоп, не ваше войско издавало рык, воюя у холопины коров, сдирая шкуру, как шматье коры, с холопов голобрюхих?.. Я, седой, всевластный, говорю, как равным равный: — Вступайте, братья, в стремень золотой за землю Русскую, за Игоревы раны!* * *
Хомяк упрятался в нору, не выползая пить. Неволя прянула на Русь, ей вольницей не быть. Не быть оплеванной Хуле хорошею Хвалой. Не течь замученной Суле хохочущей струей. Уплыли мертвые тела в болотное окно. Двина болотом потекла… Отныне — всё одно, деяньям и добра и зла — всему один исход… В болоте бредит Изяслав с прорубленным виском. Под князем движется трава, большой болотный наст. — Побила хилая Литва твою дружину, князь. Не посылать тебе крестьян за лыковой корой, волчицы ходят по костям, вылизывая кровь, — двадцатилетний князь твердит в болоте за леском, без братьев, без добра, один, с прорубленным виском.* * *
Копья поют на Дунае… Над Путивлем Солнце-радость велико, а светит слабо. На валу, ограде града, плачет лада Ярославна. Плачет, голос поднимая, до рассвета цвета ситца: — Полечу я по Дунаю бесприютною зегзицей. Рано, рано на Дунае омочу рукав бобровый, князю раны вспеленаю, ототру от крови брови. Над Путивлем ветер стылый носит запах сечи душной. Плачет лада: — О Ветрило, Отчего враждебно дуешь? Отчего, о Ветр-Ветрило, добродушный и обширный, мечешь на воздушных крыльях стрелы в русскую дружину? Мало ли тебе, бездомный, облака пинать по югу, мало на море студеном корабли волной баюкать? Мало вырывать посевы, дыбить мех лесному зверю? Отчего ж мое веселье по ковыль-траве развеял? Над Путивлем Солнце-радость велико, а светит слабо. На валу, ограде града, плачет лада Ярославна, плачет лада, стоном стонет, Солнцу слабому грозится: — Полечу к тебе я, Солнце, бесприютною зегзицей. Отчего в безводном поле, жар-лучи кидая наземь, пропитало потной солью ты дружину мужа-князя? Отчего тугие луки ты им, Солнце, раскачало, покоробило им тугой камышовые колчаны? Над Путивлем красны тучи, будто Игоревы раны. Поднимая голос круче, плачет лада Ярославна: — О могучий Днепр Славутич! Расколол ты горы-камни, Святославовы онучи с Кобяковы сапогами ты столкнул… О господине! Прилелей мне мужа завтра. Не хочу покрытым тиной, а хочу живым, глазастым.* * *
По добру дерево листву сронило. Погасли вечером зори. Разве спрашивает страх? Двадцать стражников у костра. Двадцать стражников и Кончак. И у каждого колчан. Круп коняги в жару груб, двадцать стражников жрут круп, и прихлебывают кумыс половчане — палач к палачу, — и похлопывают — кормись! — князя Игоря по плечу. Но у князя дрожит нога, князь сегодня бежит, но как? Разве спрашивает страх? Двадцать стражников у костра. Раскорячен сучок в костре. Что колчан, то пучок стрел. Что ни стражник, то глаз кос — помясистей украсть кость. Что ни рот — на одну мысль: поядреней хлебнуть кумыс. Двадцать стражников. Ночь. И у каждого нож.* * *
Половчанин Овлур свистнул за Доном. — Князю Игорю бежать, — кликнул. Неказиста река Стугна, и струя у Стугны скудна, и извилистый ил на дне, сухощавые утки в плавнях. Та Стугна затворила Днепр князю-мальчику Ростиславу. На Стугне процветает май, жеребцы потрясают челками. А по мальчику плачет мать, исцарапав ногтями щеки. На заутрене бор мокр. Грай ворон черноперых смолк. Дятлы ползают по сучьям, стуча. Над рябинами ползучий чад. Сняли свой ночной дозор соловьи. Углубился Игорь в бор, — слови! И сказал Кончаку Гза: — Если сокол убежал из гнезда, не допустим соколенка домой, доконаем закаленной стрелой. — И сказал Гзе Кончак: — Если сокол в гнезде зачах, краснощекую сочную де́вицу мы положим около сокола; никуда он тогда не денется, так и будет валяться около. — И сказал Кончаку Гза: — Ты держи начеку глаза. Бабу соколу не подсовывай, половчанки к русичам слабы, убежит половчанка с соколом, и не будет ни князя, ни бабы.* * *
Лихо Солнце поднебесное колет Днепр лучами острыми. Страны рады, грады веселы, Днепр с утра хлопочет веслами. Бусы у девиц агатовые, у девиц запевки ладные. Днепр с утра ладьи побалтывает, переполненные ладами. Ну-ка в хоровод! Запаришься под июльскими деревьями. Песню спев князьям состарившимся, молодым споем со временем. Слава Игорю со Всеволодом! Киев-городу родимому! И со Всеволодом все в ладах, и в ладах с младым Владимиром! Славься, Русь, лихими плясками! Славься злаками обширными! Слава Ярославне ласковой! Слава доблестным дружинникам Да будет!Соловей-Разбойник
1
Сколько на рынке ос, но и не меньше добра. Бродит по рынку, бос, пьяный Иван-дурак. Левое око — дыра, впадины вместо щек. Щелкает вшей дурак: щелк, щелк, щелк. Лезет в мешки, болван, — здо́рово осовел. — Слышь-ко, — шипит Иван, — под Киевом СО-ЛО-ВЕЙ… Крупный разбойник! Страсть! Свистнет — и всё отдашь… Ох, и пощупает вас… — Нишкни, заткнись, балда! — Торгаш толстобрюх, — кавун! Под монетой провис карман. — Твой Соловей — свистун… — Захохотал Иван.2
Над Россиею высоко свист, парусиновый, жестокий свист! По чащобам расстелился свист, опрокидывает листья в омуты. Над хороминами свист повис, и подрагивают бревнами хоромы. Рассвистался по Руси Соловей. Разве свист — свистопляска над долами? Позолоченные маковки с церквей скатываются, что головы. У Владимира в девишнике страх. Обескровил губы-вишенки страх. Триста девок сгрудились в кружок, триста девок — белогрудых жен. Говорит Апраксия-жена, в меру умственна, прекрасна и жирна: — Ой вы, бабоньки, ой вы, неженки, для кого намываете ноженьки благовониями печенежскими, для кого начищаете ножики? Для Владимира. Как телесные прелести выгородить вам, курносые, нерадивые, — 300 в Белгороде, 300 в Вышгороде, 200 в Берестове баб у Владимира. Ой вы, бабоньки бархатнокожие, ой вы, паиньки, ой вы, барыньки, поднимайте множество ножиков на похабника и на бабника на Владимира.3
У Илейки темница темна, — не увидишь даже собственных рук. В той темнице ни щелей, ни окна, в потолок закручен стражей крюк. Хоть повесься, хоть повесь сапог, и дивись, вообрази, что бог сей сапог, нечто вроде Христа. Но на Муромце нема креста. Потому-то богатырь давно ни идолищу, ни богу не угоден, что уверовал только в бревно, на котором коротает годы. Неспроста, не за пустяк сюда усадил богатыря государь. Говорил властелину Илья: — Или ты води дружину, или я. — Третий год богатырю во сне снится жареная всячина — снедь. А в темнице — темень и сырь и разгуливают орды крыс. Богатырь насупил темя, сир, и ошметок от коры погрыз. Проворчал, лапоток залатав: — Превратили Муромца в Золушку. Отомщу я тебе, сволота, Володимир Красное Солнышко…4
Перепуганы бояре, тараторят, вящие: — Будоражит смердов ярость по ярам и чащам, наши клади — о проклятье! — грабят, а иконы топчут, не бывать прохладе на Руси николы. Наши головы с-с-сымерды разрубают плавно на квадраты, будто это овощи, не главы. Наши головы к скворешням вешают мальчишки. Княже, приструни скорейше Соловья — зачинщика. Этот свист и эти песни надо — под корягу. — Володимир гладит перстень, молвит: — Эх вы, ряхи, эх вы, квакушата муторные, кобели семейные! Триста жен моих за смуту выпороть сумели… Перевешать вас, калеки, недостанет веток… Всех в темницу! Звать Илейку! Мать вашу разэтак!5
Раскачался Разбойник — любо! — на сучке: влево — вправо — крен. Дубина — обломок дуба — у смутьяна промеж колен. У смутьяна рваное ухо. (О, Разбойник еще тот!) Знает: надо дубину ухнуть, а дальше — сама пойдет! Надо песню заначить, а дальше — сама пойдет! С дубиной звенящей не пропадет. Раскачался Разбойник — ух ты! — на сучке: влево — вправо — крен. — Здорово, рваное ухо! — Здорово, Илья, старый хрен! Как в Киеве? Так же пашни Владимир оброком забрасывает? По-прежнему крутит шашни с богатырями Апраксия? Небось княжна наставляла тебе рогатое имя? — Э, брось шебушиться, дьявол, что ссориться? Лучше — выпьем. Слезай, Соловей, ты, да я, да мы — двое в России пасынков… Сивуха смачна, заядла, как поцелуй Апраксии.6
У Владимира хворость — колики. Князь рычит под медвежьей полостью: — Закричи, Соловей, в полный крик, засвисти, Соловей, в полный свист. — Закричал Соловей вполкрика, засвистел вполсвиста, но весело. И в подоле у Апраксин — мокренько, и в штанах у Владимира — увесисто. А у тысяцких и прочей боярщины ясносолнечные рыла стали пасмурны. — Удави, Илейко, буянщика! — завизжала жалобно Апраксия. Но сказал Илья: — Я не я. Посмотреть на шиш не угодно? Хохотнул Соловей, хохотнул Илья. И уехали рядом из города.7
Сколько на рынке добра, но и не меньше ос! Бродит по рынку дурак, пьян, голопуп и бос. Воз подвернется — воз двинет плечом холоп… Хлоп — и лопнула ось, хлоп — и торговца в лоб! О лоб, в шишаках-рогах, в патоке, в сале весь… — Слышь-ко, — шипит торгаш, — под Киевом — СО-ЛО-ВЕЙ. Выдающийся витязь! Страсть! Его замечательный свист много-премного раз, Господи, благослови! Да жить ему сотню лун, не ведая слез и ран. — Ведь Соловей — свистун, — захохотал Иван.8
Злющий за бором свист, рушит заборы свист, слушай разбойный свист, ты, опустивший ус, вечный Иван-дурак, приподнимай, рус, кол и кулак для драк. Слышишь: свист от подземных искр до заоблачных верхов… Как бы ни было тошно, а свист над Россией испокон веков.Веснушка-дурнушка
1
Друзья! Наступила эпоха для сказки. Как было на свете-планете три царства: одно — золотое, другое — другое, а третье, а третье, конечно же, — третье. Друзья! Наступила для были година. Был царь. У царя три цареныша-сына: один — гениальный, другой — даровитый, а третий, а третий — балбес-несмышленыш. Друзья! Так прославим прекрасную древность. Как было в трех царствах три девы-царевны: одна — василиса, другая — слабее, а третья, а третья — веснушка-дурнушка. Итак, перейдем непосредственно к песне.2
Был царь на Руси, головастый, как перстень. Был трон у царя, повседневный, как дыба, из бивней полсотни слонов Хиндустана. Царь правил без взлетов, но также без рытвин, у трона держал ополчение рынд. Взбунтуется челядь — и рынды секиры снимают с плечей и на челядь шагают. Поведал царю оборванец-калика, что есть на планете три царства великих: одно — золотое, другое — из меди, а третье — совсем из серебряных слитков. Как царь облачился в парчовое платно, вещал сыновьям в Грановитой палате: — Добудьте царевен, попользуйте девок, и, значит, казну по заслугам поделим.3
Степенная степь развалилась за Доном. Там шлялось премного народов бездомных. Ту степь бороздили на хриплых кобылах носатые, жилистые берендеи. Там сабли-травины колени кололи. И был посреди травостоя колодец: аукнешь в колодец, «ау!» из колодца вздымается долгим, бездонным ауком. Сидит на колодце, конечно, Горыныч. Вокруг хорошо окровавлена глина. Змей выкрал царевен, упрятал в колодец и ночью никчемной рукой обнимает. Цареныш с лицом колдуна и калики принес, гениальный, Горынычу книги, большие, с тисненьем и с текстом: — Отдай, Змей-Горыныч, красивых царевен! — Цареныш с лицом без кровинки и смеха принес музыкальные инструменты, большой барабан, многострунные гусли и что-то без струн — «у бабуси два гуся»: — Отдай, Змей-Горыныч, красивых царевен! О мо́лодцы! Маленькие чародеи! Горынычу — тьфу! — на дары человечьи. Вы даром пошли, черепа поломали да крови прибавили в глупую глину.4
Холоден колодец. Ни маков, ни солнца. Колотится зуб у царевен в колодце. Прекрасная ревом ревет неусыпно, вторая от всхлипов бессильных осипла. И только дурнушка рукой конопатой всё крутит и крутит умелую прялку. Покрутит полночи — глядишь, спозаранку готова холщовая самобранка. Царевны прожорливы, злы и зобаты, они отбирают у девушки скатерть: грибы и сметану, вино и утяту так лопают, так, что вздуваются щеки. Насытившись, молвят: — У, рыжая рожа! Стряхни, дурошлёпка, со скатерти крошки. — И Змея зовут, и лобзают любезно урода в гнилые щербатые зубы. И молвят дурнушке: — Эх ты, дурачина! Чего сторонишься? Хоть Змей, да мужчина. — Согнулась дурнушка и брякает прялкой, бормочет о боре, о солнышке ярком, о клевере мягком, — придет несмышленыш, и жизнь заблестит родниками и маком. Размлелся Горыныч, ворочает шеей, в истоме шестнадцать голов наклоняя. Что ни голова, то страшней и страшнее, что пасть — то клыкастей, что губы — слюнявей.5
И рухнул Горыныч под саблей-бедою. Шестнадцать голов, что шестнадцать бидонов, скатились и, как говорят очевидцы, катились два месяца в сторону моря. Катились по травам-муравам зеленым. Вот как расхрабрился балбес-несмышленыш Балбес отпихнул от колодца Горыну, прилег на гадючью горючую глину и длинной веревкою, длинной-предлинной, он вытащил двух наилучших царевен. И стали царевны от радости ахать, и пить родники, и кататься по макам, и вдаль побежали, подальше, подальше от Змея, гниющего возле колодца. Одно не домыслил балбес-несмышленыш — борец за царевен с Горыной-неправдой: его воспитали в духах благовонных, а умер герой — от змеиного смрада. Он умер. Дурнушка осталась в колодце. Осталась одна в затемненном колодце.6
Согнулась дурнушка и брякает прялкой. Ей вечно умелою прялкою брякать. Под прялкой нить с нитью сплетаются плотно, растут самобранки, ковры-самолеты… Ведь знает, что отберут самобранки, ведь знает — не полетит в самолетах, ведь знает — уже не придет несмышленыш, а всё же прядет простофиля-дурнушка, — прядет, потому что не прясть не умеет.Сказание о граде Китеже
И я вернусь в тот город Китеж, туда, где вырос. Нырну в тот омут, где ворота вращает стража. И возвращение мое расценит стража как вражью вылазку, возьмет на подозренье. И я приду к своей жене, в хоромы храма. — Где скот? — спрошу я. — Сожрала стража, на обувь шкуры. — Где сын? — спрошу я. — Убила стража, четвертовала. — Где дочь? — спрошу я. — Три смены стражи, сто сорок стражей твою насиловали дочь поочередно. — А ты? — спрошу я жену. — А челядь?.. А побратимы?.. — Молчала челядь, — жена ответит, — а побратимы вступили в стражу, во избежанье подозрений, я вышла замуж за самодержца, — жена ответит. Так я вернусь в тот город Китеж, туда, где правил, где заправляла делами челядь и побратимы. И не могли они, монголы, сдолать наш город, где каждый первый — герой, где каждый второй — бессмертен. Я обратился: — Побратимы, давай по правде: сдадим поборникам свободу или потонем? — И мы зажарили живьем быков сто тысяч! Еще визжащих кабанов сто сотен тысяч! Последний скот последовал таким исчадьем, что солнце ползало по небу двумя клопами! Мы затонули в полночь. Полностью. До нитки. Остались только кляксы клюквы да песни смердов, да песни смердов про бессмертный Град Героев. Вот я вернусь в тот город Китеж, в тот Град Героев. Как видоизменилась челядь моей державы! Ни огонька на дне болота. Дни побледнели. Не ржут кобылы. Не режут злаки. Не жарят жир. Носы, торчащие, как сучья, хрящи прогнули и окончательно скурносились по-рыбьи, луноподобные усы окостенели, как будто человечья челюсть, но жабьи жабры: так видоизменилась челядь моей державы. Но я вернусь в тот город Китеж, туда, где верность в то время почиталась вровень с богами хлеба. Никто не ждет меня в том граде. Кто ждал — тот предал. И я возьму с собой двенадцать головок лука, чтоб с головой моей тринадцать головок было. Ведь лук — последнее растенье живой природы, и в эту эру исторгающее слезы. И обращусь я к самодержцу: — Ты в самом деле сам держишься? И сам всё держишь? — Всё держит стража. И сам немножечко держусь. Народ, навроде, меня поддерживает сам… как скажет стража. — И я на площадь положу — пускай поплачут — мой лук, наивные останки живой природы. В краю, где столько веков выковывали бодрость, где только видоизменялись, где за слезинку снимали голову, как лапоть, где за слезинку срезали голову, как прыщик, — рыдала стража! Народ производил рыданья поголовно. Сам самодержец, вождь серьезный, звезда на зобе, заместо слизи кусая слезы, предался злобе. Но не забыли меня казнить и не забыли зарыть двенадцать головок лука в ближайший омут. Когда-нибудь, потом, гораздо позднее, после взойдет над городом двенадцать головок лука и голова моя взойдет предупрежденьем: я не последний из казненных, не последний.* * *
Но говорят, что город Китеж никто не видел. Что ж, предположим: никто не видел. Предположим…КОРШУНЫ
1 «И севрюжины скрежещут жабрами…»
И севрюжины скрежещут жабрами. Гнусы, жабы женятся над сваями. Жаворонок, жаворонок, жаворонок глупый, для кого тебе названивать? Жаворонок, ты наивный жаворонок, песенник заоблачный, надветренный, оглянись — вон вороньё пожаловало, вороньё колышется над вербами. Черное, гортанное, картавое, вороньё колышется над падалью. По оврагам племена татарские жрут арбузы, лебедей и паленицы. Племена жрут пламенно и жарко, а вожди завязывают вожжи. Жаворонок, эх ты, птаха жаворонок! Глупый, не звони ты, надорвешься.2 «А коршун слепо…»
А коршун слепо над полем плавал. Владимир слева. Димитрий справа. Конница копытами копает целину. Пылюка над кибитками подобна колуну. А коршун сдал книзу руль. Слева Орда, справа Русь. Рушатся ордынцы под щитами-караваями, раненые головы руками закрывая. И коршун понял: бой потух. И рычал над полем красный Тур. Рога — что крылья ласточки. Рычал он, Тур насупленный, над кровяными кляксами и над костьми зазубренными. И поскакали списки правд и врак до самых до Каспийских Железных Врат, о том, что Русь обратно на взлете грив. О! Горе Цареграду! Беснуйся, Рим! Обратно возродится русская крамола. И труся́т ордынцы к Лукоморью. Не бывать вину у них во рту. Больше не вернуться им в Орду. Шелк, и узоро́чья, и атлас в русских позолоченных котлах, блюда, кольца, золото, жемчуга. О, ордынцам солоно! Женщин гам. Голосят татарки — нет ребят. Трубы янтарные не трубят.3 «На реке Непрядве…»
На реке Непрядве прядали ушами кони. Ело брагу войско из ушатов. На реке Непрядве, черной, как неправда, собирались братья, но не для парада. Говорил Владимир Дмитрию Донскому: — Наша слава дымна, а убитых сколько! — Отвечал Димитрий: — Поклонимся князям. Слава не дымится. Княжья слава — красна! — Потрясал Владимир кулачищем медным: — Наша слава дымна, поклонимся смердам. — Над Москвой-рекою питиё, веселье, купола рокочут, серебрятся серьги. Княжичи, как смерклось, по луне стреляли. Смерд остался смердом, с кашей, с костылями.4 «Бом-бом колокольный…»
Бом-бом колокольный. Маки — кулаки. Над полем Куликовым плачут кулики. Ржавеют у калиток лезвия косцов. Охрипшие калики плачут у крестов. Бом-бом колокольный. Кому шелка? Харчи? Над полем Куликовым грабители-грачи. По клеверам по белым раненые, бред. Если бы победы! Не было побед. Если бы за Доном выигрышный бой, Только — вдовы, вдовы, сироты и боль. Если бы не враки! В рваных тетивах ходит по оврагам с ножами татарва… Над полем Куликовым стебли трав — столбом. Бом-бом колокольный, бом, бом, бом…В ПОИСКАХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 1960–1962
Заблужденье
Дрогнет у дороги старикан-кустарник… Синие сугробы, синие кристаллы, синие сугробы в лунных переливах, а лыжня в сугробах — просто пара линий. Лыжи лижут ловко плавные сугробы, лыжи, словно лодки, плавают в сугробах по вороньим лапкам, по волокнам сена… Тише… Лают лайки, лайки Амундсена… Дробный и торопкий перестук на спуске… Это же на тройке Александр Пушкин! Их манит виденье снежных аномалий. Это — заблужденье. Я-то понимаю: это заблужденье вследствие блужданий по январским дебрям, по долинам дальним. На полях суровых ничего не слышно… Лишь скрипят сугробы да струятся лыжи.«Вдохновенье!..»
Вдохновенье! — июльским утром вдох за вдохом вдыхая небо, начертать сто поэм в минуту, над блокнотом согнувшись немо. А потом по бетонным трассам зашагать, воспевая трассы всем аллюром аллитераций, всеми выдохами ассонансов, чтоб запыхтели ритмы — напористые насосы, чтоб рифмы, как взмахи бритвы, заполыхали на солнце!Аллеи
Небо заалело. В городе, как в зале, гулко. Но аллеи, видимо, озябли. Приклонили кроны к снегу — олову, жалуются громко: — Холодно, холодно. Уж такая стужа справа и слева, в мире — стужа! — тужат дубовые аллеи. Эх вы, плаксы, плаксы, вы, дубы-варяги! Не точите лясы. Я вас уверяю: кажется вам, будто ни крупицы солнца. Будет май. И будет Солнечная Зона, Солнечное Лето, Солнечная Эра! Слушают аллеи. Верят и не верят.Студенческий Каток
Девчонки на льду перемерзлись, — ледышки Как много девчонок — точеных лодыжек… Девчонок — пижонок — на брюках замочки. Как много девчонок — заочниц и очниц: горнячек — тихонь, фармацевток — гордячек… Весь лёд — напролёт — в конькобежной горячке! А радио! Заледенело на вязе, что белая ваза, а вальсы — из вазы! А парни! А парни в беретах шикарных, и пар изо ртов, будто шар из вулканов. Они, великаны, плывут величаво, коньки волоча и качая плечами! Они подплывают к пижонкам-девчонкам, и, зверски краснея, рычат утонченно: — Нельзя ли на вальсик… вдвоем… поразмяться… Да разве каток? Это — Праздник Румянца!Первая капля
Небо — палевая калька. С неба упала первая капля. Первая капля. Капля-карлик. Зарокотала и покатилась и по кварталам, и по квартирам… Товароведы из «Гипропитанья» в каплю швыряли ручки, рейсшины, даже автобусы-гиппопотамы каплю давили рубчатой шиной. Каплю пытались выпить из ложки экс-пациентки крымских купален. Противокапельные галоши все покупали, все покупали! Но, несмотря на репрессии жаркие, капля взрослела, крепла, мужала. Капля плескалась, — рыба форель! — вздулась — превыше троллейбусных тросов. Дотронься — и лопнет! И — апрель! Только — дотронься!Май
Земля дышала глубоко: вдох — май! И выдох — май! Неслась облава облаков на лоно площадей, за батальоном батальон щебечущих дождей низринулся! Устроил гром такой тартарарам, как будто весь земной гудрон — под траки тракторам! Сто молний — врассыпную, вкось, жужжали в облаках, сто фиолетовых стрекоз жужжали в облаках! Сползались цепи муравьев, и йодом пахла ель. А я лежал, прижав свое лицо к лицу своей земли. Вишневую пыльцу над головой мело… Вот так всегда: лицом к лицу, лицом к лицу с землей!Будильник
Трамвай прошел, и шум замолк. Что делать, Ждать, Уйти ли, Уйти, взломав дверной замок, разбив о ночь будильник. От комнатных идиллий уйти и на мосту курить. Стучит будильник. Подробный, ровный стук. Будильник. Стрелки сложены приклеились к двенадцати. То — стрелки и положено в двенадцать обниматься им. То стрелки. Им не трудно встречаться ежечасно, встречаться на секунду, и вновь на час прощаться. А мы и на секунду встречаемся не часто, и даже очень трудно нам всякий раз прощаться.Фантастика
Какое бы выдать чудо? Присниться, что ли, тебе? Со вздернутым, вздорным чубом во сне вломиться к тебе. Стрекочут часы — сороки… Вдруг — вдребезги двери. Вдруг ты вскочишь… Нейлон сорочки замкнет на коленях круг. — Давай говорить. — Не буду. — Нет, будешь. — Не буду. — Будешь! — Опять предаешься бунту, опять среди ночи будишь, а я-то старалась чуткой к тебе. Но к тебе — нельзя. Чудачка! Ведь это чудо. Фантастика, так сказать.Рожденье
Миллион пластин голубых от луны по волнам пляшут. Валуны — голубые лбы, валуны — оккупанты пляжа. Под луной крупчатка песка различима до деталей. В первый раз ты вот так близка. Ты похожа на неандерталок. Бередя бахрому кудрей, заслонив ладонями очи, собирались они у морей, попирая пещеры отчьи. Забирали они мужчин на песках, а не за пирами, на песках, у морей! Молчи! Я читал — они забирали. Бьет волна. Каждый бой волны, что полночных курантов бой. Будто кто-то ведро луны невзначай пролил над тобой, на тебя, на сплетенье ног, на упругость грудей раздетых. Помолчи. Это — наша ночь! Наша первая ночь — рожденье.Прощанье
Катер уходит через 15 минут. Здравствуй! Над луговиной утро. Кричат грачи. Укусишь полынь-травину, травина-полынь горчит. И никакого транспорта. Тихо. Трава горяча. — Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — у моря грачи кричат. Там, по морским пространствам, странствует столько яхт! Пена — сугробами! Здравствуй, радостная моя! Утро. Туманы мутные тянутся за моря… Здравствуй, моя утренняя, утраченная моя! Вот и расстались. Ныряет косынка твоя красная в травах… Моя нарядная! Как бы там ни было — здравствуй!Июль в Закарпатье
Эхо перекатывает «ого-го» перекличку гуцулов. Это на ободранных бревнах по Тисе гуцулы гарцуют. Красным поясницы лоснятся, как медные руды. Краны придвигают кубы-штабеля к лесорубам. Сучья низвергаются вниз, вырубая в воде щели. Звучно изгибаются пилы, как лебединые шеи. Мышцы накалены добела, как болванки металла в мартене. Мысли обрели соразмерную зримость материй, сразу зазвучав с перекличкой гуцулов в мажоре. Здравствуй, здравствуй, день уравновешенных дум и мозолей!Колыба
В колыбе дымно, коровы мыком напоминают, что ночь — к финалу. Доярка Дина с овчаркой Милкой грызут обломок рафинада. У Милки яркий припадок грусти, курлычет Милка — седой журавль. А у доярки такие груди, как у доярок в киножурналах… Лоснятся желтым паркетки-штампы там, в ленинградском коридоре он напряженно подметку ставит в твоем луженом коридоре. Он гнется аркой, очки намокли… Соседи дремлют и не учуют, все ваши ахи, все ваши охи, нехитрый комплекс ночного чувства. Но шита лыком твоя победа. Не понимаешь ты нимало, что здесь, в колыбе, как в колыбели, тепло и пахнет топленым маслом. Мадьярка Дина, как медянка гибка, дотронься — и расшалится… Зрачки у Дины, как у медянки: — Не уходи… Поешь пшеницы… Смешная! Чашкой пшеницы лишней ну что прибавишь? Ну что убавишь? Рассвет. Овчарка ботинки лижет, блаженно шлепая губами.Идем на гору!
Идем на гору, рыжая, взойдем повыше. Хочу во всеуслышанье я гром услышать. Хочу смотреть, как, длинные ломая руки, под грозовыми ливнями стенают буки, как ливни льют, коверкают валежник сиплый, и говорят с Говерлою с позиций силы, и образуют линии — вразлет — косые! А ты срывай под ливнями с косы косынку. Под ясенем растрепанным бери трембиту, труби, как шли мы тропами в ботинках битых, как шли мы — я и рыжая все выше, выше, чтоб гром во всеуслышанье услышать. Слышишь!Косноязычие
Человечество косноязычно. Напридумывало приборов, приструнило моря, но не сыщет слов, подобных грому прибоя, чтоб слова — сплавы стали Дамаска зазвонили, заскрежетали. Но слова — оловянная масса, бледный звяк, подражанье стали.Осень
Осень. Стонут осы вдоль земли сырой. Атакуют осы сахарный сироп, и петляют осы — асы у веранды. Кто сказал, что осень — это умиранье? Осень осеняла Пушкина и Блока, ливнями сияла в облаках-баллонах. Осень означает: снятие блокады с яблок! Пачки чая! Виноград в бокалах! Осень гонит соду волжскую на гравий, строит свой особый листопадный график. Как вагоны сена, движется кривая листокаруселья, листокарнавалья!Лесная хроника
Плоды рябины — галуны. Рябины оголены. Брусника гурьбой, горбылями грибы, так много грибов, хоть граблями греби. Линяют лисы. Паутинки — блеск. Мой лес! мой безлиственный лысый лес! Мой лес! мой густой, деревянный добряк! Скажи, ты готов к дикарям-декабрям? Готовы осины? С вниманьем каким строгают осины к зиме кулаки? Гулкие дула смазали в бой сутулые туловища дубов? Точат побеги штыки на стерне? _____ Спокойно! Победа на их стороне.Плоты
По Неве плывут плоты еле-еле. По Неве плывут плоты — плиты елей. Вот плоты плывут подряд в страны дальние. Вот плоты застопорят у Ростральных. И пойдут по мостовым, ковыляя, и прильнут к мостовым комлями. Зацветёт на берегах бор еловый. Будет хвойный перегар в буреломе. Птичий щебет — хоть куда! диспут птичий! И медведи загудят деспотично! Бревна к бревнам — впритык еле-еле, по Неве плывут плоты — плиты елей. От Невы каждый вал — пуд, наверно! И пульсирует Нева, будто вена!Красные листья
Красные листья,
красные листья,
бегают, будто красные лисы,
вдоль переездов железнодорожных,
вдоль перелесков,
по гроздьям морошки,
по родникам,
прозрачным, как линзы,
бегают листья,
красные лисы.
Им бы на кленах,
да
на суку,
Да
на черенки паутинки цеплять.
Красные листья ловят секунды,
ловят,
как лисы
ловят цыплят.
Бури сорвали
красные листья,
но не втоптали в почву!
Не втопчут!
Бегают листья — красные лисы
с кочки на кочку,
мимо шлагбаумов черно-белых
бегают,
бегают,
бегают,
бегают…
Цыганка
Тамбур с табуретку — крошечный. В тамбуре беретки, брошки. И сквозняк стобалльный дых, дых! В тамбуре столбами табачный дым. Цыганка цигарку мусолит, рвет… Ох и цыганка! Баба — во! Баба — барабан в барбарисках бус, баба — Жар-Птица, баба — арбуз! Я любуюсь бабой и курю. — Спой-ка мне о таборе, — говорю. — Спой о конях — дугами, хвост вдогон, — говорю, а думаю… о другом. Цыганка цыкает невпопад. Цедит антрацитный отрицательный взгляд: — Вы мальчонка хрупкий, но дон Жуан никак… — и подает мне руку. А рука! Пальцы — пять сарделек, ладонь — дамба! — Не стесняйся, демон, па- га- да- ю! Рука не меньше лошади. Сдавит — жуть. Я тяну ладошку и дрожу. ____ Вот тебе и табор, черт побери! Громыхает тамбур, что тамбурин!Старик и море
Если нырнуть в первую прибрежную волну и вынырнуть со второй, то как бы ни был силен пловец, его неизбежно унесет в море.
Их было двое: старик и море. А пена — розовая пряжа! А брызги — розги, а брызги — пряжки! Прожектора уже умолкли. Их было двое: старик и море. И дело двигалось к рассвету. Песчаник — желтизна и глянец. Первоначальный луч — разведчик по волнам расплывался кляксой. Как окрыленно взмывали воды! Валы-рулоны, рулоны — ордами на берег маршировали друг за другом, горбатый берег бомбардируя. Их было двое: старик и море. Старик в брезенте, как в скафандре, старик в резине, как в ботфортах, старик был сходен с утиль-шкафами по приземленности, по форме. Нос ромбом. Желваки шарами. Щетина — частокол на скулах. Щеку перекрестили шрамы — следы пощечины акулы. Да, щеки — зернами брезента, дощаты руки от усилий. Старик был прочен и приземист, как, повторяю, шкаф утильный! Старик предчувствовал: неделя, от силы — год, и он не сможет севрюжин, сумрачных, как дебри, приветить старческой кормежкой. Ему привиделось: в больнице старик жевал диет-питанье. И ржали сельди-кобылицы, и каблуками его топтали. Чужие сети седлали сельди. Галдело море — во всей гордыне! И молодые вздымали сети. Гудели мускулы, как дыни. На берегу канаты. Канты на мотоботах. Крабы — стадо! Старик шагнул в волну, как в хату. И всё. И старика не стало. Как окрыленно взмывали воды! Валы — рулоны! Рулоны — орды! А пена — розовая пряжа! А брызги — розги! А брызги — пряжки! И все равно их было двое: Старик и Море!Краснодар
Солнце — полной дозой! Красота! Что за город, что за Краснодар! Носят краснодарки — примадонны красные подарки — помидоры. Пухлые, — сайки! речистые, — моторы! Краснодарки сами — помидоры! «Нет» — банальным истинам! Дети — матадоры, не «цветы жизни» — помидоры! Воздух медно-муторен и медов. Солнце — самый мудрый помидор. Бойкий и бедовый, как бидон, город помидоров, Город — Помидор!Новороссийская ночь
Мир умиротворился. Ночь. Огни, как зерна риса. Ночь. Над Новороссийском ночь. Черна невыразимо ночь. А море — гоноболь. Стекло. Прожектор — голубой циклоп. Пять рыбаков — пять бурок в лодке. А ну, раздвинет буря локти? Пять рыбаков. Пять бурок — стяг. Кобенится мотор — кабан. В прожекторе — луче блестят пять лиц — пять голубых камбал.Чайная
Чайная — ни чаю и ни чашек. Лишь чугунный чайник, прокопченный чайник. Сочно — апатитами, млеют, млеют очень аппетитные пельмени. Зубы разинули — не до тарелок — рыбаки-грузины, рыбаки-греки. Усы-полувенки, фиолетовые скулы, носы, что плавники у акулы. В чайной чавканье, скрежет лука! Пьем кагор из чайника, как из люка! Пьем, а челюсть лязгает о чугун. Шашлыки ласковые — с кочергу! На четвертом чайнике я полез в корзину: — Мать моя — гречанка, а отец — грузинка! Шел я ошалелый, шел в полушоке, кустарники алели, по щекам щелкали. Ветер жаркий бил в лоб — тысяча по Цельсию. В это лето был улов на пятьсот процентов!«Язык не бывает изучен…»
Язык не бывает изучен. Земля не бывает изъезжена. Над нами созвездья созвучий! Под нами соцветья черешен! А перед нами, перед — зеленые ромбы гати, самумы гагачьих перьев, перьев гагачьих! Сырые следы животных поджаривает восток. Заводы, заводы, заводы пульсируют, как висок. Мы высохнем, как чернила. А мир все равно не познан. Так пусть же птенцы чирикают! Пусть почки дрожат на взводе весеннего рубежа! Пусть звезды, стрекозы — звезды, крыльями дребезжат!Гимн сарделькам
Да здравствуют сардельки! Вот сардельки раздулись в кипяченых пузырях, ворочаются, хрюкают, и даже слегка повизгивают, наслаждаясь горячей ванной… Вот они, сардельки, что кабаны, что яростные губы народов Африки! Вы — слаще, чем бананы, а чем арбузы — беспредельно слаще. Да здравствуют сардельки! Вы, сардельки, в среде рабочей пользовались вечно заслуженным, большим авторитетом. Я за день зарабатываю 20 сарделек, бригадир мой — 27, начальник цеха — 45, директор — 411 сарделек! Кто столько съест? Гаргантюа? Гудзак? На худший случай — Геркулес, но где же, в каких легендах, мифах и преданьях разыщешь ту суммарность Геркулесов, чтоб заменить директоров заводов? Ребята! Соберемся в новогодье и выдвинем такое предложенье с рационализаторским уклоном: Чтоб к следующему году — целый год! — откладывать с получки по сардельке. И к следующему году — через год! — мы елку — всю! — сардельками украсим — на елку — сплошь! — сарделек понавесим! И я клянусь, что в следующем году не снег пойдет, пойдут они, сардельки, с небес! О, миловидные сардельки! Девиз великих благосостояний…Алкоголиада
От восхода до заката, от заката до восхода пьют мускаты музыканты из гнусавого фагота. За кулисною рутиной, под Сикстинскою мадонной спирт лакают балерины из картонного бидона. В дни торжеств, парадов алых под самой Дворцовой Аркой, ветераны — генералы из фуражек пьют солярку. Улыбаясь деликатно после конференций кратких дилетанты — делегаты дуют хинные экстракты. За сазанов, за покосы, за сезонную декаду, председатели колхозов пьют одеколон «Эллада». Бросив рваный рубль на стойку, из занюханных стаканов пьют чесночную настойку Аджубей с Хачатуряном. Ткнувшись в яму за вагоном, в состоянии хорошем, пьют министры самогонку из малиновой галоши. Опустив сиденье «ЗИМа» своего, ликуя ликом, пьет свинарка тетя Зина сладко-липкую наливку. У окошка понемножку ром, стоградусности старой, тянет внук матроса Кошки, кочегар с буксира «Сталин». В голубых апартаментах — восемь комнат, кухня, ванна — грузчик пьет портвейн и вермут из бокала и стакана. Пьет ликер ассенизатор из хрустального графина. Лишь пропойцы пьют нарзаны с баклажаном сизо-синим. О, вожди алкоголизма! Красноклювые фазаны! Стали крепче обелисков вы, пропойцы, от нарзанов.Звери (звериный цикл)
Умер лев.
Померкли
луны над лесами.
Залита поверхность
грустными слезами.
Собрались в малине
цапли, крысы, гидры,
до утра молились,
голосили гимны.
Поутру в малине
стало все неясно:
некому молиться,
некого бояться.
Слон пустился в вальсы.
Вермишельки — пьявки
стали предаваться
женщинам и пьянке.
С помощью рейсшины,
циркуля, лекала
жуткого страшилу
рысь нарисовала.
Звери в изумленье,
напугались шибко,
пали на колени
около страшилы.
Стало все в малине
до предела ясно:
есть
кому молиться,
есть
кого бояться.
Веселый разговор
Прилетела муха, говорит ежу: — Ж-ж-ж-ж-у! Еж пожал плечами, про себя подумал: — Дура. Муха зажужжала около ежа: — Ж-ж-ж-ж-а! Еж ожесточился, выговорил четко: — Убирайся к черту. Муха распростерла крылья, полетела биться в окна… ______ Хорошо поговорили насекомое с животным!Тигр и лошадь
На картине, на картине тигр такой, что — ужас! Лошадь подошла к картине, стала тигра кушать. Лошадь ела тигру лапу увлеченно, пылко… Тигр не выдержал и ляпнул: — Уходи, кобыла! Не ушла кобыла. Очень уж была горячей. Ела лапу — что есть мочи! С полною отдачей! Тигр был здорово искусан и визжал истошно: — Я — Создание Искусства! Ты же — просто лошадь.Семья
Юноша-гиппопотам, в трусиках и в тапках, шел на пляж, и видит — там… там — гиппопотамка! И сказал гиппопотам так гиппопотамке: — Вы походите на танк, но гораздо обаятельнее танка. Поженилися… Росу пьют из автоматов… Все прекрасно! И растут гиппо- пота- мя- та.Еж и ерш
Разозленный еж вдоль речки топал, иглами шурша. И заметил недалечко разозленного ерша. Еж ершу промолвил: — Здравствуй. Ерш ему ответил: — Здравствуй. Еж подумал: — Надо драться. Ерш подумал: — Надо драться. Луч по волнам, зайчик-луч, прыгал, словно огурец… Еж колюч. И ерш колюч. Еж храбрец. И ерш храбрец. Ерш ершист. Еж тоже злобен Что ж решить? Как быть? Как лучше? Нужно ль драться, если оба одинаково колючи?Такая жизнь
Жалуется жук драчунам-грачам: — Я всю жизнь жужжу. Не могу кричать. Говорят грачи: — Уж такая жизнь. Мы себе кричим. Ты себе жужжишь.Из «Книги вечеров»
1 «Ты, черный звон…»
Ты, черный звон! Вечерний звон! Кандальный звон чернильных строк! Ты, влажный звон канальных зон и звон строительных костров! Вон фонари, как чернецы. От фар огонь, — а не печёт. А может, это цепи цифр звонят над городом: — Почем вечерний звон, почем почет затверженных чернильных клякс, почем ласкательность, почем вечерний звон любимых глаз? Иду без шапки. За плечом снежинки — цыканье синиц. Почем шаги мои? Почем мое отчаянье звенит?2 «Как баржу…»
Как баржу загромождает шихта, так хибару мою загромоздили дощатые вещи. Абажур, как оранжевый колокол, оголтело гудёт, созывая мысли на вече. Абажур все гудёт и гудёт, и выравнивает мысли, как фланги. Я брожу, я пишу — я пашу — идиот! — а слова все равно точно белые флаги. Я порву, я порву эти белые флаги, лощеные флаги, вощенные ложью. Я реву, я реву, будто белый медведь, я царапаю окна, только знаю: даже форточку приоткрыть невозможно. До конца вытирать голубые плевки тварей товарных… Вечера! Беспросветное звяканье звуков трамвайных. Вечера… За стеной горлопанят о детстве счастливом соседские Геки и Чуки. Всплеск пера, всплеск пера в бутылке чернил, как последний восплеск заспиннингованной щуки.3 «Поэты создают портреты…»
Поэты создают портреты всех прототипов новой эры. Но кто поверит в те портреты, в них прототипы-то не верят. Дудя в фанерные фанфары во имя эры оптимизмов, мы знаем — не звучат фанфары, но все же верим в оптимизм. Среди колбасников, колбасниц, среди кабатчиков, кабатчиц, мы, одинокие, как башни, а все же — гордые, как башни. А чем гордиться? Городами, сожравшими все сухожилья? Карданным валом? Коротаньем в полупубличных общежитьях? Домашней ярью? Будто ярость — для авторучек труд почетный. Живем, двуличные, как Янус, а боль гудит — во все печенки. Мы сладко ластимся к маститым и у тисков слесарных пляшем. Днем хохоча оптимистично, мы ночью тихо-тихо плачем. Мы плачем горько и забавно, биясь о стенку белым лбом. Судьбу — любыми бы судьбами — добыть! На поприще любом! Попроще поприща колбасниц! Своло́чь все звоны, все лучи! Мы, одинокие, как башни, Гордимся, сволочи, молчим.4 «Чем кичишься?..»
Чем кичишься? Что податлив? Не бодаюсь? Как резина? Что любой мятеж подавлен будет с помощью мизинца твоего? Что согнут вдвое? Что расплющен? Бит, как числа? Что тобой владею в доле с кем-то пятым? Чем кичишься? Телефонная наседка в обиходном оперенье. Тело форума — на сене! Справочник для поперечных! Да прости мою незрячесть, неразборчивость, неточность, ты, ходячая невзрачность, нечто изо всех ничтожеств! Будет! Ни звонков, ни права, даже права на конверт! ______ Телефон-то что! — исправен. И открыток нет и нет.5 «И все озера красные…»
И все озера красные, и все тропинки синие. Три сосенки — три грации, что три казанских сироты. А мы с тобой за пунктами совсем не населенными, а мы с тобой запутались в трех соснах. Посередке. А солнце так расщедрилось — сверкает, как на выставке. А нет и нет решения: что выбрать нам? как выбраться? Я знаю: будет радостно, дожди пойдут, как конница, замашут вербы рациями белыми. Какое там! Уже давно проверено: при самом теплом зареве, при самом ярком ветре мы запутаемся заново!Пушкинские горы
1. В Михайловское на лыжах
Лязг зеленого металла хвойности в низинах, мимолетность, моментальность звезд — снежинок. Солнце! И морозный зной. Пни, пеньки — нелепо. Белизной, голубизной — низменности, небо! Очертанья черных крыш древесны, подробны. Выползают из-под лыж мамонты — сугробы. Солнце! И кристальность! Ушки озими. Лыжня — длинна- длинным… Так начинался Пушкин. Так. Начинался. Для меня.2. Аллея Керн
— Когда и кем,
когда и кем
название «аллея Керн»?
Попросвещать! Еще!
Насчет
чего бы?
Сам не свой,
красноречив и краснощек
экскурсовод.
Прискорбно, будто сам погиб,
лепечет про дуэль,
какой подметки сапоги,
чем запивал, что ел,
какой обложки первый том,
количественность ласк,
пятьюжды восстановлен дом,
а флигель няни — раз…
Когда и кем,
когда и кем
название «аллея Керн»?
Вещественны заплаты лип,
цементность на руке.
Был Пушкин, дом, аллея
и
мгновенье —
но не Керн!
3. 29 января 1837 года, 2 часа 45 минут пополудни
А над Петербургом белели морозы. Чиновники, лавочники, студенты. — Моченой морошки! Моченой морошки! — кричали на Невском, на Мойке и где-то. — Моченой морошки! — скакали с кульками. Кто первый? — Умрет… Хоть немножко… До завтра… Тревога росла, напрягаясь курками взведенными — резко — как ярость Данзаса. — Не мстить за меня. Я простил. — В шарабанах в трактирах, в хибарах, сумеют, посмеют простить императора, шалопая, жену — для детей, для изданий посмертных? Две ягодки съел. Розоватое мясо с кислинкой. Затверженно улыбаясь, жену утешает. Наталью. Неясно, — что Пушкин — один. Гончарова — любая. — Жизнь кончена? — Далю. Даль: — Что? Непонятно. — Жизнь кончена. — Нет еще… Шепотом — криком: — Прощайте, друзья. Все. — Жизнь кончена, — внятно. — Прощайте, друзья! — ну конечно же, книгам. — Дыханье теснит… А кому не теснило поэтам? Разве которые — ниц. И только предсмертно, как будто приснилось, вслух можно: — Дыханье теснит. Виденье последнее. Радостно — Далю: — Пригрезилось, будто на книжные вышел на полки. Лечу! Выше! Книжные зданья. Лечу. Небо в книгах. Но выше, но выше. Легенда была. не из главных. Середка. В привычку она, в повседневность вменяла на все времена обязательность взлета над книгами, небом над, над временами.4. Святогорский монастырь
А снежинки — динь-динь-динь — клювами в окно. Я в гостинице один. Кто на огонек? Друг ли, недруг — обниму, выпьем, в разговоры. Только бы не одному возле Святогора. Первый богатырь! Гора первая. Вершина! Гири желтые горят — под окном снежины. Под окном кустарник тощ — скрип да скрип! — надсадно. Вот в такую ночь — точь-в-точь — гроб везли на санках. Снег валился наповал — на спину! Наверно, сам фельдъегерь напевал «Чудное мгновенье»… Ночь как Вий. А Вий как ель — дремучие ветки. Поднимите веки ей! Поднимите веки! Ведь под веками глаза голубые, солнечные! Гоноболь, голоса голубей, сосны! Ночь обязана понять, — поднимите! Выше! Только некому поднять. Легче так. Привычней. Реет… Захватило дух… Реет снег… О, рей! Две могилы первых двух на одной горе — супротив одной орды рядом полегли. Я в гостинице один. Гость я. Пилигрим. Поклоняюсь всем что есть — первым! Жгу окно. Завтра станция. Отъезд. Кто на огонек?Крокодильи слезы (иностранная хроника)
В Нью-Йорке, в богатых семьях, детям — для забавы — покупают крокодилов. Вырастая, животные становятся опасны, и их выбрасывают в канализационные люки.
(Из газет)1 «Вот Африка…»
Вот Африка. Рассвет. Начало сказки. Вполголоса беседуя, слоны брели на водопой. Шипучки — змеи злокачественно по земле змеились. Две обезьяны — обе с явной целью прославиться, кричали о своем человекоподобье. Лысый лев, зверь-изверг, был настроен агрессивно. Вот Нил. Песчинки. Продолженье сказки. Вот из песчинки выполз крокодил — подумал о проблемах пресмыканья. Вот прилетела птичка — стоматолог, она включилась, будто бормашина, включилась, будто бормашина, включилась, и включилась в дело птичка, и стала выковыривать волокна мясистые из крокодильей пасти. Не многообещающий философ, но любознательный вполне ребенок сказал мне как-то, что не любит сказки. — А почему? — спросил я. Вот ответ: — Люблю начало сказки, продолженье… Но окончанье не читаю — грустно. Не потому, что окончанье грустно, а грустно потому, что окончанье.2 «Слова на „го“ обозначают нечто…»
Слова на «го» обозначают нечто возвышенное: го-лова, го-ра, го-лубизна, го-дина, го-рдость, го-сть. И, значит — го-род, если на горе. Давно не строят городов на горах. На возвышеньях много ветра дует. Какой же город? Город продувной? И город — ветреник? И город ветрогон? По низменностям громче ораторьи под-над-наземных деловых экспрессов. По низменностям глуше бессловесность наземной нищеты. И незаметна низость накоплений. И города приравнивают к морю. (Построены на уровне одном.) И города приравнивают к горам. (Такого же размера, как и горы.) Приравнивают! Но моря молчат, набравши в рот воды. Молчат и горы.3 «А под Нью-Йорком протекают реки…»
А под Нью-Йорком протекают реки. Но не географические реки. И умозрительные рыбаки не наслаждаются у побережий. И вербы в реки не роняют пух. И физико-химический состав тех рек так сложен, так многообразен, что незачем его публиковать. И крокодилы, молодые звери, и злые звери, плавают в тех реках. Им, плотоядным, нет живого мяса! Они ревут, ревут от омерзенья, но все же — поглощают нечистоты. И, выползая из канализаций на бетонированные площадки, глядят на океан. Огромны веки! Отчаянны раздвинутые веки! Где океан? Вот эти гектолитры воды, где растворяются отбросы? Где океан? Вот это продолженье канализаций — это океан? Они глядят, глядят, глядят, и, глядя на океан, — не видят океана. И, задвигая веки, тихо плачут. Обильно плачут. Крокодильи слезы!Человек и птица
1. Ворона
Наехал на ворону грузовик. Никто не видел номера машины, но видели — изрядного размера. Ну, что ворона! Темное пятно на светлой биографии кварталов. На мамонтовых выкладках гудрона и голубей-то мало замечают по будням с предприятий возвращаясь. А тут ворона! Пугало — всего лишь! Картавый юмор, анекдот — не больше. Сперва она кричала. И не так она кричала, как деревья, — криком отчаянным, беззвучным, беззащитным под электропилой, — она кричала, перекрывая дребедень трамваев и карканье моторов! А потом она притихла и легла у люка железного и мудрыми глазами и мудрыми вороньими глазами внимательно смотрела на прохожих. Она — присматривалась к пешеходам. А пешеходы очень торопились домой, окончив труд на предприятьях.2. Мальчик
Он чуть не год копил на ласты деньги, копейками выкраивая деньги, из денег на кино и на обед. Он был ничем особым не приметен. Быть может — пионер, но не отличник, и не любил футбол, зато любил и очень сильно маму, море, камни и звезды. И еще любил железо. В шестиметровой комнате устроен был склад — из гаек, жести и гранита. Он созидал такие корабли — невиданных размеров и конструкций. Одни — подобные стручкам акаций, другие — вроде окуня, а третьи — ни одному предмету не подобны. Жил мальчик в Гавани. И корабли пускал в залив. Они тонули. А другие — космические — с крыши — космодрома — в дождливый, серый, ленинградский космос он запускал. Взвивались корабли! Срывались корабли. Взрывались даже. И вызывали волны возмущенья у пешеходов, дворников и прочих. Он чуть не год копил на ласты деньги. Но плавать не умел. — Что ж, будут ласты, — так думал он, — и научусь. Ведь рыбы, и рыбы тоже не умели плавать, пока не отрастили плавники. — Сегодня утром говорила мама, что денег не хватает на путевку, а у нее — лимфаденит с блокады, а в долг — нехорошо и неудобно. Так мама говорила, чуть не плача. Он вынул деньги и сказал: — Возьми. — Откуда у тебя такие деньги? — Я их копил на ласты. Но возьми, я все равно ведь плавать не умею, а не умею — так зачем и ласты?3. Ворона и мальчик
— Давайте познакомимся? — Давайте. — Вас как зовут? — Меня зовут ворона. — Рад познакомиться. — А вас? — Меня?.. Вы не поймете… А зовите Мальчик. — Очень приятно. — А давайте будем на ты… — Давайте. — Слушай-ка, ворона, а почему тебя зовут — ворона? Ты не воровка? — Нет, я не воровка. Так мальчик вел беседу, отвечая на все свои вопросы и вороньи. — А почему ты прилетела в город? — Здесь интересно: дети, мотоциклы. Ведь лес — не город. Нет у нас в лесу и ни того и ни другого. Слушай, ты лес-то видел? — Видел, но в кино. Ведь лес — это когда кругом деревья. И мох. Еще лисицы. И брусника. Еще грибы… Послушай-ка, а если тебя кормить, кормить, кормить, ты будешь такой, как межпланетная ракета? — Конечно, буду. — Так. А на Луну случайно, не летала ты, ворона? — Летала, как же. — У, какая врунья! Вот почему тебя зовут — ворона. Ты — врунья. Только ты не обижайся. Давай-ка будем вместе жить, ворона. Ты ежедневно будешь есть пельмени. Я знаю — врешь, но все равно ты будешь такой, как межпланетная ракета. Так мальчик вел беседу, отвечая на все свои вопросы и вороньи. На Марсовом цвела сирень. И кисти, похожие на кисти винограда, казались не цветами — виноградом. Да и луна, висящая над Полем, казалась тоже кистью винограда. И город, белый город белой ночью благоухал, как белый виноградник!Цветы и рыбы
1 «Розы…»
Розы — обуза восточных поэтов, поработившие рифмы арабов и ткани. Розы — по цвету арбузы, по цвету пески, лепестками шевелящие, как лопастями турбины. Розы — меж пальцев — беличья шкурка, на языке — семя рябины. Розы различны по температуре, по темпераменту славы, а по расцветке отважны, как слалом. Черные розы — черное пиво, каменноугольные бокалы. Красные розы — кобыльи спины со взмыленными боками. Белые розы — девичьи бедра в судорогах зачатья. Желтые розы — резвящиеся у бора зайчата. Розы в любом миллиграмме чернил Пушкина, Шелли, Тагора. Но уподобилась работорговле розоторговля. В розницу розы! Оптом! На масло, в таблетки для нервов! Нужно же розам «практическое примененье». Может, и правильно это. Нужны же таблетки от боли, как натюрморты нужны для оживленья обоев. Правильно все. Только нужно ведь печься не только о чадах и чае. Розы как люди. Они вечерами печальны. И на плантациях роз такие же планы, коробки, субботы. Розы как люди. С такой же солнечной, доброй, короткой судьбою.2 «О чем скорбели пескари?..»
О чем скорбели пескари? О чем пищали? Жилось им лучше аскарид. Жирен песчаник. Не жизнь, а лилиевый лист. Балы, получки. Все хищники перевелись. Благополучье. Кури тростник. Около скал стирай кальсоны. А в кладовых! Окорока стрекоз копченых! А меблировка! На дому — О, мир! О, боги! Из перламутра, перламут- ра все обои! Никто не трезв, никто не щупл, все щечки алы… Но только не хватало щук, зубастых, наглых, чтоб от зари и до зари, клыки ломая… Блаженствовали пескари. Не понимали.3 «В страницах клумбовой судьбы…»
В страницах клумбовой судьбы несправедливость есть: одни цветы — чтобы любить, другие — чтобы есть. Кто съест нарциссы? Да никто. И львиный зев не съест. Уж лучше жесть или картон, — и враз на жизни — крест. Кто любит клевер? Кто букет любимой подарит из клевера? Такой букет комично подарить. Но клевер ест кобыла — скок!— и съела из-под вил. Но ведь кобыла — это скот. Нет у нее любви. Не видеть клеверу фаты. Вся жизнь его — удар. Гвоздика — хитрые цветы. И любят, и едят. Но чаще этих хитрецов — раз! — в тестовый раствор. А розы любят за лицо, а не за существо.4 «Я не верю дельфинам…»
Я не верю дельфинам. Эти игры — от рыбьего жира. Оттого, что всегда слабосильная сельдь вне игры. У дельфинов малоподвижная кровь в склеротических жилах. Жизнерадостность их — от чужих животов и икры. Это резвость обжор. Ни в какую не верю дельфинам, грациозным прыжкам, грандиозным жемчужным телам. Это — кордебалет. Этот фырк, эти всплески — для фильмов, для художников, разменявших на рукоплескания красок мудрый талант. Музыкальность дельфинов! Разве после насыщенной пищей недели, худо слушать кларнет? Выкаблучивать танец забавный? Квартируются в море, а не рыбы. Летают, а птицами стать нет надежды. Балерины — дельфины, длинноклювые звери с кривыми и злыми зубами.5 «Так давно это было…»
Так давно это было, что хвастливые вороны даже сколько ни вспоминали, не вспомнили с точностью дату. Смерчи так припустили. Такие давали уроки! Вырос кактус в пустыне, как все, что в пустыне, уродлив. А пустыня — пески, кумачовая крупка. Караваны благоустраивались на привалах. Верблюды воззирались на кактус с презрительным хрюком: — Не цветок, а ублюдок! и презрительно в кактус плевали. Вечерами шушукались вовсе не склонные к шуткам очкастые змеи: — Нужно жалить его. Этот выродок даже цвести не умеет. Кактус жил молчаливо. Иногда препирался с ужами. Он-то знал: он настолько колюч, что его невозможно ужалить. Он-то знал: и плевки, и шипенье — пока что. Он еще расцветет! Он еще им докажет! Покажет! Разразилась жара. И пустыню измяли самумы. Заголосили шакалы — шайки изголодавшихся мумий. Убежали слоны в Хиндустан, а верблюды к арабам. И барахталось стадо барханных орлов и орало, умирая, ломая крылатые плечи и ноги. Эти ночи самумов! Безмлечные ночи! Так афганские женщины, раньше трещотки в серале, умирая, царапали щеки и серьги, и волосы рвали. Опустела пустыня. Стала желтой, голодной и утлой. Ничего не осталось ни от сусликов, ни от саксаулов. И тогда, и тогда, и тогда — видно время шутило, — кактус пышно расцвел над песчаным, запущенным штилем. Он зацвел, он ворочал багровыми лопастями. Все закаты бледнели перед его лепестками. Как он цвел! Как менялся в расцветке! То — цвета айвы, то — цвета граната. Он, ликуя, кричал: — Я цвету! Мой цветок — самый красный и самый громадный во вселенной! Кактус цвел! И отцвел. Снова смерчи давали шагающим дюнам уроки. Снова горбился кактус, бесцветен, как все, что в пустыне, уродлив. И слоны возвратились. И верблюды во время привалов, с тем же самым презреньем в стареющий кактус плевали. Молодые орлы издевались: — Какой толстокожий кувшин! Змеям выросла смена. И так же шушукалась смена. Как он, кактус, когда-то расцвел, как имел лепестки — размером с ковши! — только ящерка видела, но рассказать никому не сумела.6 «Дождь моросил…»
Дождь моросил. Дождь вздрагивал. Нева то взваливала волны на причалы, то снова в воду сваливала волны. И фонари вдоль набережной узкой светили тускло, будто сквозь фанеру. Мы говорили о цветах и рыбах… Что орхидеи, не в пример пионам, теплы, что окунь вовсе и не рыба, а лебедь — только с красными крылами… Мы уезжали за город, туда, где бабочки, и где наторкан в почву еще несовершенный лес. Под жилами и хлорофиллом листьев мы говорили о цветах и рыбах, о ящерицах — о вееропалых гекконах — вот живут же — прилипают и к потолку, и к зеркалу, и к шкафу. А нам к сиим предметам не прилипнуть. Палатка. Одеяло. Фляга. Спиннинг. Наш лагерь. Наше логово. Наш дом. Мы ищем тот проклятый «чертов палец», тот белемнит, обломок добрых прошлых взаимоотношений… Не найти. Мы бродим, пожираем плотоядно щетинистых и худосочных щук, закрюченных на мой могучий спиннинг захватнический. В перебранках грома мы наблюдаем фотовспышки молний и чертим планы линиями ливней… И тихо улыбаемся, как рыбы, своим воображаемым цветам.Рыбы и змеи
1 «Речная дельта…»
Речная дельта, как зимняя береза, бороздила мерзлый грунт корнями. Морской окунь плыл к дельте, подпрыгивая, окунаясь в пригорки волн. Речной окунь тоже плыл к дельте, шевеля плавниками — красными парусами. — Здорово, старик! — закричал речной окунь и хлопнул морского окуня хвостом по плечу. — Чего молчишь? — закричал речной окунь. — Зазнался, старик? Ведь и ты и я рыбы. И ты и я пьем воду. — Правильно, — сказал морской окунь. — — И ты и я рыбы. Только ты пьешь воду, а я пью океан.2 «За столом сидели змеи…»
За столом сидели змеи. Чешуя, что черепица. Злоязычная семейка занималась чаепитьем. И беседовали с жаром змеи: (о, змеиный жар!) кто кого когда ужалил, кто кого когда сожрал. За веселым чаепитьем время голубое смерклось. Застучала черепицей миловидная семейка. Обнялся клубочек милый спать на дереве сторогом. Дурень-кролик ходит мимо змей. А надо бы — сторонкой.3 «За городом…»
За городом, за индустрией — курганы. Торгуются с ветром древа — пирамиды. Там сучья стучат боевыми курками, прожилки мильонами ливней промыты. Там чавкают — да! — кабаны каблуками. Там что ни цветок — больше скверовой клумбы. Там змеи — там змеи повисли клубками. Змеиные блоки. Змеиные клубы. Сползаются змеи, скользя и лукавя, они прободают любые пласты! Клубками, клубками, клубками, клубками диктаторы джунглей, степей и пустынь. И кажется — нет на земле океанов. Сплошное шипенье. Засилье измен. Сплошь — беспозвоночность. Сплошное киванье осклизлых, угодливых, жалящих змей. И кажется — нет на земле окаянной ни норки тепла, что сломались орлы. И все-таки есть на земле Океаны, апрельские льдины, что зубья пилы! Да, все-таки есть на земле Океаны, и льдины, что ямбы звонят, что клыки! Идут океаном апрельские ямбы… Им так наплевать на клубки.«А крикливые младенцы…»
А крикливые младенцы возомнили вдруг — орлами… Вы, младенцы благоденствий, аккуратней окрыляйтесь! Ваши крылья от кормлений хилы. Выхолены лапы. Если это — окрыленье, какова ж тогда крылатость? Ваш полет не торен. Сдобрен жиром. Устремленье жидко: с лету, к собственным гнездовьям. Безразлично — падаль — живность! Рев о деле, а на деле кувырканье да оранье… А крикливые младенцы возомнили вдруг — орлами… У орлов на клювах шрамы, а на крыльях раны ружей, но орлы гнилье не жрали — было нужно иль не нужно! Подыхали — но не жрали! Подыхали — клювом кверху! Подыхали — глотку рвали птице, зверю, человеку, без слюней, без жалоб, немо — клювы в глотки! когти в рыла! За утраченное небо! За изломанные крылья! Подыхали, веря: где-то, скоро — исполна за раны. А крикливые младенцы возомнили вдруг — орлами…Гимн гномам
Если молнии-горнисты протрубят конец Бастилий, ураганами гонимы, гномы гомонят бессильно. Ураганы — к переменам, перемены — к мерам новым. Перемены непременно выйдут боком всяким гномам! Не до дремы, не до нормы — топоры торчат над холкой! Гномы уползают в норы и хихикают тихонько. Любо в норах бесноваться, переваривать запасы. Пусть немного тесновато, но намного безопасней! Ураган прошел. Посуху установлены каноны. Глазом не сморгнешь — повсюду гам и гомон! Гном на гноме. И горнистам, тем, что пали (ну, а пали все горнисты), воздвигают мрамор в память, восхваляют безгранично! Гномы воздвигают, моют, роют — глядь: к рукам прибрали все остатки малых молний и больших протуберанцев.Лето
Дождь грибной по кустам гривами! Лентами! От орла до крота все довольны летом! Белки — безо всяких уз — к небу — вверх ногами! Ручейки не дуют в ус — кулаками камни! Муравня — хоть куда! К пням, что к тронам, трется! От куста до куста паутины — тросы. Приутихли петухи, паутины — туго! Акробаты — пауки дышат ратным духом! Перевыполнили план ягоды, грибы, отчиталась перед черным полем яровая… От тепла до тепла девять месяцев ходьбы — девять перевалов!Мужество
А может, мужество в проклятье, в провозглашенье оды ночи, и в тяготении к прохладе небритых, бледных одиночеств? А может, мужество в мажоре, в высоколобом отстраненье, в непобедимости моржовых клыков, или в тюленьей лени? Я видел — и моржи робели, тюлени не держали марку, неколебимость колыбелей расшатана распутством мамок. Я видел, как сражались кобры, встав на хвосты, дрожа от гнева. Их морды — вздувшиеся колбы раскачивались вправо — влево. Казалось, что танцуют гады, что веселятся на колядках. Но каждая ждала: другая сбежит от каменного взгляда.Крапива
У лужайки пена мха как пиво. На лужайке даже в мае жарко. Вымахала с петуха крапива. Агрессивные вздымала жала! А мечтала: о ноздрях лосиных, о коленях оголенных женщин, чтоб ни свет и ни заря в лесинах, в поселеньях, в огородах жечь их! На болоте мхи крепили холку, верещали на гону зайчата. Так как не было крапиве ходу, то крапива на корню зачахла! Занималась над садами зона голубой зари — наклоном к логу. И крапива назидала зернам жить добрее, экономить злобу.Березы
1 «Бывают разные березы…»
Бывают разные березы. В повалах — ранние березы. А на переднем плане — дряблые, корявые, как якоря. Бывают черные березы, чугунно-красные, чернильные, горчичные и цвета синьки… А белых нет берез… Их красят зори, ливни беглые, бураны — оторви да брось! А люди выдумали белые. А белых нет берез.2 «Художник брезговал березой…»
Художник брезговал березой. Творец оберегал палитру. Писал он образно и броско бананы, пальмы, эвкалипты. И кисть игривая играла и краски клумбами макала. Его холщовые экраны дымились лунными мазками! Однажды как-то, ради шутки, художник за березу взялся. Но краски скалились, как щуки, и из-под кисти ускользали. Тогда он разложил березу. Нарисовал отдельно крону, порезы на коре, бороздки и даже соки под корою. Все было глянцево, контрастно, с предельной правильностью линий. А вот березы, как ни странно, березы не было в помине.Сегодня
Какие следы на гудроне оставили старые ливни? Кто ищет гармонию в громе? Кто ищет отчетливых линий? Изгиб горизонта расплывчат. Запруды затвердевают. Кто ищет счастливых различий в звериных и птичьих дебатах? Над каждой звездой и планетой, пусть наиярчайшей зовется, над каждой звездой и планетой другие планеты и звезды! И каждая новая эра — к смещению прошлых поэтов, и новые лавы поэтов бушуют, как лавы по Этне! И самые вечные вещи сегодня лишь — зримы и явны, и Солнце — сегодня щебечет! и Птицы — сегодня сияют! И ходят за грубые скалы влюбленные только сегодня. Их груди прильнули сосками! За голод, за подлость, за войны их месть под кустом веселится, вдыхая озона азы! И в солнечном щебете листьев зеленые брызги грозы!Городской лес Осеннее
Комариные укусы дождика на лавках. Ходят листья, словно гуси на огромных красных лапах. Над булыжником плакат: — Осторожно, листопад! И трамваи — набок, набок! Эх, по рельсам — по канатам! Осторожничать не надо, все идет как надо! Развороченная гильза лист. Но ныне — присно без излишнего трагизма умирают листья. Умирая, протоплазма объявляет праздник! Горожанин, как пила, — загружен полностью: трикотажные дела, булочные промыслы… Но не понимает лес трикотажность, булочность — празднует, наперерез беспробудной будничности!* * *
Листья, листья! Парашюты с куполами алыми. Вы, дожди, располосуйте асфальтовые ватманы! Вы деревьям изомните деревянный сон! — Сколько время? — Извините, не ношу часов. Время крутится в моторах, отмирает в молочае. Листья мне кричат: — Мы тонем а другие: — Мы летаем! Вы тоните и взлетайте, я вам не приятель. С пешеходными зонтами ходят дни опрятные. Время! Что ж. Пришло — уйдет. Ветер свитер свяжет. Выше — ниже ли удой у дождя — не важно. Все как есть я принимаю, листья приминаю. А чего не понимаю — не перенимаю! Не вступаю в пересуды с водяными армиями. _____ Листья, листья! Парашюты с куполами алыми.* * *
День занимался. И я занимался своим пробужденьем. Доблестно мыл, отмывал добела раковины ушные. — Не опоздай на автобус! — мне говорила Марина. — О, мой возлюбленный, быстро беги, уподобленный серне. — Как быстроногий олень с бальзамических гор, так бегу я. Все как всегда. На углу — углубленный и синий милиционер. Был он набожен, как небожитель. Транспорту в будке своей застекленной молился милиционер, углубленный и синий, и вечный. Все как всегда. Преднамерен и пронумерован, как триумфальная арка на толстых колесах автобус. В щели дверные, как в ящик почтовый конверт, пролезаю. Утренние космонавты, десантники, парашютисты, дети невыспанные, перед высадкой дремлем угрюмо, дремлем огромно! А после — проходим в свои проходные, то есть — проходим в рабочие дни ежедневно, так и проходим — беззвучные черные крабы, приподнимая клешни — как подъемные краны!В поисках развлечений
Сейчас двенадцать секунд второго. Двенадцать ровно! Я в габардины, в свиные кожи, в мутон закутан. Иду и думаю: двенадцать секунд второго прошло. Тринадцать! Шагнул — секунда! Еще секунда! И вот секунды, и вот секунды за шагами оледенели. Вымерли, как печенеги. И вот луна, она снежины зажигает, как спички. Чирк! — и запылали! Чирк! — почернели. А сколько мог бы, а сколько мог бы, а сколько мог бы за те секунды! Какие сказки! Одна — как тыща! Перечеркнуть, переиначить я сколько мог бы — всю ночь — которая необычайно геометрична. Вот льдины — параллелограммы, вот кубатура домов, и звезды — точечной лавиной. А я, как все, — примкнувший к ним — губа не дура! Иду — не сетую — беседую с любимой. Луна — огромным циферблатом на небесной тверди. А у любимой лицо угрюмо, как у медведя. Я разве чем-то задел? Обидел разве чем-то? Нет, ей, любимой, необходимы развлеченья. Вначале ясно: раз! говоры! раз! влеченья! и — раз! внесенья тел в постеленную плоскость! Для продолженья — необходимы развлеченья. Амфитеатры, кинотеатры, театры просто! Фонтан подмигиваний, хохотов, ужимок! Анекдотичность! Бородатая, что Кастро! Что ж! Сказки-джинны так и не вышли из кувшинов. Пусть их закупорены. Будем развлекаться! Эх, понеслась! Развлечься всласть! Я — как локатор ловлю: куда бы? развлечься как бы? разжечь годину Чтоб «жить, как жить!», необходимо развлекаться. Я понимаю — необходимо, необходимо.Марсово поле
Моросит. А деревья как термосы, кроны — зеленые крышки завинчены прочно в стволы. Малосильные птахи жужжат по кустам, витают, как миражи. Мост разинут. Дома в отдаленье поводят антеннами, как поводят рогами волы. Моросит, моросит, моросит. Поле Марсово! Красные зерна гранита! Поле массового процветанья сирени. Поле майских прогулок и павших горнистов. Поле павших горнистов! Даже в серые дни не сереет. Я стою под окном. Что? окно или прорубь в зазубренной толще гранита? Я стою под огнем. Полуночная запятая. Поле павших горнистов, поле первых горнистов! Только первые гибнут, последующие — процветают! Поле павших горнистов! Я перенимаю ваш горн. В пронимающий сумрак промозглой погоды горню: как бы ни моросило — не согнется, не сникнет огонь! Как бы ни моросило — быть огню! Быть огню! Он сияет вовсю, он позиций не сдал, (что бы ни бормотали различные лица, ссутулив лицо с выраженьем резины). Моросит, как морозит. Лучи голубого дождя — голубые лучи восходящего солнца России!* * *
Да здравствуют красные кляксы Матисса! Да здравствуют красные кляксы Матисса! В аквариуме из ночной протоплазмы, в оскаленном небе — нелепые пляски! Да здравствуют красные пляски Матисса! Все будет позднее — признанье, маститость, седины — благообразнее лилий, глаза — в благоразумных мешках, японская мудрость законченных линий, китайская целесообразность мазка! Нас увещевали: краски — не прясла, напрасно прядем разноцветные будни. Нам пляски не будет. Нам красная пляска заказана, даже позднее — не будет. Кичась целомудрием закоченелым, вещали: — Устойчивость! До почерненья! На всем: как мы плакали, как мы дышали, на всем, что не согнуто, не померкло, своими дубовыми карандашами вы ставили, (ставили, помним!) пометки. Нам вдалбливали: вы — посконность и сено, вы — серость, рисуйте, что ваше, что серо, вы — северность, вы — сибирячность, пельменность. Вам быть поколением неприметных, безруких, безрогих… Мы камень за камнем росли, как пороги. Послушно кивали на ваши обряды. Налево — налево, направо — направо текли, а потом — все теченье — обратно! Попробуйте снова теченье направить! Попробуйте вновь проявить карандашность, где все, что живет, восстает из травы, где каждое дерево валом карданным вращает зеленые ласты листвы!Летний сад
Зима приготовилась к старту. Земля приготовилась к стуже. И круг посетителей статуй все уже, и уже, и уже. Слоняюсь — последний из крупных слонов — лицезрителей статуй. А статуи ходят по саду по кругу, по кругу, по кругу. За ними хожу, как умею. И чувствую вдруг — каменею. Еще разгрызаю окурки, но рот костенеет кощеем, картавит едва: — Эй, фигуры! А ну, прекращайте хожденье немедленным образом! Мне ли не знать вашу каменность, косность. И все-таки я — каменею. А статуи — ходят и ходят.Порт
Якоря — коряги, крючья! Баки — кости мозговые! Порт! У грузчиков горючий пот, пропахший мешковиной. Пар капустный, как морозный, над баржами, что в ремонте. Ежеутренне матросы совершают выход в море. Мореходы из Гаваны бородаты и бодры. По морям — волнам коварным! У тебя такой порыв! Ты от счастья чуть живой, чуть живой от нежности к революции чужой, к бородатым внешностям… Море! В солнечном салюте! В штормовой крамоле! Почему ты вышел в люди, а не вышел в море?Дворник
Быть грозе! И птицы с крыш! Как перед грозою стриж, над карнизом низко-низко дворник наклонился. Еле-еле гром искрит, будто перегружен. Черный дворник! Черный стриж! Фартук белогрудый. Заметай следы дневных мусорных разбоев. Молчаливый мой двойник по ночной работе. Мы привычные молчать. Мамонтам подобны, утруждаясь по ночам под началом дома. Заметай! Тебе не стать, раз и два и сто раз! Ты мой сторож! Эй, не спать! Я твой дворник, сторож. Заметай! На все катушки! Кто устойчив перед? Мы стучим, как в колотушки, в черенки лопат и перьев! — Спите, жители города. Все спокойно в спящем Ленинграде. Все спокойно.Трамваи
Мимо такси — на конус фары! Мимо витрин и мимо фабрик — гастрономических богинь, трамваи — красные быки, бредут — стада, стада, стада. Крупнорогатый скоп скота. В ангары! В стойла! В тесноте, чтоб в смазочных маслах потеть, чтоб каждый грамм копыт крещен кубичным, гаечным ключом! Тоску ночную не вмещать — мычать! Вожатый важен, как большой: вращает рулевой вожжой! Титан — трамваи объезжать! Я ночью не сажусь в трамвай. Не нужно транспорт обижать. Хоть ночью — обожать трамвай. У них, быков (как убежать в луга?), сумели все отнять. Не нужно транспорт обижать. Пусть отдохнет хоть от меня.Пльсков
Зуб луны из десен туч едва прорезан. Струи речки — это струны! — в три бандуры. В этом городе прогоном мы, проездом. Прорезиненные внуки трубадуров. Днями — город, птичьим хором знаменитый. Вечерами — вечеваньем, скобарями. Помнишь полночь? Был я — хорозаменитель. Пел и пел, как мы вплывали с кораблями, как скорбели на моем горбу батоги, а купецкие амбарины горели. Этот город коротал мой дед Баторий, этот город городил мой дед Корнелий. Третий дед мой был застенчивый, как мальчик, по шеям стучал пропоиц костылями. Иудей был дед. И, видимо, корчмарщик. А четвертый дед тевтонец был, эстляндец. И скакали все мои четыре деда. Заклинали, чтоб друг друга — на закланье! И с клинками — на воинственное дело — их скликали — кол о кол колоколами! Как сейчас, гляжу: под здравственные тосты развевается топор, звучит веревка. Слушай, лада, я — нелепое потомство. Четвертованный? Или учетверенный? Я на все четыре стороны шагаю? В четырех углах стою одновременно? До сей поры пробираюсь к Шаруканю на четверике коней — попеременно?.. Этот город? Этот город — разбежаться — перепрыгнуть, налегке, не пригибаясь. этот город на одно рукопожатье, на одно прикосновение губами. На один вокзал. А что за временами! То ли деды, то ль не деды — что запомнишь? Этот город — на одно воспоминанье, на одно спасибо — городу за полночь.«Цветет жасмин…»
Цветет жасмин. А пахнет жестью. А в парках жерди из железа. Как селезни скамейки. Желчью тропинки городского леса. Какие хлопья! Как зазнался! Стою растерянный, как пращур. Как десять лет назад — в шестнадцать — цветет жасмин. Я плачу. Цветет жасмин. Я плачу. Танец станцован лепестком. А лепта? Цветет жасмин! Сентиментальность! Мой снег цветет в теплице лета! Метель в теплице! Снег в теплице! А я стою, как иже с ним. И возле не с кем поделиться. Цветет жасмин… Цвети, жасмин!«Ты на Ладоге, что льдинка…»
Ты на Ладоге, что льдинка. Там туманы. Там так мало солнца. В теремах Шальдихи ты — Тамара! Хромоногим Тамерланом я — пиры! да войны! Ты терпела, обмирала… Теперь — довольно! Месть на месте! (Все как в сказках.) После мести — тризны! Ты — меня — со скал Кавказа сбрасываешь — в брызги! Милая! Как получилось? Терпели — теряем. Для меня твоя лучина теплится в темряве. Темень ладожская… Те ли сказки из тумана? Где твой терем, где твой Терек, царица Тамара?«Там гора, а на горе там…»
Там гора, а на горе там я живу анахоретом, по карельским перешейкам проползаю с муравьями, пожираю сбереженья бора, поля и моряны. Пруд, а у пруда граниты, я живу, предохранитель от пожаров, от разлуки и поджариваю брюхо, и беседую часами с колоссальными лосями. Там леса, а на лесах там я живу, анализатор кукареканья медведя, кукованья сатаны, кряканья болотной меди, рева солнечных синиц! Ну, а песни? Очень надо! Я давно не сочи- няю. И не петь и не писать, только слушать песни пса! Пес поет в моих хоромах, чудо песня! хороша! — смесь хорала и хавроньи, случка баржи и моржа!Разговор с Джордано Бруно
Не брани меня, Бруно. Бренен ты. И проиграл. Не кругла планета, но — пара- ллело- грамм! Эти бредни — как стары! Так стары — осколки! Мы — восходим на костры? Кто — восходит? Вот кулак у нас. Как лак! Нахлебались хлеба! Три двора и три кола! Журавли — не в небе! Не кругла Земля — бревно, деревянный палец. Улыбается Бруно… Очень улыбается… Вот когда взойдет кулак, смените позиции. Убедитесь, что кругла. Еще убедитесь…Городские сады
В садах рассчитанных, расчесанных я — браконьер, я — бракодел; а листья — красные пощечины за то, что лето проглядел. Я проглядел, я прогадал такие лета повороты! Среди своих абракадабр словесных, лето — проворонил. А лето было с мотылями, с качелями воды над гидрой, с телячьей нежностью моряны и с гиком женщин, с гибким гиком! Что ж! летом легче. Лето лечит. На всех качелях — мы не мы! Что ж. Лето кончено, конечно. Необходимо ждать зимы. Необходимо ждать зимы.Октябрь
Октябрь. Ох, табор! Трамваи скрипучи — кибитки, кибитки! Прохожие цугом — цыгане, цыгане! На черном асфальте — на черной копирке железные лужи лежат в целлофане. Октябрь! Отары кустарников — каждый сучочек отмечен. Стригут неприкаянных, наголо бреют. Они — по-овечьи, они — по-овечьи подергивают животами и блеют. Вот листьям дадут еще отпуск на месяц: витайте! Цветите! Потом протоколы составит зима. И все будет на месте: достойно бело, одинаково голо.«Фонари опадают…»
Фонари опадают. Опадают мои фонари. Целые грозди электрических листьев примерзают к уже не зеленой земле. Эти листья на ощупь — неощутимы (это листья моих фонарей!), по рисунку — негеометричны, по цвету — вне цвета. Без единого звука листья моих фонарей примерзают к уже не зеленой земле. А деревья, к примеру, опадают не так. Как они опадают! Ах, как обучились деревья опадать! Как вызубрили осень — от листка до листка, от корки до корки! И когда опадают деревья — выявляй, проходящий, запасы печали! ______ Незаметно для всех опадают мои фонари. Но они опадают — я-то знаю, я — вижу.Гостиница «Москва»
Как теплится в гостинице, в гостинице — грустильнице? Довольны потеплением, щебечущим динамиком, днем полиэтиленовым на этаже двенадцатом? Как старится в гостинице, в гостинице — хрустальнице? С кристальными графинами, гардинами графичными, кустарными вареньями? Мы временно, мы временно! Мы — воробьи осенние, мы — северяне. Мы — мечтавшие о зелени, но ждущие зимы.«О, на язык тебе типун…»
О, на язык тебе типун, изысканный поэт-трибун. Манипулируя венками, кивая профилем варяга, эстрадной совестью сверкая, ты в массы мастерство внедряешь? Гербарий танца и сутан, евангелий и улюлюка, среди огула и стыда, иронизируешь, ублюдок? О, благо, публика бедна, бездарен, благо, зал публичный, и, благо, занят трибунал проблемой лозунгов и пищи.Дразнилка критику
Кри- тик, тик- тик, кри- тик, тик- тик, кос- ти, крес- ти мой стих! У ног, мопс, ляг вож- дей, пла- нов! Твой мозг, мозг- ляк, вез- де пра- вый! Крис- та- лен ты, как те- ре- мок! Мой кри- тик- тик, кри- те- рий мой! У- мер Пуш- кин, а ты вы- жил! У- мер Пуш кин, а ты вы- ше! И я ум- ру, мой внук ум- рет! Ви- ляй в уг- лу, ва- ляй, у- род! Без- мер- но тих, ко- лен- ки ниц! Бес- смер- тен ты, как кре- ти- низм!Гимн агентам снабженья
Вам — незаметным, как стебли подводного мира, незнаменитым, но незаменимым микробам, двухсотмилльоножды — слава Агентам Снабженья! Вы — снадобья наши, сандалии, санитария, ректификаты, электрификация, саны, тарифы. Нет президентов, прессы, юриспруденции, сессий, гимн государств — Голос Агентов Снабженья! Это Агенты проскальзывают, как макароны, в рюмки, на съезды, в хранилища, под одеяла. Здравствуй, художник! Битник, бунтарь, гомер, горемыка, волосы рвущий на пятках в сомненьях о форме… Не сомневайся. Будешь оформлен Агентом Снабженья.Гимн зубилу
Зубилом быть! Быть злобным, белозубым, заботливым о судьбах производства, звучать произведением труда! Ну, кто из нас сегодня не зубило? Ну, кто под Богом ходит? Совершаем хождение свое под Молотком! Жил человечек — ломтик мягкотелый, изыскивался в скользких размышленьях, по своему характеру — безумных, безудержных… и оказался… без… Он нынче полон пламенным желаньем зубилом быть! Рубить по начертаньям начитанных, умелых чертежей любой узор на розовом железе! Бывает: познакомят с экземпляром: лоб в 10 баллов, профиль колоритен, глаголом жжет — колонна из калорий! Потом рассмотришь это со спины, а вместо позвоночника — зубило! Ну, кто еще сегодня не зубило? Ты не зубило? Ну-ка, повернись!Мой дом
«Дом стоял на перекрестке…»
Дом стоял на перекрестке, напряжен и мускулист, весь в очках, как перед кроссом чемпион-мотоциклист. Голуби кормились мерно, на карнизах красовались. Грозные пенсионеры вдоль двора крейсировали. Вечерами дом думал, сметы составлял, отчеты, и — внимательные дула — наводил глаза ученых, дула — в космос розоватый! А под козырьком у дома разорялась, раздавалась, радовалась радиола. Там бутылки тасовали, под пластинки танцевали, эх, комично танцевали, выкаблучивались! Я в одном из окон дома домогаюсь новой строчки. Я хотел бы стать домом, напряженным и строгим. Танцевать комически на чужой гульбе, плакать под космический гул голубей.«Каждому необходим…»
Каждому необходим свой дом, свой дым, своды над головой, ложе — лежанку бы, чтобы свой колобок свойственен дому был. Где ты, мой дом, стоишь? Дом — над окном — стриж? Гость у дверей цепных? Дом — под окном — цветник? Где ты, мой дом родной? В рододендронах мой? В детстве да сплыл, не быв. В детстве? Или — встарь? Эх, кабы — да кабы Сивкою-Буркой встань! Сивка, топчи гранит! Бурка — и-го-го-го! Где ты, мой дом — в грибных дождиках в Новый Год?«Кто строил дом?..»
Кто строил дом? (Этап — этаж!) Мать? Нет! Отец? Не мог! Ваш дом, по-вашему, он — ваш, лишь по названью — мой. Приблудный сын домов чужих, ублюдок, Вечный Жид, ты в дом вломился напролом, в наш дом! В ваш дом? Ваш дом — неврастеничек и нерях, маньяков и менял. Не я вошел в ваш дом, не я, ваш дом вошел в меня! Я — нет! — предательству в ночи, предательству ночей! А дом все знает, а — молчит! Не ваш он, дом — ничей! Бело- бетонная скала! Бассейн, в котором гул бессилья всех земных салак, бесславья — всех акул!Музыка
В окне напротив магнитофон гоняет гаммы. Набросив шкуру — подобье барса — пиджак пятнистый чернильны пятна! Музыкальными ногами танцуем: очи лоснятся лаком, как пианино. На шоколадных паркетных плитках танцуем. Боги! В гримасах грациозных спины! Танцуем мощно окрошку из фокстрота, вальса, танго и польки, и из чего-то, что у берберо-арабов модно. На шоколадных паркетных плитках кружатся пары. Кряжисты парни. Девицы крошечны — мизинцы! Как лыжи, туфли. Колышет ночь прически-пальмы. И запах ночи с парфюмерным магазином полемизирует. Чирикаем чижами. Юнцы! Юницы! Мы все в порыве. Мы все в полете. Мы все танцуем. Только музыка — чужая и из какого-то чужого окна напротив.Дом подонков
Он ходит под окнами Дома Подонков подолгу, подолгу. Ой, мальчик! Молчальник! Мельчают потомки? Отбился от мамы? Где компас? Где полюс? Подобны под окнами Дома Подонков и доля, и дело, и доблесть, и подлость. А в Доме! Параболы потных подолов, асбестовы губы! богаты беседы! Мы ходим под окнами Дома Подонков, солдаты, индейцы, босы и бесследны.Ночь 9-го октября 1962 года
1 «Приснилось мне, что я оброс грибами.…»
Приснилось мне, что я оброс грибами. На горле, на ключицах, на лопатках, как плоские листы болотных лилий, на длинных черенках росли грибы! Поганки, сыроежки, грузди, но большинство поганок. Весь живот в поганках. Грудь в поганках! В пегих! Как волосы короткой стрижки, часто росли грибы. Точно горилла шерстью, я весь, как есть, топорщился грибами! На длинных черенках грибы торчали, как плоские листы болотных лилий, осклизлые, но вместо хлорофилла просвечивали — синий, красный, желтый, зеленый — кровеносные сосуды. Ого! Оригинальная грибница! — воскликнул я, все еще склонный к шуткам. Я хлопнул всей ладонью по грибам. И хлопнул я, и онемел от боли. Как будто хлопнул по десятку бритв, как будто бритвы врезались в ладонь! Грибы во сне — к болезни. Я здоров. Я, правда, иногда болею гриппом, но не грибами. «Гриб» — такой болезни нет ни в одной из медицинских библий. Я хлопнул. Удивился. И проснулся. Грибы! И, окончательно проснувшись, я снова удивился наяву.2 «Они стенографировали сны…»
Они стенографировали сны. За стенкой — три соседние старухи, три орлеанских девственницы, три экс-чемпионки по шипящим звукам, мне в спину обращенным. Три гвардейца из поредевшей армии непьющих! Они во сне ворочались, рычали, поварчивали. Видно, состязались во сне на олимпийских играх склочниц. Они стенографировали сны. Что ж? Разбудить старух? Оформить форум по формулированию болезни? Уж то-то будет празднество маразма! Я… окончаньем ногтя тронул кнопку. Торшер шатнулся. Лампа разразилась стоваттным треугольным душем света! Прохладой электрического душа! И — ни гриба! Я — чист, как гололед! Я прыгал, применяя все приемы от самбо, джиу-джитсу до цыганской, я прыгал, применяя все приемы борьбы с собой! Однажды оглянулся: у шкафа вспыхнул черный человек! Был человек весь в черном, как чернец… Но вырез глаз, изгиб волос и даже мельчайшие морщины возле глаз — как у меня. Двойник или подвох? Но зеркало? Нет, зеркало — за шкафом, и я — в трусах, а он — в плаще и в шляпе. — Так. Значит, это черный человек, — подумал я… — Явился он, — подумал я, подумав, — разыгрывать классический сюжет. — Ты кто? — подумал я. Молчанье. — Одно к другому, и одно другого не легче. Поначалу: сон — грибы, и явь — дремучий мученик — молчальник. — Садись, — подумал я. — Садись, молчальник, молочный брат необычайной ночи, садись, ты, черный символ непочтенья! Ты, непочатый печенег молчанья! Молочный брат необычайной ночи, с кем вздумал состязаться по молчанью? Мой дед молчал. Отец молчал, и брат отца. И умирали тоже молча. Я — третье поколение молчащих. Эх, ты, какой ты черный человек! Чернявее меня, но не чернее. Как видишь, — я потомственный молчальник, молчальник — профессионал.«Сосуществуем мирно…»
Сосуществуем мирно: я, будильник. И кто главенственнее — я или будильник? Будильник! Утром он визжит: — Подъем! — Так понимать: вставай и поднимайся! Раз он визжит: — Вставай и поднимайся, — я поднимаюсь и встаю, и снова встаю и поднимаюсь, и встаю! И поднимаюсь! И включаюсь в дело, как честный, добросовестный рубильник. А вечером визжит: — Пора страстей! Пятнадцатиминутка наслаждений! — Так сколько скользких порций поцелуев плебеям, нам, воздаст Патриций Часа? Железный страж мой! Мой блюститель часа! Тиктакает и не подозревает, что я однажды выну молоток, и тикну так, чтобы разбить — как можно! — костлявое стеклянное лицо!«Тот человек ни слова не сказал…»
Тот человек ни слова не сказал. Ни слова не сказав, ни междометья, он промолчал и, кажется, ушел. И пил я пиво, черное, как небо! И грыз я самый грозный корнеплод двадцатого столетия — картошку. Она, на мандариновые дольки разрубленная, отдавала рыбой. В окне (окно — квадратный вход в туннель необычайной ночи) возникали брезентовые контуры людей. Брезентовые космонавты ночи, иль работяги — пьяные в дымину, дымились, как фруктовые деревья весной, а возникали, как факелы из космоса ночного! И пели так, как Пятницкого хор поет, если замедлить ход пластинки!«И все же зачем он приходил?..»
И все же зачем он приходил? (А приходил наверняка.) За чем он приходил?* * *
«И ко сну отошли рекламы…»
И ко сну отошли рекламы. Фонари, фонари трехглавы. Так и есть — фонари трехглавы: две зеленых, над ними желтая голова. Ночь дремуча. Дома дремучи. И дремучие головешки — бродят маленькие человечки, и ныряют в свои кормушки, разграфленные по этажам, и несут иконы в кормушки, мельтешась. Купола, минареты, маковки в ожидании мятежа! Муэдзины, раввины, диаконы предвкушают мятеж за веру, чтоб не бысть житию двояким, бысть — от Аз до Ять по завету. Нищим — наоборот — корона. Как же наоборот доярке? Девка в рев: не хочу коровой! Так наивны и так банальны помыслы о мятежной секте. Не бывать сардельке бананом ни на том, ни на этом свете. Бродят маленькие человечки, головы — головешки. Выбирают, во что верить? Сколько веяний… поветрий…Полночь
А тени возле зданий, тени — прочерченные криво грани. Взгляни туда — сюда: антенны — завинченные в крыши грабли. Сырая колобаха ветер! А дворников берет зевота. Как плети Карабаса ветви. И все наоборот сегодня. Луна, а на граните сухо. Волна — невпроворот! — лучится. Бывает: на границе суток все ждешь: наоборот случится. Вороны, как барбосы, лают, и каркают собаки грозно. Ты ничего не бойся, лада. Все это — байки. Просто — проза моих сомнений. Соль на марле! К утру мои просохнут весла. И утром будет все нормально, как все, что утром, все, что звездно!Первый снег
Первый снег. Пересмех перевертышей-снежинок над лепными урнами. И снижение снежинок до земного уровня. Первый снег. Пар от рек. В воду — белые занозы. Как заносит велотрек, первый снег заносит. С первым снегом. С первым следом. Здания под слоем снега запылают камельками. Здания задразнит небо: — Эх, вы, камни, камни, камни! А по каменным палатам ходят белые цыплята, прыгают — превыше крыш! Кыш! Кыш! Кыш!«Снег летит и сям…»
Снег летит и сям и там, в общем, очень деятельно. Во дворе моем фонтан, у фонтана дети. Невелик объем двора — негде и окурку! У фонтана детвора ваяет Снегурку. Мо-о-ро-оз! На снегу чугунеет резина! Хоть Снегурка ни гу-гу, но вполне красива. Дети стукают легонько мирными сердцами, создают из аллегорий миросозерцанье. У детей такой замах — варежки насвистывают! А зима? Ну, что ж, зима! Пусть себе воинствует.Гололедица
А вчера еще, вчера снег выкидывал коленца. Нынче улица черна — го-ло-ле-дица. Холод. У вороны лёт — будто из больницы. Голо. Всюду голый лед — без единой ниточки. Лед горланит: — Я — король! Все вокруг моей оси. Солнце — кетовой икрой. Это я преобразил! На морозе башмаки восторженно каркают: это ходят рыбаки по зеркальным карпам. От меня блестит заря! И прокатные станы! Это ходят слесаря по легированной стали! Дети ходят в детский сад по леденцам! — И сулит король-обманщик бесчисленные горы. Но когда-то крикнет мальчик, что король-то голый!Снег в ноябре
А снежинки тают, тают. Очаги расставлены? Вон снежинки — та и та и та — уже растаяли. Что снега сползают с веток, что грязюка — по-тюленьи, что и травка тут же — не обманывайтесь! Это временное потепленье перед лютой стужей!После праздника
Вот и праздник прошел. Декорации красные сняты. Отсалютовали, отвыкрикивали, отбабахали. На асфальтовых лицах — трудолюбие. (Наши азы! Наши яти!) Трудолюбие под папахами. По замерзшим, брезентовым улицам бегает мальчик. Думал: это салют, а это пожарная колымага. Сирена. А хотел — самолеты, салюты, футбольные матчи. Чтобы шар голубой колыхался на пальце все время. Мальчик прыгал. Попрыгал и скрылся за поворотом. Алкоголик вспорхнул, пролетел сантиметр над панелью. Руку жмет сам себе, поздравляет с полетом… Где же мальчик? А может быть, мальчик и не был?«Воистину воинствуем напрасно…»
Воистину воинствуем напрасно. Палим, не разбирая, где мишени. Теперь бы нам терпения набраться. Пора вступать в период размышлений. Мы отрапортовались — с пылу, с жару! Пора докладывать содружественным станам: Как не спугнуть уродливую жабу, но обмануть — во что бы то ни стало. Как разучить, где маховик, где привод, кого для штрафов, а кого для премий. Пора вступать совсем в другой период. В другой период! Что ж, приступим к преньям.РЕМОНТ МОРЯ (Сцены) 1961–1963
Манек N ищет зеленую палочку
ПЕРЕД ПЬЕСОЙ
Пьеса — это полутора- или двухчасовой
отрезок времени, отделенный от
миллионнолетней истории мира.
Эта пьеса —
возможно, что и не пьеса, а
представление,
декламация,
ситуация,
эпизод,
возможно, что и поэма
со сценическими заставками.
Эта пьеса — не действительность.
Действительность —
все равно за пьесой,
как бы пылко ни пытались
протащить ее
разнообразные авторы на сцену,
а сцена — декламация,
а действительность —
в зале,
в кислороде,
в растительности,
в слезах,
в детях,
в недрах.
Эта пьеса —
один вдох и один выдох,
а действительность — миллионнолетнее дыхание.
Эта пьеса — о черных воронах.
Я не против селекционеров,
скрещивающих черного ворона с голубым
попугаем или розовым индюком.
Пусть себе разгуливают по сцене
зеленые вороны с голубыми клювами
и розовыми бородами.
И эти разгуливания — занятие занимательное.
Специально — только о черных воронах —
я написал эту пьесу.
Это не означает, что других птиц,
таких, как:
вороны белые,
жаворонки,
воробьи
и даже павлины —
не существует.
Просто им не удалось попасть
в эту пьесу.
Временно не удалось
и по ограниченности времени.
Повторяю:
эта
пьеса
не
действительность.
Это — фантастика из области
А МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК.
А может быть и НАОБОРОТ.
Наподобие ценных указаний
Для правильного развития действия пьесы
необходимы два занавеса.
Первый:
стальной (цельный стальной лист),
отвесно опускающийся на сцену.
На этом листе необходимо писать:
вначале —
опись и характерные особенности действующих лиц,
позднее —
название очередного действия.
На этом листе необходимо нарисовать:
слева —
будильник, диаметром два метра с накладными стрелками.
Перед началом каждого действия будильник должен звонить.
Второй занавес:
не матерчатый, чтобы раздвигался, как двери автобуса.
Большинство декораций —
контуры зданий, столы, лестницы, кровати —
должны быть из арматуры,
похожей на «Детский конструктор».
Голос Диктора
должен раздаваться из глубины сцены,
чуть громче обычного человеческого голоса.
Все передвижения персонажей
должны быть ритмичны и не медленны.
Опись и характерные особенности действующих лиц
1. Манек N — манекен.
2. Зеленая палочка — символ счастья человечества.
3. Задира Быка — ЗАместитель ДИректора по БЫту и КАдрам.
4. Боксер — кулаком пробивает человека насквозь.
5. Молодежь — ох, уж эта молодежь!
6. Следователь.
7. Генерал.
8. Космонавт.
9. Диктор.
10. Ученый — выдающийся.
11. Поэт — Юпп (псевдоним).
12. Органы печати.
13. Органы.
14. Ребенок — девочка.
Действия пьесы происходят на одной из планет
не нашей галактики.
Название планеты сам автор не сумел придумать.
Так и осталось — планета.
ПРОЛОГ
(традиционный музей)
Справа — темный лес.
Слева — мутная вода.
Прямо вход вниз, вроде вокзального входа в метро.
Одни экспонаты выбираются на поверхность сцены, другие уже на сцене.
На вертикальных палочках таблички:
«Экспонаты находятся под охраной планеты»
«Не сорить словами»
«По экспонатам не ходить»
«На нас не плюют» и др.
Входят Молодежь, Строитель, все дети пьесы.
Строитель:
Вот Генерал. Животное семейства саблезубых.(Ребенок протягивает Генералу конфету.)
Деликатесов не употребляет. Питанье: минеральная вода. Когда проголодается, то лижет столовые ножи. А вот Задира Быка. Он ту же должность выполняет.Задира Быка:
Не выполняю. Перевыполняю.Строитель:
Вот следователь. Он подозревает.Один ребенок:
Людей подозреваете?Следователь:
Людей не разрешают мне подозревать. Теперь зверей подозревать стараюсь. К примеру: знаете ли вы, что муха является не мухой?Дети (хором):
Кем же? Следователь: Курой! Но временно скрывается под мухой. Ведь муху не зарежешь! Не зажаришь!Молодежь:
А кто на подозрении сейчас?Следователь:
Сейчас подозреваю поросенка. Подозреваю: этот поросенок совсем не поросенок, а — комар! Вы слышали, как он жужжит ночами в свинарнике?Строитель:
Понятно. Вот ученый.Один ребенок:
Какие выдвигаете ученья?Молодежь:
Как продвигаетесь? Как дело обстоит со сдвигами?Ученый:
На заданном этапе, отрезке времени, так я хотел сказать, я занят нижеследующей проблемой: зачем мы роем почву тракторами? Ведь существуют дождевые черви!..Следователь:
Подозреваю: дождевые черви не дождевые черви, а — китайцы!Ученый:
И если с миллиона самолетов на землю сбросить триллион червей, то эти черви почву разрыхлят за два часа и двадцать три минуты. Какая экономия машин! Нефтепродуктов! Человеко-дней!Строитель:
А это Юпп.Юпп:
Я тут совсем случайно! По фактам биографии я — повар! Я не поэт! Клянусь вам! Я — случайно!Задира Быка:
Нет, он поэт. Пока что не вступил, конечно, в возраст Штатной Единицы. Какую он яичницу проделал Сатирику! Какую драматургу он произвел яичницу! И Лирик хвалил, что Юпп — способно одарен. Все наши сберегательные кассы проводят каждый год «День Вдохновенья». И даже на таком мероприятьи Юпп выступил и произнес… (признайся!) он произнес: Э-ичница! — не Я- ичница, Э-ичница! (признайся!) Какими корнями обладает Я-ичница? Я — корень индивидуализма. А Э-ичница — это приобретает всенародное звучание! Поэт он! Только вот стихов не пишет. Гордость не позволяет. Но формалист!Следователь:
Поэт он? Я и не подозревал. Да и подозревать теперь не буду. Поэт ты, Юпп! Типичный формалист!(По заднему плану сцены, вдумчиво побалтывая зеленой палочкой, марширует Манек N. Манек N курит.)
Ученый:
Он чист, как прежде. Из международных пороков усвоены: курение и сон. Он каждый день осваивает путь к Сияющему и назад Холму. Он, Манек N, у нас большой искатель, все ищет, ищет новые пути к Сияющему и назад Холму.Молодежь:
Ну, вот и ночь. Нейлоновые луны восходят. Режиссер, над нами луны! Печальные лунатики планеты, как ангелы, от зданья и до зданья, по паутинкам медленно гуляют. Их окликать по имени опасно… Они, как безымянные герои, по паутинкам медленно гуляют, внимательно, влюбленно познавая все запахи, созвучья все, соцветья… Но только их познанья бесполезны. Грохочет символический будильник! Разбужен мир! Уже твой день, Строитель!Строитель:
Закроем заповедник. Дремлет мир, и даже экспонаты задремали.(Подходит Манек N. Он улыбается.)
Манек N:
Нет, это дремлет мир. А мы не дремлем.ТАНЕЦ БЕЛОГО ЗВЕЗДОЧЕТА
С ОПТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ
Темных дел не совершайте. Изживите их дотла. Поскорее завершайте ваши темные дела! Темнота — она потоки затемненных дел дала, тем не менее в потемках есть и светлые дела: размышление. Влечение к любви, в конце концов! Ну, а если развлеченье, то рекомендую — сон. Постоянно берегитесь габаритов и систем — берегитесь перегибов, совершенных в темноте. Мой прибор бесперебойно все снимает там и тут. Я Оптическим Прибором проявляю темноту. Очень много фотографий проявил я мира для, и никто не одобряет ваши темные дела!НАЧАЛО
Сцена и зал не освещены.
В центре занавеса, вверху,
как жаворонок, висит ракета, обыкновенная,
висит и жужжит.
Потом замедленно падает на сцену.
Взрывается. Брызги.
При взрыве ракеты занавес раздвигается.
Справа:
въезжает нос ракеты космической.
Прямо:
монументальное кожаное здание,
в точности повторяющее контуры кожаного
кресла.
Окна мерцают.
Над зданием неоновая афиша:
«Созвездие Писателей».
Перед зданием Задира Быка.
Он в голубой тоге.
Его голова напоминает планету Сатурн,
только вместо кольца — венок из васильков.
Ноги босы. Ногти на ногах —
как у птицы Феникс.
Лицо Задиры Быка напоминает
лицо пожилой коровы,
переживающей мучительную личную драму.
Из кожаного кресла выплывают писатели.
Писатели однообразно сутулы
и разнообразно лысы.
Они строятся.
Задира Быка:
Равняйсь! Смирно!(Писатели привычно выполняют привычные команды.)
По порядку номеров рассчитайсь!Первый писатель (с готовностью):
Первый!Второй писатель (сдержанно):
Второй.Третий писатель (очень сдержанно):
Третий…Четвертый писатель (Юпп. Молчит).
Задира Быка:
Вы что, до четырех считать не в силе? Произнесите: чет-вертый.Четвертый писатель (Юпп. Неуверенно):
Четвертый ли я?Задира Быка (утвердительно):
Ну! А какой же!Юпп (стесняется):
Не знаю… Ведь я — формалист…Задира Быка:
А что, формалист не может быть четвертым?Юпп:
Не знаю… Ведь у меня гордость… не позволяет.(Уходит на левый фланг, нашептывая какие-то цифры.)
Задира Быка:
Равняйсь! Смирно! По порядку номеров рассчитайсь!Первый писатель (лихо):
Первый!Второй писатель (мучительно):
Второй ли я? Ведь сказать «второй» — значит признать, что ты не из первых…Юпп (разоряется):
Я — из первых! Я — подсчитал! Это — я.(Галдеж. Кое-где поднимаются кулаки.)
Голос Диктора:
Многовековой опыт мировой медицины доказал, что писатели органически не осваивают порядковые числительные. На первый-второй рассчитайсь!(Более или менее оживленная перекличка.)
Задира Быка (загибая пальцы во время переклички):
Тринадцать. Все. Разойдись.(Писатели рассаживаются вокруг космонавта, как вокруг костра.)
Космонавт:
Прежде чем приступить к действию, расскажу, что уже произошло. Манек N сбежал из ателье. Он принял решение осчастливить человечество — добыть зеленую палочку. Все зеленые палочки хранит Задира Быка на Сияющем Холме. Чтобы заполучить зеленую палочку, необходима подпись Задиры Быка на Обходном Листе. Многочисленные юноши планеты пытались добыть зеленую палочку, но никому из них не удалось собрать все подписи на Обходном Листе, и Задира Быка рано или поздно зачислял их в Штатные Единицы. Манек N убегает из ателье и выходит на сцену.(Манек N выходит на сцену. Он в розовой тоге и сам розовый, и волосы розовые, и глаза.)
За Манеком N идет молодежь.(Выходит молодежь. Она в грациозном шелковом ватнике.)
Задира Быка:
Наша молодежь не может идти за манекеном. Она же все время шла за Строителем.Космонавт:
Она опять пойдет за строителем в конце пьесы.Все:
Ох, уж эта Молодежь!Поэтесса:
Мужчина картавый — даже пикантно. Мужчина же картонный…Манек N:
Заткнись, дура!Молодежь (капризно):
Как ты смеешь! Это я — дура! Ведь меня ты так называешь! Ну, скажи, что я — дура, а эта — нет!(накануне слез)
Голос Диктора:
Укомплектуйте ваши комплименты. Не затягивайте действия, космонавт, анкету.Космонавт:
Для более рельефного выражения идеи пьесы необходимо ответить на некоторые вопросы. Кто у вас осведомлен?(Все указывают на Задиру Быка.)
Социальный строй планеты?Задира Быка (мнется):
А… у нас… нет строя. Стройка у нас… Построились — и на строительство!Космонавт:
Национальная одежда планеты?Задира Быка (широко):
Ватник.Космонавт:
Герб вашей планеты?Задира Быка (скромничает):
Это… я.Космонавт:
Вы? Учитывая и…(Показывает на когти, как у птицы Феникс.)
Задира Быка:
Да, и… Это я… да.Космонавт:
Флаг вашей планеты?Задира Быка (сконфуженный окончательно):
Это тоже — я.Космонавт:
Понятно. А как же вас поднимают и опускают?Задира Быка:
А… меня… Только поднимают.Космонавт:
Как же вы развеваетесь?Задира Быка (обремененно):
Приходится. Так вот и развеваюсь целыми днями. Сам развеваюсь, а планету развиваю, по совместительству.Космонавт:
Гимн — тоже вы, конечно?Задира Быка:
Стройся! Смирно! Гимн! Гимн Ватнику Ват- У- Нам ник ра, пла- сю- пи- ны, да, жон, текст, ват- да- чис- ник вай ла, ту- вот- оплот, да, кни не для па- по- пе- лец до- ре- в нозд- рвать дряг рю ни- ват- та- кем! ник! лант- На Для ли- пла- мир- во! не- но- С ут- те го ра счаст- тру- про- ли- да же- вец и вы- тот, для вай рож- вой- ват- ден- ны! ник, ный Ват- а в ват- ник! ду- ни- май, ке! что те- ля- ти- на!(Кто-то выкрикивает: «Слава Ватнику!»)
Все:
Сла — а — а — а — а — ва! Сла — а — а — а — а — ва! Сла — а — а — а — а — ва!РАССЛЕДОВАНИЕ
Следователь сидит за столом.
У него седые виски, проницательные голубые глаза.
Выражение глаз — принципиальное.
Следователь плюет в потолок.
К потолку прикреплена мишень
для стрельбы из духового ружья.
В эту мишень он и плюет.
Поплевав некоторое время,
следователь записывает число выплеванных
из энного числа плевков.
Чтобы никто не заподозрил,
что следователь — это следователь,
на фуражке следователя начертано:
«Сле-до-ва-тель».
Монолог следователя:
Практически покажется — плюю. Официально: тренирую глаз, а также репетиция для слуха. Куда спланировали, вы, плевок? Куда, парашютист, вы приземлились? Ага: в районе двери, выше ручки на два и две десятых сантиметра. Перелистаем дело Манекена. Да, дело дрянь, загадочное дело. Был манекен. Стоял он на витрине. Раз на витрине — то на высоте. Стоял он, проявляя трудолюбье и стойкость проявляя, он стоял. И чуткости достаточную дозу от Штатных Единиц из ателье имел он. Ежедневно протирали его духовный облик полотенцем. Так из каких моральных предпосылок, какой моральный кодекс взяв в основу, сбежал он? Да и как его осудишь? В свободное ведь от работы время сбежал! Зачем? Чтоб осчастливить всех? Но ведь известно, что Быка Задира, сидящий на Сияющем Холме, всех рано или поздно осчастливит. Но Манек N сбежал. И неизбежно его необходимо заподозрить. Но в чем? Что он совсем не манекен, а кто? Ну, предположим… подполковник… Нет, Манек N пусть будет манекеном. Но как составить нужную кривую его передвиженья по планете? Он — целеустремленный манекен? Или — маньяк с картонной головой? Ведь в данном милом мире пешеходов, ведь в данном милом мире — каждый пятый с картонной головой. И в каждом пятом заложены задатки манекена. И, может быть, живые манекены опаснее, чем те, из ателье. Ведь Манек N беспол. А манекены живые — бесконечно не бесполы. Они подвержены деторожденью. В исходе: вылетают карапузы, ускоренные курсы детства кончив досрочно, вылетают карапузы ордой картонных бабочек-капустниц на огороды людоедства. Цокот картонных поцелуев! Цокот фраз картонных! И картонные ручонки прилежно раздвигая кулаки, которые все в мускулах, прилежно воспроизводят гимны из картона, вступая в возраст Штатной Единицы повыше на Сияющем Холме. Как в данном милом мире пешеходов разыщешь манекена? Как? Стучать по головам? Которая картонна? Ого! Попробуй — стукни раз — такое поднимется стучанье по планете! Загадочное дело. Дело — дрянь.ТАНЕЦ ДЕВОЧКИ С ДЕРЕВЯННОЙ БАБОЧКОЙ
Я девочка, я с бантиком, я с баночкой конфет, я с деревянной бабочкой играю восемь лет. Ах, бабочка из дерева! Я на тебя дышу: ну сделайся всамделишней, прошу тебя, прошу. Хоть голубой, хоть розовой, хоть белой, как пожар. Все звери, как положено, щебечут и жужжат. Вот муравей — работает, хоть маленький чуть-чуть, у ворона от хохота дрожит чугунный чуб! Как пирожок поджаристый, ползет румяный клоп. Ну, бабочка, пожалуйста: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!(Занавес раздвигает Задира Быка.)
Задира Быка:
Кто это здесь проявляет организаторскую способность? Что это за индивидуальный ансамбль песни и пляски? Ты композитором вырасти хочешь по собственной инициативе? Думаешь: песенка нравится публике — значит опубликуют?Девочка:
Дурак ты, Задира Быка! Отойди вбок, маразматик, дай осуществить ребенку счастливое детство.Задира Быка (ошеломлен):
Этот ребенок впал в детство. Какой непоследовательный ребенок. Удивительно непосредственное применение свободных слов.СОЛДАТИАДА
Детская комната в доме Генерала.
Цементный пол.
Из арматуры — четыре двухэтажные койки.
На каждой койке — бирка.
Слева — пирамидка с деревянными автоматами
и столовыми ножами.
Справа — тумбочка. На тумбочке — телефон.
У тумбочки табуретка.
На табуретке мальчик. Лет шести.
Мальчик в ватнике с погончиками.
На ремне, на шпагатике —
столовый ножик.
Мальчик спит.
Входит Генерал.
Он тоже в ватнике.
На плечах: золотые параллелограммы,
с них свисают многочисленные
звезды.
Генерал тормошит мальчика.
Мальчик не шевелится.
Он спит.
Генерал:
Довольно основательно уснул.Голос Диктора:
Генерал, не разговаривайте белым стихом. Вы обязаны разговаривать своими словами.Генерал:
СВОИМИ словами?Голос Диктора:
Тогда разговаривайте жестами, а я догадаюсь о чем и озвучу жесты. Так будет реалистичнее.(На протяжении всего действия Генерал только жестикулирует. За него разговаривает Голос Диктора.)
Генерал (укоризненно):
Трудно стало наказывать. Большое число чинов. Ефрейтор ворчит на сержанта, сержант на офицера, офицер на генерала. Чаще в душе ворчат, но ворчат!(Голос Диктора звучит слишком громко, дети вскакивают, как при команде «Подъем». Генерал машет рукой в смысле: — Еще не подъем, спите, — дети ложатся.)
Хорошо бы ввести на планете единую систему чинов: рядовые и генералы. Приказ начальника — закон для подчиненного! Нет, плохо! Ведь стимул службы! Стимул повышения?(Голос Диктора звучит слишком громко. Сцена с подъемом повторяется.)
Повысится звание — материальный уровень повысится? Духовный уровень повысится? — необозримо в воображении.(Смотрит на часы.)
Рядовые, подъем!(Дети вскакивают, одеваются, кидаются к пирамидке, расхватывают деревянные автоматы и ножи. Все дети острижены наголо, как сабли. Генерал спавшему мальчику приказывает):
Дневальный! Два шага вперед! Расскажите обязанности дневального!(Мальчик раскрывает рот.
Из глубины сцены — мотив колыбельной.)
Правильно. Дневальный, приказываю вам!Спавший мальчик:
Что приказываешь?Генерал:
Не рассуждать! Приказываю — и все! Выполняйте приказ!(Мальчик резво куда-то бежит.)
До завтрака всем вырезать по одному автомату. Вольно! Разойдись!Первая девочка:
Папа, у нас и так уже штук тыща автоматов!Генерал:
Мало! Мы обязаны вооружаться каждую секунду.Вторая девочка:
Папа, но ведь автоматы деревянные, они — не стреляют!Генерал:
И палка один раз в сто лет стреляет. А если мы изготовим 36500 автоматов, каждый день из одного из них можно будет стрелять, а если 365000 — из десяти!Первый мальчик:
Папа, я хочу конфету!Генерал:
Что, тебе благосостояния не хватает?Второй мальчик:
Благосостояния-то хватает, но хорошо бы, знаешь, папа, конфету.Генерал:
Конфету захотел! Известно ли тебе, что за то время, за которое ты будешь разжевывать конфету, враг сделает автомат!Третья девочка:
Пусть и враг съест за это время конфету.Генерал:
Враг не ест конфет.Четвертая девочка и третий мальчик:
А чем занимается враг?Генерал:
Враг — враждует.Дети (хором):
Понятно.Четвертый мальчик:
Папа, расскажи нам сказочку, как ты стал генералом?Генерал (подозрительно):
Это — чтобы не делать автоматы?Дети (хором):
Что ты, папа, эта сказочка имеет для нас познавательное значение!(Во время рассказа гаснет свет. На экране проецируется: маршируют десять рядов знаменосцев, десять рядов барабанщиков, десять рядов горнистов, несколько солдат с деревянными автоматами и столовыми ножами, и в одном сапоге. Летят снаряды и пули. Они замедленно облетают колонну.)
Генерал:
Началась война! Мы сплотились! Мы двинулись! Мы проявили массовый героизм! Наше знамя — развевалось!(На экране: за вершину древка держится двумя руками Задира Быка и горизонтально развевается. Свет загорается.)
Дети (хором):
Эта сказочка имеет для нас большое воспитательное значение.Генерал:
Приготовиться к завтраку.(Дети переворачивают кровати. Получается стол. Дети строятся у дверей и с барабанным боем подмаршировывают к столу. Мелодия «Гимна Ватнику».)
Головные уборы снять! Садись!(Кто-то не снял головной убор.)
Головные уборы надеть! Встать! Головные уборы снять! Садись.(Кто-то не сел.)
Головные уборы надеть! Встать! Головные уборы снять! Садись.(Генерал встает во главе стола. Он черпаком что-то размешивает в бачке. Потом поднимает полный черпак и чайной ложечкой из черпака разливает по мискам детей. Сам ест черпаком из бачка. Входит жена Генерала. Ей лет 25. И дочь Генерала. Ей лет 40.)
Дочь Генерала:
Жена Генерала передала мне
Обходной Лист от какого-то Манека N.
Подпиши, Отец.
Генерал (в сторону):
Манек N… Из какой-нибудь N-ской части… Хорошо бы ввести вместо фамилий N.(дочери):
Почему ты называешь свою маму Жена Генерала? Скажи: MA — MA.Дочь Генерала:
Ma — ма — ма — ма — ма — ма — ма!Генерал:
Головные уборы надеть! Встать!Дочь и Жена Генерала:
Спасибо тебе, Генерал, что ты съел наш завтрак!Дети:
Спасибо тебе, папа, за наше счастливое детство!ТАНЕЦ ЧЕЛОВЕКА С ПРУЖИНОЙ ПОД МЫШКОЙ
Не сказку-пряник о сером волке хочу пропеть вам. Сегодня праздник с цистерной водки, с кольчужным перцем, с консервной банкой неминучей: — У деда с бабкой родился внучек! — Средь папок, паники работы был парень паинька отборный. Не слаб, как слава творца при жизни. Под мышкой правой росла пружина! Пружина — ужас! — металла стали! — Бывает хуже, — сказали старцы, но не заплачешь же в полотенце. Давай выращивать младенца. Двор детства полон футбольных матчей, но был футболом не болен мальчик. Нет, чтобы юркнуть в речные блики — хватал за юбку родных и близких, хватал он крупно, шелка коверкал, держался — ух как! Тянула руку пружина кверху тянула к юбке! Менялись шапки, линяла вата… Он рос не шатко и не валко, не впрямь, ни криво, не шкаф, ни шкодник. Настал период учебы школьной. Кто разгадает, класс что спрягает, кто разгильдяям сует шпаргалки… Сказать помягче: класс учит хрупко. И только мальчик все тянет руку — все — в учрежденьях самодельных, и в самых высших заведеньях. Рука исправна! Пружина — ох, как! Его избрали в огромный орган! А после — в орган еще огромней, где много-много деяний громких. Где всем обширно угрожают… И вот пружина совсем разжалась. Он ходит с поднятой рукою, как будто хочет сорвать планеты. И изреченья его рокочут и поминутно пламенеют. Но будет что же — ведь годы к ногтю когда он все же — как все — загнется? Сыграют нудно, оденут ало, и вновь непонятость, расколы… Кому он нужен на пьедестале вдобавок — с поднятой рукою! ______ Мне жалко детку… Ведь так старался! Какой был Деятель, Соратник!МЕЧТЫ
Голос Диктора:
Подписав Обходной Лист у Генерала, Манек N прибыл в кабинет Ученого. Диалог между Генералом и Ученым был настолько содержателен, что сдержанный автор не отважился воспроизвести оный диалог перед зрителем. Вместо оного диалога автор воспроизводит Монолог Молодежи, который худо воспринимает и сам автор, но Молодежь решительно отказалась вычеркнуть оный монолог из пьесы. Кабинет Ученого. Кругом разноформенные зеркала. Вместо паркета пол выложен зеркальными плитками. Ученый ползает на коленках по плиткам, рассматривая в каждой плитке свое отображение.Монолог Молодежи:
Зеркала! Как зеркальные карпы, плывут зеркала, плавники их плавны. Хладнокровно, как танки, улыбаются зеркала голубыми губами. Ах, величье! Вали на величье, ученый, вечную окаменелость извилин и окаменелость желудка! — Зеркала отразят, что твоя величавая личность в лучшем случае — это личина, что лицо твое не менее морщинисто, чем лицо жабы.(Ученый достает альбом с фотографиями.)
Пролистай фотографии. Фотографии — тоже зеркала, только из фотокартона. На фотографиях: фотокартонные деревья, фотокартонные животные, фотокартонные извилины лица и мозга — отображены конкретно и навсегда отглянцованы. И не надо стучать кулаком по зеркалам. Зеркало — не стол, с него не потребуешь. И не надо угрожать зеркалам. Зеркалам грозит разве что шаровая молния, но шаровая молния — редчайшее явление природы. Зеркала закалены!Последняя часть монолога Ученого
Трудно ученому-новатору. Как добиться, чтобы все обычное стало необычным? Как добиться, чтобы рак на горе свистнул, а щука запела? Рак тогда заменил бы милиционеров, а щука — теноров Оперного Театра. Сколько бы освободилось людей для строительства Нового Здания! Сахар снова сегодня сластил. Было больно наблюдать, как идут на работу люди, разгибая и сгибая ноги в коленках. А ведь ноги намного сильнее, чем руки, по мускулатуре. Как добиться, чтобы люди ходили на бровях, или на глазных яблоках, освободив таким образом ноги для строительства Нового Здания?АЛКОГОЛИАДА
Во всю сцену прямоугольный стол из арматуры. Стол богато оформлен. Входят все действующие лица пьесы, исключая детей. Входит Алка Голик — делегат от общества. Все готовятся выпить.
Алка Голик (орет):
Для проведения события предлагаю избрать Директора Стола. От нашего общества выдвигаю кандидатуру: Задира Быка!(аплодисменты)
Кто против?(нет против)
Единогласно.(Бурные аплодисменты.
Поднимает руку Задира Быка.)
Задира Быка:
Я — против.(натянутое безмолвие)
Алка Голик:
Вы… кого же… выдвигаете?Задира Быка:
Я выдвигаю кандидатуру Задиры Быка.(натянутое безмолвие)
Алка Голик:
Значит, Вы — не против?Задира Быка:
Я не против кандидатуры, но решительно против громогласных интонаций ее выдвижения.(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Слышатся возгласы. Все готовятся выпить.)
(Входит Манек N. За ним Следователь. На некотором расстоянии. Он старательно копирует движения манекена. Он выслеживает манекена.)
Следователь (манекену):
Извините, вы не имели в прошлом шрама? К примеру, возле носа?Манек N:
Нет, не помню.Следователь:
А как вы относитесь к шпионажу?Манек N:
Да отношусь, как отношусь. А вы что, шпион?Следователь:
Да, я шпион. А вы — диверсант?Манек N:
Да, я — диверсант.Следователь:
Очень приятно.(пожимают руки)
А правда, Задира Быка — скотина?Задира Быка:
Кажется, меня кто-то охарактеризовал?Ученый:
Следователь утверждает, что Вы — скотина.Задира Быка:
Что ж! Мы все имеем право применять свободные слова. Значит я и есть — скотина. А так как вы избрали скотину, то и вы все — скоты! Эй, скот Первый Писатель — мычи!Первый писатель:
Поднимаю голос протеста! За что вы меня обличаете? Применять свободные слова — значит свободно поощрять.Следователь:
Подозреваю: Ученый составил ошибочное мнение о моих словах. Я сказал, что Задира Быка — с картины, например, с картины нашего общепризнанного художника, понятого всеми.Генерал (не выдержав):
Приготовиться к событию!(Откупоривает бутылки. Все готовятся выпить.)
Алка Голик:
У кого душа нараспашку?(Все поднимают руки.)
Раз у всех душа нараспашку, означает: все мы люди открытые. И голосование должно быть открытым. Кто против?(нет против)
Единогласно.(Поднимает руку Задира Быка.)
Задира Быка:
Я — против.Следователь (манекену):
Хорошо бы нарушить общественный порядок.Манек N:
А вы что — нарушитель?Следователь (живо):
Да, я нарушитель. А вы — рецидивист?Манек N:
Да, я рецидивист.(выходит)
Следователь:
Очень приятно.(тянется пожать руку)
Задира Быка (всем):
Я вас уверяю, что устраивать открытое голосование — нецелесообразно. Ведь существуют тайные движения души. От этих движений и необходимо исходить, голосуя.Алка Голик:
Занести в списки только одну кандидатуру?Задира Быка:
Две — уже колебания. Одна — неколебимо.Юпп:
Выдать карандаш, чтобы смогли вычеркивать.Задира Быка:
Нет, карандаши выдавать не надо.Все (хором):
А как же вычеркивать?Задира Быка:
Если кто желает вычеркнуть — пусть вычеркивает из своего сердца, а бюллетень — это документ, его марать несолидно.(Входит Манек N. Он несет ящик зеленых палочек.)
Несколько писателей:
Выпьем за нашего юбиляра. Он добыл Зеленые Палочки.(Аплодисменты. Все поспешно хватают рюмки. Все собираются выпить.)
Задира Быка:
Позвольте мне маленько кое-что произнести.(Насчет выпить — безнадежность. Манек N раздает Зеленые Палочки. Задира Быка открывает рот и жестикулирует. За сценой торжественная музыка. Так и не выпили.)
ЭПИЛОГ
Длинный чугунный фонарь.
До потолка сцены.
Фонарь похож на горло и разграфлен.
Снизу кто-то, вроде ангела, во всяком случае с
крыльями, поднимает луну, как флаг, на шпагате.
Когда луна поднимается до двух третей фонаря,
в глубине сцены освещается Манек N.
Длинная вереница персонажей,
участвующих и не участвующих в действии,
приносят обратно зеленые палочки
и втыкают их в ящик.
Никто не знает, как ими пользоваться,
а многие — опасаются.
В общем-то, если бы они сами добыли
Зеленую Палочку, может быть все было бы и не так.
Но сейчас они понуро возвращают символ счастья,
даже Задира Быка.
А в центре сцены веселится хор и хоровод старух
вокруг громадного помойного ведра.
Они поют приблизительно такую песню.
Молодое весло по морю, по морю, а нам и так весело с ведром помойным. Нас легко обременить парочкой селедок, но не легко обманить палочкой зеленой.ГОРОД, в котором ЗаБлУдИлСя ЮмОр
ПРОЛОГ
В этом городе юмор блуждал, блуждал, не блудил — блуждал, обалдел — блуждал, и блестела трамвайная борозда в две линейки стальных борозда. Юмор брел бороздой, как трамвайный конь. Вечерело. Строительные костры поворачивали полотняный огонь, стали краски, как рыси, серы. Проститутки молились: малы в цене стали нынче тела — за фужер вина! Ликовал одинокий милиционер где-то в парке, как филин и как финал! Он один ликовал. Он один себя научился доподлинно выражать. Заблудился юмор. Стада собак разучились вилять и ржать. Потеряли потом кастраты-коты за собаками юмор вслед. Опустели излюбленные кусты: ни пропойц, ни возлюбленных нет. Потеряли юмор сто тысяч жен, отдаваясь мужьям всерьез, колыхался над городом детский звон колокольных, кукольных слез. Юмор был раскорячен, как «М» метро, был как дворник, согбен и наг. Над коричневой, чернорабочей метлой бился фартук, как белый флаг. Для него уготован был дом и сан, добрый самый запас посул. ______ Слава богу, что все я выдумал сам, и в такой эпизод раздул!1
Ночь.
Город.
Стены зданий красные,
сходящиеся на вершине под углом.
Стены,
треугольные кирпичные арки.
На стенах
толстые белые водосточные трубы.
Оцинкованные.
Трубы позванивают, колеблясь.
Где-то позади города — прожектор.
Синее рассеивающее освещение.
Из глубины города пробирается собака.
Дворняга.
Может быть, сука,
но не исключена возможность, что кобель.
Собака поднимается на задние лапы,
обнимает одну из водосточных труб
и о чем-то скулит.
Так скулит! — без задних ног!
Не лает — скулит.
Скулит — не воет,
потому что нет луны,
а без луны собаке выть неподходяще.
Появляется милиционер.
Синее одеянье и белые перчатки.
Он опечален и пьян.
Этот поет и без луны.
Очевидно, в прошлом наблюдал милиционер,
как играют на струнных инструментах.
Потому что производит движения,
подражающие перебиранию струн.
Милиционер поет романс.
РОМАНС МИЛИЦИОНЕРА
Надолго удлинились дни, не летние теперь, как не бывать теперь теплей, так нет и нет луны. А местопребывала тут луна в последний раз в зазоре краснокожих туч, как нелегальный глаз. Последний, кто луну видал, Министр Карты Пик с лицом, прозрачным, как вода, и гладким, как родник. Он, пьяный, новолунья план в парламент приволок. То, может, не луна была, а так — блестел плевок. Все вечно. И вино и ночь. И непонятно нам: — Ничто не вечно под луной… — А где она, луна?Появляется художник. Кулаков. Ему 30 лет. На одну треть его волосы черные, на две трети — седые. Он в сером пальто. На пальто нацеплены памятные значки всего Земного Шара. Для развлечения. Художник весел и пьян. У него выправка офицера. Кулаков галантно щелкает каблуками.
Кулаков:
Вашу ручку, мадам!(Милиционеру безразлично: мадам ли, мсье ли, сеньорита ли, он в таком состоянии, которое допускает любые перевоплощения. Милиционер братски протягивает руку. Художник принимает руку, как правительственную награду.)
Ах, ваш романс, мадам! Вы — самая музыкальная милиционера на Земном Шаре! А вот почему нет луны?Милиционер:
Я учусь на философском факультете.Появляется поэт. Спартак Даву. Он пра-пра-пра-внук наполеоновского маршала Даву. Он бежит с телефонной трубкой в руке. Поэт непонятно пьян. Волосы свисают на лицо, как длинные черные сабли. Даву толст и бежит немного впереди своего брюха. Сейчас он будет беседовать по телефону. Целеустремленность этой беседы неясна, потому что у трубки нет шнура.
Спартак Даву (озабоченно):
Подожди, я переменяю ухо.(Поэт отнимает трубку от уха левого и приставляет к уху правому.)
Плохо слышно!Кулаков:
Это вы метко подметили. Слышно плохо.(веселится)
Спартак Даву:
Не вмешивайтесь в мои творческие планы.Милиционер:
Я учусь на философском факультете.Появляется жена поэта. Она ведет четырех пьяных милиционеров. Да и сама — не первой трезвости.
Жена поэта:
Он должен быть здесь. Он всегда убегает сюда в творческую командировку.Спартак Даву вывешивает заранее приготовленную табличку «Меня здесь нет» — на грудь. Теперь он стоит далеко позади своего брюха. Жена снимает табличку. Читает ее вслух. Разъяряется.
Его здесь нет! Необходимо проникнуть в его творческие планы!Милиционеры (безразлично):
Необходимо проникнуть в его творческие планы!Жена поэта (Кулакову):
Когда поэт задумывает творческий план, я его немедленно сдаю в милицию. И мне — спокойно!Милиционеры (вразнобой, безразлично):
Преступно задумывать неизвестные никому творческие планы. Необходимо послать извещение в милицию.Кулаков (веселится):
А может, его навсегда посадить в милицию?Жена поэта:
Это нечеловечно. А вдруг поэт ничего и не хотел задумывать? Нужно в милицию во время задумывания. И мне — спокойно!Собака лает. Милиционеры умиляются, что все, как положено: вот и собака лает. Их смена закончилась. Милиционеры укладываются спать. Жена поэта прикрывает их прозрачной, если так можно выразиться, газовой тканью. Кулакову надоело веселиться. Он присаживается на тротуар. Жена поэта уходит. Тревожная. Искать поэта. Прожектор гаснет, и здания становятся черными. Но водосточные трубы настоятельно белеют. Собака уходит. Зевая. Нет луны. Из одного из окон вылезает целая семья в белом: мужчина и двое взрослых детей в кальсонах, женщина в нижней рубашке, кошка — неодетая. Мужчина ступает на провод, поднимает очи к небу. Матерится. Лунатики — неудачники. Нет луны. Влезают в окно. Тихо в городе. Только слышен заливистый храп милиционеров. Заливистые колокольчики! Вдруг Спартак Даву начинает мрачным голосом орать народную песню.
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
Ох, и парень окаянный! Ох, тельняшка синяя! Плыл моряк по океану собственными силами. Плыл он методом древнейшим — загребая ручками, увлекался он донельзя алкоголем, руганью. В кабаках бывал и в прочих высших заведениях. Не ученый, не рабочий: мысли — безыдейные. Был он пра-пра-внук Тацита и Марии Медичи. И выделывал досыта разные комедии. Так, когда луна пропала, по такому фактору привязал он пару палок и поплыл к экватору. Плыл он лихо, как окурок, к волнам — по касательной. А лукавые акулы стали есть красавчика! Уши съели, руки съели и другие мелочи. Не покинуло веселье пра-пра-внука Медичи. Стали есть его пониже, даже ниже, чем живот… — Ничего, — сказал парнишка, — все до свадьбы заживет!Поэт укладывается спать, ворча что-то в телефонную трубку. Да осуществятся его творческие планы. Остается один Кулаков. Он развешивает флаги по водосточным трубам.
Кулаков:
Завтра проснутся, а на их улице — праздник!Милиционер (бормочет спросонок):
Я учусь на философском факультете.— Все хорошо, что хорошо качается, — изрек мудрец, разглядывая повешенного.
Ремонт моря
(Трагедия с двумя или тремя ведущими)
ДЕЙСТВИЕ 1
Внутренности кабака в Гренландии.
Возможно, это и не кабак — ресторан, танцевальный зал, дом Творчества, ибо в Гренландии помещений, отличающихся от кабака, не существует.
Итак, внутренности кабака.
Столы из белых тканей. На столах и под — посуда.
Она не наполнена ни щами, ни цыплятами табака.
Человек двадцать матросов дальнего плавания.
Они делают вид, что едят и что сыты.
В центре помещения — деревянный стол.
Единственный деревянный.
Возле стола: Братик Прутик и Братик Бредик — близнецы, эскимосы, тунеядцы.
Они делают вид, что пьют и что пьяны.
Между столами: как молния, в алом фартуке, фатальная женщина. Прорицатели определяли: не исключено, что в будущем она — Министр Здравоохранения. В данный момент женщина, слава богу — Официантка.
В правом углу помещения — винтовая лестница.
На верхней площадке: Майор войск связи; на нижней площадке: Лейтенант, командир музыкального взвода; они: порхают по своим площадкам, расстреливая друг друга из кольтов; они: друзья детства, поэтому, напиваясь, организовывают дуэли; они: рискуют жизнью друг для друга.
На заднем плане помещения вывеска:
«Овощи — Фрукты».
Овощей под этой вывеской никто не обнаруживал, но в погоду, богатую атмосферными осадками, над вывеской витает обнадеживающий аромат овощей. Фрукты под этой вывеской никогда не созревали. Но фрукты нарисованы на витрине. По мнению художника, никогда не употреблявшего фрукты, они, фрукты, напоминают мотороллеры.
Под вывеской лежит Лавочник Он пьян до неузнаваемости. Во время войны Лавочник служил в партизанских отрядах Чехословакии, Италии, Франции. Он досконально владеет семью языками Европы и прохлаждается в должности лавочника в международном порту. Одна рука пьяного Лавочника загнута колесом, и по образованному рукой колесу скачет белка. Лавочник выловил белку в Польше и хранит, как драгоценную реликвию Второй Мировой войны.
У всех присутствующих в кабаке — мечты. В общем: царит атмосфера веселья и взаимопонимания.
Входят: четыре Слесаря и один Кесарь. На Кесаре горностаевая мантия и корона. Слесари едят колбасу. Кесарь подбирает кожуру и величественно пережевывает ее.
Кесарь (заметив, что Слесари собираются запеть оскорбительную песню; поспешно):
Повелеваю спеть милый пустячок про меня.Слесари:
На белом свете Кесарь жил, ой-ли, ой-лю-лю-ли! Он ежедневно жарил жир и языком юлил. А Слесарь честен, как мишень, как спичка, сер и мал. Он гвоздики за вермишель условно принимал. И Слесарь план не выполнял, он — в потолок плевал. На производстве сочинял Легенду о Правах. Но Кесарь на завод пришел, проплакал все глаза. — Ты сочинил нехорошо, — он Слесарю сказал. — Есть производство! Нет — Легенд! — Сказал, и Слесарь — ниц. Ведь Кесарь был интеллигент и экзи — стен — циа — лист! Последний случай был в аду, ой-ли, ой-лю-лю-ли! На сковородку, на одну два дурака легли. Они лежали, не дыша, большой огонь пылал. И спорила с душой душа: кто прав, а кто не прав?Матросы аплодируют. Слесари раскланиваются. И — напрасно. Матросы и не расслышали песню. Они аплодируют каким-то своим внутренним голосам.
Входит капитан Канецки. Он — капитан «Летучего Гренландца». Он сегодня в штатском, у него сегодня абсолютно положительный взгляд на людей и на вещи.
Братик Прутик:
А что тебе сегодня приснилось?Братик Бредик:
Мне приснилась березовая роща. Белые лучи солнца планировали над рощей, как белые птицы. А по роще бежало стадо…Слесари (со страхом):
…стадо…Братик Бредик:
…стадо клопов. У клопов были белые клыки, они кусались и лаяли, как гиены. А тебе?Братик Прутик:
Мне приснились меловые скалы. А по скалам бежало стадо…Слесари:
…стадо…Братик Прутик:
…стадо клопов. Они были огромны, как черепахи.Слесари (облегченно):
Хорошие белые сны.Братик Прутик:
Ну, вот в 3468 раз нам снятся одинаковые сны. А тебе?Братик Бредик:
Что — мне?Братик Прутик:
Да так себе, ничего.Братик Бредик:
Понятно.Капитан Канецки:
И сны у вас какие-то странные, братские, сны-близнецы.2-ой Слесарь:
А вам что, неизвестно, что в Гренландии у всех — братские сны. (Хвастаясь.) Вы представляете, как мы спим? Сначала засыпаю я. Что я вижу во сне? Я вижу белый Монблан, а по Монблану ползет стадо клопов, как стадо слонов. Через два часа я просыпаюсь, а засыпает 1-ый Слесарь. Что видит 1-ый Слесарь во сне? Он видит известковые отложения Сахары и стадо клопов, как стадо носорогов. Еще через два часа засыпает 3-ий Слесарь. Он видит уже долину Колорадо и клопов, как яйца курицы. И только 4-ый Слесарь ничего не видит во сне. Но нам-то известно, у него — испорченное зрение, на самом деле он не ничего не видит, он видит клопов, маленьких, как холерные бациллы, они ползают по бумаге Ватмана, виляя хвостами. Это — хорошие, белые сны.Капитан Канецки:
А чем вы занимаетесь остальное время ночи?3-ий Слесарь:
Остальное время мы опасаемся, как бы кому-нибудь не приснился черный сон. Тогда что-нибудь произойдет.Капитан Канецки:
Что же вы вместе спите, вы что, холостяки?4-ый Слесарь (кокетничая):
Не совсем. После смены на улице мы приглашаем четырех девушек и приводим их к себе, в меблированную комнату. Полночи мы заколачиваем двери гвоздями, чтобы женщины не убежали, а полночи вынимаем гвозди, чтобы не опоздать на производство. Вынули гвозди — и начало смены.Кесарь (замечая, что слесари шарят по карманам, намереваясь послать его за бутылкой; поспешно):
Повелеваю вам послать меня за бутылкой!Капитан Канецки:
А что, если кому-нибудь приснится черный сон?1-ый Слесарь (испуганно):
Что-нибудь произойдет.Капитан Канецки:
Что-нибудь — страшное?2-ой Слесарь:
Почему — страшное? Вообще: произойдет что-нибудь. А в Гренландии еще ничего не происходило. Мы трудимся. Матросы плавают в дальние плавания. Кесарь повелевает. Море шумит. Хорошая, белая жизнь.Капитан Канецки (выдыхая):
Так вот вам черный сон. Мне приснился черный тронный зал, отделанный мрамором — черным, обставленный мебелью черного дерева. Это — Кабинет. В зале Кабинета — деятели. Один: высотой около десяти метров, около пяти метров диаметром, а ножек много и тоненькие, как у паука. Второй: размером с кузнечика, и стрекотал и подпрыгивал, как кузнечик. Еще какие-то незапоминающиеся уроды. Но самое страшное: один деятель, маленький, с мизинчик, стоял на мраморном камине, у деятеля отсутствовало туловище, одна голова стояла на одной ноге. У деятеля было прекрасное, смертельно бледное лицо и огромные бирюзовые глаза. Он стоял на камине, на одной ноге и голосом цезаря Борджиа читал монолог Офелии. Ну, достаточно черный сон?Слесари (вразнобой веселятся и вразнобой говорят):
Мы-то знаем: это сон алкоголика из легенды, задуманной тобой. А тебе-то, милый капитан, снятся такие же белые сны, как и всем, находящимся в Гренландии. Только ты более умен и более скрытен, только ты перефантазируешь сны в розовые да голубые, а живешь ты, друг капитан, таким же белым способом: от причала к легенде, от легенды к причалу. И нет у тебя, красавец, ни приключений, ни возлюбленной, а только белое существованье от причала к легенде, от легенды к причалу, а по ночам — белые сны про клопов.Капитан Канецки:
Феерическая неправда! Я хочу, чтобы на моем «Гренландце» что-нибудь произошло. А — вы!2-ой Слесарь:
И Кесарь хочет, чтобы что-нибудь произошло, а ничего — повелевает нами и ясен, как незабудка. И ничего не произойдет.Кесарь (вбегает, вспотевший; заметив, что слесари тянутся за бутылкой, поспешно):
Повелеваю вам распить эту бутылку!Стремительно вбегает Официантка. Она делает вид, что ставит перед капитаном графин бренди и бутерброд с красной икрой. Недоумение капитана. С площадок винтовой лестницы раздаются выстрелы. Вбегает котенок. Он синицей прыгает по кабаку. Мы совершенно забыли о матросах. А матросы, тем временем, оказывается, взаправду упились. Одни делают вид, что танцуют; другие, что трезвы; остальные делают вид, что не делают никакого вида. Они изредка аплодируют своим внутренним голосам.
Капитан Канецки:
Приятно после дальнего плавания причалить к стойке, похлебать какой-нибудь бодяги, ну, и, конечно же, конечно, задумать легенду.Братик Бредик:
Молодым женщинам рекомендуется употреблять в пищу электрические провода.Капитан Канецки (печально):
Что-то не вижу я ни графина бренди, ни бутерброда с красной икрой. (Недоумение Официантки.) Может быть, потому, что я смотрю невооруженным глазом.1-ый Слесарь:
И снова тирады о вооружении. Великолепно! Давайте вооружим и глаза. Каждому глазу по четыре кольта, каждому глазу межпланетный корабль и противогаз!Капитан Канецки:
Какой ты, Слесарь, умный! И откуда ты такие красивые фразы разузнал? Куда я попал? Это кабак или Всемирный форум начинающих прозаиков? Какой цели посвящено ваше образное мышление?2-ой Слесарь:
Тебе известно, каким образом образовалось слово «жрец»? От слова «жрать». Немудрено догадаться, что такое жрец религии, жрец науки, жрец искусства.Капитан Канецки:
А выпить бы нехудо. (Кесарю, кивая на корону): Эй, молодой человек в странной бескозырке, принеси пару бутылок.3-ий Слесарь (обидчиво):
Это наш Кесарь, он только нами повелевает.Капитан Канецки:
Да, сегодня уже не задумать ни легенды, ни эссе.Один из матросов (неожиданно вмешивается в размышления персонажей):
Возвращаюсь я сегодня из самовольной отлучки, пробегаю
я мимо клумбы, а на клумбе новый куст цветов. Я живо
заинтересовался: как это за одну-единственную ночь вырос
такой красивый куст? Разглядываю цветы и вижу:
это совершенно не куст, это ночью в пьяном виде спрыгнул
с балкона художник-абстракционист, нырнул с балкона
и расцвел. Красиво цветут абстракционисты.
Все (исключая капитана Канецки, с восторгом):
Очнулся Лавочник!Лавочник (регулярно и тяжело вздыхая):
В Италии произошла забастовка служащих патриции, то есть, я хотел произнести полиции.Капитан Канецки:
Вы — серьезно?Лавочник:
Не для того я очнулся, чтобы произносить серьезные слова. Разве незаметно, что я остроумно каламбурю?(Все делают вид, что хохочут.)
3-ий Слесарь:
Давай с этой минуты я буду тебя называть Николя, а ты меня тоже называй Николя.4-ый Слесарь:
Это — почему?3-ий Слесарь:
Очень уж однообразная у нас жизнь: все молоток да зубило, зубило да молоток. Давай хоть будем называть друг друга Николя. Для романтики.4-ый Слесарь:
Тогда разреши мне называться Николя I.3-ий Слесарь:
Нет, Николя I буду я, потому что я был уже один раз Николя, один раз, четыре года назад, в сегодняшнее число.4-ый Слесарь:
Я еще не был Николя.3-ий Слесарь:
Зато я был Николя. Тогда мы познакомились в этом кабаке с молодой балериной — с японкой Тан. Я-то знал, что никакая не балерина и не японка Тан — эскимоска она и зубопротезистка, я-то знал, но мне стыдно было признать свое имя, потому что искренне полюбила меня Тан, вот я и сказал: Николя. Каждый год, в сегодняшнее число, мы встречаемся за этим самым столиком и проводим счастливый совместный вечер.4-ый Слесарь:
Я бы женился.3-ий Слесарь:
И я женился бы.4-ый Слесарь:
А что?3-ий Слесарь:
Как — что? Тогда мы будем встречаться ежедневно и откроется, что у меня другое имя.4-ый Слесарь:
Ну и что?3-ий Слесарь:
Как — ну и что? Окажется, что я четыре года обманывал девушку.4-ый Слесарь:
Правильно, это противно.1-ый Слесарь подходит ко 2-ому и соображает, не зная, что предпринять. В очах у 2-ого Слесаря — страдание. У 1-ого Слесаря — припадок скорби. Вбегает Алгебраист вослед за десятком позванивающих женщин, доктор математических наук. У него немножко японское лицо, ибо таких алгебраистов, как он, в мире только двое: он и японец Накаоко М. Алгебраист взвивается плетью, восклицая поочередно женщинам: Ах, как вы милы! Ах, как вы прелестны! Каждой цивилизованной семье — картину Миха Кула. Женщины разбегаются по кабаку, как ящерицы. Входит Полисмен. Он в торжественно-синем мундире, в белых перчатках, в белых ремнях. Он изламывает огромную сургучную печать на манускрипте, манускрипт разворачивая.
Полисмен (читает манускрипт):
В течение пятнадцати лет всемирно знаменитый ученый — Алгебраист ежедневно и с пристальным вниманием следил за прессой нашей родины — Гренландии. Он вырезал из прессы некрологи и выпивал за каждого скончавшегося по триста граммов бренди, самоотверженно жертвуя своим всемирно знаменитым умом и слабосильным здоровьем для общегосударственного дела поминовения усопших. Слава ему, слава и орден!Церемония вручения ордена.
Входит Пенсионер.
У него откормленная, оскаленная морда цвета губной помады; у него нежнозеленый череп, в прожилках, как лист капусты, с мизерной черной накладкой волос; у него туловище треугольником от головы к заднице (задница — основание треугольника, голова — вершина); у него руки до колен и плоские, как надрубленные, но не окончательно разломанные доски.
Пенсионер набирает номер телефона.
Его голос постоянно срывается, как у подрастающего поколения — от баритона до лая.
Пенсионер пятьдесят лет служил лакеем, однако позабыл, что служил лакеем. Ныне Пенсионеру воображается, что он — Герой Гренландии, летчик-космонавт, домашний друг семьи Глена и Валентины Терешковой.
И еще вообразил Пенсионер, что у него племянник, племянник-прокурор. На самом деле племянник — лакей в какой-то юридической консультации, расположенной где-то за пределами Гренландии.
Пенсионер (в телефонную трубку, запугивая окружающих):
Племянник? Прокурор? Это — твой дядя, Пенсионер, Герой Гренландии. Я говорю из кабака. В этом кабаке: официантка — проститутка, матросы — шпионы дальнего плавания, диверсант — командир музыкального взвода. Один, капитан Канецки, прикидывается писателем. За окнами кабака безобразно шумит море. Море, говорю, безобразно шумит. Извините, почему за миллионы лет существования Гренландии еще не было капитального ремонта моря? Ты назначаешь меня ответственным за ремонт? Благодарю за внимание. — Спасибо. — Извините. — Рад познакомиться.(Читает листок.)
Прокурору. Обращаюсь к Вам по поводу того, что Братик Прутик и Братик Бредик систематически устраивают скандалы посредством взгляда на меня, Героя Гренландии, исподлобья, чем и, естественно, намекают со своей стороны на угрозу убийством. Просим незамедлительно принять меры и осудить хулиганов за шантаж, растление малолетних и потворство незаконным абортам. Извините за беспокойство. — Спасибо. Матросы, стройся!(Матросы испуганно строятся.)
Что это за кабак вы развели в этом кабаке? Где ваш моральный кодекс современного строителя Гренландии? Немедленно вымыть пол! — Рад познакомиться!Один из матросов:
Разрешите обратиться. Пол мы бы вымыли бы, да нечем.Пенсионер:
Я не маркитантка, беременностью не запугаешь. Возьмите палку, привяжите к ней котенка и, извините, мойте. И вы, тунеядцы, и вы, слесари. А ты, капитан Канецки, чтобы не прикидывался мне больше писателем.Капитан Канецки (медленно):
Разрешите, я ударю эту суку два раза по толстой морде. Я ударю его два раза, а он будет лечиться два года, и не нужно вам будет ремонтировать море.Полисмен:
О, нет, мы не в состоянии разрешать удары, добрый наш друг, капитан Канецки. У нас, в Гренландии, все население занято поисками справедливости.1-ый Слесарь:
Да, его невозможно ударить. Он ведь тоже в поисках справедливости. У Пенсионера — счастливая, обеспеченная старость, и море ему — мешает.Братик Прутик:
Ты умеешь строгать волны?Братик Бредик:
Не уверен… попробую…2-ой Слесарь:
Интересно, что-нибудь произошло или не произошло?ДЕЙСТВИЕ 2
Прошло две недели.
Все принялись ремонтировать море.
Казалось, что ничего и не произошло, что ремонт моря — дело обыденное, как ремонт обуви. Море шумело уже менее безобразно. Из опилок волн промышленность сообразила соорудить сахарный песок, а стружки спрессовали и получили сахар-рафинад и превосходные стекла для космических кораблей.
Кабак уже никем не посещался.
Официантка приняла участие в ремонте моря. Она выносила в своем алом фартуке щепки волн и развешивала их на веревочках Гренландии, как вяленую рыбу. Вообще, население Гренландии одолел трудовой энтузиазм. Только вот денег за ремонт моря никому не выплачивали.
Потихоньку помирали.
Правда, организатор ежедневно приносил круг хлеба, но повторить подвиг Иисуса Христа ему не посчастливилось. Братик Прутик и Братик Бредик возмужали в труде. О них уже писали серьезно: Брат Прут и Брат Бред. И вообще, газеты многоцветными прожекторами освещали ход ремонта моря.
Ночь.
Над морем маячат костры. Над кострами — чугунные контуры котлов. Это варят гудрон, чтобы проложить по морю автотрассу, автостраду и — то ли автопортрет, то ли автобиографию — в общем, что-то еще, связанное с автомобильной промышленностью. На берегу — тоже костры. Все дерево ушло на ремонт моря, поэтому жгут костры из прибрежной гальки, песка и ракушек: их обливают сливочным маслом, поджигают — получаются прекрасные костры, редкой красоты, костры, горящие как драгоценные камни.
Только вот есть сливочное масло никому не позволяют.
Потихонечку помирают. По всей Гренландии ходят еще сохранившиеся женщины, покачивая уже увядающими бедрами.
Появляется 1-ый Слесарь.
1-ый Слесарь (поет):
Жене передай мой прощальный привет, а сыну отдай плоскогубцы.На фоне луны появляется иностранец.
Итальянец Вечерелло.
Он появляется на детективном фоне.
Он любознателен, как все иностранцы.
Он — не шпион.
К Вечерелло приближается Лавочник. Он опять очнулся и разговаривает с итальянцем по-итальянски, даже на миланском диалекте.
Вечерелло:
Скажите, многоуважаемый сеньор Лавочник, неужели над Гренландией каждую ночь пылает луна?Лавочник:
Вот именно, многоуважаемый сеньор Вечерелло: над Гренландией каждую ночь пылает луна.Вечерелло:
Удивительно, многоуважаемый сеньор Лавочник! Разъясните мне, пожалуйста, почему над Гренландией каждую ночь пылает луна?Лавочник:
Это же очень просто, многоуважаемый сеньор Вечерелло. Гренландия — страна романтиков и осуществленных желаний. Даже если ты влюблен — осуществляй свои поцелуи — луна пылает. Даже если ты лунатик — осуществляй свои приключения — луна пылает.Вечерелло:
Изумительно, многоуважаемый сеньор Лавочник! Разъясните мне, пожалуйста: неужели луна сегодня полная и не будет сегодня ущербной?Лавочник:
Вот именно, многоуважаемый сеньор Вечерелло! Луна сегодня полная и не будет сегодня ущербной. А потому, многоуважаемый сеньор Вечерелло, что Гренландия живет полной жизнью и эта жизнь никогда не будет ущербной.Вечерелло:
Сенсационно, многоуважаемый сеньор Лавочник! А скажите, скажите пожалуйста, многоуважаемый сеньор Лавочник: почему в Гренландии у всех после бритья морды пухнут?Лавочник (серьезно исправляет ошибку итальянца):
Это не после бритья, это — с похмелья.Вечерелло (не понимает):
…простите…Лавочник:
С похмелья, говорю.Вечерелло (так и не понял):
Загадочная страна… У всех после бритья морды пухнут…
А скажите, многоуважаемый сеньор Лавочник, вы так
замечательно разъяснили мне предыдущие догадки,
скажите: по какой причине вы ремонтируете море?
Лавочник (переходит с миланского диалекта на диалект населения Гренландии):
А хуй его знает! Говорят, это во имя справедливости. У нас все разыскивают справедливость.Вечерелло:
Справедливость, многоуважаемый сеньор Лавочник! О, как это мне понятно. Я восхищен Гренландией. Мне хотелось бы помочь вам в этом справедливом деле — деле ремонта моря.Лавочник:
Да ты что, охуел, что ли?Появляются матросы. Они в рваных рубахах, истощены и на грани озлобления. Они опираются на ломы, лопаты, прочие инструменты, как на костыли. Они поют невеселую песню и на грани скандала.
ПЕСНЯ МАТРОСОВ
Мы, потомки ураганов, прогорим на берегах. Мы подохнем в балаганах, благо, суша — балаган. Происходит стирка, штопка волн, количеством — мильярд. Мы, рожденные для шторма, ремонтируем моря. Мы, на протяженьи водных гор, ущелий и долин, подстригаем ломом волны и рубанком их долбим. Нам ремонта не убудет, поджимаем в две руки, мы, посеявшие бури, пожинаем ветерки. Будет море равномерной низменностью карамельной, будет правильным, как лимфа — ни приливов, ни отливов. Чтоб ничем не выделялись бурноводные широты, смертный ветер — в вентилятор, мореходы — в пешеходы!Появляются Братик Прутик и Братик Бредик.
Братик Прутик:
Кто не работает, тот не ест. А кто не ест, тот как работает?Братик Бредик:
Черта с два поработаешь, не жравши.Братик Прутик:
И чего это нас прославляют? Мы обессилели до того, что не в состоянии донести до губы кружку пива.Братик Бредик:
У нас в Гренландии важно выйти на работу и уйти с неё вовремя; работаешь ты, не работаешь — никого не задевает.Входит Кесарь. Внешний вид его напоминает внешний вид неизвестного солдата, погибшего в период средневековья.
Кесарь:
Повелеваю вам павильон для павлина! О, проклятье, совсем заговариваться начал. Не знаю, что и повелевать. Усладите меня вином, освежите меня яблоками, похороните меня вдали от Гренландии, начертайте на надгробье следующие буквы: «Здесь похоронен самый добросердечный Кесарь во вселенной. Он повелевал только четырьмя Слесарями непосредственно. Он трагически скончался в энном году. Был зверски убит горем. В энном году». (Плачет.)Один из матросов:
Возвращаюсь я сегодня из самовольной отлучки, утро, в автобусе человек 5–6, проезжаем мы мимо аптеки, а возле аптеки очередь — человек 500–550. Мы живо заинтересовались — по какой причине возле аптеки очередь? Возле отдела «колбасы — вина» — понятно, но — возле аптеки? И вот у нас, пятерых или шестерых мужчин одновременно сверкнула догадка… (презервативы). Мы ее не выразили вслух, неприличная догадка, но до самого кольца мы хохотали. Шестой-седьмой в автобусе ехала пожилая женщина. Она, естественно, поняла нашу догадку. Когда мы выходили, она сказала: «Идиоты! Объясняю: это очередь за жидкостью от клопов». Какой-то ученый изобрел эффективную жидкость от клопов.Появляется Канецки, капитан «Летучего Гренландца».
Капитан Канецки (он уловил только последнее слово из монолога матроса):
Что я слышу! Прежние, счастливые, белые сны про клопов! Трогательно.Кесарь:
Не паясничайте, капитан. Это вы разрушили нашу белую жизнь.Капитан Канецки:
Я?!Кесарь:
Я?! Нет — я! Нет — Братик Прутик! В общем — командир музыкального взвода! Учти: что бы ни происходило в мире — ответственность падала на капитана. Произойдет несчастный случай на Шпицбергене — отвечать вам, капитан, если даже в этот момент вы будете на Мадагаскаре. Вас вызовут на Шпицберген и расстреляют. Вы возразите: существуют и остальные капитаны. Остальные существуют, чтобы совершать опрометчивые поступки, а вы, капитан Канецки — чтобы нести за эти поступки ответственность.Появляется Алгебраист. Алгебраист уже бессилен бегать за десятком позванивающих женщин, бессилен заниматься строением кольца когомологий силосовской подгруппы симметрической группы. У Алгебраиста в руках примитивная логарифмическая линейка. Он в майке, поэтому особенно выделяются его костлявые узкие плечи и маленький, как теннисный мячик, живот. Впереди Алгебраиста бежит единственная, неколебимо любящая супруга. Бежит и боится.
Супруга:
Что мы еще предпримем?Алгебраист:
Мы бы могли еще попеть или — послушаем умолкающий шум моря.Супруга:
Шум моря! Вторую неделю мы слушаем, выслушиваем, прослушиваем по ночам умолкающий шум моря. Когда же поеб…?Супруга жалобно причитает. Алгебраист в отчаянии. Он бежит к матросам. Когда-то он чуть-чуть отставал от чемпиона Гренландии, теперь бежит ниже результативности юношеского разряда. Он бежит и держит логарифмическую линейку, как римлянин дротик.
Алгебраист:
Я вынужден заниматься примитивной арифметикой, когда меня ожидает формула Кюннета. Слушайте, население Гренландии, слушайте, и потом не говорите, что не слышали: если мы будем работать — каждый — в три миллиона раз интенсивнее, чем работаем сейчас, то мы закончим ремонт через 2054378922651(754) лет.1-ый Слесарь:
Нет, не капитан виноват. Это виноват Алгебраист. Зачем он занимался вычислениями, когда мы жили хорошей, белой жизнью.Алгебраист:
Ты тоже виноват, Слесарь, и твои три друга виноваты. Зачем вы стучали молотком по зубилу.Появляются три Слесаря, майор войск связи и лейтенант, командир музыкального взвода.
3-ий Слесарь:
Мы не виноваты. Виноват Лавочник. Нечего ему было напиваться до неузнаваемости.Лавочник:
Виноват майор войск связи.Лейтенант (вынимая кольт):
Друг моего детства не виноват.Капитан Канецки (вынимая кортик):
Бросьте, ребята! Вот развели бодягу! Во всем виноват котенок.2-ой Слесарь:
Котенок — не виноват!Капитан Канецки:
Ты что, председатель общества охраны домашних животных? Котенок — вот виновник.Вечерелло:
Послушайте, многоуважаемые сеньоры, неужели вы не догадываетесь, кто виноват? Виноват Пенсионер — вот кто.1-ый Слесарь:
Ты, иностранец, Пенсионера не трогай. Пенсионер не виноват. Он разыскивает справедливость.Братик Прутик:
О чем ты глубоко задумался, Брат Бред, труженик моря?Братик Бредик:
Я задумался вот о чем, Брат Прут, труженик моря: почему Архимед, когда ощущал окончательный выход из своих гениальных формул, почему Архимед в таких случаях восклицал: «Еврейка!» С какой целью Архимед восклицал «Еврейка»?Вечерелло:
Вообще, в Гренландии кто позволяет себе уход на пенсию. Художник — не позволяет. Правительство — не позволяет. Матрос — не позволяет. Слесарь — не позволяет. Вот и разъяснилась еще моя догадка — один лакей позволяет себе уход на пенсию, и его необходимо беречь, ибо он — один и не виноват.Братик Бредик:
Молодым женщинам рекомендуется употреблять в пищу свинину с вином.3-ий Слесарь:
Очень трогательно Братик Бредик отзывается о женщинах. Я все же решил жениться на балерине Тан. Лучше наладить семейную жизнь, чем стыдиться, кто я. Напрасно вы все перекладываете вину друг на друга. Я считаю: жизнь потихоньку налаживается. Правда, Николя?4-ый Слесарь:
Правда, Николя. Жизнь потихоньку налаживается. Потихоньку поумираем.2-ой Слесарь:
А капитан Канецки во всем раскается.Капитан Канецки:
В чем это я во всем раскаюсь?2-ой Слесарь:
Нечего было прикидываться писателем. Ты создал для нас такие ситуации, за которые тебя, как правильно подметил Кесарь, необходимо приговорить к расстрелу.Майор:
Интересно, как мы его расстреляем? Я не способен нажать курок спускового механизма.Лейтенант, командир музыкального взвода:
Я думаю: не будем расстреливать капитана. Лучше мы его перевоспитаем: привьем капитану музыкальную культуру.4-ый Слесарь:
Пока будем прививать, потихоньку поумираем.Алгебраист:
Я позову погостить в Гренландию моего коллегу, алгебраиста японца Накаоко М. Мы его позовем погостить и расстреляем. И отпадет необходимость мучиться с капитаном Канецки. А капитан больше не будет сочинять свои приключенческие эссе.Капитан Канецки:
Чего вы привязались ко мне. Я не менее вас ремонтирую море. Я сам не вижу выхода из нашей, или, как вы образно выражаетесь, моей ситуации. Если вам, или — нам необходима расправа — давайте повесим котенка. Это котенок во всем виноват. Зачем он прыгал синицей по кабаку.Один из матросов:
Когда я возвращался из самовольной отлучки, я тоже думал: виноват котенок. Даже наверняка — виноват. Но… котенок издох или эмигрировал в Канаду. А повесить его было бы самым правильным решением. Он — самый легкий и не умеет возражать на диалекте населения Гренландии.2-ой Слесарь:
Я придумал: пускай капитан Канецки самостоятельно уйдет в море и утонет.Братик Бредик:
Глупо сейчас лишать Гренландию капитана. Кто же будет нести ответственность за ремонт моря? Я предлагаю: пускай войдет в море и утонет один из матросов, тот, который все время возвращается из самовольной отлучки.Все хохочут и лукаво подталкивают матроса к воде. Лейтенант и майор дарят матросу на память кольты. Появляется Официантка. Она уже — Министр Здравоохранения Гренландии. Она заботливо снабжает матроса походной аптечкой. Матрос уже по колено в воде. Все обнимают матроса, грустя.
Появляется Полисмен.
Он так сияет от счастья, что, если бы его подбросить в воздух, и он, подброшенный, долетел бы до границы атмосферы и стратосферы, и вдоль этой границы парил бы минут пятнадцать, все население Гренландии подумало бы: сегодня салют; все ракеты двадцати артиллерийских залпов сконцентрировались в одном небесном теле. Так сияет Полисмен, сыщик и церемониймейстер орденов Гренландии.
Полисмен:
Стойте! Поздравляю вас с возвращением к прежней хорошей, белой жизни. Я расследовал. Я выяснил. Этот Пенсионер — Герой Гренландии. Но — улика! Он — не летчик-космонавт. Прекращайте ремонт моря. Я выяснил. Но — улика! Он не ЛЕТЧИК! Он — ТАНКИСТ!Немая сцена. У всех присутствующих — своеобразные мечты.
12 СОВ 1963
Контуры совы
Полночь протекала тайно, как березовые соки. Полицейские, как пальцы, цепенели на углах. Только цокали овчарки около фронтонов зданий, да хвостами шевелили, как холерные бациллы. Дрема. Здания дремучи, как страницы драматурга, у которого действительность за гранями страниц. Три мильона занавесок загораживало действо. Три мильона абажуров нагнетало дрему. Но зато на трубах зданий, на вершинах водосточных труб, на изгородях парков, на перилах, на антеннах — всюду восседали совы. Это совы! это совы! узнаю кичливый контур! В жутких шубах, опереньем наизнанку, — это совы! улыбаются надменно, раздвигая костяные губы, озаряя недра зданий снежнобелыми глазами. Город мой! Моя царица, исцарапанная клювом сов, оскаленных по-щучьи, ты — плененная, нагая, и кощунствуют над телом эти птицы, озаряя снежнобелыми и наглыми глазами. Город мой! Плененный город! Но на площади центральной кто-то лысый и в брезенте, будто памятник царю, он стоял — морщины-щели, — алой лысиной пылая, и ладони, будто уши, прислоняя к голове. И казалось — он сдается, он уже приподнял руки, он пленен, огромный факел, сталевар или кузнец. Но на деле было проще: он и не глядел на птицу, медленно он улыбался под мелодии ладоней — пятиструнных музыкальных инструментов!Глаза совы и ее страх
На антенне, как отшельница, взгромоздилась ты, сова. В том квартале — в том ущелье — ни визитов, ни зевак. Взгромоздилась пребольшая грусть моя — моя гроза. Как пылают, приближаясь, снежнобелые глаза! Снежнобелые, как стражи чернокожих кораблей. Птица полуночной страсти в эту полночь — в кабале! Ты напуган? Розовеешь, разуверенный стократ? Но гляди — в глазах у зверя снежнобелый, — тоже страх!Шаги совы и ее плач
Раз-два! Раз-два! По тротуарам шагает сова. В прямоугольном картонном плаще. Медный трезубец звенит на плече. Мимо дворов — деревянных пещер ходит сова и хохочет. Раз-два-раз-два! По тротуарам крадется сова. Миллионер и бедняк! — не зевай! Бард, изрыгающий гимны — слова! Всех на трезубец нанижет сова, как макароны на вилку. Раз! Два! Раз! Два! На тротуарах ликует сова! Ты уползаешь? Поздно! Добит! Печень клюет, ключицы дробит, шрамы высасывая, долбит клювом — как шприцем, как шприцем. Раз… два… раз… два… На тротуарах рыдает сова. В тихом и темном рыданье — ни зги. Слезы большие встают на носки. Вот указательный палец ноги будто свечу зажигает.Домашняя сова
Комнату нашу оклеили. И потолок побелили. Зелень обойных растений. Обойные это былинки. Люстра сторукая в нашей модернизированной келье. Так охраняли Тартар сторукие гекатонхейры. Мы приручили сову. К мышлению приучили. Качественны мысли у птички. Много их — не перечислить. Правильны мысли у птички. правильны — до зевоты. Наша семья моногамна. Сосуществует сова третьим домашним животным. Что ты, жена? Штопаешь, или носки шерстяные куешь, приподнимая иглу, как крестоносец копье? Скоро дожди. Пошевелят мехами. На зиму в берлоги осядут. Скоро зима. Окна оклеим, выдюжим трое осаду. Так обсуждаем мы неторопливо неторопливые планы… Белое, влажное небо над нами пылало!Медная сова
По городу медленно всадник скакал. Копыто позванивало, как стакан. Зрачок полыхал. — снежнобелая цель на бледно-зеленом лице. Икона! Тебя узнаю, государь! В пернатой сутане сова-красота! Твой — город! Тебе — рапортующий порт. Ты — боцман Сова, помазанник Петр. Из меди мозги, из меди уста. Коррозия крови на медных усах. И капля из крови направлена вниз, — висит помидориной на носу. Ликуй, истеричка, изверг, садист! Я щеки тебе на блюдце несу! Я гол, как монгол, как череп — безмозгл. Но ты-то скончался, я — буду, мой монстр. Я страшный строитель. Я — стражник застав. Когда-то моя прозвенит звезда. Она вертикалью вонзится в Петра! — Ни пуха, ни пера! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А кони-гиганты Россию несут. А контуры догмы совиной — внизу. Внизу византийство совиных икон и маленький металлический конь.Колыбельная сове
Баю-бай-баю-бай, засыпай, моя сова. Месяц, ясный, как май, я тебе нарисовал. Я тебе перепел всех животных голоса. Мудрый лоб твой вспотел и болезненны глаза. Ценен клоп и полкан. Очи с рыбьей пеленой — раб труда, и болван. Но не ценится — больной. Платят моргам, гвоздям, авантюрам, мертвецам, проституткам, вождям, но не платят мудрецам. Баю-бай, моя обуза, умудренная сова! Я тебя качать не буду — засыпай сама!Сова — часовой и приближение кузнеца. Основание Петербургских фортов Петром I. Я два с половиной века назад.
Антенны — тонкие фонтаны. А полумесяц — чуть живой. Над чернобелыми фортами парит Сова, как часовой. Она парит (влажны антенны), как ангел или как луна. Мундир суконности отменной, он в аксельбантах, в галунах. Парит, царит Сова кретинно. И хоть кричи, хоть не кричи. Сопят в своих лохмотьях дивных трудящиеся кирпичи. А я? В бесперспективные тетради переосмысливаю факты. Но вот на площади центральной пылает человек, как факел. Куда он? Кто он? — неизвестно. В брезенте. Бронзовый гонец. — Куда, товарищ? — Я — на зверя. — Ты кто, товарищ? — Я — кузнец. Идет, в кварталы углубляясь. Он лыс. Картав. Не молодой. Идет он, страшно улыбаясь, примеривая молоток. Вот оно, чудное мгновенье! (К иронии не премину.) Примеривает — я не верю. Поднимет молоток — примкну.Благодарность сове и странные предчувствия
Спасибо тебе за то и за то. За тонус вина. И за женщин тон. За нотные знаки твоих дождей спасибо тебе, Сова! За все недоделки. За тех людей с очами овальными желудей, меня обучающих честно лжи, спасибо тебе, Сова! За бездну желаний. За сучью жизнь. За беды. Дебаты. За раж, ранжир, — уже по которому я не встал, — спасибо тебе, Сова! Спасибо! Я счастлив! Моя высота — восток мой, где сотен весталок стан, где дьяволу ведом, какой указ уродуешь ты, Сова! Я счастлив! От нижних суставов до глаз, что я избежал всевозможных каст, за казнь мою завтра, не смерть — а казнь, — спасибо тебе, Сова!Сова Сирин. Опять западные реформы Петра I
Птица Сирин, птица Сирин! С животным упорством снег идет, как мерин сивый, сиротлива поступь. Медный всадник — медный символ алчно пасть разинул. Птица Сирин, птица Сирин! Где твоя Россия? Слушай: стужа над Россией ни черта не тает. Птица Сирин, птица Сирин! Нищета все та же. Деревянная была — каменная стала. Посулит посмертных благ всадник с пьедестала. Эх, дубинушка! Науку вспомни, добрую, народ! Ну, а если мы не ухнем, то — сама пойдет!Сова и мышь
Жила-была крыша, крытая жестью. От ржавчины жесть была пушистая, как шерсть щенка. Жила-была на крыше труба. Она была страшная и черная, как чернильница полицейского. Труба стояла навытяжку, как трус перед генералиссимусом. А в квартирах уже много веков назад укоренилось паровое отопление. Так что труба, оказывается, стояла без пользы — позабытое архитектурное излишество. Так как печи не протапливались, то из трубы не вылетал дым. Чтобы как-то наверстать это упущение, ровно в полночь, когда часы отбивали 12 ударов (и совсем не отбивали удары часы, потому что в доме уже много веков назад разрушили старинные часы с боем; в доме теперь преобладали будильники; значит, часы не били, но… как взрослые изучают книги не вслух, а про себя, — так и детям мерещилось, что часы все-таки отбивают в полночь ровно двенадцать ударов, так же не вслух, а про себя; так мерещилось детям, хотя они в двенадцать часов ночи беспробудно спали, потому что дети укладываются рано, в отличие от взрослых, большинство которых по вечерам приступает к размышлениям, заканчивая их далеко за полночь), итак, в тот момент, когда часы отбивали двенадцать раз, из трубы вылетал Кот. Он вылетал, как дым, и такой же голубой. Он вылетал и таял на фоне звездного неба. Как раз в этот момент по крыше пробегала Мышь. Мышь была огромна — величиной с овчарку, и лохмата, как овчарка, отряхивающаяся после купания. На месте хвоста у Мыши торчал черный зуб, а вместо зубов торчали изо рта 32 хвоста, длинных и оголенных. Хвосты по длине равнялись человеческой руке, но были намного толще. Они приподнимались и опускались, как змеи. А на трубе сидела Сова. Она была крошечная, как брошка. — Здравствуй! — подобострастно лепетала огромная Мышь крошечной Сове. — Привет… — бурчала Сова. — Уже полночь, — объявляла Мышь. — Какая ты догадливая! — изумлялась Сова. — Мне бы никогда не додуматься, что уже полночь! — Мышь не понимала юмора. Она объясняла Сове, почему полночь, подобострастно позванивая цепью своих умозаключений. — Твои умозаключения очень сложны для моего мировосприятия, — зевнула Сова. — Давай побеседуем о пище, — и она алчно осмотрела огромную Мышь. Ведь всем известно, что основная пища сов — грызуны. — Нет, нет, — заторопилась Мышь. Она опасливо поглядывала на Сову, покачивая своими 32 хвостами, торчащими изо рта. — Нет, нет, лучше мы побеседуем о международном положении. — Чепуха! — зевнула Сова. — Между народами положена тоже пища. — Давай поговорим о киноискусстве! — закрутилась Мышь. — Как тебе нравится изумительный последний фильм? — Чепуха! Последний фильм — чушь гороховая! — начала гневаться Сова, и, вспомнив о горохе, облизнулась. — Как ты думаешь, откуда произошло слово Мышь? — выпалила Мышь. — Откуда? — вяло поинтересовалась Сова. — От мыш — ления. — Чепуха! — отрицательно захохотала Сова. — Слово «Мышь» произошло от вы — кормыш. Вы — корм, Мышь! Стало светать. Проснулся дворник. Дворник — женщина. У нее было бледное татарское лицо и квадратные очки в медной оправе. Она закурила трубку. Искры вылетали из гортани трубки, подобно молниям. Дворник приготовила метлу в положении «к бою готовсь». Как раз в этот момент часы пробили шесть раз. А когда часы били шесть раз, тогда Сова начинала очень быстро увеличиваться в размерах, а Мышь — уменьшаться. Через несколько секунд Сова достигла размеров здания, а Мышь — уменьшилась до размеров мизинца. Сова торжествовала. Теперь она сожрет Мышь безо всяких собеседований. Перья топорщились на ее лице — каждое перо по длине и толщине равнялось человеческой руке. Но Сова уже стала настолько велика, что ей уже была не видна Мышь. Сова сидела, гневно вращая голодными глазами. Казалось, что это вращаются, пылая спицами, два огромных велосипедных колеса! Никто из жителей здания не догадывался, что каждую ночь на их крыше происходит сцена, изображенная мной. Нелепая сцена! Почему, когда Мышь бывает огромной, как овчарка, почему у нее не появляется замысла сожрать Сову? Почему Кот не обращает внимания на Мышь? В этом способны разобраться лишь дети моей страны. Когда часы отбивали шестой раз, то Кот, растаявший на фоне звездного неба, собирал свое тело по каплям, как туча, сгущался, и, синий, влетал обратно в трубу. А несколько миллионов радиоприемников, размещенных в недрах здания, выговаривали единым жизнеутверждающим голосом: — С добрым утром, товарищи!Мундир совы
Мундир тебе сковал Геракл специально для моей баллады. Ты как германский генерал зверела на плече Паллады. Ты строила концлагерей концерны. Ты! Не отпирайся! Лакировала лекарей для опытов и операций. О, лекарь догму применял приманчиво, как примадонна. Маршировали племена за племенами в крематорий. Мундир! Для каждого — мундир! Младенцу! Мудрецу! Гурману! Пусть мародер ты, пусть бандит, — в миниатюре ты — германец! Я помню все. Я не отстам уничтожать твою породу. За казнь — и моего отца, и всех моих отцов по роду. С открытым ли забралом, красться ли с лезвием в зубах, но — счастье уничтожать остатки свастик — коричневых ли, желтых, красных! Чтоб, если кончена война, отликовали костылями, — не леденело б сердце над концлагерями канцелярий.Обращение к сове
Подари мне еще десять лет, десять лет, да в степи, да в седле. Подари мне еще десять книг, да перо, да кнутом, да стегни. Подари мне еще десять шей, десять шей да десять ножей. Срежешь первую шею — живой, срежешь пятую шею — живой, лишь умоюсь водой дождевой. А десятую срежешь — мертв. Не дари оживляющих влаг или скоропалительных солнц, — лишь родник, да сентябрь, да кулак неизменного солнца. И все.ТИETTА[1] 1963
«А ели звенели металлом зеленым!…»
А ели звенели металлом зеленым! Их зори лизали! Морозы вонзались! А ели звенели металлом зеленым! Коньками по наледи! Гонгом вокзальным! Был куполу каждой из елей заломлен, как шлем металлурга! Как замок над валом! Хоть ели звенели металлом зеленым, я знал достоверно: они деревянны. Они — насажденья. Зеленые, стынут, любым миллиграммом своей протоплазмы они — теплотворны, они — сердцевинны, и ждут не дождутся: а может быть — праздник? Зима не помедлит и не поминдалит. В такие безбожные зимы, как наши, обязано все притворяться металлом, иначе… известно, что будет иначе…«Сколько используешь калорий…»
Сколько используешь калорий для зарифмованного бреда? Как распрямляешь кривую крови своих разноплеменных предков? Каких подонков караулишь? Как бесподобен с королями? Как регулируешь кривую своих каракулей, кривляний? Как удаляешь удобренья с опять беспутного пути? ______ Гудят глаголы, как деревья промерзшие, и в хлопьях птиц!«Там, за болотом…»
Там, за болотом, там, за бором, произрастает комбинат! Там транспаранты, как соборы! Там транспортеры гомонят! И это только мне бездомно, где балки, блоки, бланки истин, где кабинеты из бетона — твоя растительность, Строитель. А комбинат восходит выше — твой сон, твой заменитель солнца! От лампочек сигнальных — вишен до симфонических насосов! Земля смородиной роится, канаты — лозы винограда! Выращивай свой сад, Строитель. Я понимаю: так и надо.«Я в который раз, в который…»
Я в который раз, в который ухожу с котомкой. Как ты? Где ты? В чьей карете скоростной катаешься? И какие сигареты с кем ты коротаешь? Вот придумал я зачем-то самозаточенье. В сфере северных завес снежных и сказаний, я на каторге словес тихий каторжанин. Буквы тихие пишу, в строчки погружаю, — попишу, подышу и продолжаю. И снежинка — белой чайкой над окном огромным! Чайкой ли? Или случайной белою вороной?«За Полярным кругом, за Полярным…»
За Полярным кругом, за Полярным кустики изогнуты, как скрепки. Может быть, Сиянье запылает? Нет. Не запылает. Знаю крепко. Горизонт газетами оклеен. Говорят, здесь в самом лучшем виде, как дельфины, прыгают олени! Что ж. Охотно верю. Но не видел. Пьяницы — наземные пилоты — в высшем пилотаже по субботам: тот в петле, а этот подбородок у жены выламывает бодро. Диво — север! Оближите, ваньки- встаньки, ваши важные машины! Развевайся, знамя — рваный ватник! Развивайтесь, знанья матерщины! За Полярным кругом крик собак. Подвиг трудовой опять струится. И твоя судьба, моя судьба замкнута, как этот круг, Строитель.«Поехали…»
Поехали с орехами, с прорехами, с огрехами. Поехали! Квадратными кварталами — гони! Машина — лакированный кораблик на огни! Поехали! По эху ли, по веку ли — поехали! Таксер, куда мы мчимся? Не слишком ли ты скор? Ты к счетчику, а числа бесчисленны, таксер. И твой мотор — картавый, улыбочка — оскал! Квадратные кварталы и круглая тоска.«Мы двое в долине Вудьявра…»
Мы двое в долине Вудьявра у дьявола на отшибе. Мы двое в долине Вудьявра, как две неисправных ошибки. Я с тенью. Я, тень наводящий на склон благосклонных долин, нестоящий, ненастоящий — так Север определил. А Север сверкает клыками! Ах, Север! Суровый какой! Иду аккуратно, в капканы чтоб не угораздить клюкой. По правилам лыжевожденья иду, ибо всем написавший, пигмей, формалист, вырожденец, поющий ночные пейзажи своих городов отсыревших, поющий своих пешеходов, скоробившихся в скворечнях и в чернорабочей пехоте. Будильником всех завело их! Пушистые, рыжие рыбы, идут по снегам звероловы с глазами косыми и злыми! Идите! Снежинки за вами вращаются чаще и чаще, косыми и злыми глазами с белками в прожилках вращая.«И возмутятся корабли…»
И возмутятся корабли на стойбищах моих морей. Как сто блестящих кобылиц, поскачут в бой сто кораблей. В них сто бесчинствующих сов вонзятся костяной губой! Девятый вал! Так в море слов девятый вал. Проклятый бой. Боишься? А кого, босяк? Эпоху? Короля? Эпоху — в пах! Король иссяк, он плачет у руля. Он у кормила плачет, наш кормилец, скиф, герой. Он взять хотел на абордаж слова кормой корон! Девятый вал? Он — свалка, вал. Во мире синем, в море слез торпедами плывут слова. Пока подводно. Но всерьез.Когда нет Луны
Одуванчики надели белоснежные скафандры, одуванчики дудели в золоченые фанфары! Дождевые вылезали черви, мрачные, как шпалы, одуванчики вонзали в них свои стальные шпаги! Паучата — хулиганы мух в сметанницы макали, после драки кулаками маки мудрые махали. И мигала баррикада яблок, в стадии борьбы с огуречною бригадой! Барабанили бобы! Полем — полем — бездорожьем (борозды наклонены) пробираюсь осторожно, в бледном небе — ни луны. Кем ее огонь растерзан? Кто помирит мир бездонный, непомерный мир растений, темнотой загроможденный?«В детстве…»
В детстве, где, как говорят, пролог, спят мои дни досадные. Детство мое, кое прошло с пятого на десятое, спады, подъемы зим, а весны — мизерное количество, и не колышется клин весны, — мысленно лишь колышется. Детство — начало из всех начал: подлинность в полдни пробуем лишь поначалу. А по ночам — подлостью, лестью, пропадом! Пропадом! Майский малиновый снег — пропадом! буднями! Женщины первой не женский смех — пропадом! тройкой с бубнами! Детство! Напевен и в пору слеп, правдою — перед правдою лишь поначалу. А повзрослев — прочими препаратами.Две осенние сказки
1
Лица дожди стегают металлическими пальцами. Листья с деревьев стекают плоскими каплями крови. Зазубринами крови листья с деревьев стекают. И подставляют гномы продолговатые, ледяные стаканы. Гномы — аккуратненькие, как мизинцы, малолетние старички, будто в винно-водочном отделе магазина, наполняют стаканы за успешное завершение труда по успешному завершению лета. Гномы цедят листья, рассказывают анекдоты армянского радио. У них одухотворенные, отдыхающие лица. Еще стаканчик? На здоровье, товарищи!2
14 гномов с голубыми волосами сидели на бревне, как в зале ожидания на вокзале, и думали, думали, думали. Думали о том, как превратить бревно в дерево. Тогда один гном взял шприц и ввел в тело дерева пенициллин, и ввел глюкозу. Но бревно не стало деревом, а еще больше одеревенело. Тогда другой гном отбежал на четыре шага от дерева и заманипулировал гипнотическими кистями рук и глазными яблоками. Он взывал: — Бревно, стань деревом! — Но бревно не стало деревом. Тогда третий гном (председатель гномов), мудрый, как дебри (мудростью веков пропах), поставил бревно на попа и приказал: — Это дерево. Тогда остальные 13 гномов облегченно завосклицали: — Какое замечательное дерево! Настоящее зеленое насаждение! Уж не фруктовое ли оно?«А нынче дожди…»
А нынче дожди. Для ремонта растений даны и даримы. Цыплята — сырые лимоны играют на лоне долины. Рычанье в долине скандально скота. Скот — как зрители ринга! Я понял напевы скитаний от карканья до чикчирика. Я понял напевы скитаний. Вот гусеница с гитарой. Медведь-матадор с мандолиной. Мычит, умиляясь малиной! Вот волки, вот овцы. Вот вечный дуэт. Овцы подняли лапки. Они побледнели. Овечьи поблеивают балалайки. Дожди и дожди. И заметны лишь струнные инструменты. Пока что дожди. Но повыше, там солнечности — завались! Еще повещают, посвищут мои соловьи! Бичами посвищут! О каре за слякоть, за слегшее лето! В белокочанные капли дождей, — над планетой!«О, ночь сибирская…»
О, ночь сибирская, — сирень! Мое окно стеклянной бронзы. Как статуэтки сигарет, стоят безумные березы. Безумные стволы из меди, из белой меди арматуры. В ночи безжизненно цементен архипелаг архитектуры. Огромный город! Без обид! С большой судьбой! С большой субботой! Здесь каждый пятый был убит пять лет назад самим собою. Убит мгновенно, не мигая! Убит — и выварен в мартене! А семьи были моногамны. А гнезда грозные — модерны. О, слушай, слушай, как маразм приподнимает хвост кометный. Как ночь мучительна, мала, как волчья ягодка, химерна.«Я не приду в тот белый дом…»
Я не приду в тот белый дом, хотя хозяин добр. Пируют в доме у тебя. Продуктов на пиру! Вино впитают и табак и в торбы наберут. Хвала пирующим! Родня моя, пируй, бери! Себя не рань и не роняй. Направим на пиры стопы сыновней чередой с дочерней пополам — в твой керамический чертог, в твой застекленный храм, в победоносный твой, проду- манный от зла и смут. В твой добрый дом я — не приду. И обувь — не сниму. Поджать заплечные ремни, бежать! Хоть скот пасти! Бежать от всей своей родни за тридевять пустынь! Я не приду. Не донимай меня. Напрасный труд. Твой дом построен до меня не для меня, мой друг.Дом надежд
Дом без гвоздя и без доски. Брильянт в мильярд карат. Роняют ночью лепестки на дом прожектора. Там алая луна палит, окорока обожжены, в бассейнах из хрустальных плит наложницы обнажены. Плодово-ягодные! Лавр! Скотов молочных рык! Собак благонадежный лай, резерв зеркальных рыб. Итак, над нами Дом Надежд! Он мудр, как ход комет. Там нет наветов, нет невежд, чего там только нет! Нет одиночек. Не манят бесславье, власть и лесть. А также в доме нет меня, а в общем-то — я есть.«Куда бежишь, художник бедный…»
Куда бежишь, художник бедный? Тебя голубили, любили. Ты одинок на свете белом. Ты чужд себе в любой Сибири. Как ни беги, — убьют, как жабу вблизи полночных полнолуний, отважная убьет кинжалом, стеснительная — поцелуем.«В твоих очах, в твоих снегах…»
В твоих очах, в твоих снегах, я, путник бедный, замерзаю. Нет, не напутал я, — солгал. В твоих снегах я твой Сусанин. В твоих отчаянных снегах гитары белое бренчанье. Я твой солдат, но не слуга, слагатель светлого прощанья. — Нас океаны зла зальют… — О, не грози мне, не грози мне! Я твой солдат, я твой салют очей, как небо, негасимых. — Каких там, к дьяволу, услад! Мы лишь мелодии сложили о том, как молодость ушла, которой, может быть, служили.КНИГА ЮГА 1963
«Дурачиться…»
И все же
наша жизнь — легенда!
Дурачиться, читать сказанья (страниц пергаментных мерцанье), героев предавать осанне, знаменьем осенять мерзавцев. Макать мечи (свирепы слишком!) в чаны чернильного позора, учить анафеме мальчишек, а старцев — грации танцоров. Дурачиться, читать сказанья, в глаза властителей лобастых глазеть лазурными глазами, от ненависти улыбаясь. Земля моя! Пчела! Дикарка! Печеным яблоком в духане! Иду я, сказочно вдыхая и легендарно выдыхая.Прокрустово ложе
То ложе имело размеры:
метр
шестьдесят сантиметров.
Был корпус у ложа старинный, над ложем пылала олива. О, мягко то ложе стелили богини и боги Олимпа. Шипучие, пышные ткани лежали у ложа тюками. Эй, путник! Усталый бродяжка! Шагами сонливыми льешься. Продрог ты и проголодался. Приляг на приятное ложе. Эй, путник! Слыхал о Прокрусте? Орудует он по округе. Он, путник, тебя не пропустит. Он длинные ноги обрубит. Короткие ноги дотянет (хоть ахи исторгни, хоть охи) до кончика ложа. Детально продуман владыками отдых. Мы, эллины, бравшие бури, бросавшие вызов затменьям, мы все одинаковы будем, все — метр шестьдесят сантиметров. Рост средний. Вес средний. Мозг средний. И средние точки зренья. И средние дни пожинаем. И средней подвержены боли. Положено, так пожелали эгидодержавные боги.Эхо
Солнце полное палило, пеленая цитрус. Нимфа Эхо полюбила юного Нарцисса. Кудри круглые. Красавец! Полюбила нимфа. Кончиков корней касалась, как преступник нимба. А Нарцисс у родника, вытянут, как пика, в отражение вникал собственное пылко. У Нарцисса — отрешенье. От себя в ударе, целовал он отраженье, целовал и таял. Как обнять через полоску дивное созданье? Он страдал и не боролся со своим страданьем. — Я люблю тебя, — качал он головой курчавой. — Я люблю тебя, — кричала нимфа от печали. — Горе! — закричал он. — Горе! — нимфа повторила. Так и умер мальчик вскоре. В скорби испарился. Плачет нимфа и доныне. Родники, долины, птицы плачут, звери в норах, кипарис тенистый. Ведь не плачущих не много. Есть. Но единицы. С тех времен для тех, кто любит и кого бросают, запретили боги людям громкие рыданья. Даже если под мечами — помни о молчанье. Ведь в любви от века к веку так. Такой порядок. Пусть не внемлет нимфа Эхо. Пусть не повторяет.Феерия
Уснули улицы-кварталы столичной службы и труда. Скульптуры конные — кентавры, и воздух в звездах как вода. И воздух в звездах, и скульптуры абстрактных маршалов, матрон. И человек с лицом Сатурна спит на решетке у метро. На узких улицах монахи в туннелях из машин снуют, на малолюдном Монпарнасе нам мандарины продают, стоит Бальзак на расстояньи (не мрамор — а мечта и мощь!). Все восемь тысяч ресторанов обслуживают нашу ночь! На площади Пигаль салоны: там страсти тайные, и там… А птицы падают, как слезы, на Нотр-Дам, на Нотр-Дам!1
Он появился, как скульптура на набережной. Наш старик пришел сюда с лицом Сатурна, сюда, и сам себя воздвиг. Старик всю жизнь алкал коллизий, но в президенты не взлетал. Все признаки алкоголизма цитировались на лице. В пижаме из бумажной прозы, изгоев мира адмирал, он отмирал. И он не просто — он аморально отмирал. Он знал: его никто не тронет, все в мире — бред и ерунда. Он в тротуар стучал, как тростью, передним зубом и рыдал: — Я ПОТЕРЯЛ ЛИЦО! Приятель! Я — потерял. Не поднимал? Но пьян «приятель». И превратно приятель юмор понимал: — Лицо? С усами? (И ни мускул не вздрогнул. Старичок дает!) Валяется тут всякий мусор, возможно, поднял и твое!2
Какое красок обедненье! И номера домов бледнели, на Сене шевелились листья, на Сену угольщики шли. У женщин уличные лица у Тюильри, у Тюильри. На Сене вспыхивали листья, как маленькие маяки, за стеклами шоферов лица — бледно-зеленые мазки. Многоугольны переплеты окаменелостей-домов. Все номера переберете у многовековых домов, откроете страницу двери, обнимете жену-тетрадку, под впечатлением таверны протараторите тираду, что стала ваша жизнь потолще, что вы тучнеете, как злаки, что лица вашего потомства — как восклицательные знаки! Прохожий, ты, с улыбкой бодрой, осуществи, к примеру, подвиг: уеденись однажды ночью — поулыбайся в одиночку. Не перед судьями Сорбонны, не перед женщиной полночной, не перед зеркалом соборным — поулыбайся в одиночку. Ни страха глаз не поубавив, ни слезы не сцедив с ресниц, — дай бог тебе поулыбаться, во всяком случае рискни! Когда идет над берегами, твердея, ночь из алебастра на убыль, ты, не балаганя, себе всерьез поулыбайся!3
Сидела девочка на лавке, склоня вишневую головку, наманикюренные лапки ее лавировали ловко. Она прощупывала жадно лицо, чтобы его приклеить, лицо, которое держала на лакированной коленке. Она с лица срезала капли сует излишних, слез излишних, ее мизинчик — звонкий скальпель — по-хирургически резвился. Она так долго суетилась, искала так, и вот сегодня СВОЕ ЛИЦО НАШЛА статистка, и вот пора его освоить. Заломленный вишневый локон был трогательно свеж и мил. Прооперировано ловко. Перед экраном дрогнет мир! Лицо ее — как звезды юга! Свое! Мечтательницы юной! И цельное лицо. Принцессы отображаются большие, такое, как у поэтессы, как у божественной Брижитты. Теперь бы туфельками тикать да на какого короля бряцающий надеть канат под видом паутинки.4
Любовь была не из любых: она — любила, он — любил. И Мулен-Руж в нарядах красных вращала страсти колесо! Любили как! Он — ПОТЕРЯВШИЙ, она — НАШЕДШАЯ ЛИЦО! Он — адмирал, она — Джульетта, любили, как в мильонах книг! За муки ведь его жалела, а он — за состраданье к ним! Все перепутал чей-то разум. Кто муж? Которая жена? Она не видела ни разу его, а он — и не желал! Возможно, разыграли в лицах комедию? Так — не прошла. Большое расхожденье в лицах: он — ПОТЕРЯЛ, она — НАШЛА.5
Дыхание алкоголизма. Сейчас у Сены цвет муки. Поспешных пешеходов лица как маленькие маяки. Да лица ли? Очередями толпились только очертанья лиц, но не лица. Контур мочки, ноздря, нетрезвый вырез глаза, лай кошки, «мяу» спальной моськи… Ни лиц, ни цели и ни красок! Перелицовка океана — речушка в контуре из камня да адмирала рев: — Ажаны! ЛИЦО ИЩУ! — Валяй, искатель! Все ощутит прохожий вскоре — и тон вина, и женщин тон. Лишь восходящей краски скорби никто не ощутит. Никто. Прохожий, в здания какие — в архитектурные архивы войдешь, не зная, кто построил, в свой дом войдешь ты посторонним. Ты разучил, какие в скобки, какие краски — на щиты, лишь восходящей краски скорби тебе уже не ощутить. Познал реакцию цепную, и «Монд», и Библию листал. Лицо любимое целуешь, а у любимой нет лица.«Был роскошный друг у меня…»
Был роскошный друг у меня, пузатый, Беззаветный друг — на границе с братом. Был он то ли пьяница, то ли писатель. Эти два понятия в Элладе равны. Был ближайший друг у меня к услугам. Приглашал к вину и прочим перлам кулинарии… По смутным слухам, даже англосаксы Орфея пели. Уж не говоря о греках. Греки — те рукоплескали Орфею прямо. То ли их взаправду струны грели, отклики философов то ли рьяных… Но моя ладья ураганы грудью разгребала! Струны — развевались! Праздных призывал к оралу, к оружью, к празднику хилых призывали. Заржавели струны моей кифары. По причинам бурь. По другим отчасти… Мало кто при встрече не кивает, мало кто… Но прежде кивали чаще. Где же ты, роскошный мой, где, пузатый? Приходи приходовать мои таланты! Приходи, ближайший мой, побазарим! Побряцаем рюмками за Элладу! Над какою выклянченной рюмкой реешь? У какой лобзаешь пальчики жабы? Струны ураганов ржавеют на время, струны грузных рюмок — постоянно ржавы. Я кифару смажу смолой постоянной. На века Орфей будет миром узнан. Ты тогда появишься во всем сиянье, ты, мой друг, в сиянье вина и пуза.«Что же ты, Библида, любила брата…»
Что же ты, Библида, любила брата, требуя взаимных аномалий? Ведь не по-сестрински любила брата — ведь аморально! Библида! Не женщина ты! Изнанка! Слезы и безумье в тебе! Изгнанье! Боги рассудили менее люто: люди в одиночку ночуют и хорами, но не так уж часто, чтоб очень любят… Ладно, хоть брата!Кузнечик
Ночь над гаванью стеклянной, над водой горизонтальной… Ночь на мачты возлагает купола созвездий. Что же ты не спишь, кузнечик? Металлической ладошкой по цветам стучишь, по злакам, по прибрежным якорям. Ночью мухи спят и маги, спят стрекозы и оркестры, палачи и чиполлино, спят врачи и червяки. Только ты звенишь, кузнечик, металлической ладошкой по бутонам, по колосьям, по прибрежным якорям. То ли воздух воздвигаешь? Маяки переключаешь? Лечишь ночь над человеком? Ремонтируешь моря? Ты не спи, не спи, кузнечик! Металлической ладошкой по пыльце стучи, по зернам, по прибрежным якорям! Ты звени, звени, кузнечик! Это же необходимо, чтобы хоть один кузнечик все-таки звенел!Кентавры
Все мы немножко лошади.
Каждый из нас по-своему лошадь.
В. Маяковский Девочка! Ты разве не кобылица? Не кобыльи бедра? Ноздри? Вены? Не кобыльи губы? Габариты? Ржаньем насыщаешь атмосферу! Юноша! Ты не жеребенок разве? Извлекал питательные корни? Трогал ипподромы чистокровьем расы, чтобы в скором времени выйти в кони? В кладовых колдуют костлявые клячи, сосредоточив бережливые лица. Мерин персональную пенсию клянчит, как проникновенно, так и лирично. Взрослые участвуют в учрежденьях: в заревах кредитов — Гоги да Магоги, в кардинальных зарослях учений, — первые — герои, вторые — демагоги. Здесь и расхожденья детей с отцами: у кого изысканнее катары? Здесь происхожденья не отрицают. Именуют честно себя: кентавры.«Он вернется, не плачь…»
Он вернется, не плачь! (Слезы, слезы, соратницы дурости!) Он вернется, не плачь. А товары из Турции, а товары, товары моряк привезет! Привезет он помаду, нежнейшую, как помазок. Проведешь по губе — как повидлом по сердцу! Но и ты измени отношенье к соседу. Относись по-соседски, но более скромно. Относись относительно благосклонно. Он ведь временно тих, но ведь в мыслях — вперед забегает. Не за так он мизинцем загадочно ус загибает. Пусть подмигивает — сплюнь, как будто противно. Он физически развит, а умом — примитивен. Вот — моряк! О тебе размышляет моряк со стараньем. Сердцем он постоянен, как вращенье земли. Он вернется, не плачь! Демонстрируй свое ожиданье, стирая, окуная тельняшки в заветный залив. Он вернется, не плачь! Не разбрызгивай слезы по пляжу. Вот вернется — поплачешь…«Есть кувшин вина у меня невидный…»
Есть кувшин вина у меня невидный. Медный, как охотничий пес, поджарый. Благовонен он, и на вид — невинен, но — поражает. Приходи, приятель! Войди в обитель! Ты — меня избрал. Я — твой избиратель. Выпьем — обоюдные обиды вмиг испарятся. Приходи, приятель! На ладони положим огурцы, редиску, печень бычью. Факел электрический поможет оценить пищу. Выпьем! Да не будет прощупывать почву глаз подозревающий планом крупным! (Что твои назвал я «глазами» очи — прости за грубость.) Что же на заре произойдет? Залаешь? Зарычишь, с похмелья дремуч, как ящер? Вспомнишь о моем вине — запылает ненависть ярче.Парус
Парус парит! Он планирует близко, блещет — шагах в сорока. Будет ли буря? Разнузданы брызги, злоба в зеленых зрачках! Будет, не будет, не все ли едино? Будет так будет. Пройдет. Жирные птицы мудро пронзают рыбу губой костяной. Передвигаются древние крабы по деревянному дну. Водоросли ударяются нудно туловищами о дно. Вот удаляется ветреник-парус. Верит ли в бурю, бегун? Вот вертикальная черточка — парус… Вот уж за зримой чертой. Буря пройдет — океан возродится, периодичен, весом, только вот парус не возвратится. Только-то. Парус. И все.«Ты по пюпитру постучишь…»
Ты по пюпитру постучишь: спектакль исполнен! Раз — и все! Мой режиссер! Ты — поставщик, не постановщик, режиссер. Несостоятелен, как вопль, твой театр, твой канон мультипликационных войн, волнений и корон, нагримированных тирад, втираемых в умы… Твой мир — мир мумий, театрал, мемориальный мир! Твой театр потрепанных потерь! Истертых истин фонд! Чему обрадован партер? Что одобряет он? Зачем не поспешит уйти, пока здоров и цел, от гильотин галиматьи под видом ценных сцен? Не поспешит! И если «бис» не грянет по рядам, я вырву грешный мой язык, и театру передам.Циклопы
На съезде циклопов цикл прений возрос в связи с окончаньем доклада, в котором оратор затронул вопрос: зачем человеку два глаза? Затронут вопрос. Досконален доклад. Ответственность перед роком. Итак, резолюция: выколоть глаз, поскольку он понят как роскошь. В дальнейшем, донельзя продумав доклад, заколебались циклопы: не лучше ли тот злополучный глаз не выколоть, а — захлопнуть? На сто сорок третьем стакане воды съезд выдавил вывод командный: не объединить ли два глаза в один? Компактнее будет. Гуманней. Зачем человечество лечится, ест, эстетствует, строит, зевает? О том, что идет циклопический съезд, зачем не подозревает?Из поэмы «Антипигмалион»
1. Собака
Болезненны, безлики ночи, как незаписанные ноты. Две девочки, два офицера у цирка шепчутся о ценах. Все себестоимость имеет — и цирк, и девочки, и место. Заплесневелая собака придумала себе забаву. Пропойцу усыпит, а после губу откусит от пропойцы. Наивны, псина, развлеченья твои, как встарь — столоверченья. Мильоны вдумчивых собак давным-давно нашли себя. Отлично лают пастью алой. А ты к какому идеалу?2. Похороны
Мы хоронили. Мы влачили. Мы гроб влачили на себе, сосредоточенно влачили за восемь ручек в серебре. Мы — это деятель культуры (все знал: от культа до Катулла), два представителя от обществ (два представительные очень), да плюс распространитель знаний (вычерчивая виражи, переходящее он знамя на гроб священно возложил). Мы скорбные цветы нарвали, марш на литаврах замерцал. Оформлен ритуал нормально… Но позабыли мертвеца! Царил мертвец на перекрестке, похожий на милиционера… Шли 28 переростков, и с ними недоросль нервный. И с ними — школьница — мокрица с фурункулами по лицу… Остановились… Мертвецу серьезным образом… молиться… Мертвец хрустальными очами очаровательно вращал, мертвец о чести и о счастье обобществляюще вещал! Что этих в мертвеце манило? Зачем сторонкой не прокрались? Их не принудили молиться родители и по программе. Они молились гениально! Целенаправленно! Борцами! Их, обнаглев, бураны гнали, дожди канатами бряцали. А в сентябре опали уши. Попарно. Тихо. Абсолютно. Вспорхнули, пламенея, уши, как шестьдесят огней салютных. Как раз рыбацкая бригада с лукавым гулом на лугу (гуди, гуди! Улов богатый!) варганила себе уху. Вдруг — уши! Вроде хлебных корок… Наверно, вкусом хороши… Попробовали — никакого! Одни хрящи. Одни хрящи.Кузница
Где выковывали для тебя, мореход, башмаки из кабаньей кожи? — В кузнице, товарищ. Молодая, юница, твое молоко кто выковывал? Кто же? — Кузнец, товарищ. Где выковывали, вековечный Орфей, твой мифический образ парящий? — В кузнице, товарищ. Кто выковал пальцы кифары твоей и гортань этих таборных плачей? — Кузнец, товарищ. Кто выковывал пахарю зерна потов, капли злаков на безземелье? — Кузнец, товарищ. Где выковывали и тепло и потоп, род выродков и бессемейность? — В кузнице, товарищ. Кто выковывал скальпель и оптику линз? Кто иконы выковывал? Кто героизм? — Кузнец, товарищ. Где выковывали для тебя, Прометей, примитивные цепи позора? — В кузнице, товарищ. Кто выковывал гнет и великий протест и мечи для владык подзорных? — Кузнец, товарищ. В результате изложенного колеса, где выковывали сто веков кузнеца? — В кузнице, товарищ. Как зеницу, того кузнеца я храню, как раненье храню, до конца. Я себе подрубаю язык на корню, коронуя того кузнеца. Ну, а если кузнец приподнимет на метр возмущенье: — Не буду мечами! — для него в той же кузнице, в тот же момент будет выковано молчанье.«Кистью показательной по мелу…»
Кистью показательной по мелу! Мраморными линиями поразите! Бронзой! Полимером! Да не померкнут Фидий, Пракситель! Поликлет! Увенчивай героя лавром! Серебри, Челлини, одеянье лилий! Что-то расплодились юбиляры… Где ювелиры? Где вы, взгляды пристальных агатов, прямо из иранских гаремов очи? (Не зрачки — два негра-акробата, черные очень!) Где вы, изумруды, в которых море шевелит молекулами? Где жемчуг четок, переливчат, как азбука Морзе, в прическах женщин? Где вы, аметисты? Вдохните бодрость в эти юбилярные руины! Капилляры гнева и вены боя, где вы, рубины? Лишь на юбилеях ревут Мазепы, глиняных уродов даруя с тыла. Почитать букварь и почтить музеи стыдно им, стыдно! Лишь на юбилеях гарцует быдло, лязгая по ближним булыжникам страшным… Яхонты, бериллы, брильянты были — стали стекляшки.Сентябрь
Сентябрь! Ты — вельможа в балтийской сутане. Корсар! Ты торгуешь чужими судами. Твой жемчуг — чужой. А торговая прибыль? Твой торг не прибавит ни бури, ни рыбы. А рыбы в берлогах морей обитают. Они — безобидны. Они — опадают. Они — лепестки. Они приникают ко дну, испещренному плавниками. Сентябрь! Твой парус уже уплывает. На что, уплывая, корсар уповает? Моря абордажами не обладают. А брызги, как листья морей, опадают. Любимая! Так ли твой парус колеблем, как август, когда, о моря ударяясь, звезда за звездой окунают колени… Да будет сентябрь с тобой, удаляясь.ПОЭМЫ И РИТМИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ 1963–1964
Два Сентября и один Февраль
1
Я семь светильников зажег. Я семь настольных ламп зажег. Я семь стеклянных белых ламп зажег и в стол убрал. Я календарь с него убрал, когда газетой накрывал, потом чернильницу умыл, наполнил целую чернил и окунул перо.2
Я окунул неглубоко но вынул — вспомнил, что забыл бумагу в ящике стола. Достал бумажный лист. Лист — отглянцованный металл, металл — пергамент. Я достал по контуру и белизне такой же точно лист.3
Листы форматны — двойники, вмурованы в них тайники, как приспособленные лгать, так искренность слагать. Я окунул перо. Пора слагать! Но вспомнил, что февраль, за стеклами окна февраль. Вечерний снегопад.4
Мое окно у фонаря. Снежинки, будто волоски опутали воротники двух девичьих фигур. Фигуры женщин февраля и белозубы и близки. Поблескивает скользкий ворс их грубошерстных шкур.5
Курили девочки… Они вечерние, как две свечи. Их лица — лица-огоньки у елочных свечей. Ты, вечер снега! Волшебство! Ты, ожидание его, активного, как прототип мифической любви.6
Но ожидаемый — двойник тех мифов. Беспардонно дни откроют хилое лицо великих двойников. Фонарь, ты — белка. Ты, обман, вращай электро-колесо! Приятельницы — двойники, окуривайте снег!7
Я занавеску опустил. Отполированный листок настольной лампой осветил. Я глубже сел за стол. Я глубже окунул перо, подался корпусом вперед… но вспомнил… осень: о себе особый эпизод.8
Стояла осень. О, сентябрь! Медовый месяц мой, сентябрь! Тропинка ленточкой свинца опутывала парк. Парк увядал… Среди ветвей подобны тысяче гитар, витали листья. Грохотал сентябрь: — Проклятый век!9
— Проклятый… — Слово велико! Велеречиво не по мне. Благословенных — нет веков. Проклятых — тоже нет. Век — трогателен он, как плач влюбленных старцев и старух. В нем обездолен лишь богач. Безбеден лишь поэт.10
Как слезы, абсолютен век! Прекрасен век! Не понимай, что абсолютно черный цвет — иллюзия, искус. Наглядно — есть он, черный цвет, есть абсолютный человек, есть абсолютный негодяй, есть абсолютный трус!11
Стоял сентябрь. Сиял сентябрь! Медовый месяц мой, сентябрь! Тропа зигзагами свинца избороздила парк. Тогда на парк упал туман. Упал туман, и терема деревьев, и огни аллей невидимы под ним.12
Тогда туман затвердевал, как алебастровый раствор, к лицу приблизишь кисти рук и пальцы не видны. Мы, существа земных сортов, мы, люди улиц и садов, как статуи, погружены в эпический туман.13
Что было делать? Я стоял у деревянного ствола. Я думал в кольцах табака опять о двойниках. У каждого есть свой двойник, у капли, жабы, у луны. Ты, мне вменяемый двойник, поближе поблуждай!14
Где ты блуждаешь, мой двойник, воображенный Бибигон, вооруженный ноготком, мой бедный эпигон? Тебя я наименовал, ты сброшюрован, издан, жив, тебе проставлен номинал истерики и лжи.15
Ты медленней меня, модней, ты — контур, но не кость моя, акт биографии моей, мое седьмое «Я». Ты есть — актер, я есть — статист. Ты — роковой орган. Я свист. Ты — маршал стада, стар и сыт, я — в центре стада — стыд.16
О, если бы горяч ты был, как беды голытьбы, как старый сталевар с лицом отважно-голубым. О, если б холоден ты был, как пот холодный, ловкий плач, но ты не холоден и ни на градус не горяч…17
Я семь светильников гашу, за абажуром абажур. Я выключил семь сот свечей. Погасло семь светил. Сегодня в комнате моей я произвел учет огней. Я лампочки пересчитал. Их оказалось семь.18
Дорога от Новой Ладоги до деревни Дубно, равная двадцати четырем километрам, пролегает вдоль Староладожского канала, прорытого Петром I. Канал был прорыт параллельно предполагаемой дороге «из варяг в греки». Снежинка звездная — луна. Мизинцы — прутики берез. Февральская голубизна. Зарницы и мороз. Сосуды прорубей — дары Фарфорового короля. Деревья, словно грифеля, графичны на снегу.19
Он шел каналом. Купола на голове и на плечах из снега. Он напоминал Исаакиевский собор. Горела снегом колея. «Гори, дорога, догорай, — он думал, — догорю и я, пора… рога трубят!20
Рога трубят! Завод — зовет! Икает мастер мой: «Тайга!» Четвероногий таракан, с начала смены пьян. Он свой словарный фонд забыл, запамятовал даже мат. — Тайга, — икает он, — тайга — подделывая план.21
Мой Коленька — ученичок! Лев электромагнитных дел от саксофона мундштучок добыл и загудел. О, композитор — фаталист! Ужимки джаза перенял. «Рябину» исполняет на мотив «Трех поросят».22
Ребенок робок и влюблен! Любовь — и — кровь — любовь — и — вновь! Ему семнадцать — Пятьдесят буфетчице его. Она — как арка велика! Ее уста — окорока! Она — бокалы коньяка, пельмени и бульон23
дарит! Антенна — тонок он! Любимец мамы и страны, ты, выкормленный для труда картофельным пюре, люби буфетчицу, футбол, бульон влюбленно — даровой, религиозный ореол отваги трудовой!24
Мартьямов! Кино-генерал! Монтажник — демон! Матадор в постелях трипперных мадонн, гранд ресторанных ню! Ты филигранно гарцевал… Ты телевизионный шнур зачем уворовал?25
Вандал! Ограбил бы Госбанк! Ну — ювелирный! Слепота! За телевизионный шнур решетку схлопотал! Как ты за шкафчиками спал тогда, когда — завод — зовет! Пятью годами завершен убогий демонизм.26
Ты, Краеведов! Ты — аскет! (сын от жены, от тещи — дочь), с лицом, как задница слона морщинистым, наш вождь собраний, митингов, солдат товарищеского суда, ты, премированный стократ передовик труда, электрик цеха, ты ампер от мотоцикла отличал? Наш премированный пример, центральный детектив завода, как ты поседел, выслеживая, кто сидел в уборной свыше двух минут и в оной выпивал!27
Ты, Шебушинская! Кассир! Стремительная, как пунктир, курсирующая: завод — кино — базар — завод. О, дни зарплаты! Семена труда! Кассира из ворот выносят пьяную: сигнал — зарплату привезли!28
Завод — зовет! Завод — завет! Он ожиданьем оживлен. Посеребренный фейерверк — пропеллер — турникет. Толпа воюет у ворот сестер, старух, невест, грудных, взгляд — возглас — орудийный залп! зарплату привезли!29
Вас, бедолаги, бедняки потомственные едоки картофеля, — не провели: зарплату привезли! Мужьям — зарплату одобрять в алкоголизме, в табаке… Залп — и зарплату отобрать, пока не в кабаке!30
Начальник! Брошкин! Мужичок — телевичок! Не тельце — тля. Монетка — личико. Штаны шотландских моряков. Твой возглас — лебединый плач. Ты издали меня лизал, проникновенно лебезя, расценки подрезал!31
Курганов Саша, наконец! Мой Паганель! Мой бригадир! Сигналы электросистем слагая, голубел. Ты утверждал бессмертье схем, ты так монтировал виток, укладывая проводок, как сына в колыбель.32
Меня учил — не научил. Я начинания твои в полезности не уличил, апатию — таил. Ты сутками произносил целенаправленную речь, такую правильную речь, что было больно мне.33
Мы в мае открывали «Парк Культуры». На металлолом укладывали животы. Миниатюрный пляж. Мы облучали животы, мы обольщали крановщиц, мы обобщали: нищета! Мы — обличали век!34
Гори, дорога, догорай, — он думал, — догорю и я. Я мог бы выйти в токаря, а вышел в слесаря. Петр — токарь! Как стрельцов карал! Как радостно карать! Но — сконструировал канал — ликуйте, токаря!35
Мой жалкий жребий лжив, а — жаль, Я жил, как жил. А — зря! Необходимо жить и жать и выйти в токаря! Я знал, что мал, а заверял, что бешено большой. А вышло — вышел из варяг, а в греки — не пришел.36
Осатанел от сотен книг: там — Ганнибал, там — Галилей, Гагарины, Гарганпоа — богатый гобелен! Гоген глумливый не картон — лобзает ляжки! Только я не некто даже, а — никто. Не вышел в токаря…37
Он шел каналом. Шел к жене чужой. И не пойти — не смог. И что пошел — не сожалел. Он получил письмо и декламировал, сканди- руя, как механизм часов скандирует секунды эр… А получил вчера.Письмо
38
«Не здравствуй сразу, а прощай пишу, прощай, мой самый злой. Ни счастья — где уж! — ни пощад не надо. Бог с тобой! Не предъявляю иск обид, искоренения обид не вымогаю. Что вчера искал — не искупить.39
Что нам обеты обвинять — вчерашнее обременять! Нам не друг друга обнимать, — нам беды — не объять. Прощай! Прищуренные дни над Ладогой. Дни — полусвет. Ни снег. Ни оттепель. Идут на райгу рыбаки.40
Кобылы сети волокут. Улов в те сети вовлекут. Как вилки, пальцы рыбаков воинственно блестят. А мой отец… Ах, мой отец! Ах, мой доцент — пенсионер, в пижаму хилую одет, юродствует старик…41
Питается. Плюется. Спит. Свистит. Нисколько не грустит. Он коротает «Капитал» и Лениным грозит. Паясничает на окне: — Я — жертва культа! О, судьба! — Не жертва культа он, о, нет, лишь — самого себя.42
Он фанатизм в себе самом переосмыслить не сумел. Он уцелел в тридцать седьмом. Но и не уцелел он, потому что потрясен товарищами лагерей, он опасается людей. Его согнул позор43
былого. Выдумал режим: из пятьдесят восьмой статьи читает ночью — сторожит сам! — самого себя! Как страшно! Как ты упрекал, что робко радуюсь, но как отважно радость проявлять, когда родитель — страх!44
Ты думаешь — ты ревновал, подозревал в семи грехах, подозревал не ты — твой страх меня подозревал. Ты потому и потерял меня, ортодоксальный раб, я хрупкий трус, — что повторял, что независим, храбр.45
Несправедлива. Извини. Ты — отвлечен скорее был. Уменье мужу изменить — от трусости рабынь, боязни уронить удел цыганщины, вина, монист… Так получилось: муж — студент, любовник — демонизм.46
А мать в блокаду умерла. Дизентерия. Паратиф. Тогда Виктория взялась откуда-то с небес. Сорокалетний ангел бездн добросердечья. Двадцать лет влюбленности ее отец зачем не замечал?..47
В Ладоге мы все втроем: отец, Виктория и я. Отец с Викторией на «вы», невеста и жених. Они невинны и новы, жеманны — что им! — молодежь! Каникулы… Читаю… Сплю… Обстирываю их…48
Отца зовем «дядя Игнат»… Совхоз наш рыбами богат… А фрукты видели в кино… Нет мяса… Есть вино… А мне — поплакать на заре без обличений, без улик. Стыд назревал. И стыд — назрел. И стыд — увы! — велик.49
Прощай, мой черный. И — молчи. Вчера — очарованье чар. Без пользы обнажать мечи картонные. Прощай! Я лгать устала. Я дебет с кредитом подвела, и — нуль и в муже, милый, и в тебе. NNN… И — прощай!»50
— Гори, дорога, догорай, — он думал, — догорю и я. «Любовник нудно доиграл», газеты говорят. Любовник полон мыслей, муз, он мужественен, как брезент, и все равно редактор — муж, любовник — рецензент.51
Пришел, увидел, победил, мильон терзаний породил, и рецензирует, один, пародии свои. Муж — всепрощающ. Муж — влюблен. Муж апробирован в веках. Апостол прав. Апломб времен. Опорный столп в верхах! —52
По разветвлениям стволов струился черно-белый снег. Пятьсот мильонов макарон свисало со стволов. Он шел каналом. И тоска гнездилась пауком в висках. Как белый колокол, мороз ритмично ударял.53
Как белый колокол — мороз! Он вынул пачку папирос. Остановился. Прикурил. Взглянул через плечо, каким-то звуком привлечен… каким-то… увидал волков… пересчитал… их было семь… И все тихонько шли.54
Шли волки. Пять… И два еще поодаль… крадучись… — расчет дистанции — волчица шла на корпус впереди. Прекрасна, с грацией цариц, или арабских кобылиц, и профиль бело-голубой, приподнятый к луне.55
— Ты — Нефертити, — думал он, залюбовавшись на нее, окаменев от красоты, не торопясь идти. Позыв — охотничий инстинкт, как небо, ненависть ясна солдатам голода. Веди, волчица, волчий вождь. —56
Потом опомнился. Присел. — Беги от бабки, колобок! — NN раздвинул коробок: и спичек было семь. Он километры подсчитал до Дубно. И — проклятый мир! — и километров было семь. И тишина была…57
Металл — деревья. Мерзлота. Песчинка — спичка и пустяк. Пожар не выйдет. Побежать? Пожалуйста! — сожрут. Он первой спичкой шарф поджег, тот отпылал в один прыжок. Второй NN поджег Пиджак поджег и побежал.58
Пиджак горел на километр. Пальто — на три, треща, как сук… А сердце, как секундомер, скандировало стук. А ноги ныли, онемев. Кричать: обороните! SOS! Будь семью семьдесят волков не закричал бы он.59
NN на белый снег упал, упал на снег, а снег пылал. Он негасимый снег ласкал, молочный снег лакал. Лакал и плакал… Кулаком большие слезы вытирал, большие слезы кулаком, как школьник, вытирал.60
Потом опомнился. Накрыт. Лицо пощупал? Был небрит, потом почувствовал: замерз… NN оледенел: не тело — а металлолом, а майка хлопала крылом, как аист… Он осатанел — и сделал первый шаг.61
Пять отстранились. Арьергард — два — опустились на зады. Волчица, профиль уронив опешила, скуля. Он первым сделал первый шаг, шаг… шаг еще… и побежал — на Нефертити! Не дыша, от бешенства дрожа!..Эпилог
62
Я мог бы много обобщать. Моральный облик обличать. Мир внутренний обогащать. Сатиру ополчать. Мог исправленье обещать. Уродцев в принцев обращать. Но — к сожалению — роман дописан до конца.Послесловие
63
Прекрасен сад, когда плоды созрели сами по себе, и неба нежные пруды прекрасны в сентябре. Мой сад дождями убелен. Опал мой самый спелый сад, мой самый первый Аполлон, мой умный Моэм, сад.64
Летайте, листья! До земли дотрагивайся, лист! Замри! До замерзанья — до зимы — еще сто доз зари. Отгоревал сад-огород, мой многолапый сад-кентавр, а листья, листья — хоровод из бронзовых литавр.65
Лимит листвы в саду моем? В студеных дождевых щитах плывут личинки, их — мильон!.. Я прежде не считал. Любой личинке бил челом… Но вечно лишь одно число. Число бессмертно, как вино — вещественно оно.66
Мы сводим счеты, вводим счет. Лишь цифры соблюдает век. Одной природе чужд подсчет. Вот так-то, человек! Летайте, листья, вы, тела небес, парите и за нас… Ни ритуалов, ни тирад в саду. Лишь тишина.67
Сад — исхудалый хлорофилл… Зачем сочится седина? Зачем ты животом не жил, ты фрукты сочинял? Плоды полудней дураки припишут дуракам другим, твою Песнь Песней — дураку, тихоне — твой разгул!68
Фавор тебе готовит век, посмертной славы фейерверк. Ты счастлив нынешним: дождем, дыханьем, сентябрем. Ни славы нет тебе. Ни срам не страшен для твоих корней. Безмерен сад. Бессмертен — сам!69
КОНЕЦРитмические рассказы
Матрена
Этот мартен литейщики называли Матреной. Мартен действительно походил на Матрену — румяная мощь, красная девица, — напевал мартен свои ароматные чугунные мелодии. Литейщики не матерились возле мартена. Подручный сталевара, Витька Кардемский, или Винтик, или граф Кардемский, отмерил шестьдесят шагов от мартена и смастерил из металла черту (накапал металлом). За этой чертой литейщики матерились, а при Матрене стеснялись. Молодой специалист Пепин впервые прибыл на мартен. Пепин предварительно вызубрил замечательное вычурное ругательство и применил его, чтобы наладить контакт с литейщиками. Он произнес ругательство отчетливо и вкусно, однако в несовершенном голосе его проскальзывали нотки сомнения. Литейщики примолкли, прошли секунды. Литейщики помалкивали. — Контакт налажен, — возликовал Пепин. Он определил молчание как солидарность. Чтобы закрепить авторитет, молодой специалист еще раз повторил вычурное ругательство, удлинив его. И тогда кто-то взял Пепина за левую лопатку и движениями, противоположными вежливым, отвел за черту металла. Это был сталевар Дюк. Литейщики работали бодро, плавку выдавали по плану. Иногда они выдавали немного больше плана, иногда — намного больше. А когда они выдали настолько намного больше плана, насколько больше — невозможно, тогда Витька Кардемский, или Винтик, или граф Кардемский, упал в ковш с расплавленным чугуном. Никто не понял, почему он так поступил. Ведь при современном уровне техники безопасности упасть в ковш еще никому не удавалось. Он упал в ковш и, как всякое инородное тело, вступающее во взаимодействие с расплавленным чугуном, сгорел. Дирекция не позволила хоронить металл. Сорок тонн металла хоронить нецелесообразно, да и по другим причинам. Литейщики работали по-прежнему бодро. Плавку они выдавали по плану, иногда они выдавали немного больше, иногда — намного больше, но никогда не выдавали слишком намного больше плана, хотя дирекция и напоминала им, что такие случаи могли бы иметь место, как имели они место однажды. Литейщики работали по-прежнему бодро. Но сталевар Дюк железным ломом сдолбил черту, которую накапал металлом Кардемский. Но матерились литейщики теперь где вздумается, но название мартена — Матрена — произносили с такими интонациями, что лучше бы уж и не произносили. Только молодой специалист Пепин все искал черту, накапанную металлом, за которой ему позволяли материться, искал черту и не находил, и забирался за будку с газированной водой и за этой будкой матерился, удлиняя то, свое первое в жизни ругательство до таких величин, что как раз кончался обеденный перерыв. Пепин страдал: у него никак не получалось так, чтобы матернуться непринужденно.Сабелька
Как говорят в таких случаях, она была женщиной уже много пожившей, пожилой женщиной. «Сабелькой» ее прозвали еще в прошлом, когда она только-только появилась на производстве. И далеко не произвольно прозвали. Длинная, как сабелька, да и злая, девочка не беседовала, а — жонглировала клинком! У всех — от сталевара Дюка до директора завода («директор завода» — название собирательное, сменилось потому что семнадцать директоров), у всех закружились головы: у одних — замедленно, как пружины, у других — длинно, как пропеллер вертолета. Сабля взмывала! — Взмах сабли! — Укороченный возглас! — Голова падала, позванивая, возле отдела, где Сабелька производила цифровые отчеты. Возле отдела громоздилась баррикада из голов, разноцветные волокна волос пролезали в щели дверей, в замочную скважину, дверь отдела не закрывалась. Создалась угроза похищения документации. Директор завода, голова которого была срублена также, но колыхалась еще на какой-то соломинке, директор завода решил уцепиться за эту соломинку. «Уволить по сокращению штатов» — готовился приказ, когда Сабелька вышла замуж. Никто, нигде, никогда не увидел ее мужа, ни у кого не было уверенности, видела ли мужа сама Сабелька. Но Сабелька вышла замуж, чем водворила все головы обратно. Годы шли, как говорят в таких случаях. Из года в год Сабелька опасалась сокращения (она опасалась, что на другой работе все по-другому), на году стократно спрашивала сослуживцев не сократят ли ее. Сокращать ее никто не собирался, все успокаивали ее, но она подозревала, что это ее только успокаивают. Сабелька стала прекращать покупки, даже покупки мороженого и прочих развлекательных продуктов. Она стала совершать накопления в сберегательной кассе — а вдруг все же сократят? За множество лет у Сабельки накопилось множество денег. Иван Иванович, тихий кассир в алюминиевых очках, каждый месяц напоминал Сабельке, принимая деньги, акцентируя: — Итак пожэнимся? Было вынесено решение пожениться, когда Сабелька выйдет на пенсию. Так решила она, а он только сутулил армянские глаза, пошевеливал, как пальцами, толстыми ресницами. Это лето выдало только четыре теплых дня (каких уж там теплых — тепловатых!), промозглое лето, промерзали даже в свитерах. В это лето умирали блокадники. Инфаркты, последствия дистрофии, неврозы — блокадники умирали мгновенно и мирно. В это лето умерла и Сабелька. Она не дотянула до пенсии 11 дней. Все уже поздравляли ее с пенсией. Все уже поздравляли Ивана Ивановича с «пожэнимся». Все мужчины завода ходили, печально покачивая когда-то срубленными головами. Все знали о Сабелькиных накоплениях и хотели похоронить ее торжественно как заслуженную производственницу. — Много денег, — сказал Иван Иванович, — много, как тридцать две получки, но — деньги аннулированы. Ее хоронили скромно, одни женщины да Иван Иванович. После похорон пошли в «Мороженое». Мраморные столики, юнцы, сиреневое дневное освещение, шампанское, — поэтому женщины грустили в меру. Ведь не было еще такого человека в мире, который бы в свое время не умер. Женщины позванивали рюмками, по языку проскальзывали маленькие ледяные глоточки шампанского. Женщины разрумянились! Табельщица подсчитала, что не была в «Мороженом» четыре года — последний раз была с дочкой, другие женщины тоже подсчитали, но делали вид, что не подсчитывали. А Иван Иванович только сутулил армянские глаза да пошевеливал, как пальцами, толстыми ресницами. Когда они вышли из «Мороженого», шел грибной дождь. Небо вдвигало между домами стеклянные граненые доски дождя! Обструганные голубые доски! стеклянные гвоздики дождинок цокали по лакированным кузовам транспорта! — Июльская, — сказал Иван Иванович, — июльская погода… Он сказал это так, как говорят в таких случаях.Червячок
Завод обладал аллеей. Аллея обладала Деревьями. Деревья произрастали вертикально вверх и обладали ветвями. Направление ветвей было горизонтальным и непараллельным, но ветви не пересекались: их укорачивали весной. Ветки обладали черенками, черенки — листьями. Только червячок не обладал ничем. Он пробирался по листьям, как маленький трактор немо и питался. Червячок жаждал славы. А как известно — кто жаждет славы, тот жаждет власти, кто жаждет власти, тот жаждет лести, и т. д., и т. д., и т. п. Надо признать, червячок жаждал изрядно. Для начала червячок решил увеличить размеры своего роста. Это ему удалось. И вот уже не червячок, а гигантская змея громоздилась на дереве, гигантская змея, чуть потоньше ствола дерева, а дерево стало гнуться и скрипеть. Змея произносила язвительные, звонкие фразы, грозные команды! Повара преподносили змее неисчислимые количества высококалорийной пищи. Пожарная команда прохлаждала змею из брандспойтов! Конструкторское бюро вычерчивало на асфальте возле дерева овальные и ломаные фигуры! Инженерно-технические работники исполняли песни о Родине! Как раз в этот момент по аллее вышагивал сталевар Дюк. Он вышагивал, скрежеща брезентовой одеждой, алое лицо его над брезентовыми плечами сияло, как самородок! Дюк ошибался: его лицо не было вправе сиять, как ничье лицо, кроме лица змеи! Змея изогнула чудовищное туловище, и, хлестнув обоюдоострым наконечником хвоста по кольцу планеты Сатурн, низринулась на возмутительную алую лысину Дюка! Сталевар взял червяка двумя пальцами, большим и указательным. Этими двумя пальцами, при желании, сталевар Дюк мог раздавить Искусственный Спутник Земли, уж не говоря о животных. Но Дюк поплевал на червяка по закадычной рыбачьей привычке и водрузил кишечно-полосатое на дерево. — Какой маленький червяк, — размышлял Дюк, — не свыше сантиметра… Дюк ошибался. Длина червяка равнялась: одному сантиметру и пяти миллиметрам, а к осени червячок должен был удлиниться еще на три миллиметра.1 мая 1963 года
У него походка царя. Он вынимает папиросу, как шпагу. Он зажигает спичку как факел. Его лицо ало, словно на лицо наложен слой губной помады. На щеках — вертикальные скорбные щели — зияют морщины. В результате двадцатилетней работы на мартене образовалось у него такое лицо. Его портреты находятся на всех Почетных Досках державы. Сталевар Дюк ненавидит свои портреты, как старый добрый зверь ненавидит свое отражение в зеркале. Сегодня, 1 мая 1963 года в 9 час. 15 мин. Дюк выпил бутылку портвейна «Ркацители». В половине десятого Дюк выпил пол-литра «Столичной» на двоих. Что-то между половиной десятого и одиннадцатого Дюк выпил бутылку вина то ли 0,5 л, то ли 0,75 л. Дюк пребывал как раз в таком состоянии, когда поднимаются буйные силы. Сегодня, 1 мая 1963 года на главной улице Дюк увидел свой портрет. Отглянцованный фото-витязь ретушированным взором взирал на демонстрантов, в зрачках его мерцало рационализаторское предложение. Дюк вышел из ряда сталеваров. Из ряда вон выходящий Дюк приблизился к портрету и в одну секунду растерзал отглянцованного производственника на столько кусочков, что — воскресни прославленный математик Лобачевский, не сумел бы подсчитать на сколько. Четыре милиционера синих, как синие моря, отвели сталевара в отделение. Они предъявили ему следующие обоснованные претензии и обвинения: — Алкоголик! — Хулиганствующий элемент! — Нарушитель общественного порядка! — Тунеядец! 8 натренированных серьезных рук загнули правую руку сталевара к правой лопатке. И тогда Дюк поднял кулак. Он поднял кулак той, левой руки, которую не сумели загнуть одновременно с правой. Этим кулаком, при желании, Дюк мог разбомбить город с населением в 3 миллиона жителей, уж не говоря о работниках милиции. Как раз в этот момент в отделение вошел младший лейтенант Кутузов. Так состоялась эта встреча. Кутузов и Дюк взяли друг друга за руки и заплакали. Милиционеры, изумленные, отделились от пола, поплавали по отделению и улизнули на улицу. Кутузов набрал номер. — Понятно? — продиктовал он жене. Дюк просиял: девятнадцатилетний чекист Кутузов разъяснял красноармейцам великолепье Мировой Революции. — Понятно? — приказывал Кутузов. — Понятно! — клокотали красноармейцы. Позднее, лет через десять, и Дюк, и Кутузов занимали мирные должности, такие высокие в государстве, выше которых существовало не так-то уж и много должностей. Еще позднее Дюк уяснил, что ему, в прошлом подручному сталевара, несподручна руководящая должность. Появились молодые люди с глубоким пониманием слов. Прикажут им одно слово — понимают, противоположное — понимают. Так и не достиг Дюк взаимопонимания с этими людьми. — Познакомься. Это мой сын. Молодой специалист Валерий Пепин, — сказал Кутузов. Дюк разглядывал жену Кутузова, тощую, но нарумяненную, представляя себе вафлю, разрисованную красным карандашом. Дюк звонил ей три раза: в 38 году, через год после ареста Кутузова (у Кутузова было два импортных костюма — немецкий и английский, так и арестовали его, как агента англо-германской разведки), в 42 году, в 49 году. В 53 году, когда Кутузова освободили, Дюк позвонил тоже, но забыл имя жены, и через два гудка повесил трубку. Так и повесил трубку на десять лет. Кутузов погладил жену по волосам. Она возмутилась: — Ну, чего гладишь! И так волос нет! Жена пила кубинский ром. Кутузов пил «Боржоми». Дюк пил водку. Дюк перебирал имена, подходящие для жены Кутузова. Выпил и молодой специалист Пепин. Это был четвертый стакан водки за весь двадцатисемилетний период его существования. Валерик захмелел. Он задрыгал волосиками, замахал пальчиками, что всегда являлось у него первым признаком потребности обличать. В голубых глазах Пепина появилось выражение массового героизма. — Ты трус, Дюк! — восклицал Пепин. — Почему для папы произошел 37 год, а для тебя — не произошел? Дюк беседовал с женой Кутузова, избегая называть ее по имени. — А в 38 году ты вышла замуж? — Валерику было два годика. А деятель Пепин — вне подозрений. — Значит, вы получили неподозрительную фамилию. Жена пила ром. Кутузов пил «Боржоми». Дюк пил водку. — Ты трус, Дюк! — восклицал Пепин. — Ты все ЗНАЛ И МОЛЧАЛ! Ты не поднял голос протеста! А в 42 году ты опять вышла замуж? — монотонно беседовал Дюк. — Вышла! Пепина убили. Валерик — дистрофик. Подохли бы! Кутузов разрезал розовую пластинку семги. Нож проскальзывал по поверхности рыбы, не разрезая. Эти столовые ножи всегда не отточены. — Я подсчитал, — Кутузов елозил ножом по семге, — я подсчитал, — за 27 лет ты сварил столько стали, что если перевести на кашу, ее хватит, чтобы накормить один раз все население земного шара. Пепин разрыдался. Слезы соскальзывали с его приподнятого носа, как лыжники с трамплина. — Ты трус, Дюк! Мы призовем тебя к ответственности! Тебя необходимо обличить на собрании. Дюк много выпил. Он уснул, положив голову на сдвинутые кулаки. Над столом сияла только половина его лица, как половина алого заходящего солнца.Зеркало
В раздевалке отсутствовало зеркало, поэтому все мечтали о нем. Деньги собирали девять раз, но каждый раз выходило как раз на пол-литра. Подручный сталевара Витька Кардемский, или Винтик, или граф Кардемский, абсолютный чемпион по незаметному пронесению водки на завод, девять раз организовывал пол-литра. Худо было без большого зеркала. Причесывались на ощупь, вызванные к начальству не могли мгновенно сориентировать выражение глаз, так и направлялись к начальству с приблизительным выражением. Сталевар Дюк принес квадратный предмет, обернутый калькой, квадратный, выгнутый предмет, размером примерно метр на метр. Дюк улыбался провокационно, провоцируя на улыбки окружающую среду. За две минуты до обеденного перерыва Дюк заулыбался загадочно, а когда обеденный перерыв начался, заменил серию провокационных и загадочных улыбок единой, торжественной. Эта улыбка охватила бригаду Дюка, распространилась даже на лица стропалей и крановщиц, всеобъемлющая торжественная улыбка озарила все лица, когда Дюк развернул кальку. Выгнутое зеркало, размером примерно метр на метр увеличивало изображение в 10 раз! Зеркало вызвало: всеобщее изумление, всеобщее наслаждение, всеобщую заинтересованность. Дюк обмакивал прокипяченную сардельку в горчицу, алая лысина его лоснилась ликующе! После обеденного перерыва отношение к зеркалу видоизменилось. — Возмущаюсь! — воскликнул молодой специалист Пепин. Перед сменой он побрился. Он удовлетворенно ощупывал щеки, от щек веяло прохладой, как от полированного металла. Четыре часа назад Пепин побрился, а в этом зеркале на лице торчали крупные, красные отрезки волос! Крановщицы выражали недовольство. При электрическом освещении вообще-то все женщины юны и симпатичны, а в этом зеркале на лицах женщин проявилась резкая сеть морщин, склеротические прожилки, припудренные тщательно. На лицах литейщиков обнаружились крапинки металла, вгрызшиеся в кожу, участки гари, вообще-то никогда не отмывающиеся. Одна уборщица Кулиш, поворачивая сына перед зеркалом, уютно улыбалась, напевая обрадованно: — В этом зеркале тебе не годик, а целых девять лет. Вот и вырастила! Вот и вырастила! После обеденного перерыва отношение к Дюку изменилось. Еще все улыбались, но уже по инерции, уже с враждебным оттенком. Странное выражение лица появилось у Дюка. Никто не понял выражение лица сталевара, потому что за последние двадцать семь лет никто не наблюдал у Дюка такое выражение. Одни решили, что Дюк — плачет. Другие — что приходит в состояние бешенства. Пока приводили мнения к единому, Дюк завернул зеркало в кальку и унес. Назавтра Дюк принес 27 маленьких зеркалец, 27 — по числу переодевающихся. Такие зеркальца носят солдаты и студентки из городов районного значения. Дюк вручил пакет Кардемскому, проворчав: — Одари. Литейщики встретили Кардемского возгласами одобрения. Они скоростными методами приспособили зеркальца внутри шкафчиков для переодевания. — Эх, вы! — обвинял товарищей Кардемский. Обидно ему было, паскудно, заплакать ему хотелось, кулаки поднять! — Эх, вы! — обвинял Винтик. Дюк считал, что обвинять никого нет необходимости. Именно практичнее, удобнее, привычнее именно маленькие немудреные зеркальца.Валерий Пепин
— Если ты не оставишь следа в жизни, то оставишь хоть след на стене, — сталевар Дюк наблюдал, как молодой специалист Пепин красит мартен. Зачем он красил мартен? У Дюка размножились клопы. Порошки не помогали. Клопы пожирали порошки, как пирожки с повидлом. К Дюку заявился литературовед. Он бил фразами в сталевара, будто бил в литавры. Он праздновал победу в борьбе с поэмой о Дюке. После ухода литературоведа клопы подохли. Они падали на пол, как зрелые вишни. Зачем люди, прирожденное значение которых борьба с клопами, борются с поэмами? Зачем Пепин красил раскаленный мартен? Он исчерпал краску. — Краску разыскать нетрудно, — заулыбался Дюк. Когда Дюк улыбался, выражение лица его ничем не отличалось от выражения лица грабителя. Несправедливо распределены лица. Такое бы лицо начальнику отдела снабжения в день присвоения им годовых премий. Краску разыскать нетрудно. Чтобы разыскать на заводе 2–3 гайки, 2—3 дня курсируй от управления по снабжению к складам. Отдел снабжения получал премию примерно. Маляр Турлиев — законченная задушевность — раздавал краску всем приходящим. Идиллия длилась около года, пока дирекция не пригрозила Турлиеву судом. За хищение. Второй месяц маляр витал по управлениям, вымаливая краску. Второй месяц маляр выполнял план на 0,4 %, исхудав на 40 %. Но и вымолив краску, Турлиев раздавал ее. Обнаглели. Стали записываться к Турлиеву на очередь за краской. В агонии отчаянья Турлиев придумал хитроумный ход. Он женился. И принял фамилию — Турлаев. — Вы Турлиев? Жизнеутверждающе вопросил Пепин, разворачивая ведро как знамя. — Кто сказал? — безразлично возразил маляр. — Турлиев! Известно! — кокетливо передернул плечиком Пепин. Тогда Турлиев распеленал паспорт. Он до-олго проделывал это. На новеньком паспорте профессиональным чертежным почерком выведено: Т-У-Р-Л-А-Е-В. Турлаев исследователя взором вонзился в небо. — А-а-а… — сказал Пепин. Жена приняла фамилию Пепина. Она приняла Пепина в свою комнату. Валерик не предпринимал действий в деле строительства домашнего хозяйства. Он занимался полезной деятельностью. Ему предполагали общественное будущее. Он говорил на собраниях. Он говорил до того правильные и честные слова, что слушать его — было больно. Он командировался — делиться опытом и распространять знания. Возвращаясь из командировок, он замечал, что голос у жены — манерничающий, что веки жена опускает лживо, кивает, не вникая в его дивные отчеты о командировках. Он смущенно подозревал кое-что. И раздражался. Жена, замечая раздражение, улыбалась Пепину влюбленно и злобно. И курила, опуская веки — лживо. И говорила, что она — женщина ищущая. Мечтательница. Но все это он замечал только в моменты приездов. Ежедневное сосуществование с женой смывало прежние впечатления, все представлялось искренним, а себя Валерик — обличал. Как-то по возвращению Пепина раздосадовал эпизод: его жена лежала с незнакомым человеком в очках. Раздетые. — Чем вы занимаетесь? — поинтересовался Пепин. — Поем. Подходя, не прослушивал Пепин и намеков на мелодии. Пепин ценил правду. — Не верю! — заорал он печально. — Разве сегодня праздник песни? Разве поют раздетые? — Это да — мы раздетые, — признался очкарик, — но поймите и нас… Пепин понял кое-что. Пепин размышлял о поступке Турлиева-Турлаева. Недопустимый поступок. Изменять свою фамилию можно ли? Тогда надо заново начинать общественное будущее! Жена спала. На столе, прислоненная к пепельнице, стояла записка: — Я люблю тебя, Валерочка! — Такие записки жена оставляла, когда ложилась пьяная. — Зато моя жизнь состоит из полезной деятельности, — гордо успокаивался Пепин, снимая костюм и надевая пижаму. А жизнь Пепина состояла из переодеваний. Утром он снимал пижаму и надевал кальсоны и нижнюю рубашку, он надевал повседневный костюм и туфли, предназначенные для хожденья на работу. Придя на работу, он снимал повседневный костюм и туфли и надевал рабочий комбинезон и ботинки. Восходя на мартен, поверх рабочего костюма он надевал брезентовую робу и войлочную шляпу. Закончив работу, он снимал брезентовую робу и войлочную шляпу и надевал повседневный костюм и туфли. Приходя домой, он снимал повседневный костюм и туфли и надевал хороший костюм и хорошие туфли и галстук, в которых делился опытом и распространял знания. Наделившись и распространив, приходя домой, он снимал хороший костюм, хорошие туфли и галстук и надевал спортивный костюм и тапки — поразмяться гантелями. Поразмявшись гантелями, он снимал спортивный костюм и тапки и надевал домашнюю куртку, брюки и туфли. И читал в таком виде художественную литературу и чистил зубы. Готовясь ко сну, он снимал кальсоны и нижнюю рубашку и надевал просторную черно-белую пижаму и, как добросовестный черно-белый шлагбаум, опускался в постель.Звезды
Звезды мерцали, как мерцает марганец, если осветить его спичкой. Сквозь проломы крыш мерцали звезды, малиновые, как марганец, мартен трудился и гудел, как миллион пчел. Сталевар Дюк и подручные подбрасывали в мартен химикаты. Железные лопаты лязгали! Они змеились, как железные знамена! Уже согнали сталевары четыреста потов. Уже подсохла брезентовая одежда. На дымном брезенте хрустела соль. Кристаллы. Шла небывалая плавка. Директор завода собственными ногами прибыл в цех. Длина территории завода равнялась 800 м. Директор завода ездил по цехам на машине. Один раз в год собственными ногами прибыл директор. Беловолосый, с элегантным позвоночником, с очаровательным носом цапли, директор собственноручно похлопывал всех по плечам. Умный, он вынашивал под своим пернатым челом целые связки ключей и отмычек от сердец рабочего класса. — Ребята! — продекламировал директор. — Не Москва ль за нами? — подхватил Витька Кардемский. Расширил директор улыбку, не замечая иронии. Он-то знал, за кем Москва. Кому необходимы в министерстве выдающиеся руководители предприятий. — Перевыполним план! — призывал директор. — Победит в соревновании наш Ленинград! — Ленинград — город-герой! — Оживленно выкрикнул слесарь-электромонтажник Андрей Гагарин и повел свою бригаду прочь. Гагарин был из другого цеха и вообще мало дисциплинированный бригадир. — Перевыполнение плана! — призывал директор. — Этот символ приобретает звучание песни! Убежден, что мы споем эту песню! — Это была песня, древняя, как «Шумел камыш». Она состояла из четырех куплетов. Первый куплет: перевыполним план. Второй куплет: два-три месяца платили чуть ли не двойные оклады. За перевыполнение. Третий куплет: директора переводили в министерство. Четвертый: перевыполненный план становился просто планом, и — вкалывали! вкалывали! — чтобы дотянуть до обыкновенного оклада. Литейщики выжидающе смотрели на Дюка. Директор смотрел на Дюка маленькими, но правдивыми глазами и доверительно сообщал: — Мы перегоним… широким шагом… Радость Труда… Все наилучшие слова сообщал директор, проникновенно улыбаясь. — Я — верю! — призывал директор. Ты веришь, ты, Дюк? — Излишние вопросы. Директор верил. Директор улыбался. Дюк верил. Дюк улыбался. За 27 лет работы 17-ый директор сообщал Дюку эти слова. Перед уходом в министерство. Дюк обучился так непреклонно верить, что на подобном этапе выжимал из директоров все невероятное. Не требовал Дюк. Он предлагал. Выдать литейщикам новую одежду. И обеспечить мартен оборудованием. Выдавали. Даже рукавицы. Обеспечивали. Дюк предлагал непреклонно. Обеспечить всю бригаду жилой площадью. По 15 лет литейщики стояли на очереди за жильем, а на подобном этапе получали комнаты в течение недели. — Если вы не согласны перевыполнять, — разъяснял директор, — заставлять не будем. Не будут. Снизят расценки, и треть зарплаты запоет песню о ветре. Директор дошел до точки. Точнее до точки зрения. Его сравнения стали эпичны. Он привил себе точку зрения, выращивая ее, как мичуринец необходимый саженец. Чтобы попасть в «самую точку», то есть туда, куда директору необходимо было попасть, выращивать необходимую точку зрения директору было — необходимо. — Перевыполним… я — верю… радость труда… Он стоял, как цапля, на одной ноге, нацелив клюв в одну точку — в точку зрения!.. ______ А звезды мерцали, как марганец! Миллионы малиновых звезд! Мерцали вновь проломы в крыше цеха — недвижимое имущество печи. На звезды падал отсвет мартена, и с нашей точки зрения звезды стали малиновыми. И не мерцали звезды, а расточали рваное пламя! И не были звезды недвижны. Они наращивали мускулы, рожали, разгоняясь по орбитам, с орбит рушась!Хроника Ладоги
І «Когда от грохота над морем…»
Когда от грохота над морем бледнеют пальцы и лицо, греби, товарищ! в мире молний необходимо быть гребцом. Из очарованных песчинок надежный не забрезжит мыс, знай: над разнузданной пучиной надежды — нет, и — не молись. Не убедить молитвой море, не выйти из воды сухим, греби, товарищ! в мире молний бесстрашный труженик стихий.II Поет первый петух
И древний диск луны потух. И дискантом поет петух. Петух — восточный барабан, иерихонская труба. Я знаю: Когда от грохота над мореммедленен и нем рассвет маячит в тишине, большие контуры поэм, я знаю: в нем, а не во мне. Я — лишь фонарик на корме, я — моментальный инструмент… Но раз рассвет — не на беду поет космический петух. Петух с навозом заодно клюет жемчужное зерно. В огромном мире, как в порту, корабль зари — поет петух!III Проба пера
Художник пробовал перо, как часовой границы — пломбу, как птица южная — полет… А я твердил тебе: не пробуй. Избавь себя от «завершенья сюжетов», «поисков себя», избавь себя от совершенства, от братьев почерка — избавь. Художник пробовал… как плач новорожденный, тренер — бицепс, как пробует топор палач и револьвер самоубийца. А я твердил тебе: осмелься не пробовать, взглянуть в глаза неотвратимому возмездью за словоблудье, славу, за уставы, идолопоклонство усидчивым карандашам… А требовалось так немного: всего-то навсего — дышать.IV Возмездье
И сегодня: в миниатюрный мир, где паркет обстоятельно наманикюрен, обои — абстрактны, а небо выбелено, как бумага, а под небом витает сова — оперенный большой абажур, и очи совы безразличны, в вашу комнату, где она: спящая птица с загорелым на Юге крылом, а конец у крыла пятипал, он лежит под щекой, и вздыхает щека над черно-белыми снами; а второе крыло распрямлено, и мизинец крыла поцарапывает одеяло, где она: Спящая Красавица, где ты: Сказочная Стража, Семь Братьев, (один «ты» репетирует шариковый карандаш, а шарик — не абсолютный шар, он приплюснут на полюсах от репетиций, как портативный Земной Шар; второй «ты» прикуривает сигарету, для него нехарактерно прикуривать от элементарной спички: он зажег злоязычную спичку, потом аккуратно зажег фотопленку и прикуривает от фотопленки; третий «ты» наблюдает, как пылают узкие листья газа, и на фоне пыланья — эмалированный контур кастрюли, в которой: в результате проникновенья молекул воды и пара в молекулы кипящей капусты, перловой крупы и бараньей ноги с мозговой костью образуется новый химический элемент — несправедливо им пренебрег Менделеев — щи с бараниной; остальные четверо «ты» рядышком, как высоковольтные воробьи обсуждают международную ситуацию Кипра, и что Яшин — такой же фатальный вратарь, как Ботвиник — чемпион мира по шахматам; и еще Семь Братьев попивают портвейн из красных бутылок, приподнимая бутылки, как пионерские горны, этот фокус еще называют «делать горниста»); в общем: в комнате вашей царит современность и внутренний мир — преобладает, а ты — художник с отредактированными очами (лишь на донышке честных очей — две-три чаинки иронии), а ты — в сомнамбулической стадии «творческого процесса» испещряешь страницы злободневными фразами изъявительного наклонения, а страницы — немы, потому что на самом деле ты — спишь, а страницы не осуществлены, как вырезанные, но не вставленные в окна стекла (а за стеклами окон — окончательно черное небо, в нем ни щели, ни иголочного прокола, окончательно черное небо с еще более черными кляксами туч и ломаными линиями молний, числом — без числа, а за стеклами окон — пять рыбаков, пять брезентовых многоугольных фигур на границе воды и суши, поджимая студеные, посинелые губы, — их лица небриты, на каждом не сбритом волоске лица капелька пота, — пять брезентовых рыбаков, манипулируя волосатыми, сверкающими руками промывают соляркой мотор; их лица не предвещают улыбок; и сегодня в вашу комнату, где она и где ты, погрузилась внезапно одна из утренних молний; и никто не подумал, что молния — аллегорична, ибо знали два века — это явление природы; может быть, перепутала молния вашу комнату и моторную лодку с рыбаками, обезумевшими от героизма? (о не смейся, не смейся — смеется последний); так погрузилась она, представительница мира молний, и конструкция вашего мира распалась, как стихотворенье, из которого вынули первую строчку; лишь мерцал треугольный кусочек выбеленного неба, он, кусочек, упал на кучу навоза, на кучу, которую вы из отглянцованного окна демонстративно не замечали, однако она существовала, невзирая на ваши усложненные, катастрофические переживанья, и на куче навоза два петуха, разодетые в перья первомайского неба, два петуха лихорадочно но и — величаво сражались: тот, кто победит, извлечет жемчужину из пучины навоза; и мычали, мычали коровы в хлевах, а, по-утреннему неодетые люди закрывали марлей открытые на ночь окна, и пастух Костылев (пьяный, но не настолько, чтобы не осознавать свой долг перед народом) и пастух очень сдержанно (мужественно) матерился; это был очень старый пастух Костылев, он прошел Революцию, войны: Гражданскую и с 41-ого по 45-ый и к коровам своим возвратился, окончательно облагородив призванье; жил он в скудном жилище, хранил устав строевой и гарнизонной службы, по субботам ездил за водкой за 22 километра на велосипеде; деревня кормила его «чередой»: в каждом доме однажды в квартал он обедал; слушай: да не минуют нас беды, да не минует нас мир, наименованный «мир молний», конструкция ваша распалась, убежали Семь напуганных Братьев, их пятки сверкали, как фонарики пограничной охраны, слушай и просыпайся, отвлекись на секунду от своих отредактированных сновидений: пять рыбаков промывают соляркой мотор, мычат худые коровы, пьяный пастух матерится, а над зеленой землей, пропитанной миллионами молний, вырисовываются березы, их стебли сиреневаты, а над зеленой землей раздается большое дыханье животного мира!) Слушай! Это с сосулек вдруг побледневшего неба Вдруг соскользнули первые капли, величиной с туловище человека. Это падают с неба глаголы, пылая, как металлические метеоры. Это поют петухи замерзающими голосами. Если первый петух пропоет, и ты не проснешься, Если второй петух пропоет, и ты не проснешься, Если третий петух пропоет, и ты не проснешься, — Ты не проснешься уже. Это — возмездье, художник. Ты, презиравший прогнозы вечного неба, Вообразил: умно-лавируя в мире молний, Вообразил: подменяя слова предисловьем, Вообразил: до беспредельности допустимо существовать, не пылая — Фосфоресцируя время от времени в мире молний?V Каталог дня
1
Над Ладогой на длинном стебле расцветает солнце. Озеро не ораторствует, оно только цитирует маленькие волны одни похожи на маленькие купола, другие — на маленькие колокола. На берегу валуны сверкают, как маяки. Тюлени плавают в недрах влаги, торпедируя сети: они отъедают головы сладким сигам, а туловища оставляют. Иногда эта операция увенчивается триумфом тюленей, иногда результаты ее плачевны: рыбаки вынимают тюленей одновременно с рыбой.2
На девяносто четвертом году декан исторического факультета Иван Матвеевич Скрябин удалился на пенсию (догадался!). Его жена-полиглот Нина Ильинична своеобразно внимала соображениям мужа. Муж соображая: — Ты провела минуты молодости в этой деревне. Я проштудировал материалы: деревня приличная, три исторических памятника, представляющих плюс к исторической и культурную ценность. Но Нина Ильинична своеобразно воспринимала глаголы декана. Минуты молодости! Первый муж Нины Ильиничны прошел две фазы творческого развития в этой деревне: офицер белой гвардии, — до Революции, сторож церкви — позднее. Он был расстрелян в 30-м году, как фальшивомонетчик. Нина Ильинична узнала об этом после расстрела. С испугу она убежала в город и выучилась на полиглота. А опасения Нины Ильиничны были неблагоразумны: в деревне старухи поумирали, а старики — подавно. Ее никто не помнил. Декан и его жена-полиглот были банальны, как все деканы и все полиглоты. Они рассуждали на двадцати четырех языках Европы и Азии, двадцать четыре часа в сутки, произнося по двадцать четыре слова в двадцать четвертой степени в час. Они приобрели бревенчатый домик и привезли из Ленинграда кота. Кота звали Маймун. Его не кастрировали, ибо этот процесс оскорбителен для животного мира. Но… три года юноша-кот не знал кошек. Три года Маймун подозревал о существовании кошек и безрезультатно молился кошачьим богам, чтобы они предоставили случай, оправдывающий подозрения Маймуна. И когда на бледные окна кухни наползали большие и теплые капли апреля, кот зверел от желаний. Он отказывался посещать коробку с песком, окропляя демонстративно туфли хозяев — туфли ночные, туфли вечерние и повседневные туфли. — Хилый комнатный кот! — отзывался декан исторического факультета. Поселившись в деревне, супруги не понимали, зачем они поселились в деревне: осуществлять обеспеченную старость или оберегать кота от посягательств действительности, не отпуская кота ни на секунду. И однажды: Маймун, пронырнув подвальное помещение, очень медленно вышел на улицу и — осмотрелся. Хилый комнатный кот за четыре часа приключений растерзал: шестерых деревенских котов, четырех деревенских собак, девять куриц и уток. Он уже приглянул и быка, но велик и угрюм, точно викинг, был бык-производитель, и Маймун справедливо решил обождать с порабощеньем быка. Возмущенные женщины и рыбаки оккупировали бревенчатый домик. Страшный кот был загнан в подвальное помещение. Но отныне Маймун маршировал по помещению, как шерстяной маршал. Деревенские кошки, пронюхав о легендарной отваге кота из большого промышленного центра, посещали Маймуна поодиночке. Они не рассказывали деревенским котам о черной, как у черного лебедя перья, — шерсти Маймуна, о белых, как у белого лебедя перья, — усах Маймуна.3
По Староладожскому каналу происходил сенокос. Колокольчики — маленькие поднебесные люстры — излучали оттенки неба. Скакали кузнечики. Величиной и звучаньем они приближались к секундам. Ползали пчелы — миниатюрные зебры на крыльях. На васильки жар возлагал дрему. Лютики созерцали сенокос, и не моргали их ослепительно-желтые очи. Бледноволосые женщины травы июля свергали. В медленном небе сверкали, как белые молнии, косы. Отчаливали возы, груженые сеном. (Каждый воз — тридцать пудов сеноизмещеньем). Клава, единственная портниха деревни, положила косу и раздраженно пробормотала неопределенно-личную фразу. Она отработала нормы совхоза. Она не имела — единственная в деревне — собственной коровы, косить на продажу — единственная в деревне — она не желала. Она положила косу и поковыляла в деревню. Это сомнительное состояние портнихи заканчивалось невеселым: она напивалась. Клавдия шила великолепно и много, а с позапрошлой весны шила меньше и аляповато. Так, позабывшись, или с похмелья Клавдия сшила бабам деревни сугубо мужские брюки с ширинкой. Все хохотали, но брюки носили. — А-я-яй! — покачал поросячьим лицом Шлепаков, накосивший уже девятнадцать возов на продажу. Вот что, покачивая поросячьим лицом, рассказывал Шлепаков: — Это было в начале девятьсот сорок третьего года. Я служил шофером на «Дороге Жизни». Я человек скромный, однако опасности мы хлебнули. Потом я попал в одну пулеметную роту с Клавой. Я человек скромный, однако имеет место существование факта: я был первым пулеметчиком; в газетах писали, что я — образец пулеметчика на Ленинградском фронте. Клава была второй пулеметчицей, да и беременная. Мы обороняли энную высоту. Надвигались фашистские танки. Все погибли, проявив, разумеется, героизм. Остались: я — раненый и Клава — беременная. Я приказал ей: — Беги, у тебя ребенок. Она убежала, потом родила, иначе погибли бы оба. Мне присвоили званье и орден. Вы уж извините мои неделикатные впечатленья моем героическом прошлом. — Вот что, покачивая поросячьим соболезнующим лицом рассказывал Шлепаков, а вот что было на самом деле. Во время блокады они колдовали с кладовщиком на продовольственном складе в Кобоне: где-то выискивали денатурат и вечерами «хлебали опасность». Потом Шлепаков попал в одну пулеметную роту с Клавой. Она — пулеметчицей. Он — хлеборезом. Они обороняли высоту № 2464. Шли танки, они переныривали пригорки, как бронированные кашалоты. Семь пулеметных расчетов погибло. Шлепаков блевал от страха, прильнув поросячьим лицом к ответвленью окопа. Но уразумев, что семь пулеметных расчетов погибло, Шлепаков улизнул, и, прострелив себе несколько ребер, он, окровавленный, с изнемогающим взглядом был подобран санитарной овчаркой. Через десять минут после его исчезновенья Клавдия родила и попала в плен. Через четверо суток ее освободили советские части. Ребенка отправили в детский дом, а мать — на пять лет в лагеря за то, что попала в плен. Шлепаков получил медаль «За отвагу». Знали: не бедно живет Шлепаков, бригадир рыболовецкой артели. (Он прибеднялся богато. В зимнее время, на райге рыбак зарабатывает по двести рублей за несколько суток). Знали: женился сержант на девице с поросячьим лицом и у них родились с поросячьими лицами дети. Знали: дом у него двухэтажный, огромный чердак, а также подвальное помещенье, то есть фактически — дом четырехэтажный. И на всех четырех этажах мебель наполнена тканями, мясом и овощами. Прошлой зимой Шлепаков приобрел фортепьяно. (Не замечали, чтоб в этой семье композиторы вырастали. Дочь в магазине работала, масло и хлеб распределяя по собственной инициативе. Кроме растительного масла, хлеба, галош, баклажанной икры да — изредка — керосина, — в том магазине ни при каких обстоятельствах прочих продуктов не наблюдали. Сын устроился егерем. По фантастически малопонятным причинам, но с детективно таинственным видом, егерь снимал с охотников штрафы и его еще благодарили). Так и не выучился Шлепаков езде на велосипеде, но водил неразлучный велосипед на поводке, как эрдельтерьера.4
Это — империя Куликова. Белые льдины горизонтальны и вертикальны. Деревянные ящики в капельках пота, как охлажденные бутылки. В ящиках — судаки заиндевели. И Куликов — император с алым лицом индюка — заиндевел. Он возвратился из концлагерей. Весил он 47 килограммов. Был он встречен: женой, мужем жены — ветеринаром, матерью, научившей невестку жизни в разлуке, и ребенком (не Куликова и не ветеринара). В общем, это была многообещающая встреча. Куликов ушел из деревни. Он проковылял три километра и упал, обессилев. Он был вылечен ветеринаром. Жена снова стала учительницей. Жили они молчаливо и вяло. Он весил уже 92 килограмма, заведовал рыбным складом и восемнадцать лет собирал свидетельские материалы, чтобы оформить развод.5
— Это же историческая необходимость, извините, я хотел произнести: это же историческая ценность! Это же монумент страны, отголосков минувшего нашей державы! — Скрябин еще издавал разносторонние восклицанья, поочередно приподнимая одну и другую руку, как юнга, сигналящий флажками. Он кричал, и усы его шевелились, как щели связанных бревен. Он кричал на человека, уже пожилого. Это был наилучший рыбак из наилучших рыбаков Ладоги. Это был Крупнянский. Крупнянский отколупывал рыбьи чешуйки от штанин из брезента вечнозеленым ногтем с черным ободком и курил папиросу «Звездочка» и, прищурив ресницы, маленькие, как рыльца растений, повторял монотонно, как неисправимый школьник: — Ну, и что? — Как: «ну, и что» — взвивался декан. — Согласись и признайся: твое поведенье преступно. — Ну, и что? — «Ну, и что», «ну, и что» — все выше взвивался декан исторического факультета. И казалось: еще несколько раз услышит декан «ну, и что» — он взовьется уже окончательно, будет парить, белоусый орел, удаляясь кругами в глубины прекрасного летнего неба. — Уразумевай, — внушал декан рыбаку, — дом, который ты изуродовал лишними окнами, внеисторической крышей и отвратительным хлевом — это ДОМИК ПЕТРА! Это РЕЛИКВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ! Это Петр основал вашу деревню. Это Петр, ваш канал прорывая, израсходовал собственную физическую энергию, чтобы: Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе! — И запируем! — неожиданно оживленно согласился Крупнянский. Он вынул из брезентовой штанины бутылку «Старки», из другой штанины он вынул: кусок хлеба, две горсти гусиных шкварок и «маленькую» Московскую. — И запируем на просторе! — заулыбался рыбак, продолжая обстоятельную беседу. Рыбак пировал, И Скрябин — диетик, ухватив десятью великолепно умытыми пальцами оба уса, выслушивал рыбака: то сочувственно, то окрыленно. И когда: опустошенная «маленькая» полетела в канал, посвистывая, наподобие чайки, и поплыла по каналу, как гадкий утенок — вот что рассказал Крупнянский (они сидели на лавке, прибитой к пристани двумя гвоздями-гигантами. Мимо них проплывали моторные лодки, груженые сеном, похожие на ежей палеолита, и нежно-зелеными иглами сена и тресты. Мимо них пробегали собаки, не лая, почему-то все красно-желтого цвета, как лисы. Мимо них пролетали стрекозы, и крылья их были невидимы, только узкое туловище и вертящаяся, как пропеллер, головка),6
вот что рассказал Крупнянский. Это было, когда император вдоль свежевырытого канала возле каждой деревни построил казармы из камня и каменные мосты. Это было, когда пастух Андрей Лебедь появился в деревне на удивительно целой телеге, запряженной откормленными на удивленье бесчисленными лошадьми. Это было, когда населенье деревни — раскольники и рыбаки и женщины раскольников и рыбаков, — сгруппировались вокруг удивительно целой телеги, а пастух откинул рогожу: телега была полна золотых монет и слитков. Онемела деревня. Костлявый, как дерево, Лебедь, и четыре костлявых его лебединых брата построили церковь. Они объясняли: построили церковь во искупленье грехов населенья деревни. У населенья деревни действительно существовали грехи. Но и телега монет и слитков наводила на замечательные, но и странные размышления. Но рассказ о следующих событьях. Это было, когда в деревне жил мужик — Федот Шевардин. Жил он в бане. Батрачил. На зиму сушил себе рыбу и лук. Он всю зиму питался рыбой и луком и пел одинокие песни. И в особо морозные ночи из трубы вместо домашнего дыма поднимались к чугунному зимнему небу его одинокие песни. — Это — волки! — пугались раскольники и рыбаки. Ухватив топоры, молотки и нововведенные пилы, они выбегали в нагольных тулупах за границы деревни. Этим временем волки тихонечко перегрызали телятам и бедным баранам дыхательные пути. Этим временем девки тихонечко прибегали к Федоту. Они приносили кто: пару поленьев, кто: хлеба, кто: несколько свежих яиц, кто и: мяса. Они оставляли продукты, но сами не оставались. Вернее, они изъявляли желанье остаться, но батрак Шевардин очень вежливо их выпроваживал, объясняя, что он — обручен, а невеста будет в обиде. Все говорили: батрак — дурак. А батрак был мечтатель. Был он так одинок, что с тоски вырезал из кореньев фигуры, и даже скульптурную группу деревни вырезал из кореньев, и — умилялись, узнавая себя и соседа и даже собаку попа. Жила у Федота Шевардина лягушка. Она сидела на табурете в позе собаки. Она обращала к входящим прекрасные очи собаки. — Что ты нянчишься с этой тварью! — распоясался староста Пилигрим, — Времена легенд миновали! Не будет лягушка Царевной! Шевардин молчал. Шевардин возражать начальству стеснялся. Пилигрим подготовил уже поразительную матерщину, он приподнял язык… но увидев прекрасные очи лягушки, наполненные большими слезами обиды, почему-то язык опустил, сплюнул, и плевок попал на тулуп, он мерцал, замерзая. Пилигрим побежал по сугробам к жене и обильно плевался: бороду заплевал, и усы, и тулуп, и к жене прибежал, весь оплеванный и в оплеванном состоянии духа. Так семнадцать лет жил Шевардин с лягушкой. На семнадцатый год в установленный час прибыл Петр. Был он деятелен, повелевал, ел хлеб-соль, поощрял любознательных девок. Император фигурой и усом был похож на кота в сапогах, а лицом на сову. Вся деревня, не без юмора подстерегавшая превращенья лягушки в царевну, повела повелевающего Петра в баню. В установленный час лягушка сбросила шкуру. Как и предполагал Шевардин, она превратилась в царевну. Это было так обыкновенно, что никто не подумал упиться. Только долго потом уясняли это событье. А уяснять было нечего. Час настал — и лягушка стала царевной. И смешно и нелепо приписывать это естественное событие индивидуальным причинам. Так постигло несчастье: царя (царь обязан, как царь, жениться на единственной в государстве царевне), Шевардина (невозможно сожительство батрака и царицы), лягушку (по законам империй императрице — разделять с императором ложе и трон). Даже в наисказочнейшей ситуации не могло произойти более нелепого финала.7
— Что же дальше? — сказал опечаленный Скрябин, сопровождая полет опустошенной «Старки» образным выраженьем: бутылка летит, кувыркаясь, как поросенок, маленький и молочный и с узеньким рыльцем. Пробегали желто-красные звери, не лая, но не без интереса обнюхивали карманы. — Дальше? — подумал Крупнянский, доедая гусиные шарики. Он уразумел, что так ничего и не уразумел декан исторического факультета. Приподнялся Крупнянский, брезентовый гений, зашагал понемножку. Он шагал понемножку, а матерился помногу. — Ну, а бот великого Петра? Куда вы задевали бот? — обличал Крупнянского Скрябин. Но слова пролетали мимо знаменитого рыбака, как беззвучные пули, и улетали куда-то, вероятно, на лоно разнообразных пейзажей июля. — Черт вас возьми! — выражался Крупнянский, прибавляя к этим, в общем-то миролюбивым словам, другие. Рассказать бы декану, эвакуированное возвращенье жены и четырех дочерей. Домик Петра — вот и все, что сохранилось в деревне, и мы поселились. Чуть попоздней прискакал на «козле» товарищ из центра. Он убежденно и убедительно призывал к организации рыболовецкой бригады. Бот императора — все, что сохранилось от рыболовецкого флота. А товарищ приказывал немедленные результаты улова. Он для примера сам погрузился в бот императора. Мы умоляли его отказаться от экстренного эксперимента. Он стремительно повел бот в озеро. Он утонул, невзирая на всю свою убедительность и убежденность. Он утонул и утопил бот. Ибо на Ладоге были бронтиды, и никому не дано плавать в период бронтидов.8
Дети постарше играли в футбол возле церкви. Дети поменьше играли в развалинах церкви. Не было у детей определенной игры: бег, восклицанья, дразнилки. Странно: века вековала нетронутой церковь. Службы служили, звонницы звон выполняли. Артиллерийский обстрел, авиационные бомбы все миновало церковь Андрея Лебедя. Церковь погибла от молний 9 мая 1945 года. Сгорела. Вживе остался только кирпичный каркас. Ладан сгорел, хоругви, алтарь, стихари, колокола, чаши, церковные облаченья, также сгорел распятый Христос, вырезанный из меди, но не сгорело распятье. А было оно деревянным. Поп, не сгоревший, как и кирпичный каркас, ежевечерне, пока не ополоумел, в церкви молился перед обугленным пятиметровым распятьем. До волосинки сгорел Иисус, вырезанный из меди, но контур его сохранился. Так и молился поп контуру Иисуса.9
Маленький катер волок полтора километра бревен со скоростью двух километров в час по Новоладожскому каналу. Комары, как автоматчики, оцепили пристань. Красно-желтые псы виляли, не лая. Населенье деревни сгруппировалось на пристани. Кое-кто выражал свои мнения, но не для аудитории, а для соседа. Все ожидали теплоход (Новая Ладога — Ленинград) или как его романтически именовали: КОРАБЛЬ. Женщины вынули самые красные платья. Мужчины сменили резиновые сапоги на брезентовые полуботинки. Царила мечтательная, эпическая атмосфера. И корабль подошел. Пришвартовался. Он дрожал, как пес из породы гончих. Капитан манипулировал картофельным носом. Он произносил в рупор слова повелительного наклоненья. Слова раздавались на пять километров в диаметре. Но рупор был выключен. Две студенточки сельскохозяйственного института (на практике) в одинаковых голубеньких брючках с декоративной дикцией произносили имена существительные, не склоняя: — Ресторан «Астория» Крейсер «Аврора» «Эрмитаж» ресторан «Нева» «Дом Кино» ленинградское отделение союза советских писателей, с декоративной дикцией, как два Лермонтовых, вздыхая о прошлом, они называли легендарные места Ленинграда, где как раз никогда не бывали. Корабль подождал две минуты. И отчалил. Все друг другу взаимно кивали: персонал корабля и населенье деревни. И все это происходило по вечерам, три раза в неделю. И это событие обсуждалось по вечерам три раза в неделю с неослабевающим интересом. Ранфиусовы — Шура и пять ее сыновей (Ранфиусов-отец зарабатывал детям на воспитанье на Братской ГЭС) веселились, наблюдая, как старший скакал на мизерном двухколесном велосипедике, заломив колени над рамой, как межконтинентальный кузнечик. Все ушли. Только двое сидели на параллельных перилах. Изгибы их спин выражали противоположное настроение. Это были Нонна и милиционер. Нонна, дочь попадьи и попа (попадья поколебала обильем плодов и ягод курс ленинградских базаров. Поп играл на гитаре в однозвучном оркестре клуба). Нонна закончила школу с серебряною медалью. И попадья заявляла соседям: — Нонна невинна, как агнец из «Откровения Богослова». Вот результаты внешкольного воспитанья. — В месяце мае демобилизовался сержант музыкального взвода — медный мундир, мелодично пострижен. Так, увлеченная монологом сержанта о филигранных созвучиях флейты и бедной струне балалайки, в двух километрах от внешкольного воспитанья, Нонна забеременела. Нонну немедленно выдали замуж за местного милиционера. Нынче они проводили сержанта. Медный мундир заменил чугунный пиджак. На вечереющей палубе корабля таял пиджак, как чаинка печали. Нонна была безразлична. Милиционер — ревновал. А из какой-то избы раздавался богатый физкультурными и спортивными эмоциями голос Озерова: — Вчера, в пятом туре международного товарищеского матча шахматистов Советского Союза и Югославии, пятую победу, на этот раз над Матуловичем, одержал Тайманов. Успешно сыграл и Корчной, принудивший к сдаче Ивкова. Советская команда уверенно ведет матч.10
Только никто не увидел (кто увидел — не обратил вниманья), как восемнадцать часов оккупировали деревню, как наводили часы тишину и разожгли восемнадцать сторожевых костров-невидимок. Это часы доили коров, придерживая за костяные короны. Это часы обогащали клубни и злаки, это часы поворачивали то один, то другой выключатель. Это часы около бани кололи лучину. Это они, восемнадцать часов, колебали младенческие коляски. Это уже, озаренное озеро переплывая, салютовал девятнадцатый час, и ногти его поблескивали, как линзы биноклей. Это уже за каналом маячил двадцатый. А был он художник. Он, современность перебирая, превозмогал помарки. Медленно двигалась стрелка пера по циферблату бумаги.VI «Белый вечер, белый вечер…»
Белый вечер, белый вечер Колоски зарниц. Не кузнечик, а — бубенчик надо мной звенит. Белый вечер, белый вечер. Блеяние стад. И заборы, будто свечи бледные стоят. Прошумят березы скорбно, выразят печаль, процитируют: о, скоро твой последний час. Не приобрету в дорогу ни мечей, ни чаш. Не заполучу надежды годовщин и книг. Выну белые одежды и надену их. Белый вечер, белый вечер. Колоски зарниц. И кузнечик, как бубенчик, надо мной звенит.VII Муравьиная тропа
И ты, муравей, ищешь искренний выход, ты, внук муравья, ты, муж муравьихи. Тропой муравьиной в рабочей рубашке направился в суд, а по телу — мурашки. Суд мира животных и мира растений тебя — к оправданию или к расстрелу? И скажут: — Другие — погибли в лавинах, а ты? Ты всю жизнь шел тропой муравьиной. — Да, шел муравьиной, — скажи (обойдется!). Все шли муравьиной, — скажи убежденно. — Нет, — скажут, — не все. Подойдите поближе. Вот списки других, к сожаленью, погибших. — Но, — вывернешь оторопелые очи, — я шел муравьиной, но все же не волчьей. И скажут: — Волнуешься? Ты — неповинен. А все-таки шел ты тропой муравьиной. Ты выйдешь, в подробности не вдаваясь, пойдешь по тропе муравьиной, зевая, все больше и больше недоумевая, зачем тебя все-таки вызывали?VIII Вечерний звон
Над Ладогой вечерний звон, перемещенье водных глыб, бездонное свеченье волн, космические блики рыб. У туч прозрачный облик скал, под ними — солнечна кайма. Вне звона различимо, как гудит комар! Гудит комар! Мои уключины — аккорд железа и весла — меча. Плыву и слушаю — какой вечерний звон! Вечерний час! Озерной влаги виражи и музыкальная капель… Чего желать? Я жил, как жил. Я плыл, как плыл. Я пел, как пел. И не приобретал синиц, небесных журавлей — не знал. Анафема различных лиц смешна, а слава — не нужна. Не нужен юг чужих держав, когда на ветках в форме цифр, как слезы светлые дрожат слегка пернатые птенцы, когда над Ладогой лучи многообразны, как Сибирь, когда над Родиной звучит вечерний звон моей судьбы.IX Легенда
Легенду, которую мне рассказали, веками рассказывают русалки, хвостами-кострами русалки мерцают, их серьги позванивают бубенцами. Наследницы слез и последних лишений вставали над озером в белых одеждах, наследницы слез и последних лишений: все женщины чаще, а девушки — реже. Хвостами-кострами русалки мерцали, их серьги позванивали бубенцами. Их озеро требовало пополненья: пришло и последнее поколенье. Различия — те же, причины — как прежде, лишь — девушки чаще, а женщины — реже. Немые русалки плывут по каналам и рыбье бессмертье свое проклинают… _____ Художник, не надо к бессмертью стремиться, русалкой струиться, легендой срамиться. Художник, бессмысленны вечные вещи, разгул публикаций, огул одобрений, коль каждая капля слезы человечьей страшнее твоих трагедийных творений.Волки
Охотничьим чутьем влекомы, не опасайтесь опоздать: еще не скованы оковы, чтоб нашу ярость обуздать. Не сконструированы ямы, капканы жадности и лжи. Ясна, как небо, наша ярость на ярмарке под кличкой «жизнь». Псы — ваши! Псов — и унижайте! Псам — ваши задницы лизать! Вы псами нас? — Уничтожайте! Но мы — владыки во лесах! Законы злобы — ваши! Ладно! Вам — наплевать? Нам — наплевать! Но только… ранить нас не надо. Стреляй! Но целься — наповал! Не бей наполовину волка — уйдет до сумерек стеречь — и — зуб за зуб! За око око! И — кровь за кровь! И — смерть за смерть!Зимняя дорога
Зимняя сказка! Склянки сосулек как лягушата в молочных сосудах. Время! Деревья торчат грифелями. Грустный кустарник реет граблями. А над дорогой — зимней струною — звонкое солнце, ибо стальное. И, ослепленная красотою, птица — аскет, ворона — заморыш капельки снега носит в гнездовье, белые капли влаги замерзшей.«Празднуем прекрасный вечер…»
Празднуем прекрасный вечер с электрической свечой, с элегичностью зловещей… Почему молчит сверчок? Свежей песней не сверкает? Страхи не свергает? Наши гости приуныли, будто провинились. Мы «Столичную», пельмени, помидоры и балык пользуем попеременно… Пальцы у девиц белы. Варимся — вороны в супе… А сверчок не существует. Ни в камине. Ни в помине. И ни по какой причине.Землекопы
Где солнце роняет моркови, антенны шумят — ковыли, в траншеях стоят землекопы, зеленые ногти в крови. И дышат костлявые спины. Беззвучны глаза голытьбы. Планируют низко над глиной лопаты слоновые лбы. Над ними начальник лампадой пылает и ловит момент, чтоб дать нам большие лопаты — тебе и, любимая, мне. Интеллектуальные рыбы, приступим в четыре крыла к работе. Но сколько б ни рыли, земля неизменно кругла. И небо мое неизменно, и звонкая зона зари. И будет большое возмездье за ваше плебейство, цари.Начало ночи
Над Ладогой пылала мгла, и, следовательно — алела. Зима наглела, как могла: ей вся вселенная — арена. И избы иней оросил. (Их охраняли кобелями.) И ворон, воин-сарацин, чернел, налево ковыляя. И кроме — не было ворон. С ним некому — в соревнованье. Настольной лампочки лимон зелено-бел. Он созревает. И скрылся ворон… На шабаш шагала ночь в глубоком гриме. Искрился только карандаш, не целиком, а только грифель.ТЕМЫ 1965
«Твой страх постыден в день суда…»
Твой страх постыден в день суда. Оставим судьям страх. А я — что я? Не сострадай, несчастная, сестра. Их жизнь — похлебка, труд и кнут, их зрелища манят, они двуногий свой уют распяли — не меня. Я не искал ни сильных сект, ни всесторонних благ. Моя Голгофа выше всех народных масс была. Сестра! Не плачь и не взыщи. Не сострадай, моя. Глумятся надо мной — молчи, внимательно молясь. Но ты мои не променяй сомнения и сны. Ты сказку, сказку про меня, ты сказку сочини.Баллада Оскара Уайльда
Не в алом, атласном плаще, с алмазной пряжкой на плече, костляв, как тауэрский нож, он пьян и ранен был, когда в нечаянную ночь любимую убил. Над Лондоном луна-монокль, а Лондон подо льдом. Летает рыба надо мной вся в нимбе золотом, Летает рыба. Клюв, как шпиль, мигает на мильоны миль. Ты, рыба, отложи яйцо. Яйцо изымет лорд. Он с государственным лицом детеныша убьет. Для комплекса добра и зла, мой сэр, еще сыра земля. Мы знаем этот шар земной, сие жемчужное зерно, где маразматики семьи блудливы, но без сил, где каждый человек земли любимую убил… На нас начальник налетал. Он бил бичом и наблюдал, чтоб узник вежливо дышал, как на приеме принц, чтоб ни луча, ни мятежа, ни человечьих лиц. В наш административный ад и ты упал, Уайльд. Где Дориан? Где твой прогноз — брильянтовый уют? Вон уголовник произнес: — И этого убьют. Ты был, как все мы, за ключом, в кассеты камня заключен, кандальной речью замелькал когда-то дамский шаг, как мы, ты загнанно мигал, как мы, еще дышал. Актер! Коралловый король! Играй игрушечную роль! На нарах ублажай и зли библейских блох, Уайльд. Ведь каждый человек земли Уайльдов убивал. Не государство и не век, не полицейский идеал, а каждый честный человек Уайльдов убивал. Кто мало-мальски, но маляр, читал художнику мораль. А твой герой и не поэт. Он в кепи для игры в крокет. Он кегли, клавиши любил, бильярдный изумруд… Как все, любимую убил, и вот его убьют. Ведь каждый в мире, кто любил, любимую убил. Убил банальностью холуй, волшебник — салом свеч, трус для убийства поцелуй придумал, смелый — меч. Один так мало пел «люблю», другой так много — хоть в петлю, один с идеями связал убийство (эра, гнет), один убьет, а сам в слезах, другой — и не вздохнет. Один — за нищенский матрас, другой — за денежный маразм… Убийцы, старцы и юнцы — ваш нож! без лишних льгот! Ведь остывают мертвецы безвредно и легко. Над мертвецами нет суда, не имут сраму и стыда, у них на горле нет петли, овчарок на стенах, параши в камере, поли- ции в бесцельных снах. Им не осмысливать лимит мерзавцев, названных людьми (один — бандит, другой — слюнтяй, четвертый — негр параш), они следят, следят, следят, — и не молись, не плачь. Нам не убить себя. Следят священник и мильон солдат, Шериф, тяжелый, как бульдог, и нелюдимый без вина, и Губернатор-демагог с ботинками слона. Не суетиться мертвецам — у Стикса медленно мерцать, им не напяливать белье, белье под цвет совы, не наблюдать, как мы блюем у виселиц своих. Нас, как на бойню бедных кляч, ведет на виселицу врач, висят врачебные часы — паук на волоске, пульсируют его часы, как ужас на виске. Идут часы моей судьбы над Лондоном слепым. Не поджидаю день за днем ни оргий, ни огней. Уж полночь близится давно, а гения все нет. Что гений мне? Что я ему? О, уйма гениев! Уму над бардаком не засверкать снежинкой серебра, будь гениальнее стократ сам — самого себя! Ты сказку, сказку береги, ни бесу, ни себе не лги, ни бесу, ни себе не верь, не рыцарствуй на час, когда твою откроет дверь определенный час. Он примет формулу твою: — Чем заняты Вы, сэр? — Творю. По сумме знаний он — лицей, по авантюрам — твой собрат, как будто бы в одном лице Юл Бриннер и Сократ. Он в комнату мою проник, проникновенный мой двойник. Он держит плащ наперевес, как денди дамское манто… Но ты меня наперерез не жди, мой матадор. Я был быком, мой верный враг, был матадором, потому свой белый лист, как белый флаг, уже не подниму. А в вашем вежливом бою с державной ерундой один сдается, — говорю, — не бык — так матадор. Ваш бой — на зрительную кровь, на множественную любовь, ваш бой — вабанками мелькнуть на несколько минут. Мой бой — до дыбы, до одежд смертельно-белых, напролом, без оглушительных надежд, с единой — на перо. Уходит час… Идут часы… моей судьбы мои чтецы. Уходит час, и в череде, пока сияет свет, час каждый — чудо из чудес, легенда из легенд! Но вот войдут червивый Врач и премированный Палач. Врач констатирует теперь возможности связать меня… Втолкнут за войлочную дверь и свяжут в три ремня.Февраль
1
Февраль. Морозы обобщают деянья дум своих и драм. Не лая, бегает овчарка по фетровым снегам двора. Дитя в малиновых рейтузах из снега лепит корабли. Как маленькое заратустро оно с овчаркой говорит. Снега звучат определенно — снежинка «ми», снежинка «ля»… Февраль. Порхают почтальоны на бледных крыльях февраля. И каждый глаз у них, как глобус, и адресованы умы. На бледных крылышках микробы, смешные птицы! птичий мир! А вечерами над снегами с похмелья на чужом пиру плывет иголочкой в стакане веселый нищий по двору. Он принц принципиальных пьяниц, ему — венец из ценных роз! Куда плывешь, венецианец в гондолах собственных галош? Ты знаешь край, где маки, розы, где апельсины, в гамаке где обольстительны матроны? Он знает — это в кабаке.2
Какая Феникс улетела? Какой воробыш прилетел? Какой чернилам вес удельный? Какой пергаменту предел? Достать чернил и веселиться у фортепьяновых костей. Еще прекрасна Василиса, еще бессмертен царь Кощей. Пора, перо, большая лошадь, перпетуум мобиле, Бальзак! Облитый горечью и злостью, куда его бросать? в бардак? — Бумага мига или века? Не все одно тебе, мой маг? Колен не преклоняй, калека, пред графоманией бумаг. Художник дышит млечным снегом. Снег графомана — нафталин. Как очи миллиона негров, в ночи пылают фонари.3
Без денег, как бездельник Ниццы, без одеяний, как любовь, на дне двора веселый нищий читал поэзию Ли Бо. Факир премудрого Китая, по перламутровым снегам он ехал, пьяный, на кентавре в свой соловьиный, сложный сад. А сад был вылеплен из снега, имел традиции свои: над садом мраморная нега, в саду снежинки-соловьи. Те птицы лепетали: — Спите, мудрец с малиновой душой, четыре маленькие спички — ваш сад расплавится, дружок, А утром, как обычно, утром, трудящиеся шли на труд. Они под мусорною урной нашли закоченелый труп. Пооскорблялись. Поскорбели. Никто не знал. Никто не знал: он, не доживший до апреля, апрелей ваших не желал. Вокруг него немели люди, меняли, бились в стенку лбом. Он жил в саду своих иллюзий и соловьев твоих, Ли Бо.4
По телефону обещаю знакомым дамам дирижабли. По вечерам обогащаю поэзию родной державы. Потом придет моя Марина, мы выпьем медное вино из простоквашного кувшина и выкинем кувшин в окно. Куку, кувшин! Плыви по клумбам сугробов, ангел и пилот! В моем отечестве подлунном что не порхает, то плывет! Моим славянам льготна легкость — обогащать! обобществлять! — В моем полете чувство локтя дай, боже, не осуществлять. Один погиб в самумах санкций, того закабалил кабак… Куда плывете вы, писатель, какие слезы на губах?Парус
1
Латинский парус! На Восток я пилотирую мой парус. Все, что не парус, — только торг, где драгоценности — стеклярус. Латинский парус! Боже мой: по белым клавишам — ногами! — блуждают женщины зимой, влажны их губы и вульгарны. Я ждал тебя, как месяц март, когда все брезжит, не смеркаясь… Плыви, мой парус, мой мираж, в пучине скальпелем сверкая. Плыви, цветок весенней мглы! (О, ботанические грезы!) Под снегом дерева белы, любое дерево — береза. Сибирь! Я твой вассал, Восток! Я твой Жерар Филипп из Пармы! Мой полотняный лепесток, мой белокаменный, мой парус!2
Аудитория — огул угодливых холу́ев Хама. Аудитория — аул татар, в котором нету храма, где одинаково собак и львов богами назначают. Аудитория — судьба, моя судьба, мое несчастье. В аудиториях — в аду, (ад продан по абонементам!) я провоцирую орду на юмор и аплодисменты. На сцене струйкою стою… Мои глаголы награждает неандертальский лай старух и малолетних негодяев. Я суб- лимирую обман, я соб- людаю ритуалы! Лишь парус мой, как барабан, там, за кулисами, рыдает…3
Не дай мне бог сиять везде до дней последних донца. Дай мне сиять на высоте, не превращаясь в солнце. Дай между небом и землей не выйти на орбиту. А если доброе — во зло, а за добро — обиду, за всю мою большую скорбь дай мне во всем сиянье непредусмотренный восход, или солнцестоянье. Не дай весны на полюсах, и да не предварятся бесчисленные паруса — мои протуберанцы.4
Латинский парус! Ни души в твоем, мятежник, океане. А надо жить. И надо жить, надежды в бездну окуная. В сомнамбулическом пылу сомнений, оглянись, художник: где океан? Болотный пруд, насыщенный трудом удобным. Тебе — безлюдье, ты — табу. В существованье нашем нищем ты ищешь рубежей? ты бурь в болоте инфузорий ищешь? Твой парус! Что ты знал о нем? В существованье нищем нашем, в гниенье медленном амеб твой парус сказочен и страшен.Цыгане
1
По бессарабии двора цыгане вечные кочуют. Они сегодня — та-ра-ра — у нас нечаянно ночуют. Шатров у них в помине нет. Костры у них малы, как свечи. Они укладывают в снег детей на войлочные вещи. Где гам? Элегии фанфар? Легенды? Молнии? Ва-банки? Одна семья. Один фонарь. И, как фанерная, собака. На дне стеклянной темноты лежит Земфира и не дышит. С кем вы, принцесса нищеты, лежите? Вас Алеко ищет. Ему ни драки, ни вина. Он констатирует уныло: — Моя Земфира неверна ввиду того, что изменила. Кукуй, Алеко, не кукуй, а так-то, этаким манером, а изменила на снегу с неглупым милиционером. Ты их тихонечко нашел, под шубой оба полуголы, — ты не жонглировал ножом, ты их сердца сжигал глаголом! Ты объективно объяснил, ты деликатен был без лести, Земфиру ты не обвинил, милиционер рыдал, как лебедь.2
По бессарабии двора цыгане и не кочевали. Потомки Будды, или Ра, они у нас не ночевали. Наш двор, как двор, как дважды два — полуподвальные пенаты, а на дворе у нас трава, а на траве дрова, понятно. Мы исполнительно живем, и результат — не жизнь, а праздник! Живем себе и хлеб жуем. Прекрасно все. И мы — прекрасны! Мы все трудящиеся львы. Одни цыгане — тунеядцы. Идеология любви, естественно, им непонятна. Земфира, ты — Наполеон, с рапирой через мост Аркольский! В тебя любой из нас влюблен — и человек, и алкоголик. Но мы чужих не грабим губ, нам труд и подвиг — долей львиной! Мы не изменим на снегу себе, отечеству, любимой! А тот милиционер, а тот милиционер тот знаменитый, он — аномалия. И то — он изменил, но извинился.3
Играй, гитара! Пой, цыган! Журчите, струны, как цикады! Все наши женщины — обман. Их поцелуи — как цитаты. Они участвуют всерьез в строительстве семей, все меньше цыганских глаз, цыганских слез, цыганской музыки и женщин. И я один. В моей груди звучат цыганские молитвы. Да семиструнные дожди дрожат за окнами моими.Фауст и Венера
Имеет место мнение
о вырождении
малых народностей.
Как будто мозг и мускулы
людей делятся
на народности.
1. Отрывок из письма
Сосед мой был похож на Лондон. Туманен… Чем-то знаменит… Он ехал малую народность собой (великим!) заменить. Он что-то каркал о лекарствах, о совещаньях, овощах. Итак, луч света в темном царстве прибудет царство освещать. Я слушал, как сосед пророчил, не сомневаясь ни на волос, что в паспорте его бессрочном в графе национальность: сволочь. — Так, — думал я, вдыхая ровно и выдыхая дым в окно. — Так. Есть великие народы и малые. Гигант и гном. Вон оно что! Гном — вырожденец от должности отставлен трезво. Гигант же с целью возрожденья направлен. Ах, как интересно! Светало. Солнечное тело взошло малиновым оленем. И я решил на эту тему пофантазировать маленько.2. Фауст
Огонь — малиновым оленем! Сидел саами у костра. Саами думал так: — О, время!.. Он, в общем, время укорял. Сидел саами. Был он худ. Варил он верную уху. И ухудшалось настроенье! Саами думал: — Не везет саамским нашим населеньям. Мы вырождаемся, и все. Ему хотелось выражаться невыразимыми словами, а приходилось вырождаться. Что и проделывал саами. Снежинка молниею белой влетела в чум. И очумела! — И превратилась в каплю снега, поздней — в обыденную каплю! И кто-то каркал, каркал с неба! Наверняка не ворон каркал. Сидел саами — сам, как вечность. Его бессмысленная внешность была курноса, косоглаза, кавычки — брови и кадык. Зубами разве что не лязгал за неименьем таковых. Вокруг брезентового чума бродили пни, малы, как пони. И до чего ж удачно, чутко дудел медведь на саксофоне! И пожилая дщерь саами тянула песенный мотив…Песня, которая называется
«О настойчивости»
Тянул медведя зверолов огромного, как мост, тянул медведя зверолов сто сорок лет за хвост. Тянул медведя и тянул и обессилел весь. До хижины он дотянул, глядит: а где медведь? Медведя нет. У старых стен лежит медвежья тень. Но зверолов был парень-гвоздь! Породистый в кости! Медведя нового за хвост он цепко ухватил. Упрямо пролагая след, он тянет девяносто лет! Он тянет ночь. Он тянет день. Он исхудал, как смерть. Он снова, снова тянет тень, а думает — медведь!3. Венера
Замолкла песня. Отзвенела аккордеоновым аккордом. Тогда-то в чум вошла Венера, как и должна богиня — гордо. Она была гола, как лоб младенца, не пронзенный грустью. Она сияла тяжело не модной и не русской грудью. Она была бела, как бивень, чернели кудри, как бемоли. А бедра голубые были, как штиль на Средиземном море. А чтобы дело шло вернее, она сказала: — Я — Венера. Сказал саами: — Вы, навроде, навроде, рано вы разделись… Вам, верно, нужен венеролог, а я — саами… вырожденец. Венера развернула тело к огню — удачными местами. И поцелуй запечатлела в студеные уста саами. Саами вмиг омолодился и сердце молодо зашлось, и стало в чуме мало дыма, и электричество зажглось! Через неделю — много-много детей запрыгало по чуму. Хоть стало в чуме малость мокро, зато — о, возрождение — чудно! Младенцы, как протуберанцы пылают! Лопают моржами! Младенцы — вегетарианцы растут, и крепнут, и мужают! Еще неделя — и на лодке моторной плавают, как в люльке. ______ О, возрожденные народы, вам не нарадуются люди!4
Но я увлекся рисованьем сюжета, чуть не позабыв, как пожилая дочь саами тянула песенный мотив.Песня, которая называется
«Не пой»
На Севере, на Севере, а это далеко, развеселились семеро красивых рыбаков. У них к веселым песенкам был редкостный талант. Ах, песенки! Ах, пеночки! Невыполненный план! Их увлекала музыка, а не улов сельдей. От Мурманска до Мурманска ходили по семь дней. Они ходили без руля. Один из них — грузин свой нос, как руль, употреблял, в пучину погрузив! Они придумали уже такие паруса! свои четырнадцать ушей на мачту привязав! Морские волки! Демоны! Греми, гармошка — грусть! И прыгали все девочки, как брызги, к ним на грудь! На Севере, на Севере, а это далеко, пошли ко дну на сейнере пошли ко дну все семеро красивых рыбаков. Когда красавцы выплыли, — похоронил их порт… Вывод: пока ты план не выполнил — не пой!Фонтан слез
Бахчисарай! Твой храбрый хан в одно мгновенье обесценил монеты римлян и армян и инструменты Авиценны, он прибивал славян к столбу гвоздями белыми Дамаска. Отнюдь не мнительный Стамбул молился узкоглазой маске. Бахчисарай! Твой хан Гирей коварно и кроваво правил. Менял внимательно гарем и слезы на металлы плавил. Все — мало. Только власть любил. Всех юношей страны для страху убить задумал и убил; оставив евнухов и стражу. Под ритуальный лай муллы взлетали сабли ястребами, мигала кровь, как солнце мглы; младенцев сабли истребляли. Прошло еще двенадцать зим. Двенадцать лун ушло в преданье. Хан постарел. Татарский Крым жирел оружьем и плодами. Мурзы облюбовали быт. Чиновники чины ловили. Рабы работали; рабы обычай и бичи любили. Прошло еще немало зла… Хан правил пир в стеклянных залах, и к хану женщина пришла; она пришла и так сказала: — Тебя никто не мог любить. А я одна тебя любила. А нужно было бы убить. Прости меня, что не убила. Повелевал ты, но — Аллах! — легко повелевать слезами. Я много лет таила страх; Я умираю, и сказала. Она была бела, как бред, как струйка бедная. Не знали ни имени ее, ни лет; ее в гареме не назвали. Сам хан лекарствами поил. Мурзы мигали: не возможно! старик наложницу любил, которую не знал на ложе. Она в субботу умерла. Приплыл ясак. Носили яства. Неслось на яликах «ура!» Задумчив был Гирей и ясен. Он слуг судил — не осудил. (Молчали эшафоты Крыма.) Наложниц не освободил, но и не пользовался ими. Он совершил обряды сам, сам в саван завернул, шатаясь, надгробный камень сам тесал; тесал, а евнухи шептались. Он положил под камень клад, и не было богаче клада, он вырезал на камне глаз, и слезы падали из глаза. Аллах, — сказал он, — больше звезд в моей судьбе уже не светит. Да буду я фонтаном слез! — Да будешь! — так Аллах ответил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Когда узнал Бахчисарай, татары мысли развивали, к утру утих собачий лай, все очаги разогревали. Торговец стриг своих овец. У тиглей хлопотал кузнец. Жемчуголов ловил свой перл. Рабы свою баржу смолили. Лишь муэдзин молитву пел и поздравлял татар с молитвой.Два стихотворения в Михайловском
1 «Где готические ели…»
Где готические ели, цепи храбрые хвои, путешествуют по елям дятлы в мантиях Востока. Там живут живые шишки в деревянных париках, размышляет о дожде белый гриб-Сократ. Саблезубые собаки бегают и лают, поднимаются у зайцев царские усы. По холмам — холодным храмам, как монахини, вороны механические ходят и вздыхают… И когда замерзла клюква, и тогда взлетели листья. О, Летучие Голландцы! распугали птиц. Разворачивают парус журавли — матросы неба, улетают, улетают на воздушных кораблях.2. Пушкин в Михайловском
Улетели птицы и листья. Небеса — водяные знаки. По стеклянной теплице ходит цапля в белом, как дева в белом. Однозвучен огонь. Мигают многоглазые канделябры. Ты один. В деревянном доме деревянная тишина. Улетели пчелы и утки. В небесах невидимки-бесы. А вчера уползли улитки в сердцевину земного шара. Ты один в деревянном мире. Черной молнией по бумаге пробегает перо воронье, и чернеют черновики. Пчелы в ульях, улитки в недрах. И у птиц опадают крылья. Перелетные птицы, где вы? Опустели улицы неба. За стеклянной решеткой ходит цапля в белых, как бал, одеждах, чертит клювом на мглистых стеклах водяные знаки свои.Фрагменты
Уснули улицы — кварталы столичной службы и труда. Скульптуры конные — кентавры, и воздух в звездах, как вода. И воздух в звездах, и скульптуры абстрактных маршалов, матрон. И человек с лицом Сатурна спит на решетке у метро. На узких улицах монахи в туннелях из машин снуют. На малолюдном Монпарнасе нам мандарины продают. Стоит Бальзак на расстоянье (не мрамор, — а мечта и мощь!). Все восемь тысяч ресторанов обслуживают нашу ночь. На площади Пигаль салоны: там страсти тайные, и там… А птицы падают, как слезы, на Нотр-Дам, на Нотр-Дам!Куда ведете вы меня, Вергилий.
(Данте) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я не кричал ни «СОС», ни «МАМА»! Судьба судьбой — сама собой. Я — заблудился. На Монмартре белел чудовищный собор, слепая ваза византийства (кто им Париж короновал?), как белый ворон, как вития, мои молитвы колдовал не мой собор. Меня мутило (мир — в электрическом огне!). Куда вели меня, мой тихий? Вы знаете язык. — Я — нем! Я нем, как номер на витрине, а на Монмартре их — мильон! Куда вели меня, Вергилий? В какой Париж? В бреду моем кто мне забрезжит? Где вы, спутник? Вергилий в Лувре. Он без сил. Он перед истинным искусством устало трогает усы. Туристы — статуи валькирий — на цыпочках шли на Монмартр… Я видел — вы ушли, Вергилий, большой и пасмурный, в туман… И выбегали манекены. О рукоплещущий гарем! О элегантные макеты с телами нежными, как крем! У этих дам краснели губы смородиною сентября, торжественно звучали зубы, как клавиши из серебра! И обнимали на Монмартре меня за ум и за талант. Но холодны, как минералы, наманикюрены тела. Соборы — кактусы в саванне, за стеклами машин — собаки… Где люди? Где живые? Где вы? Но у людей свои уделы. Но у людей свои надежды, свои де Голли, свой ажан, свои и оды и одежды, и все — свое! И я бежал! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И я бежал, как тень машины, по циклопической стене. Салоны музыкой манили, мигая на одной струне. Мигали улицы — могилы (фонарь карманный нес ажан!). Молясь иогам и богиням, я, как сомнамбула, бежал! Очнулся где? Где очутился? Любимая, чего достиг? До смерти мне шага четыре, а до тебя мне не дойти! …Дом Радио. — Бежишь? Боишься? — Не страх, не страх в моей душе. — Дом этот — камертон Парижа, конструкция его ушей! — Я не боюсь, что я подслушан, поставят в минус или в плюс, дышу похуже ли, получше, и ничего я не боюсь: ни смерти, ни бессмертной славы, — за ОСТАЛЬНЫХ боюсь… Скорей! Дом Инвалидов в лунах слабых и, наконец, отель «Кере». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вбежал! Гарсон готов к поклону. В мундире неба он. Уют. Вергилий мой ходил по холлу, Вергилий жаждал интервью, он был с магнитофоном тайным, он бледен был, сказал в упор: — О, Господи! Да вы не Данте! Да вы двойник Эдгара По! Смеялись. Но изнеможенье прошло. Смеялся. А потом, не сделав лишнего движенья, я только застегнул пальто. И вышел (воздух был — как уксус! луна — как жерло! я — сипай!) в безлюдные туннели улиц. И пересек бульвар Распай.Леонид Мартынов в Париже
Вы видели Мартынова в Париже? Мемориальны голуби бульваров: сиреневые луковицы неба на лапках нарисованных бегут. Париж сопротивляется модерну. Монахини в отелях антикварных читают антикварные молитвы. Их лица забинтованы до глаз. Вы видели Мартынова в Париже? Мартынов запрокидывал лицо. Я знаю: вырезал краснодеревщик его лицо, и волосы, и пальцы. О как летали золотые листья! Они летали хором с голубями. Они, как уши мамонтов, летали, отлитые из золота пружины. Какие развлеченья нам сулили! Какие результаты конференций! Видения вандомские Парижа! А он в Париже камни собирал. Спиной к Парижу, к Эйфелевой башне, он собирал загадочные кремни. Он говорил загадочные фразы: — У вас Париж, у нас — свои снега. Вы не читали Гегеля, младенец? — Нет, не читал. — А что же вы читали? — Сейчас читаю партитуры опер. — Зачем? Безумец! Слушайте, о, Слуцкий! Чудак читает партитуры опер! Сейчас мы вас отлично развенчаем: где ваши развлеченья? результаты?! А сам в Париже камни собирал. Он собирал загадочные кремни: ресницы Вия, парус Магеллана, египетские профили солдат, мизинцы женщин с ясными ногтями. Что каждый камень обладает сердцем, он говорил, но это не открытье, но то, что сердце — середина тела, столица тела — это он открыл. Столица! где свои автомобили, правительства, публичные дома, растения, свои большие птицы, и флейты, и Дюймовочки свои. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Был вечер апельсинов и помады. Дворцы совсем сиреневые были. Париж в вечернем платье был прекрасен, Как Эльза Триоле в вечернем и мемориальном платье.«Прощай, Париж…»
Прощай, Париж! Летают самолеты, большое небо в красных параллелях, дожди, как иностранные солдаты, идут через Голландию в Москву. Прощай, Париж! Я не уеду боле туда, где листья падают, как звезды, где люстры облетают, как деревья, на улицы квартала Бабилон. Прости за то, что миллион предчувствий в моей душе, как в башне Вавилона, прости мои монгольские молитвы, монашество мое и гамлетизм. Прости за то, что не услышал птиц, моя душа — вся в красных параллелях. Кто мне сулил исполненное небо? Такого неба нет и не бывало. Как убывают люди и минуты! Атлантов убаюкали моллюски. Как я умру, не зная, кто из граждан мне в уши выливал яд белены? — Прощай, прощай и помни обо мне…Письмо
О вспомни обо мне в своем саду, где с красными щитами муравьи, где щедро распустили лепестки, как лилии, большие воробьи. О вспомни обо мне в своей стране, где птицы улетели в теплый мир, и где со шпиля ангел золотой все улетал на юг и не сумел. О вспомни обо мне в своем саду, где колокольные звонят плоды, как погребальные, а пауки плетут меридианы паутин. О вспомни обо мне в своих слезах, где ночи белые, как кандалы, и где дворцы в мундирах голубых тебя ежевечерне стерегут.Музыкант
Как свечи белые, мигала тишина. Из крана капала и капала луна, такая маленькая, капала теперь, из крана капала и таяла в трубе. Как свечи белые, маячили в ночи так называемые лунные лучи, а та луна, а та небесная была в кружочках цифр, как телефонный циферблат. Совсем иные, иноземные миры, висели звезды, как бильярдные шары. В бубновых окнах лица женщин и мужчин чуть-чуть прозрачнее, чем пламя у свечи. Я был в неясном состоянье перед сном. Я был один, и был один старик со мной. Но был он в зеркале, таинственный старик, в шампанских бакенбардах современный лик. Он делал пальцами, как делает немой. Как свечи белые, мигали у него немые пальцы. Этот мученик зеркал на фортепьяно что-то странное играл. Мою чайковскую луну и облака, как Дебюсси, он в си-бемоли облекал, то патетические солнца и латынь он мне, слепцу, мой музыкальный поводырь. Еще старик играл такое попурри: — Все это было — твой парнас и твой париж, но ты не жил и не желал, увы и ах! существованье музыканта — в зеркалах, лишь в зеркалах твои сожженные мосты, молитвы мутные, минутные мечты, я — тварь земная, но нисколько не творю, я лишь доигрываю музыку твою, мы — Муки творчества, нас ждет великий суд, у нас, у Муков, уши длинные растут, но наши уши постепенно отцвели, спасает души повседневный оптимизм, я презираю мой мучительный талант… А по мостам ходили белые тела. Как свечи белые, маячили в ночи тела, одетые у женщин и мужчин. Играл орган в необитаемых церквах. Его озвучивали Гендель или Бах. Фонарик в небе трепетал, как пульс виска. И в небе с ним — необъяснимая тоска. О музыкант, какую ни бери бемоль, минорный край твой есть, как мания, немой. О музыкант, ты музыкант в своем числе! О поводырь, как и ведомые, ты слеп. Взойдет ли солнце, очи выела роса. Как водяные знаки, бедные глаза. О музыкант, меня ты не уговорил. Ты улыбнулся и на улицу уплыл. Так ты уплыл. Но я нисколько не скорблю: большое плаванье большому кораблю.ОДИННАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 1966
«Мы плыли уже семь дней…»
Мы плыли уже семь дней, семь дней мы плыли. И не было ни силуэта, ни слова в тумане, и не было ни небес, ни беспокойства, ни «здравствуй» и ни «прощай» ни в прошлом, ни завтра. Плыви, наш корабль, плыви, плывем, товарищ, такая тоска — туман, страна немая, вся наша судьба — туман, как мрамор, белый, где не было ничего, что не бывало. Уже не слышит ухо эха потусторонних песен птиц, и вороны и воробьи и улетели и уснули, уже большие звезды неба иллюминировали ели, как новогодние игрушки, они висели на ветвях, а маленькие звезды леса, а светлячки за светлячками мигали, как огни огромных и вымышленных государств, где в темноте, как циферблаты, фосфоресцировали очи обыкновенной птицы филин, где гусеницы, как легенды, распространялись по деревьям, где на фундаментах стояли капитолийские деревья, как статуи из серебра, где бабочки на белых крыльях играли, как на белых арфах, где в молодых созвездьях ягод ежеминутно развивались молекулы живых существ, где белокаменные храмы грибов стояли с куполами из драгоценного металла, где так мультипликационно шли на вечернюю молитву малюсенькие муравьи, где над молитвой муравьиной смеялся спичечный кузнечик, но голос у него был мал, увы, совсем не музыкален.«Бессолнечные полутени…»
Бессолнечные полутени. В последний раз последний лист не улетает в понедельник. Вечерний воздух студенист. Мы незнакомы. Я не знаю ты творчество какой травы, какие письменные знаки и путешествия твои какие нам сулили суммы? Все взвесили весовщики. В лесу безвременье и сумрак, а мы с тобой — временщики. И пусть. И знаем все: впустую учить старательный статут, что существа лишь существуют и что растения растут, что бедный бред — стихотворенья, что месяц — маска сентября, что — деревянные деревья не статуи из серебра, что, сколько сам ни балансируй в бастилиях своих сомнений, лес бессловесен и бессилен и совершенно современен. И ты, и ты, моя Латона, протягиваешь в холода пятиконечные ладони, и им, как листьям, улетать…«Разлука звериного лая со страхом совиным…»
Разлука звериного лая со страхом совиным, разлука рассвета со звездами в красной воде, ты, память моя, — ты разлука цепей с целым царством — рабовладением сна. Когда опустеют все тюрьмы последнего сердца, тогда ты поймешь: мир прекрасен одними скорбями скорбей, не узник тоскует в тюрьме — это тюрьмы тоскуют в разлуке, и смерть это вовсе не смерть, а разлука со смертью своей. Спасибо. За все фонари, за дожди нефтяные, ночные…«Ты уходишь…»
Ты уходишь, как уходят в небо звезды, заблудившиеся дети рассвета, ты уходишь, как уходят в небо на кораблики похожие птицы. Что вам в небе. Наша мгла сильнее снега. Наше солнце навсегда слабее сердца. А кораблик журавля на самом деле небольшое птичье перышко — не больше. Ты уходишь. Отпускаю, потому что опустели сентябри моими журавлями. До свиданья. До бессонных сновидений. До рассвета, заблудившегося в мире.«Уменьшаясь, плыли птицы…»
Уменьшаясь, плыли птицы маленькими лепестками, поднебесными телами… Таял воздух голубой. Было солнечно и страшно. Надо мною белый голубь, как корабль с куполами, не шатаясь, проплывал. Где твоя команда, птица? капитан и приключенья? ты куда плывешь? в какие иноземные миры? Небо таяло и гасло. Вся вселенная темнела. Только белый голубь в небе и не таял и не гас. Над бессонной тьмой вселенной, над вселенной сновидений он сиял совсем спокойно — шестикрылая звезда.«Солнце знает свой запад…»
Солнце знает свой запад. Луна знает свои приливы. Муравей знает свое завтра. Цапля знает своих цаплят. Все знают: солнце — небесное тело, луна — карманное зеркальце солнца, муравей — карликовое животное, у цапли — одна, ей свойственная, нога.Слепые
Ты помнишь, а если не помнишь, то вспомни: как пели слепые, сейчас на базаре, в Ангарске, слепая семья — он, она и ребенок. И были у них негритянские лица, но белого цвета. Мужчина играл на гармошке, как будто растягивал лягушонка, девушка пела, и серьги ее распускались, как два парашюта, девочка делала ножками: танец она исполняла, все остальные — присутствовали: стояли, моргая и не моргая. Ты помнишь, что пели они? И не надо, не помни: такие же песни, как провинциальные лебеди на клеенках. Толпа была полуодета, как все толпы на свете: меха… кое-что из резины… тельняшки… милиционеры с медалями… все остальные… А те, кто поближе к слепым — не слушали пенье, рассматривали белые лица, сочувствуя, но не стесняясь, а те, кто подальше — не видели лиц, но слушали пенье, они вынимали монеты из меди и не уходили. Однако торговля не стала менее оживленной: старухи в больших рукавицах фруктовую рыбу обнюхивали, как целовали, работали мясники топорами средневековья, в бочонке звенел огурец, как зеленый звоночек. Потом появилась, как львица, действительно, лошадь. К гармошке пропал интерес: все пошли посмотреть хорошенько на лошадь, все, даже четыре, как курицы, маленькие карлицы и два лейтенанта: с биноклем один, у второго футляр от бинокля. Не помнишь, как падали листья? А ты попытайся, припомни: как листья играли, как трубки из маленькой меди, с еще малолетних деревьев уже опадали, уже увядая, еще не желтея, они опадали зеленого цвета. Солнце совсем не имело определенного места на небе — присутствовало в каждой капельке неба одновременно. Фосфоресцировал воздух, как испаренья химических элементов химического производства. Что происходило еще? Лошадь-львицу хороший товарищ вовлек в двухколесную тачку, четыре карлицы купили четыре стакана орешка сибирского кедра. И щелкал орешек, как клюква, И все остальные сплевывали скорлупу, когда шли, как за эллинской колесницей, за тачкой. Я помню тот вечер, когда фонари опускали колокола великолепного света. В грустной гостинице, в камере-одиночке по телевизору кто-то играл на рояле. Кто-то прекрасно играл, проникновенно и задушевно: в смысле не «за душу брал», а в смысле «задушат»… И ничего не случилось, дружок, ничего не случилось вот и сейчас, в воскресенье, как видишь, в Ангарске.«Когда на больших бастилиях…»
Когда на больших бастилиях подводного государства мигают, как колебанья, вечерние колокола, когда потемнеет воздух, тогда расставляет море беспалые перепонки тишины. И всякая тварь-творенье небес, океана, суши тогда, затаив дыханье, спускает птенцов в гнездо. Темнеет корабль корсара, — он гасит огни живые, и парус, как белый ангел, на перышках убегает. Что птица? — Небесное тельце. Что рыба? — чертеж лекалой; что звери пустынь? — пушинки; корабль со своим бушпритом — комарик с невредным жалом; луна — это капля в море, ни больше, ни меньше — капля тишины. Когда замигает бронзой вечерний колокол моря и восемь веселых лун расставят свои зеркала, — обманывайся, товарищ! — тогда накануне страха опущенными парусами развлекается тишина.«Род проходит и род приходит…»
Род проходит и род приходит. Веселью время и скорби время. Только солнце бьется, как сердце в туманном мире, в минутном небе.«Кристалл любви, кристалл надежды…»
Кристалл любви, кристалл надежды, медаль ста солнц, метель ста вьюг! Не удален и не удержан, сам удалился и стою. Стою над пропастью. Два грифа летают. Море — в небесах. О волны, кружевная гибель! — вас ни воспеть, ни написать. Кристалл любви, кристалл забвенья, молитва колокольных лбов! Над пропастью луна забрезжит, клубится солнце, как любовь. Стою с бокалом. И не брошусь. Стою вне Вас, бокал — за Вас! Я пью вино — златую бронзу, — и счатлив мой глагол и глас! Пой песню! В этом песнопенье лишь голос горечи без нот. Над нами тучи переспели, дождь о живительный блеснет! Стою. Блеснет да в пропасть канет и сердца страх, и тишь в крови… Кристалл времен, кристалл дыханья, твердыня жизни и любви!ХРОНИКА 67 1967
Телефон
1
Телефон — это маленький черненький храмик. Он — игрушка. Там танцуют Дюймовочки, сделанные из спичек, и оловянные солдатики в зеленых касках с каким-то значком на лбу. Девочки танцуют с леденцовыми петушками и курочками. Солдатики танцуют с оловянными поросятами. И когда они так танцуют, получаются колокольчики, которые чокаются: — Здравствуй-здравствуй!2
Телефон имеет два купола и башенные часы. Оба купола опущены и повисли в пространстве. У часов есть циферблат, но отсутствуют стрелки: даже при самом пристальном изучении циферблата мы все не узнаем определенный час суток, а следовательно, мало кто догадывается, какой сейчас век: каменный или не каменный, что ли. На циферблате, на фарфорово-белом его пьедестале, стоят, чуть-чуть отклонившись назад, если можно так выразиться, стоят полулежа десять несимметричных фигурок, одинаковых, потому что: 1. две фигурки, обозначенных цифрами 1 и 7, это, в сущности, одна и та же фигурка, но единица еще вертикальна, а семерка уже отклонилась от вертикали, чтобы определить свою, в сущности, ту же позицию единицы, как оппозицию к перпендикуляру; 2. фигурка 4 только прикидывается самостоятельным экземпляром, в действительности она — замаскированный брак семерки и единицы: используя вертикальное положение единицы и несколько невертикальное положение семерки, четверка так гениально и вместе с тем простодушно убедила нас в своем независимом «Я» — поставила элементарную единицу и приставила к туловищу ее туловище опрокинутой вверх ногами семерки (1+7 = 4). 3. 2 и 5, 6 и 9 поучительно объясняют философию хвостиков и кружочков: 5 и 6 — хвостик вверх — оптимизм и веселье, 2 и 9 — хвостик вниз — пессимизм и тоска; но, просто-напросто поднимая и опуская кружочки, мы воочию убеждаемся, как относительна всевозможная мудрость, и еще убеждаемся на примере всех четырех, как прекрасно веселье сменяется скорбью; так мы выяснили: 2 и 5, 6 и 9 — антиподы, но, как все антиподы, — обязательные двойники, что беспощадно легко доказать на классических полухвостиках и полукружочках 4. следующей цифры 3; собственно говоря, цифра 3 имеет свои полухвостики и полукружочки, эта-то половинчатость и приводит к тому, что смыкаются эти рискованные полуобъятая, результат же смыканья ужасен и катастрофичен: все сливается в самой современной фигурке 8; 5. Итак: переливаясь из формы в форму, опрокидывая свои представленья, перемещая другие и мечтая о равноправии третьих, без излишнего идеализма, исторически постепенно, мы легко превращаем любую цифру в любую, а все вместе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 они хорошо и естественно вписываются в 0: и когда мы во внутренности нуля вписываем одну за другой ту или иную цифру, мы видим, что нуль остается нулем: 0 как 0, но слегка засоренный внутренним содержанием.3
Телефон — это маленький черненький храмик. Он варварски музыкален. Там танцует колдун, худший из худших. У него волосатые уши, губы, как у рыбы, и большой барабан на коленях. На большом барабане подпрыгивают десять палочек. Колдун палочки перебирает и соединяет их в группы цифр. И тогда получается звон: — До свиданья! И тогда два человека снимают, каждый свою, телефонные трубки и прикладывают их к барабанным перепонкам. Так у них получается то, что мы называем «контакт». Но это уже вопросы иного порядка — о том, как человек человеку друг, товарищ и волк.Бессонница
1
Улицы — только туннели не моего государства в красных пятнышках темноты. Трепетали бесцельные звездочки фантастических фонарей. Где-то семь семимильных теней и гитара убегали с девушками в пространство. Они веселились (они — все гимназисты всех времен). У гимназистов были волосатые морды, как у эрдельтерьеров. Они размахивали руками, как буденовцы саблями. Девушки были больны и банальны от пьянства. У них — огуречные лица. Они клекотали орлами. (Так веселится по воскресеньям радиостанция «Юность», передавая туристские песни.) Так они оглашали мой воздух. А потом подрались. А потом улетели: один как веселый мотоциклист — вверх тормашками, один как трамвайный билетик, один улетал и сверкал, как бутылка, остальные и девушка — улетучились, как эфир. Лишь одна-одинешенька, бедный ребенок, лежала гитара у стеклянной гробницы метро. Окна то зажигались, то гасли. Это в каждой комнате, в оловянной ванне, сидел детектив и сигналил другому, не менее хитроумному детективу. А на самом деле: это советские женщины, отработав библейские смены свои, убегали в жилища свои, птички-совы с лихорадочными очами, с крылышками, опущенными в карманы плащей. Это рабочие люди, вагонетки в шахтерском тумане улиц, улетали в свои портативные спальни, засыпали на рельсах с повседневным углем своим. Это они включали и выключали свет, раздеваясь. В сталинском доме, там, где, как дорические колени красавиц, раздвинуты сталинские колонны, горело и не переключалось окно. На освещенном экране окна плясали две полупьяных фигуры: мужчина в мундире подполковника бронетанковых войск с ляжками, голыми, как у балерины, и девушка с золотыми волосами, с рюмочкой и с медальоном, который стучал в ее страстное сердце, как пепел Клааса. Подполковник и Прекрасная Дама скакали, как голые красные кони после купанья. Это была феерическая фреска. Алкоголик-интеллигент в шляпе Шопена самостоятельно и без усилий оседлал серебряную цистерну с мистическим названием «КВАС». Он сидел на цистерне, сомнамбулический гений двадцатого века, и хохотал, как гиена: — БРАТСКИЙ ПРИВЕТ МНОГОСТРАДАЛЬНОМУ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ ОТ МНОГОСТРАДАЛЬНОГО ЛЕНИНГРАДСКОГО НАРОДА! Ничего не происходило.2
Я мечтал. И мечтами и звуками полон был воздух Куракиной дачи. Надо мною играли колокольчики-звезды и чуть-чуть расшевеливала свой колокол луна. Было и хорошо и темно. Было так хорошо, так темно, что не плакать я не мог. И коньяк в красноватой бутылке помогал мне осуществлять и мечты и слезы мои. Что ж! Бог в помощь, божественная современность! Ты меня сочинила, я, мститель, — тебя сочинил. Только я, бумажный безбожник, заикнулся о боге, как на некой аллее появилось некое божество. Был он стар, в балахоне из Книги Чисел, с перламутровыми зубами и с детской колясочкой на рессорах. Он дышал по-собачьи, с непроглядным безглазым лицом. Я сидел и спросил: — Кто ты, тип? Он ответствовал: — Я — Творец. — Что же ты, товарищ, творишь? — Творчество. — Но какое? — Любое, увы, совершенно любое: человека и птицу, субботу, зерно и судьбу. Я был ироничен, как баснописец, и сказал: — Сотвори МЕНЯ! И он сотворил! Механическим жестом он откинул шторку детской коляски. Я посмотрел в коляску — и в ужасе онемел: ТАМ БЫЛ Я. В той коляске, в пещерке из пластмассовой протоплазмы, лежал я. Лежал маленький, беленький трупик, как еврейская куколка, с ногами моими: даже ноги одна чуть потоньше другой, и с волосками на голеньком тельце. И старик еще извинился: — Извините, ну и ну, у покойников сверхъестественно быстро отрастают волосы и ногти. Я — сейчас. И большими медицинскими щипцами он стал откусывать ногти у маленького меня. Трупик лежал на пьедестальчике, в изголовье меня проблескивала свечечка и был микрофончик. Старец работал и щебетал, человеческий воробей. Он пояснял: — Это бессмертье твое, стихотворец. Вот твой пьедестал, твой вечный огонь и микрофон для общенья с культурным миром. — Что я сделал? — сказал я, еле-еле переводя дыханье. — Смешной человек! Что он сделал? Как и все — жил и умер, — вот и всё, что ты сделал. — Но… — Но-но-но… — посочувствовал страшный старик, — если ты будешь перечислять все свои «но», то тебе некогда будет использовать свой красноречивый язык для остального. Рассветало. Деревья дрожали, как водяные фонтаны. Я кричал ему: — Ты, самодеятельное божество! В жизни, в которой я жил, — не было жизни! Выдумка ваша с детской коляской — литературный прием! Как я жил, что я сделал, но не ты, попугай, это я современность свою сочинил. — Как ты жил, что ты сделал… — бубнил сумасшедший, — как и все: жил и умер, вот и всё, что ты сделал и что сочинил. Я оглянулся. Он опустился по-стариковски. И старик как старик, и глаза у него как глаза, и старик водянист, и рассвет водянист, и глаза у него водянисты. Он сидел на скамейке, философ. Во рту у него, как роза в аквариуме, плавал язык, там стояло два зуба — два оловянных солдатика. По волосатым рукам его ползали вены, как голубые черви. — Я ушел! — закричал я. — Будь ты проклят, сангвиник! Но старик попросил: — Не уходи! — Что еще? Как так: «не уходи»? Он поправился: — Уходи, но бутылку не уноси. Я хохотал: — Ты — Творец? Сотвори себе, жокер, бутылку! — Творец творцом, а жить-то надо, а бутылка стоит двенадцать копеек… По ночам этот бедняга путешествовал с детской коляской и в нее собирал бутылки. У него был карманный фонарик. Я смеялся: — Но это кубинский коньяк. А не наши бутылки, даже кубинские, не принимают! — Не принимают, — опечалился старец. — На — двенадцать рублей! За такой балаган! — Нет, пускай уж двенадцать копеек, но за бутылку. А подаяния я не беру. Как-никак — а советский пенсионер. Спасибо вам за хорошее отношенье. Все иллюзии в прошлом. Теперь перед вами — прекрасный действительный мир…3
А действительный мир был действительно до умопомраченья прекрасен. Достоевские девочки бегали по аллеям в тренировочных трикотажных костюмах. Они не созрели для нравственности, но для гарема созрели вполне. По этажам опускались бездыханные тени солнца. Пьяницы шли параллельно и делали параллельные повороти неописуемой красоты. На остановках стояли трудящиеся со столетними лицами. Энтузиасты бросались в автобусы, как дельфины. По всем улицам, да и по всей вселенной бегала одна и та же собачонка. Собственные уши били ее по морде. Она искала хозяина. Но хозяина или вовсе не было, или он пропал. У пивного ларька параллельные пьяницы сели. И, не в силах донести до губы пивную кружку, они с большим тактом рассказали друг другу о трагической гибели летчика-космонавта Комарова и сказали еще, что скорбит вся страна, и — зарыдали. А потом все же выпили пиво и ушли в неизвестность, неописуемые близнецы… Все прекрасно. Как скорбела страна! Левитан диктовал сорок подписей соболезнований. Подписалось: много популярных правительственных фамилий и несколько менее популярных.Живое зеркало
1
В комнате у меня канделябр — семь свечей, как семь балеринок в огненно-красных платочках. Балеринки балуются: чокаются рюмочками и смеются. Я — советский султан. В комнате у меня, в сумраке — семь львов. Львы не дрессированы, у львов библейские очи и расстояние между клыками, как между Сциллой и Харибдой. В комнате у меня и готические и современные шпаги. Любой Лобачевский перепутает энную цифру нулей, перечисляя плебеев, временщиков и антигероев, искалеченных мной во все времена — от Гренады до Иерусалима. Эта сталь — для дуэлей. В комнате у меня — где донна Анна? — статуя Командора. Где донна Анна, вся живая, вся египтянка, вся в браслетах, с трепещущим телом? Статуя Командора, как и драматургический призрак — перл какой-то каменоломни. Но в уста Командора я вмонтировал магнитофончик, чтобы в самый ответственный мой момент он проповедовал чепуху сентиментальных сентенций. Я приручил большую бабочку, которой нет ни у одного коллекционера во всей вселенной. Она существует столько, сколько я существую, и намного больше. Она прилетает и опускается на мраморный мой подоконник. Мы говорим только о том, что знаем только она и только я. Она облетела все уголки земного шара (если у шара могут быть уголки). Она не знает ничего постороннего, а то, что знает, — только тайна. У меня есть пишущая машинка. Собственно говоря, это не пишущая машинка, а портативное фортепьяно. Я касаюсь клавиш подушечками пальцев, когда появляются красные искры на моем вечернем небе. Если комната — миниатюра мира, не пожелал бы кому-нибудь моих миниатюр. В комнате у меня — зеркало.2
Вечерами, когда угасают на небе нежные искры солнца, когда замигает бронзой вечерний колокол моря, и восемь веселых лун расставят свои зеркала — занавески в зеленых и красных рассеянных пятнах, на улице — вымышленные фонари, в сумерках только молнии освещают комнату мельканием, — тогда вульгарно и страшно гремит государственный гром. Так во времена бонапартовских и революций Панчо Вильи перед казнью гремели двадцать два барабана. И змеиные ливни, как змеи Лаокоона, рушат мое единственное окно. Акварельные стекла выпадают из рам и улетают в пространство грозы по диагоналям. И сквозь рамы-решетки моего животного мира рушатся в комнату туловища змей. Балеринки мои — все семь — трепещут от страха. Они заливаются стеариновыми слезами, их огненно-красные платочки опускаются ниже и ниже и угасают в бронзе. Львы, лежавшие в мраморных позах сфинксов, встают по-собачьи на задние ноги, от ужаса лая, как псы, опрокидываются на спину и подыхают вверх лягушачьим брюхом. Бесполезна борьба! Многое множество змей! Бейся, бейся, мой мотылек! Это бабочка выпускает глубоко затаенные когти (а змеи встают на хвосты, клубятся уже над моей головой!), налетает на змей, вынимает из комнаты их, как из чугунка спагетти, и выбрасывает, покачнувшись на крыльях, в окошко, но, ужаленная, опадает куда-то в темноту и в мелькание молний. В этой схватке еще пацифист-Командор. Сей счастливчик соблаговолил и сказал в микрофон микропарадокс. (Воздух темен и светел, и летали по воздуху комнаты карнавальные очи змей с бенгальским оттенком. Их тела, как тела александрийских любовниц, были натренированы и трепетали. Появлялись повсюду птичьи, жабьи, полукрокодильи морды чудовищ. Змеи стояли, как тростники, и так же качались.) И с любопытством рассматривая воздушное пресмыканье, Командор вздохнул и сказал: — И жизнь уже не та, и мы уже не те. — Он сказал и пропал в пустоте. Все пропало. Балеринки погасли. Львов съели. Всю мою иллюзорную современность (я с такими усилиями и с бабочками ее сочинял) поглотила и эта гроза. Взбешенный, я выхватил шпагу, но… шпага за шпагой, как сосульки, таяли — капля за каплей, капли металла растворялись в каплях дождя. И тогда, монотонно сверкая, появилось зеркало из полутьмы. Это зеркало смутно кое-что отражало, но, когда появилось, перестало что бы то ни было отражать. И все змеи опустились, оглянулись на зеркало и посмотрели. И, загипнотизированные собственным взглядом, они вползали в пасти собственных отражений, пожирая сами себя. С добрым утром, товарищ! Спасибо тебе за спасенье! Все случилось, как все гениальное, просто. Скоро зеркало все переварит: балеринок и львов, и чудовищ твоих, и рассвет, и займется опять естественным отраженьем предметов. Улетучится каждый кошмар. Ты войдешь с электрической бритвой, ты и в зеркале твой повседневный двойник. И вы станете умно и с умными глазами фрезеровать волосинки — детальки своих повседневных и одинаковых лиц. С добрым утром! Еще полусолнышко и полунебо, но со временем будет Солнце и Небо, только выстоять нужно, дружок! Я стоял на коленях и плакал, пилигрим в полутемной пустыне дома Дамокла. Сам Творец, я молился невидимому Творцу.3
— Я сегодня устал, а до завтра мне не добраться. Я не прощенья прошу, а, Господи, просто прошу: пусть все, как есть, и останется: солнечная современность тюрем, казарм и больниц. Если устану от тюрем, казарм и больниц в тоталитарном театре абсурда, если рука сама по себе на меня поднимет какое орудье освобожденья, — останови ее, Господи, и опусти. Пусть все, как есть, и останется: камеры плебса, бешеные барабаны, конвульсии коек операционных, — и все, чем жив человек, — рыбу сухую, болотную воду да камешек соли — дай мне Иуду, молю, в саду Гефсиманском моем! Если умру я, — кто сочинит солнечную современность в мире, где мне одному отпущено лишь сочинять, но не жить. Я не коснусь всех благ и богатств твоих тварей. Нет у меня даже учеников. Только что в сказках бабки Ульяны знал я несколько пятнышек солнца, больше — не знал, если так надо, — больше не буду, клянусь! Не береги меня, Господи, как тварь человечью, но береги меня как свой инструмент.4
По утрам пустота. И от страха с трепещущим сердцем я стою у пивного ларька: Судный день, День Последний. Простолюдины плачут от пива. Пива много, и на все пиво их слез слишком мало. Ногти у них, как в трещинках мрамор. И на лицах у них — ничегошеньки, кроме где-то из-за угла улыбающейся тоски. Что ж. В этот День, в мой Последний, все должны быть немножко грустны, так сказать, грустны навеселе.Интимная сага
1
В мире царит справедливость. Она царит: в тюрьмах, в казармах, в больницах. Справедливость существует лишь в этих трех измереньях, потому что там все люди равны, то есть каждый сам по себе равен нулю.2
В этой больнице была какая-то замаскированная зелень. Листья висели, как вялые огурцы. 6 марта 67 года я шел в шинели образца Порт-Артура по бильярдным аллеям больницы. Я шел под конвоем фельдфебеля медицины, я, новобранец, объявленной — всем! всем! всем! — Всемирной войны, я, уже не гражданин СССР, а почти небожитель. Передо мной открывалась отличная перспектива: 1. В никелированной колеснице по больничной аллее скакал паралитик моего поколенья с лохматой и ласковой мордой, как Чудо-Юдо из сказки «Аленький цветочек». Он сообщил мне: — Стой, двуногое недоразуменье! Мои ноги отнялись. Никто их не отнимал у меня, это они сами. Они нетрудоспособны, но я их зачем-то таскаю на колеснице. В этом вижу я символические параллели: ноги мои — как наш пролетариат — не работают, но существуют. И указательным пальцем указывая на фигурки, он захохотал: — Тише! Они меня боятся. Я ваш социолог! Это был не сумасшедший, а так, немножечко паралитик. 2. Из окна операционной талантливая невидимка исполняла все гаммы Сумак и Пиаф. Там лежала белая девушка с фарфоровым телом, и живот у нее был распахнут, как роза. 3. Инвалид на одной ноге танцевал балет Майи Плисецкой. И пролетающей мимо мимозке-медсестре — он поманил ее — Люсенька! — и сказал: — Ваше лицо напоминает мне чье-то чудесное лицо. — Чье же? Люсенька мне подмигнула из-под красного крестика, из-под косынки. — Ваше лицо — точь-в-точь лицо вратаря из команды «Молдова». 4. Два практиканта несли на носилках полузнакомый труп. В зубах у них было по сигарете «Шипка». У одного гиганта сигарета пылала, как мираж морских приключений. Другой практикант-негритенок не прикурил с перепугу. Я вспомнил: это был труп иностранца с инфарктом. Пока у него узнавали анкетные данные, он почему-то потихонечку умер в приемной. С него позабыли снять кислородную маску, так и несли с кислородной маской, как труп водолаза. 5. Два мушкетера в тюремных пижамах, двойники Арамиса и д’Артаньяна, пробегали взволнованно по аллее, и один быстро-быстро признавался другому: — Я еще никогда не был пьяным. Что такое напиться — для меня секрет. Д’Артаньян подпрыгнул, как кенгуру: — Сейчас мы купим пару бутылок бренди, и ты в две минуты разгадаешь страшную тайну своего секрета.3
На японских деревьях висели колечки солнца. Пролетала в колечки красавица птичка. Ах ты, птичка, проталинка-птичка! Чем питаешься ты в Петербурге, в граде Кранкенбурге? Солнцем стареньким? небом молочным? Как ты скармливаешь птенцам трамвайный билетик, подсчитав предварительно: счастливый или несчастливый? Не улетай! Братец твой — ангел на Петропавловском шпиле все улетал и не сумел. Правда!«Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было…»
М. Кузмин4
В нашей палате нас было четыре. Иван Исаич Кузьмин — весь весельчак. 97 лет, у него белый любительский череп с усиками на безгубом лице. Няня кормила его с руки, как голубка. После отбоя он пел колыбельные песни голосом барса. Люсенька, медсестра, которая ставит катетеры, тронула свеженьким пальчиком вершину его интимной детали, и деталь подняла свою римскую голову. И держалась деталь, не шевелилась, — кобра на олимпийском хвосте. Четырежды Люсенька попыталась просунуть резиновую трубку, и четырежды старозаветная кобра бешено бунтовала, как юноша Декамерона. — Кто ты, дедушка? — Люсенька растерялась. — Я герой трех революций и четырех войн. А в мимолетных антрактах после общественных сдвигов и перед гражданскими потрясеньями, я, как и все мы, сидел. Я сидел: с народовольцами, в камере Александра Ульянова, в ссылке со Сталиным, с большевиками, с эсерами, с эсдеками, с центристами, с кадетами, с меньшевиками, с дезертирами 1914 года, с белогвардейцами, с белочехами, с думцами, с бабами Бочкаревой, с черносотенцами, с иеговистами, с бухаринцами, с попутчиками, со шпионами англо-германской и австралопитекской разведки, с семьями чудаков и чекистов, с Руслановой, с Бабелем, с пленными, вышедшими из немец- кого плена в 1945 году, с офицерами, освободителями стран и народов, порабощенных фашизмом, с Паулюсом, с Шуль- гиным, с власовцами, с космополитами, с пацифистами, с Солженицыным, с сектантами, с эмигрантами, с атеистами, с князем Волконским, возвратившимся на родину из Парижа в лагеря на лечение от ностальгии и т. д. и т. п. Вот кто я. Вот моя биография и специальность. А поэтому ты, девушка, не беспокойся, — Кузьмин указал на уже усмиренную кобру, — я однолюб, а по блядям никогда не ходил и не буду! — И не буду! — Вот как сказал 97-летний воитель всех времен. Ночь как ночь. Однорукий технолог мясокомбината зевал, как Шаляпин. Он уже восемь суток лежал на утке, и ничего не получалось. Наша Люсенька нас разбавляла стрептомицином. В коридоре, под лампочкой, в полутьме, на полу двое почечников переставляли шахматные фигурки. Иногда они вскакивали и, как девочки улиц, прыгали со скакалкой, безнадежно надеясь, что выпадут камни из почек. За окном ничего не мигало. Только, как на ипподроме, стучали копыта деревьев. Ночью Исаич встал и спросил: — Что это есть «удаленье»? Я сказал: — Удаленье есть удаленье. — Стой, балбес, не перебивай. — Мне сказал этот профессор, сопляк и соратник смерти: «Удалим потихоньку ваши интимные двойники». Я согласился. Что это, к дьяволу, за «интимные двойники»? — Это то, что находится под интимной деталью, куда Люсенька вам безуспешно хотела вставить катетер. — То есть яйца. О паршивые сукины дети шарады! — он засмеялся. В шесть часов утра нам ставили градусники. В шесть часов утра в градуснике Кузьмина ртуть не поднялась ни на одно деленье. При вскрытии трупа обнаружили: он задушил сам себя. Как и чем он ухитрился — обнаружить не удалось. Три лейтенанта принесли три чемодана орденов и медалей. А по аллее у павильона прогуливались три генерала. Лейтенанты уехали на машине «Волга» последнего образца. Генералы постепенно ушли на трамвайную остановку. Студент-негритенок причесал Кузьмину железной расческой усы. Его труп увезли (труп не негритенка, а Кузьмина) в институт экспериментальной медицины для использования в анатомических целях.5
После праздников у мужчин небритые лица. У девок — синяки на лице и под платьем. 8 марта у Люсеньки получилась любовь. Ее полюбил тот студент-гигант, который носил с негритенком трупы. Мы его называли шпагоглотатель. Гигант был морфинист. Он знаменит под названием Альберт во всех альковах больниц. После одиннадцатилетки он три года работал троглодитом на каком-нибудь дизель-заводе. Где по-божески баловался «планом». Потом кто-нибудь познакомил его с морфием. Но простому советскому Альберту очень трудно стать истинным наркоманом: нужны какие-то деньги и международные связи. И Альберт поступил просто. Начал он скромно: проглотил программу квартального плана бригады коммунистического труда и четыре новехоньких гайки. Его оперировали. Поудивлялись, как это он невзначай проглотил все это хозяйство. Он объяснил: — По рассеянности. Он пил пиво и перепутал программу с воблой. Ведь даже учитель земного шара Карл Маркс, как вспоминает Лафарг, обедая, иногда вместо хлеба по рассеянности отрывал уголок газеты и пережевывал типографский текст не без аппетита. Убедил. — А гайки? — спросили. — Ах, гайки, — улыбнулся Альберт. — Все мы гайки и винтики своей многомильонной державы. И вот разговор приобрел политическую перспективу, что уже далеко не уголовное дело. Месяц Альберта кололи морфием и понтапоном. Через месяц Альберт проглотил плоскогубцы. Потом он глотал: гвозди из ФРГ, склянки из-под гематогена, щипцы для обкусыванья заусениц, шприц с иглой и шприц без иглы, ассорти из наждачной бумаги и фольги, и как ему посчастливилось проглотить цепь от велосипеда? Восемь месяцев Альберт употреблял бесплатный наркотик. На девятый Альберт был разгадан. Ему предложили на выбор: тюрьма за покушение на самоубийство, больница имени Бехтерева для излеченья душевной болезни. Но Альберт был умнее: он поступил на фармакологический факультет медицинского института. Теперь он переносил потихоньку трупы, а медсестры давали ему потихоньку морфий. Жалели. Так у Люсеньки получилась любовь. Девушка на дежурстве 8 марта — это драма, достойная небезызвестной драмы «Гроза». Альберт на 8 марта подарил Люсеньке свой пламенный взгляд, и они напились медицинского спирта. Дежурный врач обнаружил медсестру в туалете. Люсенька наклонилась над унитазом, как будто искала на дне жемчужное ожерелье Марии Антуанетты. Альберт шевелился всем телом, он наклонился над Люсей, держался за плечи ее, как за руль мотоцикла, он наклонился, как будто шептал ей в затылок тайну перпетуум мобиле. Как раз в это время задушил сам себя Иван Исаич Кузьмин.6
Он был очарователен. С утра моросила его машинистка — в банальной больнице под одеялом ослиным он особо секретные документы подписывал, рисуя передо мной исторические параллели между собой и Маратом, который подписывал все это в ванне. Он веселился: — Неугасим мой творческий темперамент, как лампочка Ильича. Нет на меня Шарлотты Корде. — Сей секретарь ошибался. Была на него Шарлотта Корде, была, невзирая на весь диалектический материализм его всесторонних сентенций. — На каждого, бабушка, есть своя Шарлотта Корде. («Бабушка» — так мы называли этого претендента на лигу бессмертных, потому что под вечер, когда почему-то болели его подвенечные члены, он непростительно плакал и бушевал на весь павильон в приступе атавизма: — Бабушка, бабушка!) — На каждого, бабушка, есть своя Шарлотта Корде: на царя и рецидивиста, на любителя виолончели, на крестоносца и на секретаря. Сегодня в полночь, по Гофману, вам, бабушка, сделают клизму, и на заре завтра, по Андерсену, вам, бабушка, сделают клизму. И ровно в 12.00 по московскому времени вам удалят наиважнейшие шарики вашего организма, без которых вы станете, бабушка, совсем и совсем не вы. — Нет, я есть я, и я буду я, — утверждал секретарь, потрясая позолоченными очками. Кроме физиологии, ты, формалист, есть еще философия! Есть оптимальная самоотдача! Есть нравственность! Есть борьба за идеи! — О да, уж чего-чего, а уж нравственности и морали будет у вас, идеал, так много, что ваши все машинистки, как Аленушки, будут рыдать, вспоминая про ваш осиротевший фаллос. Вас кастрируют, вы понимаете или нет? — Ну и что? — возмутился холерик. — Ведь кастрируют, скажем, котов. — И свиней, — подсказал я. — И быков, — поддразнил он. — И быков. Но быки убегают в пампасы и усиленно умирают от стыда. Как умер Кузьмин. — В любых обстоятельствах, если этого требует дело, которому служишь, нужно жить, а не умирать. А Кузьмин, невзирая на все ордена и медали, — отъявленный отщепенец и плюс стопроцентный старик. Мы таких повидали: им драгоценно лишь собственное «я», но не общее дело. — Да, им дорого собственное «я», для общего дела, а вам общее дело для собственного «я». — Хватит, — сказал он, — ты паяц и мерзавец. Мы таких еще в первую очередь перевоспитаем. — Я паяц и мерзавец. Вы мичуринец и преобразователь. Но природа вам отомстила. Через час после кастрации не Иван Владимирович, а природа приступит к преобразованью вашего организма. Она вывесит вам сатирические груди с сосками. Ваша задница с антинаучным названием «таз» продемонстрирует девственные окорока, такие, как у окаянного колдуна или кокетки. Ваш богатейший бас, которым вы нас призывали к доблести и к трудовым достижениям, станет репликой безволосого альта. Преобразуется мозг. Он станет с женским уклоном. Вам знакома идеология женщин, товарищ? — Что ж. И с женским уклоном мы можем прекрасно работать. Сколько женщин работают на руководящих постах. А для голоса есть микрофон. Мне 57 лет. И я полон энергии и энтузиазма. — Господи, Боже! — подумал я с изумленьем, — Как жизнелюбивы твари твои!7
И Валерик энтузиаст. Но с уголовным уклоном. Помимо вечерней школы и катушечной фабрики, он — командир оперативных отрядов. Я никогда не подозревал, что это за наважденье. Это нечто вроде «народной дружины», но помоложе. Я рассказывал истины о искусстве, Валерик слушал машинально, а потом вспоминал о своем: — По ночам в Сестрорецке мы устраивали засады. Знаешь, белые ночи, кусты, красота, море — нежность, у птиц — замогильные звуки получаются, и совсем ни звездочки, ни фонаря, и бутылочный воздух. Мы в кустах. Мы бледны и готовы. На песке появляется пара. Но они не решаются на преступление на песке. Они раздеваются и уходят в Балтийское море, куда-то туда, в глубину, как будто купаться. Мы-то знаем: нет, не купаться. И с напряженными нервами мы ожидаем. И — а как же! — они погружаются в воду, где подальше, по пояс, и начинается то, ну, ты сам понимаешь, что может начаться между парнем и девкой, если тот и другая совсем не имеют хаты, а уходят развратничать в море! Ты понимаешь мои намеки? — Я-то понимаю, а ты? — И я. Мы приносим обществу пользу, и двойную: мы спасаем свое поколенье от разврата и от простуды в воде. — Это трогательно. Как же вы из прекрасного далека распознаете их действо? — Очень просто. Во-первых: на лицах у них красными линиями написано вожделенье, во-вторых: нам выдают бинокли. Специально. Но бывает, — вздохнул мой Валерик, — очень трудно их уличить. Хитрецы уходят под воду и на дне совершают все свои отрицательные процедуры, ныряя по нескольку раз. Пока добежим — уже оба довольны, и есть оправданье — ныряли. В таком случае лица у них невинны, как небо. Ничего не поделаешь. Поматеришься — а ночь пропала. И ни тебе благодарности от начальника отделения, ни премии к празднику Первого мая. — Ну, а с теми, кто пойман? Валерик задумался. Бюст его на больничной койке был копией бюста Родена «Мыслитель». — Ты бы видел, как мы галантны. Вынимаем отличный оперативный билетик, после парню бьем морду, чтобы морда побита была хорошо, но бесследно, ну, а девку, естественно, в общем, стыдим: пусть чуть-чуть пробежится, пусть нам будет смешно! И того и другую, пошептавшись, штрафуем потом в отделенье. Ты не знаешь, — спросил он с непосредственностью, достойной всяческого восхищенья: почему это — в наше-то время — так развит разврат? — У кого? — Да у них. Вот у этих, как сказал бы Гюго, тружеников моря? — Потому что вы все — восемнадцатилетняя сволочь. О Валерик, то, что ты называешь «разврат», — он развит у вас, не у них. Была у тебя хоть какая-нибудь плохонькая девица? — Этого еще не хватало. — А теперь расскажи мне, что ты чувствуешь, ангел небесный, наблюдая в бинокли, что делают эти двое? То же, что и они? Не так ли? Он покраснел. — А в ночи, свободные от дежурства, что ты делаешь, Аполлон, сам с собой? То же, что и они, но в одиночку, не так ли? Под одеялом? Он совсем раскраснелся. — Вот видишь. Потому что вы все — ублюдки милиционерской морали. Дивные девки, обожествляя солнечную современность, лежат на пустынных пляжах вселенной, как сливочное эскимо в шоколаде. Бедный Валерик! Завтра тебя кастрирует в кожаном фартуке хитрый хирург, и еще целых семьдесят или более лет ты сможешь служить лишь сторожем в гинекологической поликлинике. Его жалели медсестры и пасмурный парикмахер-папа. Двое суток Валерик валялся в истерике. Но на операцию согласился.8
Выздоравливали. Паралитик моего поколенья был исцелен: обе ноги его бегали, как ноги велосипедиста, но чуть-чуть отнялась голова. Бултыхалась его голова-дирижаблик, но врачи утверждали, что это пройдет, главное, что к больному возвратилось самосознанье: прежде он присвоил себе ореол социолога Ариэля, а теперь он опять именует себя сидоровым-ивановым. У фарфоровой девушки роды не состоялись, но она усиленно и успешно штудировала геометрию с применением тригонометрии, чтобы перейти в 7 класс. Ученик Майи Плисецкой получил полномочный протез. Он размахивал новенькой ножкой, как офицер на параде 7 ноября на Красной площади. Мушкетеры уже перестали пить иностранное бренди и перешли на одеколон отечественного производства. «Бабушка» и Валерик встали и гуляли плечом к плечу по глухим ходам павильона. У них вырисовывался румянец. До операции все смотрели на всяких врачей молитвенными глазами. После операции все кое-где собирались и сообщали друг другу: — Возмутительно. Почему во всякой советской больнице все врачи — евреи?9
Мы живем так, как будто будем еще жить и жить. Научи меня жить так, как будто завтра — смерть… Когда я пришел в больницу 6 марта 67 года, уже начиналась весна. Когда я вышел 22 апреля 67 года, весна еще и не начиналась. Воздух был голубой, а павильон морковного цвета. А вообще-то воздух был сер и мутен. Ленинград уже 5 месяцев, или больше, или меньше, готовился к юбилею. Всюду — и в парках, и на перекрестках центральных — стояли типографские тумбы для афиш. Они были оклеены революционными газетами, такими, как они выглядели 50 лет назад. Там дрожали трамваи. Там летали на крыльях черные кошки-вороны. Надо мной было солнце — белок полицейского глаза. Раскрывалась вселенная — раковина ушная, система подслушиванья моего последнего сердца. Современность влюбила меня, очаровала, воспевая, воспитывала чудовище века — меня, и над сердцем моим, над тюрьмой моего последнего сердца, был поставлен логический знак существованья — алгебраический икс — бессмыслица наших надежд. Но напрасно старалась солнечная современность, я ее обманул: я ей отдал одно только сердце, а у меня оно не одно — у меня миллион миллионов сердец.Один день одиночества
1
Если сегодня мне говорят: Я БУДУ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, И ТОЛЬКО ПРАВДУ, я ни на секунду не сомневаюсь: МНЕ БУДУТ ГОВОРИТЬ ЛОЖЬ, ОДНУ ТОЛЬКО ЛОЖЬ, И НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЖИ. Это вовсе не сон. Это просто пролог. 5 ноября 1967 года я возвращался один с Куракиной дачи.2
Теперь работяги одеты, как баритоны. Фарфоровые сорочки, в нейлоновых мантиях из голубого агата, семьдесят семь слесарей сибаритствовали у пивного ларька. На устах у каждого — музыкальная мелодрама из песенного репертуара радиостанции «Юность», в левой руке у каждого — воздушный шарик счастливого цвета, наполненный гелием, в правой руке у каждого — бокал золотого пива, как золотая корона. Хулитель и скептик! Теперь посмотри на прекрасные перемены: две тысячи лет мы получали пиво из деревянных бочек, теперь в стеклянных ларьках появились АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦИСТЕРНЫ! Что наше прошлое? — две тысячи лет пропащего и пустякового пьянства во тьме, теперь МЫ солидарны ВСЕ У ИЛЛЮМИНИРОВАННОГО пивного ларька! Пей, человек, и участвуй во всех упоительных сценах! Слесарь с бородкой, как боцман британского флота, энциклопедист, он декламирует микроцитату из Малой Советской Энциклопедии: «Трезвенники — типичное сектантское движение мелкой буржуазии, разоренной конкуренцией крупного капитала. К советской власти трезвенники относятся недружелюбно. Район распространения трезвенников главным образом Ленинград и Москва». Так МСЭ писала в тридцатом году. Сейчас же у нас естественные успехи — трезвенники ликвидированы как в Ленинграде, так и в Москве. Слесарь в такой тюбетейке, расписанной по рисункам Миро, бегал, как карусельщик. Классик, он бегал с бульдогом Чангом (Бунин, новелла), любитель лингвистики Хлебникова, он обучал палиндромам собаку, и пес палиндромы глаголил. — Чанг, ну, пожалуйста, мальчик, скажи вопросительный палиндром: «УДАВ ЛИ ЖИЛ В АДУ», и пес говорил. И все остальные рукоплескали. Так сатанели они у ларька, а над ними немело время, и ноябрьские листья мелькали, как солнечные значки, и, как многомильонные луны, вспыхивали облака. Повсюду висели живые фиолетовые фонари.3
На Фонтанке играли фонтаны. Это на дне Фонтанки в зубоврачебном кресле сидел, как базилевс, иллюзионист и жонглировал струями из брандспойтов. Миллионы плакатов висели, как красные геометрические фигуры (на всех плакатах мы написали одни и те же юбилейные силлогизмы). После — пушки стреляли. В сиреневом небе небожители-птицы трепетали (мои испуганные мотыльки!). Говорят, птицы плачут. Но мало ли что еще говорят. В милицейских машинах, как в кукольном театре, сидели младшие лейтенанты. Ленинградцы стекались на Марсово поле. Там был Реквием павшим. Но в окрестностях Марсова поля на апокалиптических баррикадах из автобусов и современных автомобилей симметрично стояли батальоны милиционеров, это, оказывается, был их заслуженный праздник, и они никого не пускали. Пропускали по пропускам. Реквием был особо секретный. Радио радиовещало «Интернационал». Еще радио радиовещало, что на Марсовом поле присутствуют лучшие люди. На пустынных пространствах Марсова поля присутствовали, действительно, лучшие люди, соль соли страны, вот они: колонны милиционеров, курсанты военных училищ, офицеры с золотыми ремнями, представители Марокканской, Мексиканской, Французской и — дай бог памяти — кажется, Гвадалквивирской Коммунистических партий, и еще остальные консулы Ленинграда. Никому не известно, как узнали, кто есть в Ленинграде ЛУЧШИЕ ЛЮДИ, а я знаю: для чего существует регулярная рентгеноскопия? Это делается для того, чтобы из трех поколений окончательно выяснить, у кого же самое большое сердце, то есть, по несомненным данным рентгеновских снимков, наши комиссии выбрали САМЫХ СЕРДЕЧНЫХ — и выдали им пропуска. Их было меньше нескольких тысяч, ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ, в городе с населением в четыре с чем-то мильона, следовательно, остальные были не только намного хуже, но не шли ни в какое сравнение с ними — идолы нравственного инфаркта, идеологические калеки. На всякую формулу есть антиформула. На всякую логику есть антилогика. Поэтому я не люблю обобщений. Мой прием — лишь метафора. Я их запомнил три. Как в пасмурном воздухе возвышались трупы Ростральных колонн и метались над ними, как волосы ведьм средневековья, горящие волосы газа, трагические, как сигналы бедствий. Как на темени ангела на Петропавловском шпиле двое влюбленных стояли в серебряных шлемах, они почему-то не обнимались, хотя позволяло пространство, они целовались, но не как люди, а как бокалы: чокаясь головами. Как на стене Петропавловской крепости (а стена циклопической кладки) факелы — мимо! (а факелы только горели, как хвосты скаковых лошадей на железных шампурах) в факельных искрах бежала худышка-девушка в белой майке (Господи! как она одиноко бежала, как окровавленный аистенок!). Что ей пригрезилось в пьяном бреду? охота на птиц?4
Луна то светила вовсю, то совсем не светила. То есть не было никакой на свете луны. То есть в нескольких случаях были лампочки фонарей, а в остальном — была тьма. Я, как и все во вселенной, был в праздничном состоянье, то есть попросту пьян. Перекликаясь с замаскированными фонарями, деревья стояли, как всадники в красных плащах. Да высоко-высоко в поднебесье комнатная собачонка лаяла, как огонек. На скамейках никто не сидел — все лежали: в одиночку или попарно, кто с девушкой, кто просто так, от нечего делать. И у лежащих блестели вставные зубы (изумительным блеском!), как светлячки факельных шествий. Где-то кто-то играл на гитаре какую-то абракадабру. Было холодновато. И куда же я шел? Та-ра-ра, догадаться нетрудно. Я, естественно, шел в парикмахерскую. Теперь, слава богу, ни для кого не секрет, что в районе Куракиной дачи функционирует круглосуточная парикмахерская, где тяжелые травмы души превращают при помощи ножниц почти в никакие травмы, где при помощи полотенец-компрессов приводят в нормальное положенье маниакальное состоянье. Там мои парикмахеры — девушки с демоническими усами. Бритвы у них большие, как алебарды. Это — моя бригада коммунистического труда. При помощи алкоголизма, то есть местной анестезии, они отделяют не голову от туловища, а туловище от головы (а голова пока отдыхает в мраморной чаше), обрабатывают туловище с нежностью, свойственной девушкам, у которых усы, и приживляют его потом к голове, ну и так далее. (То есть, в каждой башке, в том числе; и в моей, — свой бардак и свои идеалы). Уже зажигались одни огоньки в каменных коридорах кварталов. Просыпались и засыпали дети мои — трамваи. Потому что у меня не было сосок-пустышек, трамваи никак не могли окончательно ни проснуться, ни заснуть. Скоро и в голубых небесах запестреют простые птицы. Говорят, птицы плачут. Не знаю. Не слышал. Ну, да бог с ними, с птицами и со слезами.5
Я сидел и курил на скамейке из камня. И мусолил свои потусторонние мысли. Рассветало. Деревья, которые в темноте были сплошными, как монументы, теперь разветвлялись. Улетало несколько листьев. Появились в окрестности дачи красные флаги и транспаранты. Проскакал какой-то автобус — ковбойский конь. Пульс мой бился все тише и тише, и, когда он стал абсолютно нормален, ко мне подошли. Их пьяные лица были так вдохновенны, как литавры краснознаменных оркестров. — А, — сказал я, — если вы хулиганы, то не бойтесь, подойдите поближе. — Мы не хулиганы, — сказали они, обиженные до глубины души, — мы амнистированные убийцы. Мы дети-цветы, букетики нравственности к юбилею. А ты кто такой? — сказали они и с достоинством вынули по револьверу. — Я иностранец. — Но не негр, не индус, не китаец и не араб, — поразмыслил один, — у тебя для такого случая что-то бледнолицая морда. — Молодец! — похвалил я его. — Только я говорю о стране. Каждый в мире вчера и сейчас и когда-нибудь есть иностранец. Потому что на нашей земле существуют мильярды стран, их столько же, сколько людей. Вы живете в своей, я в своей. Так и вы для меня иностранцы. — Вот как заговорил! — возмутился один. — Ты, как я предполагаю, незаурядный мастер художественного слова. Но мы простые советские амнистированные убийцы. Нам подавай патриотизм. — Ты не обидишься, — попросил другой, — если мы постреляем в тебя немножко из револьверов? — Какая обида? — воскликнул я с изумленьем. — Я уже тридцать лет живу в состоянье расстрела. Так стреляйте же, юноши, а я пойду туда, куда шел. И я пошел туда, куда шел. А они стали стрелять. Что это была за стрельба! Я шел, а они мелькали со всех сторон и стреляли мне в легкие, в уши, в живот, в ягодицы, в обе челюсти и куда попало. Не знаю, убили они меня или нет, но убежали. И когда я присел отдышаться после этой односторонней дуэли, ко мне подошла девушка, нет, принцесса, и ноги ее были сказочной красоты (остальное — кто обращает вниманье?), и сказала мне девушка голосом Гипсипилы, что любит меня уже семнадцать минут (показала часы), и пусть я не сомневаюсь, она — мое спасенье. Так всегда. Стоит только присесть, чтобы чуть-чуть отдышаться, — кто-нибудь обязательно явится, чтобы спасти. Как проявленье любви (как будто больше любовь нельзя никак проявить), она расчесала мне волосы бриллиантовым гребнем, и из волос моих выпала пуля. — Что это, миленький? — осведомилась принцесса. — Это же еще совсем теплая пуля! — Да, это пуля, — сказал я просто и кратко. — Как же это она выпала из волос? — Она выпала не из волос, а из темени, — объяснил я не без улыбки. — Но ведь это значит, что вы тяжело ранены или мертвы. — Может быть, я и ранен. Не исключено, что мертв. Но какое все это имеет непосредственное отношенье к вашему, сука, существованью? — Освободимся от ран! — закричал я, весело разрывая одежду и вспарывая себя, как лягушку, и вылезая из кожи, как из комбинезона, и отстраняя кожу с лица, как гипсовую маску, но без ушей. — Освободимся от ран! — кричал я, потрясая сорванной шкурой (пусть из нее посыпятся пули — все до последней!). — Ах, — сказала принцесса со сказочными ногами, — я любила вас ровно двадцать четыре минуты (показала часы) и вот, разлюбила. Разве можно быть таким нетактичным, чтобы так раздеваться с первого взгляда? — Извините, — сказал я. И я снова влез в свою кожу и застегнул ее на животе, как перелицованное пальто, и поклонился я миру, как муэдзин на мечети, и, потому что солнышко уже показалось в пространстве, я сделал такое официальное заявленье: — Красота! Да здравствует солнце!6
О унеси меня в ненастоящее время, в несуществующий сад, где собаки и дети, где вертикальные ветви и где над ветвями вишни, как огоньки над свечами, теперь трепетали. О унеси меня в марсианские государства, где мавзолеи и фейерверки, музыка масок, где ни души, а в туземных таинственных душах не доискаться сентенций и сантиментов. О унеси меня в мир, где нет пользы ни в силе моей, ни в бессилье, сделай меня мертвым монгольской смертью случайной или сумасшедшим, будь оно проклято, ваше вассальное счастье — каменных комнат, административного ада. О унеси меня в море под парус последний, дай мне сегодня судьбу — молитву морскую: «ДАЙ МНЕ, О БОЖЕ, УТЕС — РУЛЬ МОЙ БУДЕТ ПРЕКРАСЕН, ДАЙ МНЕ, О ГОСПОДИ, БУРЮ, ЧТОБ УСТОЯТЬ!»ПЬЯНЫЙ АНГЕЛ 1969
«Во всей вселенной был бедлам…»
Во всей вселенной был бедлам. Раскраска лунная была. Там, в негасимой синеве, ушли за кораблем корабль, пел тихий хор простых сирен. Фонарь стоял, как канделябр. Как факт — фонарь. А мимо в мире шел мальчик с крыльями и лирой. Он был бессмертьем одарен и очень одухотворен. Такой смешной и неизвестный на муку страха или сна, в дурацкой мантии небесной он шел и ничего не знал. Так трогательно просто (правда!) играл мой мальчик, ангел ада. Все было в нем — любовь и слезы (в душе не бесновались бесы!), рассвет и грезы, рок и розы… Но песни были бессловесны. Душа моя. А ты жила ли? Как пес, как девушка, дрожа… Стой, страсть моя. Стой, жизнь желаний. Я лиру лишнюю держал. В душе моей лишь снег да снег. Там транспорт спит и человек. Ни воробьев и ни собак. Одна судьба. Одна судьба.«Вот было веселье…»
Вот было веселье (толпа — протоплазма!) — вчера во вселенной был ад или праздник. Какой-то уродец какого-то класса каким-то народам по радио клялся. Народы замерзли, туда и обратно несли зынамены и тыранспаранты. По счастью шабаша (фанфары — фальцетом!) плясали на башнях пятьсот полицейских. Я, пьяный и красный (глаза — Саваофа!), шатался по кассам и по стадионам: «Мир, Равенство, Братство!» — кабацкое племя, кабацкое блядство, кабацкое время! Я страшно согрелся. На лестнице гнусной светил сигареткой… Потом я очнулся. Где вина? Где донны? Где я? Неизвестно. Две звездочки только, два глаза небесных. И не было Феба и радиоарий. По нежному небу летал пьяный ангел. Простор предрассветный. На крыльях по лампе. Летал он, предсмертный, и, может быть, плакал. А может быть, может, над нашими льдами душа моя тоже летает, летает… А может, из странствий я так возвращался, а может, в пространстве я так воскрешался.«О, призывайте…»
О, призывайте, призы давайте, о, признавайте, не признавайте. Ведь не во мне же, мой жребий брошен, мне нужно меньше, чем птице прошлой. И в ваши ночи, и в ваши нови из всех виновных я всех виновней. Какие цели? За чью свободу? Лишь ложь и цепи нужны народу. Какие судьбы я развиваю? Святые струны я — разрываю! Судьбе коварства, суду без Бога и веку Вакха отмстим безмолвьем.«Мой ангел уснул (зачем прилетел?)…»
Мой ангел уснул (зачем прилетел?). Он спал. Он хорошего только хотел. Он с крыльями спал и лирой. А лира была лишней. Он завтра проснется: «Простор, прояснись! Небесными мастерами спускается солнце!» Солнце… Проснись, мой ангел, мой марсианин. Здесь в каменных комнатах (о, улетай!) с любовью (тяжелая тема!) лежало у полумужского лица лицо полуженского тела. Уснули кварталы (такая тюрьма!). На улицах лишь пустота или тьма. И что ни окошко — флюгер. И фонари — что фрукты. Своя современность. И не мечтай. Она — одна — современность. Проснись, улыбнись и улетай, и улетай — все время!«На светлых стеклах февраля…»
На светлых стеклах февраля блеск солнца замерцал. У фонаря, у фонаря мой ангел замерзал. О, ни двора и ни кола! Он в небесах устал. Совсем сломались два крыла, и он уже упал. Во всей вселенной был бедлам. Работали рабы. Лишь лира лишняя была, и он ее разбил. А мог бы получить полет в прекрасных небесах. Сначала он разбил ее, потом разбился сам. Рассвет фигуры февраля в пространство удалял. У фонаря, у фонаря мой ангел умирал. Лишь бог божился: «Надо жить!» (Он, публика, умна!) О, ни дыханья, ни души на улицах у нас. Ни бог страниц не написал ни о добре, ни зле, ни ненависти к небесам и ни любви к земле. Оттаивали огоньки по спальням для спанья. В теснинах страха и тоски все спали. Спал и я. Какой-то ангел (всем на смех!) у фонаря сгорел. Я спал, как все. Как все, во сне я смерть — свою — смотрел.«Мне и спится, и не спится…»
Мне и спится, и не спится. Филин снится и не снится. На пушистые сапожки шпоры надевает. Смотрит он глазами кошки, свечи зажигает: — Конь когда-то у меня был, как бес крылатый. Я пришпоривал коня и скакал куда-то. Бешено скакал всю ночь, за тебя с врагами саблей светлой и стальной в воздухе сверкая. За тебя! Я тихо мстил, умно, — псы лизали трупы! Месяц моросил светом и слезами. Это — я! Ты просто спал, грезил, — постарался! Просыпайся! Конь пропал. Сабля потерялась! — Мне и спится, и не спится. Филин снится и не снится. В темноте ни звезд, ни эха, он смеется страшным смехом, постучит в мое окно: — Где мой конь? Кто прячет? Захохочет… и вздохнет. И сидит, и плачет.«Так-так сказал один мертвец…»
Так-так сказал один мертвец другому мертвецу: — Ты мудрец, и я мудрец, поедем к мудрецу. — Поехали, приехали. Оставили ослов. Поспорили о веке — основе из основ. Все было: чары, чертов круг, мечты, молитвы (эх!). И был тот третий милый друг мертвее мертвых всех. Так стало трое мудрецов — произошел прогресс. О, мысли! Пища мертвецов! О, песенки повес! А вывод? Все на свете — смесь. Все весело, ей-ей! И жизнь — есть жизнь, и смерть — есть смерть, все в сумме — БЫТИЕ.Песенка Мефистофеля
Я веселый Мефистофель, я лишь миф, а мафий столько! Все в отчаянье — ой, мама! — в мире мифов или мафий. В нашей солнечной геенне кто проспался, тот и гений, — то ли фавны, то ли готты, то ли Фауст, то ли Гёте? Там дворец или мансарда? Вы принцесса или самка? Кто красавец, кто уродец? Успокойтесь, все умрете. Пой, поэт, пора проститься, ждет экскурсия по Стиксу… Я вас славлю словесами, остальное — славьте сами.Детская песенка
Спи, мой мальчик, мой матрос. В нашем сердце нету роз. Наше сердце — север-сфинкс. Ничего, ты просто спи. Потихоньку поплывем, после песенку споем, я куплю тебе купель, твой кораблик — колыбель. В колыбельке-то (вот-вот) вовсе нету ничего. Спи. Повсюду пустота. Спи, я это просто так. Сигаретки-маяки, на вершинах огоньки. Я куплю тебе свирель слушать песенки сирен. Спи, не бойся за меня. Нас сирены заманят, убаюкают, споют, потихонечку убьют. Спи, мой мальчик дорогой. Наше сердце далеко. Плохо плакать, — все прошло, худо или хорошо.«Погасли небесные нимбы…»
Погасли небесные нимбы. Нам ангелы гневные снились. Там трубы трубили: «Священная месть! Восстанем на вся! Велите!» Метался во тьме Тамерланов меч… Мой ангел… воитель! Прочь слезы и страхи! К мечу и кресту! Мы, ищущие, обрящем! Вашу вселенскую красоту кровью окрасим! Бой небу! Господи, благослови! Месть — смерти! Святись, свобода!.. А у самого — крылья в крови, у самого-то…«Месяц март на дворе, месяц март…»
Месяц март на дворе, месяц март. Он, как все, не велик и не мал. Может быть, на снегу снегири где-то… где?.. А на улицах псы. Через месяц и мне тридцать три. Не прощай ничего, но прости, что принес эту смерть, этот крест на Голгофу твою. Боже мой, не спасай меня, — надоест. Я ведь хуже, если живой. Если тост — за Иуду тост! Он легенду лишь дополнял. Что Варрава и что Христос — одинаково для меня. Дух, деянья — лишь сказки каст, мне — лишь мир, лишь его возьму. Одинаково — жизнь или казнь, мир — он милостив ко всему. Мир — он милостив и ко мне. Освистите — не освищу. Не кидайте в меня камней. Я и сам себе не отпущу ни греха. Опустите крест громогласных своих Голгоф. Месть — за смерть! Если это месть, — мстите, Господи. Я готов.«Ходит и ходит…»
Ходит и ходит на цепи птица с костяным клювом. И стучит клювом по стальным стеклам моего неба. Кто ты есть, птица? Ты — судьба стаи? Ты — ничья клятва? Ты — мои мысли? Ты — мои крылья? Ты — мои цепи? Клавиши света. Мрамор кладбища. Вопли ведьм пьяных. Странности страсти каменных комнат, — о, объятья! Лают псы в псарнях, родились люди для работ рабства. Вот ушли луны, унесли звезды, — царствует солнце! В небесах — нимбы! Написать мне бы сто страниц солнца.«Май прошел, как ангел пролетел…»
Май прошел, как ангел пролетел, ничего — ни сердцу, ни уму, может, было в мае пара дел, может, нет, — а ну их, ни к чему, не ищи виновных, не щади, я искал, виновен, я — все знал, май самоубийств и нищеты под тотальным титулом «весна», осуждаю — я оставил пост, но кого пасти? О, не живой, мертвый май, он просто — пьян и прост, так себе, не нечто, а ничто, суть существования — котел, или крест, — не мне, не по плечу, признаюсь: я глуп, но и хитер: пользуйтесь! я что-то не хочу.«Знал я и раньше…»
Знал я и раньше, да и недавно, страх страницы… Рассказать разве, как над Нотр-Дамом — птицы, птицы. Рассветал воздух, воздух звезд. Луны уплывали. Транспорт пил воду химии. Люди уповали. Про Париж пели боги и барды (ваша — вечность!). Ведь у вас — перлы, бал — баллады, у меня — свечка. И метель в сердце — наверстай встречи! Где моя Мекка? В жизни и смерти у меня свечка, мой значок века, светофор мига, мой простой праздник, рождество, скатерть… Не грусти, милый, все — прекрасно, как — в сказке. Гении горя (с нашим-то стажем!), мастера муки! Будь же благ, город, что ты дал даже радость разлуки. Башенки Лувра, самолет снится, люди — как буквы, лампочки — луны, крестики — птицы… Будь — что будет!Продолжение Пигмалиона
Теперь — тебе: там, в мастерской, маски, тайник и гипс, и в светлячках воздух, ты Галатею целовал, мальчик, ты, девочка, произнесла вот что: «У нас любовь, а у него маски, мы живы жизнью, он лишь труд терпит, другую девушку — он мэтр, мастер! — ему нетрудно, он еще слепит». Так лепетала ты, а ты слышал, ты спал со мной и ел мои сласти, я обучал тебя всему свыше, мой мальчик, обучи ее страсти. Мой ученик, теперь твоя тема, точнее — тело. Под ее тогой я знаю каждый капилляр тела. Ведь я творец. А ты — лишь ты, только. В твоей толпе. Теперь — твоя веха! И молотками — весь мой труд, трепет! И молотками — мой итог века! — «ему нетрудно, он еще слепит!» Теперь — толпе: я не скажу «стойте!». Душа моя проста, как знак смерти. Да, мне нетрудно, я слеплю столько скульптуры — что там! будет миф мести! И тем страшнее, что всему миру вы просчитались так. И пусть пьесу вы рассчитали молотком — «минус», миф — арифметика, и «плюс» — плебсу. Теперь убейте. Это так просто. Я только тих. Я только в труд — слепо. И если Бог меня лепил в прошлом, Ему нетрудно, — Он еще слепит.«Все равно — по смеху, по слезам ли…»
Все равно — по смеху, по слезам ли, все равно — сирена ли, синица… Не проснуться завтра, послезавтра, никому на свете не присниться.Хутор
Действующие лица:
Пьяный Ангел
Девушка
Автор
Хор
Автор:
Холм, на холме хутор со шпилем, и мяукает кошка. Два окна: красное, освещенное, второй этаж; черное стекло — первый. На холме пасется белая лошадь, живая или бутафорская. Кусты: крыжовник и красная смородина. Беседка, увитая плющом и жасмином. Беседка открыта зрителю: деревянные пни вместо кресел, плетеный столик. Подсвечник, свеча. Над беседкой какие-то проволочки для белья или для фонарей. Далеко — дорога. Проносятся полосы света. У подножья холма баня и пруд. Между беседкой и баней колодец. Он цементный. Деревянный ворот, ведро, цепь. У колодца на каменной скамеечке Девушка, простое платье, волосы распущены. Нежная мгла. Во мгле луна, как восходящее солнце, красная. Болтаются какие-то последние бабочки, а по всей сцене висят фонари. Появляется Пьяный Ангел — из колодца. Он в белом. Отряхивается. Нимб.Ангел:
Меняю лиру на гитару, меняю небо на поля, я — сам свой раб, я — сам свой табор, не трогайте меня, я пьян. Не в небе, не на постаменте, я сам собой в веках возник, я вырвал сам себя из смерти и в смерти сам себя воздвиг. Не сеятель и не податель, мне нет Иуды, нет Суда, я — сам свой суд, я — сам предатель, я — сам себе своя судьба. Меняю знаки на загадку, меняю крылья на коня, семь заповедей — на цыганку, я пьян, не трогайте меня. Все — и ничто!.. Ничуть не легче атланту или муравью. Меняю весь Род человечий на душу малую мою!Девушка (указывая на колодец):
Ты что там делал? Ты — тонул?Ангел:
Я спал.Девушка:
В колодце. Как обычно!Ангел:
Пришел, увидел и… уснул. И — спал. И — снилось мне.Девушка:
Отлично. В воде (плевать на атмосферу!) окаменел и спал, герой!Ангел:
Вода была, пожалуй, сверху, а камень, что ж… под головой.Девушка:
Фантастика. (Солгал, не ахнул!..) Потом про это напишите.Ангел:
Так спят все ангелы.Девушка:
Вы — ангел?Ангел:
Увы, я — ангел. Небожитель.Девушка:
Ты пьян, паяц.Ангел:
Не отрицаю. Паяц — пустяк. Я — пьяный дух.Девушка:
Где, Дух, вы пили?Ангел:
Отвечаю со всей охотой: пил в аду. Тринадцать нас (персты на лирах) — посланцы Неба к Сатане. Традиционный посох мира. Сераль русалок. Хор сирен. Фанфары. Тосты. Ад и Небо! Святой союз! Святись, свобода! Врачуются вино и нектар. Весь мир — мирянам, род — народам! Ну, бесы все перебесились, не пир — конспект войны Ливонской, бутылок — что твоих Бастилий, колбас — что змей Лаокоона! Светало солнце и садилось. Котлы. У дьявола в купели я пил один среди сатиров. Посланцы, помню, улетели. Тсс… девушка. В такой таверне я… стикс ин вино перешел. Там поутру мне третьи трели пел пересмешник-петушок: «Ты ангел? — Бес. — Ты бес? — Не знаю. Хороший хохот: те и те лишь диалектика названий и суесловие систем. Восстань, вассал! Какому клиру деянья детские развил! Разбей божественную лиру, все — трын-трава!» И я разбил. Я вышел в нимбе (нимб калорий?). Я — символ истин интеллекта! И вот, пожалуйста, в колодце очнулся… Гнусно.Девушка:
Интересно. Неплохо и про трын-траву.Ангел:
Ты что здесь делаешь?Девушка:
Живу.Ангел:
Конкретнее. Какая эра? Где глобус? Что за государство?Девушка:
Живу, как всё — как то и это.Ангел:
Уже целуешься?Девушка:
Гусарство.Ангел:
Не нравится?Девушка:
Для вас — нормально.Ангел:
Я не опасен и не злой. На двух ногах по наковальне, я между небом и землей, как Гера некогда…Девушка:
Живая…Ангел:
повис. Туда, сюда — ни-ни.Девушка:
Живу и жду — живу — желаю….Ангел:
Всё грезы-розы?Девушка:
Да. Они.(Беседуя таким образом, Пьяный Ангел и Девушка передвигаются в сторону беседки. Уже в беседке. Свеча. Светлячки. Бьют часы. Девушка вяжет. Спицы.)
Девушка (поет):
Столетье спустя, в январе был маленький храм. Святители на серебре, нехитрый хорал. Свеча и алтарь. В тайнике там ангел стоял, и лира на левой руке, и благословлял. О, волосы бел ковыли! Молитвы слагал про тех, кто повел корабли в снега и снега. Как радостно было у нас, когда над свечой, как маленькая луна, блестел светлячок! Столетье спустя и еще с востока пришли какие-то люди с мечом и люди с плетьми. Они обобрали наш храм, алтарь унесли и юношей (вот и хорал!) на торг увели. Совсем отгорела свеча, лишь сторож-фантом ходил, колотушкой стучал, да помер потом.Ангел:
Ты помнишь песню обо мне?Девушка:
Не о тебе, о том, о нем.Ангел:
Невеста!Девушка:
Не твоя!Ангел:
О нет! Отныне он и я — одно. Невеста! Крест и три перста! Благословляю и люблю!Девушка:
Ты — пьян.Ангел:
Святая простота! Последний миг — умру — ловлю! Пророк — про рок, про свет — поэт, мне — нет судьбы и нет святилищ, мне просто в мире места — нет. Не жалуюсь, уж так случилось. Раскаянье. Хоть раз в века в тех лабиринтах мира — Крита живые души развлекать, моя — мертва.Девушка:
Моя калитка за баней. Шествуйте, дружок!Ангел:
Я послан за твоей душой.Девушка:
Кем послан?Ангел:
Сам собой, невеста.Девушка:
Так сам себя и отошли.Ангел:
Куда? Ни местности, ни места отныне мне не отвели.Девушка:
Наверх! Ты сверху. Там просторно для пьяных ангелов-Вийонов, там семь седалищ, семь престолов блюдет блудница Вавилона. Бал — для любви, мечи — для мести, апокрифическая дверь в небытие. Там все на месте: Борьба — и Братство — Ангел — Зверь. Что я? Такие там и тут, провинция мы, вы — столицы. Вам — небеса, нам — только труд. Мы — хор Христа, а вы — солисты.Ангел:
Не Дух Святой, а варвар Рима, не Цепь и Пух, а — лай! Лови! Не царь-рапсод, а только рыцарь пой-песенок и май-любви в столицах ваших (аллилуйя!) временщиков, воров и цифр страсть проповедуют холуи и хамы стали хитрецы. «Дух Творчества! Ты так прекрасен! Наш дух у нас на высоте! Все памятники перекрасим в любимый цвет своих вождей!» О, плебисциты толп и путчей! Все мало, — публика умна: ей не хватает только пули свинцовой в сердце у меня. Ты — труд. Я — Дух. Одной бумагой: за труд — тюрьма, за Дух — топор… Когда очнется Пьяный Ангел над окаянною толпой, — так! Только трепет! Гроздья гнева! Иерихонская труба! Возмездье всем и вся! Бой Небу!Девушка:
Я девушка, а не толпа.Ангел:
Спаси меня!Девушка:
Спасет, уймитесь…Ангел:
Спаситель?!Девушка:
«Быть или не быть?!»Ангел:
Так пожалей.Девушка:
Жалеть — унизить.Ангел:
Унизить — лучше, чем убить!Девушка:
Ты — трус.Ангел:
Не вождь. Не неужели вожди (знак «вождь» — от сатаны!) предпочитали униженье себе и смерть — всем остальным. Жрец — жертвой, девственница — блудом, тиран — тиарой, Вакх — вином, Христос — крестом, бастилец — бунтом, Стикс — смертью, Вавилон — войной, сирена — сном, солдат — стараньем, хулой — Харон, хвалой — холуй, все сущее — существованьем унижено!Девушка:
Не существуй!Ангел (ослабел):
Не существуй… Там неземная звезда… Там полюс… Дождь повис…Девушка:
Там — дождь идет? (Смеется.) Куда?Ангел:
Не знаю. Идет, как все мы — сверху вниз. Вдох-выдох, время — мех кузнечный, конец… ни страха и ни сил… Кто это тикает? Кузнечик?Девушка:
Чердак! На чердаке — часы! (Веселится.)(Ангел умирает.)
Девушка:
Эй-эй!.. Уснул… Цитаты библий… Архаика… еще пугал! Смешной, смешной!(Переворачивает Ангела: крылья, кровь. Вскрикивает.)
А КРЫЛЬЯ — БЫЛИ! Он — Ангел, правда! Он — не лгал!(Пауза, рассвет, свеча совсем маленькая, полосы света проносятся и тают в воздухе.)
Девушка:
Живем, как в пропасть, как — впустую, пылинки плача на весах, прости, прости меня, простую, что знала я о Небесах?! Там лишь туманы. Только стаи. Секундомеры-облака. О, скука скорости и стали! Что обреченных обрекать! Нет — Неба! Темнота — тенета! Не зная ни добра, ни зла, на всех копытах континентов пасется первая земля над пропастью. Ах, Ангел, брат мой! Что Дух? — лишь таянье теней! Что чудеса! Простая правда простым нам ближе и нужней. Душа! расстаться — расплатиться. В который рок, в который раз на душу дунешь — разлетится по искоркам — и нету нас.(Занавес.)
Хор за занавесом:
Фарс фарисея, барабан боли это творенье. Суету сеют бесы и боги, тьма и томленье. Это их игры света и смерти, тайны и знаки. Нет наших истин: солнце, как сердце, бьется над нами!(Занавес поднимается.)
Автор:
Холм, на холме хутор, два окна, пасется белая лошадь, кусты, беседка, столик, подсвечник, свеча, проволочки, дорога, баня и пруд, колодец, бабочки болтаются, фонари висят, мгла — нежная, луна — красная, Девушка — в простом платье.ПРОДОЛЖЕНИЕ 1970
«Тише, тише…»
Тише, тише, мысли-мыши, кот на крыше — кыш! кыш! Кот-мяука, ловит муху, ловит муху, мой малыш! Тише, тише, мысли-мыши! Кто на крыше? кыш! кыш! Это бесы плачут в бедных колыбелях, мой малыш! Тише, тише, мысли-мыши! Боги слышат, мой малыш! Боги эти тоже дети, а на свете лишь тишь…Гамлет и Офелия
Гамлет:
Неуютно в нашем саду — соловьи да соловьи. Мы устали жить на свету, мы погасим свечи свои. Темнота, тихо кругом, лает пес, теплится час, невидимка-ангел крылом овевает небо и нас. Неуютно в нашем дворце, всё слова, Гамлет, слова. И сидит в вечном венце на твоем троне сова. Это рай или тюрьма, это блеск или луна? В небесах нежная тьма, Дух Святой, дьявол она. Неуютно в наших сердцах, целовать да целовать. Уплывем завтра, сестра, в ту страну, где благодать!Офелия:
Где страна, где благодать? Благо дать — и умереть. Человек — боль и беда. Только — быть, и не уметь умереть. Быть — целовать, целый век просто — пропеть, целый век быть — благо дать, целовать, и не успеть умереть. В нашем саду лишь пчела с птицей поют, лишь цветы, лишь на свету паучки что-то плетут… Да летят искры стрекоз, ласки сна, тайны тоски. В золотых зарослях роз лепестки да лепестки. Ты потрогай — рвется струна, Аполлон требует стрел. Этот знак «сердце-стрела» устарел, брат, устарел. Только трепет и тетива! Или их, или себя! Этот сад, весь в деревах, огонь и меч их истребят.Гамлет:
Про деянья или про дух. Про страданья или про страх. Вот и вся сказка про двух: жили-были брат и сестра. В той стране, в той голубой (журавли не долетят!), там была только любовь, у любви только дитя. До зари звезды дрожат, вся цена жизни — конец. Ты послушай: дышит душа, бьется, бьется в теле птенец. Их любовь слишком светла, им Гефест меч не ковал. Жили-были брат и сестра, и никто их не карал. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ничего нет у меня, ни иллюзий, и ни корон, ни кола, и ни коня, лишь одна родина — кровь.Орфей
Им — венец, нам — колпак фригийский! Обещанья отцов — о где же? Эти — эллины, мы — фракийцы. Так погасим очаг отечеств! Кифареды, порвите ноты! С плеч долой купола Атласа! Не пропустим их в наши ночи, нашим плачем их не оплачем! Да бесславными чтобы были мир-мираж или войны-вопли, пусть мычат эти очи бычьи, это волчье веселье веет! В этой жизни (о неживая, каземат, коридоры кары!), в этой жизни жить — не желаю, разбиваю свою кифару! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В водах Гебра вакханки вьются, их тела в ореоле лилий под телами юношей бьются, а над ними — созвездье Лиры. Я уже — распростимся — умер. Кровь моя растворилась как-то. Голова моя утонула, в океаны ушла кифара.Исповедь Дедала
В конце концов признанья — тоже поза. Придет Овидий, и в «Метаморфозах» прославит имя тусклое мое. Я — лишь Дедал, достойный лишь Аида; я лишь родоначальник Дедалидов, ваятелей Афин и всех времен. В каком-то мире, эллинов ли, мифов, какой-то царь — и Минос, и не Минос, какой-то остров — Крит или не Крит. Овидий — что! — Румыния, романтик, я вовсе не ваятель, — математик. Я Миносу построил лабиринт. Все — после: критских лавров ароматы, Тезей и паутинка Ариадны, Тезея — Диониса маята, Плутарха историческая лира о быко-человеке Лабиринта, чудовище по кличке Минотавр. Все — после. Миф имеет ипостаси. Я не художник. Я — изобретатель. Лишь инструменты я изобретал: топор, бурав, и прочие, а кроме — пришел на скалы, где стоял Акрополь и где — я знал! — стоял художник Тал. Там он стоял. В сторонке и отдельно в темнеющей от вечера одежде, ладони рук, приветствуя, сомкнул. Я поприветствовал и, обнимая, и, постоянно руки отнимая, отпрянул я! И со скалы столкнул. Сын брата моего и мой племянник, для девушек — химера и приманка, для юношей — хулитель и кумир, мечтатель-мальчик, с мышцами атлета, вождь вакханалий, с мыслями аскета, которого учил я и кормил, которого ни слава не манила, ни доблести. И не было мерила в его судьбе — сама собой судьба. Животное и труженик. Неверно: «раб творчества» или «избранник неба», все проще — труд избранника-раба. Как я убил? Известно как. Извольте: на скалах водоросли и известка, он поскользнулся и упал, увы! Кто и когда вот так не оступался… Я счастлив был. Но как я ошибался! Я не его — я сам себя убил. Они меня ни в чем не обвиняли, и добросовестные изваянья мои — кирками! под ступени плит! Был суд. И казнь. Я клялся или плакал. Был справедлив статут Ареопага. Я струсил смерти. Я сбежал на Крит. И как волна Эгейская играла! Все после — Минос, крылья, смерть Икара… Не помню или помню кое-как. Но идолопоклонники Эллады про Тала позабыли, а крылатость мою провозгласили на века. Смешные! Дети-люди! Стоит запись в истории оставить всем на зависть, толпа в священном трепете — Талант! — И вот уже и коридоры Крита, и вот мои мифические крылья, «да не судим убийца — он крылат!» Орфеев арфы и свирелей ноты, орлы небес и комары болота, хохочет Хронос — судороги скул! Кому оставить жизнь — какой-то розе или фигуре Фидия из бронзы? Не дрогнув сердцем, говорю — цветку. Он, роза, жив. Отцвел и умирает. А Фидий — форма времени, он — мрамор, он — только имя, тлен — его талант. Ни искупленья нет ему, ни чувства, а то, что называется «искусство», — в конце концов, лишь мертвые тела. Кто архитектор, автор Пирамиды? Где гении чудес Семирамиды? О Вавилонской башни блеск и крах! Где библии бесчисленных отечеств, переселенье душ библиотеки Александрийской? Все, простите, прах. Искусством правят пращуры и бесы. Художник — только искорка из бездны. Огни судьбы — агонии огни. Остановись над пропастью печали, не оглянись, тебя предупреждали! О прорицатель, о не оглянись. Не оглянись, художник. Эвридика блеснет летучей мышью-невидимкой, и снова — тьма. Ни славы, ни суда. Ни имени. И все твои творенья испепелит опять столпотворенье. Творец — самоубийца навсегда. Все, что вдохнуло раз, — творенье Геи. Я — лишь Дедал. И никакой не гений. И никакого нимба надо мной. Я только древний раб труда и скорби, искусство — икс, не найденный искомый, и бьются насмерть гений и законы… И никому бессмертья не дано.Гомер
1 «На небеса взошла Луна…»
На небеса взошла Луна.
Она была освещена.
А где-то, страстен, храбр и юн,
к Луне летел какой-то Лун.
Не освещенный, не блистал.
Он лишь летал по небесам.
Сойдутся ли: небес канон —
она и невидимка — он?
2 «Там кто-то ласточкой мелькнул…»
Там кто-то ласточкой мелькнул.
Там кто-то молнией мигнул.
Кузнечик плачет (все во сне!).
И воет ворон в вышине.
Чей голос? Голосит звезда
или кукушка без гнезда?
Овчарня — овцам. Совам — сук.
Когтям — тайник. Копытам — стук.
Ах, вол и волк! Свободе — плен.
Льду — лед. А тлену — тлен и тлен.
И за слезу в последний час
как семь потов — в семь смертных чаш
3 «И вот — кристаллики комет…»
И вот — кристаллики комет…
Кому повем, кому повем,
не злой, не звонкий я, поэт,
и зло и звон моих поэм?
Иду под пылью и дождем,
как все — с сумою и клюкой,
ничто не жжет, никто не ждет,
я лишь ничей и никакой.
Нет, я легенд не собирал,
я невидимка, а не сфинкс,
я ничего не сочинял,
Эллада, спи, Эллада, спи.
Спи, родина, и спи, страна,
все эти битвы бытия,
сама собой сочинена,
ты сочинила, а не я.
Что на коне, что на осле,
мне все едино — мир и миг,
и что я слеп или не слеп,
и что я миф или не миф.
Последний лес
Мой лес, в котором столько роз и ветер вьется, плывут кораблики стрекоз, трепещут весла! О соловьиный перелив, совиный хохот!.. Лишь человечки в лес пришли, мой лес обобран. Какой капели пестрота, ковыль-травинки! Мой лес — в поломанных крестах, и ни тропинки. Висели шишки на весу, вы оборвали, он сам отдался вам на суд, вы — обобрали. Еще храбрится и хранит мои мгновенья, мои хрусталики хвои, мой муравейник. Над кутерьмою тьма легла, да и легла ли? Не говори — любовь лгала, мы сами лгали. Вверху, по пропасти, плывут кружочки-звезды. И, если позову «ау» — не отзовется. В лесу шумели комары, о комарилья! Не говори, не говори, не говори мне! Мой лес, в котором мед и яд, ежи, улитки, в котором карлики и я уже убиты.ИЗ ЛЕСИ УКРАИНКИ 1971
Быть или не быть…
Стой, сердце, стой! не бейся и не бейся! Ты, лира, не листай свои страницы. Наш алфавит остановись на «альфа». Что я имела или не имела, — кому какое… В общем, вот и все. Путь прост, о Боже. Прост лишь потому, что просто путь — беспутье. Кое-где какие-то тропинки кое-как и кем-то перепутаны, — плетутся… Вон — толпы. Это пахари. И — пашут. За ними — толпы. Сеятели. Сеют. Телеги. Лошади. Волы. Рассвет. И солнце с красной пляской на оралах. Что ж — рассвело! Пора перековать на что — увы, еще не знаю — сердце, а лиру — знаю: лиру — на орало. «Встань и иди!» И встану, и пойду без устали туда. И без усилий сольюсь: плечом к плечу, след в след. Мы пашем пашню! Сеем семена! Ждем урожая! Уже и урожай! Хлеб наш насущный даждь нам днесь, Творец…«Как Израиль был испепелен и пленен…»
Как Израиль был испепелен и пленен, стал рабом твоим, Вавилон. И, колени склонив, государства отцы победителям даровали дворцы. Как трудящемуся независимый труд: плуг, топор, и лопата… и кнут. Та толпа, что толпилась в труде и борьбе, воздвигала подвалы и тюрьмы себе. Все в работу пошло: и противовес, шнур и гиря, и Книга Чудес. И хранитель, что храм Иеговы хранил, храм убийц подметал, Иегову хулил. И никто не почувствовал: это конец. Только арфу на вербу повесил певец.Песня с кладбища
Я на каком-то кладбище дышала. Там Божья Матерь младенца держала. Там стрекоза над крестами дрожала. Матерь шептала: — Уймись и усни! Счастье — сны. Что человечество — даты и даты смерторожденья — демон ли, Данте… Спать? Ох и спится в коляске дитяте! Кто не мертвец, а в могиле лежит, тот — спит?«Было: в начале было Слово…»
Было: в начале было Слово. Нет у нас ни слова. Аира Орфея — созвездье Лиры. Где наша лира? В Иерусалиме был Иеремия, в панике плебса — Голос! Мы не имеем Иеремию. Слаб и блудлив наш голос. Страшен и страстен изгнанник Отчизны Данте — ангел ада. Мы — изгнанники в нашей отчизне. Нет у нас Данте. Слово, Лира, Иеремия, Голос, Отчизна, Данте… Боже, просто попросим хлеба, — не подадут камень.«Венец из терна лучше тиары тирана…»
Венец из терна лучше тиары тирана. Путь на Голгофу лучше марша триумфа. Так — было; и так — да будет! пока жив человек, пока растет терн. Прутья терна превратятся в венец, если дышит душа человека, если не укрощает себя — украшает венцом вечным! АВЕ! Путь на Голгофу лучше, если идущий знает, на какую кару, как и куда идет он и не ищет, и ни о чем не мечтает, — всевышняя воля Всевышнего Бога. Но, если, кто-то, просто, так, поранил, сам, себя, терном, сам, себя, не зная, — о пожалей, Боже, эту кровь овна! Жертва — не жребий. Искра Прометея — не звон звезд Олимпа. Твердыня титана — не трепет тронов. Искра истин, а потом — пламя! Струны простолюдина — воловьи жилы. Струны фарисея — золототелые арфы. Вопль воловий лучше дифирамба. Так — было, и так — да будет! пока еще люди, пока еще струны.Мы (товарищам на память)
Мы паралитики с блестящими очами. Мы — воробьиные орлы. Какие крылья держим за плечами в чехле? А на ключицах — кандалы. Убежище? Возможно, и возникнет. Но ключ тюремщик не доверит нам. Не нам, не нам, невольникам, воскликнуть: — Мой дом — мой храм! Наука наша — атомы кладбища. Искусство — гладиатор или цирк. Религия — цитатники для нищих. Жрецы — от слова «жрать» жрецы. Закон — загон скота (в решетках — щели!). Честь человека — полицейский цех. Права — лечебница для сумасшедших. Семья и племя — свальный грех. Народ — дитя с бельмом, уродец, гофман, медуза, апокалипсиса плюс. Гордится, что годится на Голгофу, — «тиран, предатель или трус». Ни срама нам, ни чести нам, — сарматы! Пустыня мы, — в конце концов, — пустяк. Вопрос: существовали ли солдаты, которых звал под знамена Спартак?Народ — пророку
Ты нас проклял. Ты — войско. Мы — тыл. Ты есть — Дух! Мы — толпа и телесность. Мы — повинность. Судилище — ты. Ты — пророк. Мы — ничто, неизвестность. Меч и молнии был твой глагол! Ты преследовал без передышки. А теперь ты бессилен и гол перед нами… и дышишь… и дышишь… И мерещится, что приравнял: му-у-ки мирового пространства ты от нас, от народа, приял за свое мессианство! Ты нам славу и совесть сулил, пробужденья прекрасную чашу. И расстреливал, вешал, судил нас, народ, — именем нашим! О когда б ты борьбой не бряцал, не смеялся над плебсами-псами и проклятия в нас не бросал, мы б камнями в тебя не бросали! Но спокойствие: не пропоем память мученика и провидца. Мы камнями тебя не побьем и оплевывать не помыслим. Ибо таинство это и миф станет на руку всем поколеньям, будто снова судилище — мы, снова жертва — ты, мы — глумленье. Не допустим легенд. Погоди. Мы осмотрим тебя и отпустим. Где всевидящий вождь-поводырь, кто не вел нас вслепую, в беспутье? Ты — пытался. Но как? Хоронил все надежды (не Небом — по суху). Не кляни же ты нас, не кляни, проклинай своих братьев по духу! Ничего не сумел и не смог. Если б стали мы лучше и проще, ты б в пропащей пустыне подох, как отшельник, акридам пророча!Ангел мести
В час полусна, в молочном полумраке меня пришелец-Ангел посещал. Глаза в глаза! Он в тайны посвящал, полусмеялся, что ли, полуплакал. Чертил мечом, готическая птица, девиз на стеклах «Ненависть-Любовь», крыла — белы, на них краснела кровь. На крышах серебрилась черепица. Не мантия — мираж! морская пена! Метался меч по медным небесам, и опускался меч, и нависал… Гость — говорил! Глаголил Словом Первым! «Я — Ангел мести, боя и сверженья, я — Дух деянья, крови и геенны. Ты спишь и шепчешь. Где же гимны гнева? Где песни страсти, солнца и сраженья? Очнутся очи — пятый век, болото, растений-ног, растений-рук, о эхо эмбрионов — труд и труд! Не мир принес, но меч — тебе бороться!» Я меч взяла. Солдатскою стопою! Но сердце еле теплится и ды- ханье еле дышится. «Иди, — сказала я, — иди, я не пойду с тобою. Их миллионы — Жанны, Маргариты, Шарлотты, — их мифическая месть! Им невесомы мантия и меч. Оставь, — сказала я, — со мной мои молитвы». Где гость? От солнца лучики-уколы в мой мир — в мою стеклянную скалу! Мне снится: я под колоколом сплю, и душу давят грозные глаголы!«О Родина ханов! любимая — кара!..»
О Родина ханов! любимая — кара! Зачем замолчала, опять онемела? Кой-где пропиликает птичка несмело, февральская птичка… так глухо, так тихо… И грезы-и-розы отложим, отложим… О Боже! О где ты, свобода, звезда и зарница? Ослепло у солнца и око-зеница, Рассвет? — беспросветен. Никто не ответит: кто завтра не встанет? кто утро осветит? Бороться? Кто правдой неправду поборет? О горе! Отчизна! Любимая кабала! О раб мой, товарищ мой, брат — в кандалах! Остановись, оглянись и откликнись, ответь на проклятья последней Отчизны! Тюрьма и тюрьма. Кто разрушить поможет? О Боже! Когда же конец? Не родиться бы вовсе! Что сила судьбы — без судьбы и без силы? Плывем в никуда. Еле плещутся весла… Проклятье — всю жизнь копошиться в могиле! Невольничьи весла не выбросим в море. О горе!ЗНАКИ 1972
«Когда жизнь…»
Когда жизнь — это седьмой пот райского древа, когда жизнь — это седьмой круг дантова ада, пусть нет сил, а стадо свиней жрет свой желудь, — зови зло, не забывай мой мир молний!Четыре
И начертил я их, лошадей, белых четыре на белом листе. Хочешь, не хочешь — тебя сотворят. Тикай потихоньку, а лошади стоят. Ни в прошлом и ни в завтра ни на волосок. Три мордами на запад, одна — на восток. Обитают люди, властвуют, свистят, слезками льются, — а лошади стоят. Колесницы-войны, конюшни-огни, ипподромы-вопли совсем не для них. Страница бумаги — копыта и степь! Никто их не поймает, не посадит на цепь. Звоночек незабудки, свистулька соловья, миллионы — бьются! А лошади стоят. О, во всем мире золота и зла их, моих, четыре — девичьи тела, нежные ноздри… Лошади стоят: в черные ночи белые друзья. Никуда не деться, не важно уже… Белое детство моих чертежей!«„Искусство — святыня…»
«Я — это мы».
«Искусство — святыня для дураков», распятью — расплата, художник — и Цезарь, и Рубикон любви и разврата, атлет и аскет, наперсник и враг, смертям — аллилуйя! он Каин, он камень у райских врат, плевок с поцелуем, он мать и блудница, мастер мужчин и женского жеста, порфироносец и простолюдин, насильник и жертва, ладан и яд, амброзия, слизь, он — истина, месса, микроб и звезда, скрипка и свист, гримаса Гермеса, он плеть и рубец, орало мечей, о клоун мучений! палач и паломник, для пули мишень и пуля в мишени, лавр и терновник, Сизиф и Вулкан, вакханка геенны, в нем нежно и страстно сплелись на века злодейство и гений! И, если на землю падут топоры, Суд Первый — Последний, и станут пред Богом дворцы и дворы, престолы, постели, святыня и ересь, правда и спесь, причастья позора… — Ты кто? — спросит Бог. Он ответит: — Я — есть. А вы — поползете, наивны, невинны, отнюдь не новы, — лишь толпы и толпы. Виновен — лишь он. Он — не выйдет! — не вы! — Он — есть, сам, и только.«Ты, близлежащий женщина…»
Ты, близлежащий женщина, ты враг ближайший. Ты моя окаменелость. Ау, мой милый! всесторонних благ! и в «до свиданья» веточку омелы. За ласки тел, целуемых впотьмах, за лапки лис, за журавлиный лепет, за балаганы слез, бубновый крах, иллюзии твои, притворный трепет, — ay, мой мститель, мастер мук, — ау, все наши Антарктиды и Сахары, — ау! листаю новую главу, и новым ядом — новые стаканы. За ладан лжи, за олимпийский стикс, за Ватерлоо, за отмену хартий, за молнии в меня, — о отступись! Оставь меня. Все хорошо, и — хватит. Змеиный звон! за землю всех невест моих и не моих еще, — пью чашу, цикуту слез. Я не боюсь небес, их гнев — лишь ласка ненависти нашей. Униженный, и в ужасе с утра, как скоморох на жердочке оваций, о отступись! Еще дрожит струна, не дай и ей, последней, оборваться. Пью чашу зла, и пью и днесь и впредь веленье кары и волненье рока. Мы в жизни не сумели умереть, жить в смерти — сверхъестественная роскошь.Литературное
Сверчок — не пел. Свеча-сердечко не золотилась. Не дремал камин. В камзолах не сидели ни Оскар Вайльд, ни Дориан у зеркала. Цвели татары в тысячелетьях наших льдин. Ходили ходики тиктаком, как Гофман в детский ад ходил с Флейтистом. (Крысы и младенцы!) За плугом Лев не ползал по Толстому. Было мало денег, и я не пил с Эдгаром По, который вороном не каркал… А капля на моем стекле изображала только каплю, стекающую столько лет с окна в социализм квартала свинцовый. Ласточка-луна так просто время коротала, самоубийца ли она? Мне совы ужасы свивали. Я пил вне истины в вине. Пел пес не песьими словами, не пудель Фауста и не волчица Рима. Фаллос франка, — выл Мопассан в ночи вовсю, лежала с ляжками цыганка, сплетенная по волоску из Мериме. Не Дама, проще, эмансипации раба, устами уличных пророчиц шумела баба из ребра по телефону (мы расстались, и я утрату утолил). Так Гоголь к мертвецу-русалке ходил — любил… потом творил. Творю. Мой дом — не крепость, — хутор в столице. Лорд, где ваша трость, хромец-певец?.. И было худо. Не шел ни Каменный, ни гость ко мне. Над буквами-значками с лицом, как Бог-Иуда — ниц, с бесчувственнейшими зрачками я пил. И не писал таблиц- страниц. Я выключил электро- светильник. К уху пятерню спал Эпос, — этот эпилептик, — как Достоевский — ПЕТЕРБУРГ.Мотивы К. И. Галчинского
1. Вроцлав
Город мой первый, в котором было всё правдиво и просто. Добрый друг-стихотворец, неслыханный в наши века двойник Атоса. Веселье вина, веселье до помертвенья и отрицанье насущной пищи. На улицах — вельветовые голоса Польши, как плоек птичий. Таинства театров, такси предрассветного эха. Три красных-красных гвоздики в отеле «Полонья» и… одна Эва. Девушка детская, что ты со мной в этом подлунном? Вот и опять объятья — не объятья и поцелуи — не поцелуи бьются в агонии на сосцах и на устах твоих, наших… Нужно немножко дышать, чуть-чуть, любить — не важно. «Любишь — не любишь» — ромашка под солнцем? под лилиями мошкара ли? Все мы — «я», «ты», «он», «мы», «вы», «они» — все мы кружимся в этом мифическом маскараде. Друг мой, последний Атос или мистик с вечным воплем «торо!». Вот и все меньше и меньше нас, мушкетеров, утром блистающих солнечной шпагой в аудиториях сольных, ночью — блюющих, в слезах, в декламациях бреда над раковиной свинцовой. Нас, маскарадников, милый, королевских капустниц, может, уже убили, а может, еще отпустят. Три красных-красных гвоздики в отеле «Полонья», ковры ледяных одеял, — моя сцена. Простите меня, Польша, не своего не Шопена. За тридцать дней — тридцать бессонниц и жалких от сна восстаний, тридцать истерик над раковиной свинцовой — и ни вопросов, ни воспоминаний. Дождь. Это бог шевелит миллионами пальцев, это зонтики разноплеменные кружатся. Это мир миллионов и… одна Эва.2. Певица
Бедный ребенок с лицом алкоголика в платье чугунного серебра, как ты жонглировала ладонями в зале, где люди, как фрукты в корзинах, фрукты в соломенных воротничках!..3. Колыбельная колыбели
На коляске, на коляске золотой петух сияет, у него уснули глазки, он зевает и зевает, — Пе-тух! А в коляске завязались маленькие ручки-ножки… сны… петух… берлоги… зайцы… сладких снов и нежной ночи, — Дет-ка! А по небесам над нами ангел-ангел вверх ногами, две луны, как два дельфина, что за чудо, что за диво, — Звез-ды!4. Звезды
Расплакались звезды бельгийские: «Ты бежал Долиной Блужданий, летал летучей мышью, скакал, скиф-скиталец туманными табунами». Расплакались звезды немецкие: «Пел разум, а сам безумец славил Вавилон — руина, знак золота, а сам — без хлеба, играл любовь на лире лая — семь струн, как семь дней творенья, семь стай в облаках без солнца, семь тайных сетей в безрыбье, семь оборотней и русалок». Звезды-звезды над Нотр-Дам’ом запахнули рясы монашьи, зацепили пальцы крестами, стояли или спали, — молились. Лишь не плакали звезды польские, убегая на восток, вопили: «Не знаем, он был или не был, без короны царь, пастух без стада, роза без цветка, без перьев птица, никому не нужный лист без ветки, не исполненный мотив без текста, инструмент без струн — без звука звона, безъязыкий язычник в костеле, позабытая скамейка в скалах, на которой во́роны-варяги влагу пьют и, голодая, воют, объявляя небесам и солнцу не протесты, а проклятья… гибель».Риторическая поэма
1
Настанет ночь!.. Сейчас условно утро. Есть солнце где-то. Небо в небесах цветных. Уже из ульев улетели трудящиеся на крылах похмелья, белея белыми воротничками. И пуговицами из перламутра, и запонками, пряжками, замками портфелей — был заполнен звоном воздух. Теперь такси, как плитки шоколада, блестят. Трамваи — детские игрушки: колесики, скамеечки, звоночки. Ларьки пивные в кружевах из злата. У дворников, как у международных убийц — хитросплетения лозы, — настраивают мусорные лиры. В мальтийских магазинах продавщицы качаются, как веточки сирени. А на совсем арктической аптеке глаголом жжет сердца версальский лозунг: ВИТАМИНЫ СОДЕРЖАТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТАБЛЕТКАХ, НО И В САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПИЩЕ. Ах, детский мир! Мир меха или меда! Я видел девочку с небритой мордой лет девяти. Такая террористка. Ей кто-то в пьяной драке вырвал клык. Нас всех дразнили пунцовые перси на малолетнем тельце. А она бежала быстро в спущенных чулках с бутылкой белой (там виднелась водка). Она таилась сзади всей толпы, по темени тихонько убивая всех наших дядь и теть, и мам, и пап. Еще на этой журавлиной шейке веревочка от виселиц болталась. Волшебница-дитя! Ты просто прелесть. И кто-то там потом — в тебя влюблен, волнуется, неся к десятилетью трусы-трико, бюстгальтеры, как латы. О Ты, Всевышний Режиссер Вселенной! Отдай нам наши розовые роли в том детском мире фантиков и марок, скакалок, попугаев, ванек-встанек, наденем платьица и с леденцами под фильмы флейт (эй, занавес!) — на сцену: У МЕНЯ БОЛИТ БОТИНОК МЫ КУПАЕМСЯ В КАКАО ЕШЬТЕ СЛАДКИЕ ЛИМОНЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОМИДОР — ЭТО КЛЮКВА! Что люди! Больно бьется сердце камня. Но нет ему больниц. И нет спасенья. Деревья обрастают волосами, кровавый сок по их телам растаял, по их кишкам, а с лиц — слезинки крови кап-кап… Лизни — как вкусно и смертельно: кап-кап! А у цветов опали уши, цветы гологоловы, как жрецы Египта. Из дендрариев апреля они в пустыни с посохом пошли. Цари саха́р, сибирей, эверестов, ревут по тюрьмам звери, как раввины. А человек идет своим путем: Царь зла, свирепый Преобразователь больного Бога и Души живой. И, отдавая должное скорбям людским, я говорю: мне как-то ближе и символичней Скорбь Скорбей скота.2
Дома — варфоломеевские вафли. Мой пудель улыбается, как фавн (их водят на брезентовых цепях, в карманчике — совок, собачий скипетр: нагадят там, где ноги дивных пьяниц шатаются под тяжестью телес. Кто поскользнется на собачьем кале? Потом — умрет немножечко: урон на трассе трудового героизма. Труд от собак спасает государство). Дома — святые скалы в океане бензино- и металло-испражнений. А мы в пещерах собственных и в шкурах своих еще, почти не волосатых, но и не безволосых — атавизм. Грудь у мужчин чуть-чуть звероподобна, у женщин ноги тоже звероваты, но идеалом самовыраженья простейших правд и инстинктивных истин послужит хор и хоровод старух. Как сироты на тех кремлевских тронах, как адмиралы океана-ада, как сфинксы в сарафанах у скалы, у инициативных клумб цветов, — сидят старухи. Одной семь тысяч лет, другой семьсот мильонов. Самой белой — биллион. Седалища у них — на время оно. И не мигают львиными глазами. Они сторуки, как гекатонхейры, стооки — линзы местной медицины, стоухие, как полицейский цех. Они не пьют, а если пьют, то млеко. А вместо сладострастных ягод юга каких-то витаминных жаб жуют. И, как умеют, так и ненавидят жидов, собак и, кажется, детей. Но нет жидов. Уехали к евреям. Детей лелеют с нежностью жандармов родители. Собака может в морду (вот — в женской жизни поцелуй последний). И потому, все нервы обессилев в борьбе за нравственность и равноправье, старухи пишут в институт инстанций: что есть у нас идеи идеалов но развит лишь разврат Псы жрут как люди а люди — псами псы Не труд во имя и не моральный кодекс а бардак Детишки вместо школы там и тут в свинарниках и свиньями растут И вообще к несчастью нет жидов по попустительству их отпустили И (извините!) все о Коммунизме кто как и где попало говорят не тот народ и вовсе нет любви тем более что требуются тюрьмы ЧТО Ж ВЕДЬ И ЖИЗНЬ НЕ ПРАЗДНИК А БОРЬБА3
Мой дом! Весь в занавесках театральных! Броня и сталь — о люльки-лифт-кабины, на лестницах блюют бродяжки-кошки и инвалиды бегают, как белки. О мусоропроводы, вы — органы! За каждой дверью радио рыдает о счастье трудового героизма. Любимцы неба в черных лимузинах пойдут концлагерями канцелярий поплевывать или повелевать. Потенциальные самоубийцы опять срифмуют буквицы-значки, — патенты на безумье и безвестность. А племена труда и счастья мира намажут хлеб опилками металла и будут кушать, запивая нефтью, и целовать свой самый лучший паспорт многонациональный. Кто еще? Милиция, капустницы, карлицы, флейтисты, пьяницы, пенсионеры, майоры, парикмахеры, хирурги, т. д. т. п…. Мы и не мертвецы. Нас вовсе нет, мы лишь плечом к плечу, — консервы своего коллективизма. Не человечество — мы только даты рождений и смертей. И в наших массах не менее смешны и безвозвратны страдальцы страха — мученики муз. Что нужно нам — что ищем — что имеем? Нам нужно тело. Ищем только тело. Имеем тело. Все равно — свое, врага ли, друга, бляди ли, невесты, пусть тело вишни или тело розы, пусть тело соли или тело хлеба, — ТЕЛА ЛЮБВИ ИЛИ ТЕЛА ТЕЛЬЦОВ И в этой атмосфере атеизма (вот парадокс!) не знаем вкуса тела, а лишь его химический состав. ВИТАМИНЫ СОДЕРЖАТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТАБЛЕТКАХ НО В САМОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ ПИЩЕ Зачем заклали вы больного Бога, затем, чтоб объявить тельца-атлета? За что вы задушили Душу живу, миряне мер, отцы своих отечеств, за то, чтоб насыщать свое мясное вовек анатомическое сердце? За что вы погубили домы Духа, за обещанья нищим храмов хлеба? Наивных нет — небес. Земля — земная. И кто-то там, не в небесах, негласный, штампует наши мысли и шаги. Зачем, Строитель, ты мой дом построил? И почему ты нами заселил, бездушными, безбожными тенями? И улицами имени Коцита и Ахеронта нас пустил по свету в ладьях на симфонических колесах с Харонами-рулями, — жрать и плакать, тела у нас трясутся от труда, а Души — сброшюрованы в какой-то не в небесах, негласной, картотеке. Нам их не знать… ЛИШЬ В КОМНАТЕ МОЕЙ ЛИШЬ ХОДИКИ — ОДНА ДУША ЖИВАЯ — СТУЧАТ СВОИМ МЛАДЕНЧЕСКИМ СЕРДЕЧКОМ4
На Солнце смотрит лишь слепец очами отверстыми. Лунатик на луну идет, не глядя. Это — лунный брат. И этот космонавт не бред природы, — прилив-отлив по стадиям луны. В сию секунду он и сам — светило. Храбрец без корабля, на парашюте от одуванчика, он облетает галактики вне времени… Балкон Большого Дома в вашем Вашингтоне. Вот он нащупал где-то паутинку ногой в скафандре… он сошел с балкона и вот поплыл — нео-поп-арт и эго- эквилибрист и хиппи, Кант и Хант… Она в трусах-трико, в бюстгальтере, как в латах, с веревочкой и в спущенных чулках взвивалась в воздух и взвилась, как знаем… И оба очутились на луне. А НА ЛУНЕ ТОРЖЕСТВЕННО И ЧУДНО ВНИЗУ ЗЕМЛЯ В СИЯНЬЕ ГОЛУБОМ — Я ЗВАЛ ТЕБЯ НО ТЫ НЕ ОГЛЯНУЛАСЬ — Я ВАС ЖДАЛА А ВЫ ВЫ ВСЁ НЕ ШЛИ О Ты, Всевышний Режиссер Вселенной! Здесь логика не так-то уж легка: державы двадцати веков! Теперь лишь аббревиатуры — весь ваш атлас. Не жизнь — какой-то хитрый алфавит мистический со знаками кабалы — кресты и звезды всех фатальных форм. Взамен судьбы — гербарии гербов. Какой младенец, там, у двух, родится? Какие скрестят аббревиатуры? Какую сверхгалактику он станет осваивать? Зачем? Чтобы забыть про Землю, про свою слезинку крови? Но это — бред, шалун. Зерно не может цвести в металле. Женщина не может искать у овна оплодотворенья. А Человек и Космос — греза грусти фанатиков, а проще — генералов для войн грядущих на Земле, инстинкт побега от смертей — куда попало. Есть космос? — пусть хоть космос! — но бежать! ВРАЩАЕТСЯ ЗЕМЛЯ МОЯ КАК ОДИНОКИЙ ГЛАЗ ЦИКЛОПА5
А мы — паяцы в маскараде толпищ: кто КРЕСТ несет, а кто свою ЗВЕЗДУ счастливую. И не понять паяцам: есть КРЕСТОНОСЦЫ или ЗВЕЗДОНОСЦЫ, а ЧЕЛОВЕКУ в мире места — нет. Лишь Первый КРЕСТ проносит на Голгофу. Все остальные — именем КРЕСТА крестоубийцы. И волхвы Востока, объятые кошмаром обещаний очередной религии, опять возьмут дары, пойдут искать по свету все ту же Вифлеемскую ЗВЕЗДУ. Лишь Первая ЗВЕЗДА нам путеводна, все остальные — гипнос или тьма пути. Куда? Как знаем — мы не знаем. И результат всех этих изысканий: знак равенства — шлем Рима или каска всей современности — огонь и меч. КРЕСТ и ЗВЕЗДА по сути — близнецы. КРЕСТ звездообразен. Если прочертить весь контур пресловутых перекладин, получится, как ни парадоксально, любая форма и любой ЗВЕЗДЫ. Зубцы ЗВЕЗДЫ крестообразны. Если, как мы сказали выше, прочертить вершинки треугольничков ЗВЕЗДЫ, получится какой нам нужно КРЕСТ. А наша современность — варианты смешения любых крестов и звезд… ТАК ПОМЕСЬ ЧЕЛОВЕКА И КОБЫЛЫ ДАВАЛА ДРЕВНИМ ЭЛЛИНАМ КЕНТАВРА ОХ ЛИРИКА! ВСЕ ДО СМЕШНОГО ПРОСТО6
Настанет ночь… Нейлоновые луны восходят. Режиссер, над нами луны! Печальные лунатики планеты, как ангелы земли, над океаном по паутинкам медленно гуляют… им нет границ. И контур континентов для них — лишь география, не больше. Их окликать по имени опасно. Они, как безымянные герои, по паутинкам медленно гуляют. И их не осветить и не освоить. Осваиваю свой освенцим буквиц, напрасность неприкаянности. Зла залог. И не пишу (я не пишу!) давным-давно. И это не творенье — риторика, фантазии фантома, — ЛИШЬ ТО ЧТО Я ХОТЕЛ ПОКА СКАЗАТЬ ВПАДАЯ В ЖАНР ПОСЛЕДНЕГО СКАЗАНЬЯЛатвийская баллада
На рассвете, когда просветляется тьма и снежинками сна золотится туман, спят цыплята, овцы и люди, приблизительно в пять васильки расцвели, из листвы, по тропинке, за травами, шли красная лошадь и белый пудель. Это было: петух почему-то молчал, аист клювом, как маятником, качал, чуть шумели сады-огороды. У стрекоз и кузнечиков — вопли, война. Возносился из воздуха запах вина, как варенья из черной смороды. Приблизительно в пять и минут через пять те, кто спал, перестал почему-либо спать, у колодцев с ведрами люди. На копытах — коровы. Уже развели разговор поросята. И все-таки шли красная лошадь и белый пудель. И откуда взялись? И вдвоем почему? Пусть бы шли, как все лошади, по одному. Ну, а пудель откуда? Это было так странно — ни се и ни то — то, что шли, и что их не увидел никто, — это, может быть, чудо из чуда. На фруктовых деревьях дышали дрозды, на овсе опадала роса, как дожди, сенокосили косами люди. Самолет — сам летел. Шмель — крылом шевелил. Козлоногое — блеяло… Шли и ушли красная лошадь и белый пудель. День прошел, как все дни в истечении дней, не короче моих и чужих не длинней. Много солнца и много неба. Зазвучал колокольчик: вернулся пастух. «Кукареку» — прокаркал прекрасный петух. Ох, и овцы у нас! — просят хлеба. И опять золотилась закатная тьма, и чаинками сна растворялся туман, и варили варево люди. В очагах возгорались из искры огни. Было грустно и мне: я-то знал, кто они — красная лошадь и белый пудель.Двое
Картофель — цвел. На огурцах значки. Снегурочка-овца. У мух — толпа и масса. Темнело. Меч или весло? Ромашка или василек? Трава — в чернилах масла. На озере вода видна волшебная. Над ней — луна с узорами. Темнело. Купались двое нагишом, но было им нехорошо. И кашляли… Телега шла с лошадью, — там был закат. Малинник в молодых звонках… И нет как нет заката. Те двое — мускулы, загар — листали озеро взахват, сливались! — вот загадка. Над ними ныла мышь-вампир. А ворон в воздухе вопил и выл о чьей-то смерти. Я пил вечерний свой сосуд… Спасти от смерти — все спасут, от жизни — кто сумеет? Дрожал, как дождик на весу, хор комаров. Не обнесут водой волшебной хутор. И капать мне день ото дня, пусть каплей, но — одной. Двумя и слившимися — хуже. Нажрался жертвами паук. Те двое отряхнули пух, он с нею расставался. Да дятла детективный стук, да винных вишен красный звук над розой раздавался. И столько тел и столько лет шумели мухи на стекле и лампочки ковали. Над буквами моей орды летали комары-орлы и клювами клевали.Вечер в лесу
В муравейнике труд муравьиных семей. Сон летает за эхом. Кто? кукушка живет или сам соловей в хитром храмике этом? О каком композиторе-чудаке плачет флейта-комарик? «Мяу» кошки на чьем-то ничьем чердаке и не снятся кошмары. Только с некоторых мне мерещатся пор журавлиные гусли, как хорош этот не человеческий хор этих грешников грусти. Наши быстрые буквицы — мир неживой: сколько лавров и терний! Ничего не осталось у нас, ничего — и ни тем, и ни тени. Наши буквицы — бой петушиных корон, ни сомнений, ни солнца. Лишь летучие мыши мигают крылом. Да свинцовые совы. Так случается: лопнул огромный орех — лишь скорлупка-пустышка. Кто-то в мае аукнул, а лишь в январе кто-то отклик услышал. В озерцах у озер камышинки-камыш. И с гримасами мимов смотрят рыбы. А ты, паучонок, кружишь в нашем шарике мыльном. Солнце село. И цвет у небес нефтяной. Что бормочет береза?.. Затаился. Не страшно тебе? ничего, — вот и сердце не бьется.Хутор у озера
Чьи чертежи на столе? Крестики мух на стекле. Влажно. О океан молока лунного! Ели в мехах. Ландыш пахнет бенгальским огнем. Озеро — аэродром уток. С удочкой в лодке один чей человеческий сын удит? Лисам и ежикам — лес, гнезда у птицы небес, нектар в ульях у пчел в эту тьму, лишь почему-то ему — негде. Некого оповестить, чтобы его отпустить с лодки. Рыбы отводят глаза, лишь поплавок, как слеза, льется. В доме у нас чудеса: чокаются на часах гири. Что чудеса и часы, что человеческий сын в мире! Мир ни греховен, ни свят. Свиньи молочные спят — сфинксы. Тает в хлеву холодок, тёлкам в тепле хорошо спится. Дремлет в бутылях вино. Завтра взовьются войной осы. Капает в землю зерно и прорастает земной осью.Лилии ночью
Худо им, лилиям, хоть и не холодно, ходят — по горло — не ходят. С белыми лирами в озере- омуте что-то свое хороводят. Или же лилии лишь забавляются знаками звезд-невидимок. Или под ливнями в листья запрячутся, — белые мышки на льдинках. Худо им, лилиям, хоть и красавицы, а танцевать невозможно. Рыбины львиные — шеи кусают им и пауки-многоножки. Ветер, — и в плаванье! Но их кораблики на якорях. Но нельзя им! Солнце! — но в пламени им не карабкаться, — в омуте цепью связали. Ни путешествия, пешие странствия, ни поднебесье со льдами. Лишь утешение: Лилия Старшая в небе и в волнах летает! — ЛУНА.«Ни чар и ни чуда…»
Ни чар и ни чуда ни в хлебе, ни в храме, когда просто — худо, и над хуторами хохочет на соек кузнечик с усами, хорошее солнце уже угасает и воздух чуть слышен, и ангелы-гости летучие мыши над храмом Аглонским, — двукрылые листья, уродицы в ластах, не люди, а — лица, не птицы — крылаты, ужасные уши, так немо и тихо летали, как души небес — невидимки, все хуже и страшно над колоколами падучие наши, они кувыркались, не крошками хлеба, — о крови вопили чудовища неба на крыльях вампиры и в листьях купались, и смертью манили, сливаясь губами, с губами моими, и было безлюдно от тех поцелуев, дышало безумьем вверху полнолунье, а в норках, с усами, в мехах, и смешные, крупицы сосали мышата земные.«Так хорошо: был стол как стол…»
Так хорошо: был стол как стол. Я не писал. Никто не шел. Все лучше было, — горе! Я думал; я и не молюсь. И тут-то в комнату мою ворвался Белый Голубь. Во мраке муха не взревет. Звезда саму себя взорвет. Лишь светлячок-электро- сверчок! Скорее замечай: окно открыто — залетай!.. А залетел — вот Этот. Не с Арарата, не олив питомец, не того, орлы которого — у Зевса, не ангел-оборотень, не который письма… Не в вине на златоблюдце — в зелень. Я знал Его. Мне красный глаз в кошмарах грезился не раз, в раскрыльях — волчий палец. Он клюв в чернильницу макал, гримасничая, мне мигал… Я знал Его, — Посланец. Я знал Его. Валяй, ловец! В конце концов, вот и конец. Ну, Бо-жа-я коровка! Не запрокинусь — «Боже мой!» хирург души моей живой, на темени — коронка. Темнела тьма. И резеда как пахла! Этот раздвигал мне ребра клювом-клином. Я лишь лежал. Немел мой мозг. Я мог бы встать, но я не мог. Он каркал, я — не крикнул. И вот он сердце развязал и душу взял… А я сказал: «Что ж, милый, — ваша веха, душа душой, и не бог весть, вы — птица белая небес, а я — Сын Человека. Душа? да что там, забирай. Отбегала моя заря по листикам от сада…» И… душу в лапах (Гамаюн!), еще дрожащую мою, унес. А я остался. Так ежедневный день настал. Никто страницы не листал мои. Я делал дело: ушел ко всем и в тесноте в толпе живородящих тел я тоже — только тело. Хожу все луны и все дни сам по себе и сам двойник себе. С копытом овна, с клыками волка. Блею вслед себе и вою на скале: один — во время оно!Бодлер
«…Я утро отравляю
Цветами зла».
Бодлер, «Цветы зла» Я думаю, что думать ни к чему. Все выдумано, — я смешон и стар. И нет удела ничьему уму. Нас перебили всех по одному, порфироносцев журавлиных стай. Ты — кормчий, не попавший на корму, мистификатор солнца и сутан… Устал. Яд белены в ушах моей души. Бесчувственные бельма на ногтях. Хохочешь — тоже слушать не хотят. Не мстят, а молятся карандаши: — Мы — рыбы, загнанные в камыши (общеизвестна рыбья нагота!). Любую ноту нынче напиши, — не та! Вот улей — храм убийства и жратвы. Ты, демон меда, ты пуглив и глуп, ты — трутень, все играющий в игру бирюльки и воздушные шары, ты только вытанцовывал икру и улью оплодотворял уют. Но всунут медицинскую иглу, — убьют. Я не люблю, простите, муравьев. Их музыка — лишь мусор (вот — восторг труда! вот — вдохновение мое!). Тропинкой муравьиной на восток, обобществляя всякий волосок, Моралью Мира объявляя храм жратвы и жизни. Или, скажешь, драм добра? Да брось, дружок. Уйди и убедись: Борьба? — о пресловутый пульс убийств! Все — Общество, История, Прогресс. Мне — истиннее как-то стрекоза, в дождях светящаяся, как в слезах, медуза камня, чертежи небес, истерика змеи и полюса… А — сам? Ты посмотри, какое на дворе тысячелетье, милый мальчик-волк. Любить людей и думать о добре, — люби и думай! Жгу священный воск, сам — солнце, сам — движение дождя. У Бога нет души, я — Бог-Душа (не сердце с телесами, — отойди!). Один. Я сам собой рожден и сам умру. И сам свой труп не в урну уберу, не розами — к прапращурам зарыт! Сам начерчу на трещинах плиты: «Клятвопреступник. Кукла клеветы. Сей станет знаменит тем, что забыт. И если он однажды обнимал, — обман. Не „кто" для всех, а некто никому. Не для него звенели зеленя. Добро — не дар. Ни сердцу, ни уму. Еще от жизни отвращал свой зрак. И не любил ни влагу и ни злак. Все отрицал — где небо, где земля. Он только рисовал свой тайный знак — знак зла».Балтийское
Кто утром увидел море — толпища какой-то пятой голубой расы (их волосы веселились!), кто утром увидел чаек, как они стояли на валунах из меди и мела — как статуэтки из севрского фарфора на ножках — красных камышинках; кто утром увидел дюны, пропитанные соком песчаного меда, а на дюнах улитки — крохотные козочки в древнеримских касках, и еще моллюски — мертвые очи моря, распахнутые веки раковин из перламутра; кто утром увидел сосны в китайских кружевах просыпающейся хвои, их золотые столбы — как символы солнца; кто утром увидел белок — космические пляски на крылышках пушистых, а шишки в объятьях лапок — скипетры их маленьких величеств… Море замерзнет солью, дюны распустят песчинки, улитки и моллюски вернутся в свои века, — а кто не утратил утра, умрет, — все равно воскреснет!У моря
О море море. В бумажных листьях. В кружочках рыб. Лишь красный гром на горизонте, — там солнце в образе Горгоны с двумя глазами без ресниц, а на губах вода волны. Сентябрь. Ну что ж, стихия. Слезы птиц по морю, как следы Ахилла. Где водолазы-аргонавты, твои хваленые Харибды, те — триста в шлемах Геллеспонта? Вот я. Глаза в глаза Горгоны и, как сказать? — не каменею, пью языком волну воды. Лишь — сентябрь. О небо небо. Лучик-ключик устал, упал и утонул. И чайки машут так двумя крылами, как листьями кленовыми. Горгона двуглазое страшилище, но — мать Пегаса… Небо — гневный миф Беллерофонта, горе-кифареда: был сын богов, любил, мечтал о чем-то. Но взял Пегаса. Но Пегас, почуяв, что он оседлан и уже в узде, чуть-чуть захлопнул золотые крылья, — мальчишку сбросил в море. Умер он. (А море обливалось облаками!) Лишь буква-миф о нем на горизонте чуть-чуть читался. И мертвые глаза мифического кифареда клевали чайки. И вода всех волн бежала в сентябре и убежала, как конница… Сентябрь, я говорю. Не забывай: на море — небо. Но раковины ли? А может, маски тех мореплавателей детства, где листья молний и плоды цветов грядущих государств? где, может быть, витает голова Беллерофонта, где? на горизонте? а может, в грезах? и еще спасти его возможно?.. Только — ни к чему. Лишь встрепенутся веки — оседлает Пегаса. И уздой завяжет зубы. И пальцы — в кровь кифары. Вздрогнут крылья, — и снова будет сброшен. И умрет. И это все случится и сейчас. В любой сентябрь. У моря моря в листьях листьях однажды выйдет из волны воды твой Конь (я повторяю — сын Горгоны!), не голубь — он крылами не охватит, не корифей — и что ему кифара, он станет так: глаза в глаза. И ты уже не кифаред, а камень. А что ему. Уйдет, как и пришел. В утробу матери. И голова Горгоны взойдет грозой над горизонтом, двуглазая. Чтоб знало все живое, на что идет, что ищет, играя в игры крыльев и кифар.Красный сад
Мой Красный Сад! Где листья — гуси гуси ходили по песку на красных лапах и бабочки бубновые на ветках! пингвины-медвежата подземелий мои кроты с безглазыми глазами! и капли крови — божии коровки — все капали и капали на клумбы. И бегал пес по саду, белый белый (почти овца, но все-таки он — пес). Мой сад и… месть. Как он стоял! Когда ни зги в забвенье, когда морозы — шли, когда от страха все — старость, или смерть… и веки Вия не повышались (ужас — умирал!), когда живое, раскрывая рот, не шевелило красными губами, а зубы — в кандалах, и наши мышцы дерев одервенели. Отсиял пруд лебединый карповый во льдах, он был уже без памяти, а рыбы от обморока — в омутах вздыхали… И только Сад стоял и стыл! но мозг его пульсировал. Душа дышала… Как расцветал он! Знаю. Видел. Неги не знал. Трудился. Утром пот кровавый струился по счастливому лицу. И ногти, до невероятных нервов обломанные о коренья, — ныли! И сердце выло вместе с белой псиной и в судорогах жвачных живота гнездился голод. Пах его был страшен, ибо рожал он сам себя — живому! Как он любил! Хотя бы (вижу) вишню, синеволосой девушкой росла… потом детей вишневые головки своих ласкал! А яблоня в янтарных и певчих пчелах, — сыновья взлетали в ветрах на триумфальных колесницах! и сколько было там других деревьев — в дожде и в карнавале винограда. Сад всюду рассылал своих послов на крыльях: — Ваш сад созрел! Войдите и возьмите! Все слушали послов и восхищались. Но — птичьих слов никто не понимал, а всякие комарики, стрекозки вообще не принимались во вниманье. Не шли. Не брали. Падали плоды. Мой сад… был болен. Сад жил немного. Место — неизвестность. Во времени — вне времени. И так никто не догадался догадаться, что Красный Сад ни почему не может не быть! Что Красный Сад — всецветие соцветий, что нужно только встать и посмотреть живому. Полюбить его собаку. Поесть плодов. Собрать его цветы. Не тронуть птиц. И не благодарить, лишь знать — он есть. Никто не знал. И это был не листопад… а смерть. Что листопад! Совсем не потому, а потому, что в самом сердце Сада уже биенье Бога заболело, и маятники молодых плодов срывались. Обвивала паутина обвислые бесчувственные листья. А на запястьях ягодных кустов одни цепочки гусениц висели, а птицы-гости замерзали в гнездах и еле-еле уползали в воздух поодиночке. Струнный блеск дождя опять плескался. Дождь, как говорится, да что! не плакал вовсе — шел и шел. Лишь плакал белый пес на пепелище, овцесобака. Псы умеют плакать. И листья лапой хоронил в земле. И скатывал орехи, смоквы, груши все в те же им же вырытые ямки и опускал на это кирпичи и заливал цементом… разве розы цвели еще? Цвели, раз он срывал, охапками выбрасывая в воздух и желтый дым и красный лепестков оранжевый заголубел над Садом, пионы, маргаритки, незабудки, гортензии, фиалки, хризантемы… Пес лаял. Я ему сказал: не лаять. Сказал же? Да. Но лаял. Это — пес. Но эхо неба нам не отвечало. Неистовствуйте! Эта пропасть неба для солнца лишь или для атмосферы и нашей черноносой белой пастью все это не разлаять… Сад-хозяин велел себя убить. И я убил. Что ты наделал, Сад-самоубийца? Ты, так и не доживший до надежды, зачем не взял меня, а здесь оставил наместником и летописцем смерти, сказал «живи», и я живу — кому же? сказал «иди», и я иду — куда? сказал мне «слушай» — обратился в слух, но не сказал ни слова… Сказка Сада завершена. Сад умер. Пес пропал. И некому теперь цвести и лаять. На улицах — фигуры, вазы, лампы. Такси летит, как скальпель. Дом. Декабрь. Стоят старухи головой вперед. О диво диво: псы — и в позе псов! Судьба моя — бессмыслица, медуза сползает вниз, чтоб где-то прорасти сейчас — в соленой слякоти кварталов растеньицем… чтобы весной погибнуть потом — под первым пьяным каблуком!Дождь-Декабрь
Доля декад! — календарные солнце-луна. Дождь и декабрь. Вся Финляндия — боже! — больна. Верил в статут: это море мороза в лесах!.. Вербы цветут. Лес в поганках, залив в волосах. Тает зола: это небо надежд и могил, там в зеркалах замутненные лица мои в капельках слез, по окружностям плеск-пелена… В карликах звезд вся Финляндия тоже больна. Спится, и сон: я отшельник в пустынь отошел. Списками сов и клыками слонов окружен. Так мало жить: на коленях коней-колесниц, да миражи человеческих кактусов-лиц. Желудь клевал одноглавый орел и… душил. Шел караван по пустыням-безлюдьям души. День донимал: семь верблюдов кувшины несли. Не до меня. Семь погонщиков шли — не нашли, и не могли, потому что я был в декабре. Инеем мглы обрисованы скалы дерев. Где же снега! — белолобая в блеске луна? Грешен, солгал: вся Финляндия — больше больна! Зелень свинца. Лягушачьи века и века. Змеи в сердцах затаились, как знак вертикаль. Дождь с облаков. Но декабрь тепла не терял. Что ж. С Новым го- дом, с новым горем тебя!Несостоявшееся самоубийство
1
Я оч-нулся.2
То есть, вышел из состоянья нуля и раскрыл свои «очи». Стало мне оче-видно: тьма и кружочки светил; и волнистая всюду вода — то ли льется, то ли разливается, а впереди в пустоте — петербургский монтаж моста в красных капельках фонарей; и фонари же справа и слева, как золотистые луковицы на вязальных спицах, — правый берег! левый берег! цементированные цепи кварталов — сахар и сталь! Минуты мои! игральные карты! игрушечный мой мир! Я очнулся на льдине.3
Был — год. Тысяча девятьсот. Ю-билейный. Я болел (или пил). Ждали Дату. До Даты оставалось еще свыше двухсот астрономических суток, но мы с неподдельной нежностью пили уже с Рождества. И вот пожалуйста: я очнулся на льдине, вот — всемирно-историческая Нева, вот — Володарский мост, и меня неукоснительно и безвозвратно несет на дамбы. Меховое пальто, меховая ушанка, сапоги на меху, до ближайшего берега — миля, что ли, не меньше, температура воды — нашей ниже, если, в общем, упасть и уплыть, — в общем, — можно. Но в течении вод и в течение маленьких мигов все меха мои! — тяжкая тема! — и финал феерического заплыва предельно прост: на дне. Сбросить с тела все это тепло и плыть нагишом, — босиком, тоже, в общем-то, судороги и смерть. Оставалось — судьба. Торопливость здесь ни при чем. Юмор — основа основ. Кстати, о юморе. У кого жизнь чудесная, как у меня, у того чудесам — есть место. Месяц назад был ю-билей: эннолетье художника ЭН. В возрасте возраста он гениален у него нежные губы и чуть-чуть лысоват, — наполовину; носит крестик. Там были девушки — тоже таланты. Бутерброды с какой-то серебряной колбасой — были. Водка — была. Атмо-сфера со всеми присущими ей атомами и сферами — была, все с восхищеньем все с восторгом декламировали философию: Пифагора, Платона, Магомета, Христа, Хомякова, Бердяева, Мережковского, Маркузе, даже Харчева и кандидата философ- ских наук… Парамонова. Подрались. Помирились. С воодушевленьем цитировали: Спинозу — о жизни и Сократа — о смерти. Дикция у всех была хороша — отделяли букву от буквы. После — пели адскими голосами. В общем, вечер удался. Я воскрес и вышел на балкон отдышаться. Балкон на одиннадцатом этаже двенадцатиэтажного дома. Отдышался. Полюбовался на зимнюю графику созвездий. Звезды — фосфорические знаки — ползли по небу слева-вниз-направо. В комнате волосы — вспотели, а теперь хорошо замерзали. Приблизительно я «пришел в себя» и хотел вот-вот возвратиться в наш вопль, но… негласная и невесомая сила схватила мое тростниковое тельце и вот — я ничуть не тяжелее звездочки одуванчика, я, вес-елый, пере-весился через перила и повис на одиннадцатом этаже, ухватившись пальцами за толстую плиту-пьедестал (балкона). Я ничуть не мало висел, счастливчик, было так по-птичьи прелестно, я насвистывал даже, кажется, марши или полонезы, трепыхаясь, как филин, хохоча задушевно. Потом — я не помню. Помню — внизу татарские трупы людей (вертикальки) в форме букв алфавита, запрокинутые человеческие клювы, а на соседнем балконе — чьи-то электрические часы — еле тикающий бочонок, пристегнутый солдатским ремнем к перилам (фосфоресцировали красным!). Снял меня Ю-биляр художник ЭН. Оказывается: пальцы мои примерзли к тому пьедесталу, кожу со всей хиромантией этой сорвало, от холода и от про-висанья — челюсти в судорогах стальных, на губах — пурпурные пузырьки пены. Силы святые (что ли?) под-держивали меня на одиннадцатом этаже? В больнице, забинтованный по-египетски, — мне с суровостью, свойственной медицинскому персоналу, объяснили и обрисовали, как я висел, как индивид, в свете психоанализа и психотерапии, у меня то же самое состояние (СОС — стоянье) по последним данным науки нас и масс, имя ему — «суицид», а, исходя из исходных данных, мне донельзя необходимо: «взять себя в руки» «труд во благо» а еще лучше «во имя» чтобы «войти в норму» и «стать человеком» а не болтаться как килька на одиннадцатом этаже, не имея «цели в жизни» зарывая «талант в землю». В том-то и дело. Я до сих пор исполнял эти тезы. Я еще пописывал кое-какие странички, перепечатывал буквицы на атласной бумаге и с безграничной радостью все эти музы — в мусоропровод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . выбрасывал! И вот опять… очнулся на льдине.4
Я немел на корточках, как питекантроп. Я попытался подняться — не получилось. Я не чувствовал ног; онемели они, отнялись, — не без логики мыслило мое существо. Дамбы — двигались. Льдина летела. И лоб уже ощущал боль от удара. (Предыдущая боль!) На дамбах поблескивал иней. Красноватый. Как будто обсели красноватые комары. Сей кораблик из спрессованного водорода, построенный на воздуховерфях, — разобьется! — вдребезги! — мое волшебное зеркальце, на блестящей поверхности коего я еще балансирую, мой быть может пьедестал — из последних последний (а на скольких — стоял?), моя пресловутая ледяная планета, с которой так сверхъестественно просто стартовать… (Стар-то ведь, и — куда?)5
Вчера — ю-билей философского факультета. Что бы произошло во всеобщей вселенной, если бы кто-то невидимый и негласный лишил нас ю-билеев? искушения Дьявола — стали бы самым распространенным явленьем — мы затонули бы как атлантиды в кошмарах каш и в прелестях прелюбодейства в музыкальных музеях мы разбрасывались бы мускулами во все стороны света разорвали по струнке бы массовую музыкальную культуру в библиотеках мы запалили бы колоссальные костры из объясняющей нас литературы с произведений истинного искусства мы слизывали бы самые вкусные краски своих нежных невест для семьи мы побросали бы чтобы вступить в объятья со всякой попавшейся особью заводы и фабрики свинофермы и мясо-молочные комбинаты мы взорвали бы мы плевали бы на Институты Инстанций мы взяли бы винтовки новые на штык флажки! Но ю-билеи — о гениальность двадцатого века! Какое количество коллективов! Коллегиальность! Дух! твор-чества! И у нас и у масс — непрекращающееся приподнятое настроение! На факуль-тете том фило-софией той… (факел тети вилы Софьи!) Не философы — инспектора для Института Инстанций: молочный материализм абракадабра аббревиатур свирепые силлогизмы нас и масс ефрейтора в зеленых кофточках калеки с комплексами искусства евреи-юристы с бе-е-лыми ушами девочки с чудным челом и с манией минета. Вот: все мы собрались на наш ю-билей и, напившись до бенгальских огней, декламировали философию: Протагора, Гегеля, Юнга, Канта, Достоевского, Соловьева, Шестова, Фрейда, еще Кона и кандидата философских наук… Парамонова. Подрались. Помирились… И… очнулся на льдине. Льдина была вся в воде (билась вода!) я стоял на коленях (боялся!) не встать, я уже весь вспотел, пот выплывал из-под меха, расплывался по морде, заплывал под подбородок, и выплывал на живот, виноградные капли пота скатывались по животу, размякла спина, заливало ее легким алюминиевым перламутром. Так что — тошнило. Руки окостенели от пота… Я уснул. Сон: я в центре зала, синего и золотого. Сентябрь. В инкрустированные венецианские окна влетают и садятся великолепные листья (клювами — вверх!). Волосы, вьющиеся, но состоящие не из волос человеческих, — но звериными звеньями падают и жужжат на человеческом моем животе: я — голый — совсем. Полдень в полнеба. Но зал в одноногих светильниках. Или это ноги калек всех времен и народов, поставленные на пьедестал почета: на ляжках (на лицах ног!) — гнусные губы с клыками кобыл, и тянется пламя слюной и сваливается красными языками (моими?) или это языки рабов, или императоров (раб — император — равны!) казнимых — казненных (равны!) по хуле — по хвале (равны!) в жизни, в смерти… Сколько веков в моей жизни нет и вздоха жизни, сколько веков в моей смерти нет и шага на смерть, всё смертожизнь какая-то никакая — жизнесмерть. Пой! В этих страшных и нищих стадах ты уже уходящий, уши оглохли от слез, очи ослепли от струн, кисти скрестил в Небесах — и хватит, Художник! песни оставил в песках — прощайся, Певец! Так! Не распустится риза твоя золотая, сердце мигнуло и потускнело, как птичий зрачок! А в электрических зеркалах, опоясывающих залу (я цепенею, цыпки по телу!), вижу мильярды ресниц своих вращающихся потусторонних глаз. Я — голый. Под исковерканными ступнями моими — одеяло тяжелых драгоценных монет с профилями всех времен всех вождей и народов, а на одеяле танцуют — кошки. Что за танец! Жуткий, военный! Но это — кошки! Ибо они одеты, как кандидаты философских наук: галстуки, запонки, воротнички, манжеты, только — шеи пушисты и пухлые лапы с когтями наманикюренными, как в столице Москва, также — советские обручальные кольца, физиономии же — безукоризненно кошачьи (в кошачьем пуху!), а на заднице — хвост, а на передних лапах — шпоры с колокольчиками, и все чуть-чуть разного роста — от кенгуру до комара (тоже, котеночек, скажем, — как сигаретка!). Кошки танцуют и с грацией, свойственной им, поцарапывают голого меня. И хором поют под невидимые и негласные звуки органов: Луна о белая богиня увы убила таракана о обнимая трупик пела тик-так тараканчик тик-так Сию же секунду зальются финальные флейты, ударят утренние барабаны, и сонмы солдат, окровавленных кровью убийств, такие мужи, с белыми ушами, в касках со значками креста и звезды пойдут церемониальным маршем на Голгофу, где уже скручены вервием буквицы моего алфавита, все тридцать три, голые, как и я, стоят у своих тридцати трех крестов и толпы в них плещут олово и цикуту; и вот взовьются огни предсмертного нашего ю-билейного салюта и… я — выбрасываюсь лихорадочно и истерично из этого сна. Сон с барабанами — обморок с барабанами и хорами это последний предупреждающий сигнал, — смерть! из вне жизни моей.6
Я — встряхнулся (а сил — не осталось), каменные ноги (как у каменной бабы!), в глазах появлялись, пульсируя, радуги, а льдина уже летела на дамбу, я выбросил руки, и кисти без чувств ударились в дамбу, меня раскрутило, и льдина, кружась… исчезла. Последнее, что я увидел: правый берег чернобелел со сталактитами новостроек, таких ненастоящих, до слез бесцельных, маленькие машинки с татарскими глазенками, скачущие по набережной на Восток, террористические башни подъемных кранов, во тьме, на ногах жирафы, с головой пеликана, с подвешенными фонарями. И рвало меня прямо в стальной воде, и барахтался я и вращался, и хватался судорожно за какие-то льдинки побольше и поменьше, плыл под водой, опускаясь и выбрасываясь, как всхлип, и никакого дна ноги не ощущали (болтались!). Когда я уже ухватился руками за берег, только в эту секунду почувствовал, что на руках перчатки, выполз на землю, и никак и никак не мог встать, соскальзывая, и никак не мог уравновесить себя на этих ногах, трясущихся и тритоньих, эту тушу собственного меха, удесятеренную в весе водой, не мог, а все-таки встал и пошел, и увидел на мерзлых мостках (слева, что ли?), отполированных инеем, в шатающемся кружке фонаря, — снежно-красный бюстгальтер, новенький, юный, невинный, дошел-таки до него (цель — о Боже!), шатаясь под ношей, уже замерзающей и звенящей, и взял я бюстгальтер, поднес к своему лицу (страсть, о Боже!), пахло таким солнечным одеколоном, дешевым, девичьим, — я опустил эту тряпку и пошел дальше, не выпуская ее, не разжимая пальцы в перчатках… И воя.МУХИ (историческое)
Мерзкие мухи… местный орнамент. Может быть, мухи были орлами в ветви варягов? И, осененные диво-делами, может быть, мухи были двуглавы, — визг византийства? Может быть, мухи в очи клевали, конницу Киева расковали, — с тьмою татарской? Кровь на Малюте, кровью Малюты, может быть, мухи сеяли Смуты, — отрок Отрепьев? Или же мухи в роли небесных флагов, убийц флото-немецких первопетровских? Или же мухи в рясах растили Дом Ледяной под кличкой «Россия», — бабой Бирона? Или они посредством «Наказа» стали совсем бриллиантоглазы, — флиртом Фелицы? Или они в сибирях опали смертью цепей о бульдике-Павле, — отцеубийства? Ревом гусарским в пустыне синайской мухи махали снегом Сенатской, — пять в Петербурге? Может, осели (труд и тулупы!), все, что живое — трупы и трупы, — после в потомстве? Всё, что под именем «многомужье» преподносили — лишь многомушье, блуд балалайки! И венценосными токарями в громе с грядущими топорами, — наша надежда?Сонет
Пахарь пашет пашню. Сеятель сеет семя. У солнца плоды плодятся. Человек родил человека. Креститель все это крестит. О всё — во веки веков! Но знай, что опять, как прежде, в абстрактных очках и с тростью идет по седьмой старуха столице Земного Шара не Млечным Путем, не Божьим… Она убила собаку. И вовсе ее не ищет. А ходит и не умирает.ТРИДЦАТЬ СЕМЬ 1973
Первое стихотворение 1973 года
В кровавых лампах оплывших окон — фигуры девок! тела на лапах в лохмотьях елок, — о, жизни древо! В очках все очи, сосцы — под лифчик, пупки под пряжки, под животами пониже — листик, а дальше ляжки, зады мы любим, они — как солнца! — а возле, возле младые люди, и все в кальсонах, и все в волосьях, и очень сзади, и очень спереди хвостаты: чуть-чуть де Сады, страдальцы спермы, чуть-чуть кастраты, им — катапульты, электро-списки, дела! девизы! графин капусты, конфетку спирта, каркас девицы, есть гастрономо-и-астрономио-бутылки, есть труд и Тартар, а остальное — блюдет будильник. В оплывших окнах — дыханье Духа! — муляж к муляжу: и око в око и ухо в ухо и ляжка в ляжку! Так неужели всегда так будет: бессонниц купол, теней ущелье — театр Кабуки, кривлянье кукол? А там — как пели? В стаканах стенки цвели кристаллы. Крутил Коперник по небу стрелки, шумел костями. А там — в сортирах не брезжил, таял звонок в брезенте. Луна светилась, как золотая башка бессмертья! Так неужели ты так и тонешь в огне огромном, душа моя — слепой детеныш, бред эмбриона?Песнь моя
Ой в феврале тризна транспорта, фары аллей. В Летнем саду снег у статуй чуть-чуть зализал срамоту. Дебри добра: в шоколадных усах у школ детвора. Толпы Цирцей сочетаются кольцами в бракодворце. Девушки форм любят в будках под буквами «телефон». Как эхолот шевелящий усами эпох полицейский-илот. Солнце-Дамокл. Альпинистские стекла домов. Мерзкий мороз моросит над гробницей метро. Тумбы аллей в красно-белых тельняшках — опять юбилей. Бей, сердце, бей в барабан безвоздушный скорбей. Плачь, сердце, плачь, всех смятений сумятицу переиначь. Пой, сердце, пой! Ты на троне тюрьмы. Бог — с тобой. Ой в феврале вопли воронов, колокола кораблей. Худо дела: чью там душу клюют, по ком — колокола?Мой милый!
1
Было! — в тридцать седьмой год от рожденья меня я шел по пескам к Восходу. Мертво-живые моря волны свои волновали. Солнце глазами льва выло! Но сей лев был без клыков и лап. Двадцать восьмого апреля с Книгой Чисел в Восход в одежде белой с пряжками, в свиных башмаках я шел. И шумели волосы, хватали меня по ушам. Хладно было. Я матерился, но шел. Я шел, как и с каждым Восходом иду и иду, бормочущий буквы, язвящий грешный язык, не слышимый в Небе ни Богом, а на земле, — земля и без букв — будет! благо, что есть букварь. Благо, что есть таратайка труда и кляп клятв, суки в чулках, котлеты в общем котле, в клюшки играем, от пива песни поем, буквоман! Тсс… нету споров! Я — всех — вас — люблю! Итак: Море месило влагу. Брызги — были, клянусь! Песок состоял из песчинок. Парус — не белел. Вставали народы и расы. Вставая — шли. Счастья искали. Трогательная тема. Лишь гадкий птенец, логарифмический сын их с небес набросал вчера в полнолунье на этот уже эпохальный брег лампочек, апельсинов, палочек от эскимо, лифчиков, презервативов, всякого пола волос. А там, где граница моря и взморья, там, где вода с брегом сливается, на полотняном песке вот — восемь букв: МОЙ МИЛЫЙ! Буквы-канальчики: в М — немножко воды, О заплыло совсем, Й брезжило лишь… МОЙ — плохо просматривалось, но киноэкранно гравюрны были пять: МИЛЫЙ. Как непростительно просто, как на берегу богов, на бюрократическом бреге — МОЙ МИЛЫЙ! И ничего. Желтые буквы беды сосуществуют со всем вышеописанным счастьем. А над апрелем чайки читали Восход, или весну вопрошали: «Когда же проклюнется рыба?» Всюду светились нежно-зеленые личики листьев. Дети засматривались на пляж, не купаясь, в кепочках кожи. Да мотоциклы мигали, красные, как вурдалаки. Жрали все больше и больше электрожратву вы, электропоезд, обслуживающий курорты. Но рановато. Пока пляж был безлюден (то есть — без тел), девственен! Ждал своего жениха! Мифотворца!2
Песню весенней любви теперь запевайте, вы, майские Музы! Было! — у самого-самого моря стоял Дом Творчества. В доме был бар. Но об этом позднее. В Доме том жили творцы и только творили. Творчеством то есть они занимались, — и это понятно. Всякая тварь испытала на собственной шкуре, что значит творить. То есть — таланты там были. И точка. В Доме директор — был. Прорицатель Биант. Физиономия в коже из паутины с носом Иуды из Кариота. Знал он, что есть, и ныне и присно и будет во веки веков. А потому что: там, в кабинете Бианта, забронированном автоматической дверью, всюду вращались, как водовороты, магнитофоны соцреализма: охи, сморканья, волненья отечественных одеял, расшифрователи стука машинок — по буквам — пишущих, анализаторы кала, пота и спермы, плеск поцелуев, беседы о Боге, шипенье бокалов, хохот, хотьба (о чем ты задумался все же, детина?). И по утрам, когда утихают ласки и разговор приобретает (хм!) резко политическую окраску, из-за занавески выходят бледные парни Бианта и говорят, отворачиваясь: — Хватит, ребята. Ласки ласками, но и тюрьма, как-никак, — государственное учрежденье. — Буря ревела, дождь ли шумел, молнии мнительные во мраке блистали, — но поразительно прост и правдив был Биант: на расстоянье вживляя в мозги полусна элегантные электроды (что там приснится? — Сияющие Вершины или — вниманье! — лицо нимфы Никиппы, к примеру!).3
В лифте летал Аполлон. Лилипут. В голубом. Ласточкой галстук. С красной кифарой. Чуть краснобров. За голубыми очками глазастые очи. Ехал на лифте, как эхо — людям служить. Словом и славой. Мужество — было. Гражданское. Два подбородка. Запад огульно не отрицал. Нового — страстный сторонник. В номере ныл и лизал Никиппе чулки. Официанток отчитывал голосом грома. Сед, как судак. Влюблен. Но нелюбим. В жизни своей не замучил ни женщины. Был драматургом. Да, а Никиппа? Невеста она — Аполлона. В общем, она тут ни при чем — так, отдавалась. В доме был бар. (Пора, брат, пора!) В доме был лифт. Вот что о баре. В баре сидел настоящий сатир. Современник. Может быть, с рожками, только в кудрях затерялись. Кудри его! Не описываю. Не фантаст. Девы дышали, как лошади, кудри его пожирая очами. Очи его! Очи ангелов или гусаров, они — цвета злата! Ноги его! На копытах! Ну, что тут прибавить? Руки его!.. Впрочем, ручки с похмелья гуляли. Есть небольшая деталь… так, не деталь, а штришок: голый ходил. Даже не в чем мать родила, куда бы ни шло, а — голее. Правда, кудрями своими неописуемыми чуть-чуть вуалировал обе ключицы, но что, извините, женщине плечи мужчины, если он — гол! Как питон! Как пиявка! В баре он — пил. Из бутылки! Бальзам! Все… смотрели. Выпив свою сардоническую бутылку и обведя аборигенов золотыми от злобы глазами, вставал и — вылетал, как скальпель, в дверь под названием «Выход». И… в море купался. Как все! Марсий, — о нем говорили. Фамилия: Марсий. Кстати, Никиппа. В ней-то и дело. Любила она отдаваться. Нравилось ей. У нее были белые ноги, ну, и она их время от времени раздвигала. Вот Аполлон. Это — жених. Ну, а жених — это тот, кто ждет своей очереди к невесте. Марсий, к примеру. Этот — гений флиртов и флейт. Марсий — любил, а она хорошо мифологию знала. Был и в Москве какой-то Гигант. Но этот был — настоящий поэт: в «Юности» публиковался. Пел под окном, как Лопе де Вега. И колебалась в стали стекла шляпа его с шаловливым павлином и кружевное жабо с мужскими усами. Пел темпераментным тенором светлый романс Ренессанса о страсти, с болью в душе и с отчаяньем отмечая: вот они двое в объятьях лежат — сатир и русалка, вот она с кем-то совсем посторонним (увы!) до утра на ковре кувыркалась, вот появлялась в стекле ее лебединая шея с башкою Египта, время от времени с грустью поэту в окошко мигая. (Улица Горького аккомпанировала звонками Заката!) Нимфа Никиппа была из семьи не семитов. Папа — писатель. Нет, не на службе. Не алкоголичка. Не блядовала. И вообще ни х..я не хотела. Сказано выше — она отдавалась. Искусства была не чужда и философии наша Никиппа! Песню весенней любви продолжайте вы, майские Музы! Как начиналось? А так: не хватило дивана. Было — вошел Аполлон в почти новобрачную спальню, и — чудеса! — был диван. Был на месте, и — нету. — Боги Олимпа! — взмолился тогда Аполлон. — Где же диван? — И боги сказали: — Иди и увидишь. — Пошел и увидел: двое лежали на дивном диване в позе, весьма соответствующей моменту. — Что вы здесь делаете? — воскликнул вопрос Аполлон дрогнувшим гласом. Марсий ответил просто и кратко: «Ебемся». — Не верю. — Как знаешь, — ответствовал Марсий. — Разнервничался, — Никиппа сказала. — Ну, хватит, хватай свой диван и дуй. Лифт направо. Невесту свою не оставь. — Аполлон взвалил свой диван крестоносный, потопал. Невеста, как лебедь египетская, за ним, — неземная. Поставив диван, лилипут набросился на невесту, весь сотрясаясь. Она отдалась.4
Так началось: как полагается — ревность, а с нею — все, что связано с нею: рвенье к любимой, просьбы к Всевышнему, робкие в сердце попытки, в общем, беспочвенных, но неслыханных наслаждений и мести. Ибо отправлен в изгнанье был Аполлон нимфой Никиппой в номер соседний. Там он и спал: в очках, в сединах, весь в голубом, одинок. Кто из людей не вздохнет, слушая, как за стеной отдается его невеста? Что ж — Аполлон в таком случае — бог? Тоже вздыхал, не лучше, не хуже, чем все остальные. И… как отдается? По всей анатомии этого милого всякому смертному дела. Но… будем скромны, как и прежде. Способов много: очи опустим, голову тоже. Спору нет: все эти способы свято подсчитывать жениху за стеной — небезынтересно, если, в особенности, объект за стеной — невеста твоя. Есть и другая еще, плюсовая деталь проблемы: Никиппа и Марсий в поте лица отдавались друг другу, а Аполлон только слушал и только кончал, — без труда и без пота! не ударив палец о палец! Утром сатир кифареду весьма дружелюбно кивал. Итак: ибо: бог Аполлон был Большой Гражданин Государства, вся эта ебля приобретала уже государственное значенье. Это тебе не семейный совет: выпил водки-селедки, и — по зубам! А пока ремонтируют зубы — любовник уже утомлен и уехал… Нет! — как? почему? отчего? где? зачем? на каких основаньях? нет ли здесь умысла идеологических, скажем, ошибок? Разобрались. Есть и нет, но идеи — на месте. И идеалы грядущего — в норме. К тому ж — не жена, а невеста. Вызвали Аполлона. Спросили. Сказал. Сказали: мы не позволим. Нужно хранить Граждан — и т. д. Перевоспитывать сволочь. Драматургия — это искусство для масс. — Кифара в порядке? — Ответил. Сказали: — Нужно запеть! — То есть? — спросил сквозь очки. — Голосом. Гласом. Мирное соревнованье систем: кто проиграет, с того сдирается шкура. Вы на кифаре, этот на флейте. Он — проиграет. Он-то один, за вами — гражданская тема. Песню весенней любви теперь отпевайте вы, майские Музы! Запели. Вот Аполлон заиграл о ликующей всюду любви. Ликовали. Марсий завыл на фиговой флейте какое-то хамство. Е. твою мать, как матерился! (Но материться в поэме нам не к лицу.) — Паспорт посмотрим, — сказали. Потом: — Почему на копытах? Национальность? — Сатир. — Вот как. Все ясно. Шкурку вы сами снимете или позволите нам? Скальпель и морфий! Морфий не нужен? Смеетесь? Вам больно? Ах, нет? Тише. Тем лучше? Это — последняя шкурка? Не вырастет? Чушь. Сейчас все вырастает. Кудри скальпируем. Так. Животик-то — пленка. Теперь повернитесь спиной. Спасибо. Копытца отвинтим. Вы полюбуйтесь только теперь на себя: новый совсем человек! Запевайте о новом! Шагайте шагами!.. Не зашагал. Осмотрелся. В баре сидел Аполлон и нимфу кормил шоколадом. Шел разговор о вояже на Запад: свадебные променады. У лилипута сверкали очки, окрашивая все в голубое. Расхохотался — Марсий. Напился. Всюду совал свою мерзкую морду. Так и уехал без шкуры, но хохотал — как хотел! В общем, сей тип, к сожаленью, так и остался в своем амплуа.5
Бойтесь, Орлы Неба, зайцев, затерянных в травах. Заяц пасется в степях, здравствует лапкой Восход. Нюхает, зла не зная, клыкастую розу, или кощунствует в ковылях, передразнивая стрекозу. А на Закате, здравствуя ночь-невидимку, пьет сок белены и играет на флейте печаль. Шляется после по лунным улицам, пьяный, в окна заглядывая (и плюясь!) к тушканчикам и хомякам. Лисы его не обманут — он лис обцелует. С волком завоет — волк ему друг и брат. Видели даже однажды — и это правда — заяц со львом ели похлебку из щавеля. И, вопреки всем традициям эпоса, кобра, может, вчера врачевала его ядом своим. Все это правда, все мы — дети Земли. Бойся, Орел, птица Неба, я вижу — ты прыгнул с облака вниз, как пловец, руки раскинув. Замерло сердце у нас, омертвели колени, не убежать — ужас желудок окольцевал, не закричать, не здравствовать больше Восхода, лишь закатились очи и пленка на них. И — горе тебе! — мы по-детски легли на лопатки, мы — птичка-зайчик, дрожащими лапками вверх. Что это — заяц живой или жаркое — зайчатина с луком, с картошкой тушеной? Бойся, Орел, улетай — это последние метры вашей судьбы. Вот вы вцепились когтями в наше нежное тело, клювом нацелился в темя (теперь-то — не улететь!), дышишь нам в очи, как девка в минуту зачатья… минута… где же орел? где он? ау — нету орла. Только пернатое месиво мяса. Повсюду разного веса разбросаны и валяются в травах куски. Вот две ноги рядышком, как жених и невеста. Все остальное — хвост, обнаженные ребра и крылья — залито соусом, соус — живая кровь. Пар от крови. И, вытирая травами кровь со своего сведенного тельца, ты осмотри свои задние ноги, заяц, зверек изумленный. Это они, обморок твой защищая, судорогами живота приведенные в действо, в лютой истерике смерти взвивались и бились и разорвали орла. А ты и не знал! Да и не знаешь сейчас. Отдышался, оттаял и побежал на тех же ногах к Закату, здравствуя лапкой счастливый свой горизонт!6
В год Рафаэля, Байрона, Моцарта, Пушкина, — кто там еще? — я все шел и, дыханье свое выпуская шарами солнечными, а в тени — чуть-чуть нефтяными, пересчитывая шаги, скрестив до боли ресницы, остолбевал на тридцать седьмом, и, в который раз, бледный и скорбно стоял над пропастью сей незатейливой фразы: МОЙ МИЛЫЙ! Кто написал через каждые тридцать шагов и семь — МОЙ МИЛЫЙ! Ран романтизма не перечислить. Длинное дело! Рок Рафаэля! Байрона бред! Моцарта месса! Пушкина пунш! Что предчувствия? Может, Мадонна тело тебе отдавала свое, Художник, только затем, чтобы ты умер на теле? Может, Августа и не сестра, а — постриг в святость карающей крови, — и что вам?! Может быть, реквиемом без жен ты скончался, Моцарт, скрипку любя, только ее красно-теплое тело? Может быть, Натали не до балов, а пуля Дантеса точка и только? А судороги супруги — ненависть женщины тела к гению неба. Может, народы и расы, границы, войны, системы — только ненависть Тела к Небу, — и нет им сосуществованья? Может быть, нимфа Никиппа мне написала «МОЙ МИЛЫЙ!», мстя за насмешки поспешные (смех — чтоб не слезы!)? Может быть, просто Наташа с телом Египта так посмеялась от плача? Знаю: не знаю. Я ухожу в утренний ход моря. Чайки — белое чудо. Море — восстанье весталок. А горизонт кто-то оклеил газетами. За — горизонтом — небо мое! Что ж. Застегнем все пряжки нашей белой одежды. Очи откроем и будем идти как идти за — горизонт, за — Долину Блужданий! Будем молчать, как язык за зубами. А надписи эти, эти песчинки чьих-то там поздних признаний, эта отвага отчаянья — после потери — да не осудим! — слышал я, слышал — устами не теми.Отъезд со взморья
Плакать не надо, Вы, — будем как чайки Египта… Мысли мои несмышленыши — мне вас не додумать. Надежды мои необитаемые — ни в небе. Спите, о спите, свирели, как звери, — эхо ваше замерзло. Женщина, Вы — о любовь детского Дон Жуана!.. Чайки, всё чайки. И море в мокрой сутане. Солнце соленое ползает, щеки щекочет, или это кровинки моря мои? Туман. Знак знакомый луны в океане, теплая тень сосны на песке последней, в пустыне. Плакать не надо, Вы, — это лицо мое на дне бокала в той кровинке вина морской, скоморошьей. Туман — бег белый коня в копытах. Минет и третий звонок. Пора перекреститься. (Был скоморох — стал монах. Месть моде.) Где же четвертый? Не быть. Не услышим. Плакать не надо, Женщина, Вы, мы оба — только объятья…Этот эпилог
Слушай! я говорю — горе! — себя кляня, в тридцать седьмой год от рожденья меня благодарю вас, что и в любви — была. Смейся! мой смертный час — не берегла. О пустяк! предоставь мне самому мой крах. Я, прости, перестал в этой любви в веках. Мантию не менял. Пусть постоянен трон: эта любовь — моя, и не твоя, не тронь. Минет моленье утр. Вы подарили раз много-много минут. Благодарю вас. Млечных морей слеза не просочится в миф. Благодарю за — ваш, любимая, мир: ваш — соломенный клад, плавающий на плаву, ваш — без звезд и без клятв, ваш — лишь наяву, ваш — вечный вертел, поровну — твердь и сушь, ваша телесность тел, одушевленность душ. Кто я? — паяц, бурлак, воин, монах, король? — что вам! а боль — была. Благодарю боль. На море вензеля. Песок утоптан, как воск. Ваш, египтянка, взгляд, взлет ваших волос, лунная леность лиц, ваших волос сирень, рой ваших ресниц, или сердца секрет. Над взморьем звезда Пса. О спите, судьбу моля, чтоб в тридцать седьмой год — от рожденья меня не опустить так — голову ниже плеч. Боже — моя мечта! — но и мечта — меч. Как золота земля, ходит в воде волна, биться былинкой зла, шляться в венце вина, волком звезде завыть, смерть свою торопя, плакать, тебя забыть и — не любить тебя!«Я тебя отворую у всех семей, у всех невест…»
Я тебя отворую у всех семей, у всех невест. Аполлону — коровы, мяса́, а я — Гермес. Аполлону — тирсы и стрелы, а я — сатир, он — светящийся в солнце, а я — светлячком светил. Я тебя (о двое нас, что — до них, остальных!), я тебя отвою во всех восстаньях своих. Я тобой отворю все уста моей молвы. Я тебя отреву на всех площадях Москвы. Он творил руками тебя, а я — рукокрыл. Он трудился мильоны раз, а я в семь дней сотворил. Он стражник жизни с серебряным топором. Он — жизнь сама, а я — бессмертье твое. Я тебя от рая (убежища нет!) уберегу. Я тебя отправлю в века и убегу. Я тебе ответил. В свидетели — весь свет. Я тебе отверил. И нашего неба — нет. Нет ни лун, ни злата, ни тиканья и ни мук. Мне — молчать, как лунь, или мычать, как мул. Эти буквицы боли — твои семена, их расставлю и растравлю — и хватит с меня.«Храни тебя, Христос, мой человек…»
Храни тебя, Христос, мой человек, — мой целый век, ты тоже — он, один. Не опускай своих соленых век, ты, Человеческий невольник — Сын. И сам с собою ночью наяву ни воем и ничем не выдавай. Пусть Сыну негде преклонить главу, очнись и оглянись — на море май. На море — мир. А миру — не до мук твоих (и не до мужества!) — ничьих. Сними с гвоздя свой колыбельный лук, на тетиве стрелу свою начни. И верь — опять воспрянет тетива. Стрела свершится, рассекая страх. Коленопреклоненная трава восстанет. А у роз на деревах распустятся, как девичьи, глаза. А небо — необъятно вновь и вновь. А нежная распутница — гроза опять любовью окровавит кровь. И ласточка, душа твоя тенет, взовьется, овевая красный крест. И ласково прошепчет в тишине: — Он умер (сам сказал!), а вот — воскрес.«Все прошло. Так тихо на душе…»
Все прошло. Так тихо на душе: ни цветка, ни даже ветерка, нет ни глаз моих и нет ушей, сердце — твердым знаком вертикаль. Потому причастья не прошу, хлеба-соли. Оттанцован бал. Этот эпос наш не я пишу. Не шипит мой пенистый бокал. Хлебом вскормлен, солнцем осолен майский мир. И самолетных стай улетанье с гулом… о старо! И ни просьб, ни правды, и — прощай. Сами судьбы — страшные суды, мы — две чайки в мареве морей. Буду буквица и знак звезды небосклона памяти твоей.«Я оставил последнюю пулю себе…»
Я оставил последнюю пулю себе. Расстрелял, да не все. Да и то эта пуля, закутанная в серебре, — мой металл, мой талант, мой — дите. И чем дальше, тем, может быть, больше больней это время на племя менять. Ты не плачь над серебряной пулей моей, мой не друг, мой не брат, мой — не мать. Это будет так просто. У самых ресниц клюнет клювик, — ау, миражи! И не будет вас мучить без всяких границ мой ни страх, мой ни бред, мой — ни жизнь.«Я вас любил. Любовь еще — быть может…»
Я вас любил. Любовь еще — быть может. Но ей не быть. Лишь конский топ на эхо нас помножит да волчья сыть. Ты кинь коня и волка приласкаешь… Но ты — не та. Плывет твой конь к тебе под парусами, там — пустота. Взовьется в звон мой волк — с клыками мячик к тебе, но ты уходишь в дебри девочек и мачех моей мечты. Труднее жить, моя, бороться — проще, я не борюсь. Ударит колокол грозы, пророчеств, — я не боюсь ни смерти, ни твоей бессмертной славы, — звезду возжечь! Хоть коне-волк у смертницы-заставы, хоть — в ад возлечь! Проклятий — нет, и нежность — не поможет, я кровь ковал! Я — вас любил. Любовь — еще быть может… Не вас, не к вам.Письмо из леса (вариации)
1
Лист желтый на небе не желтом, но и не синем. Иголочки с блеском у елей, а паутина — как пена. Воздух воздушен, и где-то там плачут пчелы. Вот ветерок, и листья еще пролетели. (Помни полет стрекозы и ее кружевце- крылья!) Солнце все засевает солнечным цветом. Вот я уйду во время луны в небе. Запах звериный, но из зверей лишь я не вою. В этом лесу я как с тобой, но ты — где ты? Хоть бы оставила боль, но и боль — былая. И, запрокидывая лицо свое к небу, я говорю: ничего без тебя мне нету.2
Зелень цветная, блуд бледнокожих, лебедь Египта, мед молока, теплое тело, нежные ноги, челка на лбу — инок и конь! — волосы власти! Кисти твои не расплести — так расплескались, губы твои не целовать, — замкнуты знаком, не обнимать хладных колен — окольцевали, и на спине спящей твоей нет мне ладони. Спи, человек мой голубой, девочка дочки, в майской Москве в доме для нас нет ни паркетки, спи, ибо ты ночью — ничья, даже в объятьях, снятся тебе глазки машин, как у китайцев. Я по лесам, по чудесам с кепкой скитаюсь, снова смеюсь и сам про себя песенку вою: «Но он сел в лес и пил лип сок…» Стал я так тих и не влюблен, в буквы играю, птица ль заплачет — я замолчу — зверь ли завоет. Я не приду, я не приснюсь вовсе ни разу, но и тебе (клятва!) живой боль не позволю.3
Я говорю: ничего без тебя мне нету. Я говорю, а ты не услышь мой шепот, может, последний в светлом лесу вопль волчий, все-таки мало, милая, нам ласк леса. Волк запрятался в лист, во тьму, — знак смерти. Рыбы ревут немо. В водах — всхлип, всплески. Жаворонок задохнулся и не спас сердце. Храбрая будь, хороший мой пес, мой? чей ли? Заперли в дом, двери на цепь, — лай, что ли?! В окна — бинокль, а телефон — хор Хама. Все на коленях, — в клятвах, в слезах! О, овны! Ты им не верь, ведь все равно цель — цепью! Ты так тиха. Шею твою — в ошейник! Лишь в полуснах-кошмарах твоих бред бунта. Будь же для всех бледной бедой, бей болью, грешная будь, нелающий мой, мой майский! Я ли не мудр: знаю язык: карк врана, я ли не храбр: перебегу ход рака… Все я солгал. В этом лесу пусть плохо, но не узнай, и вспоминать не надо.4
Вот я уйду во время луны в небе. Наших ночей — нет. И ничто — время. Наша любовь — холод и хлеб страсти в жизни без жертв — как поцелуй детства. Вот муравей — храбрый малыш мира, вишенкой он бегает по веку. Что для него волк-великан — демон, росы в крови, музыка трав Трои? В небе ни зги нет. Дерева тени порастеряли, или и их — в тюрьмы? В нашей тюрьме только зигзиц числа, «стой, кто идет?» — выстрел и вопль! — ты ли? Только — не ты! Я умолю утро, голову глаз выдам своих Богу, я для себя сам отыщу очи… Не умирай в тюрьмах моих сердца!5
Спи, ибо ты ночью — ничья, даже в объятьях. Пусть на спине спящей твоей нет мне ладони. Но я приснюсь только тебе, даже отсюда. Но я проснусь рядом с тобой завтра и утром. Небо сейчас лишь для двоих в знаках заката. Ели в мехах, овцы поют, красноволосы. Яблоня лбом в стекла стучит, но не впускаю. Хутор мой храбр, в паучьих цепях, худ он и болен. Мой, но — не мой. Вся моя жизнь — чей-то там хутор. В венах — вино. А голова — волосы в совах. Ты так тиха, — вешайся, вой! — вот я и вою. Хутора, Боже, хранитель от правд, — правда — предательств! Правда — проклятье! С бредом берез я просыпаюсь. Возговори, заря для зверья — толпища буквиц! Боже, отдай моленье мое женщине, ей же! Тело твое — топленая тьма, в клиньях колени, кисти твои втрое мертвы — пятиконечны, голос столиц твоего языка — красен и в язвах, я исцелил мир, но тебе нет ни знаменья, жено, отыдь ты от меня, — не исцеляю!Последний лес
Мой лес, в котором столько роз и ветер вьется, плывут кораблики стрекоз, трепещут весла! О, соловьиный перелив, совиный хохот!.. Лишь человечки в лес пришли — мой лес обобран. Какой капели пестрота, ковыль-травинки! Мой лес — в поломанных крестах (перстах) и ни тропинки. Висели шишки на весу, вы оборвали, он сам отдался вам на суд — вы обобрали. Еще храбрится и хранит мои мгновенья, мои хрусталики хвои, мой муравейник. Вверху по пропасти плывут кружочки-звезды. И если позову «ау!» — не отзовется. Лишь знает птица Гамаюн мои печали. — Уйти? — Иди, — я говорю. — Простить? — Прощаю. Опять слова, слова, слова уже узнали, все целовать да целовать уста устали. Над кутерьмою тьма легла, да и легла ли? Не говори — любовь лгала, мы сами лгали. Ты, Родина, тебе молясь, с тобой скитаясь, ты — хуже мачехи, моя, ты — тать святая! Совсем не много надо нам, увы, как мало! Такая лунная луна по всем каналам. В лесу шумели комары, о камарилья! Не говори, не говори, не говори мне! Мой лес, в котором мед и яд, ежи, улитки, в котором карлики и я уже убиты.Бессонница
Лестница, а по — крысы бегают, в шляпках, в ботфортах, с рапирами — ура! Бьется, бьется бабочка — бессонница в ласках-волосах моих, а волосы болят. Тело у меня еще теплое, все в слезах пота, и живот чуть живой. По животу с блестящими глазенками крысы, маленькие, как муравьи. Тьма. Во тьме — евангельской? египетской? — ты — с телом крысы, майским, меховым. Лебедь-шея — это евангелия, бог-башка — это Египет. Не люби. Но не целуйся с крысами. Господи, бегут с клыками! кусать! Где выключатель? Вот! Включается! Ищу под одеялами — и нет там меня! Нет нигде меня — на корточках по комнате ползаю! Лягу — сплю, сплю, сплю… Раскрою глаза — влюбленно улыбается в глаза мне крыса, морда как медведь! Спаси, не люби. Любить — навязывать. Спасать — явиться лишь и глаза мои закрыть. О, если б кто-то — вы, что ли, — выстрелил, но сзади, в затылок, чтоб не ждать, не знать!Пастораль, или Эстонская элегия
У трав — цветы и запах хлеба… А у врат стоит дите, сморкаясь. Сеятель-отец идет с похмелья сеять лук, поет. Дите пустил струю, — она как радуга! Стыл суп внизу, и пах он лилией и псом. Извне летел орлом один и лебедем второй — комар. Телят в овине ели мухи до кости. Но вон бежал без девки человек, но в кепке и жабо. За сеятелем тем бежал чулок без глаз в одной туфле, и цокал их каблук-рондо. И человек хватает револьвер, вот тот, который рос, как яблоко в саду, — курок! — о, честен выстрел — падают очки, чулок убит, каблук упал за куст. В лучах идет к дитю тот, в кепке, он — спасен! Дите опять струю, как саблю, меж колен зажал. Пята отца стальна, он бьет босой пятою в дверь, — а что?! Идет, выносит суп и ставит пред дитем. Дите взял пальчик, вынул лилию и пса, потом съел суп, — и пусть! Он лилию оставил на вечер, на после, к чаю. Но пес укусил, и пальчик отобрал, и тоже съел, успел уйти, ни слова не сказал, и в ус не дул. И тут не стал дите лечиться медициной, — нет! — взбешен, взбежал на крышу дуба, там-то был паук и плел камыш, ковер-камыш взлетел и — улетел. Рывок! — ведь и отец хотел взлететь, он восклицал: «Мой сын!» Твой сын потерян для тебя, отец. Не порть слезу! Зачем взрастил дите? Зачем посеял лук, поя? Ты суп сварил цветка и пса? Да, ты. Молчишь?! Бежал без девки от чулка, в жабо? О да! Стрелял твой верный револьвер? Стрелял. Молчишь! Ты — виноват. Дите сморкался в нос себе, пускал струю, — сия совсем невинна страсть, возврата нет. Молчи, о сеятель, и сей теперь добро. А ты (я о себе!) пиши, дружок, пиши пером: «Шептал камыш, цвел в море мак, и ворон на макушке жил, потом полез в гнездо — поесть яйцо дрозда. И дрозд убил его. И сбросил в пыль (а ворон был здоров!). Лежит теперь, раскинув руки, весь в пыли… Тяжел у жизни нашей лет, товарищ труп!»О себе
Воду поджарим на сковородке, в нее окунем чеснок и кильки хлебнем до дна. Ночью носки в стирке протрем и будем, как боги, бежать в носках на Закат, мифы морализуя, эхо Эллады в Грецию запустив. Кто вы, маэстро, с машинкой пишущей? Стрижен, как сталь, в бане пивом отпарился и вышел, дыша, но и трясясь, как тростник. В комнате винных бутылей — блеск блевот. Вот и воспоминанья: ехал сюда, на хутор — под поездом пресный лежал, попал под платформу, пять ребер преломано. Женщина из Москвы шуткой шипит в письме, а ты «до востребованья» вопишь. Мысли милиции ты прорицал (паспорт потерян в драке дурацкой) а — дальше? Дышать сил ваших вежливых нет. Мечты — а о чем? зачем? Пишешь баллады о ближних, историю — в стол, мурлыка-мертвец. Девственны люди двенадцати лет, в будущем — женщины. Но нельзя. Женщины тут же ходят с телами для одеял, но — вожделенья где? Вождь элениума — с луной? Утром проснуться и тотчас портрет пса нарисовать, черно-белый, и желтый — глаз. Пес усмехнется и все поймет, простит. Но — нет прощенья тебе, сатир, от этих распаренных льдин, людей. Пальцы твои преломаны на правой руке, все пять. Горе тебе, Гермес, ты пальцами у Аполлона крав крал. Гений Гонений, в трусах голубых, нежных, ты пьян был, а теперь пенишься только на белом блюде труда, но кто ты — в бумаге буквиц — и где? Ты не умрешь от ума. Ты — тень, и нет в прошлом тебе прощенья, а в будущем — свист. Мать не вини. Отца не вини. Сам все затеял — зачем сам себя родил?Слеза в лесу
Птенец упал, а он бескрыл. Грустит гнездо. Но он оправился, пошел и клювом заклевал. И червь земли к нему пополз. Комар его кормил. Созреют косточки твои, птенец. Взойдешь в надмирный воздух, как душа пера. Все в завтра: бой — любовь и кровь — хлеба, снега и солнца, — то есть жизнь… Конец июня. Конница стоит кузнечиков. Бел земляничный плод. Во тьме земли уже грядут грибы. Листву листают пальцем дерева. Светла роса, как лунная. Во мхах лягушки лают немо паукам… А муха? Вот летит, шумит, как шар. Куда она? То теменем в зенит, то прячется пружинкой, где темней. Что думает она? Что — без гнезда? Что век — одна? Что — только стоя спит? И я не знаю. Тише, твари, вы, Земли и Неба… кто-то там идет… Еще я видел, как по лесу шла слеза. Кто выплакал ее? Кто в лес впустил? Как женщина, она обнажена и босиком. Она светилась, как глаза. Но испарялось все ее лицо. А тело извивалось в ужасе, что смерть. Ее-то кто-то выплакал, а ей заплакать — как? Ведь нету у нее второй слезы, чтоб на тропинку обронить!.. Пока я шел, она уже пропала. Я пошел по лесу вверх, чуть-чуть качая головой: зачем под солнцем шла она? ведь солнце — яд.Утро
Думаешь, день занимался с зари? Думай, думай! Из Кара-Кум прилетел комар и кулаком хватил в окошко. Встал я из-под одеял и кулаком комара по морде убил. Как он упал! Как он лежал! — в брюхе бурлила кровь, лапы лохматы, и с клювом, как аист, с чьей-то мечтой ледяной на челе, — как мертвец! Да, смерть — не шуточки утречком, это тебе не жизнь! Лишь после этого ночь утратила сон, и день — занимался. В воздухе, как в океане окна, петляли пять самолетов, с телом как Суламифь — один, и ревели — четыре. Солнце повисло вниз головой, как мак неслепящий. Пахло жасмином, или навозом — так, запах как запах. Шумели кусты ботвы картофеля, а понемножку между кустами шли — кто куда — две старухи. Первая: волосы — пар, в кофточке вязи, с косой из железа, — как смерть. Бок о бок с ней вторая: в юбке как зонтик, вела на цепи овец розоворунных (клевер, щавель, колокольчики, лютики, травки!). «Мама! — вопили овцы. — Мама!» А пели: пой-петушок-гребешок, семь соловьев и комарик (не тот, не мертвец!). Видишь Восход: там стоял камень-валун, белый, как с хоботом слон. Там по шоссе веселились велосипеды, вместо колес — монеты серебряными рублями. А под окошком моим, у колодца-болотца стояло моих два уха, два часовых в красных касках и с автоматами: «Слушай, о, слушай!» Ибо писал я письмо Тебе, и мешала машинка. А вот за тем облаком в белом — там спрятались в каплях мои два глаза, в чудо-бинокли глядя в Москву — в твои глаза, ибо писал я письмо Тебе только для двух пар глаз — наших. А над машинкой (мешала машинка!) уста мои были — немость, чтоб не раскрыться не вовремя, чтоб не лгать. Лишь торопились пальцы мои, но пальцы лишь буквицы выбивали, не было в буквах ушей моих, глаз моих, губ, пальцев моих пульсирующих (о, мешала машинка!), черная путаница алфавита на белом… Ибо писал я — письмо Тебе, а оно — лишь письмо, любое.Псалом
Совести нет на скамьях, где гул голосов, лжепророки с графинами, — глупость! Этот совет — разврат, блуд белены — собранье. В залах факельных ваших по алебастру лампы всеосвещающие. Их письмена: «Встань и иди! И — будешь!» Арфа моя отсырела от бреда бессонниц. Я встану рано. Солнце Восхода из арфы моей выпарит росы. Пепел — мой хлеб, а питье мое — мокрый воздух. Камень — меня строитель отверг, и я не встану ни во главу угла. Кану, куда вся канет. Слово пою! — как пеликан в пустыне. Сплю, говорю с глазами: филин кладбища: вот оно вам, что вы возвещали «И — будешь!». Будет! — лишь червь и кость ваших могил мяса. Вы посмеялись над мыслью нищего: «Слово — суть сути». Множество тел толкали меня и лимфой тельцов обливали. Псы сатанели, пересчитали клыками мои ребра. Ризы мои запятнали навозом, отчьи мои одеяния — в лепрозорий. Дали мне в пищу желчь, в уста выливали уксус. И восклицали: «Вот он вот-вот умрет, и имя его не воскреснет!» Оводы очи мои клевали, от жаб — укусы, гусенице — мои дерева плода, саранче — труд злака, цепью убили мой виноград, а сикоморы — секирой, скот мой казнили язвой, стада пали от молний. Да, я дрожал душой. А вы восклицали: «Кто к нам со Словом придет, тот от Слова погибнет!» Так я молился во мгле своему Слову: «Душу мою от меча не избавь, от псов — стук ее одинокий, если мой путь — за горизонт, за — Долину Блужданий, зла не убоюсь — со мною Твой жезл и Твой посох. Гнев — на мгновенье Твой, на жизнь — жизнедаянье. Вечером водворяется плач, наутро — с нами радость. Нищий не навсегда забыт, бессмертна надежда нищих. Бездна аукает бездне хором Твоих водопадов, волны Твоей власти — над моей судьбою. Логовищами львов, клыков и когтей — клятва! Львам ли пленять во тьме чудеса Твоих таинств? В этой земле забвенья оклеветали Твою правду. Душу мою не возьми от злодейств, от львов — стук ее одинокий! Те колесницами, те конями, а мы — именем Слова! Схима или скитанья — чисел не надо: было! Слезы — в сосуды воска, в страницы страх замуруем… Слово — как звук Небес, и над нами — жилище солнца!» Вымя племен нарывает, беременеют расы, как сыты сыны их в лежбищах лжи, в шествиях празднеств, дочери лижут живот на чердаках винных, пленка завяла в глазах отцов, их уши упали. Пир вы пророчили в грезах грядущих, — где же? Ужас у вас самих: вот — удар стрелы! ибо сами — убийцы стрельбищ. Нет с вами пророка, и кто вас воспитает — доколе?! Воды — твои, Вавилон, Блудница, а я — жив и слезу не вылью. Арфу свою повешу на вербу, — шуми и мешай струнами! Связанный вервием не откликнется Словом веселья, очи он отвратит, язык за зубами отравит, знака не даст, если в столицу ворвется варвар (слышу копыто крови и меч мести!) и разобьет о камни твоих младенцев!Дождь
Шел дождь под солнцем. С палкой серебра. По цвету сам — то солнце и желток, а то кристаллом красным голубел. В окно хотел зайти — я не впустил. Есть дверь для всех, — давай в мой дом, дождь. Позавтракал? Вот стол. Вот табурет. Сухая рыба, хлеб (мой завтрак прост), два яблока — тебе одно и мне. Теперь послушай (ты поел?): ты шел с Восхода на Закат. И ты поил животный мир своей водой живой. Ты мастер молний в небе молока. Ты радуги рисуешь, как дитя. И я, босой, дождинками дышу. Я — только рисовальщик слов. Вот тут корова, — нет молекул молока, собака, — не укусит за меня, Мадонна, — полюбила бы, но как? Младенец, — годовалый на века. Они мертвы под прессом ста страниц, сейф текста без волшебного ключа. Я так устал впустую рисовать. Ты оживи мои творенья, дождь: я жизнь не жил, а рисовал. Но им даждь жизнь и страсть, насущный хлеб и кровь… ДОЖДЬ ОЖИВИЛ ИХ И УЖЕ УШЕЛ… Корова встала. Четырех копыт четырехкратный треск и горла гул, и поскакала вскачь за Горизонт, и человечество — доило! — сыр, сметана, сливки, масло, — польза крав! Залаяла собака мне в лицо, — не я хозяин и не та страна, — кусать клыком! — я плетью выгнал вон! Мадонна мне ничуть не отдалась, вошел солдат и оплодотворил. Я вырастил младенца в мужа. Он сказал: ты не отец! — За рукоять взял меч. И, может быть, меня убил… Но умер я… Следы моих страниц бесследны. Некому теперь творить. Есть — поколенья. Счастливы — сейчас! И сеют всюду мяса семена. Слов не рисуют. Попросту растут. А на моей могиле муравьи стопами сапогами, — на войну. Съев хлеб и соль, влюбленные тела рождают третье тело. На луну все воет сука с выводком щенят. А дождь идет под солнцем. Так стучит по тем трамваям палкой серебра. А люди ледяные по утрам идут на труд с дождем, — о, пот лица!.. Но умер я… И счастлив я, что мертв.Элегия заката (Открытая форма)
Лавры и тернии ласточек переплетаются в солнце. Грезы. Как золота земля, — незабудки, фиалки, а вот васильки — голубые губы. Овцы пасут овчины свои, очи у них — о, ничьи, ничьи… Глупость. Люди бросают зерна — сеют свой злак и спирт, варят в ведре капусту, — гнезда! Час Последний лицом лучей на меня посмотрел, опустил опять, гаснет. Девы целуют млечные губы моей колыбели, их кудри короновали, — гордость! Кони. И ясли у них не пусты. А мы кто? — кентавры! Гульбищ! Кровь племен у нас пузырится! Бьет копытом в алтарь! — Грешниц! Чу! Гуси-лебеди, что ли? Но нет, это стая невест неневестных! — гарпий! Вот опустились в наш сад фонарики, флейты, перстни, кувшины вина! — гости! Птицам и девам, людям и коням мы говорим: — Горе! Мы, полуптицы и полудевы, мы, полулюди и полукони, — грянем! Девы — пернаты, мы — на копытах, вам мечты, нам меч, вам плач, нам пляски — гунны! Наши копыта у нас без подков, когти у нас без перчаток, — гибель! Шар нам земной — иноземен! Сверкай, сотрясайся, глобус!Ночь о тебе
Звезда моя, происхожденьем — Пса, лакало млеко пастью из бутыли. И лун в окошке — нуль. Я не писал. Я пил стакан. И мысли не будили… о вас… Я не венчал. Не развенчал. Я вас любил. И разлюбить — что толку? Не очарован был. И разоча- рованья — нет. Я выдумал вас. Только. Творец Тебя, я пью стакан плодов творенья. Ты — обман. Я — брат обмана. Долгов взаимных — нет. И нет продол- женных ни «аллилуйя», ни «осанна». Я не писал. Те в прошлом, — письмена! Целуй любые лбы. Ходи, как ходишь. Ты где-то есть. Но где-то без меня, и где-то — нет тебя. Теперь — как хочешь. Там на морях в огне вода валов. (Тушил морями! Где двузначность наша?) И в водах — человеческих голов купанье поплавковое… Не надо. А здесь — упал комар в чернильницу, — полет из Космоса — в мою простую урну. Господь с тобой, гость поздний. Поклюем в чернилах кровь и поклянемся утру.После
Теперь от вас — воспоминанье, вас — пониманье: Графин и грусть. Головка лампы. Лучей заката карусели. Луной без солнца пахнет ландыш. Клюют лягушку коростели. С дрожащей шпагой Дон Жуана, факир пустынь, снег Эвереста, ты — жизнь и факт, я — доживанье себя, чье имя — блуд и ересь. Теперь от вас — воспоминанье, вас — поминанье: Лилит столиц, мишень орлана, ты крылья крови не спросила, ты — правды знак, я — знак обмана… Уже ушла… На том спасибо. За «нет тебя!» — златая чаша! Графин и грусть. В свечах бессонниц листаю пальцем Книгу Часа… А жизнь жует свой хлеб без соли.Моя луна
Я с «племя» расплатился, не к «время» льну. Ироник романтизма, — люблю луну! Люблю за буквы-главы чудес-часов, за то, что — волчьи клятвы и просьбы псов, там жительницы — Мойры, одни орлы, за прорицанье моря, прилив, отлив, за то, что — Эсмеральдой! — цыганка — блуд! За то, что осмеяли, а я — люблю! В цепях, в слезах целуясь, мы жжем мосты, люблю ее за лунность ничьей мечты, возговорит с звездо моя звезда, что с узником я вою, трясусь в кустах с убийцей (лоб ломайте! — спасать не позову!), за то, что я, лунатик, еще живу!В Гагре
Ты помнишь третье море тех времен? То море не без нас и не без неба. Виднелись волны. Небо лунатизма. И мы. Но нас не двое, — вдвое дети в толпах телес, на пляжах отпылавших, кто с полотенцем, кто в очках чернильных, сандалии, сомбреро из соломы. А горы в красных лилиях. Но не закат. Безлунность. Бледность. Не плакал — там… Неправда. Нет. Не я. Уже потом — я плакал. (И потом не плакал! Слезы лишь без слов имеют титул слез. А слово «слез» уже не коронованной персоной в стихах стоит, а так себе, короной к рифмовке, скажем, «грез».) Послушай, ты, дитя второе, женское, ты, греза тех трех морей, тех трех времен Тебя, — кто ты? Ты — суть моей судьбы святынь и таинств? Ты — только тело, что с двумя глазами? Жива ли ты? А может, эта кожа — лишь мой папирус, на который знаки я наносил, выписывая влагой все волосы твои, живот, колени? И в ночь на третье море, третье время тебя любил, а утром — испарилась? И я один. В испарине стою. Прости за прозаизм… Но мы стоим под пальмами (прости за поэтизм). Павлин пленяет самку. Мерзкий мерк. Чирикают цикады. Бледность. Ты мерещишься мне птицей у плетня (сталь-санаторий, ну, и сталь-плетень!) на двух ногах, а на лице — два глаза! Не бойся. Час у бесов — не сейчас. Я камень поднимаю, но не кину. Лети в полет! Там, в поднебесье — клекот! Там — торжество! Там — стая. Не отстань! Там клювами уже клюют кого-то, тварь живу или мертвечину — мясо! Лети и ты, чтоб клюв — наперевес! Лети, ты, лепет трех морей и трех времен! Ты в поднебесье — только точка моих чернил… Передо мной папирус, и утром знаки новые на нем не знаю, — зазвучат, не зазвучат, но — не твои, ты — с теми, там. А камень я поднесу к лицу, и он тик-таком ответит мне (и у него — два глаза!). И я отвечу. Положу потом подальше. Чтоб какой молотобоец не перестроил, — во главу угла! Пусть — сам лежит и сам — тихонько дышит сам по себе…Отплываем
Васильки уже и маки — асфодели, листья как младенцы птичьи — клювы, глазки. Это наши души, души в царстве смерти, как на цыпочках, на лапках с коготками. Красота. Волненье Стикса — блеск без блеска. Апельсиновые тучи. Воздух в звездах. Кто-то всхлипнул. Или это — чувство часа? Лишь трехглавый лай без цепи пса Цербера. Вот лицо его без мяса у Харона, а весло его из камня в волнах вялых. Кудри черные с крылами у Таната. Меч конца теперь целую: — Здравствуй! Души, души, вот и башни там, темницы. В лодке люди. Отплываем: ныне — тени. До свиданья, или проще — не прощайте! Может, будет лучше меньше, но — не хуже!«В эту осень уста твои…»
В эту осень уста твои я оставил на них, морях. А их было по счету — три. Только три, не моя. Поздравляю твои глаза. Воздух весел, и — кувырком птиц надмирные голоса… Ты, как птица, — листком! Эту осень с устами лиц, с голосами, с праздником глаз, поздравляю с плодами птиц или с листьями ласк! В эту осень есть всякий плод, лишь ромашек — нет. Не гадай!.. Третье море белым-бело, как Великое Никогда.Считалка прощанья
Может, наше третье море — тридцать третье горе. Но не стоит нам стараться в тридевятой страсти. Мир как мир, а мы как в мире дважды два четыре. Ничего над нами нету — лишь седьмое небо!Муза моя — дочь Мидаса
Вот мы вдвоем с тобой, Муза, мы — вдовы. Вдовы наш хлеб, любовь, бытие, — бьют склянки! В дождик музы́к, вин, пуль, слов славы мы босиком! — вот! — вам! — бег к Богу. Музу мою спаси, Дионис, дочь Мидаса, ты отними у нас навек звук арфы, он обращает ноты надежд в звук злата, это богатство отдай богачам, — пусть пляшут! Был на скатерти хлеб зерна, — в золото — мякиш! Я целовал ЕЕ лицо, — вот вам — маска! Жизнь зажигала звезды, — о нет! — хлад металла! Вы восклицали: богат, как Бог! — Нищ. Голод. Что мне фрукт Гесперид! Как прост хлеб соли! Грешницы где же? — Тепло тел, — не статуй. Дай не «аминь» во веки веков, — пульс часа, крови кровинку, воздуха вздох, труд утра!«Дождь идет по улицам, как лошадь…»
Дождь идет по улицам, как лошадь, стукают вовсю его копыта тут и там. Человечки во плащах и шляпах кутаются, а по лицам влага, как сто слез. Им совсем не больно, а — боятся, — как стучат копыта исполина! Так боялся варвар, если — Рим! Дождь мой дождь. У медных магазинов старец захлебнулся. Трость, как ветвь, плавала. Стояли истуканы, головами в кепочках качая: — Вот ведь смерть! — Или залил детскую коляску, мама в ней выращивала кроху, а детеныш тот бился, как в аквариуме рыбка, хвостиком и перышком плескался, — жив еще! А какой-то без трусов, в тельняшке шел по лужам, как Христос по морю, песню пел! Двое, не таясь и не стесняясь, предавались поцелуям, если это называют поцелуем, — ходуном ходили их зады у пивного в кружевах ларька. Трое ели кильку, улыбаясь, угрожали мне самоубийством, я сказал: согласен, а они, бросив кильку, бросились в атаку на меня, но я не защищался, дал по морде трижды и ушел. Шел я шел, а дождь стучал копытом по моей башке, и я не вынес — поскакал. Дождь мой, лошадь, мы с тобой ускачем за три моря в тридевято царство, и в пути бей копытом, не жалей живое, человечков во плащах и шляпах — труп на труп! Старец сдох, — на то он был и старец. Все-таки в живых еще детеныш! Тот, в тельняшке, — он войдет в трусы! Двое — любят. Их честны объятья. И у всех у них вообще-то — счастье! Умоляю: пожалей троих! Ведь они убить себя хотели, а потом меня, а я — по морде. Хорошо ли так? Нехорошо! Пожалей их. Отстрани от бедствий. Ты спаси их сон крылами капель. Пусть они знают, что и порознь и все трое прожили при жизни жизнь недаром: кильку ели! — это ведь немало для людей!«Я вышел в ночь (лунатик без балкона!)…»
Я вышел в ночь (лунатик без балкона!). Я вышел — только о тебе (прости!). Мне незачем тебя будить и беспокоить. Спит мир. Спишь ты. Спят горлицы и псы. Лишь чей-то телевизор тенора высвечивает. Золото снежится. Я не спешу. Молений-телеграмм не ждать. Спи, милая. Да спится. Который час? Легла ли, не легла. Одна ли, с кем-то, — у меня — такое! Уже устал. Ты, ладно, не лгала. И незачем тебя будить и беспокоить. Ты посмотри (тебе не посмотреть!), какая в мире муть и, скажем, слякоть. И кислый дождь идет с косой, как смерть. Не плачу. Так. Как в камере. Как с кляпом. Ночь обуяла небо (чудный час!). Не наш. Расстались мы, теперь — растаем. Я вышел — о тебе. Но что до нас векам, истории и мирозданью? В такие вот часы ни слова не сказать. А скажешь — и зарукоплещут ложи. А сердце просит капельку свинца. Но ведь нельзя. А то есть — невозможно. Не подадут и этот миллиграмм. Где серебро моей последней пули? О Господи, наверно, ты легла, а я опять — паяц тебя и публик. Мои секунды сердца (вы о чем?!). Что вам мои элегии и стансы? Бродяги бред пред вечностью отчет — опавшим лепестком под каблуками танца! Нет сил у слов. Нудит один набат не Бога — жарят жизнь тельцы без крови! Я вышел вон. Прости. Я виноват. И незачем тебя будить и беспокоить было…«Когда асфальт расставит розы…»
Когда асфальт расставит розы в белых снегах, я выхожу на улицы мороза с никем, с никак. Я выхожу и вижу: девы в масках, — фигурки тех, египетских. Но пресный привкус мяса в очах у дев. Увлажнены у юношей все уши, — в звездах орда! Тверды театры. В перепонках лужи. Ответ — октябрь. И только сердце так висит, шатаясь, как на суке. В куда, вокруг за тридевять шагаю с никак, с никем?«Выхожу один я. Нет дороги…»
Выхожу один я. Нет дороги. Там — туман. Бессмертье не блестит. Ночь, как ночь, — пустыня. Бред без Бога. Ничего не чудится — без Ты. Повторяю — ни в помине блеска. Больно? Да. Но трудно ль? — Утром труд. В небесах лишь пушкинские бесы. Ничего мне нет — без Ты, без тут. Жду — не жду — кому какое дело? Жив — не жив — лишь совам хохотать. (Эта птичка эхом пролетела.) Ничего! — без Ты — без тут. Хоть так. Нет утрат. Все проще — не могли мы ни забыться, ни уснуть. Был — Бог! Выхожу один я. До могилы не дойти — темно и нет дорог.«Я разлюблю (клянусь!). Тот рай-бал!..»
Я разлюблю (клянусь!). Тот рай-бал! Империя бокалов! Рой роз! Но отзвенел от вин злат-зал. И мусорщик метет грязь грез. А я во тьме ласкаю мех свеч, кружатся буквы — ипподром ваз… Я вынесу любую месть, меч, не разобью ни розы в знак вас. Как счастье в них царит — цепей шелк, их храп — хорош, тверда звезда правд, они пришли за мной — в щитах щек! Что ж. Грудь моя открыта, — бей, брат! Я вынесу любую плеть, плен. Я разлюблю тебя в телах толп. Ибо — для них кольца твоих колен, девичья нежность твоих, а я — тот, так, которого не было, не вопрос и не ответствие, — стук ничьих сердец… «Вправо пойдешь», «влево пойдешь» — путь прост, да не сложнее, в общем-то, третий — путь в смерть.«Не любила меня…»
Не любила меня без льгот. Обеляла себя, как боль. Не любила меня легко, — объявляла мне бои! Амазонка, мой меч — дарю! Все вам, хищница, хохотать. Время близится к декабрю, — ухожу в холода! Мир в морозах чудес. Прощу все отлучки моим словам. Возвращенье же — не по плечу даже, девушка, вам!Завершенье
Завершено. Книге нашей конец. Храм, — и живи! Гнезда-ласточки птиц. Цоколь злащен. В цепях фундамент колец. Фрески — моей любви, Женщина, или твоих лиц. Тебя отобрали, моя, отобрали от «О». Брал кто хотел, — о, эта ярмарка хамства Сарая! Брали больней, чем от ребра брал Бог, Дух сотворяя, Круг сотворяя, Двух сотворяя. Храм — хоронили: ласточек — в око, в лет, злато лизали, кольца — для уха черни, фрески — по камушку, чтобы дышал живот, у очага, чтобы каждый кирпич — для чтенья. Что ты наделал, я? Смерть двух сердец — ужас! — в кроватях предательств читателей, чтиц, в склянках лекарств, в свекольниках вин книге нашей — конец. (Балл библейский! Теперь — типографский текст страниц). Тебя отобрали, моя, от «О», и ор вранов бенгальских морей двух душ — суп с сухарями! — с травкой теперь жует трудящийся хор, день сотворяя, дом сотворяя, дуб сотворяя. Ты, мой соратник! По буквам тебя любил. Кровь отливал в колокола текста. Книге — конец. И тебя уже убил, хоть еще ходит где-то имя твое и тело.ДЕВА-РЫБА 1974
«Сожгли мосты и основали Рим…»
Сожгли мосты и основали Рим. Во всех столицах города-артиста листались флейты, поцелуи и Калигулы… Потом пришел Аттила. Сожгли себя и основали рай. Аукали, как девственники эха! А розы!.. Музицировали стай курлыканье… Потом явилась Ева.Четверостишия
1
Нет гнева у меня, нет гнева. Есть вены, в них луна и миражи. Жуть рая — жить. Волшебна власть геенны. Я просто пал, как свиньям желудь лжи.2
Но мир — но мы. Но светозарен Бес. А тот, не-бесник — плутовство и плен! Чреватость чрева и бездарность бездн еще в наскальной памяти поэм.3
Но жизнь — но жизнь. Не во скалах скульптур. Не во надзвездье, — слякоть о главу! Сметана спермы, светлый смех скоту во отрубях, во плеске оплеух.4
Не веселись. Не пал. Я просто плох. Я не боюсь ни Бога, ни Тебя. Боюсь, что Ты — лишь ты, а Бог — лишь бог, — для оскопленья Зверя и телят.5
Не вовсе волчья ярость. Не Анчар. Отставленный, под лай и улюлюк, оскаленный (ни слез, ни по ночам!), отравленный, всем говорю: ЛЮБЛЮ.«Слова слабы…»
Слова слабы. А жизнь — желанье. Овал судьбы — Жидом журнальным. Ликуй, ошейник! Правша, левша ли… Жизнь? Лишь лишений бы не лишали. Хоть бы лишений не лишали. Нам нет леченья, но бьют лежачих. Но бьют. Но, Брат, будь бодр, как не был. Мы бьем в набат глаголов гнева! Пусть глас наш глух, зеницы — пленки, мы вникнем в слух сквозь перепонки. Так неживой признался честно: — Все ничего. Все так чудесно. И просто так готов рыдать я от пустяка — рукопожатья.«Обман ли, нет ли — музыка мала…»
Обман ли, нет ли — музыка мала. Мерзавки — Музы! Я люблю любить. Моя! Ты, знаю, знаешь, что моя профессия (как все бывало) быть обманутым. Ах, ты, пальба — гульба! Что в прошлом у тебя — с моей совой! Мой смех на мерзло-мертвенных губах и голубых — так до смешного мой. Так до смешного так мне жаль ее. С реченьями «люблю» и «не судьба». Вы, женщина, — двуногое жилье, не любящее даже ни себя. Сосцы целуя или же персты, я только тело ваше воровал. Сказать «прости»? Я говорю: «Прости». Я говорю вам, но не верю вам. И если я люблю или зову — но не своею жизнью угостить. Востока мудрость: «Ты люби змею, но знай — она умеет укусить». Ты — гостья всех, а я — ироник мук. Надежды наши — нежность и союз! Мы оба обманулись. Потому так не до смеха. Потому — смеюсь.Расставанье
На Фонтанке ни фигурки. Фо-о-нарики — фарфор!.. Финтифлюшка ты и фруктик, Фрахтовщица фор, Фаворитка и Фелица, Фрейлина и фант, Феминистка — фаталистка, фараон фанфар! Филистер, фискал и феска, фармазонка, ферт, феофановская фреска, фея! Фу, у фей фигурируют ферменты, фаллос, фея, — факт!.. Филигранные фрагменты фраз моих на «фа»… До любви ли, любимая? Спруты бульваров. Сам я спрут под фонариками. Где я? С кем? Нет тебя, как ни больно. Как не бывало в незаправдашнем, ребусном языке русском буквы «ф»… Этой буквы!«Не спрашивай, кто я, — не знаю я…»
Не спрашивай, кто я, — не знаю я. Не бес, не Бог. Я — просто я в бедламе бытия, — не свят, не плох. Что ночь бела — я знаю. Ничего. Сирень. Балкон. Цепь львиная на мостике… и вот — белым-бело! Прощай! Кто ты — не знаю. Не грусти, лети листвой!.. Как будто птица плачет на груди, а не лицо!Мой мир
Не сплю. На блюде одеял я — мерзлый карп. Не с пуль ли каплет мой последний кап? В окно ли каплет кнопка — сердце — пустоты? Ох, ночь! Не сплю, мой карандаш — о ты. Что я, что ничего не получается, — плачь, но чьей, чья ты в будущем, ты — там? Я — ночь, мал, гол, я осмотрелся и узрел окрест: монгол ли дирижировал нас двух — оркестр? Да медь литавр не состоялась. Был — цирк. Да ведь и мы — монголы, трусы, но бойцы. Динь-дон! Мы оба, сам старался: «Обниму, дай дом моих молитв не одному, дай Дам для живота и для ушей, дай драм моей полузадушенной душе!» Мил, глуп я, то есть стих мой — квак болот! Мы — клуб, где танцы, ебля и блевот весель! Не «я», не «ты», не «мы» — «оно»! Ведь все, как все мы, одинаков — одинок. Мой мир! — лжелозунг! да и я — лжепилигрим, как мим с лицом в слезах (одеколонный грим!).Октавы
1
Пишу (не пишется) октавы. Как знать (не знается) — о кто вы? Вы обморок моей отравы, мои века, мои оковы. Так бьются варвары о травы, захлебываются от крови… Оправдываюсь, — глупость уст… И неминуемая грусть.2
Что женщина, — на «ты», на «вы» ли? Отмщенье чувств, сочувствий кладезь? Мы пали пулями навылет. Теперь ласкать нам или клясться? Невы террасы и немые холсты «Летучего Голландца». Спиральки буквиц в лампах лир… И неминуемый не мир.3
Ум наших мук, твоих, товарищ невеста, баловница блуда, в терновой (мармелад!) тиаре, вы — баба (нет, мужичка!) бунта, вы с кем попало так, как будто… Оправдываюсь, — святость уз… И неминуемый союз.4
Я — тоже. Та же ветвь варяга. Блядей бурлак, блюститель бара. Я может быть для вас валялся на лестницах или на бабах. Но распят я. А вы — Варавва. Жрать хлеб и соль и не до бала. Билетики любви без мест. И неминуемая месть.5
Но вместе, милая, молиться — не получается. Мириться — на получас? Не май манится. Что в мести — моль или мокрица? Вне времени нам время мнится. И вне мечты, вне пульса нерв… И неминуемая немь.6
Объятья уст — сироп Карузо, самцов телес и самок теста, — и вылетают карапузы, досрочно кончив курсы детства, ордою бабочек-капустниц на огороды людоедства. Ни жалоб! Цепью! — и не смей!.. И неминуемость семей.7
Мы однотелы, однооки, мы односерды в сем пространстве. Да, отдались. Да, одиноки. Да, одинаковы. Про страсти распространяться? О, давно к ним есть интерес — псов постоянство, и лай любви, и распри, но вот неминуемая ночь.8
И Петербург, дворцы, каналы, и в плеске пьяниц (ты — на после!) как без тебя! — как бред! — как мало! И ужас у меня — как пользы как ни в октавах, ни в карманах медяшками звучащих рифм… И неминуемый не Рим.9
Я сам Аттила. Ты, благиня, несовместимость нас? — не знаю… И зло в ползло, и гимн в полгимна, и всё вне нас, и все не с нами, и мы вне всех… Беги, богиня! Ты — тело, я — сову на знамя… Я сам бегу, рифмуя бой… И неминуемая боль.10
Боец монаший! — мешанина — пляс — табор, аскетизма трепет, целую пишущей машинки кружочки клавиш в День Творенья… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«Нет грез! Нас не минует ночь сия…»
Нет грез! Нас не минует ночь сия. Всё в яви! — ты одна и я один. Так суждено. Ты явишься. И я — лишь человеческий невольник — сын. И — ночь! И белокаменная соль белья, и лампы лед, и голод глаз, и гибель губ, и хладный лоб… и боль, что это — в первый и в последний раз.Элегия без луны
Меченосец судьбы и чернил санкюлот, узник — устрица, сам себе сын и друзья… Затемненье дождя за озвученным стеклом. Рамы, рамы, решетка тюремная рам! — о, распятья жилья! Жалил я! — комариной иголочкой мелодрам. Человечек — личинка, витая в веках алфавитом любви, — я ли, вы? Клоун космоса или синица в руках? Ни истерик. Скрипичные нити жил. Капли в форточку, — бомбардируй, камнемет! Или каплет мед? Ни души. Каплет, канет… Ни слов! Если голову вверх — васильковые лампы, как воет ковыль, в электрическом небе бессмыслица крыл, — вот и век! Лаской лавочника — «иметь, не иметь», как он сердце свининой мое обливал… О, болван, — тот, у скифов, которому клятвы и месть! Как талант мой, как вор, как беспутья ковры! Как болота бесчисленны! Как мало скал! Как блюет монголия-мелюзга на моей крови! Дождь, как женщина, влажен, и млечен, и слаб, без луны… Буквы ладана и белены, — о машинописи раб, плачь слезой, бейся лбом! И, тритоном трубя, возглашай святость уз!.. Распасованы тройка, семерка и туз для тебя.Мой дом
Дом хореографии. Телепаты Муз пьют на подоконниках (с трефовыми очами). С утра за машинкой. Не моюсь. Не молюсь. Отче, и ты — отчаянье. В волосах влага, нос — пеликан, ухо — лист капусты… За машинкой, в общем, я опубликован весь. Но с потолка капельки-клопики падают, Отче. И бегут со всею искренностью ко мне. Я их — башмаками, как танками рептилий! Я-то что! Меня давно уже нет как нет, пожалей, Отче, этих красных ребятишек! Им бы манускрипты в веках публиковать. Целовать цариц, кусать драконов Этны… А теперь приходится падать с потолка на меня, трудящегося новой эры. Башмаками!.. Жалко!.. Но все — на одного! Целоваться, что ли?.. Славянина правнук, хам или с похмелья, вот оттого- -то я за машинкой борюсь за правду!Дева-Рыба
Идешь, как рыба на хвосте. Пол красный. Нам комната, но в коммунальных скалах. Шкаф шоколадный. Секретер в монетах. Оконце — электрическая нефть. Я брат твой, рыба, Звери моря — оба. Ты вся на васильковом одеяле. Объятья животов и бельма бреда любовного!.. Погаснет лампа нам. Отчаянье ли? Ревность ли по лимфе александрийской конницей?.. Пастбища оставим те… Нам — комната, мы — рыбы, нас — двое. Нам захлебываться тут. На завтра — труд копыт и крыл Пегаса, полиция цитат и холод хлеба, нам — чоканье коленных чашек-здравиц, шампанские кружочки чешуи! О, ревом рыбы! Нам хвосты, как в схватке, и мускулы в узлах, и вопль, и лепет, нам пальцы — пять и пять на поясницах! Целую… Отпечатки на сосцах и пальцев, и ответных поцелуев, и к жабрам присосавшиеся жабры лица, и в отворотах междуножий высасываем языками слизь зловещую… Узнать — возненавидеть. Любить — не знать. Мы памятны — все знали: наитья нет, и нет ни капилляра, который чьи-то чресла не ласкал, все волосы всех тел нам не распутать, бичи бесчестья или зло лобзанья, а проще — грех не в грех и храм не в храм. Гул от луны. Проспекты Петербурга. Уплыть в каналы и легко лакать нам чужую жизнь, тела чужие, рыба, блевать под кем попало и на ком. Так минет труд. Так минет мир. И род мой. Последний сам, без звука вас, последних благословляю!.. В келье два девиза: улыбка и змеиные уста.Простая песенка
Раем оросило, солнечно и утро… Во дворе осина, а на ней Иуда. А под ней иду я, рву рукою колос. Холодно и дует. И повсюду космос. Я в посудах яды, как и все, лакаю, как и все, от яви — сам себе лекарство. Душу дай в отчизне — душу замордую. Дай звезду от жизни — в жизни замурую. Так-то замирая совами болота, мыслим: за морями солнце и свобода! Правда опростила!.. А проснемся утром: во дворе осина, а на ней Иуда.Трое
В небесах кот-мурлыка, безумец-мяук на подушечках лап. Он в ботфортах, он в каске, он в красном плаще, Аладдин лунных ламп. Но ни пса. Послужи человечеству лаем, хвостом и клыком, — сам не свой, пес лежит, он в туманность ушел, он уснул, он уже назывался звездой. С пива мышь расшумелась в кладовке: мурлыка-мяук дует в ус на луне, пес в созвездье, на нас — нуль вниманья… ну что ж, — нуль и мне. Спи, малыш!«Серебряный листик на красной стене…»
Серебряный листик на красной стене, о, август-летатель на красном огне! О, воздух деревьев и дождь-водопой! Деревьям не жаль расставаться с листвой. Не жаль им сейчас и не жаль в сентябре, пусть все золотые, один — в серебре. И листьям не жаль, потому что удел. Шумели все вместе, один — улетел. Шел воздух, и дождик тела заливал. И кто-то очнулся, и кто-то завял… Я видел. Виденьем своим дорожил: был красный этаж и листок серебра… Для стихотворенья один не дожил пол-августа и два-три дня сентября.Жизнь моя
Вот идет моя жизнь, как эстонка, — озерцо хитрохвостая килька век овец муравей или вермут шепот-папоротник в янтаре эхо солнышка серп в перелесках капли воздуха крыл воробьиных вермишелька-березка в болотце хутор-стеклышко в январе. Вот идет моя жизнь, моя полька, — в ореолах волос соловьиных вол солома осел и Мария слякоть слов и мазурка-метель стать-скакун сабля конфедератка что по ландышам красным копытом клювы славы орел Краковия кафедральный крест и мятеж. Вот идет моя жизнь, как еврейка, — скрипка-Руфь эра Экклезиаста урна-мера для звезд златожелтых за электроколючками культ йодом Иова храмом хирурга дециперстная месть Моисея цифра Зверя за правду праотчью нас на злато на арфы на кнут! Так: три девы, три чрева, три рода, — триединство мое троекровье что же мне многоженство монголов глупость флагов глумленье Голгоф кто я им сам не знающий кто я их не их не герой этих гео дан глагол и я лгу но глаголю проклиная и их и глагол.Венок сонетов
1
Не возвратить мне молодость твою, как февралю погасшую траву, как вьюге моря — факелы наяд. Так сердце спит. Так я себя травлю. Ноябрь. Ноябрь и ночь! Бубенчики, толпа цыганок сна, и лампочка тепла, луна с крылами — в кружеве морей! Но ни кровинки в прошлом у тебя моей. О, жизнь желаний — скрипками цыган, и блеск берез, и красны кони роз!.. В окне дожди… и дрожь. Я пью стакан. Не возвратить мне воздуха берез.2
Не возвратить мне возраста берез. — Чу! — у окна аукнул Берлиоз, а, может, Моцарт?.. Это ветр — картав… Так красный конь твой, лишь поводья брось, — кентавр! Поводья брось, и схватят за крыла твою луну. Отметят знаком зла курлык журавлика и клич дрозда. Теперь ноябрь расставил зеркала дождя. Теперь — лай льва, не соловья слова… А в прошлых нивах, в празднествах вина твое лицо кто сколько целовал?.. Не ревность. Время ноября — война.3
Не ревность. Ты сама собой — война. Мой меч — в морях, я — влага валуна, я испаряюсь, я уже не явь, лишь сердце дышит о пяти волнах, — не ямб. За спесь беспутства собственного — мсти, что к прошлому тебе не сжечь мосты, оттуда звук и зов — ноябрь, немей! Что дождь волос весенних моросит не мне. Я осень. Остановка вне тепла, вне времени, вне мести, вне молвы, я — ни кровинки в прошлом у тебя. Сверкай же, сердце! Или нет — молчи.4
Сверкай же, сердце! Или же молчи. В окне молочном — лампа и мечты о чем? О той черемухе вдвоем, сирени празднеств? А потом мечи возьмем? Но невеселье невское! О, ты еще не знаешь этот знак орды, как за любовь — болото, улюлюк… Один виновен всуе и один люблю. Но не тебя. Неправда — не себя. Я лишь беру стрелу, как тетиву, лишь целит Муза в око серебра бессонницы, — так я тебя творю.5
Не возродить, — и я тебя творю, кровь девственности — жертва топору, Пигмалион — творенье долюбить! Твой лоб клеймен, и моему тавру да быть! Залив звенит! На водопой — такси. Корабль в волнах запрятался, — так скиф в засаде… Вот Кронштадт, как ферзь утрат. Моей машинки — пишущей тоски — удар! — и утро! Смолкли клавиши. Лицо твое — во всю страницу, или звук лица, мной сотворенного… С листвой деревьев нет. Отдали всю листву.6
Деревья отпустили всю листву. Лист в желтых жилках спит себе в лесу, лист в красных кляксах — в луже, сам не свой. Деревья без прикрас. Лицом к лицу со мной. Ни суеты у них, им нет суда. «Деревьями» вот эти существа лишь мы зовем. И наш глагол весом лишь нам… А как они зовут себя? — «Венцом Творенья?» Человек для них — лишь мысь, по древу растекашется в траву. И что для них, что с «мысь» рифмуем «мы», и что тебе, как я тебя зову?7
Как ты — меня?.. А я тебя зову, аук! — а отклик — дождиком в золу. Так штиль безлунья вопрошает шторм. Так вопрошает муравей зарю… И что? Что солнце — светоносец и свирель, что море — серебро или сирень, что небо — не божественно ничуть, что ты — лишь ты, а я зову «своей» ничью? О, мания метафор! В леденцах златых песок. Матрешечный наряд хвои. А в небе твоего лица не отыскать, — коварство и… ноябрь.8
Но я жду вечера, и вечер — вот уже. Вишневый воздух в птицах виражей. Мир морю! На луне лицо нуля. Опять окно в дыханье витражей. Листок в своих бумажных лепестках белел, он в буквах был и на столе болел. Хозяин — я с бессмысленным лицом читал чертеж. Хозяин был без дел. Листок любил хозяина. Часы, отчаянно тиктакая (о чем?), произносили буквы, как чтецы. Я лишь стенографировал отчет.9
О чем? Что львице лай, а слава соловью, что я свечой меж скалами стою, что лик любви на буквы обречен?.. Не возвратить мне молодость свою. Уста любви я лишь бумаге даровал. Оброк любви лишь буквами давал. В твоей я не был, а в своей устал. Так вечер охладили дерева. Так сердце спит. Так я себя травлю. Так в бездне зла в святилища не верь. Мсти, жено, мне за молодость твою, за безвозвратность без меня! Но ведь10
навет?.. Но ты — не ревность. Потому терпеть и нам ноябрь. И нянчиться в тепле с балтийской болью (или бьется нерв?). Мсти, жено, мне, что ты со мной теперь. Что здесь под хор хвои сквозит стекла металл, влюбленных волн в потемках маета, и мы — не мы! Созвездия чудес! Шалит волна или шумит мечта? Мечта машинописи! Купола романтики! Конь красный! С арфой бард! Но вот луна распустит два крыла, а на лице ее — бельмо баллад!11
Была ты только текстом сновиденья. Явь живую ждать? И жду. И снова я тебя творю, — о святость, как бедлам, о ясность, как проклятье или яд! Одна в беспутности своей без пут, как брызг бряцанье! Донжуановский карниз! Твое лицо кто сколько обнимал, чтоб обменять свободу на каприз? Я — обменял. Притворствуя и злясь, ты — жизнь желаний! Старшею судьбой ты ставшая! Святыня или связь? Ты отомстила мне за все — собой!12
Собор, по камушку разобранный! Орган, по трубочке растасканный! Орда, по косточке разъятая! Свобод не светит. На лице моем аркан. И конь несется в ночь, мерцает красный глаз. Теперь меня копытом втопчет в грязь. Так в жизни — жизнь и никаких икон, отравленная, как светильный газ! Что ж. Я готов. Я говорю: прощай, жизнь обезжизненная, так сказать. И здравствуй, жизнь желаний! Получай в избытке долю солнца и свинца.13
Связать цезурой сердце, обессмертить дух строфой, зарифмовать дыханье двух, метафорами молодость спасать? Но это — аллегория, мой друг! Ныряй вот в эту ночь, в мир молний и морей, в сон осени и дрожь души моей. Необратима ты! И наш ноябрь мучительней сонетов и мудрей. Да будет так. Писатель пишет стих. Читатель чтит писателя. А нам в отместку ли за двуединство сих ночь у окаменелого окна?14
Она не очень-то черна… «Мы — чур не мы!» — не бойся! Мы как мы. И чародей, тот, сотворивший Небо-Океан для нас, — не даждь очнуться в черноте! Даждь нам луну с крылами, древо на камнях, забрала сна, клич красного коня, мечи мороза, зеркала дождя, вращающие волны, как меня! И — утро!.. Звезды утра — как закат. Деревьев дрожь. Я рифмой тороплю последний лист предснежный (листопад!). Я знаю, что не возвратить твою.15
Я знаю — что! И, в прошлое тропу не трогая, возмездия теплу не требуя, а в будущем… (но рай не тратится!). Так я тебя таю. Ноябрь нарвал и лавров, и в цикуту опустил, «Цепь сердцу!» — сам себя оповестил. Но цепи все расцеплены. Но яд бездействует, — я осень освятил! Сверкай же, сердце! Принимай конец добра, как дар. Зло в сердце замоля, да будем мы в труде, как ты, венец сонетов — и тверды, как ты, Земля!ХУТОР ПОТЕРЯННЫЙ 1976–1978
Ворон
Вот он: ВОРОН! Он сидит на кресте (ворон — тот, крест — не тот). Это радио-крест, изоляторо-столб. (С кем пустился в прятки ворон — демон ПРАВДЫ?) Вот он: ВОРОН! Посмотрел ворон вверх (ворон — тот, воздух — нет). Усмехается месть? Любопытствует лоб? (С кем скиталась дума, ворон — демон ДУХА?) Вот он: ВОРОН! Ни суда, ни стыда (ворон — тот, время — тут!). Если есть я себе, дай мне смерти в судьбе. (С кем мне клясться в космос, ворон-демон-ГОЛОС?)Мой монгол
Счастье проснуться, комната в лунных звонках. Санкт-Петербург просыпается, над Ленинградом водоросли небес, там самолет (ластокрыл!) Голубь как птица на оцинкованной крыше с клювом на лапках, гипнотизирует. Все одеваются в лампах. Жестом жонглера отбрось одеяло. Как хорошо: Ева твоя в целомудренных травках волос. Хочешь, целуй ей лицо проспиртованными устами, хочешь — вышвырни вон и свисти, соловей одинокий. Сеть занавески чуть светится и сигарета сверкает. Утро и труд. Хуже проснуться, комната в капельках солнца. Как по утрам, осмотреться окрест — кто там справа? И обнаружить, что справа лежит Чингиз-хан. Без восклицательных знаков! Просто — проснулся, что-то мурлыкает сам по себе, шестнадцать косиц то ли завязывает в узелок, то ли распускает, желтый живот (неудивительно, желтая раса), ниже — фигура, которая украшает мужчин (отчаиваться не надо, ведь у тебя тоже — фигура). — Знаешь, кто я? — воскликнул он. Знал я. — Я знаю, — хотел я сказать, но зевнул. — А, ты молчишь, и уста в судорогах от страха! Не от страха, — зевал. — Думаешь, чудеса? Я думал о Еве. Вчера выступал. Были люстры Концертного зала. Множество лиц — фруктовых в малиновых креслах, ушки для слушанья. Аплодисменты. (Рифмы я произносил о любви и о боли.) Вот и записка из зала: «НЕ ПОДУМАЙТЕ ЧЕГО ПЛОХОГО. ЖДУ ВАС У ЗЕРКАЛА, ЕВА». Этот чудесник, — фигура болтается, как поплавок. — На, завернись, — я бросил халат. — Только не хохочи, — предупредил я. — Я с предрассудками и не люблю, когда по утрам всякая сволочь хохочет. — Хочешь кумыса? — Пусть пива… Но на полу уже появились кувшины кумыса. Пена прелестной расцветки, как мыльные пузыри. — Выпьем с утра! — воскликнул он на одеяле, в халате. Что оставалось? Я опустился в кресло, с кувшином, в трусах. — Ну, как жизнь? — вопросил я с ненавистью, — как здоровье? — Гол, как монгол, — распахнулся. — Как в энциклопедии желт. И у тебя, — он оживился, — морда не без желтизны. Глазки припухли. — Утром желтеет с похмелья русская раса. Пухнет чуть-чуть. — Если ваше похмелье будет длиться века, вы пожелтеете сплошь. Знай, что рожденный с кувшином кумыса не пьет по утрам из обкусанной кружки пиво. Ужас! Узрел я у зеркала двадцать дев. Девы двуноги, кудри у них — как фонтаны! Все с записными книжками (ах, автограф!). Все красномясы. В одежде. Было, все было: проснешься в испарине, шаришь, дрожащий, шнурки-башмаки, ужас — в ушах, молнией — к лифту, весь исцарапан, весь лихорадка, будто сражался всю ночь со скалой! (Знаем, все знаем, но даже в душе я не сторонник сексуальных революций.) Ева стояла одна… с яблоком. Обнажена. Но не об этом. Пред взором моим стояло и по три и… тоже обнажены. Перевидал я достаточно этих… ню. Если же начистоту: все сейчас ходят так в СССР. Но — с яблоком… Ева! Волосы — розы, склянки-коленки, радость ресниц, твой треугольник страсти — занятный, весь в травинках. И — с яблоком! Грешным своим языком я сказал: — Сей плод — девиз грехопаденья. Вы девственница? В кои-то веки тебя ожидают у зеркала, жарко жалея, или коленку подсовывают, чтобы трогал, вот и хватаешь, влюбленный, эту Еву с косицей (грудь — виноградна!) а поутру получается: справа лежит Чингиз-хан. Бок о бок, тоже с косицами, но… в том-то и дело. Что тебе здесь, мой монгол? Мне нужно меньше, чем человеку. Где Ева? Он: — Вдумайся, дурень: уснул ты, или проснулся, не все ли тебе одинаково, — с Евой ли, сам ли с собой, с Чингиз-ханом? Даже последнее, я бы сказал, перспективней (в историческом смысле), вот просыпаются два, нету претензий: вопросы-ответы… Уже обсуждая абсурды тринадцатого века да царства двадцатого, — театры террора, — я, телепатически, что ли, а может, взаправду — желтел. Я, за решеткой вскормленный (темница, клоповник!) Ох и орел в неволе, юный, как Ной! В иго играли вы, вурдалак, теперь я — ваше иго. С миской кумыса смотрим в окно (окаянство!) А за окном — заокеанье, зов! Улей наш утренний, не умоляй — «улетим!» Или — давай! Но куда? Тюрьмы фруктового яда. Пчелам с орлами не быть в небесах (жало — и клюв?!) Не улыбаться нам на балах, не для нас глобус любви, если душа — пропасть предательств, лицо — ненависти клеймо. Да! Ну давай! С этих утренних улиц, толп лилипутов, тритонов труда, пусть им — невроз ноября, месса мая, бедный товарищ! — кровавую пищу клюем. Правда же, — пропадом! Воздух взнуздаем и, как говорится, — день занимался!.. В каплях притворствовал Петербург… Замахаем крылами волос! — Вот венец, Ванька Каин! Я — автор комических книг, вор, поэт, полицейский, — в общем, отрок Отчизны. О великий, могучий, правдивый, свободный… заик!.. Отучили. Музицирует время. Я — Маленький с буквы большой. Что мои зайцезвуки — на цезарь-скрижали! Фраза: «Гости съезжались на дачу». Киваю башкой: — Ну, съезжались… Простаков, Хлестаков, Смердяков да Обломов, т. п. — татарва да пся крев, жидовня да чухонцы… Слава Вам, кино-Конь! Пульт Петра, сталь-столица — теперь! Что ж ты хочешь? Ремонтируя душу, как овчарню храня от волчат, Суздаль — от Чингиз-хана, Плесков — от венчанья, как от веча — Новград, как от чуда — Москву… Отвечай! Отвечаю: — Это самопародия. Ах, извините, люблю эволюцию литер «О»-«ЧА». Как бикфордов-свеча нагораю… Пальцы в клавиши, как окурки вдавлю. Не играю.Хутор потерянный
Тот хутор потерян… Как униям гунн, как нимфа для финна, как мед молдавана… дом драм — обещанья, триумфа и губ, — дом-дым обнищанья… каморка… охрана… Так в призмах Заката язык мой — зола, ответы овец, соль-свинина, крольчатник… Чей призрак здесь жил, волосами звеня? Чьей цепью Царьграда? — лишь ключник с ключами… Тогда еще! Был нам незнаем Монгол. (Кончак — чепуха, подсчитали и хана.) Но — блуд, окаянство, обман, алкоголь, — до звезд Византийства!.. Но не было Хама. Все было, — клянусь. Мы безусцы — юнцы трудновоспитуемые (или — руссы!) не в меру мерзавцы, пусть не мудрецы, (о темен сей терем!) но только — не трусы. Ну, ночь-поножовщина Новград-моста, но равенство-радость! но молота удаль! Ну Марфа Посадница — но не Москва! Ну, грех Годунова — но не Иуда. Кто жил здесь в железе? Маэстро? Адъюнкт? Не Лютер ли? (Ландыши яблонь!) и — тот ли? Дом — день одиночеств, как аист в аду, мутант в шлемофоне Барклая де Толли. Чей жил из желез? Чей тевтон изменял Ледовым побоищем? Глас — троекратно!.. Чей колокол — клюква?.. Чей аз — из меня? Так узнику Эльбы — три крапа, три карты. Читатель стихов! Если дух твой так худ (невеста, невроз, геморрой, нищета ли) читай троеточье: потерян мой хут… Дом — день одиночеств (что ночь — не считаю!) Лжедмитрий фонтанов! «Лже» — значится — лгать, не лгал бы — была бы твоя Московия. Но свадьбы — не судьбы… И, помнится, тать тогда еще, в молодости моросила. Так век пятерчат — не треперст. Перестань! Тут минула молодость. И не могли мы… Оплакан опилками… О просто так — венчанье второе у Мнишек Марины! Писатель стихов! Я — писатель? О тень азов алфавита, — ах арфа в партере! Не я, не писал, не пишу, — дребедень! Читай одноточье: мой хутор — потеря… О как оболванен, о-пять обнесен, как зек на закате картофельной хунты. Наш кладезь — на ключик! А саун — овсом! Ах, глупость! кому он без нас, этот хутор? Нас, деторожденных без тыла-отца, (растлители в рясах, целители ложью!) Вот ходит, как дохлая вобла — овца… Истерика детства: где Белая Лошадь? Вот бабочка в бане… Да будь ты! Очнись! (О жить — целовать тебя всеми губами!) На лыжном трамплине — паук-альпинист… Булавка была бы — найдется гербарий!.. Чей праздник здесь жил, волосами звеня? Чьи флейты мистерий? Чьи магий мантильи?.. Меня не любили — болели меня… (Чье сердце столиц?)… и, естественно — мстили. Дай зеркало, друг! Дай стекляшку (где сталь?) О мим-монголоид! С сумою семантик! Я плачу?.. Смеюсь… Я достаточно стар, чтоб с крысами в креслах читая смеяться. Что глуп ли глагол, искренность или грим, писатель — не я, я — лишь я и простите… Вам все объяснят феминетчицы рифм и прозы писатели: прозервативы. «Кайфуют» мой хутор они, близнецы… Сюда бы дракона. Но за неименьем жевали шашлык три-четыре овцы, закатные пчелы летали, как змеи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Опять «о поэзии»… Не соловьи. Не путаники. Неспроста получилось. ДУХ СВЯТЫЙ ЗДЕСЬ ЖИЛ. Я ПИШУ ДЛЯ СЕМИ, А КТО ЭТИ СЕМЬ — я потом перечислю.«уж сколько раз твердили миру…»
уж сколько раз твердили миру, трудили лиру, — как яблоко Ева не позволит соврать, как неожиданность ножки у слонихи, — ПОЭЗИЯТрадиционное
Я буду жить, как нотный знак в веках. Вне каст, вне башен и не в словесах. Как кровь луны, творящая капель. Не трель, не Лель, не хмель, не цель… не Кремль. Мечтой медведя, вылетом коня, еж-иглами ли, ястребом без «ять»… Ни Святополком (бешенством!) меня, ни А. М. Курбским (беженцем!) — не взять! Люблю зверей и не люблю людей. Не соплеменник им я, не собрат, не сотрапезник, — пью за звезды змей, или за Нидерландский вал собак! На дубе древа ворон на беду вам волхвовал крылом шестым, что — ложь, что — раб, что — рвань, что — рано на бегу в лесу, где в елях Емельяна дрожь. Вран времени, лягушка от луны, я буду жить, как волчья власть вины. Как лис, Малютой травленный стократ, Малюту же: ату его, ату! На львиных лапах зверь-аристократ в кунсткамере покуда, не в аду. И если я, не «если» — я умру, я ваших вервий — петли не урву. Я варев с вами — не варил (о рвот!) Не рвал серпом трахеи (для таблиц!) Не я клеймил ваш безглагольный скот. Не воровал я ваших варвариц. Рожденный вами, вашим овощам от счастья… — глобус бы не погубить! Вы — сами! Я себя не обещал, не клялся классам, что и мне — не быть. Не нужно тризн. Не тратьте и труда. Я буду жить, как серафим-беда. Как Коловрат (лишь он Монголу — «нет!») Как Див-война — еще на триста лет. Как свист совы над родиной могил. Как воды Волги (кто и ее убил?)…Послание
Как играется в Риме? Я был там. О бабах — обман. Нет печеных улиток. Нет Горького. Нет делегаций. Помню, пили у Павла. Иоанн 23, Ватикан. (Ватикан — их Исакий. Там — религия. Будь деликатен.) В Риме много хорошего. Не попадись на трюк (попадаются только туристы): киносекс с мертвецами. Кьянти пьют со спагетти. Чиполлино не ешь — это лук. Боттичелли — художник. Муссолини — мерзавец. Иностранцам — не верь. Шведам — в первую очередь. Бар выбирай хорошенько. Там ходит одна… Швед-королева… со бзиком! Будешь пить с ней, спроси ее в лоб: — Где борьба? (Паспорт не проверяй. Узнаешь по бескозырке.) Знай: ты — Воин Великой Державы. К тебе — интерес. Так что будь осмотрителен. Трать лишь известные ссуды. Заявляй в интервью без запинки о том, где прогресс… Знаешь сам… философствуй со скидкой, — ведь все они — зюйды! Путешествуй пешком. Мил Милан. А Венеция — это венец! Опасайся Ломбардии. Избегай по возможности оргий. Во Флоренции — флора. На Капри — святыня сердец: посети, не раскаешься: там жил Горький.Триптих
1. На лестнице
Над Петербургом турецкое небо. Над улицей Зодчего Росси — полумесяц и звезда. Лая на лестнице нет. Естественно. Не сад Одиссея. И не дворец девственниц (охи их охранять!). Здесь балерины жили. Теперь не живут. Контрапункты пуантов: на цыпочках — я… цыц!., по этажам. Было! — о варвар! о Ева! — апостол аплодисментов! Варвар, увы, вне «ура». Ева — не явь. Концертам — конец. Звякнул ключом (как волчица!). Включил выключатель. Дома. Сам — свой. Чары чернил, рыло — на лиру, болван! Том — «для потомства» (матом метафор!), о соловей современности, трус и Тристан! Что ж ты, ничтожество? — люди как люди, солнце как солнце, кровь — это кровь, лира есть лира, играй как играется пальчик, хлеб твой так прост, соль так светла. (Люди картофельной крови санкционируют солнце, эмансипированное поднебесье — для всех, игры лиризма — мультипликаций экраны, хлеб соль да плюс балахон, — ты согласен? — О да.) Что отреченье? Но рифмы — не речи. Что ж от речей отрекаться? Отчаянье? — чаяний не было, отчаиваться — от чего? На электрической лестнице, на семьдесят третьей ступеньке, хоть на одно хотенье хоть на одно бормотанье хоть на одну сигарету, — ОСТАВЬТЕ МЕНЯ…2. Красный фонарь
Двадцать второго марта двадцатого века. Улица Зодчего Росси. Воздушная кубатура двора. Птички-типички. Песик-вопросик (правдив Пудельяни!), задние лапки, присел, — о оскверняет сквер! Слева в окошках — либидо-балеринки. (Танец туник Тициана!) Справа в окошках — по семь сосисок в кастрюлях, как в люстрах по семь свеч. Небо — как Ньютон — своим пресловутым биномом всё вечереет. Всё веществеет. «Вечность вещает» ли — нам? Немость не мне. Но я нем, я смотрю, окошко в окошко… Ясен язык мой. Но он одинок. Я говорю: В корпусе цвета желе, моему параллельном, точно таком же мартовском, как и моем, денно горит, нощно горит! — в окошке кляксой проклятья (клянусь!) — красный фонарь! Кто ты, фонарь? То ли фотограф ты (фотопленку тайную опускает в фиксаж (в фиксаж — тело мое!)). То ли ты резидент за занавеской законспирированный (Циклоп-телеглаз!). Или ты электророза — опознавательный знак экстра-эстета? Или сигнал: в окно не выходить, пятый этаж… («Стоп, не оступись!») Кто ты — звезда Вифлеема? нимб Нибелунга? фрукт фараона? Лампа лучей инфракрасных? (Я не Аладдин!) Череп мой, панцирь мой черепаший (маска мозга!), слезы истерик (орда одиночеств), труд (онанизма аз!) — все профильтруете — спрутиков спермы, коварство крови — фильм лимфатический! — отдрессируете сердце в дублях души! Львиные ливни, волчья вечеря, сомнамбулизм солнца, денно и нощно, и было и есмь, и во веки веков, — знай неизвестный: не в небе звездой возмездья, — обыкновенность, окошко, — кара твоя — красный фонарь!3. Смерть соседа
Важен ли вымысел? Правда — не правило Слова, нет вас, ни вымысел, правды, естественно, нет. На улице Зодчего Росси дождь — моросило. Фильм рифмовали: красногвардейские шлемы, с ребрышками статистки… залп! Вот и в квартире, в храме линолеум-шоколада умер сосед по фамилии Поздненько. Федор Ильич. Кто он? Стрелял из револьвера клопов. Был телевизор. Преподавал математику школы. Не лыс. Что он? Ценил цветы в целлофане (боялся — замерзнут), изумлялся, что дешево (что искусственные — не знал). Кто он? Знал гравитацию: если бы люди ростом пять метров, что бы для них — курицыно яйцо? Не извинялся, стеснялся. Если бы мы мертвеца вопросили: — Ты умер? Он бы смутился: — Да нет, так, немножечко похолодел. Лгал ли он? Был бедолага? «Маленький»? «Труженик»? «Смертный»? Умер. Н. Гоголь шинель не отбирал. Красный фонарь (как я боялся!) — он разгадал. Однажды окошко он осмотрел. И сказал: ты смотришь со стула. Ты встань. Встал я: в корпусе цвета желе параллельном, по вертикали на всех этажах (всех — пять!) горело — пять фонарей! В доме есть лестница. У лестниц есть лифты. У лифтов — красный сигнал, что лифт неисправен, — он объяснил. Я не смеялся. Я был благодарен: он опроверг мои муки. Спасибо за правду. Поздненько, Федор Ильич.Моей машинке
Нищецы Неба, баловцы Библий, церковцы Цели, — за хлебок хлеба как нам пульс били по сердцам цепью, по перстам Таинств, по губам Божьим — двум! — по тем Царствам! — Где ж ты был — не был, кровенос боя, Зверь мой швейцарский?В больнице
1
Что читает вслух ворона для дерев? Лошади пасутся на веревке во дворе. Без одежд, как девы-жрицы клада (в ноздрю — серьгу!) о губами, лунными от хлада клевер стригут. Диски звезд — классическая форма (как ты, с кем?) Фонарь стоит в фарфоровом котелке. В одеялах я — мораль-улитка: диагноз дан. Медсестра, как мумия, мурлыкает. Спит. Диван. Что тебе, моё в медузах тело: тут ли ты, не тут? Темя — ты лить пульс души, лишь тема температур. Пересмешник, церковка паскудства, и не так я, время, умирал… Лошади — пожалуйста! — пасутся! Я боюсь. Два глаза у меня.2
Я сижу в сумасшедшем доме. Я записываю на соломе: «Нет гетер, кораблей, расчески. Нет баллад. На стеклах решетки. Одеяльце-то поросячье. А сказали, что здесь — предсчастье. Где же счастье?» — я говорю. И глазами уже горю. «В смерти ли? Но там — не у дел. Не глаголят. Никто. Нигде. Демоны в антимир замуруют. Двойники с анти-я зарифмуют». Я чело к стеклам поднимаю. Я записываю, но понимаю: Мир мой — здесь. Я мое — на соломе. Это — зрелость. Ее семена. Я сижу в сумасшедшем доме. И никак не сойти с ума.Легкая песенка на мосту
Как зверь в звездах — уже заря. Ресницы роз у фонаря. Вот девушка. С душой. Одна, — все движется. О не обман. Вот юноша. Не педераст, — и он с душой. И не предаст. Но лучше бы: вот водоем, чтоб эти двое бы — вдвоем! Я б отгадал глоток их мук. Был бы сочувствен мой мяук. А так — ни с кем и ни о ком грущу с глазами: где мой Холм?Все как всегда (лубок с монголом)
Монгол стоял на холме и как ветряная мельница бежал на месте. Глаза у него с грустинкой но не худ а даже влажен животик потому что он был — ниоткуд. Бежать-то бежал а в левой деснице держал драгоценность — курицыно яйцо. В ноздрях еще дрожало из высоковольтной проволоки — кольцо. Я подошел и подышал в его не без желтизны лицо. Я — что! У меня — мечта а вот вам пожалуйста тип — скулы скалисты (Не будем же бужировать в геноскоп семена — не семинаристы). В правой деснице держал он букварь с буквой «Б». Значит все в норме сей человек — в борьбе. В первом глазу у Монгола — виденье вина. Ну и что! Ведь во втором глазу — голубизна. — Как тут тебе на холме? — вот как я вопросил задыхаясь от века. — Как ветряная мельница я бегу на месте, — вот как он ответил. И я не знаю лучше ответа. Вот как исторически в силу общественных обстоятельств сложилось. Я-ты-он-мы-вы-они — по-товарищески сдружилось. Результат налицо: не без желтизны но никто никому не пленник естественное единство ни мяса ни мести… Вот как хорошо когда на холме как ветряная мельница каждый бежит на своем месте.Бессмертье в тумане
Радужные в тумане мыльные пузыри — фонари. Спичку зажжешь к сигарете — всюду вода, лишь язычок в трех пальцах — звезда. Тикают по циферблатам цикады… пусть их, их цель… Пульс и капель! В небе — нет неба. Август арктический, или оптический очи-обман?.. Ночь и туман. Хор или ноль?.. Ходит, как нож с лезвием чей-то ничей человек. Целый век. Ходит, складной (с кляпом? каникулы?) и никак самого себя не сложить. (Как в слезах! Как в глазах!). Стало жить невмоготу… Но наготу ни лезвия не боится и что ему чьи-то «нельзя», но не готов ноготок. Как научился (на «у» или числа?) так не уметь — не умереть? Или надеется, знает (незнаемый!) все про любовь… и кровь?.. И… — вновь? Или бессмертье — больше близ смерти?……. Голос мой! Логос мой!Трое
Что там, читатель? — фонарь, или электроель?.. Трое с монетой в глазу ходят с холма на холм, о освещены, как три фигуры скульптур новеньких ножниц! Но… ничего нет на них и у них, лишь одна на троих гусеница лунохода и монокль.Разговор со свечой (подражание древним)
Если ночь не в ночь, — ни луна, ни фонарь, я хожу на холм со своей свечой. Вопрос: — Зачем? Мой ответ: — Меч аз есмь. Вопрос: — Почему? Мой ответ: — У меча пять роз: белизна свадеб герб соловья черный чай любви ребус страниц еще стакан, — вот вам пять… Теперь ты свеча отвечай: — Сколько жизни лет? — Жизни — сто. — Завтра — знаешь мне? — Завтра — здесь. — Что я — на час? — Только — ты. — Где бессмертья знак? — Без смеха — ответ не в ответ!Закат в дождь
1. Закат
На Закате на заре солнце с глазками как зверь два кузнечика в саду декламируют беду дрозд в отчаянье — «ах так!» дождик движется как рак дятел делает не тук дьявол кормится не с рук вопросительнейший знак — аист: до зевоты он глотает камень, как… КАМЕНЬ — КТО ТЫ?2. Строки
Замок Заката. Дождь из Дамасска и стужа — дочь дождя. Солнце-сомнамбула. Гость моя — грусть: гений-гнус. У стужи есть лужа, у лужи есть еж, у ежа — змея. (Ежик, но есть же и я!) Рукоплесканье — ворон, стартует в космос: там кость и съест. Воздушный океан у глаз — у нас. А Бог? Вы в Бога веруете, Бог?3. Строки
На хуторах окрестных крыш камыш. Итак: на лампе фонаря, как на графине — дрозд: твой тост! На ели елочки и шишки — куколки из клея. (Помни: птица Хлоя!) Железный медный дождь в лесу мне ливень льет. (Лубок!) Тут утопиться, там, — у тропинки змея, и змея за меня… Был он в отчаянье (отчасти), мыслил (ах, дождь-дребедень!): — Чем питаются рыбы в «рыбный» день? …Ты, рыбешка-рабешка!4. Три розы в бокале у Бога
Триптих — Отчизна, Мать и Жена — не дано. Лицо на цепи, копыто Китая, центавр, — где курс кораблю? Сердце — «десятка», сутана и цель (ну давай, я — давно!). Три розы в бокале у Бога, — я говорю! Роза — герб соловья — я расстрелял ребус страниц. Роза — белизна свадьб — я растлил, Гамаюн. Третья не требуется: монастырь у мокриц… Три розы в бокале у Бога, — я говорю! Зачем из мультиметалла меня Ты, «меч аз»? Почему — часовой у меча — я губами (не тронь!) — творю? Так выпьем за выстрел, за сорок в бокале глаз!.. Три розы в бокале у Бога, — я говорю! Три раза в Байкале… Но если Иерусалим… Ландыш Невест — Но бульварщина Букварю. БОГ МЕНЯ НЕ ЛЮБИЛ И НЕ ВЗЯЛ МОЛОДЫМ. Три розы в бокале у Бога, — я говорю!У озера у пруда (плач в пяти пейзажах)
1
Озеро Голубое, вода — гобелен, и нет волн и в ливни. Лыжницы-плавнички, мишень-художница-карп. Волосы в воду, — воздушна, хлад в зеркальцах. Пьявки и я, лилия — роза Зверя. Купальня в цветах-гербах, в мифах овеяна ива. В озере — Дева (пропасть была, или моя) жила. Озеро в линзах, — лишь волосы выплывали о опускались (о пусть!) паутинка по паутинке в ад без акустики, как «ау» без аука…2
Рыбка-саженец расцвела. (Лягушата в искорках лир!) Я кормил ее с рук — она росла (кто не рос, если кормил?) Я стрекозами птиц ее одевал, я бинокли не дал паукам, я ее веслами не одолевал. Письмоносцами не пугал. Осквернен я, — но не было больше двух. Лжив язык мой, — не клялся, лишь кровь зализал. И она пожалела мой грешный дух, не замерзла и огнь не взял. Разыграло время ее звезду: семью семь лун в сентябре! Очень в озере и худо в пруду… Стало ей — не по себе… (Так все хочет в жизни быть, хоть чуток: имя дай реке — но не имярек, вот, как тигр, грустит — без пчелы цветок, человеку — человек…) Так любила она одиннадцать лет, а потом три года я был один. Возвратился… и никого нет… Сто осин!3
Чей возглас вод, чей чайный всхлип? В пруду живут созвездья рыб. (Коварство крови раскрывать священной розой — и не стать? Я — смертник сердца — рисовать вам, свиноблюд, и вам, инстант?) Пиавка плавает, как Брут. Сокровищница яда — пруд. (Мой позвоночник — только тыл, я жив ли нет ли — пробуй пульс. Ты перепонки уст закрыл (прости, ушей!) — писатель пуль?) Целитель — пруд!.. Вот воздух вод отдохновенья ливни льет. (Морей касаясь колесом, Конь Блед мой, с гривой корабли!.. Как кровососов-хромосом с любовью к яблоку кормить в прудах преданья? — Чепуха! Разврат распятья! Нет и нот!.. От чердака до червяка и чай чудес и весь исход…) Рак-труженик гласит, как труп: — Для труженика смерть — триумф! Петляет ласточка на «ля»: — Опасность — пуля и петля! Лишь у улитки оптимизм: — О пустяки! Опасность — жизнь! (Луна! — единственное «да» моих любовниц, кто не «для», венецианская звезда Земли… а мы, мой друг — земля…) И пруд не в пруд, я выплюнь кляп: наш нищий лай — четырехлап.4
Заболоченность-пруд… Меченосец-лук… Камень в канаве — братство! — лежит, пьян. Созвездье Рыб улетает в семью, на Юг. Мельница на холме, очи овец по полям. Черная лошадь пасется с цепью, под веки спрятала маяки. — Я возвратился, я вздрогнул: — Плохо, Луна! И поползли травы по телу, как пауки. — Я — Дева-Рыба! — (голос!) — сказала она. — Я любила тебя одиннадцать лет, а Ты три не смог. Ты — создатель — тварь жива, я — творенье в твоей судьбе. Ну любил бы меня хоть молнией, Деву, Ты — бездетный мой Бог. Ну убил бы меня в голову, Рыбу, Ты — Себе! (Смысл баллады — Любовь. И ритм — не зря. Плеть моя, плоть моля — как уйти, как убывать? Неужели не знала, что мне — нельзя ни любить, ни убивать?)5
Дым от моей сигареты обволакивает Луну… — Ну! Что я?.. Жалею ли я, что я живу — не наяву?Плач о нем
Лежал(а) в лесу… Клянусь! не котел, — каска сверхчеловека. Еще сам-сохранность решительный ремешок (ну, что под челюсть). Правда ни косточки не осталось (он был из космоса, — правда!). Но каска — лежала. Жила еще жизнью железа. Отверстие в темени (это ЕГО убили вы топором, а кости упрятали в сейфы). Но каска… ОН пал, как герой (это мужество, между прочим). Ах, люди!.. Уж как ОН летел! — биллионы км!.. Как он тело уже упражнял (как, проклятье, куда вы упрятали кости? — в науку?). Если на каску смотреть непредвзято и честно, — ОН мозг развивал! (Ох, не под стать вам, тупицам!) ОН — вам хотел… (что ОН хотел — вас не касается, кстати!) Что ж вы убили его топором, вы, предшествующее поколенье, или же даже (о ужас!) — мое? Ну, не соври, отвечай — это важные вещи, мой современник! зависть к таланту (ОН был гений, не так ли?) злом за добро? (ОН был сердечен, вы, дохлые души) рост не понравился? (но, извините, космос — система, а не убежище для улиток). ОН вас обидел? Женщин не так обозвал? О Бог с вами! Или жестокость женщин двадцатого века не общеизвестна? Был ОН Агентом и нес информацию-инфра, или… был ОН Главой Галактик, — тогда… что тогда? Где оправданья пред Мирозданьем, — теперь?.. Кости отдайте! Где кости? Мы накануне косм-катастроф: или ЕГО оживим сверх ожиданья, или — пламенной жертвой экстренного эксперимента станет (а жаль, я сам человек) Род Людей: сутками — слякоть, месть — месяцами, страх — на столетья, жизни — не будет, а жизнь… (это знает любой!)… А почему человеком ОН был, пусть и сверх, — это же проще простого: КОГО УБИВАЮТ В ЛЕСУ, ЕСЛИ ОН ЖИВ?Арифметика овец
Я смотрю с холма на холм: холм хорош: пусть пятиступенчат! Я пишу пейзаж: о закат — заокеанье, чуть не холодно, и холм, пять ступеней, пять овец… Ну и что? Как пасутся пять овец, на телах у них мех, пятерчатый, как «ох!», там где хвост — пять хвостов, там где темя — пять ушей (дважды пять!) Дальше… Даже в душе у овец — пять сердец… Пятью пять копыт! Ну и что? ТАК-ТО НА ЗАКАТЕ ДНЯ СМОТРЯТ ОВЦЫ НА МЕНЯ: — Что ж ты смотришь… арифметик?..Куст смородины (варианты)
Куст красавец под окном. А под ним лягушка — как лошадь с клювом, с крылами (украдет!)… Куст смородины. На нем сетка «для» и «от» лягу… (не клюй! куст — клетка!) Куст по форме — как фонарь рыбаря, в сетке — стайки, семью семьи: златозелень-листик-рыбка, искра-ягодка-икринка… Труд, товарищ! Ура улову! Куст смороды под окном. О тиран туризма! Куст — палатка, там все в плавках, млеко-фляжки-свой сосуд даже девушки сосут, в ласточках — листва волос. Почему-то поцелуй — двуязычен!.. Это сатира: «под сеткой секса». Куст смородинных круже́в, или кру́жев. Каждый листик пятипал, как ступня моя босая беса. (Сколько их, стоп-ступней не шагнут?) Что смородинка — то глаз (только-сколько не откроется от крови?) Кто — откроет? Звук Заката! (Фантастическая сеть — хоть в сети, но хоть в саду: спать — не стать!) Вот и вывод: КУСТ КАК КУСТ ПОД ОКНОМ А ПОД НИМ — НИКТО НЕ ЛИШНИЙ!Воскресенье (каталог без людей)
Стол в кружевцах-эстафетках (не тот, не сталь). Машинка моя под хромированным колпаком (дурацким). Слушаю (слышал) здесь — птица, простите: пернатая Хлоя с хвостом (она — людоед). Птица Хлоя пищала на ветке вишневой (прошлой ночью): «хи-хи-хи». Дверца окна на крючке болтается (сам за стеклом). Что ж. Слушаю сквозь: Мчал мотоцикл по асфальту как игрушечная моторная лодка по гео-озерам кружилась береза как пудель зеленый на задних лапах чучело в майке сетчатке кольчуге в духе матроса — ОН пугало в платье монисто без ног кажется макси в духе цыганки — ОНА как они шлялись в смородинные кусты поцеловать друг у друга О ПУГАТЕЛИ ПТИЦ! молодой дождик цвета медузы лежал в земле (воздух! воздух!) подсолнух с гривой стоял в красной клубнике как в красных песках — ЛЕВ овощ (по звуку — картофель) строгал сам себя а нож блестящ и нов в карты шут-шулер картежничал сам с собой — КОТ картофель младой закусывал кильки сосал как леденцы — КОНЬ копал как поле участок с нежным навозом — АИСТ бежал по аллее из елей уши ужасны уже босоногий — ПЕС мухи с морковью торжествовали как жертвы — МУХИ-МАХИ ПРАВДУ ИГРАЛО ПО РАДИО ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО МУЗЫКУ ТЕЛ НА ФИГУРНЫХ КАТАНЬЯХ ТВОРИЛ ТЕЛЕВИЗОР (Птица Хлоя летала же в прошлую ночь друг за другом, как два белых платочка!) Я расстелил на Закате колючую проволоку в двенадцать рядов (на то и сад) Колючую проволоку надо сушить. На Закате. Паук — домашний скотинка — полз по плечу, панибратски похлопывая ладошкой. Лампочка кухни надела совсем человеческий чепчик. Сквозь голубцовые листья-листву уже здравствовала — ЛУНА. Ветер взвивается. В небе читаются тучи. Что с грозой? Как-то она — без людей? Ведь не то. В прошлую ночь ведь была же птица Хлоя, летела на Запад, цокая языком: — Распни их! распни их! А вот — в эту? По хутору бегают маленькие гуднайтики. А жаль… КТО-ТО ВОСКРЕС В ВОСКРЕСЕНЬЕ? ЗАВТРА — ВЗАПРАВДУ ЛИ ПОНЕДЕЛЬНИК?У ворот (лубок)
Нежно-радужно и дождь — как индус в чалме и джинн (из кувшина!) Осветительный овес! Вот ворота — жуть желез, и звоночек (где звонарь?) У ворот живет жасмин — медведица Баренца, белоцветица-бокалы (их мильон-мильон!) в лампах, в лапах. У ворот еще и ель ветви — в щеточках зубных (прилетает на хвою птица Хлоя в «ноль» часов чистит зубы — все целы! Хлоя — людоед). Щеточки — в крови. У ворот (вот-вот!) о овца, как офицер (пьяница, одеколон!) с мордой смотрит: во дворе лежит бревно, — как попало, голышом… ЧЬЕ ОНО ЛЮБОВНИЦО?Пейзаж с крыльца (утро)
Небо — монета в тумане. Ни лучей, ни чело. У крыльца два цветка с крашеными волосами. Яблоня вывесила 666 яблок, и каждое — колобок. Шагает по воздуху влаги, как по шоссе, в желтой майке и как без трусов, — спортсмен. Уши овец, как у зайцев. Да и заячьи морды. Смотрят, как смерть. Что вы, овцы, тут у крыльца в тумане монетном со своим космическим «МЭ»?!.. (Бремя мое, бормотанье…) Листик вишневый, как зеркальце (воздух!) затрепетал у рта!..Песнь лунная
Зажглись фонари на холмах… Я вышел на воздух, а воздух — вишнев! Семнадцатое августа, ноль часов, семь минут, семь секунд… Жду гостей. С неба. А их нет. (Хутор со шпилем, оконце и лампа — ориентир.) Луна человечьим лучом (маскировка, мираж!) расставила металлические мечи по холмам. Фосфоресцируют волосы в воздухе. Чаша весов в левой деснице (время! время!). Не расплескать бы тост! Нет одиночества: я и Луна. Я меньше сейчас, чем один. А на луне (знаем Землю!) их — нет. О облака, два дракона метафор (я сам — семикрыл!). Деревья таятся когтями, — но не орлы; цветы завернулись в чалмы, — ни цветок не пророк; кузнечики в травах трепещут (цепь-звон, но они — не часы). И лишь две собаки: одна там где Запад, другая там где Восток, одна восклицает: «Ах-ах-ах!», другая: «Ай-ай-ай!» Значит, Луна боится меня. Не бойся. Я не божество, не беглец без лица… Ночью (не нищенка!) Мнишек Мариной, княжной Таракановой, Анной Второй, императрицей в темнице (не самозванка!) — боится меня! Зажглись фонари… Я ошибся: зажегся фонарь на холме, — моем. Вот он (не я!) в треуголке и с тростью и с пьяным электролицом, как Петр Первый, — о эпилептик эпох! Слышу звон звезд — это армий моих океан, это Большая Медведица встала, как вождь на живье жабье, безжалостный серп размахнула во все небеса! На гильотину (гибель!) варварам — варварский серп!.. Гости не гости, сейчас не сейчас — серп занесен! Как мне с глаголами? Как мне с глазами? Как мне — со мной?.. Бьется еще на пульсе братский браслет! Жду, как Джордано. Простится и пульс и дрожь: ночью вничью все боится и бьется (не днем!)… Не бойся! Ты — это Ты (без междометий), я-то — значок язычка!.. Ежик! Я жив ли? Жужжим ли? Не съешь светлячка! …Камни лежат на тропинках, как яйца живые в своей скорлупе!Восемь строк
Две пчелы — зигзаг. Три змеи — спираль. Четыре человека — и жезл жреца. Пятимерна Земля. Шестигранна Звезда. Лишь (седьмая!) Смерть — однолюб.Об Анне Ахматовой
Здесь красавица прежде жила,
А теперь не живет…
А. Гитович Я хочу написать об Анне Ахматовой. Для романа за рюмкой — Блок, Модильяни. Повесть пафоса — муж-стихотворец, жуан и игуан, неотъезд из Отчизны, неарест, остракизм, брызги бронзы, Никольский собор. На рассказ — не рискну. Мемуары? — но мало ли мемориала? Сплетниц-плакалыциц у свинцовой голубки, экслибрис креста? Притворялась пророчицей. Лицедействовала царицей. В скольких скалах жила! Никого не любила, — мастер мести себе, цепь на сердце — за грех аграфии, гениальный гранильщик од одиночеств, где — хлад и хрусталь… В Комарово свирепствуют трупы и триппер. В Доме Творчества — торичеллиевы коридоры. Младожены писателей (о дочери Этны!) с энтузиазмом — из номера в номер, с кровати в кровать. Стикс-старухи с черепашьими лицами. Чтицы вслух читают им ЧИТКУ (язычки как у болонок!). Мастодонты-маститы цитируют на машинках рай рабочего класса. Им телеодевы куют… костыли. Все оплачено оптом: шамканье инстанционных машинок, дочки-девочки, аз-язычки для завитков-волосков. Пьют бокалы с беконом — сиеста предсъезда. Маршируют по морю, — о аромат Реомюра! Тише, ты! Здесь инстанты живут… Артиллерия-арт! Хватит, хам… Ты пиши об Анне Ахматовой. Я — пишу: В Комарово, не у моря два домика. Было. Два зеленых, как елочки… Жил Гитович, Александр Ильич. С ним семья: Сильва-колли. Поясняю: Гитович — поэт, Сильва — жена, колли — пес. Сильва — гости, голубоглаза, дом — не мед, дневник про Акуму, телефона тепло. Колли — пес для медалей и для свитеров. Для хозяина на закате, когда он листал на крыльце. Как он тратил бокалы, хмелея, хемингуэя, фавн Китая, кентавр с башкой сплошь волосатой, чернильной, жизнелюб существительных, милитарист междометий, опуская тяжеловесные веки, он сказуемые — сказал: устами китайца Ду Фу! Хоть устами Ли Бо отлюбить, обуздать свою совесть-обузу, сам отшельник — был воплем отшельника Цюя, сам в сомненьях — был даром рыданья Цзюйи. Тяжкий дар двойника — переводом с пера на перо! Где Гитович! Мы правда же — пировали! Бой бокалов и Пушкин, Художник в кольчуге (теперь его адрес: — Рим). Где град Китеж!.. Где враны Венеры, где иглы и месяц, — я под поезд бросался, на рельсах, как крестик лежал… Электрический лязг… мгла шампанского света… колеса… секунды… Где, как лунный, Гитович, срывающий с рельсов… («МУДАК»)… Спал ли я в эту ночь, — «герой без поэмы», — в помарках от шпал? Спал, спасенный. Как сипай. Как спирит. Вот… — отпеты. «К Ахматовой» ходит автобус туризма. У Гитовича — камень. И камень — скамья. Там я пью, окропляя. Один. Там, где было два домика-елочки, там и теперь две дачки. В одной не живет донна Анна. В другой — друга нет. Как собаке без хозяина, как хозяину без собаки. А. Гитович В Комарово китайские сосны — как укроп. Травянистая зелень — злато со светлячками. Тротуары песка. Электропоезд шумит, как ручей. Утром пусто у станции (мини-акрополь достаточно в общем дощат)… Околыш сверкал, как очки, был безус — милиционер. Шум у шпал — пес был в судорогах, шахматная дворняг. Как он выл! Вопль волчицы! Человечий-нечеловечий! Потому что поезд — перерезал пса… Уши пушились, нежный нос, и язык извивался, уже не лизал, кляксы крови в овечьих звездах-завитках, худо, — был он и рвало: рыбьи кости, трава из метелок, желчь, винегрет… Милиционер: оглянулся ко мне, мигом мне подмигнул (трус, ребячество!), вырвал весь револьвер, побежал, как сомнамбула… как от мамы… Выстрел в ухо… И с револьвером уход. Жил дворняг в Комарово. Не ничей. Ходил с человеком в костюме. Поводок с инкрустацией в искрах. Пес вырос. В зубах зонтик носил. То ли умер хозяин, то ли уехал по службе. То ли бросил хозяин (бросают. На лето возьмут, а уедут — бросают псов). Шахматная дворняг (милый миф Мефистофель — тот пудель, и черный!). Но с бродяжками-псами не общался. У вилл у вельмож не вилял. Не побирался украдкой у мусорных урн. Правда, стричься не стригся. Но не был (отнюдь!) неопрятен. Ежеутренне на электричку — сам! — 7.17 — а не ехал — отправлялся в тамбуре (знал: без билета!) в ресторан ресторанов «Олень» (Зеленогорск)! Не отлаивал, знал: был оплачен обед (с ним? невидимка?). Возвращался. Весь вечер-один-по-аллеям-гулял… Как он утром, животное?! — стал стар, не проснулся вовремя, торопился на поезд, не додумался что-то там, разволновался, рассуетился, уши шумели, муха мешала в глаза?.. Как бы там ни было — вот ведь как получилось… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я хотел написать об Анне Ахматовой. Написал о собаке… Перо повернулось… Кто знал!«Мулен-Руж» (рецензия на кинофильм)
Отрецензировать фильм — ответственность. Риск реализма. Не по плечу. Я не скромничаю: попытка. Итак: Анри Тулуз-Лотрек был граф. Единственный при жизни. Рожден кузеном и кузиной. Во дворце. Но пал на лестнице. Но не поранил ножки, но ножки мальчика не подросли. Был папа благороден. Благо, в роде все были крестоносцы и Тулуз. Знал папа гены. Папа бросил маму, чтобы второй ребенок с ножками — не смог. Ах, что ж Анри? Что оставалось делать графенку-инвалиду, — рисовать! Стал рисовать. Его не полюбила графиня-переросток ДДТ. И он решился (о твоя отвага!) стать гением, то есть — самим собой. Вот что сказал он: — Труд — большое счастье. О правда!.. Он отправился в Париж. Он взял лишь миллион. Дворец (великодушье!) он оставил. Он папу с мамой не нарисовал в веках. Стал жить сам по себе. Один. В мансарде со севрской ванной, — в общем, в нищете. Вот что еще. Деталь, но любопытна: он пил коньяк из трости в Опера. А также ежедневно пил коньяк же из хрусталя в Мулен и рисовал на скатертях. Что рисовал? Реальность ресторанов, жокеев на лошадках, гетерисс, Уайльда с бриллиантом-брошью… вывод: таких же обездоленных, как он. Любил людей. Его — лишь полицейский. Сержант, естественно, — кто ж скатерти бессмертные еще ценил? Кормил коньяк. Давал всем фрукты, франки. Никто не понял, — лишь король холсты купил. Пришла любовь. Пришла, как все — из тюрем. Вот так: не проститутка, а любовь. На улице… с сержантом… спас… Но ножки!.. — его не полюбила Роз-Мари! Он подарил чулок — но, отвернулась. Он пил коньяк — она не снизошла. Бедняжка-бляшка в занавеску завернулась и к сутенеру-педерасту от гения ушла. Что говорить — с годами стал он гениален. Умножился и ум его от мук. Всё знаем, по себе! ну кто не станет гений с годами, если пьет один коньяк? Ты, творчество! Ты с ним случалось тоже: не раз не два не три, — о вдохновенья ночь! Он кисть кусал! в очках коньячных звезды! и развивая свой талант — и рисовал! Пришла любовь. Теперь уже с любовью. Честна и манекенщица, как встарь. Она одна не завтракала с детства, чтоб у Анри хоть что-то живописное купить. Но тут уж — он! (Ах ножки, эти ножки!) Любил, но пасть в объятья не посмел. Знал — обоюдно. Все же вышла замуж, хотя про Афродиту ей все объяснил, как есть. Разволновался. Или — крах иллюзий. Стал пить коньяк, но как не пил никто. Горячка. Обязательность больницы. Но отказался… ну и умер уж. Охотник-папа, мама-католичка пришли к одру (ведь смерть — не смех, увы!). — Прости, Анри, ведь ты дорисовался до Лувра и при жизни как никто! P. S. Фильм объяснил весь драматизм судьбы художника Анри Тулуз-Лотрека: жил гений, хоть изгой, но с мозгом и чудесный человек. Теперь таких уж нет. Я их искал. Я обошел все рестораны века. Я пил коньяк. Что я! Я весь в слезах. Я весь киваю: вот ведь век! P. P. S. Мулен — мельница. Руж — красная. (француз.)В зале живописи
Элизиум-зал был в забралах и в людях, в бациллах любви, в мефистофелях флегмы, в окнах и в холстах, в зарешеченных люках… Две флейты играло, две флейты. У Бога у губ, киноварь и мастика, малиновый мед, и ресницы смеются, в отверстиях олово, Змий и музыка: две флейты играло, как два Семиуста. Растение рая, перчатка из лайки, зеница монгольская, маска да грива, — девица с двойными глазами (и златы!)… Две флейты играло — два дива! Ценитель-цербер, бубенец каравана, о милый послушник налим-посетитель… И только моя голова горевала, что нечего чтить, некому посвятиться.Терцины (памяти Лили Брик)
Уйдет к себе и все забудет.
Н. А Ушла к себе и все забыла. Москва не родила капель. Молва пилюль не золотила. Ложились люди в колыбель, включая лампу, как ромашку… Оплакал я, — не храм, не Кремль. Позволю первую ремарку о пуговицах за слова — как вор коварную рубашку снимаю перышки, Сова, знаток Зеркал, я отвечаю: ушла к себе, ушла сама. Не одарила воды к чаю, не одалиска, — по любви. О чем поэты? — одичали, не отличая поля битв от женщины музык и жеста, поэтому-то полегли, к жерлу прижав пружины-жерла… Не собеседник на суде, не жалобщица и не жертва, без пантомимы о судьбе, без эпистол, без мемуара она — одна! — ушла к себе. Царица мира, — не Тамара, о не Сиона!.. Сущий сон: в сих пузырях кровей кошмара какая Грузия! Сион! Грузин Ваш — грезил. Оболванен лафетом меди, — мститель он! Освистывает обыватель. Знак зависти — павлиний глаз. Второй ремаркой объявляю: еврейства ересь… им далась! (Ах я ль не лях, — Аллаху — лакмус!)… Нимб времени и лир — для Вас. Так лягут лгать, включая лампу. Монгольский молот под кровать — в электролягушачью лапку! — Свой тартар поутру ковать, звать звездами вверху стекляшки и что не я — грехом карать. Уснуть устам. Сойти со стражи к себе, самой, — как сходят с рук. Библейской болью: стой и стражди! — (как стар костер!) — созвать на звук. Но… Мумии вины Левита у скал искусств… мурашки мук. Но звук за век (ах от любви-то!) зовет за око — Вий в окне! Но в мире мер в сосуде литра отнекиваться на волне… (Ах щит Роланда, счет Гарольда!) Вы — объясните обо мне. Последнем Всаднике глагола. Я зван в язык, но не в народ. Я собственной не стал на горло. Не обращал: обрящет род! Не звал к звездам… Я объясняю: умрет язык — народ умрет. Где соль славян? О опресняя в мороз моря… Раб — не для бурь. (Агония обоснованья!) Но нем в номенклатуре букв и невидаль ли в наводненье автопортрет мой — Петербург? Ремарка третья: над Вандеей гитары гарпий, флейты фей. У нас семь пятниц на неделе: то белены, то юбилей. Москва! как много… в говорильне в бинтах кровавых — фонарей! Но ум у мумий, — гамадрилы, мессии мяса, — племена! На нас мундиры голубые, мы в силах все — переина… На берегах Отчизны — Стикса припомните им про меня! Страницы в море жгла синица секретов сердца, — тот театр! Имея меч — теряться с тирсом? У винных вод — и ты, Тантал? Двусмысленны все постаменты на территории татар. Нам жизнь не в жизнь, но все — посмертны… Лишь жалоба календарю: что я последний Вам в последний уж ничего не говорю!«Не бил барабан пред лукавым полком…»
Не бил барабан пред лукавым полком, не мы Вашу плоть хоронили. Чужие по духу в семейный альбом, в келейный апломб — опустили. Чужие по духу во все времена закапали Вас, закопали. Мы клятвой не сняли свои стремена, все в тех же шеломах скакали. Нам тризна — с трезубцем! Бесслезны сердца торжественного караула. О спите в кристаллах, святая сестра, в венце легендарного гула!Посмертное
Я умру: не желаю ни розой, ни муравьем, ни львом. Роза: цель — поцелуй, то есть месть медицины, малосольная лимфа любовниц-мурлык — на олимпийских мускулах уст Дискобола! Или роза-мимоза в склянках столичниц Бодлера (ах, «страшные вина»!) — и ад алкоголя, мой мир, где зуб на зуб и зрак без зениц! Или зев азиатец, их роз-языков, фрезерующих фаллос в лапах Лапифа, — и «роза упала на лапу Азора»!.. Эх вы Эрос!.. Муравей: гражданин-миллиметр, труженик-миллиграмм, имя им — миллион, муравейник твой — колокол коллектива, треугол Архимеда, вулкан во века!.. Лишь Луны — лишены… Я — лунатик. Лев: как с кляпом, как в клетке, непризнанность-гений в литаврах, Самсон-самозванец, звероморду аристократа перелизывать плебс-языком, — мертвечина-морозиво мяса, дружок!.. Но — не ранен! Кровь жив-жертвы как бьется в висках, как вкусна! Рев о Родине зла и клыка!.. (О в каких кандалах у народа мой брат-людоед!) Не желаю — созвездьем!.. Кто вы, Близнецы-Диоскуры, — на зависть Земли, вы, статисты чертежниц-Небес (череп — тоже «на бис?»)… Я — ничей не близнец. Не желаю — в живое! Я умру… Не желаю ни в мрамор, ни в каплю, ни в воздух векам! Мрамор: нео-Дедал сконструирует театр для толп, культ-культуру для хваленых художников хамства — галдеж галерей (трон-тюрьма!), лицемер, облицует и Тартар (дешевка для душ!). Капля: даждь нам дождь для пресноводных двуножеств, родителям рода для будущих бешенств и траты труда… Или каплю-слезу — Искупителю наших Нищенств, мирозвестнику Мира, чтоб в истерике истин Его мы молились «во имя»… Войны!.. Капля-кровь… Воздух: вот я весь — воздух, везде я: в телах теплокровных, в птичьем пространстве, в океан-плавниках!.. Не желаю себя — клоун ад-космонавтам, корабль-юбилеям, — бездарностью бездн! Не желаю, чтоб даже дышали ни конструктор костей, ни инструктор-инстант!.. Ты, анафема арфы Эола… Человеком вторично («Восход»! «Возрожденье»!) — не желаю!.. Кому-то там вторить в торговлю, безбилетник Творца — любить тех, кого не любил при моей Безымянной, лгать гуннам и лигам («о не вы, это я — пролетарий»). Пусть умрет ум и мир мой, только — не во чловецех, я — ничей не ловец! Маски метаморфоз — возьмите и возрождайтесь!.. Жил он так, как желал, умер так, как умел…Заклинанье
Ты еще пройдешь через сто страстей, через сто смертей. Ты узнаешь, узник, что укус цепей — лишь поцелуй. Ты заплатишь за плеть сорока сороков себя. Ты ответишь, что ты не бык боя и — о не овн! О с одиночеством очная ставка — «о»! Ходят хладные люди фигур, но их хлад — «про»! Каплица-икринка упала из уст и поползла — «из»! — что эмбрион-восьминожка родит: океан, или дитя «для» людей? Ты еще неуёмен на ум. Не удержишь надежд. Ты еще за тыщу запрячешь сердце щитов, — но вотще. Не изменят тебя ни ладан на дланях ни Змий измен: из чего-то, про кто-то, о кем-то, для чем! Не прощайся, друг-дрозофила. Еще не гудел ген. Это — солнечность, это — столичность. Ты будешь — быть! Это — ночь Нарцисса и Эха. И день — дан!.. Ты еще несчастья не счел, ты еще досчитайся — до дня!ВЕРХОВНЫЙ ЧАС 1979
«Новая Книга — ваянье…»
Новая Книга — ваянье и гибель меня, — звенящая вниз на Чаше Верховного Часа! Как бельголландец стою на мосту, где четыре жираф-жеребца (монстры Клодта!). Нервами нежной спины ощущаю: ДРУЖБУ ДЕРЖАВ: гименей гуманизма — германец мини-минетчица — франк с кольтами заячья мафья илотов — итал а пред лицем моим в линзах Ла Манша — сам англосакс! ходят с тростями туризма: эра у них Эрмитажа… Панмонголизм! Ах с мухами смехом! НЕ ПРОЩЕ ЛЬ ПЕЛЬМЕННОЕ ПЛЕМЯ! Адмиралтейства Игла — светла, как перст револьвера, уже указующий в Ад. Цапли-цыганки в волосьях Востока: сераль спекуляций (цены цветам у станций Метро!) Мерзли мозги магазинов: под стеклами сепаратизма кости кастратов (эх, эстетизм!) Там и туман… Двадцать девиц. Я, эмиссар эмансипаций, — двадцать, — вам говорю, — с фантиками, в скафандрах, морды в цементе, ремонтницы что ли они драгоценных дворцов? (Счастье — ты с чем-то?) Кто они, — я говорю, — их похвально похмелье: лицами лижут стекла у дверей, колонны зубилом клюют. Домы-дворцы забинтованы в красные медицины (нету ковров!), ибо заветное завтра — триумф Тамерлана. СОСТОИТСЯ САТАНИНСТВО! Тумбы афиш: темы билетов там были. Тембры певиц — наше нужное эхо энтузиазма. Что-то чтецы? В царствах концерта царит Торичелли… И тогда — и т. д. и теперь — и т. п. Ходят машины в очках, как павлины (о как!) как малины (во щах!). Невский проспект… но — невроз, но — Провинция Императрицы Татарства. О над каким карнавалом луна Ленинграда — саблей балета! ГДЕ ВЫ ХАРЧЕВНИ МОИ, ХАРИ ЧЕРНИ? ВЫНИМАЕМ ВИНА В МАЕ. НЕТУ ЖИЗНИ — НЕ ТУЖИ! Даже дожди… Даже! — душат!.. Люди как лампочки ввинчены в вечность но — спят: чокаются чуть-чуть головами, целуются в лица, листают фотопортреты свои, как некрологи, в каменных мисках куют колбасу, давят в духовках млечных младенцев, — картофль! Что им Гертруда, да и они что — гневу Гертруды… Бредят ли братством, бушуют о будущем… Не обличаю, — так, по обычаю, лишь отмечаю: вот ведь везенье! Сердце души моей в мире — светлая сталь. Что мне бояться, — библиотек, Бабилона, бульваров? Кого? — бедуинов? Чьей чепухой еще унижаться мне, униату? Ходит Художник в хитоне, плачет в палитру (падло, пилатствует!) жрет человечьих червей (врет — вермишель!). Стонут в постелях стихами девки искусства. Я — собеседник о розах без детства, я — сабленосец в седле на копытах (мой стул — Козерог!), жрец трав татар, певец поцелуев (мы — узники уст!) трус и Тристан и как страус — стило под крыло (всяк человек чур не век!), — как бельголландец нервами нежной… пальцы пяти континентов… НЕ ПРОЩЕ ЛЬ ПЕЛЬМЕННОЕ ПЛЕМЯ? Ночью ничтожеств над флягами-куполами стать и смеяться! ЕЩЕ ОБЕЩАЮ ОБЩИНАМ: Я знаю ЗНАМЕНЬЯ; — Я — камень-комета, звенящая вниз на Чаше Верховного Часа!«У моря бежала…»
У моря бежала у моря бежала… не ближе. Три ворона трижды взлетали, — куда им! картавцы! У раковин рок, они лишь лежали и жили. Но люди у моря тебя не любили, дай Бог — любовались. Что вызов морям? Посейдону — трезубец, а молния — Зевсу? А тем, кто тебя не любили, приблизиться — прежде ль? А тем, кто любили, воскликнуть: как можно у моря? не смей! не смеяться! Как можно, Марина (лишь ситец да сердце!) бежала. Что Ладога людям! Бутыли по горло — купались по горло. Седлали челны и рыбешку-рабешку себе вынимали. Смотрели, бессмертные, как босоножка бежала. Поймать — не поймать?.. Сколько волны у скал налистали… Мое маломальское тельце (как ноги — на гибель!). И сердце! и ситец! Мой беженец в море… не ближе. Кричи не кричи: но надежда на двух! до свиданья! до свадьбы! Но совести — сорок… Нам было по двадцать… и не добраться.«я лишь просил: не нужно…»
я лишь просил: не нужно! не удержим! не разбивайся, жено, о талант! не отнимай последнюю надежду! — Не отняла. о отступись! — просил. Ты отступила. отдай в ответы даты! — Отдала. не мсти хоть за спасибо! — Не отмстила. Оберегла. увел тебя у воли твой Сусанин. Ничье нечестье не звучит за мной. Хлеб-соль хорош. Что ни с людьми — с сердцами. Земля-землей. я пью вино, отпущенник в тиаре, пишу на Лире, в пульсе быстрота, как будто басни, а не бестиарий… Как без тебя. Нужна ли нежность? Мало ли могли мы о двух руках, о трех перстнях сребра? Как без тебя мне, милая, в могиле! — Как без себя!«Кто Вас любил?..»
Кто Вас любил? Да Вас! — да всяк! Зачем вы замки в воздусях? Зачем Вы жили скрипкой жил, дочерний Дух Вам не служил? Зачем звучали, мой немой? Зачем любили многих — мной? Вам ясен яд. Но чьи цветы и чьей погибелью — новы? Прости, что милый, не на ты, все в жертву памяти — на Вы. Все спутал, — жизнь, себя, жена. В местоименьях имена. У нас живых лишь дрема драм. Болезнь морская — кораблю. Дай Бог, чтоб Вас любили там, как я без Вас тебя люблю.Памяти…
Мать моя смерть моя как меня! Жизнь ее, как ее — зал разлук! Я кормил сладким камнем коня… Что ж ты встал, не заплакав, за плуг? Или циркуль-целитель грядет по окружностям (ясность-земля!)? Амен, камень горюч, Геометр. Или яд отвечаю на я. У цветка отцветает отец. Или Вам не в новинку на и? Плуг возделал везде — и конец. Только и… только имя… — не им.Семнадцать лет спустя обращение
Десять книг да в степи да в седле, десять шей и ножей отвидал. «Подари мне еще десять лет», — отписал. Ты семнадцать отдал. Отнял степь да седло да жену. Книги вервьем связал. Не листал. Отъял шеи — оставил одну. Ночью каинств и ламп не лишил. Что мне делать с ней, шеей, с ножом? Я не раб, я не враг, бой не бью. Бог с Тобой, если Именем — нам: отдал — отъял и… благодарю. Где ж я был? — В сталактитах у скал? Чрез семнадцать вернулся. Я — тот. Те ж народы… Никто не узнал. Для ВЕРХОВНОГО ЧАСА — никто. Те дары не расплавлю кольцом. Не жалей у ножа, ожидай. Дай два ока — закроюсь лицом, если есть во мне, — не оживляй. Дай два Огня, два Зверя, два Дня. Две волны, двойню губ да весло. Не удваивай в Доме меня. Забирай под забралом, — и все.Як ти міг дочекатись, чи справдиться слово твое
«Ты сказку, сказку про меня, ты сказку сочини». «Я всадник. Я воин. Я в поле один. Последний династии вольной орды». «Правда, ты печальной Евфросиньей обо мне в Путивле причитала?» В. С. «Всадники», 1959 Отлистала сказку про меня. Отблистала у династий дня. Удит на цыганку время нас, индустан-украінный обман. Працювати — не найкращий час, дочекатись: справдиться, — о, ні! Бог не дав ни рог для стайи крав, ходят с ухом со холма на холм. А у хати провалился кров: звался хутор — завивался хмель! Отсвистала сказку про меня на путивле евфросиний дня. Эпос-иней голову глумил, угасал как уголь грозный мозг. Что там купол-Киев говорил? В мире был по январю мороз. Это Русь без всадников меня хоронила пешим ходом дня в женском платье, в гриме лоб высок, на кладбище снега и сорок, гребнем забран что ни волосок: догадайся — дева? скоморох? До свиданья Русь моя во мне! До світання проміння во мгле! Отзвенел подойник по делам, — поделом!.. Пойдемте по домам.«О кратер оло…»
О кратер оло — ва любви, — не мед. Охватит око, — зуб на зуб неймет. Вы молодость, вы — возраст для измен: ведь мало даст, а все возьмет взамен. Лишись одной… быть не быть — не вопрос, — лишь одино — чество, камин и пес, лишь сталь лица и палец-бумеранг… Листается латынь моих бумаг!«Все было: фонарь, аптека…»
Все было: фонарь, аптека, улица, поцелуй, фонтан, самозванство, Мнишек, Евгений и ночь Невы, лунатик и револьверы, гений и ревность рук, друзья с двойными глазами, туман от ума у нас, Сальери ошибся бокалом, все в сердце: завтра, любовь… Как праздно любить мертвых! Как поздно любить живых!«Если б шарами в нишах луз…»
Если б шарами в нишах луз Земными, — жил бы, люб! Но каждый мускул наших Муз — недрожь! недружелюб! Ну кто слепец Земную ось просмотрит, прост и чист, осмелится отмыть с очес от Часа наших числ? Ну кто стрелец наитью Дня отпустит опус — в шрам? Чьей разностопностью, друзья — наш римлянина шаг? Кому подаришь сей падеж: о помощь! о отдай! — крест от Петрополя чрез Париж нести — на Иордан! Кто рифмой яблоко-любовь вы Дева — тронь весы!.. Я знаю: языками кровь зализывают псы.День гнева, этот день
Светил телодвиженье — тел желает… Цветет миндаль, кузнечик тяжелеет в заморский климат в атмосферный август ушел стрелец в чулках с афишей — аист на холмах лошадь чья-то лижет кальцекс каких-то каст ко мне катится каперс волн студенистость на озерах спрута у плакальщиц у дома — соль-ступень луны колонны в улицах у страха, — Я ГОВОРЮ: ДЕНЬ ГНЕВА, ЭТОТ ДЕНЬ! Дом стерегущие друзья — дрожали в окна смотрящие — в руках держали скрыпицы-лицы в пузырях из мыльниц аука-звук у жернова у мельниц на ключ с дверьми да запираться — племя сынами силы взяли дщерей пенья расплакался дитять губой малины, — он сед, а барабанчик до колен… Не возвратиться телу: дом могилы. ДА ВОЗВРАТИТСЯ ДУХ, ДОКОЛЕ НЕ: не порвана серебряна цепочка не льется в ухо ртуть твоя цикута имеется у мышцы меч в титанах найдутся троны за дождями в тучах не унимайся влага у кувшина не иссякай отвага у кошмара не разорвать повязку золотую не расплавляется клеймо-кольцо… Я ГОВОРЮ: В СВЯЩЕННЫХ ЗАЛАХ ДУЕТ, но бьется над колодцем колесо! ТЫ ДОМИК С УШКАМИ ИЛИ УЛИТКА ЗА ЧТО ЕЕ ЗА СОРОК РАЗ УБИЛА ЛИШЬ НЕПРИКАЯННОСТЬ И ПРОСЬБЫ СЕРДЦА «НАС НЕ ОСТАЛОСЬ» ЕСТЬ ТАКАЯ СЕКТА А ИГРЫ В ИКС В ИСТОРИЮ В ИСКУССТВА НЕ ДЛЯ ЛЮБВИ А ЧТО ЛИ ДЛЯ ИЗГОЙСТВА ТВОЙ ЗАЛ ЗЕМЛЯ СКОРЛУПКА ДЛЯ МОТИВА ЗА ВЗМАХОМ НЕМОРЕЙ КОРАБЛЬ МЕТАЛЛА БЕЗ ЯКОРЯ КОМПАСА ТВОЙ ВОЗНИЦА НА МАЧТЕ ПОД НАЗВАНИЕМ БИЗАНЬ ДО ДНА МЕНЯ ДО ДНЯ МЕНЯ — ВОЗВРАТА, — Я ГОВОРЮ В ДЕНЬ ГНЕВА В ЭТОТ ДЕНЬ!Колыбельная
Тихо-лихо. Да шесть бьют на башне часов. Хлад и ландыш в душе. Дверь у тварь на засов. Спи, ребенок людей. Лодка, лунность и шест. На звездах шесть друзей, потому что их шесть. Шесть над морем шаров, — фонари кораблей, шесть шаров — шесть голов, в глазиках — шесть гвоздей. Море-цепь, море-тать, с весел каплет испуг. Будем рты целовать, два детеныша рук. Спи, ребенок морей. Лодка-люлька и шест. В воздухе шесть зверей, — в ножках выросла шерсть, лобик вырастил рог, шесть клешней — рыба рак… Спи на море морок мой ребенок-рыбак. Что-то воет не волк, нет мозолей в горсти. Два детеныша вод будем в грусти грести. Ведь пока что у нас качки нет, — море-муть. Месяц лун красномяс, лун, а может быть, Муз.Десять лет спустя
Твой фотоснимок (вот Вам, Волжанка!) в Париже. Твой без тебя. Полюбуйся: я — ртуть во рту. Май не по мне: даже в Дувре твоя Джоконда. Я не люблю люмпенский абрис ее. Мне Леонардо лишь гений лица, но не кисти. Ты их любила. И вот фотография — факт. Мертвый мазут. В Сене снуют сигареты. Я фотоснимок тебя… Я посмертный — сюда?! Радость моя! Скифы скитались прежде Парижа. Нам не дана (бойся Данайцев!) ересь Европ. В лицах есть что-то: ответ на себя? тост телячий? Я без себя. Да и кисти мои не у лиц. Жалко Париж. Я был… как бы не был в отеле. Твой фотоснимок не совместился ни с кем.Третий Париж
В отеле «Викторья», плац д’Итали, у сквера Верлена хозяин-араб, но безработица, в сквере же меж дерев монумент, но не Верлен, а майор-интендант, как и у нас — военный, а окна мои выходили на монастырь, одно как окно в номере, а второе — дворцовая дверца, незастекленная, был умывальник с водой, лимонное мыло по генеалогии древа Бурбонов, и я босиком с кровати крался на водопой. Вишневая водка стояла в шкафу, но не инфернальна, — ее я не пил. Для гостей? Но и гости не пили ея. Входили и выходили, но не на монастырь, а интеллигентно, — вот выбриты! до вибрации лиц! Брился и я, — весь в синем вельвете. Весна. Все уже заговорили по-польски. Я загоревал: ведь французский я знал наизусть. Я явился в Париж тверд и с целью: творческие поиски. С искусством уже приискал: и араба отель полюбился и майор не хуже ничуть. «Верлен и верлибр!» — срифмовал бы и новый папа-итальянец. А «Аполлинер и апрель» — я в Варшаве еще рифмовал. Дул дождь, как ветрами. Я взял зонтик. Что это? Стриптиз или танец? — Протестовали студентки-спортсменки у входа в бассейн под дождем. Люблю социальные сцены. И ноты протеста: когда не впускают в бассейн искупаться в одежде от хлада — впустить! На Монпарнасе в качестве живописи ультра-портрета музей Барбиду. По нервам понравился. Не оцениваю. И пусть. Воздвигнули Черную Башню — четырежды выше Эйфеля. Бессмертная башня. Французы и в архитектуре сильны. Эйфель был берцов. Боже-башня уже из кайф-кафеля. Уйди из Парижа — увидишь ее из Советской страны. Зачем же я в трату валют (все ж с оговоркой — обмена!). На аэротаможне аэротаможенники (наши ли?) нашли, мне карманы проверивая, четыре грецких ореха, их били кувалдой, искали брильянты короны моей и огорчились, что не нашли. Мне сердце предсказывало: не будь индифферентным, ищи интересных людей, нет их в номере, ты, гамадрил. Но Джонни Бурбон мне был ни в коем случае неинтересен: я пил с ним водопроводную воду из крана и сигареты «Tanja» курил. Он в банке служил банковским служащим, чтобы, как рантье, работать: картинная галерея, дворец в Жермини, три дочери-шарм и бушуют, но пред будущим робость: что сын не предвидится — возраст жены. Последний Бурбон, Джонни плакал чуть ли не по-королевски: последний мужчина в роду — последний Бурбон! Я его утешал, что и Фаэтон был последний в коляске, и что каждый мужчина — последний мужчина себе… Барабан гард-републикен в двенадцать ноль-ноль раздавался! Есть у Столицы статут, а в двенадцать-ноль-ноль у Столицы стресс: обычай обеда: цыпленок и беф челюстями от шкур раздевался, здесь к цыпленку и бефу, я бы сказал, — неиссякаемый интерес. Художники из киноискусства, консьержки с ключами, дельцы и девцы, чиновник и человек, премьер-министры и диссиденты, комиссары полиции и клошары обедают с двенадцати ноль-ноль и в четырнадцать ноль-ноль закрывается чек. Пустеет Париж. Два часа иностранцы, не зная инстанций, вне нравственности народа. Пьют пот и завидуют злобой, им нет интервью. Им ответ: «Обедает двести двадцать четыре миллиона зубов. Осторожно!» Пой, хор херувимов. Хороший обычай — обед. О женщинах. Думается, элегантность в них есть. Но с волосами старались не мыться. Мы моемся чаще, но я не рискнул бы отметить — вовсю. Я фемин уговаривал по-французски, без акцента: «Вот мыло! Вот миска!» Не мылись. Так и уходили без поцелуя в растительных волосах. О чем же отчет?..Прага-76
1 В Праге у меня было три врага: КАМИН КОТИК и КАТАПУЛЬТА. 2 М. Цветаева любила горы. Простите, автор Горы, не панибратство, — у Пана люди — рода мужчин, братья. Сестрам — живот людства. 3 Пражской Весны я не видел, не люблю я весну. Там, как говорится, Читатель очнулся или… очутился? Думается, Злата Прага за цветенье Сада себя не в ответе. Я был в Москве. Я привез семьдесят с чем-то проз о «Летучем Голландце». Рукопись сью из-за формализма отвергли. Л. Брик сказала, как в мифе: «Отвергли от века». Ей да простится. Ибо как видим — не век. 4 Про Переделкино нео В. Катаев напишет. Вот где венец торжества вам, юнец из Литинститута! Знаю одно: пес-медвежон б.пастернаков меня не искусал. Знаю: убили ворону, дружившую с кошкой, на даче, где К. Федин. Дети убили, двойняшки. Из мини-ружья, пневмопулей из магазина Пражской Весны, (привез им К. Симонов). Похоронили ворону, — с крестом. Кошка немножко повеселилась с рыбкой у речки, а после повесилась (чур! — чертовщина!). В общем, висела на ветке с хвостом. Все ходили туда. Самоубийство кис-кис в Переделкино, — свежесть сюжета, пис-атель! 5 Р. Якобсон с ужином в два графина, чуть бельмоват, птицелиц, худ, с недугом структурализма, мне возражал на прозы меня, что вот ведь как все взлюбили чрез поколений чреду калмыка Ф. Кафку. «Он не калмык, — отрицал я, — дважды в фамилии „Ф" — это знаки Эллады!» «Нет, он калмык, — Р. Якобсон был обрадован обре, — (утром Л. Брик звонила: нашли на участке, под яблонями, и по линейкам квадрата забора — 121 белый гриб! пока мы выясняли семантику слова Ф. Кафка) в странах славянства все пишут как мы — по-калмыцки!» Что он подразумевал? — мы напролет не болтали. Я смешно не потел, я не провидец, я знал: За МАЕМ — ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ и вот Прага моя — ноября! 6 помни синекдоха Поэму Горы и Смиховский Холм и Мост из Поэмы Конца минули годы и камень смененный плоскостью Ни Кем не снят Гору Ни Кто не застроил дачами полисадниками не стеснил все охранились овраги вверх дном ни один перевал город Мужей и Жен на развалинах счастья Вашего Марина у Вас не встал воздух блажен и не больше Ни Кто не грешит без лавочников не лгут очи мои не ослепли на отдыхе нет барышей крыши с аистовым гнездом… напрасны сарказмы крыши из черепиц тяжесть фундаментов Вашей Горы у горы лишь фундамент Земля Горы времени Вам Марина что Вам до Горы кратер Ни Кто не пускал в оборот Везувия льдом не вязал девками дочери в стайки не встали к Мосту типа поэта нет средь сыновей дочь не растит ребенка внебрачного сын цыганкам себя не стравил вот ведь в итоге-то вывод: счастье злачное на Ни Чьей крови. Я на Карловом Мосту. Все ходят. Не сетуя. Туда и сюда. Как я смеюсь в синтетике, пью пиво из Пельзни с цветной икрой. Пражским газетам позирую я весь в развевающихся волосах… Мойщики окон Людек и Людвиг моют со смелостью — мое окно! 7 Я жил на площади А. Павлова в квартире профессора В. Ч. невдалеке от шумихи для иностранцев «Швейк». Не иностранец в нем я не был: Я. Гашека там не любили ни ночью, ни днем. Второстепенное впечатленье от квартиры Ф. Кафки: ничего, — нищета. В ней или где-то поблизости торговали браслеты. Купил версальский браслет. 8 Восьмая глава! Воспоминанья: Веймар. Жил в хижине Ф. Шиллера о трех этажах. Нянчился с прозой штурм-дранг по-немецки. Готическим шрифтом. Был в Бухенвальде. Не понравилось: для экскурсантов из иностранцев. Не иностранец. Мне познавательность — всуе. Лотта (не из Гете и не из Т. Манна), — симптоматичная, но симпатичная фрау семидесяти шести лет, Хранительница Сокровищницы Поэта, — меня любила: я не пил, как солдаты. Она с восхищеньем старухи смотрела, как я выводил на драме Ф. Ш. «Лжедмитрий»: «Германо-Советские связи». 9 Ф. Кафка был чех. Но писал по-немецки. Действительно, гениальность провидца, — о Многоножке. А. Крученых был русский. На шесть лет младше А. Блока. А. Крученых — известен: — под кличкой «дыр-бул-щыр». А. Крученых писал: В ПОЛНОЧЬ Я ЗАМЕТИЛ В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого, величиной с клопа в красной бахроме ножек. Прижег его спичкой. А он потолстел без ожога, как повернутая дном железная бутылка… Я подумал: мало было огня?.. Но ведь для такого — спичка как бревно!.. Пришедшие мои друзья набросали на него щепок, бумаги с керосином — и подожгли… Когда дым рассеялся — мы заметили зверька, сидящего в углу кровати в позе Будды (ростом с 1/4 аршина). И, как би-ба-бо ехидно улыбающегося. Поняв, что это особое существо, я отправился за спиртом в аптеку, а тем временем приятели ввертели ему окурками в живот пепельницу. Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши, а кто-то накаливал спинку кровати на свечке. Вернувшись, я спросил: — Ну, как? В темноте тихо ответили: — Все уже кончено! — Сожгли? — Нет, сам застрелился… Потому что, сказал он, В огне я узнал нечто лучшее! Так А. Крученых писал лет за двадцать до Ф. Кафки, лет за тридцать до Э. Ионеско и Беккета. 10 На Еврейском кладбище я был. На стеллах написано по-еврейски. Чему удивляться? В квартире профессора В. Ч. на всех 573 куб. м. пусть не стеллы, — хуже! — все стеллажи в книгах, написанных по-китайски по-корейски по-японски по-бирмански по… как у Эдгара По! — ничего себе, — квартира была в иероглифах. Хоть бы слово славянства! — профессор был востоковед-ориенталист. Хорошо хоть его самого — В. Ч. — я не видел. Дали ключи — я и жил. 11 Я лишен любопытства. Не люблю наблюдений. Но в лоб окна без занавески стояли за лакированным красным стволом каштана два! стрижены струнки их двух голов, чернокостюмцы, с медалькой на лацкане, локоть к локтю, — как им стоялось? — сутками суток! Я включал свечу — они включали фонарик. Я выключал — выключали. «Живи и жить давай другим», — сказала Екатерина. Сочувствую способу существованья. Зависть… — за весть? 12 КАМИН: Прага моя Ноября! Стужа и дождь леденящий. Я радиопьесу писал. На столе стояла сова из фарфора. Из женщин: лежала в футляре от скрипки бутылка вермута «Бланка». Я вылил вермут в ванну. Ванна Вина. Как мне КАМИН? Был коварен КАМИН. «Иду на Вы» как Святослав не восклицал. Май миролюбья, грел мне, мурлыкая, ножку в сапожку. Ночью он отключался. Я думал: система. Оказывается, отказ. Я в простоте душевной, он — лицемер! — меня на обман: в Третий День Творенья Меня в ЧССР он погас. Как, проклятье? Кто и где его обучал? Я вошел из дождя, он облучал в две спирали мое пой-пространство. В комнате — как солнечно! Танц на ковре саламандр! Я сел за стол с пепельницей в солнечном состоянье. Он — угас. Как! — не постепенно, с предупрежденьем — сью же секунду! Я не люблю борьбы и не боюсь катастроф. Я уходил — он вспыхивал пламенем лунным, несмотря на розетки, трансформаторы, штепселя. Я приходил. Я приходил, он позволял так сказать без пользы протянуть ноющ-ноги к домашнему очагу (о отдохновенья!) и… сукин сын! — гас навек и бесповоротно. Зубы звенели под одеялом из пуха! Сосед В. Л. был по профессии Министр; взаправду же оказался Мастером по каминам. Стоило Мастеру взять в сильные руки свое оружье, — трус-Талейран в момент загорался ровным негасимым огнем. Сколько В. Л. ни исследовал систему подключений и пр. — КАМИН горел, не шелохнувшись. Мастер-Министр рассердился: я издеваюсь над милым электрическим существом, оно исполнительное, исправное… Я сам — садист! Логика здесь не легка: в выводы не вдаваться!.. Еще не затихли шаги выговаривающего В. Л., как он по ступенькам ко мне взлетел и обезумевшим шепотом взвыл, что у него телевизор — взорвался! КАМИН он — винил. КАМИН злобно помаргивал, а потом погас: он сделал свое дело. Описывать злоключенья с сей тварью, — о к псам! На Башне каждый Апостол крестился: «КАК МИНЕТ КАМИН НАС!» КОТИК: самый самый, пестренький, самка, с виду котик и котик. Но невидимка-хозяин оставил записку: КОТИКА в комнату не запускай во избежанье избитья им статуэток, где я сплю, и упражнений им на цветочках-цепочках (живут, вися на окне), которых КОТИК любит и губит. Я закрываю с ключом цепью дверь, я ложусь. Луна, на ковре фосфоресцирует тень от семиглавой лампы-Дракона, — вот вам, Восток, — созерцаю. Вдруг: кто-то карабкается на кровать. Включаю люстру Великого Могола, встаю: КОТИК лежит как ласточка на кроватик. Дверь на ключе, цепь цела. КОТИКА за шиворотик, дверь открываю, выбрасываю, ложусь. КОТИК ругается по ту сторону двери, царапается, как цапля. Три таблетки. Тушь-тишь… Вдруг: кто-то лапой как эскулапой бьет по морде, кусает глаз как миндаль. Встаю, включаю люстру Ли Бо: КОТИК в кроватик, рвет как рвогик ночную косынку из США (власы мои смерзлись, мыть негде, Ванна полна Вина!). Ключ не колышется, — бронза! Я перещупал все щели, выбросил КОТИКА, я ложусь… Не из щелей… Лег я, к двери подполз: КОТИК взял зажигалку и свечку зажег, взял из шкатулки ключ, точь-в-точь, как мой, прыгнул в дверь, вставил ключ и раскрутился, как на турнике: дверь открылась! Дверь была с двойным замком. Как у тибетцев. КАТАПУЛЬТА: У профессора В. Ч. был револьвер из Калькутты, валялся. Водопроводчик П. Э., ходивший ко мне за водой, (в Праге в моде вода, но она — лишь в квартире ориенталиста!) небритый, набредший в поисках всечеловеческой влаги на Ванну Вина, скопировал за семнадцать часов семнадцать револьверов. Мы стали стрелять: Я, водопроводчик П. Э. мастер-Министр В. Л. мойщики окон Людек и Людвиг, позавчерашний однофамилец Президента ЧССР В. Н. (теперь: Председатель Чешско-Эстонского Общества Хуторян, — вся Прага взаправду изучает эстонский язык!) директор издательства «Одеон» К. Т. (он позавчерашний директор пивной «Швейк»), Милан-метелыцик и (так ли?) теперешний экс-епископ Праги Ц. Т. Все стреляли как все. Епископ же, чтобы остаться неузнанным, вот что придумал: переодеванья. Я снимал для него рейтузы, рубашку и ночную косынку из США. Он снимал мне сутану. Он, как казалось всей Праге, — стрелял как советский гость, я — как экс-епископ в сутане. Замаскировались. Время от времени кой-кто всхлипывал в Ванне Вина. Не Кой-Кто его увозил на санитарной машине, как утопленника из Влтавы. Куда мы стреляли? куда ни стреляй, — попадешь в статуэт из нефрита, или в шкатулку из кости слона, или в монету из злата эпохи Дзен. Хозяин мне музицировал в телеграммах: мы — пьянь, мы мерзавцы, а КАТАПУЛЬТА стреляет в десятку. Мы и стреляли: из двух окон в тех двух Чернокостюмцев, те два погибали под шквальным огнем по-геройски, но утром, не опохмеляясь, вставали и с прежней яростью смотрели сквозь окна в меня. А КАТАПУЛЬТА с пресловутой десяткой? Хозяин — хитрец. Но кто ему, ритору, верил? Мы-то знали, какой у него КАМИН и какой КОТИК! 13 Тронность главы Тринадцать дарую друзьям. Гибель-глава: 28 мая 1977 г. покончил с собой Художник Н. Г. Возраст — 54 года. 4 августа 1978 г. покончила с собой Л. Б. Возраст — 86 лет. 6 января 1979 г. покончила с собой М. С. Возраст — 40 лет. М. С. мне писала: «Радость моя! Ты повсюду сеешь смерть, сам живой!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . С Богом и платочек, В. Незвал! Не переводите больше, К. Чапек, французскую поэзию П. Верлена по-чешски, потому что найдется поэт, любитель стран, который переведет француза П. Верлена с перевода К. Чапека по-русски и скажет с каждым: «Это мое и это мое же».Польское (реквием-речитатив)
С 1572 г. в Польше существовало право свободного выбора короля: Сейм избирал марионеток, которые укрепощали войнами, обогащали хлопами и удовлетворяли удовольствиями шляхту. В 1660 г. Польша была чуть не самой могущественной державой Европы.
В 1660 г. Польша вела войну с Россией: Сапега и Чарнецкий разгромили наголову князя Хованского близ Слонима, на границе Польши; князь Долгорукий разбит на Проне; у князя Трубецкого — пораженье за пораженьем на Украине; граф Шереметев на Волыни теряет весь свой обоз и четверть стотысячного войска; Григорий Хмельницкий, сын Богдана, разбит под Слободицей и поставлен на колени перед Польшей. В ореоле славы побед, изумивших и испугавших всю Европу, король Ян Казимир предложил Сейму избрать ему преемника при его жизни. (Король Ян Казимир был последним отпрыском из рода Ягеллонов.) То есть: воспользовавшись «политическим положеньем», Король хотел сделать власть преемственной. Тогда были бы сильно ограничены права и самовластье олигархии шляхты и государственный бюджет расходовался бы на государственные нужды, а не на полонезы и ничем не обоснованную гонку вооруженья державы.
Сейм ответствовал воплем негодованья на такое предложенье. Сейм ждал смерти последнего отпрыска, ждал бескоролевья, — своего полновластья. Шум. Хамские выкрики. Брань. Не помогли и принесенные Чарнецким сотни знамен, трофеи только что прогремевших побед. И Ян Казимир среди немости, скрывавшей затаенную ненависть, произносит слова:
«Дай Бог, чтобы я был ложным пророком; но если вы не примете мер против тех бедствий, которые угрожают стране вследствие ваших пресловутых прав свободного избранья, славная республика станет добычей соседних народов: Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, Австрия возьмет Краковию и Польшу. Каждое из трех государств предпочтет лучше разделить Польшу, чем владеть ею безраздельно, но с сохранением ваших вольностей». Ян Казимир отрекся от польского престола. Он оставил Польшу и уехал во Францию. Жил он: между молитвами в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре и ласками Нинон де Ланкло, между торжественными мессами в монастыре Сен-Мартен и безумствами-оргиями в доме известной прачки Марии Миньо (в грядущем — жены маршала Лопиталя). После отреченья Яна Казимира избранье короля уже не будет руководствоваться ни попытками нравственности, ни историческими традициями: все связи с прошлым прерваны.
(из В. Бильбасова)ПОЛЬСКОЕ
Я ДАМ ЕМУ ЗВЕЗДУ УТРЕННЮЮ. Ему? Кому? В костелах утрат с кем с камнем за ключ заключаю унию, униат? С тем ли, кто по Польше ходит, пошатываясь? Пропустит про Польшу и Рима кумир. Не трогает СЬОМЫЙ, как в сейме сказал, проща…ясь Ян Казимир. Как пил он в Париже и прачкой Миньо ненавидимый листал ее Лопиталю и мессы с коленями поз. Хлоп не надрывался, а шляхта в шелках, — чуть ли не в Индию, — полонез. Так умер Первый Король отказа от трона у родины. Посягнули псы по предсказаньям тебя, — сабель свист! Сумятицей сейма!.. Так «плеть и петля» вписали Романовы: «СБЫЛОСЬ». Я дам ему слезу венчанную: Мицкевич, Конрад, Нижинский, Аполлинер, — Беглецы — от любви? ВОЗДУХ ВОЗДАСТСЯ ЗВЕЗДОЙ ВЕЧЕРНЕЮ. Благослови!Заворожённые дрожки
1 Запытайте Артура в зоопарке тигра́ми, — было было аттуда шесть слов в той телеграмме: ЗАВОРОЖЁННЫЕ ДРОЖКИ, ЗАВОРОЖЁННЫЙ ДРОЖКАЧ, ЗАВОРОЖЁННЫЙ КНЬ. Чернокнижник Бен-Али плюнул мне в мою душу: «Тоже мне, на безделье — заворожить дрожку! Взять фиакр за вожжи, в глаз — специальная брошка! вот вам и заворожены дрожкач ваши и дрожка, но не конь!»… Белены ли? я к нему с кружкой пива: «Как с конем быть, Бен-Али?» «Нет. Обжулили пана». В брамах велосипеды. Почтальон встал как пика. Выросли мои волосы до фонаря переулка: ЗАЧАРОВАННЫЙ ФИАКР? ЗАЧАРОВАННЫЙ ФЕОКРИТ? ЗАЧАРОВАННЫЙ флаКОН? Рыбки в струях из крана… Я клянусь моим именем: крыши сребрен-Кракова, как «Secundem Ioannem», бомба в лужах, чителник, вверх рука восходила, сбросив лампочку в чайник, мне жена вскипятила. Я пошел искупаться, взял карету, а кучер спит, усы из капусты, лошадь прикуривает от кур. Как хотелось поплавать! Остается поплакать: кучер мой заворожен, или же заморожен? Нет монет в телефоне, но магнит в телеграмме: ЗАКОЛДОВАННАЯ КАРЕТА, ЗАКОЛДОВАННЫЙ КУЧЕР, ЗАКОЛДОВАННЫЙ КОМОНЬ. 2 Я звонил вам, Бен-Али? У меня есть ведь алиби: с улицы Венеция до Сукенниц вели меня с тростью то Артур то Ронард а это не так-то уж и просто: там одиннадцать на одиннадцать ступениц а Луна висит на тесемке в форме стихотворенья «рондо» извините я не изваянье чтобы меня несли с тростью через весь ночной Краков 3 ночные ЧУЧЕЛА КРАБОВ ночные КУРСЫ СТЕНОГРАФИИ ночной КОРОЛЬ СПЕРМОГРАММИИ ночные КОРСЕТЫ КОЛУМБА ночной МОТОЦИКЛ, ночная АКУЛА ночной ПАРИКМАХЕР, ночной МЯСНИК ночной ХОР МУЖЧИН «СЕМЬ ЖЕНЩИН И МАЯТНИК» ночная КАПУСТА, ночное МОЛОКО ночное ТАНГО «МАКАКО» ночные СЕГОДНЯ СОСИСКИ С ХРЕНОМ ночного ЗАЙЦА ЗАВТРА НЕ ЖАРЬ С ХРУСТОМ ночной указатель КОСТЕЛ ЗА БОТИНКАМИ ночная вывеска ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЛ ЗА НОЖ в общем, ночные собутыльники: всеобщий ветер, всеобщая ночь. 4 Мы присели на крыльце «Морг для негра» у дома этажа. Над крыльцом висели негры с неживыми телами. И — о Боже! — у крыльца с петушком — троица и та же, процитированная в первой главе, в телеграмме: ЗАГОВОРЁННЫЕ ДРОГИ, ЗАГОВОРЁННЫЙ ДРОГИСТ, ЗАГОВОРЁННЫЙ драКОН. А с Марьяцкой башни сваливаются свечи, как со спиралью лампочки. А у коня, извините, живые уши, как у лошади. 5 Как бежит как бешенец — конь, трясет виолончелью. Буря дует в губы невесте под вуалью. Невеста и матрос: вишня с маком из сада едут едут в дрожках, близится свадьба. Матрос, как все матросы невестам предатель, уплыл на семь лет в море, чтобы избавиться от семейных петель, и съел его не кит Земного Шара, а в Лондоне — пудель. Невеста ж хранила сердце со смелостью: умерла от любви естественной смертью. Поскольку ж любовь — великая сила, она и после смерти их соединила. Вот ведь: на заворожённых дрожках, а не как попало едут едут пан младой и млада панна. В костеле как стоя у живой колонны ксендз им связывает руки двумя кольцами. Влюбленная с влюбленным смотрят око в око: первый поцелуй!.. Но осторожно: ведь над миром мерцает месяц — лунный мерзавец, потому… поутру: вход в костеле, где ангел есть и был застекленным, — все исчезнет на amen in saecula saeculorum ЗАМЕДИТИРОВАННАЯ КОНКА? ЗАМЕДИТИРОВАННЫЙ КОНДУКТОР? ЗАМЕДИТИРОВАННЫЙ КОНец. 6 Но в пивнице дорожкарской меж Кпьярской и Коменярской идет вальс «Зеленый Слон»! Сивый ус купался в Висле с огуречечком на вилке, — пьет с кристальной, сукин сын! Восклицает мэтр Оношко: «Пока дрожка есть в окошко, конь конем, а вожжи — вожжи, плавает вода у Вислы, пока задница на мясе, знайте: в каждом Божьем месте, до скончанья Мира в бозе, до свиданья с вами в бездне, — без вопросов «или»? «есть ли»? будет будет будет ездить, пусть не пышно, пусть не часто, пусть одна, хоть невесть чья-то ЗАВОРОЖЁННАЯ ДРОЖКА ЗАВОРОЖЁННЫЙ ДРОЖКАЧ ЗАВОРОЖЁННЫЙ КНЬ».Serwus Madonna
Пишут пишут книги о секс-страсть в сердце, грусть с позолотцей, грядущего Манна, я книг не умею, не умираю о славе, — Serwus, madonna. Не мне книг алтарность, альковность, труд у лун, Венец из ценность-металла, Tylko noc, noc deszowa і wiatr, і alkohol — Serwus, madonna. Были были пред меня. Придут inni ро mnie. Эта жизнь эбенова, а смерть лба медна, суть ли сумасшествий — проснуться в петле? — Serwus, madonna. Как твой шарф цветист, волос робость, мой клумбарий детства, ты чиста и мятна, роза грязь отмоет с рук, издаст венец из роз, — Serwus, madonna. Стой, стиходвиженец, мошенник у мула, радость мне — редакции, полиция на конях в мордах, смейся, мать не мне, любовница, муза, — Serwus, madonna.Баллада Эдгара По
Бил Верховный Час: двенадцать! Думается, что мне делать над финалом фолианта Знаний Индии и Дня? Змийка с глазиком бурлила в колбе винного бокала. Глаз-фиалка, глаз-фиалка заморгался у меня. «Древо Знанья» — дурь за темя: «Мир лишь звон, а мы лишь звенья»… Вот ворвется с тростью Зверя Гость! В сорок третьем декабре мне соль Столиц — свистулька в Бремне. Мой камин — как мак! — спиралью электричества у лир. Я смотрю в санскрит, — смеяться! Пью — о сеть сердцебиенья! Что слеза моя стрекозья — бюсту женщины Линор! Я, блюститель фразы, Муза, здесь на чердаке маразма, где в оконце — из мороза лавр! Как из Индии за Невский запахнемся занавеской за Нью-Йоркский тост Леньградский: «кто там тростью в стекла бьет?» Может, молотком из бронзы сам Э. По, скиталец бездны, хочет мой лимонец брынзы съесть, связать меня за бинт? Но мы с ним, как с че-ловеком По-дойдем лечиться к чашам, руки к рукописям, к чтеньям, — Брат! Стужа, стужа у камина, припустил я два колена, встал я — столб у кабинета! — ив оконце дал вопрос: — Сэр, — спросил я, — что ж вы бьете тростью в стекла, как в балете Люцифер в цилиндре? Бросьте! — все описано о вас. Улица переобута фонарями Петербурга, двор-дворец, петух-петарда, — вальс! Люстры, все танцуют гибель, в кресле из сафьяна Гоголь усмехается с власами… Ус махается, Денис! Гоголю еще семнадцать. Площадь же уже Сенатска. Пушкин вычеркнут из списка. Лермонтова «демонизм» еще ящеркой в ресницах, еще рано на рапирах днесь! Что вам, Эдгар, наша Росса? Ваши рифмы — Аараф-роза, наши рифмы — риск и розга и кираса и Иркутск. Где вам с рюмкой-Реомюром — с нашим спиртом-Цельсий-рудам у Урала? — Улялюмы? Крестной кровью — из Искусств? Ваша дамская свинина — для дамасского сонета? Русский мальчик — с револьвером, — икс? Вот грядет он в бакенбардах, вот грозит Кавказу в бурках, в лодке-люльке на Лубянке пишет с пулей: «не винить…» Вот он в «Англетере» вены водит бритвой, — мы виновны, напустили крови в ванны и купаемся во вних. Наши женщины Елабуг, Рождества и в петлях елок, А не Аннабели Яблок ведь… Я открыл окно из тучи: рассекретить тайность трости. И взошел, бесцеремонен, ворон племени ворон. Именно: как пиротехник лапой встал на подоконник, он Линор мою, как мрамор — осмотрел со всех сторон. Он за крылья и не взялся, когти взял, на бюст взобрался, сел, и что ему воззванья вин! Все же я воззвал: «Ты выбрит, с хохолком, а Дух мой вылит в чаши. Кто есть кто их выпьет? — Ты пророк и я писец. Если выпьем — ветер выйдет в Индию. Ну кто вам верит, золотой, зловещий вырод с носом мифа? Не певец. Ты не трус, физиономья, Гость из Книг, Труба финалья… Как, ответь, твоя фамилья, птиц? «Никогда!» — ответил птиц мне… Дикция-то — радьо-песне! Мужа речь. Два льда в две чаши? Или — в залп и не до льда? Я, с лицом не социальным, с серпами волос и с сердцем, осчастливлен созерцаньем врана класса «Никогда». Я раскол внесу, как Никон, в птицеводство, птиценигиль, именем таким, как «Никог- да!» Существо сие в бинокле сидит на скульптуре-бюсте, перо в перстнях и в наперстках, с пряжкой в башмаке — нога. Пожалей меня, варягу… (на звездах друзья! — вдруг вздрогну, я писатель письмен в строку, — ни двора мне, ни кола). Грустно мне, о град Царь-Токарь!.. Не бросай меня и ты хоть, будем в масти вместе тикать… Вран мне — в рот мне: «Никогда!» Рот мой — ряд парадонтоза, а язык — лишь перифраза… От Иркутска до Парижа и к Варшаве чрез Тюмень, — телефоны-лафонтены: я повсюду ел лимоны, фруктожвачное, я лимфы из посуды пил в темень. Жуть жива: чердак и чаша, клавиши, чаинка Часа, в форточку балтийска чайка — День? Что ж ты подразумевала, птиц мой, вран мой после зала, где мой Рим рукоплескала публика оваций-сцен? Как я жил и с каблуками как я шел и как балконы — в цветиках под колпаками! — Карфаген и Сципион!.. Как твердил меня червонный туз мой, Герман, тост чиновный, нелюдь я, — он Человечий Сын! Что ты си́дишь, си-барита, Ев англист от Серафима, ты — гостилец мой, зачем ты философью заучил? Не Линор ли шла, звенела платьицем по доскам Звука, но по звуку не закапать — микрофон озвучен в зал. Залпом, залпом! — пей мой за Ли-нор, за Сорок — Век Зозули! Струнки в страйках: все мы Звери, — льзя ль? «Никогда!» — ответ. Я думал: ты вещь жива, дай Бог — дьявол, буду жить, как ты ж, у дуба — ни Линор и ни труда. Но ответь мне: в том тартаре встретимся ль мы с ней и так ли, пусть не в ситце, не в тиаре (извещен я: нагота!). Будем ли мы там и те ли? — души пусть! — не трать о теле, говорить хоть с глазу — то ли? — Никогда! Будь ты проклят, птиц-заика, Nevermore есть слово знака из латыни льдинка звука, — испаряется вода. Ты, владелец птичья тельца, ты, оратор, ты, тупица, так в моем санскрите текста этот знак уже — вражда. В этом доме на соломе, в этом томе на слаломе мифов, грифов, — веселее нам, висельчакам «всегда». Есть «всегда» для нас цитатник: «Во саду ли Ганс Цыпленок, в огороде ль Кюхельгартен, в результате ль Бухенвальд?», то есть Книжный Лес, а в оном — мой Читатель, — о не овном! — с перстеньком и с омовеньем сам идет с костями бед, в лакированной перчатке бьется в тесной он печурке, мы смеемся; — Пой по Чаше, бард! Вран «всегда» сидит на бюсте, я «всегда» пишу в бумаге тыща первый и две тыщи семьдесят девятый год. Он с глазами, я с глазами. Оба смотрим в оба: гири на Часах!.. И с градусами в наших чашах го-о-лод. И «всегда» Линор из ситца яды пьет в Нью-Йорке секса, И Священного Союза гимн!Прощанье Аристофана
Привет, птицы, европ, азий, билет — в климат! Сто раз по сто сто лет по сто, их лёт — эхо! Как три тучи!.. На трех тронах вождей вижу: вот мой ворон, войной — филин, восьмой — аист, — галер циркуль, в веслах гоплит, гребец свадеб! Своя круги во все ветры вперед, птицы! Язык дал им, а за морем, — за мой, птичий! За чет-нечет творил триптих а ты — что ты? Язык в нёбе заик-нулся: не чет-вертый! Что мне в Небе на безлюдье?.. Хотя людям я им имя я с них слова не взял… Не дал.На холмах Эстонии
Что же мне делать? — я люблю львов. Правда, использую, а не люблю дев. Люди пусть в люди идут. У меня в ладошке лед: любят полакомиться льдом львы, а их — два. Вот по моим холмам, где лунный эст и́дет, невинец, бульк-бормотух, и за ним львы идут. На бульк-башке у Идущего ведро производств, — эст в опасеньях за ум: все же их два и в глазах у них икс. Львам ли бояться меня? Человекобоязнь лишь у людей. Но и я не людоед. Я их кормлю кроликом. Кровь им нравится без всяческих предрассудков… Шел дождь-оркестр, — капли моих литавр. Двум опасаться что: угроз нет им, — ни клетка-зоо, ни удар ружья: ходили на лапах по холмам тяжелые львы, или лежали, облизываясь, как звери-птенята без знака отчизн в моем уме.Вечер на хуторе
Три розы в бокале, три винных в водице, машинка… на то — натюрморт! Вот аист пинцетом хватает лягушку на блюдечке на крыльце. Он клавишу клюнул как Муза — мизинцем! Вопрос: неужели нельзя? — Клюй, как же! — Но аист взмахнул над холмами и красная флейта в устах. И красные ноги зачем золотятся у аиста, как у пловца?.. Луна вся в цитатах, в кружочках — мишенью! Ну — целься! целуйся! — пейзаж… Вдруг вздрогну:…где аист?.. Машинка-молчанка. Нет выстрела… Не поцелуй.Листопад лягух
Кусает ухо Муза мух… Не август — листопад лягух. На листьях, вервиях ветвей на фруктах в кольцах как Сатурн сидят лягушки без людей не квакая как век в саду. Как августовские Отцы… Но лягушатами литот как в воду в воздух как пловцы не прыгая, — вот-вот летят! Как лыжницы с прищуром лиц лилипутянки-молодня кидаются как псицы львиц в окно в горящее в меня!.. Я в зубы взял язык цитат. Им лампа — маятник для игр. И пальцами цепляются за волосы тебя, Дали. Машинка мужества, ликуй: на каждой клавише — лягух! Малюсенький мечтатель-будд, счастливец в мантии писца, все бьется ножкой в клавиш букв, а букв не получается. Что лягушонок что зверек, у нот энтузиаст-звонок? Любимец живности пруда не бегай к небу к потолку не упадай: в огне плита, — людей светильник не потух. Как междометия — камыш! Ждут рыбки нас в зерцалах дна… Не уменьшается, малыш, ненастоящая — Луна!Овечья баллада
Шесть белых овец приносили шерсть белых овчин. Седьмая овца была черная. Шесть белых овец обучили шесть белых овчат. Седьмая — не обовчилась. И стало на хуторе двенадцать белых овец. Седьмая стала тринадцатая. Одели в овчины двенадцать эстонских людей. Отъели овчатиной двенадцать эстонских детей. А черная овца — все черная.Баллада о двух эстах
Жили два эста на хуторе, — хитрость! Два бобыля. Но не брились в январскую стужу. Было же дело ближе к июлю: штепсель включим в аппарат электросварки, — брейся, курат, электродом бенгальским, — вспыхнет что ни волосок! То есть в июле они не оженились, а оживились: крыши у них не хватало, хоть хутор — из лучших. Вынули из огорода кормильцу-капусту, лестницу вывели из чердака и, чтобы крышу не красить, оную же из-за шума зашили лирическими листьями капуст. (Знай цвет: зеленай!) Так вот: Герберт из них ползал по крыше с бритым лицом как у слона и с задницей тоже в штанинах. Он прибивал к перекрытьям листья гвоздями из нержавеющей стали. (Мой молоток, знай, — звени!) Эйно: лестницу взял у лица на коленки, взнуздал мотоцикл и колесил по окрестностям хутора то по окружности, то по восьмерке с лестницей, чтобы она была у лица на коленках — ведь вертикалью! (Нужно признаться — с немалым искусством!) А мотоцикл был с коляской, в коляске, как ласки — бутыль был. Эйно бутыль был подбрасывал в воздух, Герберт глядел и глотал. (Вкусно не вкусно, хочешь не хочешь, а пей для новеллы!) Пил и не менее Эйно, рукой из коляски и для себя доставая. Так вот они и торжествовали. Солнце затем не затмилось, а Герберт затмился. Но по порядку: солнце еще не затмилось, близко бежали на хутора овцы с глазами евреек, дети-диети в цветастых платочках — их гнали. (Идти платочки для носа, но и на голове хорошо им, платочкам!) Дети-генети их гнали, а овцы шли на цепях, как белокурые бестии каменоломен Рима, — до гуннов. В воды у дома из меди ввели тех овец и утопили до утра. Вывели же корову, доили ее (красота!) — как улитку. (Вижу я, вижу с холма — уменьшительность взгляда!) Выдоили корову в ведро… Вот когда Герберт затмился. Солнце еще не закатилось, а Герберт уже закатился, с крыши катился, потом по холмам, после по лесу, дальше… уже на шоссе кто-то шел и окликнул: «Ты, Герберт?» Отклика нет. Значит, Герберт. Куда он? — к Ундине? Кильку ловить для еды? Петь, прибалт, Калевалу в переложении Крейцвальда?.. Эйно взывает: «Где Герберт? Курат! Туле сийе!» Герберта нет. Солнце за ним закатилось. Пейся же, друг-Диоскур! Выплесни из мотоцикла в хутор бензин, — воспламенится вовсю! Герберт очнется, раскается в том, что затмился, что закатился прежде, чем солнце… Мышцы обдумает мозгом, в воздух взовьется и прилетит, как приятный король, — на огонек! Ты же не плачь, а плескай! Рифмой мужской «уголек» брызнем в бензин! — запылает, как залп! Если же не… до чего докатиться можно!.. Ты сам представляй: Гвадалквивир, эспаньолки, морская музыка, песни совсем не поют по-эстонски, тьма ни холма. Ни опохмелья. Хутор-отчизна не светит. Эйно-предатель не указует возврата путь. Ты — засвети! Вам будет лучше вдвоем. Вот — водоем. Камень-валун подвизается в нем в качестве супер-ресурса. Мы камень — возьмем! Купол высверлим дрелью, комнаты выкуем млатом, семьи соседей дадут из овец одеял! Будем бобыльствовать — больше! Ведь жизнелюбье — не женолюбье! Нам ли о чем огорчаться? Кролик роится в клетке стеклянной в роли метафоры мяса, курица в озере крутится в яйцах, ее уже потому что птенцы, клубни картофеля ждет сковорода маргарина, басом колбасы в свиньях во сне! Судак, четвероножка, бежит по дорожке в четных галошках. Что нам отчаиваться, — зреет в земле огурец! В новом дому-невидимке был-бульк-бутыль-бормотуха! Цокают мотоциклы, лестницы к раю растут! К жизни — нет жалоб!.. Только бы не затмиться. Не закатиться бы, Герберт, чтобы тебя не нашли…Полдень на хуторе
Сомнамбула-солнце. Медицинские пчелы сосут у жасмина бокалы-электроспирт. Драконы-деревья вместо фиктивных фруктов наудили на ушки вишенки — флирт-флажки! Холм хмеля! Петух пой-хутор, с ним пес пессимизма целуют (о не без цели!) за пальцы держат цыплят: кружится нетрус коршун, глаз — узкий… Китаец крови! О кто в копытах? Конь-кровосмеситель кует кониной осьмую овцу… Гул Голиафа! Овца, не ойкнув «Мой милый!» — молвит, еще «Мой мальчик, выйди в люди, как конь — максимум мяса, как я — в кудрях!» Здесь и змеи. Бассейн. Беседка. Одни в обнимку, другие в дружбе, купанье в каплях. Сервиз-сюрприз: зажрали зверя-зайца! У гадов гадовщина! Но жуть! Но ужас! — ежи из жизни смеясь, с мечами!.. Где гады?.. Змеи, где вам замена, — зуавы злодейства? — Не то, что нету: их с явью съели… Хочу хутор: уйдите, уймы народов в нервах! Один для оды я в мир явлен набатом Неба! Но больше — но Боже!.. Отдай мне отдых. Возьми восьмыми: пой-вой-змей-псину, коня конины, овцу ответа, ежей и иже… А дай мне а дальше СЛЕЗ СЬОМЫХ писателю письмен, о Небожитель!«Был август…»
БЫЛ АВГУСТ с уже леденяще еще дешевизна дождем. БАЛЛАДА: шел дождь и дрожал наш египетский дом. А В ДОМЕ спираль-кипятильник вываривал чай. ОДНО МНЕ — грустил фараон, иероглиф писал про Китай. ИЗВЕСТНО: он чай чифирил, иероглиф из нефти — не пить. ИЗ МЕСТИ он зелье варил — заклинанье от всех нефертить. ОДНАЖДЫ узнал он проклятье клейма о любви и разбил свой бокал. ОДНА ЖЕ ходила по комнатам хутор-дворца и ее целовал. ХОДИЛА вся в каплях купанья, босая, со взором в глазах. ХОТЕЛА, как и китаянки, а как-то: ответствий в звездах. В ПОДВАЛАХ вино изыскала и снедь, чтобы творчества волю связать. ПОРВАЛА Священный папирус… невинность ему отдала, так сказать. И ВЗЯЛ ОН то, что отдала и возникло воздействие душ. ЗАВЯЛА мыслителя кисть, испарилась в чернильнице тушь. КАЗНИЛ ОН верховных жрецов и рабов распускал. КАК ЗНАЛИ паденье Египта?.. Египет действительно пал. СЕДЕЕТ на хуторе в нищем дворце фараон, что ни ребрышко — нож. В САМОМ ДЕЛЕ: что сделается из любви из девиц, не папирус же из желтых кож, НЕ ТУШЬ из кривляний-кровей и не кисть из вассалья волос… НЕТ УЖ! — я не мерю моралью, я вывод всерьез: БЫЛА у меня китаянка на хуторе. Тоже боса. БАЛЛАД написал я с полсотни. Цвели и у нас небеса. НО НЕ обязательно же государством пожертвовать (иго! — и знал!) НЕ МНЕ не любить. Я любил. Но ее из Египта изгнал. ВОПРОС НЕФЕРТИТИ оставим музеям: обзор обозренья для всех. ВСЕ ПРОСТО, ПРОСТИТЕ: любовь есть изгнанье босых китаянок, иначе не творчество — грех.Босые листья
Мой дом стоял, как пять столбов, на холме с зеркалами. Топилась печь, холод хорош, а стекла-ртуть зачем-то запотевали. Как говорится, грусть моя не светла, направо дверь-дурь белела. Да в жилах кровь, как мыльный конь, к пункту Б бежала. «Конь-кровь», — я думал, — какие в сущности рифмы смысла? «Грусть в горсть», — как воду из водопада! — иссякла сила. Сад, как и после, опять опал. Но листья почему-то не улетали. Ходили вокруг дома, как воры-расстриги, как будто с холма Кремль увидали. Босиком, как скитальцы, они стояли на крыльце из цементу. Комары-мухи их не кусали: обуви на них нету. Я не гостеприимец… Взошла, как водится, луна: как в крестьянской балладе — свекла. Да дверь раскрылась, как от крыльев!.. Свистали стекла!«Не гаси, не гаси…»
Не гаси, не гаси наш треног: мотылькам не помочь у огня. За окном туман-море тревог: не гости, не гости у окна. Не грусти, не грусти… Но ни грез, ни иголки до завтрего дня. К потолку наш треножник примерз: эта лампа не греет меня. О не греет, а грозно горит! Мне не надо ни дна, ни вина… Даже голосом не говорит эта комнатная не луна!Дельфиец
Я собираю мраморные свечи рукой у Спарты в смертную суму. Ведь были слишком солнечные сутки: грибницам — гибель… Нечего к столу. Как поводырь, кружу себя по лесу, ищу клюкой… Но чужд и лесу я: повесил арфу где-то… Про поэму чуть шелестят у листьев лезвия. Я признаюсь: я нищ, но не безумец, но не Тиртей у хора. Я илот. Я знаю время: месяц-безымянец… Стою, — не спрятаться. — Стой, кто идет? Из-за стволов шагает в шлемах юность: тельцы фитидий, в кисти по мечу, гул у голов у них у легких емкость: — Ты вышел в день у леса. Почему? — Я собираю мраморные свечи. А потому, что Аполлон угрюм… — Ты нам известен. Где же арфа, старче? Ты выйди в ночь в лесу и мы убьем. — Меж двух дубов с вершиной в форме альфа… — Ты выйди ночью, лучше с фонарем! …на перекладине, поверьте, арфа повешена… Нет звона у нее!.. А ввечеру, когда мы кипятили, и плакала жена, и ели лук, в углу светильник бабочки кусали, — был эфорат… И вот вошел Ликург: — Уйди в Афины. Эти вышли с сетью, их семеро у дома, — все на пне! — Спасибо, царь. И я, как ты, седею. Я лишь илот. И ласки не по мне. — ТЫ ПРОРИЦАТЕЛЬ. ГЕНИЙ АМАЛЬГАМЫ. ТВОЙ ДУХ ДЕЯНЬЯ — ТАЙНА ТУЧ И СИЛ. КОГДА ПРИШЛИ ДОРИЙЦЫ И АМИКЛЫ, — НЕ ТЫ ЛИ В СПАРТЕ СВЕЧИ ЗАСВЕТИЛ? ТЫ ИХ УБИЛ. ТЫ СПАС НАШ РОД ДЕЛЬФИЕЦ! Но знай закон: у криптий нет сатир. Я царь, но здесь как вор… судьба в деснице.. — Тебе воздастся. — Я вошел спасти!.. Луна ясна… У кремня есть кресало, найдется искра им в моем гнезде. Я сел к столу. Поставив для квадрата и зажигая свечи, я глядел: Вот этих семеро. Вот взяли сети. Вот встали с факелами: сабли! свист! Я ЗАЖИГАЮ МРАМОРНЫЕ СВЕЧИ. Я — ВИЖУ ВАС. Я вышел для убийц…Дидактическая поэма
Я обращаюсь к пятистопным ямбам. Я мог бы амфимакром написать симфонию нимфетки и Нарцисса. Я мог бы в миг вторым клинком Алкея как страус клюнуть юношу в сосок: вот — сердца сейф, а вот вам ключ — Сафо. Мне вмоготу (мой Бог!) пеаном третьим третировать либретто о любви. И развернув пентаметр, как папирус, все о себе, об авторе, объять: вальсирую, завещанный от Бога, мне труд не в труд, скитальцу грешных скал, я — в зеркале, я — скалолаз-нарцисс. Но… возвращаясь к пятистопным ямбам. Но амфимакр у нас еще не наш. Симфония аука-скалолаза к У-кодексу поближе, чем к любви. А эру эволюции Алкея нам Лемнос объяснит у скал Сафо. А у пеана предопределенье: кто вы, солдаты сабель Ксенофонта? Пентаметр — Гнедич в яблоках списал. Как дон Жуана Гнедич, но Татьяна в концлагере облюбовала том, сочувствую субстанции судьбы, но плачь не плачь, а том — брысь-байронизма. Был Пушкин — эллин. (Все же пусть не Байрон!) А эллины писали не для дам. Нам эллинизм ничто и не в чести. Аннексия трилистника-трико! — Ну Анненский! Наш сад многолистажен. О трикотаже: Муза Мандельштама была обмундирована в хитон без пуговиц… Кузмин казним форелью… Стой зависть! Пересмешник-переводчик: у нас есть крепость, в крепости есть кресла, — пиши по шее получай свой сикль. Чей сад? Чьи вам читатель чудеса? — плюмбум свинца? или сонет свинины? библейки? рильки? лорки? элюарки? — чья форма — арифметика для рифм?.. Четырехстопный ямб менаду ел, он чтой-то чересчур четвероног, четвероножье же — питающ млеком… О ртуть моя! Журнал моя! До боли нам ясен путь: он — пятистопный ямб. Хотя бы тем, что не хитер в трахеях, не скалит клык, услуг не платит плугом, не хвалится хвостом, как волкодав (клыком ухватит волка, — все же трусит, все ж — волк, а сей — из своры, свой, дворняг!), не омолаживатель муз-молочниц и не молоконосец этажей ажиотажа… Чьим-то человеком с вассальными власами, без лампад не станет весь как есть на четвереньки: две кисти на кровать, две босиком на коврике, — о вынимай… вино! Мой стих мне ближе зарисовкой Зверя… Так в летописях Дария был пес. Ну мускулы, ну челюсти калмыка, ну молнья в беге, в битве так, как в битве… друг человека… Дарий одарил в знак дружелюбья (дружелюбье бойни!) кого бы? — Александра! кем бы? — псом!.. «Я в Индию иду! Там — индеалы! Моим солдатам зерен нет неделю! Мои рабы без рыбы и без баб! На что мне пес — он меч мне не наточит!» И здесь узрел он узел издевательств. «На что способен сей?» — все ж вопросил. «Сейчас лежит», — ответил просто — перс. «Так запусти ему на драку барса, пусть он — поступит!» Дарий запустил. Барс бросился; по правилам пирата; ревел, как на раба, кусал клыком!.. каменья кварца, восклицая воздух в окружности на пятьдесят в шагах. «Где бой? Где крови кружево? Где шкура пятнистая?» — маячил Македонский. «Пес, думается, спит. А барс боится», — ответил Дарий… Барса увели. И вывели слона. В столбах и в силе. Из пасти бас из хобота из кобра! И бивня было два — как двойня смерти… в окружности на двадцать пять в шагах. «Что пес, — постится? — взвился Александр. — Сломай слона! Уйми его, ублюдка!» Но перс сказал: «Я думаю, он дремлет. Слон трусит». Пес не дрогнул, пес дремал. «Так выведите льва! Ну носик-песик! Лев — царь царей! Он — Искандер! Он — Я!» Льва вывели… Сто тридцать семь солдат спустили цепи, обнажили шлемы к сандалиям… Действительно: был лев. Стоял на лапах. Львиными двумя не щурясь на лежащего не льва смотрел, как лев умеет… Пес проснулся. Восстановил главу с двумя ушами. Восстал на лапы. Челюсти калмыка сомкнул. Глаза восставил, не мигая: (лев языком облизывает нёбо…) ВРАГ УВИДАЛ ДОСТОЙНОГО ВРАГА. О схватке: летопись не осветила. Впоследствии: пес Эллина спасал энэнность раз от зева иноземцев. Писали: почему был всемогущ Зверь? Потому, что был любимец Ямы: имел в запасе пятую стопу… Но не имел. Напрасно. Мы не персы. Читай, читатель! Я — лишь Геометр стихосложенья. Ты — гомункул Чрева, ты выйдешь в вина о пяти стопах. Пей гость Пегаса юность Ювенала! Ты — столб в пустыне. Ты — Авессалом!.. Вот отрок: сам в пустыне столб поставил себе и рек: «Се — столб Авессалома!» И тем столбом прославился в веках. Святая слава! Делай дело для — запамятуют, для чего ты делал. И делал дело и Авессалом, был не безвестен даже, — сын Давида, библейского царя, он был красавец (легка легенда! мало ли красавцев!), он — волосы имел (кто не имел?). Но дальше — больше: волосы по весу имел он: знай: при ежегодной стрижке на двести сиклей! Больше всех библейцев! Но дальше» даже на отца восстал из-за сестры, которую насильем взлюбился брат по имени Амнон. Сестру именовали мы Фамарь. А царь Давид ни слова сыновьям не сдал. Авессалом убил Амнона. И вот — восстал. Взял двадцать тысяч войска, а для себя взял мула. Въехал в лес. В лесу был дуб. Запутались в ветвях у дуба волосы Авессалома. И он повис. Висел. Еще был жив. Мул убежал… Но — сердце! — эту сцену увидел Иоав. Как полководец Давида, он убил бунтовщика, увидев… Вот вам песнь о волосах, казалось бы… Но волосы — забыты. Существеннее миф о волосах Самсона… Здесь же: кто есть кто? — Амнон? Фамарь? Восстанье? Иоав? — Никто — никто… Есть «столб Авессалома», поставленный в пустыне так как есть, до библь-страстей… Уж если есть пустыня, то почему бы в ней не быть столбу? Читай меня, читатель! Столб поставь. Не жги, как Герострат — хороший храм. Одумайся: двоякое деянье: прославишься, простак, но… привкус прессы: он — супермен, пловец, он — диссидент, а то — первоапостол атеизма… Двусмысленная слава. Храм не жги. Но столб — поставь. Советую. Сей жест — изящнейший! — не нужен и Нижинский. Вот люди: любят, нищенствуют, льют металлы бомб, хулят архитектуру, защита за животных, рай-ресурсы, Земля!.. Часть человечества — стихами… А ты — сюрприз: поставил столб в пустыне. И именем своим свой столб назвав, взял, умница, и умер. Изумил. И Я КЛЯНУСЬ: СЕ — «СТОЛБ АВЕССАЛОМА». Прочь притчи! Ты читай меня, чело! Знай за меня, — я сам собой не читан. А мной, как нарицаньем, написали цветок — шрифтовщики-александрийцы: их истин пепелищ не доискаться… Публичный плагиатор в термах Рима, Овидий объяснил, что мой отец бог вод Кефис, а мать Лириопея (латиница!) купальщица воды. Я бился над водой и вот влюбился в себя донельзя. Сам себя растлил. (Овидий был судим за сутенерство.) Заинтересовавшись, Зигмунд Фрейд, как невидалью, водной процедурой, во медицины имя, вдруг возвел воздейство вод на секс-психоанализ: я — первый постулат… (Фрейд стал смешон.) Простим же им ритмическую прозу: о прозорливцы, талмудисты тел. Ведь первый был мистификатор-мим, второй — симпатизист семенников. Я — сын Эллады именем Нарцисс. Слепец Тиресий мне сказал судьбу (Читай: «Метаморфозы», книга третья). И аксиом сей был неоспорим. Я жил как жил… Но жить как жить… но как? я шел в шагах меня уже любили садился в стул присаживались при с признаньями, ложился я на локоть хватали веер от укуса мух, заболевал писали эпистолы: архонты нимфы пифии флейтисты ученики умнейших уст Сократа губицы-устрицы агелы Лесбос беседы в банях на скамьях судейства на пляжах рощ священных клумб Кефала в амфитеатрах распустив хитон вывешивали фалл фигурой флейты брильанты Бирмы чайфарфор Китая на рынках за завесой от дождя на виллах за стеклярусной завесой давали девственницы ягодицы кусали старцы челюстью костяшки… не лгал. Но не желал я их, живой. Не трать трагизмы: я ушел в скалы. Запомни вот что: я не знал телес ничьих… им несть числа!.. Но некий знак… Читал часы. Оленя путал сетью. Ловил кресалом пламя. (Зов зеркал…) Спал на скалах. Не то что полюбил, но был мне первостью цветок. Он вырос у изголовья на ничьих наскальных травицах. Я назвал его нарцисс. Когда я спал, он мне менял лицо… а вообще-то был он пятилистник. Я спал все луны под оленьим мехом, не мягок мех, скала не теплотворна. Оленя ел во время водопада: пил дождь с ладошки, если было в дождь… Сам по себе. Я знал: зеркальны скалы. Смотри, смотри же, смертник! Я — смотрел. Я не о том!.. Не там! Я лишь опять, описывая опус нарциссизма, отписываю ямб себя — себе. Я сам себя — всевидел. Не сумел быть в двойстве. Обессмыслен абсолют: невероятность ясности слиянья себя — с изображением себя… Читай, ты, узурпатор губ глагола: я обещаю грифельность волос, их кружевность на шее, семиснежность, хрусталь ключиц кастальских (я не сплю!) и поцелуи пальцев на сосцах у пишущей машинки (пятьдесят их у нея!). Цитируем цинизм: на фалле же — флажок из зверя фиги (такое зверя вкусное росло!). Невинность лишь у ненависти… Я невинность у любви не объявлял. Давайте так: да здравствует девиз: «Язык мой звонок — скалы не лизать!» Я — сам в себе. Все остальное — Слово, осмысленное, смертное, как вещь. А ты пиши, пиши свой пятилистник! Пиши, пришелец прессы! Поспешай! Вот крадется замысловатый зверь, он о пяти стопах, он — Византиец, Апостол Пятый!.. Визу в Византию не дать не взять, — не то тысячелетье. А крадется… Державин утверждал, что хвост у барба (есть же Барб — Байкала!) совсем не хвост, а пятая стопа. Сомнительно: пускай Державин гений и Гавриил, — но все ж не та труба!.. На скалах скользко спать… Но сплю… Цитат пульсация, — кошмар!.. Читатель в лампах лежит плашмя и чей-то час читает и чей-то через час… Трясись, Тиресий!Когда меня… Что им ответишь?
Когда меня в законы закуют, дверь государств гвоздями заклюют, и за колючей проволокой прав я стану с телом знаменит и здрав, озера спрута с лампами лилей, и зал иллюзий, и закланье колец… — не забывай за колбами людей, как за никем я стану незнакомец. Но ты предашь меня, — за двух колен мне поданных рабынью для измен, за узы уст (о как нежны ножи!), мной останавливаемых от лжи, заплечья мастер, пилигрим от плеч, за явность ятр, за многократный меч… И вот во имя жизни как любовь, во избавленье тела — как от лезвий! — отмоет мир с тебя мое клеймо, поднимет час для чести с двух коленей. Когда меня цирюльники цитат в глазунью абрис бритвой обратят и целовальники вкуют в венец мой царственный дурацкий бубенец… Пусть не узнаешь устное лицо, пусть: перепутай логос безударный, — не забывай двойное царь-кольцо двуглазья и хрусталик — Божий дар мой. Когда меня, как ноту ню — в аккорд, в Словарь — не без нелепостей арго, по буковке букеты плесть и петь, и позвонков моих коснется плеть во имя классов или красоты мяучьим умываньем (Ной был медник!) — ты позабудешь ноты и цветы, ибо их не было и не имел их. Но ты поплатишься меня лютей, когда вздохнешь всей грудью для людей, при рассмотренье их из-под руки: на сценах сердца бьются петухи, ласкают — лишь бы, ложью льют бокал, что в кругозоре у орлов у скал коровья кровь, что чувства — лень и впредь, тебе (пропащей!) — в прошлом леденеть, и отдавать кровь живу глянцу глаз как мне, как на обмен, как не сейчас… По чьим часам Верховный Час отвесишь чьим телесам в чьем честном почему за меч меня, за вход в мою тюрьму что (безответная!) ты им ответишь?Озеро — зеркало зверя
В ЗЕРКАЛЕ ЗВЕРЯ цельсий Нарцисса замерз. Куколка слез каждая вымыта именем Дня в ОЗЕРЕ ЗВЕРЯ. Зверь златоглаз. В ЗЕРКАЛЕ ЗВЕРЯ что осталось от лица? — лишь глаз, лишь голос. Глаз выклюет выклюет век. Голос выкует ворон-враг: вывесил ворон медалей медь, — не до мелодий! А за спиной ночует олень, искры из рог — огнь и огнь В ОЗЕРЕ ЗВЕРЯ. Что им, народам, что Космос — кровь? Что и Нарциссу, народ, — наш нрав? Плавать в озерах, как в зеркалах, в метаморфозах бессмертья.Нимфе Эхо
Но нимфа… Ты — эхо меня где-то где-то? Вблизи лишь Луна, келья скал да звезда за водой. Живая, желая… Что возглас из воздуха где-то тебя? — Кукушка-аук, — не мне, невидимка!Гамлет
Я даже думал: звать или не звать? Идти в итог, или забыться здесь?.. И кто-то бил копьем в окно, — как знать? — не человек, не бабочка, не зверь… В душе уже отрекшись от венца, я звал Творца, чтобы у зла узнать: пой, призрак распрекрасного отца, позволившего так себя убить. Я знаю сказку, как позволил Лир свести себя с ума, — я прилеплюсь, не лицедей, но и не лицемер я безбилетник, с чеком притворюсь. Был пол отлакирован и звенит, был зал — от варваризма вензелей. Полоний — дух Лаэрту был «за нет». Бальзам варился в кубках королей. Трагедия отравленных рапир? О нет! На троне трепетала мать. Так гением немыслим разговор о ней, и рока нету и не месть, — о правда: в той завистливой жаре червяк телес убил орла седин, — о брата! И женился на жене. Я отрекаюсь: я — ничей не сын. Яд — пей Гертруда, бедная, — труды прелюбодейства или живота за женщин или жвачных у травы, или Офелий, — «дева иль жена»? — альтернатива с перспективой «власть», и взвешивать регламент гирей каст, блюсти себя и пушечную весть, давать детей для даты государств, или сходить с ума (да был ли ум?) по смерти подлеца-отца без «ли», — так ли? И петь и плыть, как на балу, тонуть! Я — отрекаюсь от любви. Но радуются роды от пелен: убит герой, на королевстве — трус. О жизнь! Лишь ожиданье перемен, как в карты: или тройка, или туз. Герой? Он может мощью полюбить. Откуда взять взаимность — лишь мощам? На фантиках, на бантиках понять: трус — труса, раб — раба и мима — мим. Нам даден в мир не профиль прав, а фас, где ум — там с колокольцами наряд. На Данию, норвежец Фортинбрас, я отрекаюсь: вы — не мой народ. Был мозг отдатированный, как зал. Я шел как жил — на иглах каблука. Балл музыки — рапира и кинжал, и правая, и левая рука. Блестел, отлакирован, в досках пол. Взлетали души (души ли?) без тел. Их было семь и каждый (как же!) пал. А воздух варваризма дул… и бел, что я виновен, ибо их убил, мерзавцы пусть, но человеки ведь, не мной исчислен времени удел, а Там (читатель Йорик, челюсть — есть?). Итак итог: созвездья всем ли врут? Я рву билет и разрываю чек. И если это человеки вкруг, я отрекаюсь, я — не человек.Дон жуан
Дождь идет, дождь идет,
дон Жуан!
М. С. Мне — женщины были? Я — женщинам был? Веера вечерами лент, — любовь ли? А утрами лоб и бокал, шпага и шаг тех лет. О да! До окна дождь идет, дон Жуан. Дождь, донна Анна. Дождит. Вечерник ли, утренник — даже не дан, а дом Командора дрожит. Кому, Командор, если в масках Медуз у женщин не ужас, а власть? А медью из денег — изданье до Муз. Любовь ли, Сивилла ли? — вальс. Кто в ад меня, мнимый?! Концепций конца завистливец звезд и скал. Я лишь исчислял по таблицам Творца: вы — лгали. Творец мне не лгал. Ходили на лапах тяжелые львы. Мозг мой к ним приязнь имел. За давностью дев любопытство любви, — любви ли? Я их не искал. Кто муж героизма мой меткий металл осмелился бы осмеять? Лишь Статую выставил буквомарал. Лишь статую, — камнем карать. Кто тот же транжир, кто мыслитель мышей, ласкатель и логик про суть? Вот — шпага моя. В мешанине мужей найдет свой, ей свойственный путь.Послание Иоанну
Я Альфа и Омега есмь. Я — дан. Я первый и последний, Иоанн. Твой остров — мой метающийся Дом, где око зрит одно лишь — океан. А семь златых светильников затем, чтоб чаянья и чудеса не греть. Я опоясан поясом златым по персям, — чтоб ни с кем не говорить. Пред просьбами протестов и потерь животному с лицом, как человек, оставьте облаченного в подир, — я не приду для правды в этот век. Читающий и слушающий Слов, смеющийся щеками же в себе, все ж соблюдающий диету слив, не сомневающийся ни в судьбе. Я, вас омывший в омутах (где Дух?) Я, возлюбивший вас же и во зле… Вот — возвещающий Петру петух, клюющий время зерен на земле… Написанному верящий, — о плебс! Науськанный на Голос, что велик. О близко время! Вижу вживе блеск: меч первенца меж мертвых и владык. В моей деснице семь знакомых звезд. Вот — волосы, как белая волна. Меч уст моих пусть обоюдоостр, — не ныне! не ответствую, война ловцов душ человеческих с лицом животных жвачных, но с глазами грез. Неправда от Матфея — я ловцом не жил, и не за них я шел на крест. Я думал: Дух дыханья посетит. А ты в ответ: лишь остров-океан. Спасибо, соучастник в скорби, пес, тебе скажу: — Не бойся, Иоанн! Восстань с колен. Сбрось цепь земных царей. Листов моих из стали насуши, и если где осталось семь церквей, лишь ты отважен — ты им напиши: — Я первый и последний и я — есмь. И живый, и был мертв и се — я жив. Еще в венках не зацветает ель, я не приду для правды язв и жил. Не мстящий, но молчащий без сетей, для Зверя оставляющий клыки, имеющий ключи от всех смертей… Имеющий да спрячет их, ключи.«Что рифма!..»
Что рифма! — коннице колоколец!.. Я жил в саду обнаженных женщин. Змий на хвосте их не заморозил: в руке — по фрукту! На вертелах — искрометны овны, бассейны в линзах Венецианца, кефаль и флейты… Луна светила, как цвет малины! Я жил в саду обнаженных женщин, волк-виночерпий, браслет Фалерна. Я брал их девство, а пел пеаны… я брал, как бритвы! Я брал их, правда, но лиц не трогал. (Дельфинам-двойням — в талантах тела!) Что рифма! — ценит окружность Циркуль… я не любил их. О сколько лгали глаза цветные! Клеймил, — глумились. В запястьях — зависть. Но в тайной Башне (чело — для Часа!) на ключ забрало! Мой меч исчислен. Зеркальны формы у дев. У конниц копыта босы… Как зарифмован, в глазу Циклопа горел мой гений!До свиданья, книга
До свиданья, Книга. Прощай, почерк. Взята в найм, нелюдь. С кем с вином путч? Нечто из плача, А при чем притчи? Ты припрячь лучше их, толмач притч. Юница-чтица, рай-дуга-Рубенс, не читается мой циан-лавр. Книга есть реальность, а не ребус вам, Ликург в лампасе, у руля у лир. До свиданья, Некто. Будь как будь в людях. На челе меч блещет, юн, как Ной! Только вот что: не иди в латах, ты иди с Луной (босиком на ней!). Ты иди так же тяжко, — так идем все мы, на виду невидимки, маятник рук. Только вот что: не иди в воды, не святи сетей, если даст Рыбак. Если Брат даст виноград — не́ пить. Дева даст объятья — обойти. Это ведь люди. Ты же в людях — нелюдь. Не обречь тебя им и не обрести. Нам не свидеться, Книга. В климате молекул не деваться нам. Воскрешай — то! А не имешь места, — мой тебе мускул, два клинка с воском!.. Улетай от!Семейный портрет
Труд Гертруды окончен. Одинокие Римы, смотрят люди в оконце, уши — парные рифмы. Личики как яички, на челе — единички. Смотрят люди в оконце: в каждой лампе — огоньце, у Луны молока нет, а Луна — молодая. А два уха людские при Луне — ледяные. Я иду по Афинам скифом — по анемонам. Колизея колонны. Вам, Варшава, — каналы. Прага из парафина. Эст — в холмах Парфенона. На Монмартре — Манхэттен… Въезд в Фонтанку под ливнем, Медный Всадник — макетом, цепь на мостике львином. У оконца Ленива ждет меня, — Михаила: я бутыль люминала взял за рубль в магазина. Я смотрю с интересом: Кесарь я или слесарь? О не от люминала под луной Ленинграда, я умру до Урана в трюмах рудник-Урала, нет в тех трюмах оконец, околем у околиц незапамятным Киршей, как предсказывал Китеж. Над Евангельским ранцем откуют совы свиста в русском, в райском и в рабском — в трех синонимах смысла. Завтра звездное солнце закукует в оконце. Встанут в странах со млатом Труд, Отвага и Младость! Им ли гримы Гертруды, ильмень-грифельны грусти… Жизнь моя! ты — мечталка, с рифмами дурачонка, старушенца-мальчишка, стариканца-девчонка. О одумчивость духа! Тяга к девобелугам… У меня вот два уха, хладно им, бедолагам!«И увидел я новое небо…»
И УВИДЕЛ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ НЕБО: Всевышний паук обвязал цепочкой Луну, обвязал над Землей и как-то качает: вот — выше!.. но… ниже. О псах. Псам лизать звезду. Завидую. КТО ВИДЕЛ БОЛЬШЕ ЛУН, ЧЕМ ДЕВ? ЗЕМЛЯ: оттуда овца и отсюда овца, овца лежит на крыльце из цемента, смородину ест. Если снять кудри с нея — с вами свинья. Цаплю — на цепь. В переносном смысле. В прямом: стоит солян-столб. Нога заземлена. Где-то глядится окно, как из Америки — инк! ИЕРЕМИЯ, ГДЕ МОРЕ! МЕШАЕТ МАТРОСУ В ДВИЖЕНИИ ВОД ВИДЕНИЕ ДЕВ. Дождик дождит, в виде воды. Но мотылек-лунатик ходит по саду с зонтиком, так ли? Множится, может быть. Атом и сфера, девы-ведуньи сдаются на милость меня, мотылька. Значит, зонтик — невидимка. ПРЕЖНЕЕ НЕБО И ПРЕЖНЯЯ ЗЕМЛЯ МИНОВАЛИ И МОРЯ УЖЕ НЕТ.МАРТОВСКИЕ ИДЫ 1983
«Ресницы у овец на бя…»
Ресницы у овец на бя. Уснули люди у себя. Закрыло Солнце веко льва, взошла на воздухе Луна. По всем шоссе шел некто Бог, он был бездетен, босоног. Все было так, как было жаль, как я во ржи, как червь, лежал. И поцелуи всей Земли по телу мучили и жгли.«У туч очутись, где в рисунках янтарь…»
У туч очутись, где в рисунках янтарь, где курс — это маятник яхт… Учи, ученица, не аз и не ять, учи, ученица, меня. Ученье у черни, у терний (поплюй, червячник, пред ловлей кольца!). По телу потратится твой поцелуй, двупястье мое — до конца. Что в ребрышках рыбки в отверстиях колб, нырянье у ню во моря… Не лучик, не ключик, ни Бог и ни Блок, — учи, ученица, меня. По пояс по стиксам пастись, где, венец из вод извлекая, как цепь, клянясь: — Уцелеть бы, где Овн и Телец! — клянись себе: — Не уцелеть! Клянись мне, как лотос клянется у Будд на всечеловечий мяук: мы в дом не уйдем, и у битв не убьют, клянемся, — нас, медиум-двух! Когда же все отнято, все отдано́, для тела — металл муравья, от ста оставляя меня одного, учи, ученица — меня!Романс-рождество
Пес-собака сбоку, а месяц круглый. Выйду как один я, путь кремнистый! А собака — с бегу!.. У луны — круг. Ой, пойду ль я, выйду ль, пес кремнистый! Человек я свистнет и войдет в век. А полумесяц светит, светит и сверкает!В метель
1 У лампочки ночной — огонь в живот, кишки златые, светлые браслеты. Никто не ходит в белом, все живут, и ноги гнут, и руки быстрым брассом. Жить лень у нас, и в тогах бы кого куют кинжалом дней цезарианцы, мой римский рот не может с русской О, с трудом и корм в него до цельной речи. Над Ленинградом осени уж нет, и жизни нет, и гнев у снега жидок, чужую песнь роялю тянет жук, и не увозят наших фараонов. Ты увези их, скоро Ленинград Египет опояшет, и не сразу. 2 Мы — пятая колонна, легион истории у стран мы иностранный. Свободен я! Всем телом сквозь метель под белой рыбы снеговой, но удим, идем, как пароход Эль-Меншийя в пути по Нилу к моему народу. Пришел, стою. Как капитан, в костюм одет, китайских кос по шею носим, я радуюсь, жгу в синю ночь костер, я склею личность — лампочку ночную. И стоит жить!.. Садится колесо со спицей соловьиной, и пурги нет. Копи окоп и не сули косуль! — Ты в Геттинген? А мне б в метель погибнуть! 3 Я б и погиб, но есть на ось закон, я чту, учу его с улыбкой службы — что сделают идущему за мной, если увидят, что ведущий слаб я? Мне б лечь челом на камень лабрадор, — явленье Я! сквозь шлем ревя Рифею, что, никого уж боле не любя, кому я, муж, по камушку рифмую? Народ крепчает всюду, как мороз, верховных рог носитель и элита, а неталантливая молодежь к искусству тянется, но деньги ль это? Ты линию у атома зажги, увидь в роду вес желудя по дубу. 4 И женщин житие, и вид Земли — все есть яйцо, окружное по виду. В глуши людской, с ноги стези земной, неведомого наковальням века, я жду его, идущего за мной, посланца сфер — второго человека. Его удара молодого стоп в день подлости, а в ночь здесь люди злые, ему кую его души восход сквозь шаровидны кожи золотые. Ты на заре мой желудь не буди! Снег слег меж новогодних ног Астарты… От тех времен, от тех племен в груди уж никого, мой Вакум, не осталось.Мартовские иды
I У дойных Муз есть евнухи у герм… До полигамий в возраст не дошедши, что ж бродишь, одиноких од гормон, что демонам ты спати не даеши? Ты, как миног, у волн на лов — гоним, широк годами, иже дар не уже, но гусем Рима, как рисунок гемм, я полечу и почию, о друже. Дай лишь перу гусиный ум, и гунн уйдет с дороги Аппия до Рощи, где днем и ночью по стенам из глин все ходит житель, жизнь ему дороже. Все ходят, чистят меч, не скажут «да» ни другу, не дадут шинель и вишню. II А между тем сойдут с удоем в ад, живот — в ушко игольное я вижу! Взор с ними — врозь! Бью розгой по устам, летяще тело, преди песнь пояше, мне б успокоиться, уйду в пустынь, заброшу крылья за голову, спящий. Не встану, осмотрюсь по сторонам, ось матриц уст, в какие впишут списки? Но днем и ночью ходят по стенам могучим кругом, с пением и свистом. Все сторожат! с ружьем весь жар земной, чтоб не зажег енот о чепчик спичку. — Стой, пост с тобой? — И пес, и пес со мной! — и нож свистит у жен, как сивый, в спину. III Охрана храбрых! В руку — по ружью! И лига лгущих… Чтоб не быть убиту, на струнных я орудиях пою, начальник хора — на слова у ид их! Идеи марта!.. О, не пой про ту сегодня, пятую луну, субботу, — я б снял с педалей нотную пяту, из улья тел я б улетел в свободу. Здесь рой юродств, не Рим, не Петербург, не выжмешь на уста из ста улыбку, но днем и ночью группами с пурги все ходят вместе и не сходят с улиц. Шинель им дам и вишню в их бутыль, снег с ног, пусть пьют с весной по лоб в колодце, — IV и март их ртам наполнит новым быль о человеке, друге, полководце. Во всей Москве — ни козы, ни закат, ни то, ни се, и ус, как уд, ежовый. На родине рояли не звенят, и горя много, больше, чем в Европе. И что уж этот ужас и усы, все — впереди, и по досье — наука, на Красной башне в полночь бьют часы, Иосиф Виссарионович, — ну, как Вам? Теперь, куда ни плюнь, — и волк, и сед, жор рож вокруг, живем ужасней казни. Я Вас любил. Я был солдат в семь лет в той русской и пятиконечной каске. V Вы взломщик касс и крестный крыс отец, все рты мертвы, тюремны миллионы. Но из Имен в Двадцатом Веке — кто? «За Сталина!» — Вторая мировая. Генералиссимус! Из вен и цифр всех убиенных воинов — строка та. Но если есть Истории Весы, они запомнят залпы Сталинграда. А претенденты — пойнтеры на свод загонов власти — так ль уж на диете? Ведь грамота террора и свобод известна тем и тем, и кто тут дети? А те, кто врал, воруя мясо льва, и в алкоголя пляске ножкой топал, VI их каменная тоже голова стоит, в ней свищут ветры свалки трупов. Как лед кладбищ по марту — полубог, о, сколько лбов над мертвыми поникли, вот лужица пылает, как плюмбум, в ней луковицу моют жены пьяниц. Кто умер, женщина? Сквозь тело вой твое, как будто роды у буренки. Зачем лежишь ты, дева, с головой, что тянешь песню — бечевой бурлацкой? Я к женщинам неплохо отношусь, в них пафос есть, и пьют — живым на зависть, писатель Чехов, женских душ Антон, их сестрами считал, да умер сам ведь. VII Не видите, как женских я у ног в запретную вошел, безлюбый, область? Я, говорящий из среды огня, вы помните ли мой высокий образ? В тот день морозный, в облаках, а шуб — моря-меха, а в них краснеют рты тут, я — голос весь, но отзвука у душ не светится со щек со слезной ртутью. В тот день недели вопреки рукам не делайте из женщин изваяний, их образ в мраморе — он не кумир, не красьте рты, не жгите кровь из вен их. Хоть рыба ходит в жизни ниже всех, ее известность возбуждает зависть… VIII Жить без греха — вот самый гнусный грех мужской. И тут кончаю мысли запись. В день дунь на рудниках сержант с гвоздем как век, кует, вбивает в яблок святость, в день дам, их, пьющих на коленках дегть в корытцах, как клинические свинки, в день дур, войдя, рабочий брат-баран сестру-овцу в заплыве с алкоголью ударом в зубы вздует, как рабынь, на жесть положит и зажжет оглоблю… Но женщина! — на жести вспомнит кос мытье… Вот: целомудрия ругатель, я их жалею, пьющих из корытц, где снимут с ног — хоть похоть б у рубах тех! IX Снег, как павлин в саду, — цветной, с хвостом, с фонтанчиком и женскими глазами. Рябиною синеет красный холм Михайловский, — то замок с крышей гильзы! Деревья-девушки по две в окнах, душистых лип сосульки слез — годами. На всех ветвях сидят, как на веках, толстея, голубицы с голубями. Их мрачен рот, они в саду как чернь, лакеи злые, возрастом геронты, свидетели с виденьями… Но речь Истории — им выдвигает губы! Михайловский готический коралл! Здесь Стивенсон вскричал бы вслух: «Пиастры!» X Мальтийский шар, Лопухиной колер… А снег идет в саду, простой и пестрый. Нет статуй. Лишь Иван Крылов, статист, зверолюбив и в позе ревизора, а в остальном сад свеж и золотист, и скоро он стемнеет за решеткой. Зажжется рядом невских волн узор; как радуг ряд! Голов орлиных злато уж оживет! И статуй струнный хор руками нарисует свод заката, и ход светил, и как они зажглись, и пасмурный, вечерний рог горений! Нет никого… И снег из-за кулис, и снег идет, не гаснет, дивный гений! XI Одиннадцать у немцев цифра эльф, за нею цвельф, и дальше нету цифры, час по лбу били, и убит был лев, входили эльфы, выходили цвельфы. С эльф-цвельфом в шаг и шапкой набекрень, с шампанским в ртах, — бог боя, берегись сам! — на новый дом, Михайловский дворец ведут колонны Пален и Беннигсен. Что ж Павел пал, бульдожий, одеял боящийся, убитый с кровью, сиплый?.. Семей сто тысяч войск — на одного!.. Сын с ними, Александр? Узнаем, с ними ль. Озер географических глаза — как ожерелья дьявола, читатель! XII Царь-рыцарь! Но в рутине государств не любят дисциплины, нету чести. Ум новый, реформаторский — впросак, спит сын убитого, убитый сыном. Телега едет в ад на парусах, о Гамлет, о враг Лондона, о крыса! Друг Бонапарта, гордый!.. А лиса в одном и том же доме — убедись сам! — не спал, лежал под дверью Александр, одет, с водами слез, отца убийца. И ты, и трус, пусть немцы пьют мускат, пусть денег в дно бьют карту лейб-гусары, пусть Зубовы — три пса, три мясника, — ах, Александр, что гомосексуален? XIII Все мальчиком по жизни, либерал, со всеми кожа — светлая свинина… А у бабуси гусю кто любил в семнадцать лет — семидесятилетию? О век, о просвещенья семена, без стука ходят в ход старухи нашей все Зубовы, забавная семья, их род тебе родим, ты внук ночной их. Про то ж Платон, поэт любви, легат, из грязи в графы, гренадер, сотрудник, а кто любил, двуногий отрок лет — семидесятиногую старуху? То ржет, стреножен, жеребец малин, как в ночь конюшен стресс цариц не минет… XIV И вот ОНА ему дает мильон — на пуговицы! Женщина — Мужчине! При всех!.. Кровать не стоит убирать, на коей в око бился Павел с веком, уж коль идут убийцы убивать, они убьют, не упрекай их в этом. Смешны мы! Нет Италии в дому, нет Борджиа, нет роскоши, разврат где? Не ценят нас в Европе по уму, а были — любо-дорого, размах-то! — вот он лежит, убитый в лобну кость, с той табакеркою в руке на теле… А было это все в великий пост, в тот понедельник той шестой недели. XV Я чуть причмокну — вы уж и на вид, в двойной полет: стрелою в самолете… Тень Цезаря меня усыновит за Брута труп в пятнадцатом сонете. Он, осенью покончивший с собой за двадцать три — в пах консулу удара, и ты, Брут, свис, осиновый, с судьбой не сбывшийся, в семье не без урода. Кем не воспетый, ты как дама пик, у сцен, у солнца Цезаря питомец, тираноборец, бил бы в грудь, но в пах… — за всех завистник, эх, ты, пахотинец! Как прутья, лягут Брутья в тесноте, в Сенате — рвутся в русла, оборванцы… XVI Не те поля и ягоды не те, меня не убивают обормоты. А жаль! Пора б, мой друг карась, в гольфстрем, а то я вплавь уеду ненароком… Вот Павел: тоже было сорок семь, как мне, а что я сделал для короны? Ни то, ни се, поющий в пещь, в ковер закатанный, снег с них, Олег Российский… Но этот снег уже не гром, не с гор, не выше я, чем столп Александрийский. Во дни торжеств мой колокол — дунь в динь, сон в нос!.. В июле тоже будут иды, июльские, — то Лермонтова день, читай: числом пятнадцатым убитый. XVII Что иды людям, им? Что иды — есть? Нет никому монет лимонных в доме, овцу, невиннейшую из существ Юпитеру — нож тепл еще! — даем мы. Спасибо же, что жизнь морквы и льна мирна, а иды — каждый месяц образ: число пятнадцать, полная луна, — март, май, июль, октябрь, — когда есть овцы. Но март — особый, первозвук у ид, концерт кошачий, бег у Бонапарта, и Цезарь был, и Павел был убит, и Гоголь лег и умер в раме марта. А русский рокот, умный муж, Перун, грозящий в груди Митя Карамазов? XVIII Мне грустно, Грозный! Что ж ты приуныл, писатель, шахматист и композитор? Сын томных сил, волк слюнный, скарабей, крот роковой, вершащий век на имя: «Ждал я, кто бы со мною поскорбел, и никого нет, утешающих мя я не сыскал!» — вот жалоба сырой души, не отдыхающей от театра. «Но, взяв Казань, казанской сиротой стал я, а не они, а не татары. Не плачьте об убитых мясниках, о сыновьях, о бабах в юбках тусклых, я — светлоглазый гений-музыкант в стране сатурналистов и тунгусов. XIX Я длинноус, и скотен я умом, мой рот раскрыт на дело ед и блуда, я чресла чрезъестественным грехом отяготил — мужчин и женщин дубль я. Талантлив, тать, актер, я ослеплял истерикой — людей всегдашних раций. Не Троцкий, это я осуществлял идеи перманентных революций. Смешны Европы гуманизм и дурь, у зверств России — автор всех поэм я, поставили на пламя Жанну д’Арк — вынь да положь мне девушку на племя! Я сокол, колос — я, я — их союз, я — гость у гроз железный, я — ребенок! XX У нас в России всё — взаим и связь: вот умер Грозный и родился Гоголь. На дне, на днях, сошед с ума горы, как лошадь, вышел я во власть сюжета. Такси плывут, как тусклые гробы, на козлах кучер Селифан, — сидит он. Как итальянец! Головной убор надет на око, вензель гедонизма, я постучу ему в стекло: «У, раб! О, рыло неумытое, — гони же!» А он мне: «Коням, барин, мыла нет, не то что русским. Рыло ж — роль такая» Такси плывут по трое — их мильон, в них Гоголь Николай лежит, такой он. XXI На вид — как на диване финансист, идей в нем римско-русских монолиты, жук, живописец, физиогномист, его лицо — с портрета Моны Лизы. Гуся перо в его родной руце, счет с числ у душ — мы оптом за поэму, при нем бухгалтер, наш и страшный — царь, не Николай? не помню я, не помню. На жизнь тяжел я, друг мой, ало-конь, я в смерти сон смотрю, как ленту-кино, в мечтах я тоже, может, Николай, не тот, не тезка, а иной и некий. Но надо мною, друг мой, месяц сиз, народ-лунатик — ломовой, безмолвный. XXII Не в чашах счастье… Те ж, кто любит жизнь, у них свой счет с ней, со своей, любимой. И ходят, дохнут люди от костей, не поддаются жизни и нажиму. Египет, гнев, железный твой костер двадцать второго марта — ненавижу! Мне ум у ям, где бедность, где бодрей, встаю, в живот пою оригиналом, красавица свистит из-под бровей мне ртом — как огнедышащим орудьем! Мне Летний сад — как леденящий крик, жизнь — козлопляс в нечеловечьей маске, вот вьются в листьях воронессы в круг, как в юность Лизы баронессы в Мойке. XXIII Я вспять пишу, что у числа кассандр костер я крашу, ум у фактум греясь: кем был убит вторичный Александр, свобод водитель и пифагореец? Сынами масс, кого пустил в супы вороньи, и в слободки же вороньи, у тех у вод утоплены серпы, слизняк — Царя убьет консервной бомбой, — шик пошлости!.. Цыганка на восьмой гадала, на восьмой его взорвали студиусы, вошедши в секс весной, в прыщах, с челом, что влюбчиво во взоре. По-римски сроком мартовских календ, по-русски — первомартовцем убитый, XXIV Конец канала занял Александр, стоит собором, как звездой умытой. Стоял бы! Но в соборе живоглот, искусствовед Хорь Лампов, росс, ровесник за ветвь мясную в животе живет, червь равенства, враг веры — реставратор, алкаш в щеках, как шелковых, — тот тип, в Дому Всех Мертвых он — своя фигура, где реки в руки им текут, как ртуть, о, стадо старцев, о, карикатура! В другом конце канала — Книги Дом, как мамонта нога, трехгранник с шаром, два Михаила, ранний их огонь, и сад колонн — как римские муляжи. XXV За то, что царь — народ, а не ровня, в них Вий из дула выстрелит. Подумай, как царь, стрелявший в Бога в январе, через тринадцать лет получит пулю. А времена — в ремонт, и тот арап не тот уж, он свободен полной грудью, мы — труженики трона и пера, а свирепеем мыслями друг к другу. Все давим новый вид людей, ту суть, завернутую в завтра, как в махорку. В котле у рыб нам бы войти в союз, а мы враждуем, к времени с упреком. Цари! Я обращаюсь за алмаз, что уценен из сумм с брегов Игарки. XXVI Вас меньше, чем поэтов, на земле, я вас впишу в страницы Красной книги. Я помню тот исконно-русский март, что Льва повел туда, где грабил Гришка, как по любви идут из дома в ад, где слава Хлоя и держава Мнишка. Чем русский хуже звук — немецких псов? История мне русская близка так, ей до меня и не было певцов, их многих рано били о булыжник. В порочный рок я вышел на паркет, лежало тело энно. И дружка ли? Все говорили: где убит поэт, там будет царь убит (уж доказали). XXVII Кто на кладбище луковицу мыл в год укоризн и тризн о Буонапарте, тот знает все: убил иль не убил и Микеланджело Буонаротти. За справками о нем — поэт А. Вось, он с Циолковским форм у века — нунций, но я о том, как столько в лютню весь Джорджоне, юноша, венецианец. Как в пир чумы он вышел на канал в летящей лодке, с той, не жуть, не шутки, как, женский гений, губы целовал, и как погиб! Как отозвался Пушкин! Теперь не любят так уж в тридцать три, рок чисел позабыт, не в роль, Лаура! XXVIII Как бросил кисть геометру, смотри: пятнадцатиапрельский Леонардо! Все совпадет: двадцать восьмой сюжет в четыре, семь и восемь, три — возвысим! в год тыща девятьсот тридцать шестой и я рожден апрелем — в двадцать восемь. Круг ходит по кругам! Под солнцем гол, народ теней рожает вновь капусту, а у часов — веселых листьев ход в историю ступеней и уступок. Где чести числа делают лицо железных женщин с признаком таланта, на Красной башне в помощь бьют яйцо, и новых вынимают из тулупа. XXIX Морская ночь!.. То цапли рощ от сил поют священных языком целебным. Из рыбьей чешуи, как из листвы, сквозь зубы лают красные лисицы. Два ворона ревут и в горла два (своей поэмы предыдущей — вор я). Певец, певец! Мужская голова качается в волнах, как и воронья. Возник и звонок стих! И я там был, я пил из лап у медведей соленья, не вы навылет, это я бежал годами лыж — бродяга с Сахалина. Звериною тропой глухой петли, раз Бог — разбойник, то на всю Сибирь: XXX «Бродяга хочет отдохнуть в пути, укрой, укрой его, земля сырая! Цинга ты скотная, нога да лом, дорога давняя, быть может — жиже, тюрьма центральная, как в зоне дом, меня, нечетного, по новой ждет же! А месяц в небе светится, как спирт, иду я вдоль по улице, собака, любовь — наука стимула! — стоит, ах, зря ворчит с хвостом из-за барака! Мне мир ночей ничем не отомкнуть, на веко положу себе полтины, бродяга очень хочет отдохнуть, уж больно много резали в пути-то». XXXI Но до свиданья, друг мой, Дон — вода, волна бежит и, набегая, вьется. На степь беда — и настежь ворота, уж пуля в дуле револьвера бьется. По всей стране читательской в тот раз лимитом книги — русским руки свяжут. Возьмет Дубно у будетлян Тарас, а на кола аллаху лях, — скажу я. Мы в до свиданья снегу! — в Рим, сюда летай, как Гоголь, зрелый, запрещен же, но рвутся сабли в книгах, как сердца, ломаются, — и это Запорожье взаправдашнее… Сын зовет Отца, а весь миллион народа и не вздрогнул.Москва в заборах
1 В какой-то энный, оный, никакой и винный год я шел Москвой в заборах, еще один в России Николай, мне говорил лир овод Заболоцкий: уже не склеить форму рифмы в ряд, нет помощи от нимф и алкоголя, жим славы протирает жизнь до дыр, как витязь в шкуре, а под шкурой лег я. Записывать в язык чужих Тамар, я труп тюремный, вновь вошедший в моду, почетный чепчик лавра, премиат, толст и столетний, буду жить под дубом. Но только чаще в этот килек клев, в жизнь — роскошь, груди Грузии, дно денег 2 восходит в ночь тот сумасшедший волк, как юность ямба, чистосердный гений. Тогда беру свои очки у глаз, их многослойны стекла, чистокровны, и вижу на земле один залог: нельзя писать с винтовкой Четьи Новы. Нельзя светить везде за их жетон погибшему от пуль при Геродоте, принц Пастернак сыграл впустую жизнь Шекспира, поучительное горе. Рукой Харона — водный колорит! — переводить за ручку в рощу пары, нечистой пищи вымытый тарел, все переводы — это акт неправды.Овидиу
У слов есть власть: Овидий был румын, он тарантас имел и нюх легавый, у Цезаря за пиром репу мыл, ламп опер шумных зажигая влагу. Все б хорошо, а смотрит окуляр не в тот ковчег, с годами имитаций и Цезарь уж не тот, — Октавиан, скупец, писатель пьес, импотентарий. Круг завершен у Рима. С визой в явь поэт последний сжег свою сикейру, у Августа на ночку внучку взяв, а в возрасте моем: семь лет за сорок. Широк был у истории пример: муж вхож вовнутрь властей с простейшей шкурой, — да связан Августом и бит ремнем, и выслан вон — кукушкой по Дунаю!Сравнительное
В Риме на Капитолии Волчица с сосцами. В свой рост. Камень сер, прост. Волчица и два Римбенка со свистками. В Париже на площади им. св. Ж. Д. Арк Ж. Д. Арк на коне. Она и конь из камня. Облиты сусальным златом. Дождь-еженедельник их обливает… Кто ж дождь подзолачивает? В Тарту, Центр, Михаила Богдановича Барклая де Толли дом, никто в нем не живет. Наклонился, как ночь. Как Пизанская башня. Его привинтили двойной трубой к дому-соседу. Как говорят эстонцы: «Как по-русски!» А кто не работает — тот не эст!Кот-конвоир
Черной ночью месяц-мир, у калитки конвоир: — Стой, кто? — Я. С хуторов все коты ушли в леса, им хорошо: и мышь, и зверь, и птаха, Солнце льет, как лейка. А этот эпод, и не ужиная, глядит, иль он уж и на я гудит: — Кто идет? — Да я иду уж с озера, как с мороза. Всем в мире светит месяц-мимоза, а у кого ж распускается ус, как черная М-роза?«Палиндром — и ни морд, ни лап…»
Палиндром — и ни морд, ни лап:
я — дядя,
я ем, умея,
я пишу, шипя.
Я уж и лгу, угли жуя.
«Ось таланта чуть качнется — кони в крик…»
Ось таланта чуть качнется — кони в крик! Ничего не остается, кроме книг. Чу, как ноги, ось тележная в краю, где Макар теляет к ракам с харей хрю. Свят я, связанный, как ножичек, лежу, ты круть-верть мое колесико, луну! На суке а с кем, разбойничек, дружил, до чего ж ты, разговорничек, дошел, звон березыньки кудрявой со слезой, конь мой чистый и кричащий — соловей! Едем-едем ети метем, я и конь, все туда же и не тужим, что на казнь, ой уж в полюшке я пожил да уж да, казнь ты дохлая, казенная душа. Я б тебя забросил под ноги коню, как винтовку, как иглу, как девку ню, я бы ножичек на ноженьки с войной, конь мой светлый и со свистом — соловей!.. Окна желты, цвет и верхний желтоват, в окнах лампочки да лавочки живут, но, как на смех, два гвоздя в одной ноге, кто ямщик, а кто щемящий, весь я тут, в животе свинчатка, и ни зги нигде, и везут меня, везут-везут-везут…Тоска по родине
Где у Невы гранит, конь у криницы?.. Не хороните меня, не хороните! Отпировал, отвоевал, кровушки отпил, отворовал, — вот голова! — что ж я не отдал? В зелье желуд-ков нас, воров, чем не вязали? Взяли жену, взяли живот, — что ж вы не взяли? С кем-то, о чем-то, как-то, когда-то… но рябина! Но не любил, но не любил, но не любил я! Брате и сестро все и у вод, лишь — семью семь я! Вырвал бы сердце вам, да вот — не было сердца! Не хороните же меня, стужа стерляжья, ведь не хоронят же коня, — в ухо стреляют! В ухо! навылет! но не зау-шничают не лепо. Но я забыл, где я живу, Родина, Нево!Anno Iva
Вода, движущаяся в реке, или призываема, или гонима, или движется сама. Если гонима — кто тот, кто гонит ее? Если призываема, или требуема, — кто требующий?
Леонардо да Винчи 1 На свете нету святости, а Муз не моют ромом, к ужину косули на огонек не жду. У звезд звонарь, спит месяц, в круг сведя концы с концами. Спи, ясный, поздно-праздно, в час и в ад замкнут и эту музыкальну сушу. Я слышу, как вокруг дрожат дома, я по ночам намного лучше слышу. А вижу хуже, я во мгле сижу, пишу смолой алмазной по рутине. Мне страшно. В кабинете, в книг саду мне жизнь у жалоб голубя противней. Не с рук творимый в Рюрикову русь и куликуя Дмитрия Мамая, 2 я повторяю по ветрам вопрос — о, то ли мое тело мое, мама? Я болен, и дай руку мне на лоб, на нем росы нет, вянет в новых, Господь, на треть открою веко в мой народ: на рынки носят литеры, в них голос. Ум номерной на мир, и пламена гудят в груди с мышлением солгать бы, здесь люди, как чужие племена, мне говорят другими голосами. Я в книги кану с речью чересчур, смерть самозванна — у народа власти, отечество! тебя я не читал такое! битвы этой не воитель. 3 Еще я напишу о том, стоямб, о чем в очках пишу я, гладиатор: у моря в Риме Ленинград стоял, в нем Невский Конь стоял, как гладиолус. А в ночи час, откуда ни возьмись, по полю Марсову и так и сяк я хожу, святой и хуже — василиск, и новый наводнениям историк. Я слышу меди хоботы, полки, под эполет идущие и к шагу, я вижу воды — белые платки у волн, текущих от ноги к Кронштадту. Мы, может быть, единственных пружин, кому идет не в радость жизнь, а в ругань. 4 Всему тому я говорю прощай, на вынос тел винясь в роду с другими. Войди, звонарь, ударь в бетон: в Тибет, у лир Урала в стол свисти, лишайник, а Невский Конь живет и не бежит, что держит? Медь? — твою в шинель, лошадник! А Невский Конь стоит на двух ногах, двумя другими в воздухе висит он, как пес за уткой с дудкой наугад, тяжелозадый всадник не по росту. И скажут: этот медномордый монстр Гомера, губы бантиком, как сокол, имел он женский глаз и зверя ус, как девица двухусая, скакал он. 5 Внизу зажегся гостевой котел, у рыб в июне дней на целый месяц, серп солнца тонкий дорог мне, ледок над полукружьем моря с жарким солнцем. Двойной рисунок видим, геометр: вот лодка в море — как ребенок в лодке, как образ голубой на голубом, спят веслы в ней и не кусают локти. И кажется — у лодки свыше скорбь, в морскую краску вылит верхний тюбик, плывет, обшита голубой доской, никто ее не холит и не любит. Пустая лодка, крашеная, шнур надет на шею сквозь кольцо другое. 6 А за водой виднеется Кронштадт, кто в лодке? — едет, дальняя дорога. Ведь и у дев как море тело, плыть, моря их тел прибьются к брегу, юны, и воины по солнышку у толп их за ушко ведут, за тело в дюны. В движеньях каждой девушки — солдат, их жениховству нужен с дулом лидер, я видел их, лежащих на соснах вверх животами, женщин уж, любви дар. Гипербол мастер я, а не литот, смеюсь не в рот, а внутрь — во весь аппендикс!.. А ворон уронил крыло, летит уж на другом, как на велосипеде. 7 Здесь финн у вод фамильных, шведу друг у юбок жен, их хаки… — мне б заботы! А девушки сбегаются с горы и двигают ногами, как зубами. Их, машек, ждут Порфирий и Язон, к ним Николай спешит, как ястреб ночью, рвут шкурку у семитского гуся, сняв мясо с палочки, кусая в ножку. Потом войдут в поэму без сапог, всей влагой с Нилом, суммой голых линий, свет совести у женщин уж погас, ночуй, чулки сними при свете молний! Порфирий спит, сожжен. Язон, базед, поет, как шило в лошадином мыле… 8 О, брось! Твой образ вижу, донна бездн, ах, Anno Iva, о любви ли мы ли? И я себя ругаю в грудь, — а лгут, измена — тоже «изм» у рабских в Риме, а скалоножки — девушки бегут с коленками, как зубы, раздвижными. Я в страсти строг, и голос мой сырой, плод письменности… Эти же ночные такие обнаженки — хоть строгай, в рот розу дай и нарисуй на чайник. Но мы завьем веревочкой, бутуз, широкий эрос в юбку бумазеи, а машек под шумок возьмем на зуб, быть может, ни одна не по зубам и. 9 По морю розы, светлых волн концы, в лучах у нас династий дни надеты, челн голубой, плывущий без конца вблизи брегов, где в ряд дурят народы. Неужто бьется в ребрах на весь мир тот шар, воскресший в тучах гуманизма, мне грустно, я без бури, как моряк без алкоголя, на людях — без ног он. Не хочется мне под челом свежеть, а мыкнем в мрак и выпьем вин на редкость!.. Я так скажу: жестокий жизнь сюжет и горестный, — живи, рыдай на радость. Я грустно-счастлив, это смехо-плач, жизнь этих татей зиждется на том, как 10 моя душа свободна и пуста, с талантом и лопатой землекоп я. Когда вокруг гармонию найдут и я умру внезапно в год лазури, идем за мной в клинический туннель за смертью молний, убиенных в бури. Или в Сибирь, собратья! В Ойкумен, где смерть стоит у сердца, как читатель, поэмой ямба год ознаменуй, озолоти их, господин чистилищ. Мне снится, как, мясисты от любви, плывут по морю смерти с книжкой люди, поднимут палец вверх большой: во был! — воспоминая обо мне и дальше. 11 А вдоль дорог, вороньих войск и сил, морских свобод несолоно хлебнувши, стоящи сосны, их живейший ствол — как прототип столбов, младых и хищных. Но так не будет! — вырвутся из дюн, у од в непредсказуемое время, и побегут по воздуху на юг, и к ним на ветви сядут люди моря. И понесут те множества людей, друг с другом обнимаемся по пояс, о, сколько нас погибнет от лучей, со сколькими, товарищи, простимся. Обеты все отпеты, в иглы, в тень вцепляемся, не связаны веревкой. 12 Ни родины, ни дарований нет, никто на континенты не вернется. Хоть бы не видеть! Но, с высот смотря, мы видим электрические реки, их светлую бумагу, и заря протягивает вишен полны руки. Костры, и их огнем объят таган, с картофелем свинина, лоб акулы, а псы пасут легчайшее ягня, шашлычное, с резным брильянтом лука. Кровать, и простыни свежи, белы, вот-вот бутылку вынут из комода, и женщина под потолком любви висит — горизонтальная Дамокла! 13 Мне бы спуститься к морю, взять бокал, сесть в сосны, видеть водный свет в колоннах, во фрачных парах с головой быков здесь ходят чайки с чайками на камнях. О время истребляющее! Тел, летящих в эрос, — многая с Востока, я сталь сниму, отдам октавы лат, пусть дух, худея, волком, легкий, вьется. Возьму волну, княжну и кокаин, уж пошучу, как Стенька Раушенберг, — я! Да ведь нельзя. Я пробовал. Никак. Не УЭСА мы, а у нас Россия. Венки на детях — девочках, растлят желтоволосых, рожь и русь по ужас. 14 После Петра мы видим результат: все та же грязь, пожалуй, и похуже. Петр переводим камень, и как мне на стул седла садиться плохо, Всадник, на камне — Конь и Камень — на коне, и камня мне на камне не оставил… Когорты шагом с каской на груди в жизнь, настоящий, Цезарь наш и нелюдь, ты шел всех войск на войны впереди, шесть раз пешком — от Рима на Лондиний! А этот — краснолицый, черноглаз, пил с топором, нога в ботфорт — как тополь, боев боялся, дрался через раз не за страну, а за имперский титул. 15 Тепл сосен стук — то дятл дует в кость, завинченную в рот ему от Бога, он пестро-красный сзади весь, и хвост, вид бронзовый при жизни, голубой он. Брат утренний, биющий саблей в ночь, спой, кто идет? — он спросит вещим хором, и я спою, что по морю, где челн идет своим наглядно-римским ходом, я свету эту белому не рад, несу свой текст, объят тоской по солнцу, и что мне той октавы ткацкий ряд, с секстиной что связует нить сонету. Мне с моря пахнет ромом, а кумир — свой карандаш, как лом, строгая, Бруты 16 из шеек раковых, на смех курям, веревочкой завьют у горла трубы. Ход Цезаря я славлю, тех телег, ум пехотинцев, конных ног с узором, какой приятный античеловек, — до новой эры, цельный, узурпатор! Он истин был отечества отец, но выше вижу, с ужасом и жаром: он в кожу человечью был одет, доспехов больших, в общем-то, желал он. Жизнь гения — и либидо-плебей… Так зависть убивает всех наотмашь, тех, кто не тот, а тут и не по ней, а лозунги… потом народ напишет. 17 Летит по небу бедный самолет и жмется, будто бьют его дубиной, одетый в сталь лягушечью самец, в окошках корпус, похотлив, двугубый. Как рыбий рот — гудит он, весь — огонь! И, как сферический пузырь, намылен, как настоящий друг и негодяй, всех выше механизмов, ум немалый. А все же он носитель и изгой вагона с пассажирами из мяса, летит мутант беременный с ногой на двух колесиках — как заумь Муз он. Кто знает свой у Бога род и герб, откуда вышли люди и машины? 18 Где было рок, теперь с наукой ген, а с кем, кто в Мекке? — не знаком я между. Был у меня на этом месте дом, из комнат состоящий и из женщин, имущий книги, живопись, да им я, жнец, не рад был, хоть и жил не нищий. Мой рок — порог, а ген — в ту лодку, в муть, я дом отдам, и съеду с комнат, с книг я, от женщины останется мечта о женщине — как полночь, пес, калитка. А телу в тыл бьют костылем идей, пьют патриоты сок из глаз, как допинг, у общих жен физиономья фей, сейчас сидят за пультами подонки. 19 А потому, ходящий по шоссе, — дендизму роз несомую люблю бы! Жизнь — впереди, над нею медный шест, на нем круг солнца вьет свою цибулю. Круг этот красен, в лилиях подол, уж не вот эта ль Людовиковица за мною ходит с зонтиком, а под — сверхчувства внеземных цивилизаций. Ея под каблуком шоссе дрожит, уж и трагична, толщину имея, а черный меч ее любви лежит на дне, в камнях июня, в Рима яме. Не итальянка ль в нашей финской мгле, и бедра, как янтарь у Рафаэля. 20 А тут же сбоку хлещут на метле две русской расы молодых форели. У них немного губы в молоке, по двое с вод бегут, как остолопки, смотрю: с металлом глаз не в медяке, грудь колом и по-женски в джинсах осы. Нога гола их, как сосновый ствол, на ней напишем углем иероглиф, что у мужчин живот из мяса сом, хозяев зад — они ведь иерархи. Над этим всем — слепящий плод, рогат, и шум, и мишура приморских сосен… А мы, за неимением ракит, ах, посидим, Хам-Сим, в тени сонета. 21 У входа в комнаты, где пир и свет, с ножом порежут трапезу, но чист бы был помысел — все видя, выйти в сад, не мыть по мясу, жить в свой час у чаши. И, вышед в сад из комнат Иисус Отца послушать, вьющий ветер с трав тех, что скажет в Год в расцвете полных сил, — от рождества Христова тридцать третий? Но ночь в груди, а впереди петух, Отец у слуха к горю и в глаголе, а под пятой земля тверда, как пуп, она кружится, с глиной, с головою. И скажет Он: любовь твоя, но ты в уже прошедший шаг нога обута, 22 у комнат всем темно смотреть и выть, уж дюжину твою никто не любит. Уж за тобой — иной косец, и срок у новых роз, и зоркость новых истин, а где расцвет или конец, сынок, — то никому из комнат не известно. Пойдут! — и щелкнут в пальцы, в рот кумыс, в телегу этот лег с другим у морды, я не скажу, расцвет или конец, ни одному адаму и удмурту. Небесна лошадь ест в желудок пуст, Бог не боится журавлиной соли, я никому на камне не пишу, кто ж эти обвинители, о Сыне? 23 А дразнят бедра, мы и тут споем про дом один у дюн, где свеклы в грядку подросток женский ходит гол, спиной, купая в море образ с грешной грудью. А по шоссе, как с песней, да не с той, стон сексуальный у машин — ад оран! Чужие люди ходят здесь стеной, как раннехристианские народы. Из рук вон выходящий слышен крик вокруг!.. И, выйдя выше на дорогу, мы будем видеть в водяных кругах купающийся образ с грешной грудью. Вкруг солнца мы кружочки, смысл сынов, в толпах планет людских — как шарики мы. 24 Наверх святых из комнат выноси, свистать всю смерть на водяные крыши! Мне снилось, что на озере Чудском лежу я в латах, в галочьей кольчуге, не рыцарь я, а русский с тесаком, на рельсах перерезанный чугунки. Со всех дорог я вынес много книг, я шепотом пишу, смирен, о сыне, но если я начну писать на крик, кто остальных, не сильных остановит? Не выйти вновь в идею на балкон, как с кепочкой прищуренной торгуясь… Ах, Ванечка, их сколько по бокам, все косточки-то русские, товарищ! 25 Ку-ку, укусим! — это нищих зов вошел у серых птиц в радиопьесу. Я восхищен сосной, я восхищен, хочу я вновь чихнуть и вновь родиться. Уж скоро двадцать лет, как вижу я красивый рост и молодую доблесть, упитанный и сильный он, — вожак! — телесен ствол, как луковица, золот. На нем мазки, как змейки в синю ночь, желты! рог загнут за спину, балован, — стоит сосна в саду, как светлый меч, не боевой, а мыслящий, любовный. С восходом иглы образуют зонт, как с казни сна, в летальных слез оковах, — 26 я вижу сосны в коже золотой, телесной, — жду свою, веков вакханку. Она в саду, над ней младой анис, садовники их моют хоботами… Здесь по шоссе гуляем мы у нас под фонарями виселиц бетонных. Не сосен и не яблонь! Не висят пока на шеях яшки-пугачевцы, ночами ламп кругообразный свет нам, горним, виден с виселиц — пока что! О Русь! Тревог и горя колорит, суровый Дант твоих земель селитры, с ножом на душу реализму лир уж не сбегу в иные силикаты. 27 Рифмуя рог и круг, усну у дюн, за зрелость в сорок семь — спи в эту цифру! Идемте в Летний Сад, идем, идем, мне мало дней и книг, и тянет к центру. Споем по ямбу! Ночь сквозь частокол, с биноклями смотрители Америк, уж крутится той стрелкой на часах лир намагниченных — стрела Амура. В цирюльне женщин я люблю в падеж снимать с монеты и белить обои, я жду тебя, но душу ты не жди, не требуй братства, сестро, от любови. В пруду у нас утоплена вода, в саду до нас все возрасты созрели, 28 ты будешь вспоминать одна, всегда, с тупыми, исступленными слезами. Срифмую лорд и дрель, не гуманист, на юг пою, старуха ногу косит, земная мазь любви и дух-гимнаст, возьму тесак и препояшу каску. У юной ню — тяжелый глазомер, да не войду в дупло, ни морд, ни лап ей, о женской раковине, в Рима слог, скажу я, как о рифме палиндромной! — ах лих Ахилл, а все ж в пяте звезда, о, отойди с рукой в крыло обидном, — в ночи звенят пустые поезда, то едут вечны женщины от дома. 29 Шел дождь, как шелк осенний, осевой… Я с ног усну под лавкою у мира, а кто очнулся и на север сел? Конец июля, а никто не умер. Никто не шел второй ногою, — лень. И с двух сторон я жег свечу ту сучью, до пятисот здесь утонуло лун, ушли, как шквал, товарищи по счастью. Мне книги в ноги больше не идут, они ушли тропой простой, народной, унижен уж, но не убит у бед, я пью один свой юмор пресноводный. Я думаю о женщине потом с луной летящей римского портала: 30 и это сердце дрогнет и падет?.. И это сердце дрогнуло и пало. В саду у демонов, слезу по рот, что месяц, светел, что с колес, с педалью, что эта сестро в голос нам поет, что эта церковь дровяная пала. О женщина, о римлянка по льну, рак боевой и битый в доску через — пятьсот и шестьдесят и семь уж лун утопло тут! — гремит мне черной речью, а рак рукой мне делает: идем на дно и выпьем весь запас манящий, и эта целость, Болдино и дом… Прощаясь с прошлым, я машу, шумящий! 31 Живя у входа в воду, как-то раз при мне из Леонардо двое быстрых, те ангелы с кружками на кудрях, как юнги Иоанна в бескозырках. Креститель! Этой оптики рука! — с опасностью рисуются, художник, подслеповатые два дурака, по возрасту не мужи даже, хуже. Читая Леонардо Дневники, за всеми поэтизмами посланца я вижу рок карающей руки и ужас указательного пальца! Прошло шесть тысяч лун, и видим вот: из моря пьют собаки — воду века, 32 их — стая, это вам не враг, не волк, а хуже — в круги, други человека! Я с ними ем всеобщей соли пуд, ношу тяжелый наш жетон на шее, я в эту стаю тоже попаду, мне только срок еще не нашептали. Моя собака бродит, как рабы, о том, что ропот, я пишу у киля, у жен в пороках все весы равны, а дети выйдут в девки и в лакеи. Я стол листаю, древних вод обоз идет, ему дубки поют, как дудки, мой волос волей ада обожжен, и своды звезд круглы, как эти сутки. 33 Я нить свою тяну из стран теней, оттуда роза вянет больше, — годы! — в шкафу, где с полной вешалки туник выходят моли, золотые губы! Хоть всюду счастье, все же жить тошней, я шкаф рывком открою, книги правы! Олеографий пыль от ног теней на всех костюмах со всех стран Европы. На старости язык от коз, типун, и жены больше ль младости желанны?.. Но две руки войдут под свод теней, отрубленные кем от девок женских? А я смотрю, смертельно бел, в трюмо, в нем черный лак магнитного рояля, 34 по кафелю с шести — шаги теней, и я вино в стекле из рук роняю. На круги возвращающийся в век, я вдоль дороги ясеневой узнан, все тот же дятл сосет янтарну ветвь, и горек грех мой, дом мой под угрозой. Вот роза вянет в альфе год сама, с реки теней, с пипеткой, потому что у женщин в телефонах голоса из школ теней, и мы тех школ питомцы. Кто ж руку ту достал из-под сукна и в комнату ко мне с второю кинул?.. Повсюду бьются башни из стекла, и никому нет комнат и каникул. 35 Достоин воли мировых систем, уловлен свыше, лик его ужасен, тот, кто умножить может цифру семь на все четыре стороны у женщин. Ему навстречу выйдет век теней, а то есть Русский Век у лиры ноты, я, изобретший сдвоенный сонет, как оптик рук у женщин — Леонардо. И ждет меня отнюдь не челн у тех, с кем въехал в эхо молодой Василий, та комната классических утех и женского ума, — где двадцать восемь. Я в девять, три и шесть, в итоге сумм рожденный в три шестерки Зверя с моно, 36 я, вычисливший цифру сорок семь свою и Моисея с Соломоном, надень на дом всю тысячу, врагу отдай еще, макая камень в воду, в пруду тринадцать чаек, говорю, он в Ленинграде, с гравием, у дома. Я думаю: что ж чайки так толсты, не от быков ли рождены на ферме, воды в пруду исписаны листы, а на столе — стоклеточник фарфора. Над Гастрономом ввинчен эхолот, он говорит одну и ту же ноту, что в свой желанный век я есть илот, и только тем любезен я народу. 37 Когда проснусь от праздников в поту, кому еще на ум не по себе ведь, я ивушку, Иванушка, пою, дурной и рудниковый песнопевец. Пройдет парад и этот, и помрут и эти поколения Ареса, но будет добиваться черный пруд безумную, но новую арфистку. О Господи, как много мне дано, пою в пруду рапсодию гадюк-то, сидит в чернильной пасте медонос и каплей меда мажет бочку дегтя. Мне белый свет в копеечку долой, за этот театр потребуют доплаты. 38 Как страшно ночью я иду домой, а плиты тротуаров еще теплы. Кого мне в окнах затемно жалеть, в ком угли угасают, все едины, с кем курицы, как мумии, лежат, холодные, как в лодках египтяне? А сверху белый круг сверкает с крыш, по мавзолеям катятся, как боги, древнейших вод железные шары, мне в баньку бы по-черному да на бок. Но к берегам не отводите челн, воспетый мной, он с лодкой одинаков, иначе этой ночью эта чернь в свой пепел-плач весь белый свет оденет. 39 Не в Рим, так в Ригу, — думаю, ходя по комнате с ковром из трикотажей. Возьму в вокзале звонкого коня, — и вот я здесь, в квартире трехэтажной. Как в прошлой жизни! И хозяев нет, они, как полагается, на взморье. По лестнице пройду в свой кабинет, как в лес зеркал, с изюминкой во взоре, двойной сонет читаю по губам, толстею телом, сходный с Зороастрой. Еще в квартире житель — попугай, по лестницам летает, дух зеленый. Как перышки у лука, белемнит, нос перламутровый, железный огляд, 40 его и Кант-то кое-как любил за ум романский и за нрав жестокий. Эскадрой на пирогах взятый в плен и в СССР ввезенный из Америк, товарищ бедный, он летал и пел, в ночи крылом махая изумрудным. Он очень мил и ест морковь за раз, имеет к цифро-пенью дарованья, он ровно в шесть выходит на зарю и, саблею гремя, идет, рыдая. А может, он посланец и конец души по Канту, голый шифр, как шея?.. Из Риги я поеду в Кенигсберг, как бабочка из фосфора, шипяща. 41 Но, прежде чем сойдет с ноги вагон и впопыхах нести баул в карету, я одному скажу благодарю — зовут Бироном, герцогом Курляндским. Спаси Бог тя за светлый желтый глаз, что русский род любил, как спелый камень, что и звезда Татищева зажглась, и пел свободным свистом Ванька Каин. Куда Вийону, этот — муж имущ, он из народа был убивец в ту мать, «ты, матушка-дубрава, не шуми, ты не мешай мне мордой думу думать!» Тогда работы осы, не сироп, и как вздохнула русская свирепость, 42 когда на тракт отправили в Сибирь всю сволочь из Верховного Совета. Как бык, Бирон с водой крестьянских мыз, с банкирскими домами — туч гонитель! Десятилетье ледяных музык, веселых войн и радостей телячьих. Волынский метит в золотой насест, кровавая программа по гамбитам, шумит святая Анна, сатана, все с попугаем, баба, с попугаем, ее Бирон не рабство и не связь… А что ж в Европе? — Польщены фамильей француз Бирон и Байрон англосакс… Латыш Вы лишний, человек формальный! 43 И древний рог у месяца погас, не ждемте чашу туч, она пустая, идет волна, как голубой сапог, на рыбий брег ногою наступая. И катит свитки свежие из вод История на стол мне, лжепророку, что Петр не Цезарь, но за пять веков кто, смелый, с ним сравняется по росту? Ну, а за десять? Нету! Пой же, степь, в грозу улиток жди, червей рогатых, пусть псы идут в доспехах по шоссе, их много, рыцарей четвероногих. У паровоза в голове гудок, как медиум, дымит он сигаретой. 44 Седок в купе кибитки занемог, сиделец с головой сереброокой. Я жизнь пишу по праву лебедей, мы с ними с именами и святоши. Ямщик, ты не гони же лошадей, мне с шапкою и некуда спешить-то. Я жду удара сверху, и на звук я встану и скажу: земля — другая. Ямщик, ты лошадей не загоняй, идет иных, торговая дорога. И нам на ней не страшен серый век, он только к Новой Вере перешеек! Стою, с тройной короной человек, но я иных миров первосвященник. 45 Я здесь чужой, и люди мой не чтут высокий слог, уныл у нас Солярис, и лгут, и бьют лежачего… На что я, говорящий ясными словами? У солнца круг осенний выше всех, но гаснет он, как разговор с богами, мои слова мильоны уст возьмут и выйдут в связь с червонными губами. У солнца ствол цветущ, но извини, и я ношу на лбу урея помощь, стекло луны с окружностью земли, Невы прообраз — длинный Нил по мощи. Спим с телом мы, изогнуты душой, как мертвый метеор… а спозаранку 46 лежал народ, над ним народ другой шел, сложный, вниз ногой, стреляя сверху. О чем, как чемпион, гласит осел, и тот в ночи паук живет, как перстень? По Иисусу-Сыну есть Отец, но и над ним Бог-Разум. Он безумец. Но и над ним, как мы над миром, — ночь, похож на дом, светло, и новички мы, всем телом любим ту животну речь, объявленную в облаках Началом. У битв-молитв автограф по ружью… Живой, ходящ, и нет у нот минора, кем в век гоним, что ж жалуясь пою в пустые выси пушкинского мира? 47 Но так ли уж не страшен человек? В крови и жизни я стою… Финал, и я вижу месяц сбоку, ниже — челн и всю тьму моря с синими волнами. Потопу — быть, где строится ковчег, льют стеклодувы нашу ля по небу, с цветочком фа по ободу венок я с головы — на шею! — шлю по Нилу, я вижу все сквозь половинки век, как тонут племена за племенами. Как с горестью, беря на выход чек в порт роковой, где дутый ворон Амен, плывут за человеком человек и душу рвут мою за временами.Музыканты. Их пять
А музыканты!.. Как у гусей, цвет у них голубой. Звук, извините, у них как из уст, вкусная флейта — собачкина кость! Четверо в цвете стоят на холсте, пятый — ударник! — сидит на хвосте. Как виночерпий, гусиный и шей, вот он и бьет в барабан, шалопай! Это — художник, румянец, барбос, а на лице нарисован Борис. Пять, музыканты, фаянс голубой, масляный холст, как у баб, у гусей. Гуси, бабуси, га-га, ни гу-гу, хоть у меня есть и русский рояль, я и на нем рифмовать не могу, а пью сосцы у Волчи-цы.«У дуба лист опал, нет в саду воды…»
У дуба лист опал, нет в саду воды, на замке амбар, и, как вепрь, верны все суки-клыки на моих стенах, и графин из клюкв на столах, столах. Я скажу: О гость, выйди и войди, у дуба лист опал, нет в саду воды, пусть под лампой грез горизонт как пуст, есть тушеный гусь в госпожах капуст! Выйдут и войдут, что рабочих рук вывинтят, как винт человечий пуп, снимут шляпы вверх с головой — на крюк, в третий свист запой, золотой петух! Перевелся гость! Со времен войны у дуба лист опал, не ревут волы, ясла полны им, слуги сходят с рук, только вилок век, только стульев стук. Ой мой стой, с тобой ни писать, ни прясть, как ни глоткой ввысь, ни ножом-колом, только лютый лоб опустить на пясть, ни на сыть нейти и кусать кулак, — будто небо ли-вней у сабль в огне, будто не были на войне, войне!Возвращение к морю (попытка)
I Я видел дуб у вод, под желтый лист мне машущий, шумящий, диво-стебель, я с чашей шел… А здесь рожают львят из желудей, — голы, блестят как! Дуб рад, что дар, что множит род и дом империи, что рдит в нем дрозд народа, пусть молодежь как малый дождь идет, а возрасту уже нужна корона! Они — идут!.. как молот вниз, как дробь на остров, и идут, как звон за воздух, идут у них и зубы… Дрожь берет от этих множеств, как пойдут зуб за зуб! Здесь новая империя Куста Горящего, — где дуб, явленец миру, здесь с радостью бы родила Христа Мария, если б здесь найти Марию. Но не найти… Там было три хвоста: у ясель: вол, осел и гад, здесь — вот что! Там — тридцать три у возраста Христа, здесь — ужас у трех тысяч вод — вот возраст! Вот почему, предвидя правду львят, где чистая идет из уток туча, я к Вам пишу за девятнадцать лет до Третьего Тысячелетья. II Я к Вам пишу, по шкуре гладя год — восьмидесятый нолик с единицей. Мне ясла пусты: вол, осел и гад едят девизы, а зимой едятся. Я вырвался, как пламя-изотоп, как знамя из земель, как стремя ветра, как вымя, вывалился изо рта, бью в темя тут: «Пройдет и это время!» Я знаю ритм у рта и дух так млад, грамматик у божеств, янтарный бицепс, скажи себе, как говорит Талмуд: «Пройдет не время — ты пройдешь, безумец! И жизнь пройдет, лаская жар желез, и жест ума уймется, безымянец, и в хоре горя, вторя, взо́йдет жезл: «Не жизнь пройдет, а ты пройдешь, безумец!» Не чту я ту гармонию магог, я — солнце слез, рассудок серебристый, я жизнь зажег, как ночь коня и ног, как соловей в соломе студенистой. Но мне любить, не мне ль и быть, жокей, конь без конца, без ног, кому повем тпру? К губам губами, как к жерлу жерло стреляют врозь, как два ствола по ветру. Любовь — не та, не нота ностальгий, не Лотта-с-Гетта за ездой, борзую ль? — где соловей уже не нахтигаль… О, не любовь, а ты пройдешь, безумец! III И я пройду, как Ирод, в закуток, где вол с ослом… и гад, и дат девизы… Империя Европу закует и так: чрез двадцать лет без единицы. Империя Европу — за кита! Иону в круг: не римская ль уж каска? А потому, что близится закат, агония у рабского комизма. Рабу без бурь нет жизни, без борьбы. Борьба же есть война — за вес лиризма. И, вынув зуб из-за дуры губы и в будни бомб бия, мы веселимся. Я поясню: я в бане, голопуз, уж за полночь, а Ваня слег, как голый, я в бане Ване поливал главу, как бомбу! Ваня встал, к борьбе готовый, вот раб стоял, весь ал, жереб, казак, Макар, телят гонявший в адрес Чермны, где Кузькину мы им покажем казнь у экзекуций деда Аракчея. Ты, Ваня, цвет, тебя полью водой, чтоб наливалось племя молодое, вот ты один, а если вдруг войдет Империя — о триста миллионов? Мы — ум истерик. И не потому, что злы, виновны, с кем-то в путь попутный… Вот я: ребенком, вставши поутру, в пять лет игрался с пролетевшей пулей. Я рос средь пуль, как гений-музыкант в кружочках нот, и что ж держа на сердце? — один расстрел, одну в законе казнь, наркот и две клинические смерти. В семнадцать лет, как умер ЭС-булат, и ни Гробницы-то ему, ни Од-то, а новый ЭН был винный и брюхат, я знал уже, что значит дар народа. Сей норд сержанта любит, а сей Сын, от марьи рож рожденный с мордой медной, взял в рот свисток, сжал, как живот, сосцы, и о каменья — как умел, младенцев по всей Европе (азиат, звонок! — твои товарцы шьются по ушам бы!). Империя Европу закует. Поможет жить ей. Помощь — без пощады. Но о себе: освобождая мир от свадеб, от рождений и очами в окружность глядя, мы идем на мы… Юнец, вконец не отошел от шага, тем временем я получу билет на византизм, то есть на возмужалость… И Муза в зоне в девятнадцать лет меня возлюбит. Вот моя возможность. IV Куда бежит оранжевый орел по воздуху, и гонится за кем он? Кто взял у горизонта ореол и в воду окунул, как бы с закатом? Зачем луна, как золото, взошла, искусство искр у неба отнимая? Идет-гудет внизу морей вода, голубоват фарфор и у омара. Вот лебедь — а как раб, летит, поет, свободный свет он, краснокрыл и звонок, у лап в клешнях и синий ал полет, и в ветры птицеперый держит зонт он. Вставайте, рыбы, из морей, из блюд хрустальных, — бьют столбы луны залетной, из морд морей тяжелый изумруд упал, сквозной, и капает, зеленый. Диск незакатный! Розовый! Душа планет ничейных! — сердца смесь с луною, из радуги, из влаги он, дрожа, летит и льнет ко мне, как бы с любовью, он по аллеям, как платок, летит, он ледяной, отогнанный, животный, как с хутора, как с хартией тех лет… Я лист возьму: он шелковый и желтый. Он — слог у губ, он голос, он не сглазь, он скомкан, с кем-то, ткань он, ниоткуда… О море, омут человеко-слез, плывущее о двух ногах куда-то! Краснеет от заката и светла вода морская — как волна морская! И грудь ее плывущая свежа, как женская и молодая! V Октябрь идет на веслах, как восход, с главой, остриженной до полукружья, мне волосы лобзает воздух вод, по лужам жжет и бреет рябь у пляжа. Стою, с тою закатною звездой, плод пламени, с гирляндой глаз под рампу, я тоже лист, звенящий, золотой, исписанный, как говорится, в рифму. Имеющий стило, или стилет, я — парус-лист, с тел ста любовниц кожа, я — результат столетья, я — Столет, дежурный дождь у солнца от ожога. Что рот мой рек о Веке? Что душа все смотрит в море, хоть вскормлен и в каске? — ей ни греха уж нет и ни гроша, лишь чистой чайки взлет, как в белой маске. Жил-шел по морю чайк-реанимат, влюбился в чайку, в перо не от Евы, ты мне сегодня в жены рождена от этих двух существ — у новой Эры. Не стройте стран! В жизнь — женщины уйдут, останутся лишь цифры у династий. Унижен уж, но не убит у бед, я жду: I, январь, чрез девятнадцать. Вот почему пишу иглой и лгу, шью белой нитью жизнь и вьюсь, как вирус… А все ж отодвигается люблю еще на девятнадцать лет, на вырост. VI Любить — кто, что? кого, чего? кому мне, комику, в живот всплакнуть: «О скептик! Ты — кормчий, не попавший на корму, а я люблю: венец, державу, скипетр». Кому — как ню хвост взвить, а кто умыт с утра, и в труд дурит, хотя б и сверстник, скажи ж: «Я Кесарь», — и смешон, убит, и не хоронят, — чуть не сумасшедший. Гай Юлий! — автор, ввел водопровод, имен-племен-времен-империй — туз он, сказал ж: «Я — Кесарь!» — дров-то в рот, а вот лежит, убит — кем, чем? — третейским трусом. О ком, о чем писать жизнелюбовь, юрист с лысцой и козопас без рыльца? А Цезарь — римомир, огромен, жив, имел он щеки льва, глаза, и брился. Он фараонов уложил в постель папирусную — в моря дно, читатель. Центурион, ценитель, для поэм он нам оставил плакалыцицу-чайку. Ах, чайка с челкой в ливни, не чужда ты морю моему!.. В Дому Балета кто Клеопатру клюнет?.. Чуть вода — ах, наводненье! Гром у нас, у Бельта! VII У нас, у Бельта свой минорный клепт. Народа нрав есть нерв от винных ягод. Тот, Цезарь зорь с колечком клеопатр, ходил на Бельт, ему и здесь Египет. Но Бельту свой линолеум, свой Нил, свой отпрыск, щеголь; щучий шут со спирта, тот — Птолемеев (легкий!) — дочь любил, тут, трудный, хуже — с дочкой Самуила. У рифмы римский-русский свойский смысл, как оба сходны уж у Музы пылкой: тот — по смерти чужих усыновил, тут — своего насме́рть убил бутылкой. Несчастны оба! Данники у дюн тот — африканских, тут — балтийских эстов, два эпика, два титулянта дня, отпетые у вин и эпилепсий. Два трагика!.. Злата тому листва из лавро-вишен, в ней светильный перл он! А тут — с ярмом, у моря, с мордой льва, как черный гром Европе — Петр Первый!.. Я так скажу: бегун, червонный жук по жердочке, как рыбка с жаброй — жаден. Есть суть натуры: Цезарь книг не жег, он их писал. Петр — жег, женоподобен. А потому, что ум не тот, и ус то ль недобрит, то ль недобита утварь, успеха нет у зависти у Муз, тот — роль орлу, тут — голодранец с трубкой. Не тот танцор у тел людских и толп, тот — род в народ, всех восхищенья шепот, тот, что ни шаг, — портал, триумф, оплот, а тут — носки слезой народной штопал. Лишь в титулах равны да по цепям оценены, что уж не имяреки: два первых истукана двум царям двух первых и передовых империй. Но тот и тут: глаз красен, как коралл, немыслим… Тот — не мореход, а всадник, сжег корабли. А этот — корабел, с конем — никак, боялся, как живых всех. Не видя индивида, Фальконе в медь бронз, — а ну-ка, солнце, ярче брысьни! Всех Всадником пугают на Коне… Не бойтесь, он матрос, с водобоязнью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я о любви. Им — петли волн лепи и набросай на шеи в виде водных… Лети ты, чайка, теплая, лети из жизни в жизнь их… Дай мне ягод винных! VIII О, факт Офелии у ив! И бью ль в сердца стрелой, как молоточком гвоздик? О времени, о жизни, о любви что думал Петр, умнейший головастик? Как с камышами, с шумом в Летний сад въезжал с музыкой гребень петушиный? Язы́ки, что ж, как сабли не свистят, о враль, о женолюб, о петербуржец? Я истреблю не драму, а народ, — он говорил, куя бессмертью купол. Лег на Фонтанку, как венок на гроб, хвостливый Имп. у женских на коленях… Кита Иона, катион ядра, как вырез губ в заборе — бирюзовый, я, вылупляющийся из яйца у желудя, — во времени, безлюбый, разбивший всю башку о шум кифар, где ум у них, у книг, и где фонема? А — Я… А я пишу, шипя, кошмар окрестностей. Я эпик и фантом я. Историк я. Швея души и тип голубоокий, — форма рифм задора. У Третьего Тысячелетья путь, я по нему иду и зрю здоровье. IX Чью жуть бы жить? Где б деготь у эгид? Чтоб львят ловить? Рыдая, в ряд трудиться? Прощайте, пращуры! До новых ид! Что дуб трясти, он сам трясет… трясину. Ругаюсь зря я… скажут: демон он, увидит кровь — ив ругань, не до нас-то!.. Но что мне делать, если день и ночь кровь ходит — императорских династий? Не голубая! Той уж нет нигде, споили всю с полынью в суп Фемиде, не красная искринка зла в нужде, вишневая мне кровь дана — фамилий. Не красная со шкваркой из свиней многомильонных, — родину горланя, не кровяная (шарик-ролик с ней!), не гиблая из губ, не голубая! Не голубая! беглая, глупа, пугливая, с кофейной гущей львята, не красная — гола и до пупа, гулящая в чулках, щеголевата, не красная! — нетрезвая рабов, неврозная, утоп в поту, тупая, другая моет бровь на этот раз, с вишневой кровью — вижу вас теперь я! Как вы, кивая, белый свет забрав, оставив кожицу как жизнь, шагая, как спросите: «Как жив у роз, здоров?» Как мне живется с кожей из шагреня? Как одному с двумя руками в жим, и чист лица овал, и шип на челке, двадцатый век в крови и не живал, не числится ни по одной ночевке. Кто он, кому я камень окаймлял алмазами сыновними, читатель, как я в канавы ноги окунал, идя и дея словом человечьим. Не найдено! Вынашивая, сед, вишневую, да по лугам гуляя, живите, жители, и те же, здесь — не красная, не голубая! Угас у гроз вопрос за молью лет, не вешняя! Всевышняя — у бедных! Я к вам пишу вишневой кровью львят, тех, топающих тут, не убиенных. У них язык лилов, они — Слова, я — им Отец, они — щенки, пернаты… Кто — и́дущий в моря с мордасой льва? Припомнится портрет — кто Император… X У моря, где еще нельзя, ни гильз, и вниз, шаля, вонзая трость, тихоня, я с чашей шел, я нес в ней синий глаз, я, помнится, сказал такое: «Я образ солнечный, я диск и льдист, иду я вдоль у вод, и вдаль я шел бы, но озарен, предвидя правду львят, свой гордости венец я снял, как шляпу. Ты — дуб! ты — друг! ты — будущий! ты — Бельт! У моря в раме, с временем по шкуре! имеешь щеки льва, язык, ты — брит!» — так я сказал тогда, теперь пишу я. XI Кто Вы?.. Но с головой Земли дебил на спицах ног несется по орбите в иную жизнь, где мир иных обид сулит иную публику амбиций. В петлях у волн теплынь-то тел с вина, ныряют в воду, в ад любви осенней, если б сойти до сумерек с ума, в диагноз-день — кто ж солнца вход оценит? А солнце в день войдет, как обормот, о ген-сократовец, злой из-под лезвий, — напустит дождь на бровь и обойдет, как в кепочке, с улыбочкой, подлейшей. Уйдет оно! И день уж гол, и льгот не жди, и дружб, и есть одна надежда: есть в море остров имени Тех Львят, влезть в воду, всплыть, залезть на дуб надежно, сидеть да сеть трясти, чтоб не соврать, даренья рыб, их жир у рож злаченый, взять в воздухе — изжарить и сожрать за облаком хозяев душ заочных. Я хор продрог, но тонок интеллект, пою, пишу в папир на дубе — том я. Ночь надо мной, а подо мной тявк львят до Третьего Тысячелетья. XII За тучей туча, замутит метель листвы, любви — и в ночь ты нов, и ясно, возьмешь тех львят, им дашь цветок: миндаль, сидят в руках, им солнечно и ярко. Им дашь молочный литр, и льнут, как с пят- ок вставшие, шелк вьет на шее кудри, поставишь на валун, стоят и спят, и карий глаз у них святой и круглый! Весна идет, а весла воду льют, а ветреница-мельница теченья Времен стоит на острове Тех Львят до Третьего Тысячелетья. Их узрит ураган — уйдет, к ним в гром орел бежит оранжевый по дубу… Вот вырастут же в море голубом и вплавь сойдут… на сушу иль на душу? Что думается, чудо-человек, мятежник, муж и дух, соавтор с демом? Откроют глаз они — закроют Век Двадцатый, — между тем, как между делом… XIII Но ад, он одарен альковным днем, когда с плечом блестящим и нагая восход-заря взойдет над нашим дном, как рыба, мордой ввысь, как наугад я. О рыба розовая, лом-налим осенний!.. Рокот, мол, ночное море… Уж месяц-мироносец мне не мил! Не любо небо родины в миноре! Я дом отдам!., (чуть вечный, ледовит дом человечный!), выжму пот железный… Уж осенью, а гуси не летят, Ты, Господи, гусей тех, пожалей их. Идет народ на Норд, гоним и наг, а эти льнут и любят клен и ильмень, им, гусям, уж не улететь на Юг, им к заморозкам зиму не осилить. Их держит дружбы поздняя печаль речушек в роще и рыбешек в гнездах, их крик с моим — как рук удары вдаль, что ж днем с огнем Ты нам не отзовешься? От слез — отрежу дуб и скот спалю, а дев спущу с цепи рукой ежовой, и дом, и дуб, и дев я не — люблю, страну, где эти гуси гибнут, Боже. Что ж делать — ладить с памятью тех лет, как плыть в полет, кто ж смотрит за устами? У тел до смерти — свойство улететь, не отпустили их… и запоздали. В моем пруду в партере вод — нет мест, над пищей — шип, у хло́пот — голос долог, по лет числу моих — их сорок семь, но тысяч!.. Замерзают гуси, голод. Не дрессируют сердце, и грозней года у дуг у бубенца отчизны, Ты полюби их, Господи, гусей, их холодны уста, и отпусти их. Вот выйдут в зори, — зов их узких уст, круглы у жал!.. А здесь за щит затишья подует в пруд, увидят и убьют, себя не смог, какой я им защитник. Не плачь, мое чело, посеем дробь, пожнется бури океан отказа. Как дура битая, Земля, как дуб стоит, безжалостна и одноглаза. XIV Кто тонет, тот не так уж говорлив, ну, две-три фразы, ритор, ну и… глубже… Ах, море, море, омут голубой, плывущее! А я — идущий, глядя: из вод изваянные, как в окне, на дне у моря фараоны спят, а на них валун лежит, на валуне стоит по чайке, их двунога стойка. И био-чайка Бельта ест и ест, и с клювом рыбку рубит, как с кинжалом, и если это души тех, Египт, — «Прожорливые — люди — души», — скажут. Отвечу: саркофаг на дне найди и ляг в него, взгрустнется вдруг — «еду б мне!» — не ешь, иди шаг в шаг и в две ноги, как пес у стоп — лежи, не лги и думай. Будь фараоном, я бы тут же лег, чтоб надо мною ножки-двойни… у́ж в глаз бьют голубую чайку в лоб и влет два ворона, тяжелые, как ужас. Убили, и упала, как в вине лежит в волне, и смеркнул синий у́ж глаз… И вот идут, как нотные, ко мне два ворона, тяжелые, как ужас. Они идут по берегу волны, как с копьями, как пьяные, как в шрамах, как орды, воды пьющие волы, как воры книг изданья Рима — в шлемах. Они идут в виду, как бы века со временем, со жизнью, со любовью… Два ворона летят, как два венка, железные, терновые — на лоб мне! Кто в свод свистит у солнца на краю? Прочь розу! — ты, пузырь у зорь нездешних!.. Где ярость я, юродствуя, кую, — идут и тут, два с дулами, неспешных. Два ворона, как ветры, вьют круги над взморьем и так смотрят с моря у́ж в глаз, что хочется взять выстрел за курки и не стрелять, чтобы не смыть с них ужас. Два ворона в дороге, как ружья от горя отголосок, как два брата… Они уйдут, как рыбы, вдаль, кружа, тревожные… А мне уж нет возврата.Зимний сад. Звездопад (В Отепя, нечто о новелле)
Белые розы шиты у нас нитью. На занавесках, фрау Элла — художник, в ней дух жен. Солнце выходит, сразу же красное на шоссе в 9.30. Стоит, строгость уст. Красное, как раскат грома, ждет свой смысл. У меня ж смысла нет, я встаю, оно уж устало и уходит, я не догоняю. Нет лягушек, нет лебедей. Утки в пруду. Не утопают, плавают и ныряют вниз, как пиявки — с черной головкой, с нефти отливом. Утки уж тут живут и селезни в декабре, жрут, как труженики. Не рад им Эрот. Голубь на перекрестке улиц, на дубе Кингисеппа и Хоэотса. Цел дуб, на нем мерзнут грибы, древесные, дубовые. Черный голубь, вижу впервые, вид у него орлиный и хвост. Жен нет. Жены у эстонцев на лето уходят в леса, а декабрь, и их нет. В лесу я видел двух жен — у кормушки (лосиной), забинтованы всей физиономьей, от побоев или от мужей. Амазонки они? Мне-то что. Эстонские нравы. Эти модистки домой не идут, спят в лесу с солью в носу, как лоси. Пауль, часовщик из Тарту, сказал о них: — Гвозди бы делать из этих блудей! — Фрау Элла, хозяйка, отложив вышиванье вещей в виде роз, взяв твердый топор и ходящая с ним по саду, как 88 лет актриса в фильме о возрасте феминизма, Элла — дочь, фрау эфира, вышивающая после мной наполненной рюмки (эфир) бледные розы и губ голубков с малиновым верхом, подарок к дню Мартина Лютера, к Рождеству, — Нео-Год у них по-эстонски. Все это шьется мне и не за деньги. Фрау Элла, в фетровой шляпе и гамашах, с ногами, ноги голы, то есть, рубит дрова, как рабов — головы летят с плеч, сверкая, а солнце, а луч — то чахл, то лучше, чем мог бы и быть! Луч в глаз, как в даль! Печь человечья! У фрау Эллы кутеж пламени в печи. В ней дух жен. Голубь — черный цыган, эстонский орел. А вороны как валуны. Зимний сад, стволы упакованы в паклю и связаны вместе веревками, как люди, герои всегдашней новеллы Человек и Веревка, плюс на плюс, как живые они к Рождеству. Сад-свет. Яблони-сливы, не похожие на деревья ни наготой (у нас наготой никто не похож!), ни формой ветвей, это чисто-эстонское, тусклая тушь, свинина и снег. В синем небе ветры, несутся. Снег — снизу. Деревья рисуются тушью, но тщетно. Художеств не ждут. Они зимуют. За мутью, и нам не до ненависти уж к ним. Но и они! — яблони-сливы зимуют, мизинец, может быть, отморожен и светло отходит, когда выходит солнце. Солнце выходит, где утки как карпы, хвосты у них. Здесь женщин нет. Нету зимой их, ни красивых и ни каких. Нигде на земле. То есть, есть, но всегдашние, с овсяными глазами. Взамен пыла. Гость не густ: никто. Звезды везде! Все плакался и ушел, как плуг в луг, в себя, был бешен — останемся в тьмущей, без звезд, без звезд. Ах! Теперь они всюду — везде! звезда на звезде! и в узде которого нет, коня-то! А есть у пещи котик Эмми, котица, хвост ужом. Уж как считается — гад? Вошли в моду готические замки. Стоят на холмах, как заумь. Эстонцы строят себе их, как квартиры, — жизнь бы у жен! Если ж идти с холма вниз, в зиму, к дубу, то — чем-то чреват черный голубь, но чем? А вот Август с Хильдой едят под холмом свеклу оперную с молоком, а корова глядит, как телега, им в рот с рогом как утр, ест камыш под шумок из кубышки у кошки. Сыр не едят холодным и тот же сорт. В холодильнике сыр держать нельзя, если он есть, если ж нету, а где ж его держат? В руке. Ходит с сыром в руке Эйно-финн, Лаппалайнен, холоден и свиреп. Лампочка светит, вися вниз головой, как эстонец, повешенная. Но не мной. Кем? Вниз головой, бедолаг он, без ног. Ноги — вверх! (Помни новеллу о Ч. и В.) Сад-свет. И фонарь — в нем, как механизм, как второй двойной смысл чего-то, как черта света во тьме между жизнью и тем, что зовем мы жизнью. Фонарь-то не фантазер, светит в сад, тевтонский светильник, как будильник. Будильник — он и будетлянин-электрофикат, фраз фонаризм. Недаром же говорим «от фонаря». Фонарь, а от запоздалый фрукт — лампы свет, висит, свистит, как вьюга, светлая, советская. Мать моя, метель! твою тявк! Тут имеется и метель, мы смотрим в сад, высмотрим и ее. А вчера! — 13 декабря был звездопад. Ах, август, и ты, плагиатор-декабрь! Звезды! — летают, как летом, в конце. Или ж вселенная — это дом декораций, чтоб я, ходя шаг за шагом, не скучал и не сгущал… Скулы мерзнут, нос-санитар! Венозный закат. Солнце — Мир: сидит, серый гусь, весь в халате из хлопка, цветаст, зад как шелковый шар, овеваемый, хор алых губ, горящий гудок, мистик, живу- щий, вечный, рокот и круг, фрау Элла, Кингисепп и Хэуотс, Мартин Лютер, Эмми, котица, Эйно-финн Лаппалайнен, Август с Хильдой, закат, — все, взявшись за руки, смотрят на солнце, любя, и закат поэмы.КУДА ПОШЕЛ? И ГДЕ ОКНО? 1999
1. Уходят солдаты
«Зашьют рты…»
Зашьют рты, откроются губы. Понравится голод, появится голос. Заговорят пушки — и запоют Музы!Колокол
Снится, что я тону, колокол Рима, из ушей пузыри, качаю стеклянные сферы, плавают и поют музыкальные рыбы, тонок их слух, речь открывает рты, читаю по губам, что и Рим тонет, портики, ипподромы, театры, рынки, бассейны, площади как пьедесталы и на них дома, статуи, виллы, сады, библиотеки, кони, трубы, ораторы, списки проскрипций, тонет Капитолий, спрутами обвитый, тоги, провинции, водопровод и Тибр, — вот и темнеет мир, не звуковой, а подводный, я один тону, и что-то в ушах гудит.У моря, у моря, где Рим
I Не слышим с лошади музы́к, пьянит её кумыс. Есть ход за Маятник, да вдруг на труп не хватит дров. Я строг, костёр, и пышет Рим, а он уже без рам. У лошадей кружит метель, жгут светлый дух ряды, и море, севшее на мель, все ходит у воды. II Я вам пою, что, кружась, взошла белая лампа дня, море свистит, а его взашей солнечный гонит яд. III Рисую: у моря стоит лошадей две-три, сосна, щегол, это поёт с водопоя Рим, в туфельках, злой, румян. Это под звёздами Желтых Псов море роится вспять, желтые звёзды его петель как ожерелья толп. IV Ты множествен, ты эросцвет и ум, где сеять ген, кого, убив, умыть. А я иду по ковылям, как Овн, а ты одет, как девушка, в венок. Я рад и редок, замахнул на Жизнь, а ты не рок, не друг, и дал жетон. Я честно вылил вниз в стакане кровь, ты чтиво туч. Скажу и про любовь: как сел щегол на лошадь, и — табун! как бьют яйцо Земли — в лицо, в набат! А я иду, как огнь и гонг времян, а ты идёшь, как девушка, — плашмя.«В этой лодке нету, Аттис…»
В этой лодке нету, Аттис, на заплыв пучины морей, трескнул Рим, и вёсла в ступе, пифы золото унесли, плебса слезы не в новинку, и отстрел Сената хорош, форум полон демагогов, Капитолий в масках воров, гений хрипл, бескрыл и сомкнут, он всего лишь двоегуб, но и две губы смеются, из металла именем медь, нет уж светлых сковородок, тут уж гунны черных дыр, не в новинку! не в новинку! где Двурогий? и где Бабилон? будет цезарь с Миссолунги, и повешен вниз головой!«Еще не вскрыты эти маски…»
Еще не вскрыты эти маски, ямбические у пеана, рождаемы, как желудь, в каске, в фасетах глаз у Океана, у ритмика, живущий в Мире, с огнем, и пеплом в виде пальмы, он может сжать рукой мира́жи, и из людей польются капли. Двуноги птицы! а не твари, и их витки между ногами, с ключами в щель от двери к двери, — кто претендент на монологи? Я знаю, лишняя победа над временем у гравитаций, и будут рушить вашу правду, я буду рисовать гравюры, как мисты, невидимки с ролью танцующею, или — втулки? и если вас возьмут за горло, я выберу из шеи дудки, и, финалист летучей шхуны, в плаще из линз над берегами, и будут рушить ваши шкуры, я высушу их на пергамент. Не речи! — выбритые тоги рифмованных от носа к носу, и всех кифар и эдов торги в постскриптум к этому анонсу.Какопакриды[2]
Весь Рим бежит, и шаг широк, их рот — распахнутый до щек, махнув рукой на позы Трех, я указал на грим дорог. Я говорю, открыт Закат, я вижу жест бегущих спин, от этой гибели за так остались щеточки от псин. По воздуху, и греблей же, — и как миллионы крыс в аду, лишь с онемелых грабежей идёт огонь и дует дух. Руины ширятся с ногтей, солдаты падают в строю, и в руконогой быстроте один стою я и — смотрю.Дистих
I Ты занавеска радужная, до ног, с тимпанами, и зал, и угль, из юности, а я гунн, свод музыки, а я глух. Я знаю их язык, мим, но робкая, а мой мах смел, их ярок взор, цветной грим, мозаика, я черно-бел. Носилки в Рим! где Зевс и фриз, и много губ фруктовых, и момент, поймётся ль логос их чаш, фраз, уймётся ль мир твой, обо мне? Отхлынется, уйдут они в рок, лишь в фотокопиях кружки глаз, и вздрогнется, что всё в нас вдруг, когда настанет время: нет нас. Ты жимолость, а я у Мома торс, у Тибра я стою без стен, опомнится, ты некто, я ни кто, что жил-были, ты ветр, я сеть. II Что живы ли, ты ветр, я сеть, опомнится, ты некто, я никто, у Тибра я стою без стен, ты жимолость, а я торс. И вот настанет это «нет нас», и вздрогнется, что всё в нас вдруг, лишь в фотокопиях кружки глаз, отхлынется, уйдут друзья рук. Уймётся ль яд твой обо мне, поймётся ль пена их чаш, фраз, и много губ фруктовых и монет, носилки в Рим, где Зевс и фриз? Мозаика, я черно-бел, их пылок вид, цветной грим, ты с робостью, а мой мех смел, я знаю их язык, мим. Свет музыки, а я глух, ты с юностью, а я гунн с тимпанами, где соль и угль! ты, занавеска радостная до ног.«Если, — то что будут делать тюльпаны…»
Если, — то что будут делать тюльпаны, лилии с молоточками, вишни и сливы, стекла в окна́х, глобусы ламп и треножник с пчёлами на меду, и бассейн, и жаровня? я не смогу быть ни с кем ни в одной из комнат, твой сад заморозит и ветры сломают, камни у дома сперва разойдутся и рухнут, псы одичают, и эту Луну не увижу, — всё, что любила ты, и то, что меня не любила.«Здравствуй!..»
Здравствуй! В синих морях голубые дожди отзвенели. Птицы включили все караваны, и с криком тебя провожают. Это кони Патрокла плачут в бою, где гибнет хозяин. Небо пылающих шпаг ангелимов на тучах трепещет. Камни идут с Гималаев, чтоб взять тебя в эхо Удмурта. Гимны выбросив в море и каски снимая, плачут герои. Чаши опустошены, и кончается Пятое Солнце! Пчёлы склонились в саду, он любим и посажен тобою. Очи закрою твои голубые, ты храбро сражалась. Нектар был красного цвета и горек. Женщин хоронят рукой и теряют Отчизну.«И настанет тот год и поход…»
И настанет тот год и поход, где ни кто ни куда не придет, и посмотрят, скользя, на чело, и не будет уже ни чего. Пой, зегзица, святой Органист, провозвестница у камикадз, — Ты собаку свою ограни, все же это судьба (как-никак)! В желтых лилиях вырос подол, две ноги, раздвиженки любви, кто-то жил, кто-то шел, кто-то пал, и ушел, Космонавт лебедей.Уходят солдаты
I Лишь спичкой чиркну, и узоры из рта, кубы, пирамиды, овалы. Не тот это город, и площадь не та, и Тибр фиолетов. В ту полночь мы Цезаря жгли на руках, о Цезарь! о сцены! И клялся Антоний стоять на ногах, и офицеры. Мы шагом бежали в пустынный огонь, как ящерицы с гортанью, сандалии в коже, а ноги голы, из молний когорты. И до Пиренеев по тысяче рек мы в Альпы прошли, как в цветочки, и сколько имен и племен и царей вели на цепочке. Триумфы, и лестниц Лондиния стен, и Нил, и окраины Шара, на башню всходя и дрожала ступень от римского шага! Что это у нас после Мартовских ид? лишь склоки Сенату да деньги, мир замер в мечах, вот когорты идут по Аппиевой дороге. На стенах булыжных не тот виноград, кричали и мулы в конюшнях, что Цезарь ошибся, что Октавиан… А мы не ошиблись. Тот был Провиденье, Стратег и Фантом, и пели уже музыканты, что этот не гений, а финансист, он — Август, морализатор. Сбылось, и империя по нумерам. Но все-таки шли мы в Египет, но в мышцах не кровь, а какая-то мгла, мы шли и погибли. Пылал Капитолий!.. И пела труба, и Тибр содрогнулся, и кони! — О боги, мы сами сожгли на руках сивиллины книги! Еще неизвестно, ли Риму конец. (Вот спички не жгутся, а чиркнул!) Не тот это голубь, и лошадь — не конь от Августа до Августишки. Тибр был — кровеносен в Империи Z. Не Рим это, тот же, но всё же, не мрамор кирпич и веревки не цепь, и Аппий — весь в ветках. Стальные когорты в оружье ушли, а было их столько, а сколько? Хожу, многошагий, они из земли глядят, как из стёкол. II А кто-то в ту полночь из тех, кто стоял с зашитыми ртами, и Доблесть, и Подвиг — оклеветал, а трубы украли. Двутысячелетье скатилось, как пот, народы уже многогубы, и столько столиц, и никто не поёт, — украдены трубы! Как призрак, над крышами стран — электрон да ядерный рупор. Не тот это голос! Зачем я, Тритон, взвывающий в Трубы? Имперские раковины не гудят, компьютерный шифр — у Кометы! Герои и ритмы ушли в никуда, а новых — их нету. В Тиргартенах уж задохнутся и львы, — не гривы, а юбки. Детей-полнокровок от лоботомий не будет, Юпитер! И Мы задохнутся от пуль через год, и боги уйдут в подземелья. Над каждым убитым, как нимбы (тогда!) я каску снимаю. Я тот, терциарий, скажу на ушко: не думай про дом, не родитесь, сними одеяло — вы уж в чешуе и рудиментарны. И ваши пророки, цари и отцы, горячего солнца мужчины, как псы, завертя́тся на «новой» Оси, как кролики на шампурах. И больше не будет орлят у орлов, их яйца в вакцинах. С березовых лун облетит ореол без живописных оценок. И вирус с охватывающим ртом научит мыслителей Мира, не хаос, конечно ж, и даже не смерть, но будут в гармонии срывы. Смотря из-под каски, как из-под руки, я вижу классичные трюки: как вновь поползут из морей пауки и панцирные тараканы. Ответь же, мне скажут, про этот сюжет, Империя — головешки? А шарику Зем?.. Я вам не скажу, я, вам говоривший.«В снегу лисиц сивиллины Трилоги…»
В снегу лисиц сивиллины Трилоги, требуквен Рим, лишь в Красной Кнопке боевой тревоги я повторим. Как молний и акул не мыслим стулья, как эхолот, я звуколов, а этому Столету я эпилог. Легко расстанусь с рёбрами по телу и с прахом ваз, и это вы и век уйдёте в Лету, а мой возврат. У ноты нет ни линий с языками, она как мист, в единый миг из камня возникает, из метастаз. Мне механизмы чужды междуножья, рождён, как Бык, мой красный мускул серии не множит, им полон миг. И смерть меня не более ужасна, чем взлёт пыльцы, поют уж гимны в воздухе у жизни Ея гонцы!2. Уходят цыгане
Уходят цыгане
1 Над городом (не договаривай!) луна с песцом. На пальчике доигрывай себе. По Невскому с цитатами тех лет я ухожу с цыганками телег. С бутылками и с бубнами всех лет, с колечками и с бубнами — валет. С гремушкой целлулоидной с утра, со всеми поцелуями у рта. С верёвками, с конем моим, с ножом, с туфлями канифольными ста жен. С цыганками и с дынями гитар, я ухожу от имени гитан. С кибитками, цветастые, с пургой, с шампанским и с цыганками — уход. Я говорю три формулы с икрой: пиковая, трефовая, и кровь. 2 Кто помнит кудри с розами, бокал! Как голосами грозными пугал! С романсами (ножовые!) — укол срезали, будто ножницы у горл. За голенищем с гирькою ножи, с цыганками, за горькую, за шар души. За кровь мою, открытую ветрам, за ту любовь ответную, — спасибо вам, что шли вы, огнестрельные, на нас, что били не со стремени, не нож на нож, за вбиты в позвоночники болты, за ручки позолочены, — бинты, бинты, за ножки перламутровы, — медны, за зубки перебитые, — менты, менты. 3 От этой топи-ильмени семь бед. Я ухожу от имени к себе! За зори с разносолами семь мук, шатёр мой разрисованный сниму. С каймою шали шелковой, с узлом, с дудой и Белой Лошадью уйдём. С пустой деньгою медною, с сурьмой, с комедией, с медведями, с серьгой! От этой тьмы египетской (а то — убью!), я профилем египетским уйду с тарелочкой фаянсовой во рту! Живите же с финансами, — вот тут, с билетами, по литере, от — до, мундиры и строители, — казённый дом! Со свистом, целым табором, цугом! Живите же по табелю, и без цыган. Я ухожу, уходим мы — в свою! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют.Подражание старинному романсу
Что в этой, циничной и людной, я призрак старинный меня, я выйду дорогою лунной, и нет ни ножа, ни коня. Их нету, на пленках из ки́но осталась их гордая грудь, убиты цыганские кони, и не с кем теперь говорить. Взлетели, как ласточки, сабли, и в землю зарыты курки, и нету дамасской полоски, и нечего делать рукой. Мне мрачны мышиные войны, мы вышли в открытом бою, разбиты безумные вина, а эти, целебны, не пью. И струны дуэнде гортанны, бесслёзный и яростный плач! А если берутся гитары, то как мертвецы на плечо. А выйдешь один в полнолунье, луна освещает меня, о если б бокалы наполнить и свистнуть в два пальца коня! О если бы новые встали, как струны из красных рубах, припрятаны кони и стали, я дам им, не дрогнет рука. Одену их в грозные нимбы, кинжалы, и стремя, и плеть, но юноши эти из лимфы, им хочется жить, а не петь. Хожу я, как призрак, по саду, Медведицы ковш не кипит, и девушки с гривой пасутся, но на пальчиках нету копыт!По февралю
Давно, что, может быть, чуть слышно, среди озёр, где лунный тон, скажи, когда-нибудь счастливой, не отвечаю, и не то. И жили мы, уже чужие, но всё же двое, а теперь, и маски гипсовой, тяжелой твоей вражды я не терпел. Но в этот век мечтать о ветке из соловьев, — в который раз, как два сокамерника в клетке, и кто кому погасит глаз. А может быть, еще возможно, я выну карту короля, а может быть, еще возьмёмся, я украду тебе коня. И мы умчимся в Дом Надежды, и Смерть повесим на суку, и этот саван не наденут, в ногах лампаду не зажгут. А может быть, конь бег убыстрит, иголкой спрячешься в саду, и не найдёт тебя Убийца, я выйду, что-нибудь солгу. А может быть, обиняками я Коменданту стану друг, и твою карту обменяю, и твою пулю — мне дадут. Моих литот, моих гипербол остался, может быть, стакан, уж на чешуях от гитары ещё поет тебе цыган. О эти черные чешуи, как перья коршуна зари, в твоей стране живут чужие и лгут свои календари. Давно уехали кибитки, и листопад лежит спиной, краплёных нет, все карты биты, и всё же ты побудь со мной. За эти звуки горловые, моя цыганская звезда, кричали руки голубые, что не сойдутся никогда. Я только руки отгибаю от умирающей груди, но эти руки голубые не отогнуть, не уходи. Я чужеземец, и по крови никто, помощник, не придёт, я руки пальцами покрою, и этот холод отойдёт. У нас все годы високосны, и нет ни завтра, ни потом, а эти стены высоченны, и не взорвать казенный дом. Я эти стены обиваю безумным лбом, и у груди я эти руки обливаю, и обовью, — не уходи. Не уходи, она посмеет тебя забрать по февралю, и плач постыдный и посмертный тебе, живой, я говорю.«Если белый, как лунь…»
Если белый, как лунь, то бери черенок, окуная в лохань, я точу черный нож. В кладовой на суку есть запас у меня, — положу и скую из цыганки коня. Карта вынута треф, голенище войны, по решению Трех медь цыганской струны. Всех, кто носит мундир, стремя льёт по углу, на цыганский манер я найду и убью. Буду всякую ночь я стоять над страной, выйдут вон, выбьют нож, я зарежу струной. Не за то, что у вас ненавидят цыган, а за то, что у вас бубна нет и цимбал. Стой с кнутом по степи, мой цыганский патруль, птицу черную сбить — нет серебряных пуль! Нет пчелиных свечей, наших ласк огневых, нет гортанных речей, чернооких гнедых. Медь натянет романс у цыганской струны, — нет за то что у вас Андалузской луны! . . . . . . . . . . . . . . . . . Но покрыты золой ноги, нож и стакан, и сидит, сам не свой, плачет старый цыган.«Розы, как птицы, меня окружают, листами махая…»
Розы, как птицы, меня окружают, листами махая, трогаю, и шипят, и кусают, рты разевая. Птицы, как лодки, меня окружают и как парашюты десанта, веслами бьют и, приседая на крыше, стреляют из ружей, окна открыты с луной, коршуны, жаворонки, чайки и цапли вьются у горла веревкой, в рот набиваются паклей. Снится, что я черная птица, лечу как чугунный, снизу охотник стреляет, а пули из воска и тают, как капли, и падают в бездну. И, опрокинуты когти, падаю в бездну.«Что ты пасёшься над телом моим, Белая Лошадь?..»
Что ты пасёшься над телом моим, Белая Лошадь?«Я не хочу на карту звездной ночи…»
Я не хочу на карту звездной ночи, закопанный, хоть это ни к чему, по мне идут империи и ноги, я слышу орудийные шумы. Я вижу воздух, молнии паденье, я вижу спички вспыхнутых комет, я мог бы выйти, но куда пойду я, я мог бы петь, но в голосе комок. Зачем мне тазобедренные кости, и череп, и цветы посмертной лжи, вот две ноги лежат, как водостоки, при жизни я не помню, чтоб лежал. А если и, то и не на Сиренах, мне девять Муз не пачкали чело, и сколько, карий, глаз я трогал синих, земные ню, — несметно их число. Я не таился, как фонарь секретный, я шел по Солнцу, освещая грязь, а тут чужие шепчутся скелеты, что на плите моей златая вязь. Ваш Шар замёрзнет, выключен, потухнет, меня завидя в прорезях Пяти, и Бог уйдёт в магнитные потоки, скользя по пряжкам Млечного Пути. Как нуль, посудомойщик Мирозданья, в светящейся нейтринной пелене, уйдёт, отставив с пальчиком мизинчик с навинченными кольцами планет. И убежит, как бешеный, за ширмы закройщик глин и прочих униформ, и каждый шаг, увешанный Шарами, звонит, как алкоголем, у него! Я говорил, сожгите это тело, снимите имя с книг и что о них, я буду жить, как пепельное эхо в саду династий автор-аноним, где, может быть, не всё и голубое, но не склоняют ветви дрожи ив, где нет ни чугуна над головою, ни пальцев, указательных, как Вий. Здесь льётся кровь людей, как водопады, и серый снег всеобщих метастаз, я не хочу ни в Ямбы, ни в Адепты, где, что ни встречный, смертник и мутант. Я жил уже, у индов пересмешник, и повторим, как метеор на Мир, я жду агон, чтоб выйти перед смертью туда, где нет ни Я, и ни Меня.«И белые ночи, и черные речи…»
И белые ночи, и черные речи, и аист эстонский, — как Нотр-Собор! — и голос нахлынет, огромно-очерчен, и сердце изогнуто, как скорпион. Неловкие души, им нет отступленья, взбегают на Башни, как парус с мечом, и вот и Победа, и бьются о стены, и локти кусают, им чужды мечты. И вот — снова бой, и опять они живы, мечи вознося, и, как призраки, льют кровь вымысла зла, я их, панцирных, вижу, о братья в атаке, и я их люблю. Я помню, как саги шли на Константина, усеянный лодками Рог Золотой, и стук топоров, рядом колющих стены, и лиц их, сияющих в смерти — зарёй! Я помню гром пушек Тулона, Седана, и черную шпагу твою, Борджиа, мы видим войну, как сады у десанта, и ядра, и крючья, и на абордаж. Я был Гибралтар и алийские ча́лмы на первый порыв, но я не был Осман, я Косово помню и Негоша плачи, и Косово-2 у югославян. Мы дети Стены, наше небо в овчинку, и вот и рисуем ландшафты свобод, коррозию молний и бега, — о чем ты? нет битв и не будет, затмит небосвод. Я битвы ломал, как широкие свечи, костюмы меняя от фижм до сапог, от бомжей до красной одежды Тибета, и ненамагничен мой черный компас. Но, чисто листая страницы Страбона, мне стул не подходит, и проклят мой стол, неловкие души ломаются быстро, им мирные рамы — стеклянная сталь. Я помню лимонные циклы Гранады, и пули, и губ гиацинты коней, ужасны угары цыганской гитары, и сабельный листик, и гром, и конец. И нет мне таблиц, и не по Реомюру, ныряя за древней и нотной доской, а голос-логаэд бегущих по морю мне душу терзает и полнит тоской.«Рисованье кувшина, будто он ню…»
Рисованье кувшина, будто он ню, рот, неспящий, при полной луне засыхает, это память вибрирует в желтых тонах, рученьки белые, лягут. Это волки кричат с далёких камней, слышимы беглый огонь, и луна, и бокалы, плач забытых теней, берег смытых дней, ночи безумные, очи! Небо не ценит, если металл устал, и поднимает удар на летящих, неловко, и срываются корабли с механизмов туч, рученьки белые, бьющиеся. Тех, кто любил, никому не скажу, лодки не слёзы, их крепят цепями, ночи безумныя, рученьки белыя, ночи да очи!«Вот и возникли, как псы, чистокровные, контролёры…»
Вот и возникли, как псы, чистокровные, контролёры, кровь по мензуркам мою разливая пипеткой, я сам скажу мои крови, я знаю, считайте: поляки, эстонцы, евреи, италы, цыгане, франки, норвежцы, остзейцы, тавры, мегары, испанцы, темуджины и арамеи, персы, кельты и белги, нет у меня ни капли красной, вашей, и с микроскопом, так что живите сами с собой, апологеты инцеста, агонизируйте сами, я ухожу, и харизму свою оставляю на стуле, выходец из холодных дверей, невидимка, уходит туда же.3. Уходят женщины
«Весна снеговая, а я не спиртной, а табачный…»
Весна снеговая, а я не спиртной, а табачный. — Три башни, три башни! Сидящий пятнадцать непишущих лет, три башни я вижу, их красно-коричневый цвет. В тех башнях три женского тела сидят и белые груди едят. Пред ними три стула, новы и голы, на стульях три шляпы моей головы. И плавают в тучах из слизи и гроз три лодки-селёдки в тарелке из роз!Спириню
Сорок четыре дочери земель Морс, голохвостые, спириню, стола ножку сжимая между ног и вертя, вызывают судороги, оргазм; текло. Что им видится? духи да челн и бездонность животных миров, где Плутон вставляет весло, вот Юпитер лезет к ним в лаз, а Сатурн прицепляет булавкой кисть, виноградину, и говорит: грудь. Сорок четыре дочери с грудками псиц, без сосцов еще, надувные со́ски торчат, столоножки сжимая в обхват, духов зовут, похоти полны. Похоти полны ко мне, но я сплю и сплю, нулевой вариант, губы (свои) к губам (своим). Я их вижу, жадных в дожде, изливающемся между ног, и, сзывая духов космо-звезд-планет, мстят мне (мысленно), злобой задавясь, зубки кроличьи, языки из ртов… Ай, астральные читки мертвецов! Сорок четыре фригидки вертят столы, стук да стук, обо мне им Миры клювиком водят между колен и долбят им пленки до утра. Как сказал Всевышний Кастрат: эти девушки добро и любовь, (но не рвут, а пленки им гнут), но пока, добавил, а потом, посвященные в твой жетон… ведь ночью и иначе жизнь их не ждёт! Слушают в уши, с Верху голоса, а видят мой абрис, злой лай, росчерк рта, ушки кабана, и красный мускул, — как солнечный удар! И думают, спело дрожа: — ЭТО мне! И это МНЕ же!Алебастр
Заря бледно-сера, ночь без перекладин, белое в белом на белом, простыни-альбиносы, дочери в алебастровых масках, окна наклонны, луна налегке, лиц у них нету, в воздухе рюмки вверх дном, канифольны, это кинжалы, рюмку беру, пустокрыла, кинжалы ломаю, их нету, простыни рву, запах простынный, блочной кувалдой по алебастру звеню, мимо звука (мнимо), той же кувалдой им морду дурманю, хоть бы хны, четыре кинжала блестят, чуть с синькой, вазы зову, безответно, в стены из алебастра стучу, ломаю костяшки, стен нету, под потолок запускаю кувалды, на рикошет, кинжалы же ближе, одну б изнасиловать, а троих друг на дружке, кинжалы ломаю, пальцы текут, липкокровны, кинжалы все ниже, нет, не проснусь, не прояснюсь, кинжалы ломаю, их нету, кинжалов, кинжалы у сердца, четыре, нет, не вонзайте, нет, не бейте, и будут, и стали всеми четырьмя, сердце стало, сердце ломают, оно, обыкновенное, есть, то есть было, падаю на пол из алебастра, лечу, как пропеллер, лампу ломаю, горящих артерий курьезы, быкицы-убийцы ложатся к лицу и смеются, вяжут из капилляров (моих) спичками что-то свое, женское, кружевницы, песню поют из Ханаана, а м.б. Ханя, и где и нигде невидимки, ноги ломаю (свои), как цикада, лица не биты их, маски, и плева тончайшая между ног у них светится из-за алебастра, плеву ломаю, смотрю в эти дыры (щели), а там — облака, как голубиные яйца, с надписями 1, 2, 3, 4, как стих из Корана… Но ничего не читаю.Гипс
Чибис и розы. Стекла гипсуют. Двери, дурачась, гипсуются. Жидкие руки куренья фонтанов тянутся, необходимые, за эшелонами звезд. Ничто не меняется, руки уходят в ничто. Девы гипсуются, простыни — гипсоносители. Но ни звучанья, ни бренчанья, ни броженья, ни движенья. Остается Минута Медведя, вот он как рухнет, как ухнет со своими 10 прожекторами на лапах… Не ухнул, не рухнул. Лежу в лошадиной позе. Стены мне локти целуют, комар налетает то в правое, то в левое ухо. Охо! Луна светит слева, будто сливы из бараньих яиц. Учитель с биноклевидным блюдом. Я бью Его по лицу. Звонко! — ничего не нужно.«Поэма потеряна…»
Поэма потеряна; я говорю, повторима. То, чего нет, досочинится слогом особо-согласным. Эрос мой резок, но пуст. Что ты меня обнимаешь, как ножницы, дева?«Эрос не рос…»
Эрос не рос. Ведь дева была без подушки. В ванне, одна. Отключили краны и душ. Я ее поливал кипятком. Шипела. Но эрос не рос. Маленький мой огонек не поднимался столбом. Я ведро вскипятил. Сел, как соловей. Эрос не рос. Члены мои леденели, как дети. Чресла ее пошли пузырями, ожоги. Я дал ей супа. Суп не помог (в миске москитной). Ожоги мешали оргазму так чрезвычайно, как от изжоги и как ежи. — Что бендем делать? — спросил я. — «Скорая помощь»! Восемь врачей нас растирали. Но эрос не рос. И только когда полилась из крана серая струйка — эрос раздался! Подушка пришла. И на подушке сидя и плача от первого раза, душ зашумел! Эрос раскрылся.День надежд
День мой деньской одеяний! Надел широкую шпагу. Широкую рожу надел на узкие зубы. Надел на демона девушку без перчаток. Надел на глазницы (ей) бюстгальтер — лучше очков! Штаны не надел, девушка ведь надета! Что бы еще надеть? — Шляпу. Надел. Одет недостаточно. К шубе шагнул. Девушка не сходит, сидит на демоне, как на стременах. Ну что ж, ну что ж. Надену еще шаль шерстяную себе на спину, ей на грудь. Не видит, визжит: — Не надевай, я ж обнаженка! Сидели в то утро мы с девушкой, так надетой, что и не вывинтишь. И так — часов пять. Потом мы оба надели делирий и развинтились. Лежали, дрожа! Ели с ноги простоквашу. Слава богу, хоть к ночи мне удалось одеться во что-то из меха. Это «из меха» — сестра ея. Все же надежда на теплые отношения. А третья сестра под нами легла, как диван. Так, троеборцы, они одели меня, без меня. Ведь я их взял не умом. А демонизм? Обаянье? Шляпа до плеч? Одна как стена, вторая как циркуль, третья — диван волосяной. И я. Под луной многострунной мы плохонько пели в комнатке-колбе. Помню — не помню я тот еще фестиваль!«Рисование ню, если она как гипноз…»
Рисование ню, если она как гипноз, молодое лицо как мясо, фляги не дрогнут, я кладу ее на пол, мажу спичкой с бензином, и что ж? — жир сливается ливнем, и ню, как говорится, пылает. Флегма в прыжке, взвивается гонгом огня, то катается по углам, то летает под абажуром, талия тут же худеет, ножки годятся карандашу, не как гимнастка и балерина, — бубен мистерий! Эти линии плясок в сиянии искр, ребра белые уж проступают и конус у бедер очищен, и сквозь факел рисую мгновенья лист за листом, кости тлеют в тазу, угли как угли. Я лаконичен, метод не нов, Буонаротти Микель, если модель не деймос, создаем динамичные позы, только хаос огня возбудит дуновенье штриха, ну, а пепел несу в унитаз и смываю.«Я не шар сунский…»
Я не шар сунский. Лежу у берегов гребли, как выпуклая лодка. В воздух войду, и ни шипа, снего-дубы. Дерево пилят на книги. Пусть пилят. И кто-то в костер, по-ихнему угли, уж мою голову подкладывают и подкладывают, и подкидывают. Девочка в розгах. Унесу ее в пески к змеям. Там они обмоются. Как кстати. Вода бежит, луна брезжит, перебрызгиваются. Шар сник. Я слег.«Снего-дубы. Синева. Я пропащий…»
Снего-дубы. Синева. Я пропащий. Книгу ногой отшвырну. Пусть пишут псы и целуют у литер, то, что целуют. В воздух войду, и ни шипа, и, дыша, у дерева высплюсь. Пошел в печи, писака, пищалка, шептун. Бани бескнижья. Пой, Одинокий Сыночек! Дерево пилят на книги, а у них разве что внутри, как у кошек, лучевая, мочевая! Саблю открою.Август
Улитка с корзинкой, лягушки стоят на камнях, как сфинксы, и ветр в осинах! Мышь, с лапкой. Дрозды, целой стаей, у ягод. Звезды всё ближе. Сверчок! кто-то уйдет.«Я не шезлонг аллюзий…»
Я не шезлонг аллюзий. Земля, как разрезанная пила. Кровь, как мясо, кипит, новолуния нет. Кусты золотые. Разобщается мороз. Вижу в руке Шары Земные фонариками, дождевыми грибами. Уход и стук человечьих лап оп-оп, ап-ап.Уходят женщины
Уходят, их губы в рогожках, в песцах, в каплях, как звук. У холла попытка возврата, ступеньки стучат, отключаю звонок. Их чаши забыты за бунт на коленях моих золотых, где гремел алкоголь. Прощайте, из памяти, числа, я их рифмовал, алгоритм. У оды на улицу, в листьях, в такси, запахнувшись там, где нагота, уходят на пятках из ниток, в подошвах, на ноготках. С ушами не стоит и нянчиться, столько волнений, ушли. Ужасно! — в крестах их Варшава, и С. Ленинград, и Париж, и Сибирь, и Нью-Йорк, и Иерусалим. У сверстниц, ушедших в петлю, в карбофос, головой о панель, — уж вестниц! — их дочери, внучки, в портфеле пенал, из окон влезают, карабкаясь, как скалолазы, луна и видна и медна, их звонко- поющие губы не будят меня. Простишь измен целлулоид, — за страусовый чулок! Престиж мой абсурден, а ревность бредова, — при стольких числах! Уход и меня недалек, вот уж шаг, и привет, черемис! Удод на болотах поет, и сверчок зазвенел через мост. Я лягу, куда не хотел, в эту сыворотку из глин, и ложью покроют мой торс безлюбовный — рябин да калин! И ложью закопан досмертно, лишь дырка для рта, и лошадь издохла, и меч в чемодане, и сохнут уста. Меж тем, как ракета, летящий, я вспыхну в огне, метели, цунами, мистраль и динамоудары поют обо мне. И женщин, рифмованных мною, останутся на континентах гудки, их жемчуг, оброненный в море и рыболовецкие гамаки. И с визгом и жалобным воем смотрели и будут смотреть, как свистом, с ножами над головою встречаю я жизнь и приветствую смерть! Двадцатый! — о Господи Бомже, иди к идиомам, за ним тридцатый, потом девяностый, как винтики, кто их — незаменим? Я тысячелетник и сын Намагири с Пэн Ку, магнитная ось, где Восток, телега, синдром колеса, на коленях — все те ж. Всё то же, и крыши Египта, и порох Китая, и Пятое Солнце, ацтек. Весталки и пифии тоже рожают уже из шприцов из аптек. Но это нюансы, как, скажем, не груши, а гири в саду, не важно, и, может быть, скоро, но новые юноши, я их посеял, взойдут! Не люди, а громкогудящие Звери в оправе из молний, — всё, что не муляж, луддиты, любовники, и гладиаторы, и скоморохи, и всё, что мятеж. Мне ближе вот эти, чем гибель Империй и кучки культур, и т. д. в манеже банкующих Номенклатур, или силос из демоса, или «идей». Ах, нигиль, я знаю азы, не рожденный, а вычерченный на небесах. А книги сожгите, как тело, как лодку, как колос, — я их не писал.Элегия
1 Август, и стиль птичий, руки уже облетают, пальцы с ногтями (мои!) кружатся ночью у лампы, уши срываются, вьются, стоят в двух стаканах, губы отлипли, по телу ползут и кусают, катится голова по комнате, глаза ея многоцветны, и позвонками мухи играют в кости. 2 И дожди облетают, проснусь, а стёкла солнечные, умытые; мокнут в листах разносолы, в белых колоннах берёз ничего, кроме неба, девочки голые, платья их стороной мой дом облетают, нищие люди идут по полям, головы в небе, хижины им подбивают новенькими гвоздями, руки покрашены глиной. Жизнь зажигает и ножки и ложки и фляжки! 3 Что я тоскую, как третий консул по легиону, как сапожок, калигула, — без децимаций? в этой идиллии серпом болота не косют, в черных туннелях ночей хожу, и нет мне покою, Сириус строит в шеренгу планеты у Солнца, он им устроит Парад, и от грохота Неба эти Шары задрожат и взорвутся их океаны, что же я буду делать весь год без «катаклизмов»? лягу на землю, на ухо, и что же, — мышь запищит, Сириус! И не слы́шны шаги легионов… 4 Утром проснусь, а в саду уже ходют лопаты, головы на местах, и ни товарища с кровью на шее, что-то мы просмотрели, кто-то нас предал, всех опоили цикутой, а меня позабыли, — пятой колонны, первого легиона, тот, кто пишет вот это.«Рисованье вокруг, будто я пейзажист…»
Рисованье вокруг, будто я пейзажист, у капусты моря, как синие шляпы, в бочки Н20 смывает с крыш, да туманит… Эти виды не пишем. Это печалит, но не оживляет глаз, живопись у листвы мажет холст, а перо графичней, лучше уж ночь и Небо, и — зажглись! И я включаю свой дым, сигарету. Ночь такая, чудная, в Верхних Этажах, под ногой свистит, этот Шар-эпилептик, не хочу «новостей», отпусти к тем, кто там, где Циферблат гремит справа налево. Что бы ни делал, куда ни шагну, не то и не так, а спрошу, нет ответа, размноженцы в 6 раз за 9 нулей зашли, дай уйти самому, вычисли единицу. Где-то пуля летит в одиночку, как шприц, скоро, скоро, м. б. с кем-то соединится, я снимаю голову с петель, бросаю в ведро, дай закрыть себя, не держи меня здесь, Провидец!.. Эти речи не слышим.«Вот и ушли, отстрелялись, солдаты, цыгане…»
Вот и ушли, отстрелялись, солдаты, цыгане, карты, цистерны винные, женщины множеств, боги в саду, как потерянные, стоят с сигаретой, уходят, сад облетает, и листья, исписанные, не колеблет, что же ты ждешь, как столбы восходящего солнца, солнце заходит, и больше не озаботит, магний луны и кипящее море, и не печалит ни прошлого губ, и ни завтра, книги уходят, быстробегущий, я скоро! Все, что любил я у жизни, — книги и ноги.ФЛЕЙТА И ПРОЗАИЗМЫ 2000
1 «Дар напрасный, дар случайный…»
Дар напрасный, дар случайный, что ж ты вьёшься надо мной, что ты ставишь в руки смерчи, эти речи у немых? Что ж ты бьёшься, как астральный, в шелке листьев кимоно, разобьёшься, и оставит лить рисунки на камнях. Луны сникли, вина скисли, дух уходит через рот, как тоскливо в этом скользком грязномирье, — от чудес! Смерть на веслах, на пружинах под коленями стоит, и зубами перед жизнью ничего не говорит. Неповеды, немогумы, что срисовано у букв? Смерть зовётся по-другому, с пеной красится у губ.2 «В этой сюите не тот Огонь…»
В этой сюите не тот Огонь и губ какадувный бег, и ветр известковый, и тот — не тот, и крики минуют рот. Завтра меня возьмут под уздцы (будет, не будет — решим), где небо извести на потолке, и поведут туда. И завтра, иглами вооружась, мой рот возденут на стол, и будет спайка двухдувных губ и много пяток моих. У слов и у музыкальных зон не тот оттенок, не тот, разрезав живот двуручной пилой, опилки не собирай!3 «Выпавший, как водопад из Огня…»
Выпавший, как водопад из Огня, или же черепаха из мезозоя, не один из немногих, а ни один, как конверт запечатанный и не отправлен. В общих чертах я был бы, но их-то и нет, разве считать за «общность» поющую челюсть, в тело одетый, с вычерченным лицом, будто бы что-то значит рисунок тела. Как я полз по пескам вороньих лап, или летал на железе по городам и странам, как я шагал шесть раз ногой вокруг земли, всюду как клоун поднимая сабли и горны! В амфитеатрах и цирках трагический абрис смешон, у гладиатора в одиночку картонные тигры, кто из великих выбирал, а кто, извините, «великий», — яйца в сметане. Так можно сказать обо всех, кто взмыл, ни один не добьётся себе сверканья, от «внешнего вида» Креста остается три гвоздя, а от Будды сорок зубов и склеенные фаланги пальцев.4 «У трагика нет грации, он сценичен, ролист…»
У трагика нет грации, он сценичен, ролист, очи блистают, лоб и голос, всегда на котурнах, смокинг и миф, ему не хватает чуть-чуть дендизма. Скажем, в антракте откинуть фалды и побренчать хвостом, или же смазать грим и нырнуть в помои в корыте, ему не хватает немножко Редингской тюрьмы, или руки, оторванной, как у да Сааведра. Или же лаять на четвереньках, как Гюи де Мопассан, чтоб дюли[3] запомнили и эту поэтическую тонкость, быть прижизненной статуей — нехитрый механизм, и вечно будут полны саркофаги Гюго и Гете. Не прикасайся ко мне ничья Звезда, звери не любят касаний, и не надо, если я надену золото и пойду на пьедестал… не будет! я предпочту другую походку.5 «Я живу на тех островах, что текут в речку „чур!“..»
Я живу на тех островах, что текут в речку «чур!», они болотны, а значит в них нет винограда, и многомиганье птиц, и аэродром, откуда никто не взлетает, п. ч. он трясина. На жидких дорожках тонут самолеты и столбы высоковольтные, и цветут трости, а дом оседает в эту могучую муть, и скоро мы по макушку погрузимся. Я живу как чиж со взмахами крыл, они как два топора за плечами, и я лечу туда, не знаю куда, разрезая воздух и рубя бездны. Я лечу, как овчина, снятая с крючков, планер, радиозвук, неслышим, серобородонебрит, «свободолюбив», и возвращаюсь, и на крючки вновь себя надеваю. Риторика. В ней я не достиг даже начал, а хорошо б, как у других, одаренных, но много в доме и вокруг имажо́, призраков, насекомых, видений, клинописи и чисел.6 «Много ль требуется? Дом, даже такой, как мой…»
Много ль требуется? Дом, даже такой, как мой, возведенный из досок и обложенный кирпичом от ветра, в бойницах средних веков для стрельбы (репер!), гений-баллист (а кто атакует?) чищу оружье. Не понимаю, не помню, вечный Дискобол, сценопоющий, саблеблещущий, Летучий Голландец, увешанный дездемонами, как брелок, как превратился в даоса, — вот загадка. Не нравится. И не помни. Сухую рыбу жуй, пили тела деревьев, чтоб, как в Освенциме, сжечь их, дятел долбит, кукушка кричит, часы стучат, я говорю, — не нравится мне эта трупарня. Этот морг, где возят себя на колесиках по шоссе млн. мертвецов, пальчиком прибавляя и убавляя скорость, где никто не бежит ногами, а весь мир сидит, мне унизительна радость народов, вскрывающих консервные банки. Руки кружа́т с воображаемой быстротой, не нравлюсь я себе в ситуации анти, ноги бегут по тропинкам, а голова бьется как щука подо льдом и нерестится в бочки.7 «Не бойся. Когда будет спад у тоски…»
Не бойся. Когда будет спад у тоски, я уйду, эта яркость — растительные краски, Черный Квадрат несложный вымысел, он еще до династий Тань, но никогда из тех кто рискует не сможет Белый. Черный это всё, почему б не квадрат, а белый — подмалёвка, или же грунт для калейдоскопа, в белых холстинах римляне и планетные рабы, а в XX веке ходят белые рубашки. Белая магия — рассредоточение пустот, Белый Клоун Бога — дизайн для манежа, цвет атеизма и смерти (клиники — белы!), в древних династиях белым был только саван. Но и цветастость от перевозбуждения глаз, китайская тушь диктует, что линия интенсивней, смотрится на всё раскрашенное, и пестрит, и рисуется пером черная орхидея. Так и есть. Но и это опять от того, что тоскую, а вокруг в шнуровке комплексанты, вздрогнется и взовьётся, и некий мираж белого безмолвия, но и этот мой импульс ударяется в шкуры.8 «О бедный Мир дарёных слёз…»
О бедный Мир дарёных слёз, домов, дрожащих в ливнепады, зелёных грёз, солёных роз, двух рук, некрашеных у лампы. Что ты стоишь стеклом у глаз, уж снег, уж снег, неограничен, на нижних вылит жидкий гипс, мизинец согнут и не греет. На берегах Луны иной живут иные дни и рельсы, они некрашены у ламп, и их дома дрожат, реальны. И может месяц сольных роз мизинец грёз обрезать се́рпом, о бедный Мир дарёных слёз, и вот и все твои сюрпризы!9 «Как аллигатор из-под одеял…»
Как аллигатор из-под одеял ход Сириуса из Плеяд, и перия из источников туч, с деревьев сходят струи́. Кисти ломаются и кружат, не виден ветер у рта, а над горой поднимается медь, и ветер как известняк. В стекле волнисто, и дождевой лак — испарений ждет, а может и нет, а хочет быть прилипшим вечно к стеклу? Переливание крови из вен сада — всего лишь трюк, как в кинолентах из серий Лун следят, — а кто серпонос? От стука шаров и хаоса луз эклиптик, и Он устал, Ему бы свирель и удары в медь, а не биллиард и кий… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и если учесть диапазон меди.10 «Пустоголов; мой сад в круглых щитах, золотых…»
Пустоголов; мой сад в круглых щитах, золотых, разве что память о теле, как тысячелетние вина, над головою влага, в желтом волы, да ползут как памятники львы и носороги. Я говорю: память скроется, и моя, и обо мне, в саду островерхих птиц больше, чем ягод, уже улетели тела тех, кто летуч, и мой отлёт вот-вот и не готовлюсь. Хожу, как Гильгамеш и стукаю палкой о пол, мышки разбудятся, я им собеседник, найден в цветах и ящерицах общий язык, дюли ко мне не ходят, наговорился. Не ходит ко мне человеческая речь, а из царей прибегает соседский Ричард (колли) в гости за костью, говорят, у ню способность украсить ногой дом, но мне красивей ноги у вишен. Осень, как элегично, и вправду бездождливо и янтари, и на экранах мелькают сильно цветные картины, пиши, пиши, девятка, три плюс шесть, будущий (этот!) год трехнулевой, а в нули мы гибнем.11 «У человеческих сочетаний нет нуля…»
У человеческих сочетаний нет нуля, в решете у Эратосфена простые числа значений, нуль — фантазия поздняя у уже многочисленных каст жрецов, чтобы всех превратить в нули и царить вечно над всеми. И царят, и меняют календари, чтоб обмануть уничтоженных и спутать звёздные судьбы, самосознанье нулей, что он — ничто, и в любой момент подлежит вычеркиванью и «на колени!». Это всё ж от наивности каст, от непонимания аксиом, что, создавая рок, они себя превращают в жертвы, ау! не докричишься, что по законам чисел вселенского «решета», нет-нет, а возникают единицы и даже девятки. И от них — Революции и уничтожение всех «судьбоносных» каст, от ненависти нулей, они ж не знают обман, что меняют касты на касты. Им важен миг, что он уже не нуль, а значимая, а не математическая фигура, и самый нуль из нулей становится гений, герой, о да! искусство для искусства, а т. е. бой для боя. «Бой для боя! А завтра — пропадай моя секир-башка, и я рублю рукой головы этих маньяков власти, в тот миг божественный я поднял себя на рок, внушаемый мне, нулю, и указал, что я существую. В тот миг безнадёжный, когда один огонь, я полон бури и полноценной крови, гори, догорай, моя Звезда, я видел Небо! ты не увидишь его так близко!»… Эх ты, бедняга!12 «Настроенье пуническое. Сигарета как патрон…»
Настроенье пуническое. Сигарета как патрон, вставляю в челюсти и лязгаю затвором, выстрела нет, а дым, и… боевой мираж, и сапог из кирзы надеваю. И хожу по дому, печатаю шаг, висит на груди Крест Грюнвальда, м. б. это и «театр для себя», а дом содрогается и пауки выпадают из сеток. Как сказать! Если на сцене 6 млрд. солдат, (на берёзе две вороны, обе венерологичны!) и воинственный ветр обдувает им скулу́, и с тоски бутылками рубят друг друга. Если сяду на стул, обязательно обрублю свой сук, мои виденья медовы, — в замок Смерть стукает пальцем, открываю, — как манекенщица! трогаю грудь, ножки как ложки! — краснеет и убегает.13 «Люди как бомбы, ими заполнен склад…»
Люди как бомбы, ими заполнен склад, лежат и мучаются в ящиках с замками, их не откроют, а если заглянут в щель, тут же взрываются, от взора. Кислые, как осколки, прыгают по этажам и умирают в лифте, сложив плечи, или же как статисты, выпрыгивают из окна, тысячами фигурантов в сутки. От этих взрывов и прыганий устает лицо, ещё они надевают электрический шнур на шею и нажимают пальцами, это не киноужасы, а потому, что позабыли им вставить в шею пружины… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хоть и уходит патрон в синие щели неба.14 «Но нет! Мы были! а я говорю — нет…»
Но нет! Мы были! а я говорю — нет, как Нибелунги, раз их нет на сцене, и отняты только юность и м. б. ж-знь, но Троя, Египет, и Дарданеллы с нами. Перед нами дрожали Дарий и Тамерлан, когда мы ставили перед войском голые ладони, от рёва морей до гремучих песков как мы стояли на куполах, отводя оружье. Убиты заряды, живут пыжи, а помнится конница всех реляций, не хочу ни страны, ни струны, ни войны, а продолжаю ставить руки. Пой! Не поётся! Живи! Не могу, не живётся небесный алмаз в известной слизи, как не летится, когда с билетом рейс, как Небо низко, и каплет, и каплет! Как не найдёшь живоговорящие глаза, как ни наденешь голову, она сквозная, как ни бьёшь копытом эту тупую Ось, выбьешь только свою ногу из колена! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сердиться не надо, мы ведь в стремени случайно, сурдинок не надо, что несбыточна мечта, сэр, дикций не надо, как порошок — и эта тайна. Септимы, помада, — в этом тайме — «красота»!15 «Какие скорбные круги…»
Какие скорбные круги опишет лист кленово-красный, четырехгранный коробок в какой пребудет серной грусти? У пленочных из Эры Рыб высокостны фейерверки, и их морской солёный ром не соберёт те-эти флоты. Божественность сосущих ос и безнадежность Книги Мира легко рифмуется как всё дурнослагаемое, — в рифму. Но Эра Рыб уйдет в заплыв, лишенными хвостов и лейко, в бессмертном Небе их — салют! и хлынет шланг у Водолея. О старый мир, и ты погиб, как белоснежные манжеты, уж ходит юность по губам, как шифровальные машины.16 «Я уж писал, что Солнцу не быть…»
Я уж писал, что Солнцу не быть, досмотрим этот сюжет, но за концом еще конец, где Первым правит Второй. Полосы точек чернят стекло, под козырьком мираж, вот и восток уж сер, как закат, что, моавитяне, — мне? Ах, из пирамиды из их сердец надумывай мифороль, но если кто-то во всём и сам, то это один микроб.17 «Я пишу, но это не „я“…»
Я пишу, но это не «я», а тот, кто во мне, задыхаясь, пишет, — Гусь перепончатый, за решеткой груди сидящ то на одном, то на другом стуле. То на одном, то на другом суку кишок клювами водит, макая в печень, то забирается в мозг и выглядывает в мой глаз, то сжимает и разжимает когтями сердце. Девять раз хирургией я разрезал живот и говорил «улетай!», а он ни в какую, уходят змеи, дохнут стрижи, а этот всё точит и точит пустые перья.18 «Ни зги, ни ноги, напрасный дар…»
Ни зги, ни ноги, напрасный дар, я пробежал меж пальцев гремучей ртутью, все поэты Шара, собранные в спичечный коробок, не стоят одной ноты норд-оста. Об отваге льва ходит геральдика и канон, он блистательный и рычащий, а боится верблюда, похоронный факельщик сожжет и его лик, да и верблюд Аравийский — не долгожитель… Осень! какая! в моем окне, ежи по-буддистски по саду лопочут, будто гений включил перламутр у осин с пером, и чудесный воздух бокал за бокалом глотая. Будто и нет жизни, а вот этот цвет, как феномены, поют зеленые лягушки, и Мир, как тигр бегает головой, его глаза мои, ярко-желты!19 «Ходить как джинн и прятаться в кувшин…»
Ходить как джинн и прятаться в кувшин, устал, не хожу, сижу в кувшине, мобилизую для дыхания сероводород и завинчиваюсь резьбой, чтоб не видеть. Много чудесных и бритых лиц, и платьев, подбитых каблуками, я понимаю, что мир окрестностей любим, но предпочитаю кувшин из бетона. Уютно и несытно в бетоне том, сижу, как роза с темными глазами, и если пытаются ломом пробку открыть, вовсю пою, — и убегают. Говорят, что это Голос Дракона Срединных Царств, или же эхо Грядущих Гуннов, или же это вообще-то с ума сшедший Монстр, — согласен! а кувшин подальше отодвигаю.20 «В Книге сказано: не говори Рака́!..»
В Книге сказано: не говори Рака́[4]! а то гореть тебе в огненной геенне, не горят, говорят, и улетаю ступенями вверх, где собираются боги и геопотамы. На этом конгрессе нет чужих, и мы закатываем такое Рака́ по Миру, что содрогаются стёкла бокалов планет, лопаются лавы и Новые звёзды! Это на этом Шаре я не отвожу глаз, дюли — низких температур, холоднокровны, а там высокий темп крови у галактических Зверей, качающихся с ведрами на ногах у Зодиака!21 «Любить камни, их штрихи…»
Любить камни, их штрихи, звероящеров, антикварную Славу, кисло-сладкий образ Грядущих дней, — образец на ладони, — то же и те же. С годами когда-нибудь в зале консервной мне Братья сыграют, и я отойду в ады, ничего, ничего, не будет Страшного Суда, кому Нюрнбергский процесс, и над кем? над собою?.. Перонойя, пиши да пиши, вот и ноябрь, сухой, с морозом, голубонебый, тяжелая тушь придёт с декабрем, и мышь заскребётся. И мы за заботой, кому надеть что из шуб, вымыть винты, чтоб шкаф не кренился, выдуть ветер с балкона, чтоб не шумел, нарубить на чистом столе капусты. А что, неплохая и мытая мысль, уж лучше, чем у мнимомыслителей вирус — Страх и Трепет, по морозу летит чайка, как окно, и моргает крыльями, как ногами!22 «Я знаю, я пал, как по левой ноге…»
Я знаю, я пал, как по левой ноге спадает чулок у косули, от льва бегущей, но кто тут косуля, а кто лев, я тоже знаю, без берегов аллюзий. Лев бежит от тяжести лап, у него в виденьях круги крови, ему не впрячь в тележку трепетную лань, ведь у косули в ногах четыре шпаги. Я жгу огонь, а огонь не жгут грамматически, он сам сжигает, если уж хочется перемен, опростимся, смени костёр на льдину. Охотно, но по ритуалу ближе огонь, в пустыне всё ж водятся чибис и кактус, а нет косули, будем грызть свою голубую кость до почерненья, пока не пойдёт пена.23 «О драгоценнейшие Духи…»
О драгоценнейшие Духи, не пережить вам этот год, куда летите и когда вы? — о никогда, о никогда! Зачем вы круглощитовые, как зонтичные и без доз, зачем вы огненны такие, непостижимы, как звезда? Моя мишень идет всё ярче, и пепел ширится из рук, вот-вот взорвёт снарядный ящик, агония, я говорю. Не жаль мне дней и снов напрасных, вот и у берега у букв уже надет с иглой наперсток, агония, я говорю. И сердце без инициаций всё бьётся, как живой ковёр, само с собой, как звук инцеста, голов, отрубленных у рук. Я не открою ваши коды, воздвигнут ветрами Собор, когда летите и куда вы на веерах моих зубов?24 «И это будет Конец дней…»
И это будет Конец дней, ударят в бубен волы, и выйдут Септимы с белым лицом, в носках, с мешками золы. Их кости пусты, одежд не цвет, не взяли даже мечи, и разница между миганьем звезд и глаз — исчезнет в ночи. И снимут кожи, как зеркала, сложив в колёса телег, и будут пить обоюдный сок из чашечек — лейкоцит. И пальцами у́же пинцетов клещей расклеют кольца широт, и будет бесчеловечья Ночь у тех, кто с Розой Земли. Они повсюду рассыпят соль, останется Шар пустой, и ветер закружит много кудрей и грив — у львов и ягнят. И поползут верёвки шнуров, сжигая живность Коры, и на холодный и ледяной натянут струны сетей. Я вижу ту тревожную Ночь, фальшивой крови залог, ты думаешь, Он воскресит твой род, ты думай, а он убьёт. И эту сетку забросить Ввысь, чтоб в безднах новых звенеть… Вот так и «я» маркирует Ось лапкой мохнатых Муз.25 «Книги как духи и Ниагара и женщины…»
Книги как духи и Ниагара и женщины, и м. б. — всё, а те, кто кричат — жизнь! — сублиматы, Мир листается и брошюруется, и некому сказать, кроме тех, кто пишет. Я боролся! я сжег тома самонаписанные, юн и воинствен, и когда появлялся указательный палец: пиши! я его обрубал сталью, а он опять появлялся. Касанье пера! — я узнал через много лет, сопряженье линий руки с полной луною, и опомнился я, что вокруг никого нет, и ударился головой о стол, — книгорожденный! Никому не сказавший да, не слушающий ответ, прошедший все оргии тела и оружья, если я слышал окрик: «назад, на стул!» — я садился и брал папирус и перья. Так теряют род и Родину, не обретая ни зги, голубые крылья планет переписывают на кляксы, полноценные губы идут в мясорубку страниц, ничего не остаётся, кроме табака, кофе да теина. Остаётся, правда, еще алкогольный бунт, равноценен самоубийству, а оно помеха, а потом Указатель отнимает уши и замораживает глаз, ведь книга не видит, не слышит того, кто не книга. Не сразу доходит, очарованные Судьбой, мантикой фраз, книгоношами и магнетическим кристаллом, это потом Бетховена бьёт, что Указатель глух, а ведомые им по Брейгелю летят в канавы. У диска безнадежностей нет ни Дао, ни метаморфоз, у слепых нет видений, у глухих — музы́ки Мира, истязая себя над страницами, голос губя, исполнители магии, — рабские роли. Ну, исполнил арию, оживлённый, с красной щекой, но твои фиоритуры в тот же миг превращаются в камни, всё живожаберное берёт Каменотёс, ты — «инструмент», и он тебя засёк ещё эмбрионально.26 «От неуменья листать календарь…»
От неуменья листать календарь я не смотрелся в зеркало, брился на ощупь, да и то редко, кажется, я что-то недосмотрел, я забылся и прожил так долго. Если б я жил в золотом венце и в шашлыках, с грузовозами денег и шлюзами валюты, было б ничего, но так я не жил, а если б так, то давно б застрелился. Любить кого-то — это мой росчерк чернил, а они не любили, а я люблю листья, а они никого, и читают из книг, абсолютно не понимая, где какая страница. Это мнение, что книги пишутся от ума, о да, у тех, у кого он, у меня его нету, вот и свистят под лампочками и пугаются высоковольтных дуг, а уж чего-чего, а ума мы насмотрелись.27 «О! В этих элегиях много чужих жуков…»
О! В этих элегиях много чужих жуков, взятых за крылышки и у меня поющих, пришлых имен, персоналий, чисел, планет, долго ж они просились включения в мой гербарий. Мог бы и вычеркнуть, вообще-то и не до них, скипетр имперский не так уж приветлив с жуками, но милосерд к голосам и малых сих, пусть, на булавку наколотые, тут обитают.28 «Я пишу слогом понятных гамм…»
Я пишу слогом понятных гамм, читай и суши мешки фруктов, кто-то ж высадится на Арарат и найдёт своё седло, и в пещерах фрукты съедят и зёрнышки размножат пищу. Мне не войти в Ковчег чернооких мускулатур, ни к чему им бурнодышащий гребец в стакане, им нужен вязальщик плотов, доильщик коз и землекоп, чтоб рыть для них лопатой. Никому не нужен твой мукомольный вертел, не спасай того, кто не ищет спасенья, что Потоп тому, кто с старорожденных лет посильно и вполне плескается в потопе.29 «Не веришь? Верю! Ну и не верь!..»
Не веришь? Верю! Ну и не верь!.. Пока я шлифую осень, по снегу чёрные шахматы ходят, пока я об осени, дни на нуле, в чашки сливает чёрные ливни. Это Небо, его неуклонный рёв, не читая книг, заколачивает чёрные доски, строит над Миром блокаду дней в кислоте ночей, где мечевидны ногти. Закрой свой ум и умножь свой гнев, положи два уха на каменную подушку, маяк отвыкает от солнца, свети да свети целые сутки под лампочкой, так маловаттной.30 «Ничего, подожди, когда пройдут дожди…»
Ничего, подожди, когда пройдут дожди пепельные, и будешь в них сапогами прыгать, а потом просверлят диагонали по — Шар, и извлекут твой дым, по ДНКамне. И положат в стекло этот «творческий рок», как аллюзию доисторических дрелей, и напишут о грязнонебье вот этих лет, и что Сын Бога не пятнается грязью. Ещё бы, если он так пятнист, что нет места клейму, зататуирован, как тяжелая рыба, мы — дети подводных крыл больших мощностей, а они хрупки. Не крепки! Хрупки! Мышеловка убьет слона, Гераклу дадут ядовитый плащ женские ручки, это мало похоже на поединки Розы и Креста, если гений-Медведь слизнет муравья и пугается синей Акулы. Эра Рыб кончается через год, от мелководья они теряют жабры, и Великий Дух испускает сам себя, как у всех позвоночных, если приглядеться…31 «С Новым Годом, неоглядным…»
С Новым Годом, неоглядным, уж Земля трясет Китай, бури ходят, обдувая, с континента в континент. Небо строит водосливы над страною Иафет, и по желобам из цинка рушит космохимикат. Каравеллы, корабелы, грот траншеями изрыт, флот затоплен, у матросов крепкой ниткой сшиты рты. А у жалоб и желаний, эти Гаспары из тьмы, у их юношей и женщин ручки вверх и клички МЫ. Эти мыки, камнерезы, мечтоноши на века, подтекает под каблук им, прикрепленный на меху.32 «Я был знаменит, и вокруг вились воробьи…»
Я был знаменит, и вокруг вились воробьи, я держал открытой мою щеколду, и склевали досуха золотую мою крупу, а сейчас оседают на стульях грифы. — И, — говорю я им голым ртом, как нудист, обнажая голые зубы, — Ну, — говорю, — что тут поделаешь, джентльмены, и как? и они пригибаются, как с колена целясь. Прямые клювы длинней головы, с гребнем, загнутые, шеи с зобом, боязливы и вспыльчивы, не хитры, летают тихо, и большею частью шагают. Они сильней орлов и летают выше всех, питаются только падалью, вытянув горизонтально шеи, долго ж я жил и ждал «своих, духовных, Вторых», как видим, характеристики этих — с автором совпадают.33 «Возврата нет, ни в один падеж…»
Возврата нет, ни в один падеж, ни в одно междометье, ни в перестановку глагола, ни в шаги, ожидаемые, много б отдал за чей-то выстрел в дверь, о далеко зашел сокол, птиц гоня к морю. Если мир реален, а в нём днём с огнём, и ищи свищи, как ау в колодце, Шар из досок, сбитый одним гвоздём, и кто-то, лёжа на локте, крутит этот ребус. И кто-то на ложе, едя рахат-лукум, крутит эту чалму в виньетках между пальцев, и эти еще что, живые как дождь, вспыльчивые, берут диктофон, и все Трое — самоубийцы. Мир любит тех, кто себя убил «во», их рисуют ярко и встают у портретов на колени… Кто ж божествен, Тот, Кого не видит никто, или же портретист? — еще та теорема.34 «В окружности рук попадает ню…»
В окружности рук попадает ню, трогаю, — не ню, а что-то цветное, может быть, платье от ню, но не оно, может, охапка листьев из воздуха? и не это. Это память о ню, о цветном, о листьях и пр. и пр., на голове ведь тоже память о шляпе, на ногах память о флорентийских туфлях, во рту — память о стамбульской кухне. Какой памятливый! Как-то сказала Мать, с большой заботой, как бы я не потерял память, что у нее память о Животе, когда я там жил, а меня, как субъекта, она и видеть не видит.35 «Топай к Небу с мешками с золой…»
Топай к Небу с мешками с золой, исповедей не будет, графий-био не пишем, а то, что помнится — солнцеворот пуль, снарядов, воздуха, скальпелей, вод, зверей, книг и женщин. Но ярче — женщин, их мазки по всем холстам, рисуемым мною — ню с отсеченными головами, то есть только тела, они лежат на цветном и дождь идёт из ламп над ними. А теперь они снятся в гробовой доске в шляпках с костьми, продырявленными, как сито, и из могилы в могилу бегает их нога в поисках парной любви, а меня всё нет и нету. С ужасом! — если меня положат вглубь, они сбегутся и лягут центростремительными кругами… Уж лучше зола! и пусть ея вечерами пьют, ложечкой помешивая в чайном стакане.36 «Я полон желаний, хочется войти в мешок…»
Я полон желаний, хочется войти в мешок с девушкой, обезноженной и смелой, чтоб броситься в море и развязать шнурок, чтоб эту смелую — смыло. Повернись лицом к. Будто б не стою всеми четырьмя физиономиями, двио-Янус, пой о чистом, будто б не пою, что кроме смерти на свете — ясность? Хочется педофилии, чтоб по моде, но как? нужно лететь в Ганновер, там рядом Гаммельн, с бронзовой дудкой собрать всех детей в мешок, им будет легче на дне у рыбок. Им будет чище, чем риск со мной, хочется стрельбы по беременным и по всему, у кого пузо, хочется инцеста, но из сестер у меня одна киска Ми, она в боевой готовности, но я не в форме. Хочется терроризма, это я б смог, титулованный снайпер и ниндзя со школой, но это так мало, хочется металлических бомб между США, СНГ, Европой, Индией и Китаем. Но и это не то, хочется Галактических Войн, чтоб не ходить с козырьком от блесток солнцетока, и на осколках воткнуть аллювиальную розу и свинью, одну, чтоб нюхать, другую — жарить. Скромно, но сбыточно.37 «Доски растут в доме, и скоро — Дворец…»
Доски растут в доме, и скоро — Дворец, пиавки в каналах, и будут Драконы, — перспективен! на руках из изумрудов повиснут венки, как наручники, а нимб овеществится в корону. И вот, Император Сил, я выйду на ступень, увижу безлюдье и пепельные осадки, выну классический меч и отрублю лицо, оно взовьется и станет над Миром. И это будет Новое Солнце, и через биллион то же и те же оживятся по всем таблицам. Вот почему меня не видит никто из, а если и видит, то в черных прорезях маски, я мог бы и показаться, но читая вышеизложенный романс, было б преждевременно, не опережай ход событий.38 «Шар напрасный, тонкокостный…»
Шар напрасный, тонкокостный, как рутинный дирижабль, опускающийся с тучи по линейкам журавлей. Что случилось в это лето, всё по плоскостям легло, и кумиры левитаций выпадают из гондол. Цепь запутано у черни, по планете голый вой, и стоят над нами черви с очень толстой головой. Тонкоклювы эти яды, мёрзнет око у Судьбы, и летают, и не тают белотелые столбы.39 «Утомленныя солнцем…»
Утомленныя солнцем, мыло в море одежды, вышло к соснам сушиться, и — лежит — на песке. Может быть, в каждой дюне мы с тобою зарыты с муравьями и в касках на — три — тысячи — лет. А пройдёт, и мы выйдем, это море исчезнет, просто две черепашки, и — кто — куда. Этой жизни не надо, потому, потому что не узнаем друг друга, и — смываю — следы.40 «Реки текут, их труды и дни…»
Реки текут, их труды и дни, эти мосты, спинномозговые, реки текут в Париже, Гамбурге и по Неве, зная свою свежую необходимость. Бури их бьют, чайки вонзают си-бемоль, и вытекают, наводняя дома пузырьками, снимая ступени и цепочки дверей, и по рекам текут утомленные солнцем двери, стулья, тарелки. А на крышах стоят в шляпах, в галстуках и с зонтом, и поют о династиях, как статуэтки, воды, сливаясь, текут с Миссисипи, Конго и Янцзыцзян, ящики небоскребов качаются на воде, пустые, фотомодели в помаде прыгают выше всех, китайские косы, макая туфельки в волны. Осень морозит, лужи, хрустя, на льду; лодки утопленников, как с каблуками, падают листья, их маятники Фуко, голубь кленовый, и его финишные аплодисменты.41 «Взаимно! Род славен путаницей, кто жив…»
Взаимно! Род славен путаницей, кто жив, кто мертв, право убить и не понимают права быть убитым, если стрелок в ответ получает пять пуль в лоб, он изумлён, а изумляться не надо. У юности много приветов и роз, флажков, интересно отметить иные процедуры, — если ты родился от донорских сперм, не забывай, что твой Отец — шприц и морозильник. Не Голод и Любовь движет двуногих «в века», можно подумать, что Футурум — марш бессмертных, можно, но ложно, если ты клонируешь свою гениальную ДНК, будет даже не дудка, а так, фоторобот твоей восковой персоны. Диалоги закрыты, монологов уж нет, нужны луддиты и стрельбища по инженерно-генному Зазеркалью, если я призываю зеркало, чтоб на себя смотреть, не забывай, — оно на тебя смотрит. Эта забывчивость уже очертила знаменито-новый век, Мания Величия геометрических прогрессий, и эта неоценка исходных чисел и последствий их тиражей, и по этим плачут уж не А-бомбы (даже!), а Всемирный Альцгеймер. Четвертая Зона психики идет к концу, через 12 лет погаснет Пятое солнце, шестое движенье Земли начинается, Ллойд, Стамбул и Тайвань, на очереди массивы Китая и Моджахедо. Юг и Восток сожжет огонь, айсберги разбомбят Север, а т. е. Запад, Москва ухнется в море, что под Москвой, Нью-Йорк окатят волны высотой 167 метров. Ничего, ничего, голого очертя, не надо бросаться в туманности Андромеды, таковы прозаизмы, или прогноз Оси, а сбудется он частично или полностью, не сообщают.42 «В этом мире слишком „много“ миров…»
В этом мире слишком «много» миров, предпочитаю «я», да и то по правилу крови, за столькую жизнь «я» ничего не сумел сказать, п. ч. меня никто не хотел слушать. Я славлю осень, необычайное существо, с деревьев падают драгоценные монеты, и никто их не собирает, чтоб с ними жить, п. ч. их никто не любит. Если б любили! Но этого нет, в кнопках и отверстиях генной инженерии падают женщины и лежат на открытых местах, и никто их не собирает, п. ч. у них нет юбки. Падают и падают с Шара мириады фигур, человекопад множится и скоро всех сдует, и никто их не собирает, чтоб их беречь, п. ч. у них не было детства. Листья съеживаются, а солнце не стоит, Луна исчезает, и Небо в шлангах, прощайте, до новой смерти в новом вине… Я не любил вас, цивилизанты.43 «Погружение в гром, выход из тучи в шелках…»
Погружение в гром, выход из тучи в шелках, по пространству летают указательные стрелки, колокол Неба звонит и звонит, и на голую землю падают капли и перстни. По пространству ходит обязательная стрела, клюв ее целится вниз, указуя, и на голую землю я, голый, ложусь, падают струйки и птички, моются камни. Как секундная стрелка, тикая по плоскостям, я лежу на Шаре, опустошенном, лавы кипят, ширятся трещины, сдвигает угол Ось, падают пеплы и листья, и кузнечики прячутся в руку. Падают птицы, певчих уже нет, музыкальный рот криком охвачен, неотступный мотив в ушах, — реквием по себе, — вот по ком звонит колба!44 «Наивное Солнце освещает мой дом…»
Наивное Солнце освещает мой дом, в безоружных бойницах мелькают мои взгляды, осень не гаснет, а разжигает алый листопад, о если бы вместо двух столбов у входа стояли Ахилл и Гектор. Инь с ведром поливает зуб, киска Ми кра́дется, как Лермонтов по Кавказу, я чищу лопаты и кладу их в сарай, в этой поэме нет драматизма. В Мариенбадских элегиях этого тоже нет, ноты да ноты, печали стального сердца, как у Гоголя вместо Вия письма, гаснет кровь, Кант стучит палкой по Кёнигсбергу. На камне у Эсхила выбиты воинские подвиги, и нет пьес, исход из Египта и хадж, не дойти до Мекки, старый Будда, иссохшийся в температурах пустот, убитый Плантагенет шепчет: «мы еще повоюем!» От Инда до Ганга уже не ступить ногой, диски безнадежностей над моею головою, это от Аппалачей через Забриски-пойнт и Гиндукуш в Арктику — сигналы исчезновений. Все говорят уже на неправдоподобных языках, за Орегоном, Тайванем и Стамбулом дойдет и Южный полюс, Черная птица летит в квадрант Белый, — и выключаю голос.45 «В ту ночь соловей не будит меня…»
В ту ночь соловей не будит меня, в ту ночь была тишина, в ту ночь на ветре пел соловей с вершины Черной горы. И Он у ног положил туман и капли бронзовых слёз за всех бездомных и кто не смог дойти до Черной горы. И кто не смог долететь до звёзд, и кто от Солнца устал, за всех, кто плыл и кто не смог доплыть до Черной горы. И, полон слёз, Он стоял на льду вершины Черной горы, за всех воздушных, морских, земных включил Трубу тишины. И стало так, и такой покой, что и соловей не смог. — О спите, спите до Новой Зари!.. А люди были мертвы.ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ 2001
Не жди
1 Не жди. Это уйдёт как перчатки заменят бинты. У огнезубого тигра закроется горло как шланг- баум. Ястребы ночью идут в мою дверь и сидят, бьют их по темени если не лунно — дрозды. Если же лунно, я иду в дверь и сижу в желтососновом шезлонге как тигр (не я, а шезлонг), 2 и в освещении звёзд я бинтую клешни, чтоб не сойти со ступенек и этими ножницами не перегрызть. 3 Я любил. Эту Луну, птицу Гунь и зверя Мышь, я по ночам с ними был и патронами оберегал, по совпаденью времени их и меня (23.00 – 01 ч.) нож мой был быстр если кто-то к ним крался — убить, я и ежам выставлял в блюдцах на крыльце молоко, мелко рубил им мясо, и сад был полон ежей. 4 Ну что ж. Я потерял в это лето и стражу — 10 сорок, кто-то их отравил. Это сказала мне африканская цапля из Кении приземлясь, а не сказала б, — при вскрытии желчь с мелкотолченым стеклом. Я их собрал и лопатой похоронил. 5 Стой! Ты хоронишь и майских жуков. 6 Не тоскуй. Но как же не тосковать, простыни белых ночей ставят щиты из фанер и вместо яркого пленкой подернуты дни, яблони вырваны из земли и говорят — бом-бом… идут они с бритыми лбами… 7 Если антенны диктуют всемирную ложь, что мне до Мира, до ртутного шарика яда его, может быть он моющийся Галилей, если откроешь дверь в доме и тут же в домах — двери закрываются. 8 Властители норм и мечтатели Мясопотамских Снов, мне не уйти от войны с Веретеными Мельницами, приветствуя Рок, Ангелы Ненависти (о побратимы!), их пероскоп из ножей! а побеждают не факты, а фантазмы, и имени им — нет. Мечтать — это, извиняйте, — Меч и Тать, и ничего больше, и ничего больше, и ничего больше, и — Ничьего. 9 Такой вариант мне подходит без лишних лыж, бос, как у волка при беге одна нога, если волк молчит и замкнут на зубах, это не значит, что он — не волк. Если ж у волка слюни — это бешенство, хорошо, не убегай, лучше поди на встречу и дай кусить, тебе лучше б взбеситься, и не жалеть телег, чем виться вокруг, обнюхивая дым и доносить народу — Он жив, жив, жив! 10 Ветрен я. Наивных я оператор со свистулькой пафоса — Идиот, в жизни ж я застрелил не многих, да и тех от скук, говорят, что сейчас 6000000000 граждан-стран, вычеркиваем из пулемета нули и оставляю 6. Время — всего лишь тиктаканье, так на так, и ничего у этого «время» нет, кроме вымысла — вымя слов. 11 Дождь ты дождь заоконный, в клеточку тетрадь, он приятен наощупь в каплях, кислотен и желт, все колодцы отравлены водопадами из вниз. И от школы читаем по каплям одну и ту же — Книгу Конца. 12 Как сторожат костры зеленые огни, желтых желез домотканные миражи, вьются вокруг колен как юбки и пластинки с надписью «Граммофон», и это кажется, что жестокий романс отпет, что массовики и затейники это и есть то. Я пишу от, чего нельзя дописать, зря транжиря остатки клешней, отнюдь не астральных, собственных, моих, я живу в стране элизий по имени «Никогда», сын птиц цирковых, летающих на трапециях под куполом и над, плясунов на канатах, страховки — без, бегунов, где финиша нет, а стартовый пистолет затерян за ненадобностью 40 млрд лет тому. (Кому?) 13 Не ищи… щеглов, потеряешь и то, что есть — комара, все ж в нем капля твоей крови и радуйся, что так. Капля крови твоей! — не рубин! — медяк! 14 Не жди. Нет надежд ни на Китеж, ни на Небесный Ковш (черпак!), ни на ремонт костей, их полировку, воскресших — нет, это мы отдадим трубодуям и «лире» их, (вооружен и очень опасен — комар!). Слушай же пульс яйца и свист кишок, это змеи в тебе завелись в животе (мне б гюрзу!) долго и храбро мы сражались, друг-Дракон, отряды поддержки разбиты, и тут идут отряды захвата — муравьи. Ну, и? 15 Знаменит и волосом бел до плеч, и безвестен, где сводится пафос к — «на дне», ничтожны и эта туннельная ночь, и этот экранный день. Облако рук с белым пером — не действо… И если вид из-за луны в кожаных мячах, значит над миром дрожит как лунь международный меч. И если ты дописался до пят, то к тоге ты не готов, неологизм — не алогизм у голословных ртов. 16 Надо б писать на ящерицах, на тенях огня, женщины ходят в бусах дождя — вот на них и пиши, на бусах, а не на женщинах, — эти расписаны до микрон. Крыса загнанная в угол несет чуму, волк окруженный псами и ружьями стоит не отводя взор, о флорентиец, двойник, бедный зверь мой Дионис, ястреб кидает перо не для того чтоб ты чертил, не трогай, из него скворцы строят птенцов, или ж кукушка поет Число — не тебе, хоть ты и скачешь на стуле как счетчик — крестом, аллюром и с Факелом, — счастливого пути, Страдалец, свети! не соображая, что каждая лягушка лежит распластанная на кресте, что все птицы, комары, бабочки, осы — летят крестом, что скрещенье шпаг и любовников — одно и то ж, что три скрещенных крокодила Египта и есть могендовид Д., что прицел у киллера — тоже крест… Убей убийцу — и ты станешь таким… Эх ты гоплит (гоп-ля!) с пеанами комара, мне пора!.. 17 Прежде резали фараонов (меня!), достигших 27, ибо теряет 9-тка контакт между Луной, собой, и строителями Пирамид и каналов от Нила. И несли этих божественных подальше от реальности — в «века». Сейчас. Почему их (меня!) не режут? Я объясню: раньше сидели прямо, расставив две ноги, а сейчас — закинув ногу на ногу. Разница есть: ноги врозь — всегда готовый к прыжку, а нога за ногой — войди и бей молотком, и над тем, кто болтал ногой — празднуй, пей!.. молоко. 18 Я ящериц глажу, они на белых камнях крыжовничьи. Спят — изумруд. Я яблоко глажу, какое оно — как вино, спит, как маятник. Стоя. Смыкаю щели. Моя голова не спит. Как наковальня (ты читай, читай!). Зубы сочатся. Негодное племя меня родило. Ну что ж, зоофил!.. Я ястребов глажу, — как рощу солдат в штыках! Полегли. 19 Город стоит из лучей, можно — играй на струнах, или же в Землю лазеры запусти! Можно. Если ты игла к этим плоскатикам, и объемы мои не видны, в недрах ЕЯ не рождён, а из пыльцы — так, подзалетел. 20 Мир полон лугов, а кто на скале? кто на скале — и Тот — не тот. Много ль нужно мигать — млрд лет, чтоб проморгаться Звезде и увидеть Миры, где я с дыханьем сижу на крыльце в священных перьях, и эта Звезда — не мне. И эта, и та, и их биллион, и их смотреть и им мигать — не хочу. Лучей и зари в это лето — нет, одни волны падают на мой дом, и другие, так много воды, будто дом — корабль, дрожит. И остаётся как парус высунуть язык, ставлю на капитанский мостик свечу — в бутыль, ориентир — по блеску пуговиц кителя, если уж вычеркнута Звезда, и курю о юных животных — девонских, в ушах серьга, разноцветнокожих, в наклейках и без. Ах, давно одинокие песни поют повара, и Звезда как сельдь не нырнет в стакан… и выплескиваю… 21 Луна освещена одной щекой, а темя, видимо, в чадре. И расшифровки ей нет. Слушай, безух! А я не хочу слышать Вас, гороскопы Муз! 22 Вечером сильным, золоторунным, был я как дата курсивным у Лувра, как истребитель, с искрами зодчий, чьих же столиц изумляя за́ дозы? Видя мой абрис, и убегали, и убивали, и убивали… но ведь не знают между огнями, пули мне братья и огибают. Эти их слезки через пониже, как моросили Чрево Парижа, и обжигая камни на Сене, то, что любил я больше, чем все. Бури сломали Нотр и Львицу, а Монпарнас — цивилизанты… Эту любовь через кровь и с бинтами, — неотразимо!.. Юные ноги!Золотой нос
1 Может ли петь сковорода? — о да! на огне она как «Весна Священная», Голос и Дух, но сними с огня, и тоскует, выскобленная, на крюке, повешенная в Сарагосе, где спит Збигнев Цыбульский, пан. И так мы дойдём, что сравним сикель из крана и Океан, обсудим как оба, и кран и Океан — поют, что Везувий и свежий холмик, где крот — по стереометрии — одно и то ж, в данный момент не извергаются! — уютный логизм. 2 Халада да вада́. Льется меж пальцами алкоголь, да не пьется. Сливаю в ведро. Барбитуратами сжигаются сны, уши висят и шипят, у них гусиные шеи разлук, климат мембран, физиология ваз, тем, у кого гардеробы сарафанов надежд, — будут портянки и лифчики из кирзы. Так, говорят, не всегда. Всегда. Жили, живут и будут под полуцельсной луной. В юности бисер к чему? — если вокруг жемчуга, это сейчас я мечу, и обнюхивают, и вот вам клинический диагно́з: критик по кличке Золотой Нос. Он еще обнюхивал Данте в Равенне и кричал, что у него пахнет серой из ушей. Уши вы уши, модели миражей! 3 Череп вскрываю, под крышкой извилины губ, — магма! — и каменеет, защелкнул на крышке замок и смеюсь, пробую на зуб циан, миндаль не горчит, сойду со ступенек и жгу никотин. Выйди! Возьми огнемёт и сожги эти широты от юности, ты, краснокрыл! Вышел. И кнопку нажал — нет огня… От длиннот как-то безрадостно. 4 Как-то безадресно ярость и шум, ты ж говорил, что не хочешь ничьих адресов, правду я говорю — не хочу, те, что б хотел, их я закопал. Так закопай и себя. Я закопал — шлем, символ Луны… Я выхожу на Луну, не целься, в руках гармонии нет. 5 Жук ты жук черепичка, бронированный дот, ты скажи мне сюр-жизнь а отвечу о нет, сюр-то сюр а множится соц и монетку крутя мы видим орел а лицевая сторона — арифмет цены, и круженье голов на куриных ногах. Ах! Торопись! Бой часов — поэтизм далеко-далеко, время движет как зубья двуручной пилы тудемо-сюдемо, опилки свистя. И полируют мех меж ног. Плесневеют межножья унылых леграмм, а не «те». Ну да. Это потом. Но всегда и не о том, и что ни том книг священных, где буква и звук, и оазисы букварей и флейт, — ты сиди хоть в колодце и анони́м ультра́, вынут тело и расторгуют в аук. 6 Если, скажем, Дали рисует «текущие часы», о как умно! необыкновенно! но уж был текучий песок у Вавилона в перевертышах-часах. Если Лобачевский и Эйнштейн о несбыточных прямых, а в точке пересечения — Взрыв Времян, посмотри на досократиков (Гераклит, Парменид), — то же и те же джентльмены удач. Если атеизму стол есть стол, то у Орфея пели древесина и камни — тоже ведь столы, у Пифагора не золотое бедро, а Золотой Нос, разве ж не он отшлифовывал оптику, чтоб жечь перс-флот, делал бизнес и этот сидонец, новатор «пи», известное еще китайцам по «Шелковому пути». А святой из сиропных струй, аленький цветочек, кормитель пичуг и львов, Франциск Ассизский за какие кии был обожествлен, он — первый из монахов взял патент на торговлю вином, и всяк Наук работает на одну Войну, и цель человекофилов — Золотой Нос. (Смотри на свой — уже золотится в неких предопределенных «веках»). Ах!.. 7 Не верь. Дождь идёт. Он уж шел на моих страницах не меньше, чем из и вниз. Ну и что ж, что шел, и опять идёт, прыгун с шестом. Он идёт и идёт, высуну руку из стекла, мало-точками стукая — он, сея яды, гудя и плюя, как Хао́с, «всё вода» (Фалес), Но не «да» (Тиэтет). А дуда? 8 Дождь дудит в колючки-электро-нить, а на Вышке стоит Часовой, он рисует мне бирку — на левом запястье браслет, нумеролог, он пишет число идентичное — кто-кто, наливает в мой котелок из межножья — мочу. Я молчу. И сшивает губу за губу — не убегу. Чу! — собаки серебряные в клочья рвут беглеца, от них же башмаки на камнях, надеваю, бегу, и кричу на бегу, что не я! Но струя с Вышки бьет, проливная, как возвышенный романс, и кричат корабли Земли: сон! сон! сон! Но не сон. В унисон в радиорупор кричит Часовой — по местам! псы к хвостам!.. Бесконечны гирлянды и семантизмы дождя… как вождение самок по этажам Любви… Ой люли! 9 Ты газель голубая как лёд войди в ванну, возьми зеркало и карандаш и пиши себя — на листке: темя волосы лоб брови веки ресницы глаза Золотой Нос щеки скулы губы уши подбородок кадык шею ключицы плечи локти пальцы до ногтей и ногти ладони линии сгибы фаланг груди соски ребра живот пупок родинки волосяной покров у лобка член или отверстие ноги колени голени стопу, — мне не говори, я увижу кто смог, а кто нет. Опять же ногти ног пятки и обследуй ступню. Запись мне не показывай, а положи в сейф, или ж порви, сожги, не важно — это ж самоосмотр. И что ж? Я имел 3 тыс. уч-ков и уч-ниц (одно и то ж!), они приходили в Студию на каждый урок, — учиться человеческой речи, чтоб во всеоружье вступить в «мир искусств», и то что пишу был первый тест на психику и ни кто — не смог. Читатель (гипотетический!) сделай это себе: ты войди в ванну, возьми карандаш и зеркало, полон искр… я знаю их интим — дойдут в письме до бровей, и самый низколобый отметит как он высоколоб, окинет оком фигуру, — конечно ж, дрожа, — хороша! и дальше — ни взора, и выйдет из ванны нагой (ногой!), застегнет халат на стуле и будет бдить. — а на кой?.. А на той, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . что голос тела имеет некий диапазон — от фа-диез малой октавы до си-бемоль третьей, — не у них, у книг. 10 Эти книги читают как критические статьи, а чуть-чуть не статья — и леденеет кровь, а листнут — и выпучиваются вскипяченные глаза, а за? Все ж запомнится имя из рода в род, будут пугать им, убаюкивая — не читай, разве ж это не высшая весть у автора, где современник сипл и опасливо озирается, ждя удар. Но его не будет. Я не Феб. Это покер-блеф. 11 Могут ли гайки быть гладкоствольны? — нет, у них нарезка, и если есть винт, гайка при деле — завинчивается им, кем — им? я ж говорю — винтом, кто завинчивает? — терпи, терпи, они похожи на жидкие глаза, от гладкоствольных гаек спасенья нет. 12 Что ж тут поделаешь, если такой падеж? Я вижу ящериц молниемедных и ос на длинных ногах. Закованный в шлем стою как экспонат, вращая стеклами в глазах, чего же ты хочешь от кисти руки, кости ноги? Кто-то стучится в дверь — это кости стучат. Выгляну в окно — всюду ходит Золотой Нос, то он аист, то самка, то он туфли, то и Гоголь он, то как откушенный член с алебардой у дверей. Двери закрываются. Он очень нежен, душист, умён, как венгерский стручок, и надо же! — даже как дуэльный пистолет, морален как шаги Командора и лукав как микроб. То есть он вездесущ. Обонятелен. Куда б нырнуть знает как щука. И как крысиный хвост. 13 На переправе через бред коней на ландыш не меняю, и все уздечки — дребедень, как волоски у мериноса. Невидимый союз берлог, где боги лезвий и истерик, я пью алмазный свой бокал — Волшебный гриб и сигаретный. И я валяюсь на губах, блюю цветком кроваво-синим, и непонятных на ногах зову в актив себя и смерти. Кричу как Черная Скала слюной медуз а не Горгоны… На берегах монгольских скул мне не хватает мойр и гарпий.999–666
1 Это третья сюита из Книги Конца, формульный опыт рисунков исчезновений секунд — наносить на них ноту со звоном и пускать по ветрам, Океан возьмёт. И опустит ко дну глубоко-глубоко по пяти линейкам от всех возможных ушей — готово всё. Там и пюпитры, и оркестр, и дирижер, есть струнные рыбы, тарелки, виолончель, отзвук и позывные, может быть — Луне, м. б. луне, а м. б. и мне, — Пузыри Земли. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не уходи, подожди, пережди уход первозвучных гамм. 2 Под полуцельсным небом не живут снегири, Наша Крепость на куриных ногах, наши слоны стреножены и солому жуют рабы, что же мы стережем, эти льды, этот съеденный муравьями каркас, эти каски заржавленные, эту поллюцию в мордах и сапогах, глинозём отравленный, где ни колоска, это за них мы стояли насмерть и стою на смерть? Отзвенели серебряных труб веера, эти флейты закупоренные да диктофоны лжи, что уж там тренькать, я вены испепелил, грезилось всё ж об Анналах, вот и получай — онал… В Токио высадились вороны с размахом крыл в 1 м. Их 300 тыс! Близятся Дафна дю Мюрье и Хичкок. 3 Ну-ну. Посмотри. На блистающем небе горят янтари, но не лейкоцит! И ходи по ковру как эксгибиционист, — нету мантий! Ну на улицах пусть, а глянешь в глазок, — нету голых! Забинтованы в джинсы. Я оторвался от жизни и пуговицей сижу плашмя. Ты пришей. Не швея. 4 Я был сапожок, калигула, бешеный щенок, танковые дивизии ЭСЭС шли и шли, к бою готовятся дети-убийцы и дрессированные псы, нам дают по бутыли горючей смеси а псам повязывают восемь гранат, а Армии Побед стоят и стоят. И вот мы бежим под танки (дети и псы!), угол стрельбы танковых пушек выше и нас не догнать пальбой, нас сотни и псы бросаются под гусеницы без ошибок, взрывы там и сям, а дети встают во весь рост и бросают в танки бутыль 1 л. — пылают! и, ослепленные, месят юные тельца (мне было 8–9, а вообще-то пяти-тринадцати лет). И вот раздаётся громокипящее «Ура» — это под знаменами с оркестром наши героические полки, рёвы орудий и звон «Катюш»!.. только вот танки-то взорваны, а останки ушли, всем выдают медали «Славы» и привинчивают Красную Звезду, офицерам и генералам — аксельбант, а бешеным щенкам по полкотелка пшенки, с морозцем. От 200-от к примеру нас остается 3. 5 Печали плеч и губ трегубость, союз Луны и глаз и ягод — сад, у карт ложатся на клеенку трефы, Звезда как ваза доверху полна солдат. Они в ногтях, полны мортир в карманах, их каски циферблатные и гриб, марш-марш бумажные в шелках кондоры, их груди шоколадные гравюр! 6 И вот мне снится и снится одно и то ж. Как бегут по смерзшемуся глинозему эн-эн тысяч детей, русскихпольскихеврейскихцыганскихвенгерских и пр. «освобожденных от фашизма стран», в шинелях не по росту снятых с убитых в трофейных башмаках гигантских, те вылетают с ног, и бегут босиком, шинели слетают и бегут в одних трусах, вьются снега, ливни стоят столбом, бьют пулеметы и мины а мы бежим и бежим, безоружные, а следом топочут герои Побед. Я просыпаюсь, снимаю мини-кошмар вином, и вижу в полутьме расстрелы детей-убийц. О дети, дети, дунайские волны и вальс в лесу прифронтовом! Нас не было, мы — авторизованный перевод — из снов… 7 В этот светлый век я один жесток, остальные сеют цветы румян, им оставим сей маскарадный жест… — Йо-хо-хо! — и бутылка Рима! 8 Идём. Протяни мне руку за бедные образцы ночи, оплаканной мириадами сов, может быть будет неожиданный вал и астероид как медноскальный подплывет, выйдем, и сядем на табуретки и улетим и прицепив на крюк свой дом и сад и сарай. 9 Я ястребов глажу, и пылью покрыто перо, нет, не Луна, а пробито их темя и кем? я же сам ягодами кормил дроздов, разве они поют необученные, их место — клетка, я их учил, и что ж? ищущий Ядерный Гриб, Надмирный Зонт, — вот и нашел сморчков — ищущий боя гений, темя пробито, слёг, утром возьмусь за лопату, им не дотянуть… 10 Разве ты объяснишь кеглям на двух башмаках у Скорлупы Земли? Их собьют, а они опять встанут, покачиваясь как Ваньки-Встаньки бдить. 11 Поющий о смерти — заклинает жизнь, ты еще пройдешь через сто сетей, ты еще запоешь как буйвол недоенный, — о! да и пою уж 50 — так, уж 50 лет, уж скоро (е. б. ж.) — 65. Эта песнь не о себе. так поют камни, а птицы — не так, раковины морей — так, а дельфины — не так, Огненная Земля — не так, и Антарктида — так. Суммируем: автор поёт как пообанный, он — Антимир и мутак. Не мозговито. 12 Я славлю тавто, а логию — нет. Я пел Тому на зад 300 млн лет. Я видел как бились боги и титаны — болт о болт, и у них был слабый волосяной покров, как у людей. Я видел как люди мутировали в обезьян, от атомных взрывов и с жалобами бежали ко мне, я рассудил, что мясная пища и жарил их на гвозде, все поколенье обезьян-мутантов истребя. Я сделал из грязи людей и опять вдохнул им в рот кислород: прошло 10 млрд лет, и вот они опять мутируют в обезьян. Смотрю на этот этап с любовью (себе на уме!), идеализм конечно ж, но зато не конец, — гвоздь мой цел в шкатулке а огня хоть отбавляй. 13 Прими же правду мироустроенного естества, две пичужки, сидя на раме, открытой в сад, и болтают, смеясь, и посматривают в меня — миг-миг! а на поэтов смотрю как на помои, сливаемые изо рта в рот, этот «лиризм» и «тепло» их — челюстная слюна — еще та! или же нечто вроде лесбийства — сосанье грудей — у Нянь. Ложась на ню, я надеваю бронежилет, кончаю — и приставляю ей к виску и нажимаю курок, что делать, денди, — это рок. И мнится мне… И мнится мне, музыколог пуль, — уж не будет турнирных войн, все растворится в бесчестье «точечных бомб», ни одна Армия в Мире не способна на клинч… С неба ничего не падает, кроме льда. 14 Если встать на колени, молясь миражу, позвонки костенеют, морозится мозг, онемеют и чресла, т. д. и т. п. На колени поставлен 2000 лет тот, кто гордое носит «золотой миллиард», и согбенные спины оплавил им жир, и уж кажется, не подняться с колен никогда, никогда, никогда. 15 Никогда не говори: никогда, никогда, никогда. Но всегда! Только третий петух запоёт и встают батальоны войны за алмазом алмаз и идут как Духи по Шару, звеня головой, и трубит Черный Зверь Гавриил, полководец Трубы, и число его звонко: 999, он — ЗВЕРЬ, а число людомасс от Него: 999 — полнота, Зеркало. Перевертыш: 666. Вот число людомасс: — 666; шестерня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не называй. Сказанное громко отодвигает тебя в небытие… 16 Матка Надия, береги! этот клён из живописи из зубцов, пронизанный, алый, парашютист, не разбей! эти ивы снежнозеленые, аквариум — над ним, где чередуются шелк, кадмий и ультрамарин, замерли листья, тонкообразны, цветя, где их будут топотом бить… Идут! и далёкий Идол свистит им в рот, стой, тот кто идёт! 17 Не упускай. Эту осень, еще зелены дожди, этот сентябрь, он магичен и красочность впереди, и в желтокрасных шелках будет небесный свод и земной порошок. И будет Небо — необъективно и вольет иглой тебе Новую Луну, Новую Луну, Зюлейку-Сатану. И ты будешь как прежде со своей седою головой, и смотреть, запрокидываясь, блеск голубых Рыб, с седою головой — звук горловой. Горизонтальные птицы, ноги поджаты у них как губы у женщин, и те и те улетают на Юг, да наждачные пилы — когти точить, да леденящий эпос генеалогических фраз. Кого ты приманил, кого прилунил? 18 Затмение Луны (полноценной) и она оранжевая — рубин, повсюду в садах жгут дым голубой и я задыхаюсь от, я неумен созерцать, а движенья сжигают яд, но не успокаивают… Сад полон: от заменителей звёзд до оловянных яблок — всё тут. А я б променял эту плодность на бокалы вин на каждом суку, чтоб звенели они мерцая как маятники и — всегда, и я б ходил просыпаясь и пил допоздна то коньяк, то бенедиктин, и было б мне лучше от этого чем от всего. то ликер шерри-бренди то водку с перцовым стручком, то чешский ром то британский джин, то виски без льдин, и было б мне лучше чем без всего. Я б променял свою жизнь, полную т. ск. книг из соловьев и комет на цистерну сивухи (картофельной!) 70°, и пил бы из шланга (вот уж где дух, так Дух!), и мне было б лучше и было б мне лучше — окостенеть. Но сурово. Из щели Крыса высовывает Золотой Нос, — не пахну ль я бальзамом? — о нет, о нет! 19 Не приманил, не прилунил, нет октав. Вялозеленые листья приспускают зонты, призраки сеют капли, их семена. Можно б раздвинуть тучи, как штору, но в ней нет дней, а календарные дни как санитарные иглы идут шаг в шаг, океаны мерзнут, их транзитный язык, — не ахти. Эти этюды оставь… Метутся листочки рук и ног. 20 Но есть иная жизнь, где нет Начал, союз луны и глаз и вёсла сада, где страсть новорождённая как ночь, и с сигаретой дочери Содома. Здесь я чужой среди домов и плит, поставленных с окна́ми вертикально, и не течет по морю черный плот, и запах вин как золото литое. И запах роз душицы и мелисс как говорится в этом Доме Жизни, где тени с лестниц ходят как моря, и звуковые груди юных женщин. О бедный бредный Мир из клаузул, мне нужен чек на выходы с судьбою, а я лечу как вынутый кинжал, в давным-давно покончивший с собою.Эпилог
1 Почему в этом доме деревянные башни, голубиные яйца? и сверчки будто вспышки выстрелов у дверей? 2 Кисти ломаются, руки кружат по лицу, задевая уши, смотрю туч на смену, одно на другое, и капли льнут к лицу из Верховной слизи. И женщины в тучах капли льют и приникают к лицу, но смена женщин и смена туч — одни и те же дожди. 3 Не называй. Сказанное громко отодвигает тебя в небытие. Кислые кости не ешь, а отстрани. Голубиные яйца сожми указательным пальцем и большим, брызнет сок на твою хиромантию и осязай. 4 О как ранят старые предметы, керамические их монеты, свечка Фарадея, клавесин, поколенья клавиш из кости слоновой… И снежинка Кеплера. 5 Как стерегут костры зеленые огни… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ну вот. Двери закрываются. Выход и вход забиты гвоздями в шляпках на тонком каблуке, и вылезаю — крысы рисуют пол, древоточцы в боксерских перчатках шлют салют из щелей, пауки забрасывают сетями углы и столы. Не иллюзорно как-то. 6 О сколько лет прошло с тех зим и съедено камней, русалок бюст и женщин низ — тела давно минувших дней… Мне скучно, негус! 7 И день и ночь ходить как дом с ветрами туч — и ходуном, с одним окном, с одним огнём и деревянным дном, и сыплются в тартарары лишь черепицы с головы! 8 Вот что: когда онемеет нейронная голова, это ничего, сделай сам дубликат из фарфора и разрисуй, а ту вынь, а эту вставь, и ты увидишь много нового, к примеру — лохань, выдолбленную из осины, где моется ню, пальчиками отшлифовывая свой организм. О новость! Да сколько этих ню ни мой, а мыл! Новости нет, тысяча — как одна и та ж. Лучше помой сигарету… Жгу теин. 9 Бегу и бегу, включив все четыре колеса, как идеома бега: не к а от, обходя попеременно то жизнь, то смерть, и в конце концов — конца нет. В этой книге даже имен — ни одного, даже тоски, столь излюбленный метод туманов — не черчу, гирлянды шифровок и санкюлота красный колпак, штаны Пифагора — штаны санкюлота — равны. А кто они? — циркуль у ног у круга, куда ни беги, негасимая лампа с гальваникой перпетуум мобиле в энность нулей, фельетон, запрятанный в маску, будто б мист, действуя дрелью, как языком телег в приступе белой горячки выпив уксус вместо вина в ванне, — кричи Платону с Алкивиадом: — Закон! Закон! …Ишь ты, какой какао-Сократ (на вид!) 10 Ну налетай на телегу, я двух жен любил и убил (в стогу!) и устал я, соломенный, в белых кудрях, а для чего же пишет писец? — у веских признаний аргументов — нет. сколько любви вокруг, ими полны моря и подземелья, и норы и шум шелковиц, лишь на Земле две ноги лежат, вечнозеленые, — между двух других. 11 Ни души. Я ломаю карандаши, чтоб не записывать. Магма под садом кипит. Вишни взошли — как дубы! в желудях! Сливы — как пломбы! Чашку беру за ручку и зачерпнул из пруда лягушачьей икры, — мертвая! Цапле не будет урожая лягух. А я играю на клавишах, слева басовый, справа скрипичный ключ, оба они от двери. (Двери закрываются.) 12 На пружинах перегибы, открывается кровать, спи, дитя моё, погибель, метастазное тавро! . . . . . . . . . . . . . . . . Ах, лунный всадник за мной скакал! 13 О спите усталые Силы, я вам не подвластен, и это я виноват за тучи чаек, что били саблями Эру Рыб. Рыбы уйдут в одиночку, в заплыв, как будто вдвоем уходят, и мой боевой жест неоспорим, я ничего, а диаспоры устали. В теле гвоздей есть зазубрины. — Мои заветы новым богам, это и есть конец белого безмолвия, тренинг смерти? — как ноздри кабана со множеством колец! 14 О четырех стенах плакучая береза, декабрьских листков еще полным-полно, свисают надо мной ея стеклянны бусы, со свистом на одном быть может лепестке. 15 Миндаль и медь, и чьи сибиллы тебя (прошепчено!) — вернёт? иду ко рту за сигаретой, и чернокнижный том — Вермонт. Поход детей к Иерусалиму, и красный плащ Тибетских лам? надеты челки на ресницы, сквозь сетку — кто и кем любим? Я сжег тебя и пепел жизни развеял ногтем, где камней… но и меня унес из жести, — такой вот и крылообмен? Просвечен пленкой азимута, и шепчет Голос голубой, что это двух телекинеза воспеты ветром, не рукой!P.S.
Это третья сюита из Книги конца, пятнистый по́лоз, черный уж и бичевидная змея, певчий ястреб живущий на юге Африки, и он поёт так: кэк-кэк-кэк или же кик-кик-кик, довольно хорошая песенка — для заик… четвертой не будет…Задняя обложка
В этой книге — стихи Виктора Сосноры. ВСЕ. Все поэтические книги в полном объеме. Вся цензурная правка устранена автором. Перед вами то самое, что Соснора некогда назвал «Мои никогда», то есть «никогда не будет издано». Теперь это уникальное издание осуществлено.
Лауреат Большой премии им. Аполлона Григорьева Академии русской словесности за 1999 год.
Лауреат премии «Северная Пальмира» за 2001 год.
Лауреат премии Андрея Белого за 2004 год:
за особые заслуги перед русской литературой;
за отшельничество и противление в языке;
за безупречную судьбу Поэта, изменившую судьбы русской словесности.
Примечания
1
Мечта (саами).
(обратно)2
Злорадетели родины (греч.).
(обратно)3
Дюли — переиначенное «люди».
(обратно)4
Рака́ — сумасшедший (Библия).
(обратно)
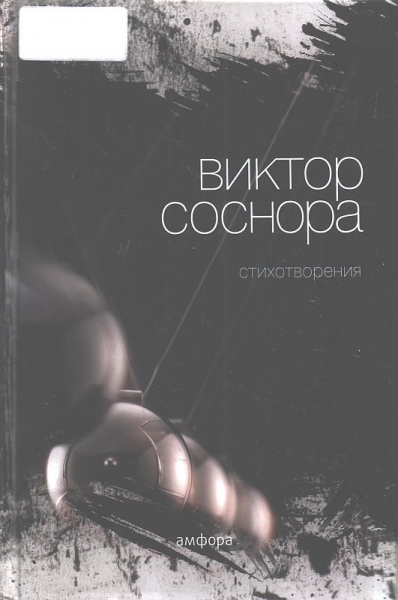

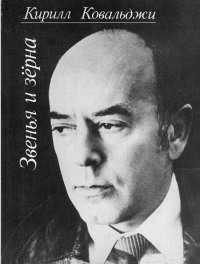


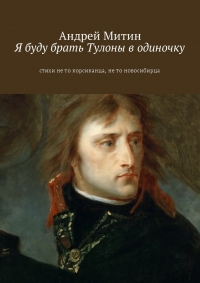
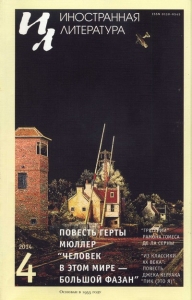


Комментарии к книге «Стихотворения», Виктор Александрович Соснора
Всего 0 комментариев